Петер Эстерхази Производственный роман (повес-с-сть)
Если, тогда это случайность.
Глава I (или краткая), в которой на сцене появляется товарищ генеральный директор, как раз в момент разлада с самим собой, чему имеется множество причин, поскольку он один из троих братьев-близнецов, каковой факт забавен лишь на первый взгляд, ведь число неминуемых рубашек, галстуков, панталон, перстней с печаткой, а также повествований уже предвещает сплошную печаль, разделить которую придется и Читателю
Мы не находим слов1[1]. Мы обратились в камень. Испуганно моргаем: неужели мы настолько во власти своих прихотей? Воздуха мало, но он есть. Живот вздрагивает от возбуждения, из-за этого кажется, что брюки нам велики. Вот мы уже потянулись к ремню (поясу). Приподняв полы пиджака, мы погружаем руки в карманы, шарим в них. Встаем на носки, затем опускаемся на пятки. Голова вздрагивает, копание в карманах приобретает разнообразный темп: темп покачивания, головы, сердца2. Мы что, теперь можем думать что угодно? Неужели мы настолько зависим от обстоятельств?
Мы бы с удовольствием двигались в избранном направлении и с удовольствием повернули бы назад. Мы разрываемся между отчаянием и надеждой. Может, нам спокойно и с ответственностью завопить? Но ведь мы — ярко выраженный представитель бухгалтерского мышления? Однако мы уже так долго смотрим на эти разноцветные телефоны и папки и фикус в дальнем углу, что это нас не успокаивает. Мы и не успокаиваемся.
Между тем мы выглядываем в окно, держа руки в карманах, покачиваясь; это нас «молодит». Мы моложавы. Теперь у нас появляются вокруг глаз морщинки уже не только когда мы смеемся. Во дворе видны наши сотрудники в несколько уменьшенном виде3. Они шевелятся; это хорошо.
Мы слишком о многом думаем. Скоро мы уже не будем знать, откуда ветер дует. Будем размышлять партикулярно. Утратим перспективы. Мы не предприятие, мы — живое существо, а предприятие таковым не является. Мы — жители Центральной Европы: с измотанной нервной системой и жесткой туалетной бумагой.
Мы не дрожим, как осиновый лист; мы в зависимом положении. Мы не любим себя. Кто-нибудь кого-нибудь увидит, заметит у того в глазу соринку, и конец! Пусть даже этот кто-нибудь склонен высказаться о соринке с позитивной точки зрения! В нашем глазу ни одной соринки, но человеческая душа многообразна. И, подобно величию, она, эта душа, проста: в министерстве мы копаем под самих себя. Нам, если хочется, можно знать, если мы этого захотим: мы — человек министерства. Нет, скорее, планового управления. Наши действия, направленные против самих себя, были бы уместны для демонстрации силы, но они неуместны здесь.
Равнодушно откладываем газету в сторону: всегда найдется какой-нибудь друг детства, который может доказать, который с удовольствием вспоминает, как мы накладывали шину пауку или — бр-р-р — отрывали ему лапки одну за другой. Мы решительно отворачиваемся от окна: мы гуманисты, мы классовые борцы, мы сознательны и каждую минуту каждого дня думаем о потребительском спросе, о нуждах народного хозяйства, валютном балансе и СЭВе, о проблемах и достижениях социализма во всем мире, о попытках улучшить эффективность производства и в то же самое время об интересах рабочего класса, особенно нам следует подумать об «интересах рабочего класса», мы думаем о прибыли предприятия, но мы за ней не гонимся, мы думаем о своем престиже, самолюбии и попытках самореализации, о роли, которую играем4, которую мы выбираем и которая выбирает нас, о… и еще мы думаем о партийном руководстве области, о нем мы думаем непременно, думаем мы, однако, и о влиянии общественных слоев, групп и организаций, из которых мы происходим, членом которых являемся, куда хотели бы попасть или мнение которых нам стоит считать важным, и напоследок, но не в последнюю очередь, мы думаем о том, чтобы при сборке навоя идентичные детали попадали на одинаковые станки, благодаря чему — тут мы бросаем взгляд на входящую секретаршу с перекошенным от ужаса лицом — время шнуровки, проведение основ по ремизе и ламелям сокращается.
Секретарша грешит против традиций, поэтому мы ее отсылаем. С вожделением смотрим ей вслед: просто есть у бедер такой трудноописуемый изгиб, против которого мы бессильны, и ради этих бедер (в количестве двух штук) мы готовы на все. «Допустимую погрешность» — результат ошибок при округлении (напр., 10-6) — мы рассматриваем с определенной толерантностью, звоним. Одной ягодицей сидим на своем письменном столе, от которого делегации оставили рожки да ножки5. Рассеянно листаем какой-то научный труд: а ведь после точки с запятой — если только потом не идет имя собственное — пишется маленькая буква. Что это такое, с упреком спрашиваем мы у входящей вновь секретарши. Черты лица у дамочки теперь разглажены, губы подкрашены она вертит задом, а взгляд твердый: демократия, Че надо, товарищ генеральный? Она вызывающе на венгерский манер, вскидывает голову, горячая, как древние пастушьи костры, дерзость начинает все быстрее струиться в ее жилах, она выпрямляется, волосы треплет сквозняком, притопывает ножкой. Красивая. Мы говорим тихо, чтобы она прислушалась. Мы недовольны, поскольку прочитали, что — и это у нас-то — награжден человек, получивший от 100 маток 136 ягнят. А ведь они могли бы ягниться и дважды в наших условиях. То же самое можно сказать и про случку свиней два раза в год; еще одну случку можно добавить. Мы задумываемся. Мы искренне считаем, что конец тому ягненку, которого заприметил волк, этот свирепый хищник. Чем красивее ягненок, тем скорее ему конец. Волк, и это нам хорошо известно, по-настоящему признает только один принцип: дубинку, которой помахивает здоровый пастух, сжав ее в крепком кулаке.
Волком мы называем страх перед новым, консерватизм, неорганизованность, лень, нетерпимость.
Пастухом мы называем дисциплину (социалистическую).
Дубинкой мы называем бесперебойную поставку сырья, сокращение простоев дня, позитивное использование времени на работе, интегрированное управление производством… процессографическое регулирование производственного процесса.
Ягненком мы называем народное хозяйство и растущую, развивающуюся, богатеющую и дорогую нашему сердцу социалистическую родину.
Секретарша внезапно прерывает свой танец, поворачивается к нам, и ее зрачки немного расширяются. Мы внимательно изучаем волосы у нее под мышками. Голодной куме капитализма хлеб на уме, но мы не дремлем. Отстраняем секретаршу от себя; мы не делали ей никаких предложений. Еще не и уже не: сейчас не. Много женских задниц ощупали мы этими руками, но кровь их не запачкала. Ожиданий как грязи. Стратегия у нас есть, но она не самая лучшая, есть также замечательные варианты компромиссов, один из них лучше всех, его мы называем самой лучшей стратегией, которая вот так и появилась. Из небожителей Энгельса призываем на помощь: тому, чего хочет каждый в отдельности, препятствуют все остальные, а того, что выходит, никто не хотел. Секретарша, несмотря на помаду, снова пугается. В самом деле, могут ли основным источником информации для нас служить различные официальные и полуофициальные материалы, заявления, протоколы и балансовые отчеты, даже если составляем их мы сами? В них довольно многих сведений нет, и много таких, которые не. Пожалуйте.
М-да: нет.
Товарищ генеральный директор, дорогой товарищ генеральный, горе-то какое, пособи. Мы оживляемся. Неужели товарищ Томчани и его окружение? Секретарша безмолвно кивает. Мы выделим время, будем разбираться, действовать, окажем влияние, наобещаем с три короба, перейдем на личности, вода во флягах будет свежей, а порох в пороховницах сухим, и все будет в самом лучшем виде. Мы бросаемся к столу, тяжело дышим. Просим принести логарифмическую линейку и «Горное дело» П. Дж. Проби.[2] Им ничего не будет, уважаемый товарищ генеральный директор? Нет.
Мы будем лезть из кожи вон, чтобы проверить ее на прочность в предстоящей кутерьме. Часы наши а они идут всё точнее, показывают.
Глава II, в которой появляется герой[3]6 Имре Томчани, а также побеждает справедливость; в других Главах тоже побеждает справедливость, но здесь особенно
Томчани нервно ходит по коридору Института, в котором лишь недавно рассеялся туман и запах кофе. В конце коридора слышится легкий шум. Что это? Он подходит ближе. Звуки раздаются из открытой двери. Имре останавливается. Черт побери. Заглядывает внутрь: там кто-то воюет со свитером: как раз пытается стащить его через голову. По количеству красноречивого реквизита Имре догадывается: уборщица. Добрый день, почтительно приветствует он. Она от испуга срывает с себя свитер. Именно этого он и хотел. А, это вы, Имрушка. Как вы тихо вошли, что-то случилось? Да нет, говорит молодой специалист по вычислительной технике. Женщина его не расспрашивает. Отвернитесь, говорит она, нагибаясь за своим синим халатом. Парень отворачивается. Она смеется надтреснутым смехом. Я вам так сказала, будто я женщина. А я ведь старуха. Имре не знает, что ответить, но, поскольку стоит спиной, чувствует, что отвечать и не надо. Представляете, Имрушка, этот пьяный кладбищенский сторож вчера вечером так завалился, аж до самого колодезного сруба долетел. Его садовой калиткой втолкнуло. Женщина застегивает халат. Ну, теперь можно поворачиваться. А эта жирная скотина, ведь любит же полаять, а все-таки не залаяла. Я проснулась, а этот стоит у края моей кровати. Кто бы мог подумать? Я имею в виду только свой возраст. И? Ну да, Уборщица кивает. Пел что-то из «Королевы чардаша», жутко фальшивил. Выходную арию Мишки. Потом перестал петь и съел у меня весь хлеб. Можно себе представить. Женщина садится на табуретку. Ноги по-мужски слегка расставляет в стороны. Туда пойдете? — она кивает в сторону Зала заседаний. Ну, будьте осторожны. На Ники Хорвата можете положиться. Мы вместе с ним раздавали листовки у господина Вайса, Он тогда еще молокосос был и ужасный хулиган. Большой шалопай. Смеется, качая головой. Не повезло этому кладбищенскому сторожу со мной. Так ясно помню, будто вчера это было. Приходит открытое письмо из армии, а в нем; пусть Шари Ковач напишет наконец Берти, а то он так отупел, что скоро совсем пропадет. Что еще за Берти? Да кладбищенский сторож Короче говоря, вернулся он домой. Договорились мы о свидании. Первое свидание в моей жизни. В маленьком городе. Вы можете себе представить, Имрушка? Да нет, откуда. Но я согласилась. Как-то полюбила я его за то, что он дураком может заделаться. Да он и заделался потом, страх как. Сидели мы в кафе, два мороженых, два коньяка. Я хорошо помню липкие кружки от стаканов на полировке стола. Ну а потом туда сели две мухи, знаете… и все, всему пришел конец. Наверное, я тогда была еще ребенком, но на меня такой смех напал… Конечно, от смущения, наверно. Ну, а этот недотепа и того хуже. Двухэтажная муха, говорит, вроде как в шутку. А меня тогда уже вконец смех разобрал. Бедный кладбищенский сторож. И как будто в продолжение этой истории, она говорит; там будьте поосторожней… Вы еще молодой и такой отзывчивый. А я чем старше, тем злее становлюсь и все труднее прощаю. Особенно, знаете, милый мой, глупость… Мне нужно идти, тетя Шари7. Женщина, не вставая, опускает руку в спортивную сумку «Адидас». Перед дверью в Зал заседаний парень оборачивается. Вот сколько он оставил, представляете, кричит ему женщина и показывает здоровенную горбушку. Томчани слушает ее и одновременно прислушивается. Что происходит в Зале заседаний? Сейчас там исполняется песня.
Где найдешь страну на свете Краше Родины моей? Все края ее в расцвете, Без конца простор полей!После завершения песни раздается сильный, спокойный голос. Ну что, друзья-товарищи, пробивается голос сквозь обивку двери; Томчани даже не может определить, чей он. Хорвата? Или Петера Байттрока? Ну что, друзья-товарищи! Вы видите мир в чересчур розовом свете. А ведь наш цвет не розовый. Это слишком разбавленный оттенок. Рука Имре на ручке двери. Тетя Шари8 еще спрашивает. Принести потом кислой капустки? Но Имре уже в кабинете.
Есть на что посмотреть, сколько интересных, неординарных личностей! Вот, пожалуйста, два жутко интересных персонажа: друг Джакомо и друг Беверли, два экономических консультанта при товарище Пеке, два золотистых хомяка. Их держат в кастрюле, которую застилали газетой, обычно партийной «Непсабадшаг»9. Эти двое хомячков никак не могли оттуда выкарабкаться. Сейчас они попискивают, сопят и шебуршатся: им не нравится этот густой дым. Осторожный, хотя несколько неповоротливый ум друга Беверли вызывает обоснованные симпатии на совещаниях любого уровня; ну, а Джакомо умеет обворожительно скалить зубы. Когда среди множества разнообразных дел выпадало время, товарищи любили их. (Имре с благодарностью подумал о них, Он хорошенько зарубил себе на носу давнишние слова друга Беверли. Тогда он только начинал работать в Институте и всегда краснел, когда ему приходилось говорить перед публикой. Однажды ему нужно было выступать перед поляками — перед польскими товарищами — на непривычную тему. Хозяйственный обмен. Он не знал, что делать. Золотистый хомячок сказал: забросай их двойными интегралами. Возможно, будут задавать вопросы. Всегда найдется такой задира. Друг Беверли перекатил зернышки за другую щеку. В общем, когда прозвучит вопрос, нетерпеливо выслушиваешь перевод и говоришь: нет. Ну что вы. Какой некорректный вопрос. Смеяться не надо. Серьезно, но с некоторым возмущением. Нет. Ну что вы. Какой некорректный вопрос.)
Взгляд Имре прокладывает себе дорогу в синеватом сигаретном дыму, и эта аккуратная, хотя зыбкая, брешь ведет к товарищу Пеку, руководителю отдела Имре. Грегори Пек почти два вершка ростом; одет в узкий приталенный пиджак с серебряными блестками и элегантные клетчатые брюки, сидит он на привычном месте, на крышке стола, прислонившись спиной к пепельнице, по обветренной солнцем коже разбегаются веселые мужественные морщинки, седеющие кудри на голове чуть ли не гоняются друг за другом. Брючки у него задрались на икрах, его маленькую голову уже безответственно засыпала пеплом чья-то шарящая рука; скользкая масса, смешанная с потом, залила ему лоб.
Он кивает молодому сотруднику, чтобы тот садился. Имре садится и деловито подставляет мизинец под ноги Грегори Пеку, чтобы он мог опереться. Когда чуть позднее, в разгаре спора Имре вскочит, товарищ Пек свалится и приложится темечком, но пока ничего плохого не случилось. Слышно лишь, как он устраивается поудобнее, раздается интимное шуршание ткани и сопение такое человеческое, что его можно извинить. Ну, Имре, давай двигаться в направлении наименьшего сопротивления. Томчани решает, что начальник шутит, и тихо отвечает: надо разменять наш талант на мелкую монету. Грегори Пек со всей похотливостью и неизбежным юмором неудачника спрашивает: сколь мелкой должна быть монета?
Однако все совсем не так, как думала-гадала уборщица. Имре Томчани колеблется. Даже в отношении Миклоша Хорвата, партийного секретаря. А тот поприветствовал молодого человека зычным голосом. Хорошо, что ты здесь, сынок. Томчани не соблюдает свои интересы. Но потом он их соблюдёт. Так он думает. Я бы много кем не хотел быть. Но больше всего твоим сыном. Эх, сынок, укоряет его большой человек, то, что ты так считаешь, необоснованно. Хотя понятно. Томчани краснеет. Необоснованно? — продолжает возмущенно думать Имре, — а советские турбины? Ситуация с советскими турбинами следующая: собственными силами мы производим одну турбину в 200 мВатт за 144 млн форинтов. Между тем Советский Союз готов продать уже испытанные турбины за 86 млн форинтов. Однако министерство приняло и передало дальше такую директиву, в которой вопрос с турбинами решается в ущерб экономическому подходу, с позиций качества и промышленной политики. Здесь руку приложил товарищ Хорват.
Хорват усмехается. Очень мило, что ты приписываешь это именно мне, партийному секретарю. Ведь собака зарыта совсем не здесь, да и вообще, каким ветром тебя сюда занесло. Томчани постепенно начинает осознавать поспешность своих выводов: немого смутившись, он начинает: я бы горы свернул… Но-но, дружок, все не так просто! Вмешавшийся в разговор — мужчина с узким взглядом. Товарищ Йожеф Брандхубер. Он бледен и с трудом сдерживает свои эмоции. Я все понимаю: другие времена сейчас, другие времена наступили. Но тратить столько времени на этого длинноволосого шута! Я не говорю, что его нужно ликвидировать, но пусть узнает, где раки зимуют. О, п-пардон.
Джакомо, услышав слова Брандхубера, сжимает в кулачки свои по форме напоминающие цветок лапки, потом разжимает их, но уже поздно: они блестят от противного пота. Ай-яй-яй, товарищи, сопит он, какой плохой актер, ай-яй-яй! Не забывайте, товарищи, что отрицание образуется с вспомогательным глаголом1. Не так-к ли? Успокойся, Ножика, поворачивается Хорват к Брандхуберу, подняв руку. По его ладони тянется длинный шрам: в 50-м он вышел из партии. Увидев это, Брандхубер опускает голову.
Тяжелые, болезненные минуты воспоминаний облегчает Джакомо; он выпрыгивает из «Непсабадшаг» и пришпиливает к стене (ужасно) большой, но несколько обгрызенный капустный лист. И у стен бывают уши, восклицает он. Миклош Хорват благодушно обращается к Томчани. Вспоминает о турбинах. Вопрос, друг мой, хороший, об этом, наверное, и говорить не стоит. Но позволь сейчас на него не отвечать. Лучше представь, любезный друг, свои доводы, и пусть они будут конструктивными и по существу.
Тихий ропот слышится в помещении. Нет, вскакивает в гневе товарищ Брандхубер; он топает ногами. Я протестую. Поддерживаю. Протестую. Так его, пищит Джакомо. Друг Беверли ухмыляется в усики. Уточняю. Так его, разэдак! Сразу проявляются сложные и противоречивые силовые линии. Товарищ Ивановпетровсидоров рассудителен. (Сущность тройного близнеца психологически и социально оправдывает его слегка или сильно противоречащие друг другу, гениальные и катастрофические решения и паузы.) Политика! — восклицает он. (Оживление, аплодисм.) Производство! — восклицает он. (Оживление, аплодисм.) Экономичность! — восклицает он. (Оживление, аплодисм.)
Петер Байттрок медленно, как гуано, поднимается. Его взгляд встречается со взглядом Миклоша Хорвата. К счастью, во времена нашей истории оба этих превосходных специалиста старой закалки, верующие, однако, в Бога, настоящие жилистые новые люди новых времен, сражаются уже плечом к плечу. (Бесконечно.) Больше всего они любят работать, но иногда и повоевать.
Шашки наголо, завывает специалист с европейским именем. Вваливаются девушки, обносят всех для начала коньяком — динь-динь! — а затем оружием: трезубцами, копьями, мушкетами (не путать с пищалью), топориками, ядрами на цепи, мечами, кривыми турецкими саблями, нагрудниками, поручами, поножами, шлемами, железными рукавицами и попонами с висящими ремнями. Когда Миклошу Хорвату протягивают золотой шлем, он говорит: другой принеси, стальной.
Наспех убирают со столов, швыряют два из них друг на друга: это будет крепость. Тай-тай-налетай — бормочет друг Беверли мудрость, горьковатую, как миндаль. Опять он что-то понял, бедняга. На (образовавшейся) плоскости перед крепостью стоят в ряд люди из планового управления». (Конечно, все не так просто.) Земля как бы вся шевелится. Ее поверхность движется черными волнами, ко все более усиливающемуся гулу примешивается то и дело звон колокольчиков, тихий свист. На голове товарища Брандхубера — шлем, в руке — копье с бахромой, в зубах — кривая сабля. Лестницу, кричит он. Грегори Пек, также относящийся к врагам обитателей крепости с сожалением пожимает узкими изящными плечами' прячась за пепельницу. Соответствующая часть товарища Ивановапетровасидорова тоже бессильна помочь, поскольку ведет отдельную битву с его несоответствующей частью. Чем больше, тем лучше, до свадьбы заживет.
В крепости царит тишина. Миклош Хорват, Петер Байттрок, малыш Томчани и все те, кто, скорее, подпадает под сферу влияния министерства, с ними: их слово, власть и зависимость, они спокойно готовятся к бою. Но как только лестницы лязгают о железо, камень, брусок и звучит остервенелое: Аллах акбар! Пересмотр норм! Я феттах! — они тоже оживляются. Томчани кричит; Ну, вперед, ребята! Дверь открывается, в нее вкатываются три машинистки, в красно-бело-зеленых косынках.[4] Они плачут (или оплакивают кого-то), глаза им щиплет пороховой дым. Они кланяются, держась подальше от потасовки, и поют (древним) пятистопным слогом:
О, о, о, о, он Не способен К параметрическому Программированию.Они наклоняются, и соблазнительно выглядывает верхний изгиб их маленьких, твердых, огромных, отвисших, мягких, похожих на яблоки й груши грудей. Вуаля, устало и покорно кланяется Томчани. Хорват нервно поправляет на себе панцирь. Засунь себе Венеру Милосскую в одно место. Конкретно и линейно. Джакомо, на задних позициях, под защитой кастрюли, пищит: Конкретно-каретно. Друг Беверли скалит зубы. Уровень, уровень, укоризненно качает он головой. Сейчас главное — гранаты и копья. Гранаты сложены высокими горками неподалеку от осажденных. По приказу Томчани их даже наполнили чем-то. Метод, перекрикивает молодой специалист ожесточенный шум сражения, метод работает — Джакомо прыскает, а друг Беверли откровенно, по-стариковски, кивает — с моделью, отражающей действительность, экономические отношения, вследствие чего по необходимости приводит к упрощению: модель учитывает только линейные связи, ограничения (рынок, продуктивность) принимает за константу, модель содержит лишь те взаимосвязи, которые относятся исключительно к статичному, заданному времени; необходимые расчеты — это расчеты крайних величин, что ведет к нестабильности, а именно: незначительные изменения вводных данных (input) могут вызвать — или вызывают! — значительные отклонения при оптимальном решении вопроса; принимая это во внимание, надо действовать осмотрительно.
Гранаты приобретают двойную силу. Поэтому, безжалостно продолжает молодой человек, неизбежны так наз. испытания на прочность. Первый раз они разрываются, когда их сбрасывают, второй раз — когда выскакивает заряд. Незаменимым средством испытаний на прочность является параметрическое программирование. Байттрок активно машет шашкой рядом с Имре. Усики у него презрительно подергиваются. Меч по рукоять в крови. Томчани оживленно продолжает. А пакет программ, используемый нашим институтом на данный момент, не, повторяю, не готов к параметрическому программированию, и как только заряд выпадал, из него несколько минут сыпались в разные стороны большие белые искры, а те. кому они попали на одежду и лицо, конечно, отскакивали в сторону как ужаленные. Я тебя вижу, Имре Томчани, сынок, слышится издалека радостный голос сражающегося Миклоша Хорвата.
Ну, а дальше что?! До сих пор так было, и дальше будет. Научный анализ, конечно, необходим. Но мы — тут выскакивает товарищ Брандхубер, на его пиджаке производства фабрики «Красный Октябрь» пуговицы вдруг превращаются в красные звезды и, отрываясь от широкой груди, подобно легкому пуху, слетают вниз — но мы и без того хорошо знаем, что нужно делать в этой стране. У нас это отработано. Томчани вытирает потный лоб. Можно задать вопрос, кричит он. Нет, ну, нет же. Нельзя так, с лету. Это нужно подготовить. Ведь если мы вдруг не подготовим это, е-е-если я скажу что-нибудь такое, что не является моим мнением. Я ведь тоже не могу всегда все знать. А знаете, молодой коллега, и Брандхубер ядовито смотрит на Томчани, знаете, вот своей жене и можете говорить что-нибудь такое.
Хи-хи-хи, прыскает Джакомо. Но-но, вы парня недооцениваете, шипит сквозь зубы друг Беверли. Они что-то грызут.
Поднимай бревна, кричит Тамаш Фойя, начальник отдела (у которого младшая сестра в министерстве и т. д., и даже якобы и т. д.). Обитатели крепости застыли в молчании. Им страшно. Сильно стреляют. Не бойтесь, восклицает Фойя и выступает вперед. Стучат молотки и гремят, бренчат цепи, которыми обхватывают бревно. Не бойтесь, восклицает бравый Фойя. и никто не смеет бояться. По шлему нач. отдела щелкает пуля, сбивая серебряный гребень. Тамаш, уйди оттуда. Сейчас. И наклоняется, чтобы помочь поднять другое бревно. И застывает, нагнувшись, будто окаменев. Тамаш, кричит потрясенный Байттрок. Тамаш стоит, опустившись на одно колено. Шлем скатывается у него с головы, длинные седеющие волосы падают на лицо. Байттрок бросается наверх к открытому пролому и относит Тамаша на руках. Кладет его в углу у подножия башни. Дайте фонарь. Лицо у Тамаша Фойи стало как восковое. По бороде струится кровь и капает на стол и, пропитав скатерть, дальше на пол, на ковер, гармонирующий (по цвету) со скатертью. Тамаш, восклицает Байттрок, ты можешь говорить, и смотрит на него глазами, полными слез. Могу, с трудом произносит Тамаш. Сражайтесь за… — голова его никнет, он откидывается назад.
Что здесь такое, восклицает Хорват. Товарищ, говорит кто-то дрожащим голосом, в эту минуту выстрелом убит начальник отдела товарищ Фойя. Его как раз проносят на носилках для камней. Ноги повисли. Руки без перчаток сложены на нагруднике. Байттрок идет позади, неся его шлем. Умер? — спрашивает Хорват. Умер, печально отвечает все тот же кто-то. Сражайтесь дальше, восклицает партийный секретарь. Он снимает свой стальной шлем. Подходит к нач. отдела и безмолвно, со скорбью смотрит на него. Господи, упокой его душу! Стань перед Господом Богом, Тамаш Фойя, покажи свою окровавленную рану и укажи на эту крепость! С непокрытой головой, сокрушенно смотрит он им вслед до тех пор, пока фонарь не исчезает за углом. Томчани в это время возится со связкой каната. Товарищи! Это нам может быть полезно. По идее, в 903-й комнате есть шкаф, точнее есть шкаф, в котором, по идее, скрываются чрезвычайно ценные, относящиеся к параметрическому программированию сведения. Скрываются ли? Скрываются. Товарищ Пек опирается на пепельницу Имре. Если бы я был кош-шечкой, я бы от радости стал гоняться за собственным хвостом. Хорват смотрит, смотрит, потом обращается к занятому возней парню. Не бойся, тяни как следует — канат не колбаса! Берись крепче, черт подери! Тяни так, будто… турецкого султана тянешь на виселицу. Друг Беверли подпискивает. (Чуточку провоцирует.) Поверьте, товарищи, Картер тоже делает только то, что диктует ему крупный капитал.
Обитатели крепости с раскрасневшимися лицами мчатся в вихре сражения. Ступени осадных лестниц уже стали скользкими от крови, вокруг лестниц стена окрасилась в пурпурный цвет. Внизу росли кровавые груды раненых и мертвецов. В смертельной битве трудно сориентироваться, усложняется система отношений, и, например, случается так, что двое из одного лагеря кидаются друг на друга, и пока Байттрок колет, режет, рубит саблей заклятого врага, топорик в его руке обращен в сторону Хорвата; что же мы видим здесь: неизбежную междоусобицу политического и хозяйственного руководителей или узкий личностный конфликт? (Женщины?) И так же, как враждуют боевые товарищи, братаются воюющие друг против друга. Товарищ Брандхубер взбегает теперь по лестнице, держа над головой круглый легкий плетеный щит, из-под которого только иногда поблескивают белки его глаз. Поднявшись на высоту одной сажени, он весь съеживается, сгибается и лезет дальше. Лезь, лезь, черномазый, дай полюбуюсь на твою губастую рожу, подбадривает Хорват. И вот черный барс взбирается вверх. Партийный секретарь рывком опускает забрало. Как раз вовремя. Брандхубер, выпрямившись, взмахнул пикой, но туг же сломал ее о стальной подбородок шлема. Что теперь будет? Лязгает кирка, и нападающий, упав с лестницы, летит вниз головой — или уже без нее?
Наша сила в единстве, Миклош, шепчет товарищ Брандхубер. Не будем повторять старые ошибки, он указывает на шрам на руке партийного секретаря, не подмажешь — не поедешь! Партийный секретарь кивает; ему ли не знать, что политическими связями можно достичь того же самого, что и хозяйственными, что нет такого руководителя, который не учитывал бы политического фактора. Чуть в стороне черным облаком расплывается пороховой дым. Хорват поднимает голову. У него чистый, прямой взгляд. Дорогу талантам, восклицает он, те, кто верят в нас, используют нас, но не зависят от нас, они самостоятельны и все-таки наши люди. На лице у него засохшая струйка крови. Да как же им не зависеть, удивляется Йожеф Брандхубер. О чем это ты, когда один витязь пихает другого в грудь, это можно истолковать как дружескую потасовку или как смертельную угрозу.
А по грудам падших с воем наступают новые и новые отряды. Вопят трубы, грохочут барабаны, боевой клич смешивается наверху с окриками приказов, пушечным ревом, ружейной пальбой, с разрывами снарядов, ржаньем лошадей, хрипом умирающих, скрипом осадных лестниц. Люстру застилает дым. Джакомо беспорядочно вопит, потом к нему присоединяется и друг Беверли. Возле дворца пробили брешь! Безопасность производства! Менеджер-систем! Давай по голове бей, ребята! Я керим! Страхование объемов производства! Я рахим! Развитие! Максимальные прибыли! Дух торгашества! Левантийская торговля! Да славится твой пророк! Регуляторы! Сдавайте крепость! Всех перебью! Волюнтаристы! Капиталисты! Пушкари, стреляйте, только в самую гущу!
Сражение достигло своей решающей фазы. Беседа относительно выровнялась, карты раскрылись, каждый признал свою власть и подверженность влиянию под видом влиятельности, каждый старался подстроиться под уготованную ему роль, борьба перешла в ту обостренную стадию борьбы за статус, когда любой хозяйственный вопрос является политическим. Друг Беверли подтягивается на краю кастрюли и с умным видом выглядывает; Экономичность, интересы народного хозяйства, политика, техническое развитие, безопасность производства, применение мощностей — все это скорее предлог, чем объект борьбы руководителей. Золотистый хомячок сопит. Он устало падает назад, поближе к Джакомо. Этот шельмец как раз справляет нужду.
Товарищ Брандхубер зажал в зубах большой, трепещущий красный флаг, чтобы водрузить его на башне. С древком во рту он немного шепелявит. Интерефы рабофиф, гудит он. Интерефы рабофиф! Оптима-лифафия?! Ефё фего. Товариф-фи! Мы не фтроим оптималифтифескиф планов, а работаем, товариф-фи. Он уже почти достиг башни. Лица бледнеют, гул ужаса проносится в воздухе. Огонь, восклицает партийный секретарь. Тысячи летящих-гремящих-взрывающихся молний. Вой, крики, дым, хлопки, вонь пороха. Секиры, кирки, топорики лязгают о железные крюки лестниц. Башня пошатнулась и с оглушающим треском рухнула. Известковая пыль облаком поднимается над развалинами, а по камням сочится кровь, как вино из раздавленного под прессом винограда.
Постепенно война стихает во всех квадратах стола. Повсюду черные от копоти, окровавленные человеческие останки, воздух сотрясают непрерывные восклицания: эй ва! и медед! Зал заседаний переполнили раненые. Там хлопочут цирюльники и женщины с тазами воды, кусками полотна, корпией, квасцами и арникой. Янка Дороги протягивает Томчани свой платок. Но она так неудачно встала, что парень ее не замечает. Господи, Господи, громко заплакал Томчани, мне выбили глаз10. К окровавленному лицу он прижимает обгорелый рукав рубахи. Хорват сидит среди других на плетеном стуле, покрытом сермягой. На голени у него зияет такая большая рана, что из нее под стул натекла лужа крови. Не вопи, Томи, прикрикивает он на него. Лучше хоть одноглазому, да с принципами, нежели с обоими глазами, да… И, сжав зубы, терпит, пока цирюльник арникой промывает ему страшную рану на ноге.
Командировки за границу, переводы в провинцию, снятия с повышением, потеря престижа, премии и премийки — небольшая пертурбация власти; как и копоть, грязь, кирпичи, камни и трупы: окровавленные, в изодранной одежде, покрытые копотью, неподвижные. Болван, кричит товарищ Пек чьей-то неловкой руке, пытающейся оказать ему помощь. Из-за своей комплекции товарищ Пек вряд ли участвовал в битве. Он вообще-то раздобыл саблю, шпоры, то-се, но, характерно наклонив голову набок и вперед, лишь немного помахал саблей в воздухе неподалеку от стены, чуть ли не задевая ее, а потом спрятался в «Непсабадшаг» к своим верным хомякам послушать их умных советов. Видя, что смертоубийство стихает, он немного порвал на себе одежду (долой блестки!) и укусил губу так, чтобы выступила кровь. И все же было видно, что он «над схваткой». Как бы мне хотелось однажды пристроиться в кружевных воротничках к какому-нибудь обозу. Вот и хорошо, чавкает Джакомо.
Девушки снова обносят всех коньяком. (Нескольких из них витязи пропахали.) Товарищ генеральный директор поднимается, чтобы выступить с обращение ем. Его многочисленные и противоречащие друг другу раны кровоточат. Конечно, сейчас уже все лечат — начиная с определенного уровня дела обстоят именно так. У него дрожат веки, видно: борьба была по-мужски жестокой, судя по ее содержанию — необходимой, по результату — непредсказуемой. Разрешаю, говорит он со вздохом. Товарищ Брандхубер теряет сознание. Томчани рыдает, его сердце переполняет благодарность. Ша, говорит ему кто-то, умудренный опытом.
Глава III, в которой появляются трудности переходного характера11
Стройное, мускулистое тело Имре Томчани смело высовывается из серой громады Института. Одной рукой он держится за край панорамного окна, а другой балансирует. Он смотрит не вниз, он смотрит вверх. Раннее солнце бледно повторяется в ряде окон. Он уже готов вернуться в комнатенку, в которой день за днем в бедах и несчастьях, радостях и успехах среди временных неудач обитал его трудовой коллектив, как вдруг вверху и чуть в стороне что-то начинает шевелиться. Сначала можно заметить лишь движение света, потом становится ясно: открыли окно. На подоконнике появляется маленькая легкая рука. Летит, кричит Томчани в глубину комнаты. Но можно было и не кричать — все уже тесным полукрутом собрались у окна.
Томчани весь внимание, как будто речь идет о его жизни. Рука — там, наверху, — исчезает, потом вновь появляется: она держит голубя. Голубь! Они начинают переговариваться. Взволнованно, немного по-детски, пытаются угадать: люттих? бадетта? Бисет-Фаярд? Рука гладит голубя, как бы говоря: лети, дружок, счастливой дороги. Ближе всех к истине оказался тот, кто отдал голос за Бисет-Фаярда: голубь, покидающий сейчас безопасное окно и спокойно, уверенно машущий крыльями, — антверпенский почтовый голубь, и, являясь таковым, хоть и типа драгой, но с различными чертами Бисет-Фаярда он сразу демонстрирует силу и мощь, осанка гордая, голова поднята вверх, плавные линии хвоста, весь он — птица с быстрым, горящим взглядом; и половая принадлежность налицо. Здесь полностью реализован тот принцип, по которому самец не должен выглядеть как самка, а самка — как самец. Оперение густо-синее, жесткое.
Вон он, восклицает молчавший до сих пор Томчани. Телеграмма, заснятая на микропленку, помещена в стержень пера и прикреплена пропитанной воском шелковой нитью к месту, где среднее хвостовое перо раздваивается, — вот что блестело. Люди обнимаются. Не то чтобы Томчани бью самым из них опытным, ведь вон стоит дядя Тиби Тот, который уже в 45-м был техником на вычислительных машинах, вон Андриш Бекеши, секретарь комсомольской организации, но, наверное, он больше всех верит, наверное, он отчаянней всех хочет, чтобы это конкретное исследование во что-то вылилось, не пропало впустую, да, так правильней всего: он такой человек, который, что называется, не говорит «гоп», пока не перепрыгнет; он знаком приказывает всем молчать и предупреждающе поднимает указательный палец.
Птица «на прощание» делает еще один круг в воздухе. И направляется в их сторону. Имре продолжает напряженно наблюдать, но общество за его спиной уже расходится. Ребята, кофе готов! Да, когда мечта стала реальностью, исчезло очарование. А этот Лайош Адам, коренастый, вечно недовольный человек, который, если надо, все же умеет подступиться к работе и даже знает, с какого конца, еще и делает скептические замечания. Мы тут ишачим, а бабки… Он делает однозначный жест, который, однако, можно истолковать как угодно.
Голубь приближается. Человек до сих пор не может точно объяснить причину их возвращения домой. Может, любовь к родине. (Важная вещь.) Во всяком случае, Тозье доказал, что пространственная память не может быть причиной возвращения почтовых голубей в родные места. Уже хорошо различима продолговатая, изящных очертаний голова и длинный черный клюв.
Ой, восклицает молодой техник вычислительных машин. Комната замерла. Где-то с уверенным стуком открывается окно, и Имре видит, как по зданию ~ по железобетонно-стеклянному чуду — в страшном темпе проносится тень. Сомнений нет; это тень охотничьего сокола. Подобно тяжелому бомбардировщику или самой бомбе, безжалостная птица обрушивается на свою жертву. Та чувствует приближающуюся опасность, отшатывается; гармония движений пропадает, следует несколько поспешных, судорожных взмахов крыльями, как будто видишь последние движения тонущего, все еще хватающегося за надежду.
Томчани отпускает оконную раму — к чему волноваться: даже в такой ситуации он не совершит необдуманного поступка, Андраш Бекеши держит его изнутри за руку, и он высовывается из окна, насколько позволяют ситуация и смелость, протягивая руку помощи голубю, которого вот-вот накроет тень безжалостного сокола. Спасен, вздыхает в кабинете Мэрилин Монро. Некая привлекательная блондинка, закончившая экономический университет и знаменитая своим кофе. Под красными глазами голубя, обведенными широкими белыми кругами, хорошо различима сильно развитая обонятельная перепонка, — правда, всего несколько «шагов»!
Но нет. Хищная птица лавиной обрушивается на маленького вестника. Ужасная сцена разыгрывается прямо на глазах у всего Отдела. (Это для них поучительно.) Имре находится в прежней позе: одна рука держит секретаря комсомольской организации за руку, а другая протянута вперед в желании помочь. Из тучи кружащихся перьев доносится резкий клекот и звуки, похожие на человеческие вздохи, отделившиеся перья начинают падать вниз. В это время сцепившиеся в клубок птицы исчезают, как камень в десятиэтажной глубине, и не находится никого, кто бы проследил их путь. Томчани подхватывает одно перо. Оно гладкое, шелковистое, мягкое, бархатистое, а не грубое, твердое и сухое на ощупь. Достаточно запыленное. Это совершенство оперения в данный момент, конечно, гротескно. К стальному цвету коричнево примешивается кровь. Томчани неподвижно смотрит. Неподвижно. Тихо, лишь вдалеке стучит печатная машинка. У кого могут поджимать сроки? Или это просто праздничный отчет? У него тоже есть срок сдачи.
Влезай обратно, говорит кто-то, влезай обратно, старик. Парень кивает и покидает пространство за окном. Только теперь, когда на него пахнуло сонным теплом комнаты и приятным утром, он начинает осознавать, какой ветер дул снаружи. На лице проступает румянец. (Что вообще-то признак веселого характера и хорошего здоровья.) Народ несколько приуныл. Мэрилин Монро строит гримасу, она постоянно строит гримасы. Комнату наполняют глубоко естественные звуки кофеварки. (Мать Имре умеет варить отличный кофе из зерен третьего сорта, об этом парень сейчас вспоминает.)
Томчани садится за свой стол. На блестящей полировке несколько рисунков: чашки, вазы, какие-то каракули. Он наклоняется, вынимает литровый пакет молока. Щупает его, вертит, проверяет углы на прочность. Но углы все одинаковые. Он методом тыка выбирает один, который начинает грызть. Откусить его он не может, только продырявить своими острыми зубами. (Как ласка с куриным яйцом, сказал про него однажды сослуживец. Засмеялся и покачал головой.) У дяди Тибора заканчивается терпение. Он снисходительно запускает руку в карман пиджака и достает оттуда неплохой складной нож, которым и срезает упомянутый угол, так нещадно погрызенный молодым человеком. У излучины Дона со мной побывал, щелкает по ножику старик.
Имрушка, кофе, говорит белокурая Мэрилин. Взгляд задерживается на выпуклостях ее свитера. Не клади сахар, он уже с сахаром. Два куска. По-моему, ты пьешь с двумя. Да. Томчани все еще полностью не успокоился, ему не по себе, он держит пакет молока с бледным лицом. Янчика Тобиаш с некоторым раздражением объясняет Имре, как поставить пакет (вертикально, немного «прихлопнув»). Томчани рассеянно благодарит. (Он не любит Тобиаша; «есть в нем склонность», с предубеждением думает он.) Он пьет кофе. Добавляет туда молока, смесь делается все слабее, от настоящего капуччино до немного мутного (а главное, сладкого!) молока.
Не передашь мне «Спорт», просит он Адама, и тот с готовностью и громко отвечает ему. Пожалуйста. Газета еще не потрепанная, но и не новая. На нескольких страницах на сгибе размазалась типографская краска. Как раз на одном таком сгибе он читает — еще над столом, пока коллега протягивает ему газету: финский судья подал сигнал на линии. Газетные страницы следуют одна за другой в полнейшем беспорядке, например: первая страница оказалась сзади, последняя перед ней, а третья стала первой Неужели все страницы поменяли места? Или есть константа? Он листает. У Губаньи подозревают мениск. Палотаи и великие задачи. Старый боец Джек. Удаленный центровой блокирующий.
Он ставит чашку с кофе на стол, ложка торчит из нее как вывихнутая конечность. Мэрилин Монро поправляет юбку и одновременно втягивает живот. Готовится отнести кофе товарищу начальнику отдела. Кофэ товарищу Пеку, говорит она и делает гримаску, как бы в объяснение, потому что атмосфера была такая (такая здоровая), что ей пришлось это сделать. Она выходит. Теплее, говорит Бекеши, и все смеются. Имре опускает руку в сумку. Он ощущает внутри влажность от молока. Точнее, пакета. Не протекал, а все же. Он достает ручку, книгу П. Дж. Проби «Горное дело» и бумагу.
Имре Томчани, молодой специалист, склоняется над работой. Он погружен в нее и поднимает голову лишь тогда, когда на всех парах влетает Янка Дороги, девушка-администратор. Поймали вы его? — спрашивает. Томчани опускает голову, нет, отвечает старый дядя Тиби. Это невозможно, смотрит на часы девушка-рыбка. Этот, этот голубь делает 85 километров в час. Делал, бормочет себе под нос Имре так, чтобы никто не разобрал. Лицо у девушки простое и строгое. Пожалуй, лишь легкий румянец выдает неуверенность, которую она ощущает не из-за показателей скорости, а из-за присутствия множества мужчин. Однажды он даже из министерства «домой вернулся», добавляет она. По заявлению журнала «Америкэн Пиджин Джорнэл», мировой рекорд полета на дальность составляет тысяча шестьсот восемьдесят пять миль, или две тысячи семьсот километров, говорит Янчика. В качестве информации, расстояние от Аяччо до Парижа сто десять километров. Бекеши надоедает хождение вокруг да около. Его схватил сокол, говорит он безо всяких вступлений и показывает на лежащее у Имре на столе окровавленное и измочаленное пера Янка Дороги пугается. Почему было самой не принести, враждебно спрашивает Имре. Янка только хочет ответить, но Бекеши машет на нее рукой. Порядок прохождения дела следует соблюдать, подпись, виза, подпись, голубь. Янка кивает и с благодарностью смотрит на секретаря комсомольской организации, порядок выдачи справок, вздыхает она. И сразу же горячо предлагает: я еще одного пошлю. Томчани колюче смотрит на девушку, она его неправильно понимает и с напускной веселостью заводит разговор. Показывает на немытую кофейную чашку, которая стоит у Имре на краю стола. (Он ее моет только в конце дня, надолго замачивая в горячей воде.) Не смейтесь, но я пью с шестью кусочками. Имре со злостью замечает, что девушка обращается к нему. Да-да, с шестью. Она смущенно хихикает. Остальные уже ее не слушают. Из сахара я сооружаю башню, и, по-моему, от всего кофе только и удовольствия, когда эта башня разрушается. Томчани с негодованием берется за перо. Вот лягушка. Она разваливается как время, говорит девчушка, будто маленький философ. Томчани беспомощно крякает, а потом, чтобы перейти на личности, говорит: не грызи ногти;
в это время (без пятнадцати десять) он спрашивает: который час? Без тринадцати минут десять, отвечает Тибор. Тот. Имре смотрит на часы. Точно? — спрашивает он. Сегодня утром подводил. Да, это понятно, но они у тебя точные? Точные. После этого он переводит стрелки на три минуты вперед. Пусть лучше спешат, чем опаздывают, бормочет он;
в это время он вежливо просит, чтобы Лайош настроил радио, ну да, включил и установил ручку настройки на частоте «Петефи». Кто играет? Ничего, просто начинается «На музыкальной волне». Когда сообщают точное время, он с упреком смотрит на дядю Тиби (слегка нервно и театрально) и переводит часы на две минуты назад; крошечный, но надежный советский аппарат «Сокол» начинает передавать объявленную программу;
в это время наступает очередь квартета Штефановича12. Штефанович — человек будущего. Лайош Адам говорит: он ходил со мной в школу и был на два класса младше. Потом на три, потом на четыре. Вы понимаете. Славный малый и совсем не задавака. Сейчас он поет о бригадном подряде, в бодром, ритмичном сопровождении гитары. Боже, мы ведь с ним ровесники, говорит Томчани. Вот только грудь у него цыплячья, продолжает Лайош. Что такое «цыплячья грудь»? Ты, Монро, не волнуйся, говорит секретарь комсомольской организации;
в это время Янчи Тобиаш говорит или отвечает кому-то высоким голосом: пять ленинских принципов. Что такое «принцип»? Только не надорвись. Мэрилин лепечет, обращаясь к старику. Видите, дядя Тиби, видите, какие они. А ведь я сегодня и лифчика не надевала. Она надувает губки и делает гримасу. У тебя и так куча проблем, вот ими и занимайся, говорит Бекеши;
в это время какая-то косоглазая женщина (кто такая? как сюда попала?), стоя посреди комнаты, говорит: вы слышали? Тамаш Фойя — аморальный тип. И испаряется;
в это время подняли телефонную трубку, оттуда пробивается голос. В понедельник иду к полковнику. Голос женский, и звучит он скорее так: в понедельник я иду к Полковнику; в это время Янчи Тобиаш говорит: я тебя понял, Миклошка. Я так и сделаю. (После Я. Т. приятно звонить. Трубка такая свежая.) Я тебя понял. Но у меня и так слава приличного (смех) человека. Ее муж, да он же узколобый специалист, Миклошка, я тебя умоляю. Хороший специалист, но больше ничего. С утра до вечера обсуждает чисто профессиональные проблемы… конечно, еще бы, ты прав, это важно, в конце концов, хи-хи-хи, за это он деньги получает… но как только мы ему сообщаем о намечающемся юбилее, так у него сразу нет времени. Нет. Никакого. Тогда у него никакого времени нет. Пока;
в это время Мэрилин Монро резко взвизгивает: Золи! Какой код у обмотки? (Кого из смертных здесь могут звать Золи?);
в это время на основании многочисленных мелких признаков (шума и прочего) он делает вывод о том, что Лайош Адам хочет завести с ним разговор. Формальным поводом этому служит спортивная газета. Томчани чувствует, что Адам пытается встретиться с ним взглядом, и если он не будет достаточно ловок, то скоро ему сообщат: чего не может Бароти, почему, насколько ошибся тот или другой полусредний игрок, сколько денег загребли за победу за поражение
кто за этим стоял потому что пусть Томчани не думает будто это не было подстроено как например в игре против русских потому что здесь до тех пор ничего не будет пусть Томчани зарубит на носу это а также и то что так сказал Адам ничего не будет пока капитаном не братец Пушкаш кто какой дурак в каком объеме и пропорции какой дурак был судья пусть разводит коз и проводит электричество а не матчи какой дурак Пикассо а ведь может нормально рисовать он видел какая дурочка новая начальница соседнего отдела он? точно потому такая отвратная и он это прекрасно понимает даже за деньги никогда из-за одних только ее ушей сквозь них просвечивает солнце говорят что она пьет скипидар потому что говорят он отбивает запах мочи если кто еврей так нам это хорошо но вообще-то не точно что она еврейка и что нам хорошо или плохо и пусть томчани не забывает что фрезер чертовски хорошо выдерживает удары а у Стивенсона по-другому у него стеклянный подбородок против али нигде батенька нигде нет поляки любят венгров мы братские народы и он давно не вносил денег за кофе и как много а как много за прошлый месяц конечно товарищ Пек его в этом обогнал но это ему будет сказано в глаза с его шестью в месяц а сам гомик несмотря на то что великий артист но достаточно взглянуть на то как он держит руку кисть руки и может Томас Манн не гомик хотя а впрочем но он капустоголовый фриц и образованный шут об увеличении зарплаты однозначно лучше и не говорить дурят нас 60 форинтами надбавки на питание 5 миллионов иванушек-дурачков сложи это вместе смех да и только…
Томчани чувствует опасность и вскакивает. (Конечно, он, наверное, шут. Потянуться бы сейчас. Спать хочется. Старик, вчера были именины Шандора. Не сердись. Каждый день чьи-то именины. Ну, правда, сколько это может продолжаться?) Он быстро подскакивает к доске, с которой и так на его шею посыплется мел, и рисует: множество А, множество Б. Губы Адама непроизвольно раздвигаются, он тихо шепчет: множество А, множество Б. Он чувствует себя на высоте. Берет газету, чтобы (без нажима, но и не скрываясь) вернуть ее обратно. Вот тут он совершает ошибку. Его мизинец — высвободившись при захвате из пятерни, оттопыривается и, отлепившись от остальных пальцев, как бы куда-то указывает (что, т. о., следовало бы прокомментировать). Лайош всхрапывает;
в это время Мэрилин Монро говорит: пять принципов. Ах да: ленинских. Вообще-то, я либо выйду замуж за своего бывшего жениха, либо нет. Она смотрит на Томчани, отодвигает трубку ото рта. Просто шутка, шепчет она парню и на секунду опускает ресницы. Нет, нет, никто, продолжает она. В общем, мы как раз рассматриваем случай, когда я выезжаю слева, уж не знаю куда, описываю большую дугу, ну, а справа стоит большой грузовик, нагруженный товарами экспорта-импорта, тогда он встал, и я увидела, что у него животик, небольшой, ну, знаешь, он скорее спортивного такого типа, и медленно, как бы задумываясь на каждом слове, сказал, что я сдала, но не допущена, да, это было чудесно, сдала, но не допущена, и что для слушателей курса эта информация необходима, он имел в виду товары экспорта-импорта. Это было чудесно. Руку он положил вперед, на спинку стула. Галстук заправил в брюки. Это был единственный крутой поворот;
в это время снаружи слышатся звуки безобразно дикой силы, все толпятся у окна и видят пикирующего вниз сокола и окровавленный всклокоченный комок перьев. Как раз на остановку 33-го свалится, говорит дядя Тиби. Чуть погодя появляется Янка Дороги. Она сразу же все понимает. Я ничего не могу сделать, она ломает руки, противно хрустя пальцами. Адам не держит рот на замке. Надо бы попробовать московского сизого. Томчани машет на него рукой. Кружащий голубь представляет собой именно то, о чем говорит его название: он способен длительное время, в течение 2–8 часов, без перерыва летать по кругу, но… Лайош перебивает его. Возможно. Возможно, мы потеряем их из виду, возможно, они будут с жуткой скоростью носиться над землей, вращаясь вокруг собственной оси справа налево или слева направо. Все это возможно. Но очевидно и то, что я бы не решился напустить сокола на московского сизого. Над этим все неловко и грустно смеются;
в это время дядя Тибор начинает шептать, я не против Мэрилин. Славная девушка, хороший программист. Хотя в PL/1 слаба… Да дело и не в этом. Андраш прерывает их. Давай не будем об этом13, уважаемый дядя Тибор. Нет смысла. Продолжим, когда Мэрилин вернется, предлагает Имре. А вы ребята не промах, резко говорит старик. Если меня сейчас примут, то еще увеличат зарплату до пенсии. Ну, и? Ну, ну! Мучают тебя там полчаса, ленин туда, ленин сюда, я так перепугался, про Сталина тоже спрашивали, а к другому столу подплывает эта Мэрилин Монро, перед этим, конечно, здравствуйте, дядя Тиби, как поживаете, дядя Тиби, как будто не видит… Диалектически, хохочет при этом Лайош. А у другого стола Монрошке — так, товарищ, сяк, товарищ, не тяжело ли будет, помимо работы, товарищ, надеюсь, надеемся, это тебе на пользу пойдет. Товарищ. Как будто я не товарищ. И тебя бы приняли, если бы ты знал материал, вмешивается Янчика. Томчани и Бекеши одновременно вскакивают. Старик в это время запевает, немного скрипуче, но в бодреньком темпе.
Янчика, Янчика, Расти большой, не будь лапшой, Папу с мамой слушай И побольше.Парни фыркают, садятся. Янош Тобиаш с обидой слушает. Капитализм я знал, а социализм нет. Это ужасно трудно. Над его словами заразительно хохочут два свободомыслящих молодца. Лайош Адам собирается рассказать одну из своих коронных шуток. Шутки у него топорные, но нельзя отрицать присутствие в них какой-то грубой прямолинейности; в них есть одновременно что-то невинное и неотесанное. Сначала он комментирует их смех. Aга, ага, дядя Тиби. Вот ты как. У тебя слюни летят изо рта, когда смеешься. Может быть, возможно, как говорят русские, тебе на все наплевать? Стоит ли так расходиться перед пенсией? Смех прерывается, но на столе старика уже всколыхнулись бумаги. Их движение сейчас дисгармонично. (Стол дяди Тиби всегда заполнен: листами бумаги, таблицами, записями. Вроде бы он не зависит от ребят, а ребята от него; да, они независимы друг от друга, и все-таки дяде Тиби приятно, что все знают: он уже в семь на месте, и на столе у него кипит работа. Знаете, ребята, сказал он как-то доверительно, в летчиках привыкаешь рано вставать. Там любили приговаривать: по коням, время не ждет! Под конем понимали, конечно, не настоящего коня, а самолет. «Ероплан» звали мы его. Бедный Хорти-младший.[5]) Лайош понижает голос, как бы готовясь произнести слова примирения и веры. (Это уже шутка.) Только пойми меня, дядя Тибор. Я молодой еще и о многом знаю только понаслышке. Я старик, но и я о многом знаю только понаслышке, усмехается дядя Тибор. Его смуглая кожа блестит здоровым блеском. (Любитель лыжного спорта.) Слушай, не пойми меня неправильно, но вот скажи, не может такого быть, что теперь мы несколько односторонне судим о немцах? Он сообщает, что считает Гитлера выдающейся личностью, заводит разговор о скоростных шоссе — которые до сих пор скоростные шоссе, даже в ГДР! — признает, что с ев… — ми поступили все-таки некрасиво, так не подобает благородным людям, вообще не надо было создавать такого шума вокруг этого, а вообще-то, они были солдатами, и если бы не американский бензин, нигде бы не было никаких иванов, настоящими солдатами хладнокровными профессионалами, и, честно говоря чего можно было ожидать после мира, принесенного французами, спрашивает напоследок парень, потом отмежевывается от Трианонского мира, лучше о нем и не вспоминать, потому что он не хочет ударяться в политику, но, возвращаясь к немцам, они-то знали, что такое дисциплина, здесь был бы порядок, о да, был бы. Он умолкает. Не знаю, правильно ли я думаю, уважаемый дядя Тибор! Тибор Тот направляется к двери. Как будто бы кивает. Проводит рукой по плечу Лайоша. Подождав, пока он выйдет, Лайош разражается хохотом. Старый фашист! Всегда, как разволнуется, идет в туалет, бесстрастно говорит Томчани;
в это время Лайош Адам восклицает: При поставке материалов я им брошу в лицо их гомогенность!
в это время он поднимает телефонную трубку, и оттуда вырывается серная молния, сверкая и гремя. Сотрудники прячутся под столом. Балбес, ты, балбес, разве можно доводить до слез такую красивую девушку? Старик угощает Мэрилин булочкой с докторской колбасой, а она протягивает ему кулек с вафлями. На коричневой бумаге кулька проступили жирные пятна. Из трубки сквозь хрипы пробивается красивый мужской голос. Это было для меня омовением души, воздушной ванной, усладой горным воздухом после непрерывного поглощения затхлых испарений современной политики. Особо следует выделить постановку «Парсифаля», отдельным произведением оттуда было не выпустить. Еще раньше, в семьдесят шестом, я ознакомился с набросками возвышенного сочинения; позднее мастер прислал мне уже готовый текст с несколькими строками посвящения- Признаюсь, на первом представлении оно произвело на меня такое странное впечатление, что сразу вникнуть в него я не смог. Погрузившись в глубь своей ложи, среди платков и благоуханий, я повторял себе: Альберт, Альберт, какой же ты дурак. Но на втором представлении завеса приподнялась, преграды пали. Бесподобное вдохновение царило в душах. Он прижимает ухо к трубке: многообещающий треск сменяется многообещающим треском;
в это время входит Грегори Пек, в очках и с измазанными чернилами руками. Он производит интеллигентное впечатление. Впечатление образованного начальника. Он берет в руки График посещаемости, просматривает его (утром он его уже видел), кладет обратно, выходит;
в это время он, ворча, обращается к Андрашу: какое-то это исследование буржуазно-гуманистическое. Посмотри, например: если можно обеспечить необходимыми материалами; или вот: таким образом, можно представить, что план производства. Андраш Бекеши усмехается, он не совсем понимает;
в это время входит Таня, крановщица. Кошачья мордочка. Макияж свежий, вызывающий. На что вы смотрите, Имришке? На вас, шепчет парень, да так ловко, что смеются все, кроме Тани. У нее вздрагивают ноздри. Кто-то чистил зубы. (Это Тобиаш, у него зубы блестят, как у шахтера.) Да, звучит остроумный ответ. Уж когда-когда, а теперь можно с ним поцеловаться. На фуфайке у девушки дыра;
в это время Янчика спрашивает у нее, читала ли она повесть «Мой брат играет на кларнете». Нет.
Прежде чем всем вместе спуститься вниз обедать — пришло время, — над Имре решают подшутить. Что это, старик, и показывают на длинное, измочаленное, окровавленное голубиное перо, новый «паркер»? Ничего смешного в этом нет, уныло говорит Томчани. Секретарь комсомольской организации тоже не очень-то веселится. В столовой длинная очередь На повороте Имре замечает, что на халате впереди стоящей сотрудницы не хватает пуговицы в районе живота, вследствие чего белое полотно раздвигается и образуется щель. Имре наклоняет голову, но не может определить, живот он видит или комбинацию. Потом его внимание отвлекается на меню, меню А и меню Б. Женщина в халате говорит в окошко вечно злой поварихе с потным лицом: Ицу, дорогая, прими мои соболезнования. Спасибо, говорит повариха. Глаза у нее заплаканы. Ицу, милая, что поделаешь, мяса в сухарях не надо, жизнь ужасная вещь. Имре набирается наглости и по зеленому талону просит мясо в сухарях. Нельзя, соблюдайте порядок. От злости он не берет соленые огурцы, хотя они ему полагаются.
У нее умер муж; покончил с собой, потому что эта мымра его выперла. Так, Ицука? Ой, да нет, конечно. Томчани воюет с трубчатыми макаронами; он пытается их втягивать в себя, сквозь трубчатые макароны проходит воздух — это следует из их названия. Его выгнала любовница. Да. Нет такого человека, который бы осудил Ицу за то, что она потеряла человеческое достоинство. В этом есть логика, говорит толстуха, а в это время из угла ее рта отправляется вниз капля пресного супа с кольраби. Но далеко не уходит: застревает в районе родинки. В этом есть логика, повторяет она, меняя тарелку. Янка Дороги с трудом пробирается к ним, с очаровательной неловкостью балансируя подносом. Занято, бурчит Имре. Девушка от унижения краснеет. На хвостовые перья, говорит она, я прикрепила свисточки, и еще взяла пахучую жидкость. Томчани машет рукой. Более действенным способом считается постоянный отстрел хищных птиц, громко, с некоторым вызовом говорит он. Товарищ Брандхубер кивает им издалека с набитым ртом. У тебя красивый голос, мой юный друг. Бекеши хватает за руку готового вскочить Томчани. Не дури. Мы не в лесу. Янка Дороги не отрывает от парня глаз. Мэрилин Монро ласково его изучает. Эта худосочная девчушка с хвостиком не составит ей конкуренции. Может, только ее глаза. Они ярко блестят, в них горит огонь. Подожди чуть-чуть, говорит она Янке, а сама без видимой логики подносит столовые приборы один к другому, подожди капельку, я тебе уступлю место. Спасибо, я найду себе где-нибудь место. Какое воинственное создание, говорит Монро, пожиная обожающие взгляды. Но во рту у Имре все равно уже горчит от пирожного в шоколаде (меню А).
Они возвращаются в свою комнатку, сцену для положительных и отрицательных персонажей. Перед этим Имре делает небольшой крюк. В первом месте ему не везет. Там из писсуара вылетают трупные мухи. У этого писсуара Святой Георгий сражался с адским Змием еще во времена коалиции или дуалистов, голову ему он отрубил и выкинул в унитаз. А из головы чудовища появились затем зловредные мухи.
Он вопросительно смотрит на старшего коллегу, стоящего рядом. Они делают то же самое. Слушай, ты недавно на нашем предприятии. Конечно, было бы хорошо, если бы ты и тебе подобные узнавали все больше и больше о трупных мухах и т. п. Только знаешь, и, как это ни парадоксально, разговор был бы нужен как раз потому, что наше поколение не умеет говорить ни об этом, ни о ночах любви14. (Из растерзанной туши лошади на свет появляются осы, из туши коровы — пчелы.) Позвоню потом в Хозяйственную часть, говорит он уже в комнате, моя руки. Кто-то бумагу ворует, спрашивает Лайош. (Он подозревает Тота.) Нет. Имрушка, кофе. Не кладите сахар, он уже с сахаром. Два куска. Спасибо. Но тут уже перед ним с серьезно-шутливой миной стоит Лайош Адам, просит скинуться на кофе. Томчани нехотя достает деньги — слегка подыгрывает, обед и кофе улучшили его настроение; полученные деньги «кассир» кладет в громоздкую металлическую коробку. На крышке рельефно изображен солдат с флагом; надпись: Образцовый батальон. (Флаг победно реет, сам солдат изображен примитивно, но выражение лица у него все равно решительное.)
Мэрилин Монро несет товарищу Пеку его порцию. Зайчик-побегайчик громко топает ножками. Томчани разглядывает кровавый сувенир на своем столе. Обстоятельно размешивает кофе. Влетает Мэрилин, поправляя волосы. Имре, на доклад. Парень вскакивает как ужаленный. Осторожно, не наделай глупостей. Андриш Бекеш смотрит с сочувствием. Адам считает деньги. В дверях Томчани оглядывается. Что будет?
Приветствую, сурово здоровается он в кабинете. Приветствую, отвечает Грегори Пек и поправляет какую-то бумагу на столе. Роется. Мне приятно, что ты меня вызвал, начинает наступление Томчани. Глаза у Грегори Пека округляются, и с меланхолией пятидесятилетнего человека он говорит: клал я на твое «приятно»!
Глава IV, в которой мы нос к носу сталкиваемся с интермедией из двух частей
Томчани сжимается, как сталь на морозе. Его душевные мышцы готовы к прыжку! Он готов с места опровергать все подряд! Все, что критикует исследование и могло бы оправдать соколов. Расслабься. Ты напряжен, как девица на своем первом балу. Неправда?! Товарищ Пек дружелюбно шурится. Неправда, встает в позицию Томчани. Грегори Пек барабанит по столу какую-то мелодию. (Звучит? Нет. Ни Бетховен, ни Барток [венгр!], ни Гайдн.) До меня доходят слухи, говорит он. Затем смягчается. Говорит в телефонную трубку. Дорогая Мэрилин. Будьте добры, два кофе. Да, снова. Милая и смышленая девушка. Томчани кивает. Грегори Пек прочищает горло, а потом, будто случайную мысль или прискорбную случайность, сообщает: я не видел тебя на первомайской демонстрации. Томчани краснеет. Он рассчитывал на другое. Джакомо громко прыскает, друг Беверли многозначительно кивает. Кабы был бы я был начальничком, безответственно пищит Джакомо. Кабы был бы я был начальничком, говорит и друг Беверли, и щечные мешки хомячка сильно опадают, почти втягиваются вовнутрь, как щеки аскетов или святых. Да, хитро отвечает Имре, «я не видел тебя на первомайской демонстрации». Грегори Пек кивает, он не хочет скандала, время скандалов прошло; он отмечает то, что ему было нужно, и этого достаточно.
М-да, дружочек, думает про себя Имре, так ты хотел бы, чтобы я отказался от этого плана. Слушай старик. Уступи. Уступи, это же такая малость. От этого ничего не уменьшится. Или не увеличится, ведь с какой стороны посмотреть, хе-хе-хе. Ну, а соколы, знаешь… Это уже не зависящие от нас силы. М-да, дружочек, сказал бы я тебе на это, но почему я должен идти на уступки? Не вижу повода для таких церемоний! Не вижу, ясно? Слушай, мой юный друг, пусть каждый сделает ход. Я сделаю, но и ты тоже сделай!
Входит Мэрилин Монро! Вот это да! Пек и Монро! Томчани на это никак не реагирует и мысленно продолжает напряженный диалог, иногда кивая или тряся головой; если бы было кому на него посмотреть, такой человек покачал бы головой. (Интересный мысленный эксперимент — вообразить себе кого-нибудь, кто бы наблюдал за этим наблюдателем… Но не будем об этом.) Д-да, приятель, шепчет Джакомо, кабы был бы я был начальничком, мне было бы знакомо возбуждение, и моим женщинам-подчиненным тоже. Изрядное зрелище, признает более сдержанный друг Беверли: красная юбка Мэрилин облегает пышные формы, как победный флаг; она хитроумно натягивается и опадает. Что вам нужно, вздыхает Мэрилин, и ее округлое бедро опирается на письменный стол. Один листок пошевелился. Грегори Пек ловит его. Его ручка и ткань юбки. Касается? Не касается? Экономические консультанты чавкают, Томчани не сдается. Ты бы стал руководителем группы. Рук. группы. Конечно, это повело бы и к изменениям в зарплате. Я тебя прошу, не пытайся меня купить. Ты ошибаешься, мой юный друг. Не настолько ты важная персона! Деньги не подарок и не взятка! С этим я не согласен. Если бы я захотел, я бы обиделся. Эти деньги ты бы заработал!! Нам крайне необходимы твои способности. Кофе расплескивается. Нервы натянуты. Грегори Пек в негодовании упирается ручонкой в крышку стола. Кровь у него кипит: красные полосы на ладони сменяются бледно-красными. Мэрилин сидит. Вздыхает; Пек уже вцепился в стол обеими руками: не дай Бог, ветром унесет, этим мятным, теплым, с тепловатой затхлостью, ветерком. Но Монро уже учуяла тяжелый мужской одеколон. Безо всякой к себе жалости она его втягивает. И тянет, и тянет, и тянет. Товарищ Пек озлобленно смотрит на кофейное пятно. Сдерживает себя. Ноги Мэрилин закинуты одна на другую. Она покачивает ими. В точке опоры кожа то и дело морщится. Она еще и вспотела там чуть-чуть. Шпилька каблука вверх-вниз. Как рапира. Кто нарушит эту тишину. Хомяки возятся. Они ничем не смущены и не притворяются смущенными. Нам крайне необходимы твои способности. Тебе будет поручена краткосрочная исследовательская работа, положим, на два года. По ее завершении вы устроите презентацию исследования. Какое исследование. Не валяй дурака. Ну, это исследование. Да ведь оно готово! Готово, готово. Ерунда. Этот мне юношеский максимализм, готово. Поднажмем, ребята! Положа руку на сердце: разве нельзя внести в это исследование коррективы? Не нуждается ли оно в поправках? Поговорим хотя бы о применении инертной мощности. Это, поясню тебе, мой юный друг, ситуацию на примере, как если бы фабричный ширпотреб превратился в пиджак, пошитый у портного. Уж извини, но примеры и я могу приводить 15. Помимо усовершенствований кое-что говорит и в пользу осторожности. Это не осторожность, это затягивание времени. Давай не будем цепляться к словам. Речь идет просто о необходимом изменении сроков. Отсрочка. Саботаж. Не так ли, не так ли мой дорогой друг. Ах, да. Еще одна «мелочь». Слушай' С этими завышенными ценами мы пересекаем свою планку и подпадаем, таким образом, под другой процент. Большее оказывается меньшим. Если размышлять в масштабах предприятия. Имре бормочет: аргумент на аргументе сидит и антиаргументом погоняет.
Пек и Монро! Может, они уже терзают друг друга, как дикие звери? Нет. Ничего не изменилось. Смуглый профиль Грегори Пека сияет. У него немного начинает дергаться край глаза: видно, он принял решение. Эротично набухают губы. В этот момент Мэрилин вскакивает. Стул со стоном падает назад. Он дает Томчани по колену. Хи-хи, хрюкает Джакомо, кабы был бы я был начальничком, витает в облаках, завернувшись в «Непсабадшаг», друг Беверли.
Чей этот лифчичек? — спрашивает один хомячок. И чьи это трусики? — подмигивает другой. Со стены, из золотой рамы, строго и поджаро смотрят Бунюэль и изображение товарища Ивановапетровасидорова в молодости. Что вам от меня надо? Ой, ой, седина в бороду. Грегори Пек зловеще поднимается. В нем борются хозяйственник-руководитель и мужчина. Крошечный галстук свободно болтается. Но-но, начинает он с угрозой, но девушка, как (молодец) вихрь! уже исчезла! Это еще что такое, говорит в замешательстве мужчина. Не сердись, пожалуйста, и начинает быстро перекладывать папки на своем столе. По порядку надписав А, Б и В на некоторых папках (на которых между А, Б и В отсутствует какой бы то ни было порядок), на столе мгновенно складывается следующая ситуация:
Как только определилось окончательно расположение, Грегори Пек соскочил со своего специального стульчика. Извини, не сердись, я сейчас приду, вот увидишь. Только его и видели.
Томчани остается в одиночестве. Сомнения его не обуревают, но… Он устал. Чего нельзя сказать о двоих экономических консультантах! (Они едва ли подозревают о своем поражении1б.) Пищат, урчат, почесываются, чавкают. Газета под ними подозрительно шуршит. Они переглядываются. Друг Беверли кивает. Подает знак. Ниф-ниф, своеобразный отзвук нашего печального стона. Разми-и-инка-а-а, завывает Джакомо. Разминка. Они копаются в листьях салата; друг Беверли хватается за край кастрюли. Его коготки проникают в газету, протыкая ее. Он наклоняет голову. Белоснежка и семь гномов. В обработке, шепчет Джакомо. В обработке. А кто унес мою любимую «Непсабадшаг»?
Господи. Где ты такого набирался, взвизгивает малыш Джакомо. За дело, возвращается он же с небес на землю. Кабы был бы я. Джакомо стыдливо прячется среди обрывков лохмотьев. Не бойся, начинай. Кабы был я, доносится сверху несмелый голос. Друг Беверли уже начинает что-то подозревать, бедняга. Кабы был. Но продолжить не удается и ему. Джакомо непочтительно посмеивается. Ниф-ниф, подбадривают они себя, давай поклонимся, выплюнем семечки из-за щек, не будем робеть, а голоса наши пусть будут чисты и отчетливы, ниф. Кабы был. Кабы был! Небольшая мучительная пауза. Джакомо охватывает жажда познаний. Дорогой друг Беверли! Почему мы, скажи, не демонстрируем свою осведомленность? Почему у нас на уме не то же, что на языке? Все это так, Джакомо. Ответ друга Беверли полон грусти, хотя не лишен «назидательных» ноток. Потому, товарищ Джакомо, что мы обладаем информацией, но не злоупотребляем ею. Нет-нет. Хотя на пути прогресса встречаются подводные камни, до конфликта все же не доходит. Конфликты отсутствуют. Бывают плодотворные споры, различные или расходящиеся мнения, это бывает. Есть также и общий знаменатель. Между собой мы спорим, но взглядов своих, товарищ Джакомо, не разглашаем, для других у нас единая позиция. Джакомо говорит: да. Боже мой. Кабы был бы я начальничком, рук бы не было в помине.
Томчани с трудом поднимается с липкого стула, кожзаменитель издает противный звук. В дверях он сталкивается с летящим на всех парах Грегори Пеком. Они здороваются, и оба делают шаг назад, потом, осознав комичность ситуации, усмехаются и делают шаг вперед. Вдруг Имре что-то приходит в голову, и он ставит ноги на ширину плеч, узкие джинсы на бедрах натягиваются, там, где ткань уже протерлась и надо бы уже заштопать. Довольный Грегори Пек пробегает между расставленных ног, как под триумфальной аркой. Имре пора идти.
Имре, послушай, пока утрясается твое дело, по поводу которого тебе ни капли не стоит беспокоиться, я тебя поддержу, по мере своих возможностей, и, как ты убедился в Зале заседаний, Миклош тоже с сочувствием думает об этой проблеме, я хотел бы тебе доверить небольшое спецпоручение. Поначалу оно может показаться бредовой затеей, но ты, я знаю, состроишь кислую мину и будешь не прав. Работа требует ловкости, расторопности, смелости, присутствия духа и всевозможных плюсовых качеств. Вашему поколению и так недостает ситуаций, в которых человек проверяется на прочность. Товарищ Пек тычет пальцем в сторону хомячков так, чтобы они этого не заметили; еще обидятся. К ним мухи слетаются, шепчет он. Имре кивает, з-з-з, кивает. Ты бы не мог их отловить. Молодой человек сдержанно отвечает. Это задание не касается непосредственно моей специальности. Нет, широкоэкранно отвечает Грегори Пек и начинает перекладывать папки.
Глава V, в которой два золотистых хомяка — определив, что такое: для себя, и что такое для других, — преподносят Читателю неожиданный подарок
Если б мир был пташкой малой, Он в горсти бы уместился, Днем и ночью заливался, Мир, когда бы был он пташкой. Но когда бы мир был пташкой, Как в горсти он уместится, Рук бы не было в помине, Если б мир был весь как пташка. Шандор ВерешКабы был бы я начальничком,
— то вставал бы с петухами я,
— цельный день бы пел я песенки,
— не терял бы даром времени,
— ну а в S 8-то за 5 минут я велел бы приносить себе
График Посещаемости,
— и ходил бы я-то гоголем,
— я ходил-бродил бы гоголем,
— и заказывал бы кофию,
— уважал бы сильно женский пол, уважая (ха-ха),
осторожничал,
— злато было б, добрый конь и меч при мне,
— прав бы был я,
— был я при галстуке, сам его завязывал,
— а волосики свои бы я приглаживал, а брюченьки свои бы я выглаживал, свитерочек бы на мне бы простенький был, ан за большие деньги купленный, ну а стрижечка моя б была привычная, ан никто бы к ней не подкопался бы,
— а носочек свой бы прочищал бы я,
— а случись, что нету подписи, я б красные вопросищи пририсовывал,
— и устраивал бы я бы перекличечку, самолично проверял бы расстояние между стоящими и выправку. («Равнение» произведено только тогда, когда подчиненный смотрящим в сторону направляющего глазом видит только своего соседа, а другим — только воображаемую линию строя, исключая графиню Хан-Хан, которая одноглаза.)
Кабы был бы я начальничком,
— я б держал бы псов времени да на мясе да и с кровушкой,
— и уж те, кто припозднилися, так и мчались бы по коридору-то без памяти,
— и тому бы было счастие, кто бы в той моей избушечке на куриных на двух ноженьках называл меня «бабулею», хоть и не нарушил бы я правил ни приличия, ни грамматики, что лишь только удалось бы при немалой смелости,
— раздавал бы и награды я, а и плел бы я свои интри-жечки, да и тень бы я еще отбрасывал,
— воровал, обдуривал и врал еще,
— и сгонял бы я с людей да семь потов. (Уж пришлось поплясать им под мою дуду; и: дуда бы пела сладким голосом.)
Кабы был бы я начальничком, ни за что не пощадил бы я
— изъявляющих да восклицающих, пожелательных, да побудительных, и в придачу вопрошающих,
— ни придаточных, ни главных,
— да ни личных бы, ни притяжательных, ни возвратных, ни взаимных бы, и ни указательных, ни относительных, ни неопределенных и ни обобщающих,
— и ни собственных, ни модифицированных, ни одночленных, и ни многочленных бы, ни на место, ни на время указующих, ни на состояние и ни образ ни на действия, ни устойчивых и ни частичных-то, ой да ни составных и ни исключения, да и ни тех кто — неполная конструкция,
— да и ни особых-то ни случаев; ведь обиду нанести-то есть возможности и вопросом, да и в форме изъявления, да и прочих предложений-то посредствием.
Кабы был бы я начальничком,
— очертил бы вкруг стола да меловой я круг, только сам бы преступал его, да и уборщица,
— не велел бы величать себя «товарищем», был бы я «Господином начальником», а и всех бы величал бы я товарищем, исключая тетю Шари18 лишь, уборщицу,
— а и было б у меня 7 полюбовниц-то, да и 7 бы и на 7 было начальников, стал бы членом я 7 организаций-то: Всевенгерского-то пленума Общегосударственного, да и Совета-то и профсоюзов всех, и центрального руководства профсоюзного, да и правления и профсоюзов-то, да к тому же профсоюзной той комиссии, да и исполнительной комиссии и профсоюзной, да и уж и прочая и прочая,
— ну а самым-то ранним да утречком, не напившись утреннего кофею, уж звонил бы я по телефонному-то аппаратику самому секретарю да органа властии,[6] кто бы был мне вместо младшей-то сестренушки, был бы другом мне, со которым-то давным-давно да плечом к плечу громили мы бандита контрреволюционного, кто пытался колесо-то той истории да и повернуть-то вспять да заново, он был бы мне и дядею, и куманьком, да и старшим моим был бы родичем, и сыночком, да и нянькой, и подмогою, дорогим был бы самым мне на свете он, но однако я и виду бы не подал бы,
— не подмажешь — не поедешь-то,
— ну а если бы уж долюшка а и выпала мне горькая, и молчал бы я и молвил, храбрым был бы я, как мишка-медведь, говорил бы то, что думаю, ну, а если бы уж долюшка а и выпала мне горькая.
Кабы был бы я начальничком,
— в сапоге держал бы ножичек,
— я б сидел у всех в печеночках, на охоте я бы буйствовал, ой и стал бы всех пужати я да «вспарыванием»-то и «засолением»,
— а завхозу позволял бы я свою душеньку умасливать, ну а уж из-под компьютера, числом несколько, в коробочках я держал бы себе кроликов и шиншилл еще держал бы я,
— и давал бы я прибежище всем, кому захочется,
— а и был бы вероломен я, и молчал бы я намеренно, и печати не хватал бы я,
— а и был бы я в наличии, да и пек себе я булочки,
— применял свои я полномочия,
— а и против всякого закону бы совершал свои я выпасы,
— а и книги жег бы я, да и бил тревогу бы,
— я бы перегородил рельсы, кинул булыжник под колеса трамвая, наступил бы на ногу выжимающего газ водителя; поцеловал бы Сильвестра Матушку[7] в шею сзади, туда, где растет пушок и мило поблескивает солнечный свет,
— а бежавшего бы пленника хлебом с маслицем я потчевал,
— и со сладким бы да с перчиком,
— ратататататата,
— я и марки бы отмачивал, влиял бы на события,
— и одна моя бы рученька а и мыла бы другую бы,
— а и был бы я навязчивым,
— а из полона сбегал бы я, поднимал народ на бунты я, занимался подстрекательством,
— а когда в штыки бы встретили, в страхе бы что-то лепетал бы я,
— и ковал бы я железо-то, измышлял бы я опасности, красовался бы в наградах я,
— для своих зубастых кроликов я бы косил траву (бегущему зайцу стрелял бы в голову, чтобы не возиться с дурацкой дробью),
— ощущал бы сожаление.
Кабы был бы я начальничком,
было бы известно мне, что такое возбуждение. И моим женщинам-подчиненным тоже, ха-ха-ха. Я был бы снисходителен, шелковист и упитан, так как если бы один из моих подчиненных посредством сообщения в прессе сделал объектом критики какой бы то ни было производственный процесс и, как следствие, позицию государственной власти по отношению к строю, и характер сообщения не только не был бы объективен, но и довольно резок, однако был направлен не только в адрес класса, поддерживающего упомянутый строй, но скорее критиковал бы ошибочную политику правительства в отношении рабочего класса (или капитала), упоминая, что некоторые выбрасывают крупные суммы на коробку сигар или ночную «гулянку», — на все это я бы закрывал глаза, потому что они были бы у меня опущены: даже веки слиплись бы!
Эх, уж будь бы я начальничком,
— я б в разрезах платья кутался,
— болтаться пуговицы не могли бы, женские пуговицы тоже не могли бы болтаться, но расстегиваемы были бы легко,
— однако свободу я бы не попирал, ни ногой, ни словом: те, у кого грудь как доска — вот уж заданьице их описать — могут застегиваться аж до подбородка,
— не жалел бы я красы своей,
— и если бы одна товарищ стала утверждать, что другой или другая товарищ хватали ее за руки, в ответ на сопротивление говоря: «чему быть, того не миновать», подобный случай, даже если бы говорил это я сам, не задел бы меня за живое, в этом невозможно усмотреть ни насилия, ни угрозы, ни страхов это не возбуждает,
— бордель тоже заведение, пять человек не общество, три человека не группа, два поджога не «серия» поджогов, один в поле не воин,
— признавал свое отцовство б я, а и вел себя как свинтус я,
— отказ, данный мне моей женой в девушках, я, учтя народные традиции, истолковал бы как притворство, обхватил бы ее сзади за талию и, бросив в поджидающую неподалеку повозку, ускакал,
— вознице своему я бы дал указание «гнать что есть мочи», и, если что-то ускользнуло бы от его внимания по причине постоянного напряжения всех сил и вследствие преодоления неожиданно возникающих препятствий и опасностей, то мой кучер не удостоился бы поцелуя в лоб, мой сын в пять лет ходил бы на специальные занятия русским языком, на немецкий, французский и сольфеджио, а также на шведскую стенку, недурно читал бы вслух стихи так наз. авторов «Нюгата»[8] (напр.: Дежэ Костолани, Милана Фюшта и др.),
— а позднее, уже после того, как прогнать свою супругу, я бы с помощью прислоненной к стене стремянки ввалился к ней и, застав ее там в неглиже с любовником, пнул ее в живот так, что все залила бы кровь, а затем, в ходе непрерывных побоев, связал бы новоиспеченную пару измочаленным лифчиком и глубокой ночью, в зимние морозы, вынудил бы их покинуть ведомственную квартиру в одной рубашке и босиком; я бы не исключал возможности, что моя жена, супруга, вследствие полученных ударов в живот, скончалась бы от воспаления брюшной полости, если бы я был начальником,
— а вообще-то мы бы хорошо с ней ладили, на именины я бы ублажал ее скипидаром, мы бы вместе ходили на курсы ПВО, по воскресеньям до обеда я бы помогал ей в генеральной стирке, и пока она все послеобеденное время отмачивала утомленные конечности (на этом она настаивает при любых обстоятельствах уже 20 лет), я бы почитывал газету «Непшпорт»,
— я бы любил художественную литературу, перед сном прочитывал бы 15–20 страниц художественной литературы (напр.: «Афганистан без чадры»),
я бы легко переносил трудности, я был бы здоров, у меня не было бы проблем с плохим настроением, а за последние 15 лет у меня появился бы только насморк.
Кабы был бы я начальничком,
— у меня бы заклинило магазин, к тому же я бы не только отвел затвор, но и зацепился бы за край гильзы, точн. за ее втулку,
— я бы вызывал подчиненных на доклад каждые полчаса и считал бы, что ногами женщины работают из рук вон плохо,
— проявлял бы солидарность я,
— по-хорошему сомнителен,
— но и никто не мог бы сказать, что «было холодно», только что «классно мы»,
— и, бывало, я смягчался бы и свою я гладил рученьку,
— я бы себя не баловал, не катался бы как сыр в масле, но тому, кто хочет мне угодить, полагалось бы знать, что такое: волчья петля (рис. 1), и что такое: ткацкий узел
Рис. 1
— ну а если кто-то из альтруистских побуждений, то есть бесплатно, всю ночь грузил бы уголь, по его спине катился бы пот (каковой пот мог принимать очертания Дуная, Оби или других рек), руки у него в это время немели бы от холода, свалявшаяся шерсть перчаток смешивалась с отопревшей кожей а повсюду бы распространялся тошнотворный запах газолина, ноздри его обрамляла, можно сказать, многодневная сажа, а под глазами пролегли бы синевато-черные тени, как у записных красавиц, тогда, пожалуйста, смейся кто угодно, да и он если сумеет,
— ну а если бы кто-то нахал носом землю, как правый защитник «Волана CK», а во рту у него трава и грязь, то пусть не пеняет на меня, а действует обдуманно, демонстрируя достоинство венгерского трудящегося,
— поскольку в отношении прочих вещей, если бы я был начальником, я бы все приводил в движение, как зингер швейную машинку, заяц липку или баран новые ворота,
— ах ты, погань,
— а и цыц тебе,
— ну а если бы кто-то вышел на меня, минуя руководителя темы, а я, минуя руководителя темы, определил бы для него неприлично конкретную работу и премию, а потом бы руководитель темы разозлился бы на того, кто его минул, и на всех тех, кто его минули, я бы тоже разозлился на того, кто на меня вышел.
Кабы был бы я начальничком,
— а и чувство мое юмора а и было безупречно бы,
— и густые были б бровушки, и земля была б богатая,[9]
— я бы свел увеличение цен с 60-ти до 20-ти, благодаря чему мы бы получили увеличение зарплаты в 4 раза,
— тут была бы регуляция,
— и были бы у меня проблемы с кадрами, но нескольких человек из технического персонала я бы признал физическим и держался бы за это обеими руками,
— а и были б мои кролики в развеселом настроении,
— у меня был бы заводской пропуск, охотничий билет, документы на корову, сопроводительная накладная на срочные грузы, ксива большой шишки, броня, льготы на проезд по железной дороге,
— на событья я б воздействовал,
— деловые мои качества а и были бы влиятельны,
— на основании искаженной информации я бы поручил Г. Г. написать по-немецки письмо невероятного содержания, из которого следовало бы, что у него процветающее дело и живет он в собственном доме (+ 2037 шиллингов),
— я бы вскрыл полы и бросился за улепетывающими сороконожками,
— я бы договорился с лесными браконьерами и с достоинством рубил сук, на котором сижу,
— в интересах назначения племянника на должность я бы написал письмо, в котором угрожал, что в случае невыполнения моей просьбы поставлю премьер-министра в известность о том, что все заполонили самодовольные бездельники и их дебильные отпрыски,
— я бы воспользовался духом деревенских жителей, а также силой их воображения,
— я бы возлагал, впадал, являлся бы ошибкой, нарушением полевых правил, непрерывностью, лопатой, тяпкой, пособничеством, правовой целостностью.
Кабы был бы я начальничком,
— я бы, конечно, помнил те времена, когда еще не был начальником,
— я бы помнил о замороженных инвестициях, которые в то время многие посчитали бы важными и нужными, и даже если руководство немного и страдало бы гигантоманией, настрой был бы оптимистичным, и в продаже была бы даже зимняя салями,
— не забыл бы, как любил работать я,
— хороши бы были времена-то те,
— я бы помнил, как когда-то был членом комсомола; сейчас-то комсомольцы пошли чересчур серьезные, солидные, им не хватает молодого игривого задора,
— я бы помнил, но одними воспоминаниями сыт не будешь, поэтому
— перешел бы я на личности,
— выделял на это время бы,
— а и брал в полон бы силой я,
— я бы производил и мог бы производить несколько укрепляющих мышцы, бодрящих и разогревающих кровь движений, меня бы не испугал ни дождь, ни снег, ни непогода; дух товарищества я бы повышал такими играми, как лапта, чехарда, пятнашки, коняшки, упражнение на подслушивание, скакалка, ручной мяч, волейбол (но мы бы играли только в «волейбольчик»), мяч с петлей; мне не хватало бы оптимизма, но я бы не страдал наивностью; я бы любил команду «Прыжки с поднятием коленей!».
Кабы был бы я начальничком,
— я бы демонстрировал понимание в адрес крайних проявлений бытия,
— но если бы кто-то в дружеской потасовке в тот момент, когда оседает калька, колышется копирка, стучит печатная машинка и разрывается телефон, так сжал горло своему товарищу, что тот в результате спазма сосудов головного мозга тотчас бы умер, его поцелуем в лоб я бы не осчастливил,
— так же как и того, кто выпускает бодливую корову в стадо,
— у меня были бы проблемы, серьезные проблемы: точнее: внутренние и внешние проблемы, первые разделялись бы на объективные и субъективные проблемы,
— несмотря на то, что не подозревал бы о надвигающейся гибели, мне бы не понравилось, если бы мои подчиненные выбросили мое исколотое ими бездыханное тело в воду реки Шайо глубиной едва в две сажени, хотя под воздействием холодной воды я тотчас пришел бы в себя и у меня нашлось бы столько физических сил и душевной энергии, чтобы не полениться и извлечь себя из потока воды; это стало бы для моих подчиненных полной неожиданностью, а я бы только фыркал.
Но уж будь я начальничком,
— положенье так ли, эдак ли то ль улучшилось, а то ль ухудшилось,
— прежде чем мне сильно приужахнутись,
— и, стуча со страху зубками, изымал притом бы письма я,
— но, пардон, сначала б спрятался я под солнечным под зонтиком,
— в ушах у меня висели бы золотые кольца, по два в каждом, которые на каждом шагу бренчали и звенели,
— на своем детекторном приемнике я бы слушал передачу под названием «На волнах музыки», был бы рад, если бы ее автором была Хеди Шаланки и силы черпал бы, в основном, в выступлении квартета Штефановича,
— и всего бы было вдостали,
— я бы клялся и божился (сверхурочные, отпуск цен общий объем зарплат, целевое задание, коммунистический субботник, коммунистический воскресник, после дождичка четверг),
— а еще бы со
— чи
— нял бы я,
— но выполнял бы годовой план в соответствии с показателями (включая валютное равновесие).
А когда настал денек бы тот, да и кабы, разумеется, я бы был уже начальничком,
— красовался на визите бы,
— и суровый, исполнительный, да еще и вдохновляющий я подчеркивал бы облик тот,
— но, крича «ура», по-страшному друг на друга мы б набросились (победить бы можно было здесь иль головушку сложити здесь),
— и свежайшею была б вода во фляге той, и сухим да порох был в коробочке,
— ну а в это же во времечко в телефон я молвил холодно, наблюдал бы, как за полетом я а и гордого да сокола,
— мы были единым духом и плотью, и тот, кто был бы с нами, не был бы против нас, а тот, кто не был бы с нами, был бы против нас, извинения йозефа веверки не принимаются (венгра учить драться не надо, он с этим родился!),
— в извилистое русло нашей системы взглядов я бы таскал хворост и там познал бы самого себя,
— в закромах бы не держал бы я, да и так, чтоб все заметили,
— а венгерцев я старался бы словом грубым не оби-дети,
— цыц тебе,
— а отхожее-то место се каждый день бы присыпал землей, ну а каждую неделю-то проводил санобработку бы,
— на бегу бы обжирался я, и хитрил, сбивал бы с толку всех (шапка накресть! головы-то нет!),
— у нас в крови было бы стремление куда-нибудь спрятаться, мы бы сливались с ландшафтом (что требует: времени и усилий, но: с лихвой окупается),
— ночью в приступе слепого ужаса я бы понял, в чем тайна успеха, тогда я бы не стал кашлять, но если бы был снег, я бы надел белый как снег маскхалат,
— ну а этой «ликвидации» «запирательством» препятствовал,
— я был бы душой и самым отчаянным бойцом главного отдела, я бы громогласно призывал, дрался бы с присущим моему народу воодушевлением, специализировался бы на протыкании сердец и животов, а также отрубании голов (я был бы «специалистом», и это было бы моей «специализацией»), я бы ловко двигался, нападал, отскакивал назад, отбивался, отскакивал в сторону, попирал ногой, тренировался бы, обратив день в ночь: из незащищенной позиции в положении «стоя», из укрытия и т. д.,
— ну а группе специальной бы проводил я совещания,
— но если бы я на обезумевшей лошади исчез из поля видимости, был ранен, недайбог, погиб, об этом подчиненные без промедления сообщили бы моему заместителю, который после громкого выступления занял бы мое место и назначил своего заместителя.
Кабы был бы я начальничком
— выше определенного уровня, я бы уже не пал ниже определенного уровня,
— но если бы лицо мое покраснело и пошло пятнами, то голову и плечи мне подоткнули бы высокой подушкой,
— и махали мне бы веером,
— а еще б меня похлопали,
— а уж те-то ноготочки мне аккуратно подпилили бы,
— били мокрым полотенцем бы,
— щекотали бы в носу бы мне, ну а пятки терли уксусом,
— пальчик бобо,
— был бы нервно истощен я весь, во-первых, тромбоз под подозрением, ан потом: «лишь нервы расшалилися»,
— я бы пригласил к себе барабанщика, эвфониста, музыкантов, играющих на сигнальном рожке, свистке (свистке «Ми бемоль» и свистке «Си бемоль»), геликоне, тубе, тромбоне, бас трубе и валторне, чтобы они исполнили мою песню, «Давай, пес мой Бодри»,
— я бы устроил тихий, вялый скандал по поводу того, что верхушка флага должна смотреть вверх и прямо,
— я бы лежал на своей спартанской кровати, к которой можно было бы приблизиться лишь «шагом» или «беговым шагом» (длина «шага»: 75 см, длина «бегового шага»: 90 см),
— и заставил утешать бы, понимать и уважать свою персону я,
— и газетам, книгам добрым бы и компоту был бы рад бы я,
— душу свою я бы безо всяких усилий наставил на путь истинный, был бы добр по отношению к себе, был бы светом апостольской души,
— ну а этой суеты мирской да и как бы избегал бы я,
— твердой рукой я оградил бы пошлые надгробные речи восхваления родственников и замалчивание достоинств от вырождения; к этому я медленно, но постепенно приучал бы народ,
— в голову мне бы пришли еще две вещи: что стойло подаренных Главным Отделом Вычислительной Техники лошадей в задней части должно быть пологим, чтобы можно было организовать водосток, а также я бы запретил, чтобы служащие во время ли крысиного бегства, по причине ли завершения рабочего дня пользовались непрерывно движущимся лифтом, я бы потребовал, чтобы они передвигались на велосипедах и, правой рукой по-птичьи ухватившись за руль посередине, в раскрепощенной позе, расслабив руки, спиной ощущая покачивание велосипеда, характерно держали голову,
— кабы был бы я начальничком, «На молитву!» — при призыве том, все бы точно замолкали бы,
— и светил бы мне вечный свет…
Да. О, Боже. Кабы был бы я начальничком.
Рук бы не было в помине19.
Глава VI, в которой
Взгляд, если не отличается скромностью (а такую роскошь себе позволять нельзя), вначале гуляет по впадинам дряблой плоти. Хлопчатобумажный, местами грязно-выцветший чулок розового цвета доходит до середины ляжки; тугая резинка оставила по окружности глубокий узкий след. Но это только об одной ноге. На второй ноге чулок спущен, на коленном сгибе видны две крепкие, характерные жилы и сеть расширенных вен.
Выше ноги соединяются с ужасающих размеров задницей. Это тетя Шари20. Уборщица, наклонившись вперед, в равномерном темпе моет плитку пола. Там же прислонился к стене Томчани, он ощущает слабые уколы совести по поводу коридора; потому что он осклиз от крови, копоть смешалась с кирпичной пылью в кровавых ручейках, русла для которых образовала неправильно уложенная плитка, в них, словно бумажные кораблики в сказках Андерсена, плавают человеческие конечности, чей-то нос, ресница, большой палец. Женщина ворчит, но свое дело делает. Сцепились, как собаки, кивает в сторону Зала заседаний, тщательно прополаскивая тряпку в большом ведре. Да, огорченно говорит Имре. Ну, а зарплату-то повысят? С чего это ее станут повышать, удивляется вопросу юноша. Женщина с хрустом распрямляет спину. Потому что она низкая, золотце мое. Молодой человек глубоко затягивается сигаретой. Но сражались вы, вижу, на славу, тетя Шари21 указывает на проплывающую мимо мочку уха. Товарища на товарище не оставили. Послушайте, протестует юноша. Если мы найдем исследование, и оно окажется полезным, и его введут, то в следующем году здесь будет такая премия, что все только рты разинут.
Пожилая женщина символически чуть отворачивается и чешет спереди ляжку. Кому, золотце мое. Вопрос в том, кому. Прежде чем вернуться к работе, она долго смотрит на парня. Тот краснеет. Вот видите, Имрушка. Не думайте, что из-за ведра не видно. Видно. (Она имеет в виду соколов…) Наклоняется над тряпкой, наваливается на нее своим весом, и по краям тряпки выступает грязная кровавая жижа.
Именно в этот момент к Томчани подходит граф Альберт Аппони22 (1846–1933) и спрашивает, который час23. Точнее, он спрашивает, есть ли уже час. Позавчера в десять часов двадцать минут я установил часы по часам Политехнического института, однако уже вчера в одиннадцать часов пополудни проявилась дифференция в девять минут. В церковной тишине его красивый, звучный голос гудит как колокол. Голова, напоминающая голову английской лошади благородных кровей, с безмятежным достоинством покоится на длинной шее. Вы бы отошли отсюда, говорит уборщица, при этом сильно кряхтя. Тонкая, бестелесная фигура графа с легкостью перемещается. Томчани, хотя возможности для разработки данного конкретного исследования не самые подходящие, улыбается, наблюдая за вытекающими из принципов человеческого равноправия отношениями и поведением уборщицы и графа. Ему вспоминается одно достопамятное заседание партячейки. Он, в силу своего возраста, молчал и слушал. В полной тишине Миклош Хорват вдруг воскликнул тонким фальцетом: демократия на предприятии дело рук совсем не партийного секретаря, Боже упаси!
Томчани докуривает сигарету, она в последний раз вспыхивает. Куда выкинуть, лукаво спрашивает он у уборщицы. А мне-то что, ворчливо отвечает женщина и в поисках убежища наклоняется к ведру графу передается напряжение, возникшее между этими двумя из-за противоречия интересов, и он с достоинством удаляется. Это довольно высокий человек, какими обычно и бывают оппозиционеры. Из 903-й комнаты выходит Мэрилин Монро с кипой бумаг под мышкой, она чуть не сбивает графа с ног. Какие брови — дивится граф. И какие густые волосы под мышками. И в самом деле: верхняя часть документов почти скрыта ими, что является в какой-то мере нарушением рабочей дисциплины: едва ли этот потный комок полезен для бумаги. Мэрилин мрачно огибает мужчину, лидера оппозиции. Тот делает в сторону блондинки неуверенный шаг. Он еще не женат. Маленькие головки с галереи для дам с любопытством склоняются вниз, когда он поднимает тонкое, некрасивое, но внушающее симпатию лицо. Все эти женщины, увы, принадлежат к оппозиции. Там, наверху, складывается иной раз великолепная картина. Богатство красок, веселье, оживление, красноречивые веера, пребывающие в вечном движении, отчего поднимается целый маленький вихрь. Помимо того, что большой любитель роз герцог Дьюла Одескалки и его партия находят галерею для дам чрезвычайно привлекательной, есть в ней и практическая польза. После одной-двух продолжительных бесед можно смело жениться. (Несколько десятков лет галерею аккуратно посещала чудесная барышня. Это была красивая, высокая, статная женщина с благородным, полным достоинства лицом. Проказники-депутаты окрестили ее Хунгарией Венгрией. За двадцать лет красавица, конечно, постарела, во многом утратила свое очарование, но и по сей день регулярно появляется на галерее. Еще большие проказники-депутаты теперь уже добавляют к ее имени: Хунгария Венгрия, но после татарского нашествия.)
Девушка достигла двери товарища Пека, состроив гримаску, оглядывается на Имре Томчани, который еще не придумал, как закончить разговор с тетей Шари24. Придумает тетя Шари25: шли бы вы, Имрушка, спокойно по своим делам. И не нужно здесь караулить. Томчани без всякого повода приходит в смущение, что даже умудренная жизнью женщина неправильно истолковывает: или это проверка?
Мэрилин Монро поправляет юбку, перекручивает ее вокруг талии, набирает воздуха и ладонью проводит по ребрам. Это визит, решает Аппоньи, более-менее верно. Он довольно близко стоит к Томчани: взгляд девушки принимает на свой счет. Широким, покачивающимся шагом он, как элегантный катер, спешит по коридору.
Мэрилин роняет кипу бумаг на стол — осторожно, чтобы возникший ветерок совсем не сдул Грегори Пека. Между ними вновь начинается тяжелая схватка, Мэрилин коленом прижимает плечо своего начальника. Мадам, говорит, что-то жуя, Джакомо из своей безопасной корзинки, мадам, ваш зад подобен альпийскому эдельвейсу. Мэрилин нервно перелистывает бумаги. Пожалуйста, товарищ Пек. Спасибо, Мэрилин. А сам прижимает волосатую руку к коленной чашечке. Вздохи, попискивания.
Именно в этот момент заглядывает Альберт Аппоньи. Что вам надо, покраснев, вопит товарищ Пек. Пардон, господа, произносит граф с выработанным столетиями тактом и пятится в коридор. Эй, приятель, а дверь кто будет закрывать, кричит ему вслед Джакомо. Усики его дрожат от деланного возмущения, каналья.
Граф, как оплеванный, остолбенело стоит в коридоре. Но жизнь продолжается2б. Ноздри графа вздрагивают. Взгляд его свободен, он парит как орел, и им капельку манипулируют. Quelle finesse![10]
Прочь, прочь отсюда! Дунай. На старом Дунае по вечерам и на рассвете туман можно почти что есть ложкой. Кораблей на великой царственной реке не видно, только слышно. Стучит, посвистывает множество моторов, развлекая публику. Слабый луч солнца! рассеивает эту мрачную, серую бескрайнюю Господню пелену. Луч солнца: проблеск, обещание, летящий вперед вестник, чье дыхание касается оцепеневших лугов, который пробуждает оцепеневшие сердца и пропадает, как сон.
Ну а Дунай пребывает в прежнем своем состоянии, даже крах никак на него не повлиял. Он медленно, с достоинством колышется, как «вечные часы»? у которых «в подмастерьях время». То, что его оседлали двумя новыми цепными мостами, а венгерская пароходная компания соскочила с его спины, Дунай не занимает. Вода бесчувственная стихия. По обоим беретам в зеркало воды глядятся великолепные особняки, и далеко-далеко, куда только ни кинешь взгляд, повсюду башни, купола и замки.
Велики гомон и движение, производимые здесь человечеством, этот вечно суетливый хаос равнодушно сталкивающихся, проносящихся друг мимо друга частиц, подобных множеству неразгаданных тайн. Куда они спешат, в какую сторону идут, к чему стремятся, кто может сказать. Авто, тарахтя, на большой скорости подъезжает к станции австрийской железнодорожной компании, по деревянной мостовой Кольцевого проспекта гордо стучат копыта лошадей, уже открыт универмаг женской одежды «Шимон Хольцер», собаки нет-нет да исчезают в таинственных двориках, и крутится, крутится зонтик…
На углу улицы Петефи на земле с азиатским комфортом расположился старик нищий, держа правой рукой перед снующей туда-сюда почт, публикой свою шапку, так чтобы находящуюся в ней напечатанную записку она могла прочесть даже издалека: EIN ARMER TAUBER MANN BITTET 1 KR. (Бедный глухой просит подать 1 крейцер); судя по всему, этот листок приносит довольно хорошую прибыль. Очень приятно и радостно осознавать, что эта «большая деревня» так быстро достигает размеров Нью-Йорка — хотя бы по части надувательства.
Но лучше всего дела, безусловно, обстоят у дамского башмачника. То, о чем впечатлительные поэты и восторженные влюбленные лишь безотчетно мечтают: крошечные, величиной с бисквитное пирожное, ножки — пред ним это божественное нечто является ему, сбросив таинственный покров. Он может его рассмотреть, подивиться на него, измерить узкой длинной ленточкой из бумаги длину, ширину и высоту подъема. Обычно старый мастер гладит рукой тонкие чулки, в то время как молодому подмастерью приходится довольствоваться лишь взглядами — да и то, если его допускают. Он бы сам с удовольствием высчитал 2τπ для этой грациозной ножки (площадь ступни: двойной радиус, помноженный на число Лудольфа), с которой старик так равнодушно обращается и которую хозяйка все равно так опасливо прикрывает! Эх, вот когда он станет мастером!
Витрины Будапешта — правдивый барометр будущего (сегодняшний день всегда наивернейшим образом представляет мир торговли): цапли и орлиные перья сменяют друг друга в витринах цветочных магазинов в витринах ювелиров сверкают блестящие брошки брильянтовые застежки и цепочки для ментиков!
У витрины «Монастерли» настоящее столпотворение: там публика разглядывает туалеты графинь Каройи, стоящие целое состояние.
«Аргози-брайсес», самые лучшие подтяжки. Согласно статистике больницы Св. Рокуса, в случаях заболевания ревматизмом, подагрой, при ноющих болях в голове, зубах и ушах, получении вывихов и тяжелых ушибов после применения чрезвычайно действенного препарата «Репаратор» из 136 пациентов 129 было выписано здоровыми, а 7 с улучшенным самочувствием. В прекрасно оборудованной приемной д-ра Лейтнера (улица Доб, д. 18) надежно, качественно и быстро осуществляется лечение интимных заболеваний, всяческих последствий мастурбации, импотенции, штриктур, белей и всех прочих женских заболеваний без отрыва пациента от его занятий, возможно также заочное лечение, презервативы! Настоящие французские «штучки», презервативы из резины и рыбного пузыря с гарантией, 3–6 форинтов за дюжину. «Бутс Америкэн» (Capottes) 3–5 форинтов. Новинка! Женские контрацептивы «Пели поруо 2 форинта. Дамские губки из Парижа 2–5 форинтов. Конфиденциально!!!
Вот так: шутки, веселье, оживление. Все это одна большаясемья, которая благоволит всего одному домашнему животному. Не австрийскому двуглавому орлу, а «Синей кошке». Постепенно — однако — все меняется (не меняется только Алджи Бэти). К чистокровному патриархальному типу начинают примешиваться господчики современной закваски, у которых нет времени рассиживаться за белыми столами, которые дома по ночам при скупом свете лампы читают Спенсера и Блунтшиля, или такие, которые мечутся туда, мечутся сюда, гонятся за гешефтом, строят железные дороги. Эти веселиться не умеют, у них голова забита цифрами. Далее следуют карьеристы во всех видах и формах. Ну, а карьерист, тот только цепляется, но не смеется. У карьериста рот захлопнут, а ладонь раскрыта. Везде дым коромыслом, в типографиях ругают журнальные тексты, поэты, запершись в своих кельях, сооружают праздничные оды, главы делегаций составляют свои речи, дамы оттачивают языки.
А там, у вас, все это время печально собирают дань люди Сапари.
Вжих: в крепость на фуникулере! Насвистывать, беззаботно бродить по тихим крепостным мостовым, прикрыть глаза, чтобы взгляд, не дай Бог, не упал на памятник злодею Хентци. Но в сторону политику; не будем наживать себе неприятности; об этом не стоит много писать, скучно много на эту тему говорить, а размышления об этом вызывают головные боли. Мы с тоской вспоминаем те времена, когда политика и литература варились в одном котле, на одном и том же огне. В те времена политики и писатели были устроены чудесным образом — так сказать, из одного теста, как тогдашние монеты в шесть и двадцать филлеров, и в той, и в другой были медь и серебро, только в одной было больше серебра, а в другой меди… То, что тогда имело вес, сейчас превратилось в бремя. Современное поколение воспоминания лишают способности двигаться. В наши дни бородачей уже не подозревают в сочувствии Кошшуту (1802–1894), их не останавливают на улицах жандармы и не сопровождают в участок (иногда «добры молодцы» Элека Тайса, господина начальника полиции; но ведь у него, бедняги, забот от этого больше, чем у того, кого он приказал сопроводить), смягчились-таки суровые времена: останавливаемся мы сами, витрины же, как было сказано, светятся… То единственное слово, которым гремели перед войсками, сверкая саблей, это единственное слово — «вперед» — сегодня означает всего лишь мирный дорожный сигнал. Флаг былых времен свободно, во все полотнище колышет ветер, грохот ружей былого врага слышится лишь во время охоты. Но теперь его, естественно, никто не боится! В крайнем случае, услышав его, крестьянин-сеятель из Гэдэллэ заметит: король снова «дома».
Нам теперь ничего нельзя упускать, не дай Бог, обстоятельства совместно с собственным нашим головотяпством окончательно выбьют у нас почву из-под ног. Нация опомнилась, ей надоело ловить ускользающее мгновение, чуть только отпустили финансовые морозы, и уже, как грибы после дождя, стали возникать новые товарищества. Народ знает, кто его истинные друзья, даже если не во все времена, но в минуты кризиса всегда. Нация вновь сама себе хозяйка. Высказывайтесь открыто и свободно. Да здравствует общественное мнение!
Нашим промышленникам и предпринимателям пожелаем терпения и ревностных усилий, и тогда со временем они будут вознаграждены за терпение и ревностные усилия.
А каждого жителя нашей родной Венгрии пусть Господь благословит даром солидарности и согласия, ибо лишь это способно вывести нашу любимую родину из хаоса, возникшего за время нашей, благословленной миром, конституционной жизни.
И наконец, пусть Господь посетит сердца тех, кто осуществляет управление нашей страной, пусть они возжелают не только отдать кесарю кесарево, но и народу народово. И да минует нас чаша отступлений, и прекрасная, родная наша Венгрия обретет счастье и возрадуется конституционной свободе!
Да будет так, с благословением Божьим!
(Мы, конечно, на стороне партии. Нас с ней связывают долгие годы. Мы хотим того, что она провозглашает на своем знамени. И есть ли на земле такой венгр, который хочет чего-нибудь другого? Нам нет дела до личностей. Мы будем смотреть лишь на поступки и на их основании судить. Соберемся же под единым знаменем; прошло время шуток и легкомыслия, участие в оппозиции было достойным занятием лишь при австрийцах; сегодня мир сильно изменился, и пусть сегодня достойным для каждого занятием будет добросовестное выполнение того, к чему обязывает гражданская профессия: преподаватель пусть преподает, производственник руководит делами, адвокат защищает права, судья принимает справедливые решения, и никто пусть не вмешивается в дела другого.
Стоимость подписки на 1/4 года 1 форинт 50, на 1/2 года 3 форинта. Просим вас как можно раньше обновлять подписку, дабы избегать задержек при рассылке)
Вместе с солнечным лучом мы возвращаемся в коридор. Солнечный свет широкими полосами пробивается сквозь большие стекла, шаловливо танцует на толстом сером ковре, нет-нет да и продернет то тут, то там золотую ленточку сквозь клубящееся в высоте облако дыма. Веселая здесь раньше была жизнь. (Когда народ еще не так устал от конституции.) Было меньше тщеславия и больше душевности. Когда-то между левой и правой частью коридора была большая разница. «Тигр» (оппозиционер) ни за что на свете не пошел бы в противоположный конец коридора потому что его сразу же стали бы подозревать в диссидентстве, да и мамелюк (депутат, принадлежащий к правительственной партии) тоже крайне редко появлялся в лагере левых, только если его вынуждала к этому «красная комната». (Поскольку красная комната, где министры складывают свои цилиндры и пальто, где поспешно дают аудиенции и совещаются, расположена в левой части коридора.)
Люди уже не умеют ни сердиться, ни радоваться, как раньше, они ни теплые, ни холодные, внутри даже друзья — враги, снаружи даже враги — друзья; мало того, здесь в дружелюбных клубах дыма, под нежный говор, даже эти лохматые, растрепанные типы, журналисты, которые вообще-то представляют здесь общественное мнение, даже они собираются в кучку пошептаться о своем. Проходящий мимо Чернатони говорит им: правильно, правильно! Будьте друг с другом поласковей, потому что никто больше с вами ласков не будет!
То здесь, то там слышится веселый смех. Радостные возгласы доносятся и из буфета. Это либо Дьюла Одескалки, либо Алджи. А вот катится папаша Гёндеч. А ну-ка бросим взгляд на его руки: если надето большое кольцо с брильянтом, значит, будет выступать. Даже среди первоклассных ораторов градация проходит очень строгая: грошовую сигарету можно выбросить и ради Хорански, Иштоци заслуживает сигары «Cabanos», Грюнвальд — «Cuba», сколько раз я видел недокуренную из-за Силадьи «Britanica», ради Аппоньи, Тисы и выдающегося романиста Йокаи могут примять великолепно дымящуюся «Regalitas», но оратора, равного по силе «Bock», еще не рождала наша эпоха. Вон там Мор Йокаи коротает время с оппозицией. Вам хорошо, вы всегда ложитесь с чистой совестью; если внесли дельное предложение, то потому, что придумали что-то дельное, если бестолковое, то потому, что из этого все равно ничего не выйдет.
Денеш Пазманди принес с собой необыкновенную антикварную штуку, палку, всю испещренную диковинными закорючками! Отец Пульски осматривает ее с видом знатока. Это бамбук! Нет, это шафран, отвечает хозяин. Да-да, действительно шафран, отступает Пульски, а вот резьба здесь индусская. Нет, это китайские иероглифы! В это время к ним подходит Пал Хойтси и спрашивает: что это вы делаете, дядя Фери? Да вот, определил этим, откуда палка, с чувством превосходства говорит старик.
А над узкими, обтянутыми бархатом сиденьями пауки соткали паутину по своему вкусу от самого потолка. За работой одного такого паука любил с восхищением наблюдать натуралист Янош Пацолаи, и когда однажды слуге удалось его оттуда смести шваброй, был большой скандал: как господин посмел трогать этого паука? Паука Пацолаи! И как мне теперь объяснять Пацолаи, куда он девался?
Признаю, улыбается Аппоньи, оба названия — Единая оппозиция и Умеренная оппозиция — явно ошибочными, и не только потому, что они бесцветны, но и потому, что они отражают не принцип и направление, а одну лишь ситуацию. Серьезная партия по своей природе не может быть правящей или оппозиционной, а может быть то одной, то другой, в зависимости от того, реализует ли правительство ее принципы.
Присутствующие, разбившись на небольшие группки или по двое, располагаются в углах одного из залов. Тот, кто подсел сюда в полном неведении, через час будет осведомлен обо всем, что произошло в театрах, конторах, клубах, редакциях, будуарах и «Синей кошке». Но былому воодушевлению, веселью и искренности, о которых повествуют древние депутаты, наступил конец: от них ничего не осталось, кроме «панибратства». Но какое это сейчас пустое и бездушное слово! Эх, нынешний век, этот жестокий нынешний век! Все разваливается на кусочки. Становится как улица Коронахерцег в полдень, на которой каждый бывает, но не каждого нужно замечать. Формируются крошечные кружки, которые держатся вместе и считают, что других не существует. Отдельно собираются благородные господа и отдельно — армия разночинцев, строя наивные иллюзии относительно правового государства.
Бывшие приверженцы националистической партии с трогательной нежностью жмутся друг к другу, как утята под предводительством наседки в курином лагере. Старая гвардия мамелюков обменивается искренним словом лишь между собой — предварительно оглядевшись, Еще никогда так много стариков вместе не видели! Но по вечерам, бывало, стоял такой кашель, что своих слов невозможно было расслышать. Эх-х! Нынешнее поколение думает, что всегда так было. А сколько раз мы заходили в тупик! С какой осторожностью приходилось поддерживать хорошие отношения между королем и народом, особенно вначале, когда все было еще зыбким, как студень, так сказать. Да, нужна большая осторожность до тех пор, пока все не затвердеет, как камень! Нынешнее поколение уже не знает об этом и не может ощутить благодарность к этим мужам за неусыпное бдение над судьбами страны, за дальновидную осторожность, к тем, кто, стоя на хрупком, кажущемся экспериментом фундаменте, затрагивал общественные вопросы.
Эх, что за умопомрачительная комедия! В каждом человеке живут двое. В торжественной позе — прогрессивные люди, их подогревает святой идеализм, они преисполнены принципами либерализма, с горящим факелом свободной прессы и гуманизма в руках, готовы пожертвовать жизнью, проливать кровь, чтобы ускорить триумф обожествляемых учителей; а дома в своем халате — потомки прежних присяжных заседателей. Клаузалы, Горовы, Мико и все, все, сколько ни есть! Знамя, которым они размахивали, было большим самообманом. Но и святой ложью, которой все верили! Рассказывают, что где-то в Падуе была башня, на которой было вырезано четыре голубя. Согласно примете, тот, кто на самом деле сын своего отца, видит пять голубей. С тех пор каждый хоть сколько-нибудь уважающий себя житель Падуи упрямо настаивает на том, что видит пять голубей.
Половина человеческой жизни — долгий срок; даже память делает передышку, прежде чем добраться до ее начала; дети, которые этого тогда не понимали, с тех пор стали мужчинами, мужчины — тихими и ко всему равнодушными мертвецами или дряхлыми стариками, которые уже сейчас не понимают того, что когда-то заставляло биться их сердце. Да и видоизменившийся патриотизм выдумал новую моду и прикрыл окровавленное тело «пеленой забвения». Если он сделал так из приличий, то пелена эта слишком тонкий материал, ну а если, чтобы больше не вспоминать то время, когда был «самым несчастным», то с легкостью может позабыть и то время, когда был «самым великим».
На сумрачном перепутье, где дорога между книжных шкафов ведет из одного коридора в другой, грязным, скарлатиновым светом горит вечный газ. Отсюда можно попасть в безлюдный, по большей части, читальный зал. Сумрачный закоулок идеален для желающих пошептаться. (Секретов нет. Мы все знаем одно и то же, потому что ни один из нас ни во что не посвящен.) Если, конечно, и здесь их не вспугнут приближающиеся шаги, топ-топ, топ-топ. Бравый Кэрэши с большой охотой ковыляет в этих местах. Есть убежденные комбинаторы, которые даже за словами смирного Эрвина Чеха видят великое будущее. Идут жаркие споры: кто будет? что будет? (кто кому волк?). Испуганно носятся услужливые курьеры. Листы исписаны комбинациями. «Крепкая рука» готовится к выборам, поговаривают они, и приумножает свои силы. Столько имен упоминается. Видел сегодня Власича, лоб у него был наморщен, скажу я вам. Гм. Сапристи, это интересно. Я не разделяю твоих взглядов. В этом вопросе мне претит поддерживать генерала. Силадьи!.. Силадьи будет выступать. Силадьи вычеркнул себя. Где Силадьи? Генерал сердится. Готовится что-то большое, генерал готовится к прыжку… серьезно готовится» Я не разделяю твоих взглядов. Я не буду за это голосовать. Вот именно, вот именно!
Ни за что, восклицают некоторые, ни за что, ни за что. (О, как это ужасно звучит, как сказал бы ворон из стихотворения Эдгара По.) К нашему уху, будто к уху Кальмана Тали, склоняется героический генерал Берчени, чтобы прошептать туда голую правду (а если мы замечаем на той стороне Колонича, глаза у нас наливаются кровью от гнева). У отца нашего Кошшута мы по-настоящему научились произносить тосты. Мы — мятежные куруцы до мозга костей, и пусть кто-то кричит: у тебя в штанах дырка! — на нее нельзя поставить заплату Габсбургов! Сограждане! Печальные дни, которые для нас наступили, — постыдное время, которое нам нужно пережить; нас стало меньше числом, ослабла наша вера друг в друга, любовь, надежда, но все же не будем падать духом! О, «бравый предводитель» бывшего «левого центра»![11] Сложенное оружие тогда и сейчас — суть та же, только лица переменились! Постыдное зрелище, от которого, краснея, отвернется каждый истинный венгр, для которого данное слово — священно, и он не станет толковать это в угоду моде.
Мало у нас теноров, говорит кто-то озабоченно.
Но-но-но-но. Не надо гнать лошадей. Мы ведь тоже говорим, что патриотизм — прекрасная вещь. Все, чего хотят люди 48-го, — прекрасные, замечательные вещи. Но если они недостижимы! Между тем мать, которая душит своего ребенка из большой к нему любви, еще может быть оправдана Богом, знающим наши помыслы, но в глазах людей она — преступница.
Мы люди.
Если вы любите свою родину, то оставьте в покое тех, кто ради ее благополучия пожертвовал собственным мнением, позвольте им трудиться и не усложняйте им и без того тяжелую работу, к которой сами неспособны.
Все мы «stille Gesellschafter»[12] одной фирмы.
Извольте признать, что в смысле политической свободы личности большей свободы, чем у нас, и представить себе нельзя. Ну что у нас запрещено? Ничего. Можно забросать грязью любого государственного деятеля, большой смелости не надо для этого, кто угодно может похваляться, зная, что ни одна собака на него не тявкнет.
Без сомнения, человек мыслящий скажет на это: там, где обладатели подобного образа мышления разгуливают на свободе, существует воистину великая свобода.
Видел сегодня Силадьи, лоб у него был нахмурен скажу я вам. Он будет выступать. В таких случаях обычно говорят: Силадьи надел трико. Запал у него иссякнет, ярких красок не будет; но как человек, обладающий большой властью, он будет опасен, поскольку из софизмов выводы делает по своему усмотрению. Взбудоражит партию, наголову разобьет противника; коршун прямо. То клюнуть норовит, то клювом ударить. Схватит курицу-мамелюка, поднимется в воздух и с высоты сбросит. Да, тело у него мощное, грудь колесом, голова как у льва! Он велик, независим, смел и свободен, как и подобает совести нации. И если вечером, бывает, навалится усталость, в дружеском кругу, когда иссякнут все темы и установится знакомая гнетущая тишина, частая гостья за белым столом, как подстерегающий жертву орел, он говорит Дараньи: Нацика, сделай какое-нибудь заявление. (Что означает: можешь, Нацика, утверждать что угодно, что твоя душа пожелает, мне совершенно все равно, я за час интересной и увлекательной дискуссии не оставлю от твоего утверждения камня на камне.)
Там, наверху, погружен в мысли Аппоньи. Веду я себя спокойно, движения мои размеренны и пластичны, в выступлениях ощущается плавность и четкость, я — мастер модуляций, а мысли группирую каждый раз по-новому. Я выработал для себя превосходный, изящный, хотя чуточку не венгерский язык. Я блистателен, утончен, ношу перчатки и торжественно держу себя; кроме того, я в моде, в ответ на мои завораживающие слова на галерее вырастает море цветов, я тщательно подготовил и отточил свое выступление — пока человек в оппозиции, у него есть время на такие вещи, — я и бровью не веду при громе аплодисментов, я до конца остаюсь спокойным и равнодушным, на моем бледном, вытянутом лице не выступает румянец, мои глаза не вспыхивают огнем, только большие ноздри сильнее дрожат, а карандаш быстрее движется в руке, — и все равно поколение ораторов подражает моему великому и талантливому противнику, Тисе… Непостижимо.
Ведь легко себе представить, чтобы многочисленное общество подражало украшениям, движениям, оттенкам голоса, манере держать голову самой очаровательной и изящной дамы, это и не удивительно, но если желание подражать себе возбуждает не слишком привлекательная, мало того, неряшливая женщина, тогда она должна обладать исключительным темпераментом и прочими выдающимися качествами.
Солнечный свет, звеня, проникает в одно окно, поспешно, как ведьма, пробегает мимо другого, оп, и нет его, а мы, будучи его спутниками, оказываемся не внутри и не снаружи; волнами доносится голос Корнеля Абраньи: прошлое не может умереть, а будущее не может родиться. Одной ногой мы уже ступаем по улочкам, окружающим скамейки бульвара Эржебет, в то время как сюда еще достигают оживление и шепот. Силадьи плетет интригу. Силадьи рвется к руководству. Аппоньи мигает глубоко-синими католическими глазами, но объективно говорит: о, нет. В нем свет сильнее тени, великие качества преобладают над мелочностью. Граф проводит своими длинными «музыкальными» пальцами по стене. Смотрит на нее так, будто там пыль. Оживленно играя глазами, он ищет внимающую ему публику. Знаете, говорит он сдержанно, во мне он нашел бы настоящего, близкого, верного друга. Незадолго до смерти, совершенно расчувствовавшись, он сказал, что жалеет о тех годах, что не был со мной на короткой ноге, И мне тоже жаль. В зараженном воздухе неизбежно расцветают беспочвенные подозрения и клевета. Воображаемую или настоящую пыль он растирает между большим а указательным пальцами, как бы изображая жестом «деньги». Тиса спекулирует на дурных качествах нации, поэтому он так силен, а я бы хотел пробудить в ней хорошие качества.
Однако мы уже в восхищении стоим на бульваре Эржебет! Сколько здесь нянек! Хотя гренадеров больше, чем нянек! А впрочем, к восхищениям более склонен Таде Прилески: высокий лоб озаряется светом, а в глазах зажигается огонь — когда ему этого хочется.
Стены окрашены в национальные цвета, посередине зала — герб Венгрии и Трансильвании, рядом висят портреты Кошшута — с одной и Деака — с другой стороны; последний, наверное, для того повесили, чтобы мы могли полюбоваться на установленный австро-венгерский дуализм. За столами венгерские кельнеры подают венгерские блюда, воздух наполняют венгерские возгласы. Наилучшее освещение можно наблюдать у гостиницы «Хунгария», здания городского управления и синагоги на улице Дохань, где можно заметить надпись «ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОДИНА!» на венгерском и иврите. Из храма выходит еврейка. Ой, как давит корсет. Moritzel, du bist übertroffen.[13] Куда? Куда? На биржу. В такой час? Ах да, на бал женского израэлитского общества… Щоб тоби пусто було! Нехай твоя жинка на тры месяца забастуе, а пи-тим щоб ты ее двадцать часов кряду развлекал! Щоб ты валялся пид забором, як пес поганый!
Ну и что, что «saison morte», мертвый сезон! Ну и что, что прекрасные дамы из высшего света вынуждены наносить одни только визиты! Как только украшенный газовыми звездами наряд ночи опускается на столицы-близнецы, они тотчас же скидывают с себя дневное напряжение и показывают истинное лицо, такое волшебное, такое обворожительное, восторженному сердцу патриота. Забав и тлена вдоволь.
Весело несется полька и галоп, мещане, депутаты и дамы полусвета, сбившись в большую кучу, исполняют их с сумасшедшей скоростью. О, эти дамы полусвета. Вон мисс Туртин, Лилланч Маньоки, вон Анне Пепита, Тилли Фехер, поцеловать которых любой ценой хоть раз считается хорошим тоном! Закройте глаза, стыдливые девственницы, и не читайте этих строк. Я пишу о женщинах, но не для женщин.
Ведь что произошло? Красавица-брюнетка Вильма сделала, значит, сбоку на платье и на юбках разрез, Бог знает до каких пор, и тот, кто отдал за нее свой билет (поскольку вдобавок к входному билету каждый мужчина получил еще билет для голосования), имел право запустить руку в широченный карман. Весть об этой находчивой идее вскоре облетела всю благородную мужскую братию, начались перешептывания. Как, Вильма? И что, можно целиком засунуть руку? Замечательная мысль. И опытные, как бальзаковские женщины, мужчины поспешили к Вильме. Вокруг нее образовалась настоящая давка. Фи, ну и вкусы в этом Пеште.
Старик Андрашши, по своему обыкновению запинаясь, полушутливо говаривал: часто белокурая служанка стоит большего, чем королева-брюнетка, и трепал миловидную прислугу по лицу. Дюла, Дюла, делаем мы почтительные знаки рукой.
Вокруг тебя скачут демоны в ангельском обличье, пьют ром и вино, подмигивают тебе горящим глазом, обещающие наслаждение накрашенные губы посылают тебе воздушные поцелуи, в большой зале начинает играть фривольная мелодия, дамы вскакивают со своих мест и спешат начать умопомрачительный танец Вперед! Да здравствуют опьянение и муки ада! Партнерша прижимается к тебе, при сильном вращении юбка хлещет тебя по плечу, и икры партнерши многообещающе говорят о тех радостях, в плену у которых ты оказался. Еще одно пожатие, а потом ты можешь ее где угодно равнодушно отпустить, не надо даже вести на место. Ти, идиет, ти, Mistvieh![14] Хоть бы за румяна заплатил, а то все лицо облизал!
Ну а цирк Ренца! (Да, я регулярно туда хожу.) Здесь сильно шумят и стучат копытами лошади. Звучит музыка, и трубят в рожки, — а женщины красивы только в обнаженном виде. Аплодисменты и ликование, на горячем жеребце скачет Флора, как богиня по арене. Опьяненные радостью взоры публики устремлены на ее тело. Сколько новизны, сколько прелести! В тот момент, когда она наклоняется к шее своего жеребца, а золотистая юбка, развернувшись, превращается в крылья, уверен, ангелы готовы принять ее обличье. Пышная роскошь, которую демонстрирует балетная труппа, могла бы восхитить даже парижан! Ну а мы, непритязательные будапештцы? У нас от такого кружится голова.
Прекрасной Катанки Ренц — о, горе — нет больше с нами, и Океания не вернется. А ведь она знавала здесь когда-то прекрасные времена. Граф Б. Е. за одну улыбку послал ей украшение ценой в двадцать тысяч форинтов. И, как поговаривают, дальше улыбки дело не пошло. Графа ей было мало. Она ждала князя. Получила и князя. Конечно, это был русский князь. Он ее бросил. Таковы русские князья. Бедная Океания. Теперь она любовница какого-то бедного торговца в Америке и носит фальшивые браслеты.
Но перейдем к другой достопримечательности: девице весом в пять центнеров, уроженке Эльзаса, которую показывают в Буде, двенадцать филлеров за вход и столько же на чай. Воистину замечательный экземпляр. У нее одна икра таких же размеров, как талия дяди Шрамко. Прекрасная партия! Каждый день на ней можно заработать 50 форинтов. Рекомендую нашему Беле! А какой же с нее персональный налог? Я скажу Бакчи, чтобы сделал запрос министру финансов. Сейчас он все равно «в турне». То есть не министр финансов, а Бакчи.
Что касается конторы Шафраньи на улице Ури, то для такой полуэлегантной публики, как наша, это было всегда любимым объектом наблюдений. Un bon mot! Charmant![15] Этот Пепи остроумен! Столпотворение перед витриной, где на всеобщее обозрение выставлены дамы с самыми красивыми лицами, — конечно, не в натуральном виде, а только на фотографии. Более серьезные люди, конечно, не находят особого удовольствия в подобных вещах. (Я, например, хоть миллион лиц увижу, все равно самой красивой буду считать Лауру Хелвеи27.)
Ах, charmant! Мне народный тип нравится… эти две, как-как, что за имена, друг мой, что за имена! Ага, Эржике Фрук, Мальвин Келемен, Гизелла Абафи… Да здравствует народный тип! Ох, ах! Да ведь они тоже еще девушки! Des yeux de Szegedin![16] Пикантная зулусская тема. Ах, дорогие друзья… Mon dieu! Самое великое изобретение столетия — галстук в горошек и чулки в крапинку! Я сегодня купил дюжину у Брахфельда…
А стряпчий-то Шрамко повесил в своей конторе большую картину маслом, изображающую голую женщину (к негодованию консервативной Добродетели, потому что консервативная добродетель любит кутаться на людях в мантию целомудрия).
Можно взглянуть — хотя и не у дяди Шрамко — на новую картину Зичи. Правительство совершило действительно достойный поступок, поставив себе целью создать такую картину. Мы достаточно независимы, чтобы припомнить такое своей партии. Эта печальная, но все же вдохновляющая история наверняка никогда не утратит своего интереса до тех пор, пока венгр остается венгром… однако мы считаем, что со стороны Зичи было большой ошибкой идти на поводу у своих художественных представлений в ущерб правде, поскольку сила картины должна была заключаться не так в художественной концепции, как в действительности, уже самой по себе достаточно замечательной.
Вопреки этому убеждению, мы не относимся к числу тех, кто одобряет сужение сферы деятельности художника, ведь если бы Зичи пришлось изображать неприкрашенную действительность целиком, то вместо двух ангелов к парадному групповому портрету следовало пририсовать двух кротких (!) стражников.
Но позвольте, руководствуясь интересами всей литературы, выразить сожаление о том, что брошюры молодых авторов представляют собой не более чем «погружение в болото», волею их голоса и беспощадности. (Гримм и Хоровиц.)
Если бы нация была единым сердцем и ухом. Я стал бы тем голосом, который закрадывается в это сердце и ухо и пускает в них корни. Не будем увиливать: венгров инстинктивно влечет к Кальману Тисе28, даже если они считают, что он отказался от своих принципов, нарушил данное обещание, а его договор с Австрией чувствительно ударил по материальному благополучию страны. Они его ругают, может быть, даже ненавидят, и все равно — за него держатся.
Держатся. А нация будет скорее пребывать в равнодушном затворничестве; побоится влиться в поток политической жизни; будет молчать, только дома, в кругу близких, или в казино осыпая упреками председателя правительства и его партию. Будет читать газеты, то и дело кивать, когда в «Нагою», «Кэзвелемень» или в «Келет Непе» будут в клочья рвать репутацию Кальмана Тисы или когда Шаму Рот напишет статью «О перераспределении морей»; и все-таки не выступит с той открытостью, с которой народ обычно выносит свой осудительный приговор. В этом проявляется трезвое политическое чутье венгерской нации, в котором ей не откажешь.
Мы основываем политику на чувствах: верим слепо и слепо подозреваем тех, кому верим. Потому что душа у нас как горное озеро29. Доверие наше — бездонные глубины, легко возникающие подозрения — бушующий на озере шторм, который уляжется, зеркало воды разгладится, и глубина вновь станет неизмерима.
На сегодня волны обвинений улеглись, горное озеро вновь чисто. Ибо такова судьба всякой основанной на чувствах политики. Зачастую достаточно одной фразы, чтобы вызвать вихрь, бурю. Правда, спустя некоторое время подозрения рассеиваются, возвращается прежнее доверие, и тот, кто верил в подозрения, даже не краснеет, оправдываясь тем, что он только передавал, что слышал от других, сам не веря тому, что говорит.
Никто не выбрасывает Тису из своего сердца, точно так же, как он не выбрасывает народ из своего. Поэтому политика Кальмана Тисы является политикой венгерского народа, и если найдутся те, кто не может идти с ним одной дорогой, они не смогут присоединиться ни к одной из оппозиционных групп, поскольку оппозицию в политике венгерского народа создает лишь политика венгерского народа.
Мы не сторонники многословия и пустых, громких фраз, мы и свободу любим, только когда она течет по солидному руслу, а не роняет брызги во все стороны, как бурлящий поток, волны которого хотя вздымаются смело и высоко, но в любой момент готовы сломать плотину. У каждого народа, хоть и нельзя зазнаваться, должны быть чувство самосознания, достоинство и определенная сдержанность: потому что из этих составляющих складывается сила. Правда, такая народная сила зачастую, как бы это сказать, является оптическим обманом, видимостью: но даже видимостью в определенных условиях нельзя пренебрегать, поскольку это тень действительности. А там, где многие видят тень, в соответствии с их верой — должно быть и тело.
Папа-кальвинист, великий мастер по части ужасающей логики, сфинкс, великий могол, Тартюф, пронырливый студент, венгерский Мефистофель, комедиант, у которого «вместо совести мокрое место», выходя из Зала заседаний, в дверях вынимает сигаретку и спешит к первому дымящему сигарой человеку, чтобы прикурить, по дороге решая дела страны; он замечает Чавольски. С чего господин редактор взял, что Будапешт укрепляют, я бы сказал, что это совершенно необоснованно.
Искря сигареткой, он ковыляет по коридору, ища глазами Чернатони, И, по пути к нему,[17] успевает поговорить с шестью-семью людьми, которые после беседы с премьер-министром, казалось, сразу принимались за дело. Как будто куда бы он ни пошел, то повсюду каждым своим словом отталкивал запутанные дела и узлы в сторону. На все у него есть время, все он замечает. Какой-то проголодавшийся мамелюк осторожно пробирается в сторону гардероба. Ты что, уже хочешь уходить, Пали? — говорит Тиса с простой, сухой любезностью (предположим, что мамелюка звали Пали). Мамелюк повинуется этой любезности и с такой решимостью садится в какое-нибудь кресло в коридоре, что, если понадобится, до Пасхи не сделает оттуда ни шагу. Он пожимает руки Хелфи, успевает в не занятые заботой минуты подтрунить над Имре Салаи, поинтересоваться у кавалеров об успехе вчерашней оперы с балом, а у Варманна — о сегодняшнем положении дел на бирже.
Больдижар Хорват («Барышня Боди», как его когда-то назвал циничный Лоньаи), в нашем представлении — человек скорее печальный и торжественный, чья душа постоянно витает в высших сферах, он, однако, обнаруживает ко всеобщему удивлению талант обаятельного собеседника, и нет такого старого проказника французского маркиза, который бы умел развлечь своих гостей-мужчин более изощренным и пикантным образом, чем он, Больдижар Хорват, чей жизненный путь представляет собой, в общей, прекрасное гармоничное целое, — несколько раз повторяет, пустив при этом слезу из своих тогда еще чистых голубых глаз; главное — воздух либерализма. Главное — воздух либерализма. Главное — воздух либерализма. То, чем человек дышит. Остальное вторично. Тиса в конце концов ищет Чернатони до тех пор, пока не находит, и тем лучше, поскольку Чернатони тоже его искал. Две облаченные в цилиндры головы, доверительно сблизившись, исчезают…
Будет выступать Ираньи (он планирует создать благородное собрание и зачитает свой достойный проект), будет выступать Угрон (он делает резкие выпады, из гигиенических соображений, чтобы немного вспотеть), будет выступать Силадьи (он анализирует, выявляет, мотивирует, суммирует, рвет, мечет), будет выступать Аппони (серьезно, с достоинством, предпринимая энергичные шаги, он плавно движется по своему «английскому пути», на этом пути встречаются и розы, но в умеренном количестве, и шипы, но лишь для декорации), Тиса выступает, оставляет от вражеского козлика рожки да ножки, но жаркое из козлятины, чтобы подать на второе, не делает. Просто оставляет рожки да ножки. (Ивор Каас утверждает, что это ложь. Мы утверждаем то же, что и Ивор Каас. И все значительные и малозначительные лица в Парламенте знают, что это ложь… но все-таки за нее проголосовали. И никто даже не покраснел… никто. Что мы можем поделать? Отложим перо в сторону.)
Уважаемый Парламент! (Послушаем! Послушаем!) Прежде чем, после утомительных обсуждений и перекрестной критики, перейти к находящемуся на повестке дня вопросу, считаю необходимым сделать в присутствии всех два следующих заявления.
Во-первых, я не могу согласиться с выдвинутым здесь многими сторонами обвинением против тех, кто отстаивает свои проекты в Парламенте, заключающемся в том, что произносимое в защиту проектов произносить не стоит, поскольку это служит не венгерским, а австрийским интересам. А не могу я с ним согласиться потому, что, с одной стороны, исходя из заключенного договора, признаю существование интересовобеих сторон, но не могу я с ним согласиться также и потому, что абсурдно со всей основательностью требовать, чтобы при внесении предложений — уже после того, как они представлены Парламенту, — в их защиту нельзя было говорить то, что можно и нужно сказать, у нации есть полное право самой быть посвященной во все тонкости вопроса. И у правительства тоже должно быть право это сделать, поскольку в случае отклонения этих проектов страна, не дай Бог, попадет в неприятную ситуацию, именно правительство будут обвинять в том, что оно всему виной, поскольку не соизволило вовремя проинформировать Парламент и народ о последствиях. (Одобрение в центре.)
И именно в силу такого моего убеждения не могу согласиться и с тем, чтобы если мы укажем на возможные последствия отклонения проектов, это называли угрозой и запугиванием, поскольку если не угрозой и запугиванием, а справедливым обоснованием своего мнения является то, что вы хоть и заблуждаясь, но, думаю, по убеждению, каждый день заявляете, будто Венгрия при таких проектах будет уничтожена материально, духовно и политически (движение слева), но со стороны людей с иными взглядами, не способных разделить ваши, это не является ни угрозой, ни давлением, а только орудием справедливого обоснования, они, напротив, хотят указать на опасности, которые, по нашему мнению, неизбежно возникнут в случае отклонения проекта. (Движение слева.)
Следуя дальше, ув. Парламент, я отказываюсь от чрезвычайно приятной и чрезвычайно забавной обязанности («Послушаем!»), повторяю, я отказываюсь от удовольствия сопоставить один из пунктов программы одного меньшинства с другим («Послушаем!» — слева). Хотя, не извольте сомневаться, это было бы делом немудреным, благодарным и забавным («Послушаем!» — слева), поскольку вряд ли в скором времени случится встретить такое количество противоречий в проектах, поданных в один и тот же день («Послушаем!» — слева). Если позволите, я сделаю это в другой раз; сейчас хотелось бы поговорить о другом.
Что касается критики моей личности, на нее отвечать не стану. (Горячее одобрение в центре.) Отмечу все-таки для тех, кто в ходе критики моей личности неоднократно упоминал, насколько лучше был абсолютизм и так наз. режим Баха,[18] что я надеюсь, мало того, убежден, что это время — вполне возможно, что и они вспоминают его со вздохом только потому, что сами так считают, — в нашей стране никогда не повторится; но если бы оно повторилось, мы бы стали свидетелями крайне странной перемены мнений! (Оживление и одобрительные возгласы в центре.) В 1850-м и в последующие годы большинство тех, кому сегодня уже недостаточно никакой свободы, — за некоторым исключением — находились либо за границей в полной безопасности, либо на родине, но так тихо, что и слышно их не было (одобрительные возгласы в центре, движение слева), в то время как мы, остальные, выражающие сегодня сдержанное удовлетворение соответствующей сегодняшнему моменту свободой, мы-то в те времена, когда это было сопряжено с опасностью, вели не такую тихую и незаметную жизнь («Да! Правильно. «- в центре), и, поверьте, если бы вернулись те времена, которые бы лучше не приходили и не придут, с вами, да и с нами произошло бы то же самое. (Движение слева, одобрение в центре.)
За то, что мы ведем строительство в мирных условиях, заплачена своя цена. Мы легко, чуть ли не по проложенным рельсам двигались вперед. На этой почве расцвела теория о том, что у нас все идет как по маслу. Эти успехи мы сами неоднократно подчеркивали, хвалились ими и, таким образом, также приложили руку к тому, что сложилось впечатление, будто у нас пир горой, что у нас теперь все идет как по маслу и с этих пор мы живем как у Христа за пазухой. (Аплодисменты.) Почему подобные настроения опасны? Подобные настроения опасны потому, что затуманивают народу взор, мешают ему распознавать своих врагов, усыпляют самодовольными рассказами о слабости врагов и понижают готовность народа к борьбе! Я глубоко осуждаю всякое проявление самодовольства, ротозейства и щеголяния мнимыми успехами! (Несмолкающие аплодисменты.)
Я — сторонник демократии, поступательного демократического развития, и с этого пути меня не собьет даже то, что я вчера услышал от одного господина депутата, к чему еще вернусь и что считаю не проявлением демократии, а наветом на демократию. (Бурное одобрение.) Не буду углубляться в теоретические споры по поводу различных концепций, порекомендую лишь господину депутату обратить внимание на одну-единственную цитату, цитату, взятую мной из письма одного всемирно известного писателя-политика Токвилла: «Друг мой, — пишет одному своему другу Токвилл, — не будем спорить о том, опасной или желанной может быть демократия для свободы. Это больше не теоретическая концепция, по этому поводу нечего спорить, это факт; задача теперь заключается не в том, чтобы проверить: действительно ли в интересах свободы и государственности лучше, чтобы наступила демократия, задача в том, чтобы так управлять демократией, чтобы она приносила пользу свободе и государственности». (Продолжительные, горячие возгласы одобрения.)
Итак, что касается нашего дела: по-моему, не стоит рисковать положительными финансовыми потерями ради ожидаемой прибыли. Но о том, что между этими двумя вещами есть логическая связь, свидетельствует выступление господ депутатов, которые, зная о преимуществах, зная обстановку и следуя логике, пришли к тому, что вместо 30-процентной квоты спровоцировали 40 — 42-процентную.
А что из этого следует?
Из этого следует то, что в отношении нас компенсация неполная, но частично, в связи с тем, о чем я сейчас упомянул, она все-таки есть, с одной стороны, а с другой стороны, с совершенной определенностью можно утверждать, что оказывается абсолютно безосновательной вновь устроенная представителями противоположной стороны шумиха по поводу того, что Венгрия платит 30 %, а пользуется 50-процентным правом голоса, поскольку Венгрия платит чистыми деньгами 30 %, а остальное оплачивается за счет льгот единой таможенной зоны.
Сразу же добавлю, что гораздо важнее этих правил мы считаем возникновение и утверждение атмосферы сознательности и дисциплины, которая бы сама по себе клеймила нерях, лентяев и лодырей, в которой нарушение дисциплины, неоправданные прогулы и бракодельство являлись бы стыдом и позором.
Господин депутат Нандор Хорански также изволил заметить, что премьер-министр потопил нацию в унижении. В самом деле, наш отчет был бы неполным, если умолчать о трудностях. По дороге к победе встречаются не только успехи, но и трудности. Вследствие прошлогодней засухи у нас был плохой урожай кормовых, что повлияло на снабжение продовольствием в общем. Классовый враг30, кулак и спекулянт, сразу же пошел в наступление в этом направлении (например, это проявилось в том случае, когда часть хлеба приобрела более коричневый цвет, не утратив при этом своего качества…), и, поскольку мы вовремя не проявили достаточной бдительности, это преумножило наши трудности, которые, как известно, носят переходный характер и которые мы в скором времени окончательно преодолеем. Так же как успех не вскружил нам голову, не испугают нас и трудности.
Расскажу конкретный случай, произошедший со мной. Несколько дней назад в городе Дорог один человек мне сказал, что если бы они получали в два раза больше жира и сала, то удвоили бы урожай, то есть он стал бы в два раза больше. Я сразу же подумал о том, что этого товарища (оживление) надо бы поймать на слове (оживление).
Товарищи уже по опыту знают, что если мы сосредоточиваем свои силы на какой-либо задаче, то эту задачу выполняем. Это касается возникшей вследствие прошлогодней засухи нехватки мяса и жира. Товарищи могут поспособствовать осуществлению решения этого вопроса тем, что дисциплинированно выждут тот недолгий срок, спустя который мы решим и этот вопрос.
Это трудности переходного характера. Такие, как при переезде из старой, плохой, квартиры в новую, хорошую. Несмотря на то что новая квартира безусловно лучше, пока ее хозяин к ней привыкнет и расставит мебель, привыкнет, что новый порог не такой, как старый, — он пару раз споткнется (оживление), да и посуда легче будет биться. Это все понимают. Выявляйте колеблющихся, болтайте поменьше, работайте побольше, и ваши усилия непременно увенчаются успехом. (Продолжительные, бурные аплодисменты.)
Несколько дней назад в области Зала девушка-трактористка рассказала, чем ее хотели напугать, чтобы она не садилась за трактор. Упадешь с него и разобьешься, сказала ей мать. Надорвешься на тяжелой работе, предсказывали ей. А она на это отвечала: прежде, когда я была вязальщицей снопов или копала, по вечерам у меня ломило спину, а теперь, когда после работы я слезаю со своего трактора, то почти не чувствую усталости. При социализме, повторяю, машина наконец-то не эксплуатирует работника, а помогает, служит ему.
Могу добавить, что это так во всем мире, где строят социализм. Я прочел историю Борткевича, молодого рабочего, токаря-скоростника и лауреата Сталинской премии. Когда на их завод прибыл новый токарный станок, молодые рабочие с горящими глазами обступили его и так смотрели на него, как смотрит музыкант на новый инструмент, из которого он будет извлекать новые звуки и новые мелодии… Когда Борткевич стал добиваться первых успехов в скоростной резьбе, ему на помощь сразу же пришли лучшие инженеры завода. Они помогали ему определить, под каким углом установить резец, давали советы по шлифовке, заказывали для него специальную литературу, подключили к консультациям преподавателей Ленинградского Технологического института. Они и сами у него учились.
Здесь многими товарищами поднимался вопрос, стоит ли поднимать обязательный средний показатель не с восьмидесяти до ста двадцати, а с восьмидесяти до ста пятидесяти. Какие бы благие намерения ни стоялиза этими предложениями, товарищам все-таки не стоит упускать из виду, что есть не только сильные, но и слабые. Поэтому я бы порекомендовал на первых порах держаться ста двадцати, точнее, перейти к ста двадцати. Естественно, там, где дисциплина и дух солидарности позволяют, не исключено, что средний показатель может быть даже 180, но обязательным пусть остается только сто двадцать. Я считаю, что так полезней для здоровья.
Развитие промышленности свидетельствует о том, что наш ускоренный план реален и, вопреки всяческим сомнениям и критике врагов, выполним. Но нельзя забывать об отставании в семь десятых процента и о том, что в декабре семь праздничных дней и двадцать четыре рабочих.
Товарищи со мной согласны.
Правильное проведение этих мероприятий будет в дальнейшем укреплять, теснее сплачивать союз рабочих и крестьян в рамках народной демократии, будет в дальнейшем укреплять мирный фронт, чьими верными солдатами мы являемся и которому каждый наш успех придает новые силы. (Аплодисменты.)
Ну а что — (шум слева) уже немного осталось («Послушаем! Послушаем!») — касается политических последствий, об этом хочу сказать вкратце. Однако же вызвало большое изумление, что после того, как мой ув. коллега депутат Йокаи указал на то, что в случае неразрешения этих вопросов, то есть возникновения неопределенной ситуации, будет оказано заметное воздействие на взаимоотношения народов монархии, — повторяю, я был крайне удивлен, когда вы в ответ сказали, что это сплошная поэзия.
Дежэ Силадьи: Я так говорил не по этому поводу, я так говорил по другому поводу! (Возражения в центре.)
Позвольте, я запомнил, он говорил так по этому поводу. Впрочем, я, возможно, плохо помню, тогда не поэзия, а только то, что вам это кажется невозможным и что вам кажется, будто он не прав.
Впрочем, попутно напомню, что на основе самой активности или пассивности маятника торговли выводы относительно обнищания или процветания страны делать нельзя (одобрительные возгласы в центре), ведь здесь играет свою роль огромное множество факторов, и возможно процветание страны при пассивности торговли и обнищание страны при видимой активности торговли.
Господин депутат, граф Альберт Аппони, — в своей, искренне признаюсь, превосходной и необыкновенно сильной речи сказал — и в этом я с ним полностью согласен, — что чрезвычайно трудно подводить черту под теорией. Но если вы направление свободной торговли (Янош Пацолаи перебивает: «Не этого!»), позвольте, это заявляет часть из вас, я допускаю, что господин депутат Янош Пацолаи желает чего-то еще. (Оживление.)
Не только Нандор Хорански, но и, если я правильно помню, и господин Дежэ Силадьи выступали, хотя и в другом направлении, по поводу факторов законодательства.
Дежэ Силадьи: По поводу всех его факторов!
Значит, на тему всех его факторов. Как раз слово «все» мне очень нужно. (Оживление.) В законодательстве то тут, то там присутствует три фактора. Как говорит нам математика, дважды три шесть; но у нас исторически дважды три пять; если это на сегодняшний день допустили три фактора венгерского законодательства, то допустит и один из факторов другого законодательства. Я не буду дальше развивать свою мысль, но из этого видно, что в этом направлении мы обладаем политическими преимуществами. (Горячее одобрение и поддержка центра.)
Ув. Парламент! Вопрос был подобающим образом рассмотрен, каждый, как я полагаю, мог составить о нем собственное мнение.
Ну а если возникнут отрицаемые некоторыми, признаваемые мной проблемы, а чтобы они не возникали, когда страна вступила на этот путь, никто сильнее нас не желает, но если они все-таки возникнут, страдать из-за них мы будем вместе; подумайте о том, какая судьба постигала всякую братскую междоусобицу на родной земле, подумайте о том, что вредящий нам на родной земле вредит самой свободе и кующий цепи для нас самого себя одевает в кандалы. (Последние слова Кальмана Тисы встречают раскатистым громом аплодисментов. Все участники собрания встают. Отовсюду в зале слышатся выкрики «Да здравствует!» Молодой рабочий восклицает: «Ура Кальману Тисе!» Все участники собрания три раза со сжатыми кулаками вместе с ним воодушевленно кричат «ура!».)
Тиса сидит в коридоре в пробивающихся лучах солнечного света. Откинувшись на стуле, он иногда моргает, как огромная гремучая змея, занятая пищеварением. Немного повернувшись в сторону, он как бы постоянно готов к прыжку, а когда внезапно встает или садится, то похож на раскрывающийся или закрывающийся карманный нож. Он снимает свежее пенсне[19] и — по-интеллигентски — потирает переносицу. Садится. (Садитесь, lieber[20] Тиса, с вашими-то больными ногами, как-то сказал ему император и король.) Как кабан из лесной чащи, из нежно распахнутой двери наружу вылетает знаменитый Силадьи. Аппони останавливается как вкопанный. Два блестящих лидера оппозиции горячо приветствуют друг друга.
Дежэ. Гм!
Альберт. Угм?
Два странных всхлипа: в течение той минутной паузы, пока ловится воздух и следующий звук, закрадываются сомнения, а также недоверие. Но никаких видимых проблем, ладони хлопают по плечам.
После важного необходимого выступления кальманатисы мое выступление к сожалению полностью ошибочно половинчато расплывчато лженаучно и развенчано его гениальный все решающий эпохальный и мудрый взгляд который как громадный прожектор освещает путь побуждает тысячи из нас к бесспорно новому и энергичному труду настойчивые требования его руководящих указаний единственный способ выйти из полного застоя (fortwursteln,[21] как говорит Тааффе).
Когда оба мужчины наклоняются, кудрявые шаловливые завитки их бород — у Аппони шелковистые, а у Силадьи как проволока — интимно перепутываются, чтобы при удалении лиц друг от друга чувствительно и пребольно дернуть кожу. Ой, говорят они. Праф тихо улыбается. По коридору пробегает товарищ Брандхубер. Кружит черный ветер. Аппони собирается раскрыть братские объятия; у него дружелюбная натура, как вообще у оппозиционеров. Сейчас, по-русски бросает Брандхубер. (С кем же, в самом деле, граф путает товарища Брандхубера? Может быть, с Имре Ходоши или… Шандором Каройи?) Его рука в воздухе, на полпути, он переходит на шепот: есть личности, которые настолько сочувствуют трудностям правительства, что ни одной минуты не могут быть строги к борющимся с ними людям, а, напротив, всегда испытывают к ним какое-то тайное влечение; есть, однако, и такие, которые могут быть лишь в оппозиции; оба этих типа означают некую неполноценность. Аппони идет к лифту в поисках часовни. Тетя Шари31 смотрит на Томчани. Или это проверка? Молодой специалист не понимает вопроса, по неопытности он опрометчиво говорит то, что говорит, и женщине, и переминающемуся с ноги на ногу графу: лифт не работает.
Дежэ Силадьи бойко перепрыгивает половую тряпку и пихает дверь в комнату товарища Пека. Эх, ручка товарища Пека как раз расстегнула еще одну пуговицу на блузке Мэрилин Монро, а его напряженная ладошка уже пересекла линию талии на расстегнутой юбке. Друг Беверли выглядывает из листьев салата. Да, по-стариковски кивает он, видно, снова что-то понял, бедняга. Да. Француженки взяли моду использовать искусственные заменители, если у них чего-то недостает в фигуре. У Джакомо на зубах хрустит лист салата. Конечно, те, у кого эти очаровательные формы есть от природы, опережают намного выше ненатурально пухленьких и натурально плоских.
Пальчики уже по-пластунски ползут вперед и, еще не достигнув каемки трусиков, натыкаются на щекочущий аванпост: несколько жестких, иногда — колечками завивающихся, шаловливых волосков. В то время как их взгляды строго устремлены на техническую литературу, а дыхание учащается, трусики Мэрилин, путем коротких волнообразных движений кончиков пальцев, стягиваются с далеко не плоского живота. В образовавшуюся щель, поддаваясь панике пожилых мужчин, он, просовывается рука. Ложится на обнаруженный там холмик. Как могильный холм, выдумывает Джакомо. И безвкусная деловитость друга Беверли: но где же крест? Ладонь ощущает немного несвежую, однако горячую влажность. Неужели Грегори Пек так долго вращал Мэрилин Монро, что покровы спали: и вот она, задница, этот необузданный жар, в буквальном смысле слова? И может быть, Мэрилин Монро сделает — единственным способом, в силу разницы в пропорциях, — то, что всего лишь нескольким мужчинам…
В этот момент врывается Силадьи. Силадьи in floribus.[22] Мэрилин лениво вздрагивает, у Грегори Пека слова застряли в горле; он бы вытащил руку, но она зацепилась за натянувшуюся, как крючок, резинку трусов. Он дергает. Сунул Грека руку в реку, говорит один из экономических консультантов. Рак за руку Греку цап, продолжает другой. Вот ослы, топает ногой Силадьи и исчезает.
А дверь, приятель? — гремит Джакомо вслед Дежэ Силадьи (1840–1901), политику, криминалисту, превосходному оратору. Золотистый хомячок, качая головой, выражает свое неудовольствие. Эх, если бы я хоть раз мог разгадать ФОКУС. Он наверняка уже в самом начале знал, к чему это приведет, черт возьми. Но повернем это так: то, что я разгадаю, пусть и будет фокусом…
Время идет, лишь на губах Векерле играет приклеенная улыбка32.
Глава VII, в которой, да, да33, случится беда
Входит шикарная Мэрилин Монро. Ее диплом экономиста сейчас не колет глаза; губы у нее разрумянились: помада и полнокровие. Томчани, забаррикадировавшись специальной литературой, оба локтя на столе, печально напевает. Неужели даже он не подозревает, что пути этой девушки ведут в другую сторону? Наверх. Парень апатично начинает рисовать диаграмму блока. На улице, над Западным вокз., дрожит послеполуденный воздух. Народ, ведущий строительство своей освобожденной родины, умеет и любит петь. В голосе Имре звучит металл. Он начал с описания природы:
Края мои раздольные, Широкие поля.А теперь, на сверкающем фоне, вырисовывается прекрасная картина:
Богатая и вольная Красавица земля!Отдел притих. Пребывая в ожидании, все сопереживают искренней боли молодого человека. Всем немного скучно. (В самом ли деле нельзя избежать того, чтобы минуты депрессии у него так стремительно сменялись приступами рабочей лихорадки, и все это в атмосфере истерии по поводу угрожающей обрушиться на них нехватки материалов?) Но все это лишь задний план картины, на котором гордый народ-труженик приступает к работе:
Пусть будет счастлив тот, Кто на заре встает, Кто людям всей земли Тепло и свет дает.Мэрилин Монро стоит затаив дыхание. Вот так так! Томчани, эта живущая исключительно работой личность, жизнь которой, так сказать, вращалась между двух пустых инструкций и одним бесконечным циклом, неужели этот Томчани раскрыл теперь глаза? И увидел ее, Мэрилин? Ну а в песне появляются те, кто построил новую жизнь:
По тропинке за околицей Долго виден каждый след, Дай мне доброй силы, Родина, Без тебя и песни нет.Парень все поет, поет для себя, один, можно сказать, обреченно.
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, И Бунюэль великий нам путь озарил, На правое дело он поднял народы, На труд и на подвиги нас Безереди вдохновил!Песня, начавшись на низкой ноте, перешла в наполненный внутренним напряжением, высокий звук, от спокойных, выверенных движений — к стремительному полету. Аккорды звучат все более наполненно, чтобы в конце куплета завершиться богатым переливом. Эту песню, в самом деле, надо исполнять так, как написано на нотах: «Величаво».
Мэрилин дунула-плюнула, да и протягивает Имре добрый кусок плетенки с яблоками. Мама пекла. Крепкие, молодые, белые зубы парня насмешливо блестят. Сумма i идет от единицы до n, тихо говорит он, терзая плетенку. (Какой-нибудь обладатель острого ума мог бы вставить: всякую задачу-максимум можно свести к задаче-минимум! Это правда. Новедь у любви и ненависти общий корень, как и у Стэна и Пэна. I идет от единицы… Бр-р-р! Женские спины покрываются гусиной кожей.) Скатертью дорога, говорит парень, чтобы не водить никого за нос. Девушка думает, что парень шутит, и, всколыхнув движением бедра край юбки, кокетливо отвечает. Ну, тогда, малыш, завяжем узелки на память. И показывает, что подразумевает под этим. Имре делает вид, будто ему кажется, что Мэрилин шутит.
В тот момент, когда он это делает, входит Янка Дороги. Хвостики обиженно болтаются туда-сюда. Глаза устремлены на Имре. Мэрилин вскакивает. Ах, милочка! Вот маленький заморыш, думает она. Но в душе у Имре внезапно наступает ясность. Он уже не тот нерешительный, унылый и вялый тип, каким казался вначале. Что могло это вызвать? Какая-то сложная вещь. Его голос льется.
Бригада нас встретит работой, И ты улыбнешься друзьям, С которыми труд и забота, И встречный, и жизнь — пополам.Головы медленно поднимаются. Хороший план, хороший план, бурчит дядя Тиби. Тот, а есть ли разрешение Янка Дороги молча трясет головой. Но Томчани уже нельзя остановить! Настоящий чертенок! Пусть медленно бредут те, кто по ягоды собрался! Мы же строим социализм. Он уже стоит у доски с мелом в руке. Время от времени — чтобы снять напряжение, вызванное радостью, надеждой и следующей за ними завистью, — он подносит ко рту мел и глубоко, как кубинскую сигару, вдыхает. Голос его торжествен.
Наша страна, наше народное хозяйство день ото дня краше, день ото дня богаче. Обширней. Там, где были раньше болото, солончак или пески, сегодня желтеет пшеница, зеленеет кукуруза, тянется вверх подсолнух и белеет хлопок. Змейкой вьется лента бетонной дороги. Там, где народ раньше был печальный, нищий, больной и голодный, сегодня предрассветную тишину прорезают звуки смеха и веселья, лица круглые и румяные, а люди радостные.
Ну, а поконкретней, говорит Андраш Бекеши, секретарь комсомольской организации, с нетерпением, поконкретней, Имрушка. Имре решительно кивает, и вот уже по доске танцуют стрелки, знаки «равно», катятся плюсы и минусы, игреки и беты. Лайош Адам с сомнением шепчет Тибору Тоту: для этого нужно прокомпостировать двадцать тысяч карточек. Если и это не поставит их на уши, тогда я не знаю, что еще… Бунюэль всегда живой, еще добавляет он с (временным) цинизмом (поскольку, в небольших количествах, и такое встречается). Это мы еще посмотрим, говорит старик, кивая.
Томчани вкратце обрисовывает будущее. И если это будущее, тогда будущее прекрасно! Машины с памятью, конвертеры, периферийные машины, которые стоят, накрытые чехлами, в стерильных цехах. Освещение ослепительное — как будто оказываешься в бальной зале. Мэрилин Монро растроганно оглядывает мужчин. Один период ее жизни подошел к концу. Бекеши это не так понимает и говорит ей, как прекрасна и разнообразна жизнь! Но все умные слова секретаря комсомольской организации напрасны: наполненные слезами глаза остаются наполненными слезами глазами… Но будьте осторожны! Мечтания опасная вещь. Одна из машин телекса СЛK4 соскочила с рельсов в штреке. Уноси свои ноги-ноги-ноги от эсэлка четыре! — как поется в кровавой песне. Мэрилин выскакивает из-под нее. Беда кажется неизбежной. Но внезапно появляется Янчика Тобиаш, его белый халат колышется, поднапрягшись, наваливается на корпус пишущей машины-телекса, неимоверным усилием останавливает ее. (Томчани может радоваться: ему повезло больше всех: досталась только плетенка!)
Тобиаш смотрит на девушку так, как смотрел бы Ромео на юную Джульетту на празднике Капулетти. Янка Дороги тоже бросает взгляд на Томчани, который в это время увлеченно размахивает руками в пыльном от мела воздухе. Янчика замечает, что машина все-таки поранила девушке большой пальчик. Ерунда — царапина, — но, не дай Бог, перевязывать из местной аптечки! Тут в паре метров от институтского входа живет мама Янчики, пусть Мэрилин сходит с ним, и мама наложит такую повязку… И он уже было потащил мило сопротивляющуюся Мэрилин прочь от компании, чтобы отвести в их крохотный дом: одна комната со всеми удобствами (+ еще 4 комнаты), на смотрины к матери. Янчика Тобиаш чрезвычайно взволнован, он что-то нашептывает у мочки уха девушки, которая смотрит на мир большими коровьими глазами. Томчани уже рисует двойные интегралы (!). Увидишь, Мэрилин, рядом с моей милой мамой, в атмосфере любви, которой тебя окружит семья, в атмосфере профессионального уважения и почета о которых свидетельствуют развешенные на стенах грамоты, изобилие наград за победы в социалистических соревнованиях, а также свидетельство о мученической смерти моего отца, вот увидишь ты будешь счастлива. Эта жизнь: прекрасна. Мэрилин Монро счастлива. Ну, ты! Ты… шипит на него Бекеши, который недолюбливает Тобиаша, а может ему обидно за Мэрилин. Но ведь — за исключением, в каком-то смысле, Томчани — кому не обидно за Мэрилин Монро?
Томчани закругляется. Обычно решение арифметической задачи — простая вещь. Написать сочинение о походе — серьезное, но также нетрудное задание. Но если ты проиграл все это время в футбол, проваландал, то — вот чудеса — даже самый простой арифметический пример невозможно решить, самую легкую «сочинешу» написать. Не выходит само по себе. Само по себе ничего не выходит. Семи смертям не бывать, одной не миновать. Надо счастья попытать. По комнате пробегает гул одобрения, со скоростью казаков в березовой роще. Без письменного разрешения? Лицо у Томчани серьезное. Вперед! Янчика Тобиаш, держа рукой Мэрилин, выводит:
Ясная светит заря, Красит леса и поля… И над планетой Земля Льется песня моя.Ну, ты! Ты… коммунист во втором поколении! — снова шипит на него пуританец — секретарь комсомольской организации. Имре кивает. Все в порядке. Это разговор начистоту. Ну, тогда к делу! Два друга, Имре и Андраш, отходят подальше, под сень специально литературы. Дверь комнаты нараспашку. Разнеслась весть о великом эксперименте. Здесь и беременная жена Бекеши из Берела. У нее вроде бы начались боли, она наспех накинула платок и отправилась туда, где находится теперь ее муж. Вот она и там, где находится теперь ее муж.
Томчани резко останавливается перед шкафом, который похож на все другие. Бурите здесь, дает он знак. Проходит время, а они все еще проходят пустую породу. Не будем их пока называть по именам. Но ведь должно быть здесь! Они отчаянно работают…
И вдруг конец бурава — шарящая рука, без всякой надежды вытянутая вперед — взбзыкивает, и Томчани так кричит «стой», что бурав замирает. Он залезает в шкаф! Предчувствия не обманули! Он держит его в руках! Изящные буквы на великолепной папиросной бумаге: ИССЛЕДОВАНИЕ. Томчани хватает первый лист и выбегает на передний план. Столпившиеся там рассматривают его, вертят в руках. Надо сказать честно: они и верят и не верят. ИССЛЕДОВАНИЕ. Мэрилин, смущаясь, запевает песню, но потом находятся желающие присоединиться, еще бы!
Наши песни и дубравы наши На земле великой будут жить, Нету счастья выше, Нету чести выше, Чем любимой Родине служить.Имре бежит обратно, Бекеши оборачивается, замечает свою жену. Молодая женщина замечает своего мужа. Томчани в это время отпихивает какое-то попавшееся под ноги исследование, он уже заложил в отверстие взрывчатку и даже поджег шнур.
Сейчас потоком хлынут удивительные сведения!
А пока — а пока нельзя приближаться к месту взрыва. Осторожно, взрываем!!! Но как раз в этот момент на верхней полке вздрагивает кипа бумаг!
Осторожно! — вопит Томчани, заметивший опасность.
Но уже поздно.
Прорывается мощный поток бумаги. Имре и беременную женщину течением выносит наружу, остальных — например, секретаря комсомольской организации, дядю Тиби и пр. — внутрь. Несущийся бумажный поток за доли секунды разделяет мужа и жену и т. д. Бумага с ревом хлещет, прибывает, образует воронки.
Снаружи Томчани снова и снова бросается навстречу течению. Его хотят остановить. Это не удается. Высоко держа фонарь техника вычислительных машин, он стоит сначала по пояс, затем по шею в бумаге. Ему еще видны люди внутри! Может быть, как раз Мэрилин Монро или Бекеши. Но потом бумага поднимается еще выше и достигает потолка. Рука Томчани, держащая фонарик, опускается.
Свершилось…34
Глава VIII35, в которой мы ведем себя так, как если бы заманивали кого-то под тем предлогом, чтобы кое-что прошептать этому человеку на ушко, но, приблизившись к его уху, только дуем в него; при этом мы несправедливо полагаем, что венгерская публика с потрохами проглотит все скабрезное, пошлое, грубое
Стихия бушует; бумажное море все растет и растет. Мелькают, как гребешки волн, легкие копии выписок, надписей, записок, ходатайств, исследования, разрешения, проекты, проекты. Сначала они встанут на стулья, потом на стол, потом будут вытягивать шеи (позвонки удаляются друг от друга — как звезды во вселенной). Спасения нет. Говорить сейчас никто не говорит. Вдруг кто-то высказывает другим свою невысказанную мысль. Мы погибнем.
Ответа нет. Но по лицам, множеству старых и молодых вычислительно-технических лиц, видно, что этого-то довольно многие и боятся.
Они смотрят на Бекеши.
На секретаря комсомольской организации. Но Бекеши больше уже не секретарь комсомольской организации — он оглушенный горем, утративший свою вторую половину мужчина. Он медленно опускает голову. Не знает, что сказать, не знает, что сделать. Прочь отсюда. В одиночестве провести последние минуты жизни…
В Мэрилин Монро кипит жажда жизни. А эти говорят здесь о смерти. Нет, этого не может быть36. Там, снаружи, ждет жизнь. Вы не можете умереть, вам надо жить! Она догоняет секретаря. Видит его сгорбленную спину, его печаль. Секретарь грустит? Вот так так, Мэрилин об этом даже не подумала… Что секретарь тоже человек… Муж — друг — живая душа.
Она догоняет мужчину. (Бр-р-р: Мэрилин Монро догоняет мужчину.) И теперь, уже не сдерживая страха, тоски, тревоги, уткнувшись Бекеши в плечо, начинает плакать. Бекеши удивляется. Они достигают берега грозного бумажного потока. Когда девушка собственными глазами видит бумагу, она вскрикивает: чтоб тебя из-за острова на стрежень, товарищ секретарь, на простор речной волны. Очень хорошо, что Монро теперь назвала его товарищем секретарем, он начинает собираться с силами. (Он черпает силы в доверии, излучаемом девушкой.)
Они садятся. Завтра, начинает он беспечно… Но девушка возражает. Где мы завтра будем? Если поведем себя благоразумно, окажемся снаружи. Только нужно вести себя благоразумно. Понимаешь ли, девочка?… Разумно…
Разумно?
Разумно. Нам нужно «политизировать» с умом. Я бы хотел тебе все это… при других обстоятельствах… Но вижу, что… В общем… С чего же начать…
И он начинает рассказ. (Его ладонь, это несметное богатство, то прогибается, то выпячивается.)
Подходит дядя Тиби. Увидев раскрытый шкаф, он издает вопль. Господи Иисусе, нам конец! Мэрилин неумело его успокаивает. Ну, с чего нам уже конец? Слушай! Она идет за нами! Знаешь, что это идет за нами? Смерть идет за нами. Нас спасут. Нас? Они даже не знают, живы мы или умерли. Мы задохнемся, как крысы.
А я так не хочу.
Бекеши. Быстро давай сюда ключ от склада динамита. Дядя Тиби. Дорогой дядя Тиби… всхлипывает Мэрилин. Бекеши машет на них. Тс-с, тс-с. Они прислушиваются. Слышно то же, что и прежде: шум бумаги, а в отдалении — музыкальная передача «Любителям бита». Бекеши улыбается. Мэрилин, ты слышишь? Мэрилин ничего не слышит. Д…да. Слышу. Тс-с. Отчетливо слышно. Тс-с. Да. Отчетливо, товарищ секретарь. Что? О чем вы говорите? Что? Джэнис Джоплин? Тс-с, снова говорит Бекеши. Насосы. И… тс-с… буравы?… Тс-с… буравы? Буравы, счастливо восклицает Мэрилин Монро. Ее белокурые волосы поблескивают. Старый специалист по вычислительным машинам (тоже) мечется между отчаянием и надеждой. Он проявляет подозрительность. Я ничего не слышу.
Девушка в отчаянии громко смеется. Конечно, дядя Тиби, вы всегда немножко довольно туги на ухо. Что? Гм… Ну и что? Я туг на ухо… Поэтому инженер вычислительных машин — инженер вычислительных машин. Я слышу, если надо. Бекеши. Положа руку на сердце. Слышишь? Слышу. Пух-ши, пух-ши, так делает насос. А бурав делает так: иу, иу, иу. Что-то вроде этого, правда, Мэрилин? Нет. Скорее так: фу-фу-фу. Дядя Тиби теперь уже смеется. Бекеши подмигивает «дивчине» одним глазом. Отлично «политизируешь», девочка.
Люди, начались спасательные работы, с шумом пробирается старик сквозь бумагу. На лицах проявляются первые, пугливые лучики надежды. Не может быть. Нет? Дядя Тиби с жаром показывает. Бурав делает таю шр-р! шр-р! Лайош Адам с ехидством оглядывается. Да ведь дядя Тиби совсем глухой! Все смотрят на Бекеши. Что скажет секретарь. Ну, а я скажу, говорит он, что у дяди Тиби из всех нас здесь самый лучший слух. Начинается шевеление.
Самый лучший?
Самый лучший. Лаойш тяжело дышит. Его отец тоже был инженером вычислительных машин. И однажды давно еще… но не будем об этом, старая история. Тогда, тогдашний хозяин — формально народ — бросил… И это сделало Лайоша Адама недоверчивым. Он подступает к Бекеши. Бьет его. Вы врете, кричит он в лицо Бекеши. Врете!! Изо всех дыр прет. Адам вцепляется Бекеши в лацкан.
Хватит сказок!
Но этим равновесие устанавливается. Мэрилин Монро рывком отрывает одного мужчину от тела другого мужчины и, рывком повернув к себе, дает Адаму звонкую пощечину.
Ты хочешь погибнуть? А мы нет! У людей вырывается освободившийся крик. Жить… Мы хотим жить! Та-аварыш-шы! Ми будим жить, говорит Бекеши.
Лицо товарища Ивановапетровасидорова спокойно, ровно. Семимильными шагами он спешит на плоскую институтскую крышу, чтобы там действовать с еще большим эффектом. Идет он по хорошо протоптанным тропинкам знакомых коридоров, а за ним шлейф свиты: партийные и хозяйственные руководители, знакомая иерархия; сотрудники — подручный персонал, технический персонал, административный персонал, а также множество специалистов, — сняв шляпы, стоят по краям пути. В ответ на приветствие колышутся пелерины, мягкие широкие шляпы, несколько борсалино.
Они видят, ощущают ответственную силу. Марш работать, выкрикивает из свиты Петер Байттрок, чья старорежимность проявляется в такие минуты. Погоняет, как буржуй, ходит о нем молва. Двойная шеренга — позволим себе небольшое преувеличение, как назло, — затягивает песню.
(Устное предание)
Мы за партией идем, Славя Родину делами, И на всем пути большом В каждом деле Берченьи с нами, И никто и никогда не забудет имя Берченьи.Действительно, там кружится орловский турман (с длинным, вытянутым, стройным телом и низкой посадкой). Более просвещенное ядро все-таки обращается вслед стремящейся исчезнуть за поворотом коридора руководящей верхушке.
Колдуй, баба, Колдуй, дед, Трое сбоку, Ваших нет!Товарищ Ивановпетровсидоров оборачивается. Шествие спотыкается. Из шеренги слышатся процеженные сквозь зубы ругательства… в рот!
Господеви поклонитеся Во святем дворе его. Спит юродивый на паперти, На него глядит звезда. И, крылом задетый ангельским, Колокол заговорил.Люди облегченно вздыхают и отступают в свои комнаты, по привычке высоко держа голову. Коридор перед процессией образует некую бухту, возникает площадка, или, скорее, внутренний двор. В темных углах пылится макулатура: несколько коробок из-под компьютеров (computer!), длиннющие деревянные палки, все в занозах, внутри них в это время сопит многочисленное семейство шиншилл. (Чуть) выше обращают на себя внимание воздушными, прекрасными пропорциями галереи. Несколько античных каменных ваз. Головокружительная лестница в одном месте треснула, и попавшая туда почва оказалась плодородной; ветвистый куст расщепляет худосочную геометрию. Общество, тяжело дыша, подходит к заржавевшему люку. Товарищ Брандхубер протискивается вперед и услужливо толкает железную пластину лбом, потом отходит в сторону и крошечным платком малинового цвета освобождает лоб от железной трухи. Подъем и близлежащую территорию украшает морозоустойчивый жасмин с ароматом клубники. Наверху в нос ударяет тяжелый, пряный воздух. Имре Томчани скромно стоит на краю плоской крыши. Он перегибается через великолепную густую изгородь из букса и видит, как 33-й трамвай подъезжает к остановке «Мост Элмункаш». Трубит рожок.
Но старания напрасны, хватает воздуха, не хватает, все равно он плохого качества. Хотя это выяснится лишь потом. Пока что они руководствуются соображениями осторожности. Ложатся на прохладный и липкий линолеум пола, чтобы, дисциплинированно вдыхая воздух, увеличить свои шансы. Прилипают к большому панорамному окну.
Жить очень тяжело. Все лежат и мечтают вслух. Слово берет Бекеши. Потом… будет так… Я скажу. Как это бывало и раньше. Мы встанем вокруг него, как положено… потом он обратится к нам… Ну, вы… потом скажет он… хорошо послужили… родине.
Мэрилин Монро взволнованно перебивает. (Куда исчезла яркость и свежесть ее маленькой красной юбочки?) А мы на это скажем, что… ерунда… товарищ Ивановпетровсидоров… это ерунда… это был наш долг… товарищ Ивановпетровсидоров. Нет-нет, так скажет потом товарищ Ивановпетровсидоров… Найдя и вытащив его из бумажной могилы… вы сделали много добра… народу. Потом он станет прощаться и… Подожди-ка. Еще до этого, что он скажет о еде… Да, да. Словом, товарищ Ивановпетровсидоров скажет, что… вы хорошо держались без пищи…
Совсем не обязательно он это скажет… Он в тюрьме… целых две недели… выдержал без еды. (Да-да, там рано или поздно оказывался всякий: просто нужно было быть коммунистом или некоммунистом. Или все-таки нет: достаточно было быть просто коммунистом.)
Но все равно он может так сказать.
Может сказать… паштет из косули, господа хорошие, паштет из косули… вот что скажет товарищ генеральный директор, произносит Бекеши. Вот видишь, говорит Мэрилин. И тогда… после этого каждому… пожмет руку… товарищ Ивановпетровсидоров. Сначала дяде Тиби, пробует улыбнуться девушка, и старик пробует улыбнуться в ответ. Как трогательно ждет наша Монро своей очереди. И мне? И мне? И тебе тоже, Мэрилин. По очереди… каждому. Девушка стыдливо отворачивается. В этот момент со всхлипом вздыхает до нитки пробумаженный Адам. Пропади здесь все пропадом… Я не хочу задохнуться. Все равно ему никто не отвечает…
Бекеши встает. Если ты позвонить, еще не твоя очередь. Если позволите, говорит он скромно, я сейчас… вне очереди… Он идет туда. Бросается в бумагу, какой-то жесткий и угловатый картотечный шкаф ударяет его по голени. Больно, В глубине он отыскивает трубку, трясет ее, кричит «алло». Алло, алло, алло. Внезапно он столбенеет. Да!! Мы живы, кричит он. Потом берет себя в руки. Из трубки слышится импозантный голос. Ар ю товарищ Ковач? Бекеши от счастья сам не знает, что говорит. Йэс ай эм. А ведь он совсем не товарищ Ковач! Але, Ковачка? Ты меня слышишь? Але, я здесь в Вишеграде, на курсах! Ищу сегедский Домский собор… Успокойся, не могу найти…
Теперь уже все, спотыкаясь, спешат к аппарату. По пояс в бумаге, они обнимаются, рыдают. Еще никогда в предгорьях Карпат слезы так не смешивались с надеждой. Бекеши тоже плачет и смотрит на своих людей. Товарыш-шы. Что будет с воздухом. Мэрилин Монро отвечает так. Проголосуем за кубометр воздуха, по такому случаю!
Погода сейчас идеальная. Не сказать, чтобы это был один из самых хороших, самых теплых осенних дней, но ведь в сухую, теплую погоду и след взять трудно; нет ни густого тумана, ни инея, когда солнце, внезапно выглянув, выпаривает влагу на поверхности, а вместе с ней и следы. Стоит та самая умеренно прохладная и безветренная38 погода в четыре — десять градусов, с повышенной влажностью почвы, когда след «горяч», свора так идет по нему, будто бы ее тянут на поводке, почти не бывает так, чтобы она его потеряла, при такой погоде большинство kill[23] достижимо.
Можно надеяться на самое лучшее.
Свора состоит из пятнадцати «связок». Это тоже идеальный случай. Меньше десяти гончих уже маловато, а более чем двадцатью сложно управлять. Главным загонщиком является Петер Байттрок, этот прославленный инженер. Он всеми уважаемый, независимый господин: это условие необходимо для того, чтобы стать master. Баиттрок, кроме всего прочего, обладает соответствующей подготовкой: прекрасный наездник, знаком со всеми тонкостями сворной охоты. Уравновешенный человек, но мнение свое выкладывает сразу.
Однажды он потерял контроль над собой. На небольшой вечеринке для своих, организованной в честь назначения его главным инженером, Янош Тобиаш шепотом спросил, почему товарищу главному инженеру надо было отказываться от новой стенки и филодендрона, в то время как приобрести обе вещи было необходимо и сопряжено с определенными трудностями. Байттрок в этой на вид безобидной, ничем не примечательной ситуации углядел подвох, начал орать, глаза его метали искры, лицо покраснело, классическая голова тряслась. Ах ты, ты, недоумок! Ты смеешь мне говорить, что правильно и что нет, ты, болтун поганый, что нужно человеку у власти, мне, который в твоем возрасте имел чин майора, в маленькой дыре, на стене даже распятия не было, потому что я из реформатской церкви?! Господин инженер Байттрок рвал и метал. Знаешь, старик, рассказывал он младшему брату, товарищи мной гнушаются; я для них второй сорт. Правая рука главного загонщика — псарь, который день и ночь проводит вместе с гончими, каждую знает по имени — и они его тоже. (Ну, собакам-то легче!) Ему понятен характер и повадки дичи; он сообразителен, ловок и при этом еще легкий и хороший наездник. Два-три младших псаря, располагающихся также в самой гуще стаи знают свору и умеют обращаться с собаками и лошадьми, они и здесь заботятся о том, чтобы некоторые гончие не безобразничали, не отставали и т. д. и т. д.
Кстати, добавим: все эти специально подготовленные люди, конечно, чрезвычайно требовательны как в отношении зарплаты, так и бытовых удобств, вследствие чего затраты на персонал, как правило, превышают расходы на корм для собак, на кашу и конину.
По сигналу рожка псарь с одним из младших псарей трогаются с места; другой держится чуть ближе к лесу, чтобы подгонять отставших гончих, и лишь после этого отправляется главный загонщик, товарищ Байттрок, — и сразу за ним остальные всадники: то есть никаких скачек и соревнований, помилуйте.
Здесь нет дурно воспитанных: никто не посмеет обогнать главного загонщика; никто не совершит такого проступка, должное наказание которому — удаление с охоты: никто не затопчет гончую; грубиянов нет: никаких «подсечек», всех лошади слушаются (отвратительное зрелище — когда конь несет всадника, как черт поросенка).
Там, внутри, шуму и грохоту на смену приходит немая, мертвенная тишина39. Конец? Ведь дышать теперь уже невозможно. Янчика, тихо сидевший до сих пор у подножия стены, теперь взрывается. Нет… Я больше не могу. Бекеши подходит к нему. Говорить здесь уже нечего — словами в этого человека веру вселить нельзя. И спокойной, ни капельки не дрожащей рукой тот вселяет в него полкрышки прекрасной, чистой, свежей, питьевой, изумительной воды. Протягивает ее ему. Янош Тобиаш отворачивается и в такой позе выпивает воду. Андраш Бекеши тоже отворачивается, пока Тобиаш пьет.
У дичи большая фора, чем она не преминула воспользоваться, но гончие, натасканные для таких целей, более выносливы и потихоньку приближаются к постепенно выдыхающейся дичи. Однако в этот момент гончие теряют след, и поэтому проводят короткий check. Бедные лошади этому очень рады. От их спин поднимается пар, ноздри напряженно дрожат.
Товарищ Ивановпетровсидоров сделал удачный, многообещающий жест, отправившись на охоту простым наездником. Здесь нет привилегий (дворянский герб, вотчина и т. д.); но расслоение, вопреки всем желаниям, все-таки происходит. К малюсенькому пони Грегори Пека тянется губами огромная желтая кобыла товарища Брандхубера. Лошади топчутся, ржут. Поздравляю, сквозь зубы цедит Пеку Брандхубер. Можно сказать, все идет великолепно. Еще несколько часов, и они на свободе. Товарищ Пек улыбается. Несколько часов, это уж слишком. Но ситуация непрерывно улучшается. Улыбка приклеивается к лицу Пека. И непрерывно — тоже слишком. Второй собеседник смотрит начальнику отдела в лицо.
Ты испугался!
Но лишь во вторую очередь! Именно так! Лишь во вторую очередь, жестикулирует коричневый от солнца милый человек. Ты бы побольше уважал науку, товарищ Брандхубер. Я позаботился о таком препятствии. Препятствии? Товарищ Пек смеется. Главный загонщик подозрительно долго наблюдает за этим дуэтом.
Головная гончая громко гавкает, и усилившимся внезапно лаем собаки приветствуют вновь замеченную ими кумушку лису. Звякают стремена. Томчани вновь садясь в седло, чувствует под собой приободрившуюся лошадь. В свое время он как следует приучил свою лошадь стоять смирно, когда он на нее садится, даже в такие минуты, когда вокруг суета, погоня, что, конечно, не так просто сделать, как здесь описать; вспомним площадь Маркса в час пик! Имрущ Томчани знает, что если он хочет прийти на kill одним из первых, то в начале травли нужно, экономя силы, скромно ехать на задней «линии», причем одновременно можно срезать большую часть поворотов, выбирать почву полегче (напр., полосу жнивья вместо пахоты). Лошадь Байттрока рядом с лошадью Томчани хочет тронуться в путь. Молодой человек, потупив взгляд, спрашивает: получится? Видавший виды Байттрок молчит. Бурить обязательно? Они трогаются. Он не слишком гонит лошадь в гору, подъем и так сильно сбивает ей дыхание.
Обязательно. Вспомни соколов, мой юный друг. Впрочем, это будет бурение с двух концов. Томчани поднимает свой чистый взор. Солнце играет лучами, он крепко держит поводья. Но встречное бурение встречного бурения — это обыкновенное бурение, говорит он. Не надо столько философствовать, старик; речь о жизни и смерти, вперед. Томчани смело спускается вниз: почва хорошая, ноги у лошади тоже, и сердце у него на месте, и хотя ему хорошо известно, что все время скакать позади своры (up to hounds) почетно, но про себя он думает: для этого нужна первоклассная, может быть даже перемененная в ходе погони, лошадь; а мне такое не по карману, так что предпочитаю оказаться среди первых в конце погони, а не выжимать все силы из коня в самом начале.
Не прерывая бег лошади, Грегори Пек вытаскивает из голенища маленькую книжечку. Номер не из последних. Пек снова улыбается. Записывает что-то в свою книгу. Это моя маленькая Библия. «Горное дело» П. Дж. Проби. Он улыбается, уверенный в себе. Товарищ Брандхубер40 с презрением смотрит на хозяйственного руководителя, склонившегося над книгой. Господин ученый, цедит он сквозь зубы, какие вы все-таки странные… Главный загонщик шарит взглядом по местности. У него характерные усы.
Почва не мерзлая, но отпечатки конских копыт на ней видны. Пока скачут по угодьям охотников, ни у кого нет претензий. Сегодня ты, завтра я. Но когда погоня перемещается на огородики колхозников, на ряды гороха, фасоли, паприки, скорцонеры и окорника, на рассаду морской капусты, желтые листья портулака, нередки (иногда чересчур громкие и не совсем справедливые) требования возместить ущерб. За каждый отпечаток конского копыта колхозники получают один форинт. На вырученные таким образом деньги они по-социалистически живут и учатся: ходят в кино, покупают билеты в театр и дарят друг Другу книги («Вазарели[24] — венгр по происхождению», напр.) у нас и у самих хозяйство, говаривал товарищ Ивановпетровсидоров, бывало, в кругу друзей, и мы, конечно, стоим на стороне трудового народа, но при таких условиях с огромной радостью каждую осень прогоняли бы табуны всадников по своим посевам? это более надежный источник дохода, чем нынешние урожаи, сдобренные нынешними отношениями. (Осенних отпечатков копыт к весне уже не видно.)
Свора приканчивает дичь: kill! Псарь на минуту отнимает задушенную лису у собак, отрезает ее большой, рыжий, пушистый хвост, а затем, высоко подкинув, «отдает» кумушку «на растерзание» своре, и за несколько минут та разрывает и съедает ее.
Потихоньку подтягиваются все, запыхались и лошади, и всадники.
Это было замечательно. Замечательно. Появляются дубовые столы и грубые скамейки; со вкусом накрытый стол, и не в последнюю очередь — великолепное, легкое садовое винцо. Томчани, трепеща, сидит на краю лавки. Товарищ Брандхубер рассказывает. И знаете, где я его подстрелил? Всем это любопытно. Товарищ Байттрок, поглаживая свои донжуанские усы и плохо скрывая неприязнь, поворачивается к рассказчику. Да говори уже: как раз в том месте, где у Тани растет чечевица! Чтобы, по крайней мере, все знали! Покатывающиеся соседи все еще хлопают друг друга по спине, когда Томчани, сильно волнуясь, как это свойственно молодым, вскакивает на скамейку и кладет перед собой хлыст, чтобы произнести речь. Тогда вмешивается очень спокойный голос Миклоша Хорвата. Говори, сынок. Нам необходима дальновидность неискушенного голоса. Это снова вызывает хохот, но остановить Томчани уже нельзя.
Товарищ! Говорят, полярный олень на далеком севере — самое полезное животное, потому что каждый его сантиметр идет на пользу: и мясо, и кожа, и кости. Товарищи! Линейное программирование — полярный олень вычислительной техники. Товарищ Ивановпетровсидоров турбулентно поднимается и отдает несколько решительных справедливых и несправедливых распоряжений. Персонал действует ловко, на голове каждого члена шапочка с золотыми кистями (все до одного — члены орденоносной бригады), теперь в гигантские трещины стола крошатся только остатки калача. Томчани выпукло изображает важность и нравственную высоту спасательных работ. Что касается калача, то даже тот самый Вендлер не испек бы лучше. Его легкое тесто тает во рту, а начинка41 просто изумительна, особенно у орехового, в котором превосходно сочетаются грецкие орехи, лимонная кислота, финики, яблоки, изюм, шоколад, сыр из айвы, абрикосовое повидло, ванилин, взбитые яйца и молоко, смешанное с сахаром или медом. Это, правда, немного дорого, но бесподобно.
Товарищи! Спасательные работы протекали бы гигантскими темпами, по плану, с напряжением всех сил. Данные о спасательных работах — ситуация с бумагами, атмосфера в отделе, буровые работы вплоть до личностей — поступали бы товарищу генеральному директору по дисплею.
Только не по дисплею, шепчет кто-то. Тогда товарищ генеральный директор не будет спать и озабоченно ходить взад-вперед по своему кабинету. На столе у него будет много книг, бумаг, логарифмических линеек. На самом верху «Горное дело» П. Дж. Проби. Из радио будет доноситься, потоком литься музыка, мягкая, как ветерок родных степей, и бурная, как кровь в горячих сердцах венгерских рабочих. Товарищ Ивановпетровсидоров будет трудиться…
Со скамеек доносится гром аплодисментов, пронзительный свист. Миклош Хорват ободряюще кивает. Товарищи! После этого товарищ Хорват будет громыхать по ступеням. Ему будут встречаться грузовики, джипы, мотор будет реветь «в режиме минимальной проходимости». На одном из поворотов будет стоять измазанная грязью молодая девушка — там, где мы, комсомольская молодежь, конечно исключительно после работы, обычно играем в пинг-понг, и, тряся кулаком, кого-то ругать. У меня в глазах темно от гнева, скажет находчиво даже в самой сложной ситуации девушка-администратор; она объяснит, что злится потому, что на спасательные работы берут эту никудышнюю, слабенькую итальянскую машину. Почему бы не взять ее громадную советскую машину? А ведь он за пять часов бы управился. Ну а за четыре? Управится? Девушка удивленно посмотрит на товарища Хорвата. Минуточку. Задумается. Управится, воскликнет она наконец. Будьте наготове. Девушка с удивлением посмотрит вслед перепрыгивающему теперь уже через две-три ступеньки товарищу Хорвату.
Ты это брось, не надо. Брось жалобить нас, испытанных людей системы. Несмотря на это, какой-то мужчина с насупленным взглядом поднимается, чтобы произнести речь. Лицо его надвое разделяет шрам, но слова гладки, шелковисты, как ползающие под мышками змеи. Нечист на руку без справки от санэпидстанции: в этом товарищ Брандхубер весь. Хо-хо, дружочек. Не так ли. Пусть пот течет или кровь, все едино. Лишь бы побольше выдавить из рабочего! А человек, рабочий человек, пускай надрывается?! А всем до лампочки?
Спокойно, Йожика. Грегори Пек на своем привычном месте, спиной к пепельнице. Спокойно, спокойно, шепчет он Брандхуберу. В главном штреке находится 240 папок с учетными ведомостями. Сваленные в кучу, занесенные илом — ни пройти и ни проехать. И об этом никто больше не знает: только ты и я. Ах, пардон, и еще «прогрессивная научная книга», П. Дж. Проби. Товарищ Брандхубер, хрустя коленями, садится обратно на табуретку. Точно? Больше уважения науке, товарищ Брандхубер! Наука?! Бр-р-р.
Миклош Хорват кивает молодому человеку, чтобы тот продолжал. Товарищ генеральный директор тоже кивает. (Одна из его частей, как обычно, какой-то период времени протестует.) Товарищи! Положение оставшихся там становится все труднее. Шуму и грохоту на смену пришла бы немая, мертвая тишина42. Неужели конец надежде? Неужели конец? Спасательные работы будут протекать с большим напряжением сил. Не было бы времени зевать по сторонам! Здесь была бы советская машина! Товарищ Брандхубер спотыкается. Сердце у меня, и показывает на него. Грегори Пек кладет на безымянный палец собеседника ладонь. Спокойно. Этот эпизод не ускользает от внимания товарища Байттрока. Товарищи! Товарищ Хорват может позвонить оставшимся там. Может рассказать им, что началась завершающая фаза работ по их освобождению. И всем это покажется не более чем дурным сном, жизнь продолжится в том месте, где она так болезненно и страшно прервалась. Он поговорил бы со всеми, и с Мэрилин Монро тоже. Сказал бы ей, что много о ней думает. Девушка — это важная вещь, почетная вещь. И как же она выглядит? Еще и красивая? Еще и молодая? Глаза у нее какого цвета? Синие? А волосы? Оставшиеся там могут оказаться в большой беде. Из-за атмосферы; и они тоже развлекали бы себя беседой. Пусть этот славный, способный на самопожертвование руководитель не думает, что они теперь, в смертный час, испытывают нетерпение. Мэрилин сказала бы, какого цвета у нее волосы: она была бы блондинкой. Я бы невероятно волновался, почти силой оторвал бы трубку от уха товарища Хорвата. Но он бы только говорил и улыбался, улыбался, как крошечная актриса. Потом он прикрыл бы трубку ладонью. Иди к огромному вентилятору! Она бы пошла. Девочка, не чувствуете ли вы какого-то странного запаха? Мэрилин закашлялась бы. Что-то… чуть-чуть. Да, и это не беда, с напускной веселостью в голосе произнес бы товарищ Хорват. Нет проблем. Ничего. По моим подсчетам, ветер промчится по тоннелю за две минуты. Через две минуты ураган будет рвать на вас одежду и взлохматит ваши прекрасные белокурые волосы. Две минуты. Скажите, когда, тут товарищ Хорват засмеялся бы, когда ураган разразится.
Товарищи! В этот момент все живые существа прислушивались и ждали бы. Ждал бы товарищ Хорват; в густых складках его лба спряталась бы забота, в глазах горела бы надежда. Ждал бы, как сжатая стальная пружина, и я. Ждал бы и Грегори Пек — жутко волнуясь. И ждал бы еще кое-кто, один странный «спасатель» со знакомым лицом. Может, этот мужчина с измазанным сажей лицом — товарищ Брандхубер43. Вот это да-а-а! Он, крайне неуверенно говорит парень. И еще кое-кто ожидал бы здесь. Напряженно прислушиваясь. Товарищ Байттрок. Он бы всех видел — на всех смотрел бы. Судя по его виду, он был бы заинтересован не только в телефонных переговорах. Еще что-то.
Начинается большая неразбериха, несколько лиц краснеет, несколько бледнеет. Все живые существа44 прислушиваются и ждут. Ждет Хорват: в густых складках его лба спряталась забота, в глазах горит надежда. Ждет Томчани, как сжатая стальная пружина. Ждет Грегори Пек — жутко волнуясь. И товарищ Брандхубер, который не сводит глаз ни с Грегори Пека, ни с Томчани. По товарищу Байттроку волнение едва заметно; но он тоже ждет, конечно.
Эге-ге, вскакивает товарищ Ивановпетровсидоров. В руке у него лисий хвост, brush; он им трясет. Друзья мои, нам, венгерским охотникам, есть что вспомнить. Я имею в виду свое поколение, тех, кому под пятьдесят… Мы уже «дяди», но еще не старики; если на крутом гребне послышится рев оленя-самца, мы в два счета уже наверху, мы усмирим горячего жеребца, — в общем, ничто, достойное внимания в этом подлунном мире, не ускользнет от нас. Но волосы у нас уже редеют, успело вырасти новое поколение охотников, и темными, сырыми ноябрьскими днями нам, бывает, закрадывается мысль, а сколько же мы еще выдержим. Времена, друзья мои, меняются, и мы вместе с ними.
Товарищ Грегори Пек перемещается на ту сторону пепельницы. Из своего голенища он вытаскивает книжный раритет, миниатюрное издание П. Дж. Проби. Что теперь будет? Со стороны подъема на галерею слышится шум. Пустите меня наверх! Сейчас же! Тьфу! И вот уже летит шапка с золотыми кистями. А среди морозоустойчивых жасминов стоит воинственно настроенная, смертельно напуганная Янка Дороги со своей косой. Имре Томчани бросает не нее взгляд. Несмотря на спокойствие, отчего-то ему больно. Почему? Простите, он вскакивает. Байттрок не спускает глаз с Грегори Пека. Неужели он ошибался в своих подозрениях? И речь здесь о честном человеке? Начальник отдела с лихорадочной поспешностью листает «пиджипроби». Находит ту страницу, которую искал, и одним движением ее…
Байттрок вцепляется ему в руку. Что тебе от меня надо? Еще не знаю, что мне надо… Но что надо, это точно.
Девушка молчит, потупив взор. Парень пожирает ее взглядом. Как он был до сих пор слеп, да, слеп! Льняные волосы девушки, позолоченные лучами солнца, колышутся, бьют ее по плечам. Лицо у нее бледное и худое, но синие глаза смело блестят. Перехваченный тонким поясом халат белоснежно сверкает на солнце. Янка серьезна и совсем не по годам удручена. Ах, вот какая девушка эта Янка, думает Имре. С такой надо бы подружиться. Много видела, много знает. Он разглядывает лицо девушки со следами обморожения, разглядывает темнеющую под золотистым пушком жилку на виске, и взгляд его выражает уважение и нежность. В голове парня мечется столько новых мыслей и ощущений, что ему сложно выбрать главное. Как и прежде, выручает музыка, песня, мелодия, это целомудренное искусство чувств.
(танго)
Лучше нету того цвету, Когда яблоня цветет, Лучше нету той минуты, Когда милая придет. Как увижу, как услышу, Все во мне заговорит, Вся душа моя пылает, Вся душа моя горит. Я уже многого достиг45 в жизни, И лишь тогда мне удалось достичь счастья. Вся душа моя пылает, Вся душа моя горит.Рука в руке. В высоте медленно, едва заметно, проплывают редкие белые барашки облаков, сверкают чистотой, как комочки ваты, слегка прикрывая солнце. В дрожащем редком тумане блестят, извиваясь, проспект Ваци и проспект Лехела. На небольшой лужайке перед храмом волнуется море одуванчиков. Легкий ветерок доносит медовый аромат трав. Холмы и низины лежат, как бы погрузившись в сон. Западный вокзал вдали надевает серовато-белую шапку паровозного дыма. Широкую проезжую часть кружевным поясом окаймляет мост Элмункаш.
Внезапно к Имре приходит чувство любви, он рад здесь всему: близости Янки, траве, площади, стертым полоскам перехода, грязным спускам в туалет, выцветшим пожарным, поражению под Мохачем, битве при Капольне, одиноким телефонным будкам, суровым маневрам и белым барашкам-облакам на горизонте46.
Янка деликатно возвращает парня с небес на землю. Для них есть дело, поэтому она и пришла. Парень считает, что здесь, наверху, он свое дело сделал, его роль возбудителя процесса завершена. Они, тяжело дыша, мчатся, минуя железную дверь, по достопамятным ступенькам. В коридоре сталкиваются с тетей Шари47. Она сверкает жуткими хлопчато-бумажными чулками. Спешу, сынок. Надо корову подоить, а потом на поезд. Кислую капусту, как обещала, принесу, как увольняться буду. Банку можете оставить себе. Уходите, значит, тетя Шари?48 Да49. На триста больше буду получать и работать только в утро. И поликлиника все-таки чистое место. А, так вы туда уходите? Туда. Женщина просит парня повесить потом ключи на вахту и сует ему в руку связку. Алюминиевые бирки покрыты отвратительным жиром. Есть там ключ и от 906-й, и от 609-й. Из кожи вон вылезет, говорит Томчани девушке в шутку. Пошли!
И вот они, тяжело дыша, хватая ртом воздух, стоят перед отступающей бумагой. Наблюдают за отливом. Кто-то говорит, что уровню бумаги нужно упасть на двенадцать сантиметров, и можно будет тогда войти. Имре шепчет Янке: мне достаточно и пяти сантиметров… (Но девушке, хватит ли ей?) Томчани жизнерадостно смеется: он молодой, сильный. Янка не смеется. Она, тихо улыбаясь, смотрит на Имре. Я никогда тебя не забуду, шепчет она. И я. Мы оба…
Томчани стремительно входит в бумагу. Иди, говорит он, оборачиваясь к девушке, позаботься о жене Бекеши. Ты нужна ей. Янка бежит в Берел, мечтательно прижав руки к груди. Перед тем как открыть дверь, она придает лицу спокойное выражение. Она еще и улыбаться может! Там лежит роженица, копирка служит ей подушкой, калька — одеялом, RADEX — лакомством, она тоже еще может улыбаться и просто отвечает на улыбку. Янка подскакивает к незнакомой страдающей товарищу женщине, убирает с ее лица спутанные волосы и произносит те слова, которые давно готовы были сорваться с языка: солнышко мое… (Это слово с давних пор предназначалось Имре.) Жена Бекеши все еще пытается улыбаться. Янка — гладит ее. Солнышко мое… Пару минут еще… всего пару минут…
Но и другим осталось жить всего пару минут. Томчани с большой скоростью приближается. Получится? Должно получиться!!? Молча вперед. В этот момент он замечает что-то, какую-то странную темную массу. Да ведь это учетные ведомости! Полундра! Он тянет, тащит эти учетные ведомости, те, что с краю, поддаются легко, те, что поглубже, с трудом. С помощью длинного шеста зацепляет скрепки. Три или четыре остаются лежать там в беспорядке. Туда палка не достает. Что делать? Подобраться поближе. Томчани подбирается. И вот он уже среди множества учетных ведомостей, чисел, слов, диаграмм, формул, относящихся до людей, машин — нас. Он тянется. Но расстояние вытянутой руки, вытянутой человеческой руки, невелико. Скрепка — далеко. Томчани, приподнявшись на цыпочки, на роковой шаг удлиняет короткую руку50. Достав до самой верхней папки, обрушивает все.
Товарищ Байттрок отворачивается от товарища Пека и подходит к товарищу Хорвату. Товарищ Хорват неторопливо берет в руки миниатюрное издание П. Дж. Проби. Рассматривает нацарапанные там числа. 240… 240… Да ведь это учетные ведомости, хлопает он себя по лбу. В главном штреке! Грегори Пек дрожит как осиновый лист. Байттрок двумя пальцами, как бы прихватывая кофейную чашку за ручку, вцепляется Грегори Пеку в рубашку у горла. Ах ты, выродок, недоносок! Товарищ Ивановпетровсидоров одобряет происходящее. Вы уж меня извините, но он — предатель51, и это еще мягко сказано! И все-таки он спрашивает начальника отдела поверх рубашки, которую только что хватали: Индийская? Где купил?
Однако Хорват не дает ответственности пойти по другому руслу. Он смотрит на часы, обиженно качает головой, и постепенно это передается другим, покачивание. Он поднимает руку, из руки струится свет, тьма отступает перед светом. Такое освещение хорошо, поскольку:
— достаточно ярко,
— световой поток распределяется в пространстве соответствующим образом (хорошо направленный свет, благоприятное воздействие света),
— хорош цветовой эффект,
— экономично,
— удовлетворяет эстетическим требованиям,
— безопасно52.
Миклош Хорват, продолжая качать головой, рассказывает: Ноги — важная часть тела. С ними нужно осторожно. Не дай Бог подвернуть итакдалее. Но если важны ноги, то уж как важны глаза? Иоганн Себастьян Бах, один из величайших музыкальных гениев мира, на закате своих лет совершенно ослеп. Но если Баху и его современникам приходилось слепнуть, то нам на сегодняшний день уже нет. Я порекомендовал своему другу купить дымчатый стеклянный абажур за 6.50, с ним он лучше будет видеть. Почему же я буду лучше видеть, говорит мой друг. Потому что сейчас свет попадает тебе прямо в глаза, говорю я. Это ничего не значит, говорит мой друг. Можно тогда поинтересоваться, говорю я немного резко, почему ты прикрываешь глаза ладонью, попав на яркий солнечный свет?
Друг ничего не ответил, но сразу же заменил абажур.
Свет струится. Опущенные головы поднимаются, слышатся счастливые возгласы. Наши друзья поднимаются с липкого линолеума пола, Томчани выбирается из-за папок Секретарь комсомольской организации благодарит всех за готовность помочь, многочисленные новые идеи, возникшую на местах инициативу, которая обеспечила деятельность по формированию обстановки и самовоспитанию и подала пример с. мышления перед лицом эгоизма, вещизма и обращенности в себя. Томчани склоняется над своим письменным столом. Он ищет что-то в справочнике по софтверу. Без пятнадцати четыре!54 И все отравляются: кто за ребенком в детский сад, кто играть в карты, кто по сердечным делам, кто приобрел билет на фильм «Рок-музыка прошлых лет», ну а кто просто собирается, а потом, поздним вечером, вернувшись домой усталый, как собака, обрушивается в большое кресло (с которого уже давным-давно исчезло пятно от малинового сиропа) и глотает виски безо льда, потому что не в силах доползти до холодильника, по соседству тихо бормочет ТВ, слышен чей-то смех, а он скинул ботинки и как раз разминает пальцы ног, когда, несмотря на темноту, замечает, что у него дырка на носке, и от этого вдруг выходит из себя, и, задавшись вопросом: хорошо ли это? — отвечает «нет», и винит в этом себя.
Янош Тобиаш чистит зубы, Тиби Тот подает Мэрилин Монро пальто. От девушки пахнет свежим кофе. Music Boy или Konzert Boy, настойчиво продолжает какой-то разговор Лайош Адам. Они совсем обнаглели; наверняка это Music Boy или Konzert Boy. Дядя Тиби нюхает волосы Монро. Он подмигивает, как альфонс, спереди ему, конечно, подмигивает Мэрилин. На это мой друг, польский еврей, говорит, говорит дядя Тиби Лайошу, а вообще-то он родился на «Лузитании» и даже не венгерский гражданин, на «Титаник» они опоздали, ёшкин кот, он на это говорит: что за вывернутый наизнанку мир55, в котором евреи воюют, а немцы делают бизнес. Гитлер проиграл войну, но выиграл мир. Они по очереди расписываются в листе Графика посещаемости. Лист в эргономических целях привит к стеблю эдельвейса. (Поднимает настроение трудящимся. Искусственное опыление эдельвейса производит Мэрилин Монро, краснея, как девочка.) Дети мои, работа — не кабак, чтобы навечно здесь оставаться, говорит Адам и выходит за дверь. Он спешит в детский сад за дочками; они у него однояйцевые близнецы. Одевает их совершенно одинаково. Андраш Бекеши подталкивает к Имре график. Ну же. Томчани смотрит на бумагу, на дружелюбное лицо Андраша и раздраженно требует, чтобы Бекеши сейчас же захлопнул проклятый График посещаемости, потому что он похож на вспоротый живот, и когда секретарь комсомольской организации, требуя объяснения, поднимает доброжелательно-асимметричные брови, добавляет: подписи — это кишки.56 57 58
Глава IX (или последняя), в которой товарищ генеральный директор поводит взглядом
Наше положение радужно. (Наше положение радужно. Наше положение радужно.) Есть перспектива и задний план. Кроме того, до нашего сведения доведено, что кафель в уборной превосходный, воздух чистый, здоровый; вода урчит, следовательно, цепь, состоящая из тонких звеньев, соответствует своему предназначению, и ее громыхание не может повредить нашим железным нервам. Шевеление галстука-бабочки оживляет наш внешний вид: двойной подбородок то вдруг исчезает, то появляется, как экономический шпион. Немудрено поэтому, что потоком к нам выносит одного из официантов, официанта. Он подбегает трусцой. (Не пытаясь дышать «по правилам».) Посылаем его к такой-то матери и тотчас же просим прощения и получаем его.
Смешно то, что у него тоже галстук-бабочка. Мы говорим ему об этом без напряжения. Ох, господин, вздыхает он серьезно, недисциплинированно. Советует выпить красного вина, превосходного урожая. Гранатовое «Вагуйхейи» побьет все вина Бургундии. Из него получается кровь, нейтрально говорим мы. Официант неправильно истолковывает нашу двусмысленную сдержанность. Этого не бойтесь, и он кивает. Для этого есть место. Мы заказываем Volnay Clos des Chênes 73-го года. Из того места, где должен находиться парадный носовой платок, мы достаем градусник. Он показывает 20 градусов. Должно быть 16 градусов, поэтому мы отсылаем его назад. Попытаемся еще. Из шампанского подают Moët amp; Chandon превосходный букет бледно-зеленого Chablis окутывает все волшебным туманом, белесый Château'd Yquem оставляет такое впечатление, будто пьешь тлеющие угли.
Ставим на большой серебряный поднос последний стакан. Угол, образуемый мизинцем и безымянным пальцем, действует успокоительно. Успокоение вызывает у нас улыбку. Нам везет: к улыбке не подобрать лица. На ином уровне власти выражаются так: повезло тому лицу, мы щелкаем пальцами: еще как повезло! Но если в этот момент бросить взгляд на руку, на безымянный палец, как раз соскальзывающий с большого, то можно забыть, о чем вообще шла речь, останется лишь отсутствие мотивов, раздражение. Над этим следует подумать; этим мы мало что сказали.
На праздник мы собираемся вместе. Ура. Вдохновляющие труды по его подготовке59 мы берем на себя. Добудем мирного неба, мягкого хлеба, чистой воды и устроим небольшую попойку. Мы бы хотели, чтобы уже на этой стадии цвет предприятия — партийные и хозяйственные руководители появились на месте действия все до единого, отдавая дань почтения. Мы бы хотели, чтобы от приветственных речей на глазах у присутствующих навернулись слезы, а после состоялось открытие какого-нибудь удачно вылепленного бюста. Возложение венков тоже было бы не лишним. Мы бы хотели, чтобы вслед за открытием памятника шло простое, товарищеское, протекающее в дружеском кругу, богатое застолье, где не ощущалось бы нехватки в тостах, в то время как смуглые ребята исполняли бы песни, одну красивее другой.
Хлопнув по заду проходящую мимо секретаршу, Мэрилин Монро, мы приглашаем к себе товарища Пека. Слушай, товарищ Пек Обращаемся к тебе, как товарищ к товарищу. Как товарищ к товарищу? Да. Мэрилин хохочет. Весело поет:
Товарищ, товарищ, Все равно тебе водить, товарищ.Ай-яй-яй, но мы тебе прощаем. На обветренном лице Грегори Пека застыло внимание. Я сторонник разговоров начистоту, товарищ Пек.
Ты будешь барменом! Товарищ Пек вскакивает, мы ставим его на одну свою ладонь, указательным пальцем другой обнимаем за талию и так пускаемся в пляс!
Этот бармен, вот так штучка, просто класс, просто класс!Товарищ Грегори Пек выходит из себя. Встает, засовывает руки в карманы и прислоняется к пепельнице на письменном столе. На секунду опускает голову, а потом, подняв ее, совсем другим голосом, тихо и очень серьезно говорит: я не знаю, кто это выдумал, а главное, кому есть и будет от этого польза! Особенно, кому будет! Одно знаю… землю раздавать — годился, создавать партию — годился, создавать колхозы, подписывать на мирный заем, ходить пешком в снег, в грязь, постоянно портить себе желудок холодной едой — годился. Теперь же — не годен стал60.
Мы понимаем тебя, товарищ Пек. Но времена меняются, и мы вместе с ними. Прошу тебя, товарищ Пек, не воображать, будто задача твоя не важна. Еще как важна. Стоим на носках, а потом опускаемся на пятки. Искривляем свой устрашающий рот: наше чувство власти иногда пробивает дорогу, это нам известно. И вообще, прошлого не воротишь! Не плачь. Ну, ну, не надо, ну: лапуля, сладкий мой.
Товарищ Пек. Не увиливай. Революция состоит не столько из того, чтобы разогнать господ, сколько из того, чтобы изжить лень, неразборчивость, обломовщину. А ты, куманек, будешь выполнять заказы официантов у правого или левого крыла барной стойки, стремясь к цели в этом своем красном галстуке! Работу будешь выполнять на совесть. У стойки, где чрезвычайно важна импозантная, располагающая внешность, будет царить строжайший порядок. Краситься будешь умеренно, друг мой, от фальшивых драгоценностей придется отказаться. Будем надеяться, что на клиентов твои изящные манеры и остроумная беседа произведут приятное впечатление. Будь осторожен, за каждым твоим словом будут внимательно следить. Тебе нужно терпеливо и хладнокровно выслушивать справедливые претензии клиента, потому что люди бывают разные.
Посудомойка будет. Будет также пищевой лед, шейкер из трех частей, блендер, палочка для размешивания с длинной ручкой, барное ситечко, перфорированное барное ситечко, щипцы для льда, ситечко для льда, лопатка для льда, молоточек для раскалывания льда, соковыжималка для лимона, нож из нержавеющей стали с узким лезвием, доска для резки, бутылка с пипеткой, мерные стаканы, перцемолка, перечница, сосуд для растительного масла, баночка для сахарной пудры, сосуд для пищевого льда, комплекте!) штопоров, вынимающиеся пробки с носиком, воронка, мутовка, электрический миксер, сифон-автомат, прейскурант, программки.
Сначала мы, не привлекая к себе внимания, шагаем по «плоской крыше» института. Глубоко вдыхаем тяжелый, пряный воздух. Наше празднество идет по полной программе. Поднимаем глаза. Окрестности, покрытые рощами в окаймлении террас, со своими извивающимися в густом подлеске тропинками, с вытянутыми кипарисами и дубами, которые есть сама непринужденность, с кактусами и тамарисками, с лоснящимися, мясистыми листьями, — такие же, как обычно. Стоит большое столпотворение, установлены киоски, длинные столы, карусель, тир.
Полицейские приветливо салютуют. Посмеиваются и блестят солнечными очками на женщин. Если кто-то заблудился, они помогают сказать, где человек находится; если же это известно, но неизвестно, куда куда нужно идти, тогда это. Пьяненьким они пригибают к земле голову, чтобы те облегчили желудок, и если видят, что этот кто-то плохо себя чувствует» — скажем венгерскому народу правду, без прикрас: такое случается; но тех, с кем случается, мало, — к такому человеку подходят и приятно его развлекают. По нашему указанию. Мы шутливо салютуем в ответ.
Здесь все; рабочие, крестьяне, интеллигенция, как положено. Здесь — last but not least[25] — впереди товарищ Грегори Пек. Напитки превосходны, бар доминирует. Освещение уютное. Оно ловко оттесняет холодный дневной свет, поскольку тот неблагоприятно воздействует на расположение духа и невыгодно изменяет цвет лица и характер присутствующих.
Здесь Янош Тобиаш, который пользуется, но не злоупотребляет доверием и который так непринужденно двигается в своем джинсовом костюме. На наш вкус, его брюки чересчур узки, на его месте у нас побаливали бы яйца. Но это его дело. Не надо вмешиваться во всякую мелочь. Он приветствует нас, в ответ и мы его, таким образом соблюдены определенные формальности. Молодежь! Ей принадлежит будущее, ей принадлежит наше сердце! Мы не стыдимся этого! Здесь товарищ Хорват, ну, здравствуй, здравствуй. Он извлекает из скалы альпинария кока-колу для страждущих. Наши ближайшие коллеги и виновник торжества, отдел Тобиаша виновник торжества, постепенно собираются вокруг нас.
Празднество органично переплетается с панихидой. Мы не скрываем того, что есть и потери. Это удар для нас всех. (Твердой рукой мы уберегли пошлые надгробные речи от вырождения, от похвалы родственников, от перечисления заслуг, от всякой витиеватости.) То и дело раздаются рыдания маленькой девушки-администратора. Это дороги? Он… смертью… да, говорит она. Остальные обнимают, утешают ее. Сцена несколько затягивается. Мы подходим к катафалку. Да, там лежит Имре Томчани. Кровь в солнечном свете отливает нежно-алым. В кармане его пиджака две веточки с набухшими почками: одна тополиная, а другая осиновая. Мы нюхаем ароматные почки тополя и, взглянув на серебристые почки осины, глухо говорим: товарищ Томчани любил жизнь. У девчушки-администратора голос неприятный, резкий. Пусть он станет специалистом по вычислительной технике у Лайоша Кошшута в раю. Да, правильно, гудит бригада. Пусть он смотрит на нас оттуда, где занят заботами о народе. Если бы у меня было десять возлюбленных, восклицает она, ни одному из них не пожелала бы более прекрасной смерти. Давайте же споем. Ноги по стойке «смирно», руки по швам. Наша песня звенит.
Петровка, Петровка, хорошо по Волге на маленькой тройке лететь, ох, лететь, если снег валит, эх, Бродский, Чайковский, здесь жизнь вот таковская, три эти слова, дома хороши.По лицу секретаря комсомольской организации ручьями текут слезы. Это слезы радости и печали одновременно. Он высоко держит своего крохотного ребенка. Он тоже будет специалистом по вычислительной технике! Бекеши дрожит, его неверный голос начинает новый куплет.
Давно никуда не хожу, как Чехова, дома сижу, дома нам играет балалайка. А самовар кипит, кипит, и близко Чехова сидит, и звонкий чмок на левую губу. И если есть во мне немножко водки, эй, эй, ухнем. Из рук моих не выскользнуть красотке, эй, эй, ухнем. Не выйду и т. д.Маленькая девушка-администратор, к большому сожалению, не справляется со своим трауром. Она валится Миклошу в ноги. Слышны ее плач и всхлипы; как пошло. Товарищ Хорват пойди и скажи ей:
Плоть к плоти, Кровь к крови, Кость к кости Обратно прирасти.Мы бросаем взгляд на секретаря партии. Грустное его лицо не предвещает для нас ничего хорошего. Поверить не могу, гладит он плохонькие белокурые волосики.
Мы выполняем свою задачу, под давлением показателей. Мы собрались вместе на праздник. Возможно, есть потери, но предприятие наше получило прибыль. Наш голос решителен и придает решимости. Поздравляем вас, люди. Секретарь комсомольской организации жестко отвечает. Не с чем, золотую жилу мы еще не нашли. Люди соглашаются. Мы улыбаемся, однако не испытываем той радости, которую выказываем. Гм. Говорите, не нашли. Ну а мы говорим, черт с ним, с этим «чудо-исследованием». За это время вы нашли там, внутри, более ценное сокровище. Вы открыли в самих себе смелость, веру — вы стали венгерскими инженерами вычислительных машин нового типа, людьми будущего. Такие сокровища нужны нам, это самые ценные для нас сокровища, это наша настоящая золотая жила.
Наши люди, должным образом растрогавшись, смотрят на нас. Они стоят рядом и теперь берутся за руки. Единый коллектив. Мы удовлетворены. Вот ты какая, молодежь, говорим мы в безмятежной задумчивости. Залезаем во внутренний карман пиджака, достаем смятую бумажку. Ждем эффекта. Видите ли, это мы нашли в другом шкафу. Одно исследование. Эти люди не лыком шиты, они рассматривают, вертят бумагу, у некоторых возникают подозрения. Но секретарь комсомольской организации, следуя за нашим указательным пальцем, находит маленькое «подтверждение». Внизу листа стоит: 57-я страница.
Бекеши берет ее в руки, рассеянно и страстно мнет. Его смелое, переполненное страстью и победой лицо поверх холмов, трамвайной остановки, сквозь дым и тучи устремлено к дальним горизонтам. Хорошо, говорим мы, желаем вам приятно провести вечер, ешьте-пейте, паштет из косули, господа, паштет из косули, — и, надеемся, наш друг Томчани не даст себя в обиду в новой обстановке. Вместо катафалка появляется продавец сахарной ваты, над рабочим районом взмывают воздушные шары. Товарищи мужчины и женщины, жительницы Ракошлалоты! Мы не хотим видимых результатов и показной статистики, хотя и не утверждаем, что у нас такого не бывает, основу нашего успеха составляют суровые будни. Нам нужна молодежь! Смелые, готовые к действию юноши и девушки с крепкими кулаками, упругими мускулами. Пусть в их руках победно пощелкивает терминал, оружие специалиста по вычислительной технике, пусть они с тревогой и заботой склоняются над строкопечатной машиной, пусть своей воодушевленной, динамичной работой они без устали тянут за собой тяжкий груз воза информации, непрерывно бегущую перфорированную ленту.
Пусть наполняются папки, досье, пусть в каждый утолок нашей строящейся, крепнущей родины потоком идут данные, тысячи и тысячи тонн мирных резервов. Товарищи мужчины и женщины, жительницы Ракошпалоты! Сегодня во многих местах горит земля и жизнь лежит в руинах! Будем держаться вместе и не дадим разрушительному огню распространиться, устроим противопожарные рвы из любви и будем полагаться на то, что Господь потушит и этот пожар!
Снова начинается столпотворение, и мы демократично присоединяемся. (Форсируем демократию.) Кто-то поел бы жареного поросенка, кто-то грибы по-шведски и горошек под майонезом; кто-то и то и другое, мы же не голодны. Катятся украшенные лентами повозки, как птицы взлетают букеты цветов; трудно представить себе, что среди стоящей на повозке молодежи в джинсовой одежде есть и тот, из-под ножа которого хлынет кровь животного. Трудно. Хотя это так. Баранье, воловье, свиное мясо жарится на решетках и вертелах, и мясники в белых халатах вращают его.
Рядом с каруселью большая толчея. Мы просим Миклоша Чаки, квалифицированного сегедского рабочего, вытащить первый номер. Неподалеку от рулетки стоит пианино в бронированном чехле. Два экономических советника заняты делом, Джакомо с Беверли играют в четыре руки. Отвратительно. Мелодия искусственных цветов и ритм паучьего живота! Что где было? На пианино два больших серебряных подноса: на одном бутерброды — с салями, лососем, белым мясом, филе, икрой, сардинами, яйцами, ветчиной и маслом, — а на другом — пустые стаканы. Друг Беверли, высунувшись из мелодии, дает отчет о приеме квалифицированных рабочих. Все в порядке, они будут в шляпе. Спасибочки, спасибочки. Рабочий день у нас ненормированный, вот как.
С любопытством принюхиваемся к разным блюдам. Скворчит жир, подпрыгивают куски сала. С удовлетворением отмечаем, что маленькая порция гуляша — маленькая порция гуляша. Потому что зачастую маленькая-то она маленькая, а вот гуляш не совсем гуляш. Из окорочка — хоть и стоит он дороже всего — никогда не получится вкусный, питательный гуляш, если только на помощь срочно не придут жилистые, жирные, хрящеватые, костистые грудинка, голова и ножки, кусок сердца и предсердие 61.
Потому что на наших кухнях часто происходит злоупотребление приправами. В отдельные кастрюли с гуляшем кладется феноменальное62 количество лука. Феноменальное.
Вот оно, это мясо специально откормленной скотины, изобилующее тонкими прожилками жира, светло-красное, упругое на ощупь, которое перед поступлением в продажу не пожалели и подержали 5–6 дней на льду, чтобы, когда мы подцепим его на вилку и поднесем ко ртам оголодавших, оно было рыхлым.
Кто-то с большим энтузиазмом восклицает. Товарищ генеральный директор, что ты ешь? Такого ты точно не ел! Мы любезно проглатываем большой кусок: жаренная в сухарях курица, которую нам показали, венгерская парная, а не штирийская. Поскольку штирийская курица, приготовленная как жареный каплун по-штирийски, чудесна, чего нельзя сказать о жарке в сухарях: это лишь непрожаренная, кровянистая, жесткая и безвкусная пародия на оригинал. С удовольствием смеемся над шуткой: мы — интеллигенция, вышедшая из рабочих, а они — рабочие, вышедшие из рабочих. Мы полагаем, указываем мы на фазана, который, как известно, одна из самых глупых птиц, мы полагаем и будем озвучивать эту мысль на разнообразных общественных форумах, что было бы вкусовым заблуждением ждать разложения фазана: к этому сегодня склоняется даже самый рафинирований французский гурман (Маршо и др.); достаточно того, что фазан приобретет несколько более сильный запах (haut goût), a мясо на груди немного изменит цвет.
Кто-то бежит со стороны зеленых густых беседок. Его преследует громкий хохот. Над головой он держит рога застреленного на днях самца оленя. Эге-гей. Он кричит во всю глотку. И этого привязали к дереву для старого хуя! И этого привязали к дереву для старого хуя! Это, наверное, о нас. В нашем окружении многие напуганы тем, что теперь будет, а между палатками ржут перемазанные машинным маслом братья-рабочие. Мы ржем вместе с ними и все-таки подзываем главного шутника к себе. Дружески поглаживаем румяное рабочее лицо, стараясь не стучать перстнями с печаткой по своевольным скулам, я кровь от крови вашей!
На подвесном столике под яблоней открыта шкатулка красного дерева63, а в ней скрючилось несколько «Вирджиний» в печальном соседстве пары дешевых специальных сигар. Они не соответствуют требованиям. Мы, бывшие большими любителями «Вирджинии», пока нам позволяли доктора, теперь закуриваем слабую «Пуэрто-Рико» и начинаем светскую беседу с собравшимся полукругом обществом. Это трудное искусство. (Ваша матушка, не правда ли, была арабкой? Точно так, господин начальник, я мулат. Вы совершенно правы, уважаемый, продолжайте.) Но мы мудры. Забаррикадировались испытанными шаблонами и не позволяем выманить себя оттуда, как из неприступной крепости, как бы ни пытался нас подловить тот, с кем мы заводим разговор.
Мягкий, романтический свет, ласковое выражение нашего лица, дружеские клубы голубоватого дыма, который примешивается к цветочному аромату этого отрезка пространства, так сказать, заполняют ужасающую пустоту, протянувшуюся между нами и нами, так что беседа достаточно непринужденная, смелая; но это все же не то, что на следующий день будет воспроизведено в газетах. В головах рождаются цветистые комплименты, острые эпиграммы, мудрые политические сентенции — но задним числом! На самом же деле вопросы, но в основном ответы — не представляют интереса. Потому что мы проявляем осторожность.
Ну а если найдется такой, кто, придя в возбуждение от розового тумана, источаемого волшебной минутой, и поддавшись влиянию шутов, появляющихся из чудесных виноградных лоз Ноя, так ловко начинает наводить ответы на политическую или какую другую интересную тему, что дискуссии пора переходить в конкретную область, тогда мы перемещаемся от него к следующей фигуре, а с ним прерываем.
А-а, товарищ Брандхубер, перемещаемся мы за неимением лучшего к следующей фигуре. Видавший виды товарищ с чистой душой и прочной совестью, товарищ Брандхубер. Перегибы пятидесятых — за исключением нескольких случаев с летальным исходом — больше всего сказались на нем самом. Товарищ Брандхубер дрожит от такой чести. Полцарства за коня, бросаем мы небрежно. Персонал деловито суетится. Все, как один, упитанные, мускулистые, суровые старые слуги, подобранные по лицу и фигуре, под стать долговязым парням Фридриха.
Мы придаем голосу звучность. Наша эпоха — эпоха света и ясности. Сегодняшний венгерский руководитель с высот будущего может смотреть на сегодняшний день: повсюду он увидит свое новое величие и непобедимую силу. Тем более пламенная борьба должна начаться со всеми пережитками за это запланированное будущее. Тем более яростно нужно уничтожать заторы, желающие притормозить поток истории. Тем лучше ему следует знать, что настоящий хозяйственный руководитель не хранитель преданий прошлого, нет, он помогает подготовить свой народ к великим делам.
Свой народ, шепчет товарищ Брандхубер. В этой связи — по логике вещей! — нам приходят на ум некоторые делишки вышеупомянутого. Тянем его за ухо64.
Бучкаское вино приводит нас в хорошее расположение духа. Принимаем участие в красочном шествии. Прически, одежда сотрудниц администрации обвешаны серебряными монетами, и простые — народные — инструменты создают большой шум. Потом квартет Штефановича исполняет произведения в стиле полбит (современные песни), очень по-общественному. Штефанович — человек будущего. Вздрагивают шляпы с удивительно65 белыми полями, украшенные чудесными искусственными маргаритками. В природе ищем мы покоя, в вечной, неизменной природе. Куда ни бросишь взгляд, повсюду простираются огороды колхозников. Находятся такие кто жертвует ради них даже субботним выходным.
А это множество долголетних растений! Как неожиданно выглядывают из похожих на заячьи уши мохнатых листьев лиловые звезды анемонов бригады имени Луиса Бунюэля, победителя социалистического соревнования! Гладиолусы лиловыми аккордами сопровождают музыку белых колокольчиков подснежника; сонные воланы листьев папоротника высовываются из улитообразных завязей, и, как некое южное растение, из земли пробивается почка листа Шпаги Клеопатры величиной с кулак, — кто бы мог подумать, что это чудо природы рождено холодной Сибирью. Дороникулы издали кажутся натянутыми желтыми абажурами. Рядом с ними несут стражу золотые шарики купальниц. Кланяются японские колокольчики с изумительными раскрытыми чашечками, им отвечают акониты, полуприкрытые тенью.
Одну деталь пространства мы комбинируем с личностью: вот он, садовник. Он откашливается и неторопливо примеряется.
Мотыга в эту пору в особом почете, осторожно говорит он. Мотыга и молот, весело отвечаем мы. А теперь расскажите-ка, что у вас на душе. Ох, беда-то какая, товарищ генеральный директор, миленький.
Как родная меня мать провожала, так и вся моя родня набежала?66
Дело даже и не в этом, товарищ генеральный директор, а в сурепке. У нас рот растягивается до ушей. Предлагаем для борьбы с сурепкой мучнистой чрезвычайно простой, но теоретически глубоко обоснованный метод, вытекающий из признания сложного антагонизма между различными видами животных. Возьмите куриц. Курицы и так, наш указательный палец покачивается, как тростинка, и так едят сурепку мучнистую. Качая головой, мы позволяем благодарному садовнику поцеловать себе руку.
Люди, готовящие жаркое из свинины, машут мне от павильонов. Мы видим красную надпись:
Париж не изменился, Плас де Вож По-прежнему, скажу я вам, квадратна.На это мы, вызывая громкий смех, говорим: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Директор тира — смахивающий на итальянца товарищ, в майке. Он сидит на простом стуле и играет на трубе отбой. Он так играет, говорит кто-то, как человек, у которого нет Бога. Эти слова доводят дело до рукопашной, но ставок на них не делают. Там же мы можем наблюдать интересное соревнование. Соревнуются бриг, кол-ов. Только не останавливаться, только не останавливаться. У зазывалы красное лицо. Великое соревнование! За первое место награда — два отгула! Приглашаем вас попробовать! Не надо бояться! Вы что? Вы что готовите? Вы бы что приготовили?
Что бы вы приготовили на ужин руководителям партии и правительства, если бы они пришли к вам в гости?
Стоит большая толчея, многие пытают счастья, горьковато попахивает оливками, шампиньоны с артишоками перекатываются на бешамелевой основе. Только не останавливаться. Кт-то смел, тот и съел-л. Но. Обращаем внимание соревнующихся на то, что чувство юмора у Власти н-неустойчиво и непредсказуемо, поэтому, по возможности, избегайте фривольных шуток! Жарьте, парьте, но без шуток? Работы предостаточно! То есть в поисках ключа к победе не опирайтесь на — — — — — —[26] кухонные достижения!
Мы как раз обдумываем варианты, когда во дворе Байттрок игриво подходит к какой-то девушке, обхватывает ее за талию и начинает молодцевато и величаво «чин чинарем» отплясывать чардаш. Тотчас же начинается кутерьма, в которой кто-то получает от нас по яйцам. Мильпардон.
Мы знаком показываем Мэрилин Монро, что хотели бы снять ботинки. Нам подставляют походный стул, мы поднимаем одну ногу, Мэрилин сжимает ее своими упругими бедрами, берется за ботинок, привычка ускоряет процесс, мы, как уже веками заведено, крепко наподдаем ей другой ногой по заднице. Изящная маленькая женщина сидит на траве, оборванная, с нашей обувью на коленях. Спасибо, ангел наш.
Однако Мэрилин Монро подмигивает. Развлекаться с крановщицей, с Таней, вот что мы вынуждены делать. Таня своим обаянием и живыми, умными глазами завоевала симпатии не только друзей, но и врагов. Эта пылкая бабенка часто связывалась с начальниками отделов, токарями, инженерами, пастухами. Нередко поднятый колодезный журавль, выставленный в окно кувшин с молоком, повешенная на заборе копирка или нижняя юбка указывали на то, что путь свободен. Осторожный начальник отдела сначала шел к колодцу. Захотевший попить человек ни у кого не вызывает подозрений. Напиться обычно охотно дают всякому. Появлявшаяся в дверях с корзиной или веником бабенка подтверждала, что она одна. Направляясь в ее сторону, человек говорил товарищу: пойду попить вкусной водички на хутор к лахудре Тане. Тот же в таком случае лишь плутовато подмигивал одним глазом; не подмажешь, не поедешь! Лгунья с осиной талией!
Мы видим ее в тот момент, когда она перевозит на брезенте овес и время от времени прутом разгоняет дерущихся куриц-цесарок. Сколько вызова, сколько грации! Толпа раздевает ее жадно пьяными глазами. Раздаются аплодисменты и возгласы. Звучит музыка, трубят рожки — и женщины прекрасны только обнаженными! Как она умеет подрагивать, покачивать бедрами, Боже мой! Каждые мускул ее играет, щекоча мужские взоры. Высокая, прямая, как лилия, и все-таки с округлыми формами, как бы намалеванными живописцем. Талия у нее гнется, как у змеи, может быть, она даже шипит; грудь часто вздымается, так что чуть ли не дрожит приколотая между двух грудей гвоздика.
Но та недолго дрожит, она вытаскивает ее оттуда и кокетливо прикрепляет нам в петлицу. Потом, отпустив, шаловливо вертит бедрами, заигрывает, вертится колесом, в эти моменты ее широкая шелковая юбка, шелестя, создает такой вихрь, что задетый ею хмелеет, теряет голову; золотистые туфельки она подбрасывает в воздух, но они каким-то чудом, приземлившись, вновь надеваются на крошечные ножки.
Мы подводим ее к холодным закускам, а затем, собрав вокруг себя всех танцоров и танцовщиц, подаем знак квартету Штефановича и ведем склоняющуюся в «фарандоле» процессию к Тане. Себе берем трюфелей и филе. Обдумываем адский план. Трюфели уже сами по себе заслуживают того-другого-третьего, но для нас сейчас ценность представляют две вилки, положенные одна на другую. Видите, говорим мы крановщице, указывая на серебро, которое, если посмотреть оттуда, составляет тупой угол, отсюда — острый. Да, устало улыбается Таня, и вместе они составляют 180 градусов.
Мы продолжаем дело простой шуткой: целуем ей руку:
: она рада этому.
Члены наши каменеют67. Мы молодцы68.
Записки Э.[27]
Бадди Глас, конечно, просто псевдоним. Мое настоящее имя: майор Джордж Фидлинг Антиклимакс.
Сэлинджер: Сэймур: введениеОдним весенним «улыбчивым утром во вторник» Петер Эстерхази долго искал свои тренировочные штаны, затем немного раздраженным голосом сказал: «Не найти». Как для Эстерхази, так и для жены Эстерхази было ясно, этим он хочет сказать: «Куда ты их, черт побери, снова подевала?» — «Ты что, слепой?» — без обиняков, вопросом на вопрос ответила женщина. На следующий день Эстерхази парировал: «В доме незрячих короли одноглазы». Из этого отрезка жизни мастера выкристаллизовалось то самое первое знаменитое предложение, которое, по причине его представительности, привожу здесь еще раз: «Мы не находим слов». (Тешу себя надеждой на то, что мастер не упрекнет меня за смелость. Ведь уже бывало так, что лицо его выражало гнев, сам он рвал и метал, как если бы я и в самом деле «распотрошил» его роман, особенно здесь, «у всех на виду». Но я и это готов снести: его негодование в свой адрес.)
2 Вид прилежных усилий автора этих строк вызвал у него снисходительную улыбку. Теребя элегантный, широкий отворот своего шелкового писательского халата, он прогнусавил: «Что это за выдумки, mon ami?! Может, хватит уже?!» Но затем всплеснул в воздухе руками и хорошо так ответил: «Эх-х! Выдумки! У выдумок есть свои границы. Но сердце, которое стучит в нас, безгранично!» И мудро продолжил: «Все умные вещи придуманы до нас; теперь нужно просто попытаться придумать их заново». Он поднял свои большие проницательные глаза. «Что это может быть? Остатки яйца, друг мой, или клей?» (Почему: клей? Вот они, эти самые нюансы иррациональности, отличающие великих от нашего сословия.) С этими словами он продолжил что-то соскребать с чудесного шелка. Господин Чучу (который, по моему скромному мнению, был в тот день великолепен: как он «тонко» провел мяч возле 16-метровой!.. Обманных движений, как всегда, было больше чем достаточно… и все-таки!), а Либеро (это такая позиция) нетерпеливо убеждал его не молоть так много языком, а играть. «Знаете, друг мой, — сказал он, минимальным усилием устанавливая спичечный коробок на уродливом столе общественного заведения, — знаете, юмор здесь не то чтобы «саркастический», и не «gemütlich[28]«. Он щелкает по коробку. Мимо. А теперь, для того чтобы упомянутые выше лица предстали перед нами как на ладони, должен сообщить о разговоре, состоявшемся с неким господином Петером (см. рис. стр. 210), который состоялся в другое время. В ранний час. Мастер без предварительной договоренности пришел к господину Петеру; господин Петер производил впечатление человека очень сонного. Пили они отвратительный «Нескафе». Медленно завязывающийся разговор был прерван телефонным звонком. (Мастер очень любил неторопливость своих встреч с господином Петером.) На том конце провода кто-то хотел покончить с собой. Мастер прислушался: «Естественно, друг мой, что может быть естественней». Он изволил прийти в сильное волнение, чего нельзя было сказать о господине Петере, который отвечал с некоторой усталой привычностью. «Это продолжается уже три недели», — сказал он затем мастеру. Чуть позже, съев бутерброд с медаслом (слово мастера) и поболтав о некоторых «вещах», отдающих сплетнями, — господин Петер сказал о работе мастера следующее: «Немного мудрено». — «Я знаю. К сожалению, да, немного… Так получилось. Вваливаются клоуны, звучит музыка, детям дают подзатыльники, если они пищат, и появляется куча крендельщиков. Понимаешь?» — «Понимаю», — любезно кивнул господин Петер, в кивке которого угадывалось признание слова «мудрено», прозвучавшего ранее в отрицательном смысле.
Забавно, заметил я там, за вызывающим отвращение пивным столом. «О, да, о, да, — это он, быстро, — но у gemütlich есть свой философский привкус». Оля-ля, сказал бы душа более свободомыслящая, будь она на моем месте. «Чистая пятерка!» — воскликнул Эстерхази, который, таким образом, повел в счете, и, вследствие этого оживившись, продолжал: «Хорошо было бы, если бы все было клоунской шуткой. А знаете, друг мой, приходит минута, когда мы думаем: клоун — человек: и любим его. В этом весь секрет: клоун: клоун: и любим его». После того, как господин Ичи (который, по моему скромному мнению, был не на высоте, поскольку, хотя и было у него несколько классных защит, но эти пробежки!.. Ему еще повезло…) выкинул так наз. соленую десятку, и игра закончилась. «Конечно, с другой стороны, относительно этих пролистываний, назад, вперед итакдалее, их нужно представлять себе как маленькие тропинки, по которым мы, взявши за руку, ведем… ну, да… того, кто идет. Развилки, слияния тропинок, несколько муравейников, рев оленя вдалеке, и гомон купающихся девушек, и заводская сирена; мы обращаем внимание на пейзаж и обычно близко к сердцу принимаем судьбу вышедшего на прогулку. Стараемся, вот и все, что в наших силах». Так говорил он, как говорят люди, склонные жаждать человеческого общества. И в этом месте рассмеялся он. «И еще кое-что: количество сносок в книге. Об этом мы еще позаботимся». Он кивнул. «Но ведь любая теория сера, друг мой». Затем: «Угу, теория сера, друг мой, но обложка-то! Лиловая, как одеяния епископа!»
Мастер налил всем вина. Господин Ичи затряс головой, но у него тоже загорелись глаза. Господин Чучу взял в руки коробок. В связи с чем-то он сказал: «Где-то в это время я здорово выдал».
В этот момент вошел Габор Качох, секретарь заводской комсомольской организации, по девице с каждого бока. Широко улыбаясь, сказал: «Вот-вот: предатель», — и устроился у стола. Господин Чучу вскочил, сверкая глазами. Он был чрезвычайно взвинчен. «Сядь», — сказал господин Ичи. В воздухе повеяло холодом. А ведь сколько радости было в этом маленьком коллективе чуть раньше! (Они победили в отборочных соревнованиях. Кубок 1 Мая.)
Эстерхази дал этой внезапной перемене следующее объяснение: «Знаете, топ ami, этот секретарь комсомольской организации — слизняк. Проклятый вредитель, червяк, белладонна, белена, дешевый мелочный карьерист, для которого комсомол лишь средство, а вообще-то он липнет ко всем без разбора, и к девицамтоже». Учитывая неустойчивое душевное равновесие мастера (достояние и интересы нации!), я осмелился заметить, что деятельность Габора Качоха обеспечиваеткоманде финансовую базу, чем и мастер тоже пользуется. Он склонил голову: «Пользуюсь». А потом, как фурия: «Пусть вас это не беспокоит. Это характеризует не его, а меня. Это мое поражение. Я не гордый, — улыбнулся он, — кроме этого; я приму деньги даже от него, чтобы мы могли существовать». (Обувь, форма, прохладительные напитки и тому подобное.) «За деньги заранее сообщил вопросы викторины «Кто знает больше о Советском Союзе?», — неодобрительно прибавил он. Но ведь это в шутку. «Да, — сказал он серьезно, — и каждый отвечает за свои шутки как за свое лицо». Ах вот как! Здесь все же есть в чем усомниться. Как-то раз он стоял по эту сторону 16-метровой, и ничего не происходило, но об этом знали не все. «Знаете, друг мой, у каждой шестнадцатиметровой по эту сторону — это одновременно и по ту сторону. Но не у каждой, и на это настойчиво прошу обратить внимание, не у каждой шестнадцатиметровой по эту сторону — это и по ту сторону». Такие утверждения можно делать тысячами. «В самом деле? Ну и?» Судья приближался на всех парах. Мастер понизил голос, поглаживая небритый подбородок. «Знаете, это очень интересно. Все считают своей обязанностью рассказывать мне дурные шутки на плохую реакцию». Судья подошел ко мне. «Еще раз такое, — и он показал, что имеет в виду, — и можешь идти включать душ». — «Хорошо, хорошо», — как обычно, успокаивал он обладателя свистка, который — демонстрируя сходство со своими коллегами — никак не успокаивался.
«Как видно, вас успокоит только одна история», — произнес он. Хотел вывести секретаря комсомольской организации на чистую воду. Своим низким мягким голосом он начал рассказ:
«Я готовился совершить одну из своих длинных, печальных вечерних прогулок, всю вторую половину дня выл неприятный северный ветер, плакали оконные рамы, и я напрасно кутался в славный плед: с холоднойяростью ругал я Ичи (господина Ичи. — Э.), как только я его ни называл, ну зачем назначать матч на такое время. Но, будучи человеком дисциплинированным (какое заявление! какое прямолинейное заявление!), я, взяв мешок с формой, отправился в путь. Буду немногословен. На живописном повороте дороги Качох с кем-то перепихивался. Они меня не заметили, а я не чувствовал надобности здороваться. В тот момент, когда я проходил мимо, рука полезла под свитер, и я услышал: По мнению товарища Хорвата, мы с ними солидарны. А сам ее лапает. Придя в сильное волнение, воскликнул он: «Везде это сраное притворство! Сплошная гребаная проповедь!» Но на этом запал иссяк. С глубокой горечью он сказал: «Я что, теперь вынужден буду все выслушивать? Неужели я так завишу от обстоятельств? От собственных капризов и прихотей?»
3 Эстерхази размашистым — «певучим» — как утверждает о нем молва — шагом поспешно сбежал по ступенькам. Перед домом свою дневную работу завершал расклейщик плакатов. Мастер никогда не упускал случая, когда сталкивался с «красочной» действительностью. («Подобно королю Матяшу», — как он говорит. Ах, какая это тонкая самоирония над. знаменитым профилем!) Так же, как за свою короткую, но шумную и бурную жизнь он часто говорил: «Доброе утро!» О-ла! Кто бы мог такое представить! Такую деловитость и проч. И что характерно, «мир настолько играет на руку» мастеру (это одна из его любимых мыслей), что даже… Конечно, вы уже догадались. Рабочий снова отвернулся и чуть отошел в сторону, благодаря чему плакат открылся для обозрения. Мастера поразила игра пропорций. На плакате в несколько увеличенном виде была изображена фигура Луиса Бунюэля — потому что на плакате была фигура Луиса Бунюэля. Где-то пять к четырем… Жуть. Все увеличено как раз настолько, чтобы человек ни о чем не догадался; все может даже показаться всамделишным. Отпад. Мастера действительность озадачила; несколькими ненадуманными словами он похвалил работу рабочего, а потом, задумчиво болтая мешком с формой, пошел (двинулся) к автобусной остановке.
4 — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 «Видите ли, друг мой, предложение это, — мною созданное! — похоже на радугу. Удивительно двухцветное». У радуги не два цвета. Это т. н. художественное преувеличение, которое, как мы видим, часто проявляется в форме преуменьшения.
Чуточку забегу вперед во времени, которое протекает мимо нас, так надо; но, может быть, я от этого не стану еще «модернистом», и, может, смогу избежать опасностей современной моды. Потому как уж очень бы не хотелось, чтобы мне приписывали некую игривость, несерьезность — это самому-то Эстерхази! — по отношению к предмету (см. ниже)… Из двух мужчин, позвонивших как-то летним вечером в дверь мастера, симпатию вызывал только один, седеющий и худой. Когда они представлялись, то мастер, услышав его имя, почтительно кивнул (однако симпатия возникла еще до того!). «Как же. Слышал, как же». Жена мастера, чудесная мадам Гитти, приняла их подозрительно и спросила, не хотят ли они кофе. «Если вас не затруднит, мое почтение», — сказал менее симпатичный. Когда женщина входила в комнату с двумя чашками кофе, седовласый как раз говорил: «И не забывайте, Петерке, по линии политики мы все, все можем устроить». На слове «по линии» он сделал ладонью полукруглое движение вперед, как бы разрезая хлеб. («Ну друг мой. Вы знаете, как это показывают: там, на Западе. Ну, вот. Это то же самое, только в вертикальной проекции». Надо было видеть, как он сидит над своими записями, задумавшись, чуть ли не в течение получаса, и беззвучно жестикулирует, как потом, засомневавшись в себе — утратив спонтанное вдохновение, — бежит, весь взъерошенный, к своей верной подруге спрашивать, как бы она показала: там, на Западе. Но ответом он остался совершенно недоволен: мадам Гитти ткнула большим пальцем за спину, как если бы голосовала на шоссе. Пиф-паф, ой-е-ей ему, выражаясь словами Донго Митича.) «По линии политики», — кивнул мастер. «А вот и кофе, мое почтение», — прогудел второй. Вскоре после этого посетители удалились. Фрау Гитти стала раздраженно наводить порядок. «Все истоптали. Рожки да ножки остались от стола». Вдруг она взвизгнула: «Смотри, вон след от его языка на стенке чашки!» — «Не привередничай», — хладнокровно ответил мужчина и долго еще сидел почти без движения, скрючившись, в своем огромном кресле (которое жена купила в комиссионке за сорок форинтов) и задумчиво облизывал пораненную руку».
Меня чрезвычайно утомляет тот факт, что мы вот так, с пятого на десятое, мечемся во времени взад и вперед, подобно беспокойному пауку, среди поблескивающих черепков разных историй. Моим главным оправданием является он. Ему служу я всей душой своей и, какими ни на есть, помыслами. Я не испытываю иллюзий относительно своих достоинств, каковые заключаются в прилежании и своей ограниченности, которая безгранична, и, наверное, даже читателя моя смиренная манера не обманет: и я, как мазила читатель («Мазила, мазила, мазила…» — тысячу раз говорил мастер капитану Андрашу, «длинному, как каланча»), то есть, по-моему, к завершенности мы относимся одинаково; мы еще помним, когда истории в начале (более того: в своем начале!) начинались, а в конце заканчивались — ой, а в середине-то! Но не будем об этом! Сначала мы видели середину чего-то, значит, теперь подберу ему начало. Что это за мир, Боже, Боже мой! «Друг мой, форму требуется так же переваривать, как и материал, более того, переваривается она с большим трудом», — глубокомысленно отрыгнул бы он и с благодарностью произнес: «Гиттушка, чудо, а не чечевица. Неподражаемо», — поскольку все происходило бы за обедом, мне хорошо известно. «И еще кое-что, — отваливается он от стола, где недавно картину составляла горка чечевицы с шейками на блюде, — друг мой, не забудьте, что ущерб за путаницу, проблемы с пониманием, возмещаю читателю я то дерзостью молодости, то скороспелой мудростью, то легкомысленными представлениями о жизни. Есть еще немножко чечевицы? Капелька?!» — «Плетенка с яблоками», — тривиально ответила бы женщина.
(Не буду распространяться здесь и сейчас об опасениях, возникающих у меня при изложении — или замалчивании — некоторых фактов. Дело в том, что факел истины таких ужасающих размеров, что все мы стремимся прошмыгнуть мимо него, прижмурив глаза, страшась уже при одной мысли, что обожжемся. Но ведь… Человек никогда не согласится с тем, насколько его природа антропоморфна.) Соберемся с силами внизу спуска, угол наклона которого — горестная картина, увы, — сам мастер. Господин Ичи сурово и с любовью смотрел на его смертельно бледное лицо. Он изволил сильно покачнуться, обе руки на спасительной прохладе кафеля. «Видишь, старик, — сказал он с той задумчивостью эстета, которая характерна для него даже в суровые времена (а время было суровое, на следующий день после утра «улыбчивого вторника» как на общественном, так и на профессиональном уровне полуфинал проигран, если точнее, со счетом 8:1, то есть выигран, но не в том соотношении, а мастер, мягко говоря, в растрепанных чувствах), — видишь, как классно пенится». Одну руку он с кафеля убрал. Наверху — художественная фотография виадука в Веспреме: «Просто классно пенится. Как цветок какой-нибудь, пузырец обыкновенный». Господин Ичи, по всей вероятности, рассчитывал вызвать таким образом чувство вины у мастера; чтобы он подходил морально, а не эстетически. Но ведь он-то!.. Нам можно это знать. Ответ вратаря тоже не был лишен профессиональной предвзятости (арифметика), и если бы мастера так не развезло, то он наверняка бы клюнул на это. Однако в тот момент он был бледен. «Можно тебя попросить, — сдержанно сказал субъект с рефлексами тигра, — блевать центрально-симметрично?» К сожалению, это было критической точкой. Мастер непонимающе поднял взгляд: обиженно и беспомощно. Господин Ичи поспешил на помощь другу. «Извини, ты прав. Относительно сливного бачка, конечно».
Однако удалимся от пышно цветущей природы, хотя, уверен, он рассуждает так: существуют отдельные элементы, которые нас объединяют (нас — людей, в смысле), и задача искусства в том, чтобы их уловить. Эффектно. Но я-то подобной задачи не устанавливал. А кисловатый запах молока «второй свежести» (!) постепенно въедался в кожу и волосы. Чуть погодя команда сидит на спуске, рядом с полем, побежденная команда-победительница. Туман рассеялся, у солнца прибавилось сил, и все это: трава, поле и небо в комбинации своих цветов имело чрезвычайно здоровый вид. Так что господин Ичи склонился к густым волосам мастера — поскольку тот откинулся назад, подставив лицо солнцу, — и подмигнул. «Вот видишь, — с упреком, но в последний раз сказал он нападающему. — Хорошая публика». Мастер кивнул в подтверждение того, что девушек он тоже видит.
Правый Защитник, который из-за кучи детей, хорошего аппетита и воинственной жены часто становился мишенью, прервал исполнение (насвистывание) печального блюза. «Хороша публика, да не наша».
Жена у него была красивая, волосы длинные черные, и лицо как у «Мадонны, которую несколько месяцев морили голодом». Кожа белая, черты лица четкие, твердые. «Рот как щель». Как-то раз Центральный Нападающий, высокий богатырь с сильным ударом, после матча, естественно, предложил: «Давайте выпьем пива. Шнеци-друт, дай двушку». Правый Защитник, исследовав карманы, попросил два форинта у жены. Женщина щелкнула сумочкой, щелкнула кошельком для мелочи и передала мужу монетку в две единицы. «Хотя мне, пожалуй, «Тонику», — сказала она, все еще держа деньги на весу. Центральный Нападающий трясся от смеха, когда рассказывал это. (Отмечаю: сколько интерпретаций. Одно событие, один свидетель, рассказчик, пересказчик, хроникер, читатель. Говорить по этому поводу можно все: 1. У семи нянек дитя без глазу. 2. Ничего себе фильтрация. Как отпадает постепенно все наносное, чтобы засверкала суть подобно алмазу! Или чтобы даже и не засверкала. Как черешневая косточка. «Куда нам, право, до этого!») В общем, вернемся к трясущемуся от смеха Центральному Нападающему: «Надо было видеть лицо Шнеци: как он клянчил у нее, губы трубочкой. Тру-у-бочкой!..» Он вытер глаза. «А сам покраснел». — «Шнеци?! Не верю». — «Да правда это». — «Наверняка в шутку». — «Гадом буду». Мастер только качал головой и обстреливал глухую вселенную печальными мыслями об институте брака. «Знаете, друг мой, — продолжил он спступление на эту тему, — первый ребенок укаждого игрока линии нападения родился недоношенным. Хилый недоносок в четыре кило», — и лукаво подмигнул. «Так умеет подмигивать Йожеф Веверка», — сказал он как-то в другой раз. «Немного, хи-хи-хи, недоношенный, ты ведь понимаешь». Ужасно строгая мадам была, эта вырезанная из черного дерева Мадонна, но: «Петике, деньги она распределяет хорошо, а ведь мы не роскошествуем, а как готовит! Мамочки! Пожрать я очень люблю. Особенно мясо». В лице у этой женщины есть одна сердитая, горькая складка: начинается она там, где обычно заканчиваются усы, и идет вниз, до уровня губ, плавной дугой, упираясь концами в уголки рта. Мастер не часто встречался с этой женщиной, но чувствовал, что эта усталая злость адресована и ему. Мужчинам она адресована, мог бы сказать я, хорошо осведомленный о двойной морали, мужчинам, ибо раньше эта женщина… И я чуть слышно пролепетал то слово, которое в этом прекрасном новом мире означает давно исчезнувшую профессию, а ведь она является «древнейшей», «однойиз первых». «Неужели эта строгая мадонна была шлюхой?» — недоверчиво тряс он головой. (У мастера что на уме, то и на языке, в этом вы сможете потом убедиться.) Я заметил, что впоследствии, изредка встречая эту женщину, мастер окружал ее таким утонченным тактом, исключительной вежливостью и «материнской» любовью — что просто мурашки бежали по коже. Nicht mein Kaffe.[29]
Итак, Правый Защитник прервал печальный блюз, вернулся, так сказать, к товарищам по команде и сказал: «Не наша публика». Что, по большому счету, верно, потому что — за ничтожным исключением — публика принадлежит победителям. Вдруг они стали там совсем чужими, и мастер ощутил то же самое, что ощущал нечасто, но с тем большей горечью, а именно: зачем он сейчас здесь? Ведь он играет в футбол именно потому, что такой вопрос далее не возникает; тем больше проблем потом, когда он возникает. «Малейший повод…»
Чтобы время поскорее прошло, они оживляют в памяти наиболее волнующие моменты трагического матча (голы, несколько особенно красивых или дурацких ходов и т. д.). В такие моменты мастер узнает много интересного. «Удалили?» — ошеломленно восклицал он, и все еще заинтересованно. «В каком матче ты играл, голубчик?» — желчно спросил господин Чучу. Да: мастер со своей способностью сосредоточиваться живет одной только игрой, на второстепенные вещи он не обращает внимания. Он, конечно, заметит, если, например, образовалась брешь, потому что кого-то, например, удалили, — но это дело профессиональное. Я думаю, что эта игра, этот способ двигаться у него в крови. Он не разговаривает с приставленным к нему блокирующим, как не разговаривают с безжалостным убийцей, и нарочно почти никого не пинает. Со скромностью комментирует это так он: «Ума у меня на это не хватает. Не могу уследить и за тем, и за другим». Затем шутовское лицо освещает «былой задор». «Достаточно восторгов, вострогаясь, человек достаточно ошибается…» Уж пусть мир простит, но это все же… «Дружочек мой, следите лишь за текстом, так будет правильней… А что до выражения моего лица, так это для того, чтобы вы не считали меня полным тормозом… — Он ненадолго задумался, последствия приобрели более неприятный характер. — Даже не совсем так Я уже слишком давно играю в футбол, чтобы быть эстетом. Два очка — это два очка. Если вы меня понимаете». Эффектно. (Таким образом он отвел от себя подозрения в том, что является хомо эстетикус и сапиенс.)
«А за что удалили?» Он, конечно, не знал даже, о ком речь. «Парень послал Малу к такой-то матери». Мастер кивнул. «И за это его удалили?» — «За это». — «Бедолага». Затем, вслед за хаотичным движением мысли: «Ерунда. Мала все равно туда бы не пошел». — «Остроумно», — сдержанно сказал Правый Защитник — а ведь мастер — человек с университетским образованием, — и, повернув свою белокурую голову, продолжил печально-прекрасный блюз.
Нахохлившиеся птицы, сидели на жердочке они. К ним подошла добрая девушка с корзиной яблок; «Вы лучше всех». Яблоки хрустели у них на зубах. Девушка наблюдала за варварской трапезой — потому что так оно и было: по краям ртов стекал сок, и еще не наступало время следующего укуса, когда наступал сам следующий укус (цело, дело, дело!), рты набиты, — девушка в желтой майке наблюдала за ними, скрестив руки почти под самой грудью, на прожорливых детей, которые мимоходом подглядывают в щелочку за ней в душе. «Кто это?» — неделикатно спросил мастер. «Одна наша поклонница». — «Вечером дискотека», — прощебетала, уходя, дама с яблоками. Господин Чучу склонил свою импозантную, сухую голову. Мастеру очень нравилось в нем полное отсутствие нахальства, очень.
Они с трудом поднялись на разминку. Но нет. Не пошло. Стояли на тренировочном поле, лицом к главному полю (это не шутка: позади него высокая насыпь, на ней паровоз, который дымит и дымит, к негодованию спортивных фанатов; мастер и не видел его никогда в движении), на котором проходил финал. Правый Крайний заворчал. «Он обожает ворчать, друг мой». — «Кто на нас пойдет после финала». О, эти взгляды, бросаемые им в ту сторону! Он, как обычно, скреб подбородок. «Любители», — несправедливо заметил он, имея в виду участников финала.
В этот момент рядом с ним кто-то заговорил сдавленным голосом. Это был низкий, мужской голос, и по приглушенности ощущалось, что сдерживать его стоит больших усилий. «Как слон в посудной лавке, можете себе представить». — «Простите, вы Петер Эстерхази?» — «Да, я», — сказал он с простотой, свойственной великим. Мужчина (и говорить не стоит: чудес не бывает: низкий мужской голос исходит из мужской глотки, а эта мужская глотка соединялась с мужским горлом и так далее, безо всяких эксцессов) по-конспираторски посмотрел вперед, будто бы простой будто бы болельщик. «Простите, — его взгляд бегал туда, сюда, вниз, вверх и в стороны, «будто бы глазами он следил за пьянчужкой воробьем», — простите, нападающий Петер Эстерхази?» — «Ну, скажите, друг мой, вы всему находите объяснение, раскройте же секрет, зачем было спаивать этого несчастного воробья?! А?!» Меня заботит лишь одно: как провести такую выпивку по счетам? Вопросов множество, но звезды молчат.
«Ага, дружочек мой, вот в чем загвоздка! Достаточно малейшей невнимательности, которой было предостаточно в том, если можно так выразиться, шоковом состоянии, в которое мы погрузились в промежутке между двумя матчами, этого достаточно, чтобы у человека — каковым является он сам — цедил слова сквозь зубы, а внимание в ужасе было приковано к воробью. Да». — «Петерке, дорогой, успокойтесь, мы вас слушаем. Подробности позже». Когда мастер повернулся теперь уже всем своим существом, открытый, уязвимый, чтобы отчасти сердито, по причине нанесен? ного оскорбления, отчасти услужливо, по причине полученного воспитания, сказать: «Что-что?!» — то… то ему пришлось убедиться в том, что там никого нет; он резко повернулся, как прошедший огонь и воду учитель, но и там никого!.. «Ичи, Ичике!» — бежит он сломя голову к вратарю, чтобы прибегнуть к услугам его безупречного зрения. «Помните, друг мой, я был еще начинающим писателем, — тут он поправляет волосы, как популярная актриса Ханна Хонти, — и, неважно, в общем ехали мы из Трансильвании! Какие гонки мы устроили с «Аутобьянки»! А Ичи в это время следил, не едет ли навстречу телега с сеном. О Татрусе и говорить нечего». (См. рис. стр. 210.) «Ичике, радость моя, — сказал он, обращаясь к голове вратаря, без всякой радости следил за матчем: она (всегда) была такой, будто ее вытачали из камня или какого-то черного камня (конечно, мы имеем в виду не щетину; ситуация не настолько тривиальна), замечу, что такая голова есть еще у кое-кого: отца мастера, но это не черный камень, а белый камень, — Ичике, посмотри вон туда, что ты там видишь?» Господин Ичи с достоинством, как рублем подарил, посмотрел на мастера сверху: «Что?» В глазах у него светилось такое самоотречение и отчаянье, что нападающий испытал сильный стыд из-за того, что отвлекал его своими частными проблемами. «Извини». Затем, чтобы до премудрого вратаря дошло, добавил: «Меня взяли в кольцо».
Тройной — поспешный — свисток судьи завершил финал. Кто-то победил. Значительная часть зрителей направилась по домам или если не по домам даже, то прочь со стадиона. Они стояли на поле, противник бил по воротам, ускорялся, менял направление: проверял свои силы.
А что же поделывают наши хорошие знакомые? Они стояли в районе шестнадцатиметровой, кто по ту сторону, кто по эту, кто на линии, как обычно бывает при таком распределении ролей, стояли внутри, на поле, на игровой площадке, сбившись в кучу, взрывая ботинком землю или пиная ее носком, кто смотрел прямо перед собой, кто куда-то вдаль, как и прежде. Эге, но сейчас-то положение иное!!! Потому что одно дело — по ту сторону и другое — по эту! По ту сторону разрешается глазеть по сторонам, даже если испытываешь при этом такую горечь. (Мы знаем: это было так.) Но что будет здесь, сейчас! Судя по всему, ситуация не улучшалась. (Казнить нельзя помиловать и т. д.) Мастер — ни рыба ни мясо. Он видел, как же не видеть, приближающуюся беду; но средства против нее не нашел. «Знаете, друг мой, с философской точки зрения, дело в следующем: у нас из-под носа увели возможность встать в романтическую позу». Но-но-но. Я бы спросил, был бы ежели в такой ситуации, кто увел, когда и почему, и вообще, романтической ли позы нам не хватает больше всего? Но я не могу об этом спросить, ибо как же это возможно.
Эстерхази очень любит тот момент, когда они выходят на поле, направляясь кто куда, руки сцеплены за спиной или неловко, как плохо повязанный галстук, болтаются по бокам, и выглядят они такими несчастными, неловкими, что зрители не в силах сдержать своего смешанного с сочувствием и досадой «о». «О».
Как клоуны-музыканты, которые до поры до времени дают публике потешиться над собой, ловко заплетая ногами и делая самим себе подножки, они возмущенно шлепаются в стружку — до поры до времени. Но затем из оттопыренных карманов клетчатых штанов они достают инструменты и начинают играть так, что у всех на глаза наворачиваются слезы, и детям дают подзатыльники, если они осмеливаются пищать. Они очень любили это дешевое маленькое представление, прекрасно видя, конечно, что им слишком «в кайф» играть в футбол, чтобы быть в драных майках, да и ноги у них заметно кривоваты. Но ведь майки у них драные и ноги заметно кривоватые со времен сотворения мира. Вопрос, очевидно, встает таю миром ли является такой мир?! Однако зрелище было еще более жалким.
Он предпринимал жалкие попытки, и, о, как это поучительно, именно из этих никчемных потуг родилось решение. Ибо решение пришло, и было оно прекрасно. Чтобы начать готовиться к неизбежному событию (подумаешь: игра), он, как известно, сказал: «Какие новости? Защищаемся или нападаем?» Но как будто обращался к куклам: одно ковыряние в земле, взгляды, как будто еще… на эту сторону, на ту.
Кто-то пожалел их и подкатил мяч, предоставленный заботливыми организаторами; однако они им не воспользовались; мертвым грузом лежал он где-то посередине, как ржавый шар из кегельбана. Нет зрелища более удручающего, чем мяч, когда он… Но вот он сдвинулся с места. Добряк Правый Защитник небрежно покатил его дальше, прямо на мастера. И тогда тот, как испорченный граммофон, низким голосом произнес: «Наопаодаоем!» Можете себе представить? Как будто бы играло на 33 оборотах вместо 45.
И он, как цветная реклама кока-колы, помчался вперед. Этот smetterling,[30] этот smetterling! Мышцы у него были расслаблены, как у бабочки, — и, верный своему обещанию, он бросился в атаку; вот что удумал. Подтолкнул мяч, и одновременно с движением мяча раскрылись оба его крыла, медленно, торжественно, выше, выше, к небесам, где обитает один только Бог и ангелы (обитают). Его замедленная пантомима кое-что с этих небес принесла… Он вел мяч на господина Ичи размашистыми, сонными движениями и описанным выше манером, под стать замедленным движениям, крикнул: «Иэчиэкиэ, выходим на гол». Вратарь обернулся. Двое друзей столкнулись нос к носу! Ситуация повисла на волоске. Будь у мастера двойник, он бы бросился вратарю в ноги: «Голубчик ты мой. Слушай. Помоги. Я не могу один, один я ничего не могу». Но умница парень и без двойника уловил тему и, состроив гримасу отчаянья, медленно, как заводская труба, упал, как раз в противоположную от мастера сторону («купился на обманное движение»), он же повернулся, и по новой.
Крутилось замедленное кино. И тогда, это было значимое нововведение, Правый — почти в обход неписаных законов, которые касались добровольной приостановки, — бросился к нему, точнее, упал, выставив обе ноги. И так все по очереди: Второй Связующий, Либеро, Правый Крайний итакдалее; и тому подобное; и в самом конце господин Чучу, который необыкновенно точно умел заполнять жизненные пустоты (поэтому он занимает последнее место). И теперь своими длинными, грубо выражаясь, худыми, как спички, ногами он, как огромный, премудрый паук-крестовик, колдовал над мячом, крутил, почти выпускал, чтобы потом повернуть, развернуть и закрутить, «зафиндилить», а команда мастера с готовностью бросалась то вправо, то влево, как побитая градом пшеница. Зрители с удовольствием следили за представлением, достойным цирковой программы, и в тот момент, когда прозвучал призывный судейский свисток, грянули аплодисменты. (Оставшихся зрителей.) От этого настроение некоторых наших героев может испортиться, но скорости — которая теперь превратилась в свою противоположность, да еще какую. — они не сбавили; настолько, что мастер, исполняя обязанности капитана, с описанной выше заторможенностью протянул руку дляпожатия, а судья, который, вероятно, рассчитывал найти протянутую руку в определенном месте, схватил сначала воздух. «Пожал рукой воздух». Какой-то судья на линии рассмеялся; мастер испугался, что, наверное, настроил судью против себя; а тот, в свою очередь, был настолько сбит с толку этим эпизодом, что проныра-мастер мог бы без труда украсть у него монетку в два форинта, с помощью которой бросают жребий. «Хам», — произнес господин Чучу с непонятным мастеру раздражением.
Конечно, хеппи-энда просто так не бывает, и такой профессиональный недочет, как отсутствие разминки, даром пройти не может. «Слабаки совсем», — бросил мастер на бегу господину Чучу. Щекотливость ситуации заключалась в том, что за десять минут противник повел в счете: 3:0. Но никто особо не нервничал. Какое-то время это было хорошо, так как свидетельствовало о небезосновательной уверенности в собственных силах, но какое-то время (то же самое время) спустя это уже не было хорошо, так как обернулось расхлябанностью. «Вдарить нужно!» — как справедливо замечает господин Арман, а вот этого как раз и недоставало. Тогда мастер, повысив голос до крика, высказал замечание — дословно цитировать его не позволяет весь мой предыдущий опыт. Замечание носило критический характер; темой же была недостаточная сыгранность команды; в предложенном решении, в эдаком сюрреалистическом вихре, промелькнули родители Правого Крайнего, которым была отведена отрицательную роль. «Я был не прав. Такое можно сказать лишь тому, кого любишь». Тяжелый был случай. Правый Крайний воспринял обращение не так, как подобает человеку, занимающему уважаемый и ответственный пост. В кратком ответном слове мастер выступал в роли отсылаемого. Тот быстро попросил прощения («Мало того, мою мамочку!»), Правый Крайний простил. После чего они посвятили все свои силы процветанию команды — в чем заключена юмористическая сторона дела.
Они выиграли. На них повесили бронзовые медали; те висели на длинных красно-бело-зеленых лентах. Им хлопали. Господин Чучу стал самым результативным игроком, таким образом, фиаско уже не казалось фиаско.
Однако затем стемнело (день прошел). Господин Чучу и мастер отделились от остальных в каком-то узком переулке. Стояла тьма-тьмущая, на заднем плане растущие, как грибы, дома. «Что до меня, то сегодня я ставлю на нас», — нарушил молчание господин Чучу. Мастер не его нарушил. «Обычно-то мы такие уроды», — продолжил второй нападающий в то время, когда его красивое лицо оказалось в дрожащем, то и дело колеблющемся свете древнего фонаря. Как нимб… «Точно», — задумчиво согласился он. Они приблизились к необъятным колоссам зданий. «Убожество», — брезгливо, что вообще-то было для него характерно, сказал господин Чучу. Мастер начал угрожающе подмигивать. В качестве цели он избрал окна нижних этажей. «Да уж, это что-то… Но успокаивает то, что в некоторые окна можно просто подсмотреть». Он издал смешок. Господин Чучу вновь слился с темнотой. В одной из взятых под наблюдение квартир ужинала семья. Отец и долговязый подросток сидели, мать вносила большую суповую миску. «Такая миска с куриным супом Уйхази…» Женщина была блондинкой. Вслед за ней вошла точно такая же женщина. Ну в точности такая же. Мужчина вскочил. Сказал что-то со злостью или волнением, Мать поставила суп. Вторая женщина улыбнулась подростку, (на что) тот неохотно задвинул занавеску. «Вуаля», — устало поклонился мастер.
6 Однажды, в первой половине дня, мастер прискакал верхом к господину Банга, искусному иллюстратору (см. рис. на с. 210). Оживленное движение по проспекту короля Лайоша Великого задержало мастера на пути к цели, но в конце концов цели: господина Банга — он достиг. Они с трудом нашли общий язык по какому-то типографскому вопросу. Мастер сказал господину Банга, что следует двигаться в сторону наименьшего сопротивления. Господин Банга, вероятно, подумал, что мастер шутит, и ответил, что (им двоим) следует разменять талант на мелкую монету. Мастер поступил как человек, который считает, что господин Банга шутит, и печально сказал: «Насколько мелкую?» (Мастеру явился призрак цвета, лилового, как одеяния епископа. «Пусть обложка будет лиловая, как одеяния епископа», — сказал он с простотой Пирра, и после этого они с господином Банга зарылись с головой в ворох воспоминаний; их в основном интересовали те времена, когда они мальчишками прислуг живили на похоронах священнику — «нередко и по двадцатке выходило!» — чтобы припомнить цвета. Пока до него не дошло, что на кладбище тогда был не епископ. «Балда ты». Во всяком случае, сердца книжных специалистов они не завоевали. «Потом все утрясется».)
Он залпом выпил чашку знаменитого кофе господина Банта, отдав дань уважения прикрепленному к стене произведению искусства, сделанному из лимонов, которые жена господина Банга кушала во время родов (витамин C!) и которые были «великолепны и трагичны, как иссушенные младенцем женские груди», бегом осмотрел люстру из берцовой кости («шутка»), а потом: крэкс-пэкс-фэкс, и вот он уже стоит возле своего верного скакуна. Лошадь — ибо скакун был именно ею! — представляла собой образчик превосходной орловской породы, статное, великолепное животное. Окрас у него характерный — дымчатый; узкий круп. Сильная грудина и крепкая кость сразу бросаются знатоку в глаза. Даже если ест солому, то все равно остается в хорошей форме, хорошо усваивая корм; прекрасно зарекомендовал себя не только на скачках, но и при перевозке грузов.
Вот за что он любил лошадей этой породы.
Куча позади лошади с идущим от нее паром свидетельствует о том, сколько прошло времени. Кто-то (какой-то прохожий) завел об этом речь. Он без лишних слов плюхнулся в седло и, выпрямив спину, ускакал прочь. (Сколько раз он уже ощущал этот спазм в желудке, когда, выйдя из ворот своего института, в котором является интеллигентом с гарантированным рабочим местом за две тысячи семьсот в месяц, он видит крышку капота, чуть ли не обваливающуюся под «сладким грузом», и если к тому же шел дождь: то по слегка покатой поверхности желтыми струями что-то стекало, сама куча уже размокла до состояния каши, несколько кусков отделилось от основной массы и стекало вниз; на заднем плане — беспардонно «счастливая» морда ржащей лошади, — и если в такой момент кто-то в накрашенном виде подходит к нему и говорит: «Петер, пожалуйста, пойдемте. У меня есть зонт. Вы можете понести его до площади Маркса», — то он, с испугом взглянув в это лицо, продолжает стоять!)
Въезжая на мост, он был мучим проблемой. Поскольку приближение к мосту всегда связано с проблемой: в какой ряд человеку, точнее, мастеру пристроиться. Поскольку хоть и справедливо то, что внешний ряд быстрее в конце, а внутренний быстрее в начале, но где — каждый Божий день — начинается начало конца, и где заканчивается конец начала; и если заканчивается конец начала внутреннего ряда, там ли начинается начало конца внешнего ряда, а может быть, шучу, конечно, начало середины там, где с незапамятных времен то ли раскорячился, то ли нет автобус гармошкой. Как это непросто.
Мастер выбрал внешний ряд ради хеппи-энда. «В такие моменты я очень жалею, мой друг, что нет поблизости мухи — на крупе у лошади или еще где-нибудь, — я бы муху одним махом убил». Он часто похвалялся мастерством мухолова, которому обучился в детстве, во время одного из своих визитов в деревню. Как-то раз он с удовольствием живописал английской королеве, как в другой раз он поймал пятьдесят четыре мухи. «Знаете, ваше величество, — сказал королеве Эстерхази; они даже приходились друг другу седьмой водой на киселе, — в этом деле надо запомнить две вещи. Первое: нельзя хлопать». Королева недоверчиво глядела на него. «Бить. Ни в коем случае. Тогда все коту под хвост, ваше величество, ведь уже самим движением воздуха, произведенным ладонью, муху относит; происходит перемещение мухи. Тогда, — тут лицо мастера приобрело строгое выражение, — охотник сам освобождает свою жертву». Королева любезно кивнула, одобрив таким образом сказанное. «И все это пропорционально площади, поэтому безнадежно. Муху надо ловить мягко, от кисти, как бы между прочим подзывая ее. Иди сюда, голубушка, иди». Королева смотрела на мастера. «Идьи, сьюда, голубушка, идьи?» — «Да-да», — сильно обрадовавшись захлопал он в ладоши. «Ты бы лучше тоже повторил, — сказала Елизавета, покраснев, наследнику трона, — нечего тебе здесь хныкать!» — потому что он хныкал.
На мосту его с непривычной осторожностью обогнал черный «мерседес». Мастер одной рукой взялся за поводья, а другой придерживал плохо прикрепленный к седельной луке портфель. Он увидел, что в машине сидит Янош Кадар. Пришпорил со звоном своего орловского чудо-жеребца и, пристроившись рядом, сделал вид, что хочет поправить действительно опасно торчащий из портфеля порнографический журнал («Умелые руки проституток Гонконга»; «Как повысить интерес к сексу у вашей жены? Под светом лампы сладострастия»; «Немного испорченные девушки»; «Оргазм отсутствует на восемьдесят процентов»), наклонился, лицо ему щекотали волоски гривы; заглянул в машину, но в машине сидел не Янош Кадар. Мастер не почувствовал печали, поскольку не было из-за чего.
7 Мой дорогой Петер!
Спасибо большое за недавнее любезное поздравление. Очень мило с вашей стороны, Петер, было вспомнить обо мне. Ни один мой день рождения, можно сказать, не был так торжественно обставлен, как нынешний, семьдесят пятый. Хоровой кружок приурочил его к милому пасхальному вечеру. Столы, убранные цветами и свечами, были заставлены калачами и напитками. В мою честь хор изволил спеть мою любимую песню, а затем все стали по очереди поздравлять, кто целовать — некоторые даже обнимать. Отдельно я получила в подарок бутылку шампанского со спрятанной у горлышка открыткой и большим букетом цветов! Меня даже сфотографировали. Отдельно поздравили государственный секретарь из министерства, главный ишпан комитата (Landsrat) и Местный Губернатор» Хотела бы я, чтобы это видела моя семья им бы было чему поучиться. Но я теперь совсем одна если и есть у меня кто-то, так это вы, дорогой Петер.
Но и вас здесь нет. Гостей же море. Этот Рубинштейн обещал прийти вечером и сыграть на досуге Рахманинова. Но играл этюды Шопена и, можно сказать, фальшивил. Кроме того, съел все мои бутерброды. Какая удача, что недостатка в них не было, можете себе представить, дорогой Петер. Видите, видите, старею и становлюсь все более раздражительной. С меня слетают слои доброты и терпения, я превращаюсь в тощую старуху.
Передайте от меня привет вашему отцу. Он бы тоже мог написать разок, не все только ваша добрая мама.
Целую и обнимаю вас,
ваша старая Йоланка.P. S. Посылаю вам это интересное семейное древо. У «Любезного родича» сейчас большие проблемы из-за многочисленных забастовщиков. Кстати, у меня обедал этот ваш (или наш? Видите, видите…) великий поэт. Явился в клетчатом пиджаке а-ля Эстерхази и галстуке цвета спелого мака. Может, чтобы меня позлить? Или посчитал это революционным? Он хороший собеседник.
Й.8 Дорогой Петер!
Спасибо за уморительный отчет о Футбольной Гулянке — я не говорю, что и дальше в том же духе. Меня он жутко развеселил. Здесь есть один Агшоньи, он так гордится своим оленем с рогами восемнадцатого размера. Нутрий больше нет, разбежались; но в озере плавает много диких уток Пес Агон еще есть в природе, он ужасно толстый и любит полаять.
Напишите, прислать ли эстрагона. Высушить или зеленого? Ведь ваша милая мама обычно хранила его в засоленном виде, а я в засушенном.
Ну, теперь обнимаю вас, драгоценный мой Петер, и жду вестей.
Большой привет вашей дорогой семье.
Йоланка.P. S. Пожалуйста, не перепутайте адрес. Не 1010, а 1100 и 2ДН, а не 2/TV. Посылаю вам следующее высказывание.
Пометка на стену возле письменного стола.
Пишите индекс правильно!
Облегчите работу почтальонов!
Из-за неточно написанного адреса корреспонденция теряется!
Так происходит во всем мире!
9 «Не переживайте, mon ami, в этом есть грамматическая прелесть, и все тут. И вообще, что вы без конца прячетесь за разными вещами?! Знаете, лапуля, самое главное, наверное: признать, что всякий факт — это уже теория… Чего нам искать за событиями, они уже сами по себе являются выводом. Так что не мельтешите».
10 «Знаете, друг мой, весенний сезон весь был осовелый. Осовелый-пофигелый. Мы то выигрывали, то проигрывали». Да: ставки падали; поражение вызывало недолгую грусть, победа — такую же радость. «Знаете, друг мой, это еще в порядке вещей. Только вот ком в горле, его не хватает…» (Я хорошо помню тот день — тот позорный день, каким он обернулся, — когда он стоял, опершись локтями на забор, перед матчем, зрители уже собирались, играла запаска, и его то и дело спрашивали: «Петике, выиграете?» — «Не могу делать заявлений для общественности», — шутливо и небрежно отвечал он; все на всех надеялись; взглянув в лицо болтающегося без дела, ковыряющего жесткую железную трубу господина Чучу и обнаружив там такое же напряжение, как и у себя самого, мягко произнес: «Чучука, скажи, тебе здесь так же давит, как и мне?!» — и показал куда-то между сердцем и ложечкой. Господин Чучу тихонько рассмеялся, тихонько.)
Ситуация была следующая: солнце уже припекало, свет бил в глаза, как полотенце, («Вот, mon ami, о чем можно было бы поговорить, о полотенцах, непромокаемых и куцых кусочках материи». — «Произошло впитывание», — говорит Либеро, тяжело ворочая языком), ветры не дули, но поток воздуха был прохладным, бодрым, свежим: можно было вдарить. Стороннему наблюдателю могло показаться: незачем. Они ни вылетят, ни продвинутся вперед. «Вы молодцы», — говорили им болельщики и спрашивали друг у друга: «Коллега, у вас не найдется семечек?» — «Только жевательная конфета». — «Годится. Хорошо еще, что не карамель. Она полностью прилипает к зубам».
Даже если мастеру и не хватало кома в горле, он все-таки с большим энтузиазмом бросился в атаку. «За дело», — как он говорит, подавая сигнал… — несмотря на то, что несомненно осознает общественную пользу своей деятельности вне футбола. «К чему этот фейерверк, приятель. А вообще: знаете, друг мой, эдакий типичный ничейный матч. Такой можно легко выиграть или проиграть». Но это суетливое отсутствие ставок никогда не вызывало в нем безразличия; или если так случалось — ведь кто знает, что происходит во тьме интимных извилин сердца и души, — он сопротивлялся.
Солнце, значит, светило, ветер, значит, не дул. И когда сошел он с электрички — церемонно расшаркиваясь, что так злит других; «и знаете, друг мой, если бы я был другим, то я бы точно так же», — опустил голову и, легко освоившись с возникшей таким образом узкой перспективой обзора — что за гротеск, если принять во внимание его вклад в дело мирового сообщества! — поспешил прямо на стадион, на тренировку. (Что означало освоиться с узкой перспективой обзора? Это означало неровности почвы, знакомые бугорки, кочки, лужи, вы- и засохшие отпечатки подошв, особенно рубчатых, означало деревья, надписи на них, расширяющуюся панораму, мелькающую, если поднять взгляд выше, означала звуки: школа, детский сад, визжащая толстуха, сразу же вслед за ней истеричная молодая мамаша и мужчина с точильным станком, на вид спокойный и ее муж. Итакдалее. «Нескладная, друг мой, геометрия краешка человеческого глаза. Вторично, но навеки». Мастер — примерный патриот.)
Неужели Эстерхази склонил голову ради чистого искусства? Отнюдь. Исключительно из практических соображений. Но не буду говорить загадками: некоторая близорукость мастера часто давала пишу непродолжительному гневу. Свободно блуждающему взгляду при виде вскинутой руки все-таки нелегко установить: что это — этот взмах — приветствие ли, и если приветствие, то к кому обращено. Дорога от станции электрички до стадиона являлась той частью мироздания, где такая опасность существует; после той или иной победы, поражения или ничьей приоткрывается та или иная калитка, а в ней кто-нибудь стоит — для мастера все одно, — хоть картина Ренуара, ж он не знает, как себя вести. Это может быть неизвестный поклонник, но может быть и господин Пек собственной персоной, самый упорный из болельщиков («Друг мой, Центр Пека! Еще ни разу не слышали? Центр Пека?»), который присутствует на каждом матче (его зачастую приходится выводить со стадиона; в такие моменты игроки, и мастер тоже, злятся на него), перед схваткой, которая обещает быть трудной.
Он сулит награду в виде пива, о чем ему потом надо деликатно напоминать, мудрый старик с хитрой улыбкой уклоняется, обещая пойти ва-банк на следующем. судьбоносном матче; это может быть отзывчивый господин Холубка, который долгое время снабжал мастера бесплатными семечками после воплощения им образа реликого или пользующегося славой великого футболиста, однако по достижении господином Дьердем, а затем и господином Марци (также чистокровные Эстерхазики) вершин спортивной карьеры семечное право перешло к этим братьям, и хотя они, частью по доброте душевной, частью оттого, что семечки были горькими, не скупилися раздавати бесплатное добро, вкус у них все-таки был не тот (за пределами всеобщей — сливающей прошлое с настоящим — горечи), — в общем, это может быть кто угодно, уверяющий таким далеким жестом мастера в своих добрых или дурных намерениях, а он, бедняга, будет только щуриться как идиот. Уж простите.
Но на этот раз ему повезло. Пока он добрался до угла, рядом с ним уже шагала целая линия нападения! Да-да. Угол, конечно, примечателен не этим. Здесь старая тетя Беньямин Малатински и в дождь и в снег продавала семечки тыквы и подсолнуха. Маленький огненно-черный Правый Крайний сплевывал шелуху. «Ребята, ребята!» Его голос дрожал от волнения. («В который раз, Господи правый, в который раз!») «Ребята, такого быть не может, Беньямин — мужское имя». Господин Чучу, подняв лицо к небу, характерно рассмеялся (что приблизительно можно передать так: хи-хи-хи; но соль в том, что воздух при этом вдыхаешь, а не выдыхаешь!), о каковом смехе никогда нельзя было сказать, к чему он относится; известно было только, что в душе нападающего что-то отреагировало на что-то, что-то, что могут увидеть все, и эта новая вещь неотразимо забавна. «Знаете, друг мой, смех этот заставляет задуматься и плодотворно будоражит». Господин же Чучу, в свою очередь, произнес: «Тяжелый случай».
Лучший Запасной скептически тряс кудряшками. Последнее время сделало его более человечным, «на ремне появились лишние дырочки»; он заключил мир с миром — и это проявилось не только в том, что он растолстел, но и в том, что прекратил свою интриганскую деятельность. Мастер с интересом отметил эти отрицательные и положительные изменения. «Жена у него красивая». (Unter uns gesagt:[31] У кого жена не красивая. «Но все-таки. Это у которой взгляд как у лягушки». -???) Старые времена! Когда тренер очередного противника обращал на него особое внимание: «Вон тот, кудрявый. Быстрый, жесткий, здорово обманывает. Ты блокируешь, Большая Смерть». — «А потом этот тип, друг мой, что и говорить, в субботу вечером весь извертится в постели, вскочит из-под бока своей тощей жены, выглянет в окно. Окно новостройки. Их снесли, а взамен дали это, да еще шестьдесят тысяч, на которые он купил «Москвич», но его, по сути дела, облапошили, и деньги улетучились». Он выглядывает в окно. Внизу пьяные колотят по крышкам мусорных баков. Он готовится как настоящий спортсмен. Он — Задний Защитник, который будет блокировать (нынешнего) Лучшего Запасного. Не сказать, чтобы он вел такой образ жизни (нужно видеть теснящиеся на его лице бугры и вмятины), но в субботу он готовится. Что ты делаешь, заспанно спрашивает худосочная жена. Боже мой, думает совестливый Задний Защитник, это нигде, ни за одно место не ущипнешь. Теперь уж никогда не ухватишь. «Перед его мысленным взором, mon ami, проходят его женщины, которые у него были». Но задуманное красочное шествие, с белокурой продавщицей из табачной лавки впереди и очень толстой, но крепкой посудомойкой сзади, не приносит радости. Между женщинами все время пролезает Лучший Запасной, обманным движением опрокидывает Продавщицу, и она лежит на земле, волосы разметались безжизненно, как старый веер, сквозь них просвечивает пыльная, маслянистая дорога, мало того, волосы прилипают к ней, пропитываются машинным маслом; она смеется, Лучший Запасной сбавляет темп, лениво подрезает мяч, как это… м-м… умеют лишь немногие, мяч вкатывается между грудями хохочущей продавщицы, Лучший Запасной ставит ногу на мяч, он тоже смеется. Ну что, Большая Смерть. Старый ты. Задний защитник не шевелится, нападающий, шаркнув по бедру посудомойки, уже мчится дальше, когда он наконец очухивается и начинает отчаянно махать руками. Аут! Метровый аут! Что же он не свистит! Стоя перед окном, он говорит: каналья! Женщина в постели поднимается на локтях: «Ложись или иди к своим проклятым дружкам, но не стой там, черт тебя возьми. Дай поспать». Все это он просто виртуозно выдумал. Но изумительно. (Что до меня, то есть фактов и данных, — это еще встретится в связи с мастером и Задним Защитником. «Друг мой: объективность данных — это смешно. Данные, кому знать, как не мне, этим я зарабатываю на хлеб, данные — это то, с помощью чего мы хотим что-то проделать во имя поставленной нами цели. Сведения по организации III–IV номера за 1972 г.». Вот, пожалуйста. Пиф-паф, ой-е-ей; с горки на горку.)
В наши дни упомянутый игрок защиты уже может почивать спокойно, Лучший Запасной ест горький хлеб запасных, и очень умеренна «Браво, mon ami, ваши слова достойны своего вознаграждения». Он с ураганной скоростью вращал писательской тростью для прогулок. «Расскажу один случай, он поучителен. Моя двухлетняя дочь на все говорит: глупый. Например: папка глупый. Тогда я ей сказал: не глупый — голубок. Чтобы она говорила не так, а эдак. Усложнил, таким образом, задачу. За этим последовал комедийный эпизод, много времени на него тратить не стоит. Папка не глупый, он голубок. Что не сократило количество употребления слова «глупый». Я ей говорю: да и не голубок вообще, а милый, и потираю руки. С гордостью жду. Папка милый, сказала моя дочь; и улыбка застыла у меня на лице Потому что по ней, по тому, как подрагивают ее губы, по всему, я вижу, что она побаивается, — папка, не надо бить Дору, нет, нет! — я увидел, что милый означало всего лишь: глупый. Чего и следовало ожидать с самого начала. В общем, я дал отбой, глупый снова стал глупым итакдалее. Поэтому на сегодняшний день я уже с некоторой радостью слышу: папка глупый, и после краткого примеривания к себе, во время которого я поверхностно обдумываю заявление дочери, защищаюсь до потери пульса. Казмер Митович, говорю, значит, я ей, я не глупый. Нет и нет». Ничего себе история. А игрок защиты может спокойно почивать, если только и он не очутился в запасных.
Но этих «если» чересчур много… Повторяющимся («Точнее, единичным! Этого предостаточно, хо-хо еще как») фактом являлось полное неизвестности ожидание перед киоском тети Беньямин Малатински. Там стояла вся линия нападения! Рядом, в очереди, как при разыгрывании. Правый Крайний, мастер, господин Чучу, Второй Связующий, Комариный Жеребец; и Травмированный Левый Крайний (мерзкий маленький крыс с белесыми усиками, с откачанной коленной жидкостью и гениальным чувством мяча, все были рады тому, что он — Травмированный Левый Крайний; «да ну, какое там, прекраснодушная болтовня; отсутствовал он просто») и Лучший Запасной, нога на километровом столбе, матерчатые штаны закатаны, а из-под них, как червяки после долгожданного дождя, выползали вздутые вены, страшновато. «Ох, уж это расширение вен! Да вы знаете! Но он говорит, не болит. Ну, а тогда…»
Словом, это изначальное построение. Потому что ноги в такие моменты деревянные, собранность хреновая, в легких не хватает воздуха, с нулевой попадается в небо, по неподвижно стоящему мячу промахивается, в катящийся пинается головой, может быть, но самая прекрасная часть команды — это, без сомнений, линия нападения. Про команду, как мы убедились, можно многое сказать, но красота именно здесь, это бесспорно. Римская кудрявость Лучшего Запасного, неброская, жгучая чернявость малыша Правого Крайнего, «эстетичная худоба» господина Чучу, цыганистая стремительность Второго Связующего, хрупкий силуэт Комариного Жеребца, усы Травмированного Левого Крайнего… И он.
«Беньямин — мужское имя». Лучший Запасной стоит на своем. Тетя Беньямин была сморщенной бабулькой, лицо ее покрывала тысяча морщин (как горловину мешка, уже перетянутого веревкой). Она получила от государства компенсацию. Потому что, поговаривают, «какую-то бяку сделало государство с мужем тети Бени». Мастер рассудительно произнес: «Беньямин? Ну конечно, это женщина!» Да никто и не обсуждал; все уже покупали.
Он, как обычно, вытряхнул два кулька в карман пиджака, карман пиджака в куриную лапку. (Одна женщина как-то сказала: «Пиджак с джинсами?» Над этим он тогда посмеялся, но после долго надоедал Фрау Гитти: «О чем она могла подумать, как ты думаешь?!») Эта его привычка — с кульком, имеется в виду, — отталкивала от него любителей семечек. Причину же подобной экстравагантности следует искать не в чистоплюйстве, потому что оно никогда не было ему свойственно (уже родителей можно уличить в отсутствии этого качества, по причине их трудолюбия), не было это и выпендрежем, просто такое несказанное удивление испытываешь, когда, пошарив позже рассеянной рукой в кармане, из симбиоза ключа и липкого носового платка неожиданно выуживаешь хрустящее, поджаристое семечко тыквы, как потом ловко щелкаешь его кожуру, а семечко, тыквенное семечко, почти само выскакивает и долго лежит на чувственном языке. («Фу».) В случае с кульком таких неожиданностей не бывает: семечки или есть, или их нет. (Он может порваться, но тогда лоб в лоб с описанной выше радостью столкнется досада.) Ах, и что же тогда подвигнет его избрать негатив при полном отсутствии позитива?
Дырка.
Мадам Гитти хорошая женщина, старательная. Но эти пиджаки, пальто, которым сто лет в обед! Мастер привез их из другой половины Монархии перед тем как она перестала существовать, ну, а потом, как известно, армия и решение господина Михая: достался социалистический блок! Пиджак он бы мог бы приобрести и там, в смысле, на родимой стороне! Но он не попросил. Поэтому карманы в катышках, обрываются, бедная женщина не успевает их штопать-пришивать. Дырка, со всей полнотой и определенностью, встречалась не часто, скажем больше, редко. Но дамоклов меч нависал над ними постоянно. («Выуженная из подкладки мелочь! Дело ясное… И почему же чаще всего двушки?!») Именно ради него, постоянного шанса, приходилось идти на неудобства. Жену он за это не упрекал, нет, нет, никогда: «Блаженны карманники, ибо им принадлежит мир», — предпочитал он говорить без злобы, «эротично» вращая в дырке указательным пальцем, отчего та расширялась: тогда это уж точно будет дырка. Потому что это всегда вопрос спорный: а вдруг просто шов чуточку разошелся? А вдруг. Что до этих жареных семечек, его намного сильнее огорчала та слюнявая неуклюжесть, которую женщина иногда демонстрировала языком и губами под видом лущения семечек «Да не мусоль ты их, Боже милостивый», — с отчаянием говорил мастер. Но ведь брак — это сплошные сюрпризы, переживания, взлеты, падения и, конечно, перекручивание («собственного живота»)…
За поворотом в сантиметре от них пронеслась приземистая тень: господин Арманд, тренер. «Добрый день, господа!» По очереди поздоровался со всеми за руку. В ту пору мастер был единственным, кто был с ним на «ты»: «Привет, шеф», — сказал он, что мы уже могли слышать в другом месте. «Господа лузгают семечки?» Он прищуривался, как будто бы вечно был в хорошем настроении; однако справедливо, скорее, обратное; на него давила ответственность. «Сегодня тренировка!» — сказал несколько задиристо Правый Крайний. Господин Арманд уже не раз вменял им в обязанность ранний легкий обед и категорически запретил лузгать семечки перед матчем, объясняя это тем, что они совершенно высушивают человека. «Эфирные масла», — полусерьезно пригрозил он. «Но ведь стресс», — сказал тогда от имени всех, к примеру, тот же мастер. «Если нервничаешь, сынок, отправляйся шпаклевать, — добродушно сказал тренер, у которого в волосах хмурыми незнакомцами уже проступали седые пряди, потом посмотрел на часы и сказал, как всегда, когда матч начинался ровно: — Где-то минут в двадцать намазаться. Не подмажешь — не поедешь». Господин Арманд отличался «душевной теплотой».[32] Эта беспощадность, упрямая последовательность, — как он, например, прогонял эти самые «носовые четырехсотметровки»! (Тому, кто небрежно произносил носовые звуки в имени какого-нибудь игрока, нужно было бежать средний круг. Известный в этих местах случай.) О нем ходила слава человека строгого, но справедливого; любили его не все. «Здесь не «Аякс»! Чего он хочет?!*
Господин Арманд давно коптил небо на поле. Его образ слился с ним. Мастеру с друзьями никогда не удавалось прийти раньше него (обычно он уже бил по воротам молодого вратаря; «Ну, парень! Это еще из старого!»), и они уже торопились по неотложным делам, когда господин Арманд протирал «созданное для поцелуев горлышко» непочатой (зеленой) бутылки с пивом. «А что говорит женушка?» — спросил мастер, когда уже мог такое спрашивать (ребенок, армия, известность, профессионализм и ситуация). «Брюзжит. Хорошая женщина… Только вот стариковские матчи переваривает с трудом. Ты старикан, песок сыплется, еще случится с тобой что-нибудь, говорит она. Но зря. Ты понимаешь. Я на пенсию прямо со стадиона».
«Конечно», — сказал мастер, и ему вспомнился тот сезон, в конце которого господин Арман завершил карьеру спортсмена. Господин Арман знал все: как обращаться с мячом, как забивать голы итакдалее. И мускулатура у него. Но мячи все как-то уворачивались от него. Не везло ему; точнее, никогда не везло. «Это было очень интересно. Он знал все получше нас. А пользы от него было меньше всех». Это был печальный сезон. Господин Арманд на память получил мяч; мастер тоже написал на нем свое имя. Ему еще сказали: «Как ты пишешь? Здрасьте, пожалуйста. Образованный человек, и как курица лапой». Тогда у него еще не было, еще не могло быть того веса, который позволил бы сказать: «Приятель. Почерк у меня не уродский, а интересный». (Так же как теперь, если на тренировке надо правой ногой бить в дальний угол, а вратари, халтуря, уже заранее встают туда, и он, совершенно случайно, врезает в ближний, и у него требуют отчета, тогда он со спокойной душой в качестве объяснения может сказать: «Дидактика!» Чтобы вслед за этим, если кто-то в ближний верхний раскрывает, закричать: «Этот защищай, дидактика, батенька!»)
«Но в те времена я еще и пикнуть не смел, балансировал на краешке скамейки в раздевалке он, судорожно сцепив руки между колен. Господин Арманд уже тогда был к ним крайне дружелюбен. «Вдарь, черт тебя дери!» Это он ясно помнит: «Вдарь, черт тебя подери!» Хотя ему казалось; сделано все. Позже он уже знал, что под этим подразумевалось: тривиальная недостаточность всего! И большая голова господина Армада, которая все больше раздувается и краснеет. Little red balloon, могли бы мы напевать себе под нос, если бы имели на то моральное право».
Организация первого перегиба также связана с именем господина Арманда. «Кажется, в «Трефовой Семерке». Это был мой первый матч в первой». Изволил сильно закручиниться, это факт. «Ну, вы можете представить. Один заход пива, один шампанского. То есть вино с пузырьками. Это за один период, вы можете представить». Лицо Арманда вновь отливало красным от избытка чувств. Он сурово пел: «Крутится, вертит-ся!» Мастер был в таком состоянии, когда еще мог смеяться над тем да сем, «бедняга только потом загрустит» (слова господина Чучу). Что в самом деле произошло вследствие тряски в конце двойного 55-го. (А ведь казалось, что мастеру, тогда еще молоденькому и играющему со специальным разрешением, удалось очень ловко ухватиться! Но затем он вдруг изволил загрустить. Господину Фери, джентльмену с головы до ног, тогдашней защите и опоре, это обошлось в двадцать форинтов. Мастер с тех пор все пытается расплатиться. «Но уж теперь, друг мой, теперь уж он не отвертится!» То ли контролеру пришлось платить, то ли полицейскому, вспомнить уже невозможно. Но незабываемыми остались облегчение и тряска в новом — если предыдущий был «старым» — двойном трамвае, в котором «молодому спортсмену» снова можно было нормально ухватиться; это легкое потряхивание, которое тем и памятно, что не хотело заканчиваться. «Ехал большой двойной, ехал, ехал себе и поскрипывал, в то время как в разрыве гармонеобразного сочленения проглядывало небо, снова и снова».)
Господин Арманд помахал мастеру через стол в кабаке. Сквозь кроны деревьев просвечивало солнце, вместе е дрожащими листьями на большом дубовом столе шевелились тени, и менялся золотистый срез пива в кружках. «Ну-ка, паря. Иди сюда. Садись в тень старого пня». Впоследствии господину Фери раз в полгода, всегда в какой-нибудь критический момент, достаточно было сказать: «Гм-гм, тень старого пня, гм-гм». И от смеха все падали.
Господин Арманд вначале продавал большие надежды, в семнадцать лет его пригласили в «Клуб Хонвед», но именно тогда, летом, точнее, в начале лета, поскольку приглашение, вероятно, относилось к сентябрю, ни раньше, ни позже, он сломал ногу. Братец Пушкаш подмял его под себя на тренировочной игре. «Но Братец это не нарочно. Он был мужик что надо. Подыгрывал мне в первом тайме, а я носился, только пятки сверкали. Во втором тайме мы играли друг против друга. Тогда-то все и случилось. Братцу было очень жаль». — «Навещал тебя?» — «А, ничего в этом такого особенного не было. Да они, наверное, уж на Олимпиаду к тому времени уехали. Отнес он меня на край поля, подозвал двух болельщиков. Ну-ка, папаша, отнеси пацана в раздевалку. Как король. Так ведь Братец, он и был королем».
Но тогда все же по-другому было. Взять хотя бы эти матчи. Сотня. Это за вход. «Времена были говно, браток, но чтобы со всей душой — мы умели». — «Это да», — скептично сказал он. «Прижми вас послабже раза в два, так и не было бы никакого сражения с «Голи» в воскресенье». — «Мы победили». — «А, да я не об этом. Ты знаешь, как мы вместе держались?! Не полчаса перед матчем, как вы, а потом как угорелые на всякие свиданки… Мы, батенька, сбегали с последнего урока с приятелями, чтобы на рынке получить хорошее место грузчика, бабки в общий котел, а по-том в «Бетон» — играть до вечера на деньги. Между двух пожарных стен, четыре на четыре. Великие битвы камикадзе. А на стенах огроменные надписи, знаешь, да здравствует и долой, на злобу дня». Мастеру — когда он с ностальгией думал о тогдашнем коллективизме — вспомнился один его сон. На заводской стене, которую видно, если направляешься со стадиона в кабак, красными буквами было написано: да здравствует рабочий класс, и во сне мастера под этой надписью СТОЯЛО: ОТ ТОСКИ, ЛЮБЕЗНЫЙ ТИРИ, КРОВЬ МОЯ ЗАСТЫЛА. «Однако знаете, друг мой, я не люблю, когда рядом с молочным магазином или чем-то в этом духе написано: Смерть всяким-яким! Особенно противно, если несколько букв размазано». Да, ему намного больше нравится, когда на стене нарисованы гигантские половые органы, ЭРЖИ ДУРА ПИШТИ ТЕБЯ ЛЮБИТ, штукатурка обваливается, и кирпичи так «безбожно краснеют», как будто сами являются частью рисунков.
Команда господина Арманда однажды побила даже команду Пушкаша! «Наверняка вполсилы играли», — ехидно заметил мастер. «Они-то? Ты что, они так выдавали, как в финале Чемпионата Мира. Там не было различий между матчами, там была любовь к игрек — «Но-но, — продолжал он, подобно природной стихии (которая, как мы ясно можем увидеть, получила воплощение в виде блага для общества), свои проказы, — а маленькие деньги — маленький футбол?» — «Это опять-таки другой вопрос», — сказал господин Арманд и, вопреки ожиданиям мастера, не рассмеялся. А ведь господину Арманду в самоиронии отказать было нельзя. «Футбол — это исключение».
Но как он после этого нравоучительно описал того, прожорливого парнишку, каким был во время оно, первого парня на деревне, каким он во время оно себепредставлялся, которому принадлежит весь мир, то было воистину человеческим откровением! «Сколько я жрал! Только сидел и ел». А 33-й трамвай, по мосту Сталина! Дул холодный ветер. «А постреленок шмыг на открытую площадку, руки в карманы, воротник поднял, зубами стучит!» Все это господин Арманд говорил к тому, чтобы на разминке надевать шапку. «Такой менингит заработаете, век не забудете». Поскольку шапка — смастеренная из старых гетр: с одним зашитым концом — в списке народной популярности занимала одно из последних мест. («Лидер списка? Что может быть лидером списка?») Большинство из них к безответственности склоняло хихиканье девчонок-продавщиц из универсама. Мастер, в какой-то степени в связи с этим, заявляет, и у нас нет причин сомневаться, что колпак его раздражает. «Пумпон. Болтается еще». Но простите: менингит все же есть менингит.
Тренер и линия нападения вошли в ворота, что на стороне Восточного вокз. «Знаете, друг мой, любое поле сравниваешь с главным стадионом. И у каждого из них есть свои ориентиры; с однозначностью можно сказать, какие ворота смотрят на улицу Вершень, а какие — на Геологический институт… Хотя есть несколько, мало, но есть, которые стоят наискосок. (Таков стадион «Гамма». — 5.)… Хотя случалось и так, что по ходу матча ориентиры смещались. В такие моменты виден лишь очень небольшой отрезок поля. Ко всему привычного Правого Связующего это не смущает, однако он оказывается в некотором, гм, отчуждении, как если бы попал на незнакомое поле, и, в каком-то смысле, остался один. По сути дела, не смущает; только осложняет процесс запоминания». Солнечный весенний день мог обнять неудовлетворенного человека. Между зубов у него застряло семечко. «Положение недопустимое, друг мой, из тех, что вызывают досаду изо дня в день», — сказал он и с понятной грубостью отломил веточку от какого-то цветущего дерева, чтобы ею выковырять то, что нужно.
Уже внутри, в раздевалке, Лучший Запасной хвастливо показал на стены: «Я их побелил». Мастер почти с упреком взглянул на обогреватели, на которых белели тысячи маленьких капелек. Лучший Запасной весело пожал плечами. «А побелка, Петике, а побелка?» — «Слушай, — сказал знаменитый 8-й номер серьезно, — это не просто. Такую покраску. Ведь ясно, — и тут он с видом специалиста посмотрел вокруг, — unser Adolf[33] сделал бы это лучше. У него есть фора, факт, — кивает он, — это его профессия. С другой стороны, — поучительно поднял он палец, и на этот (!) его указательный палец кто-то, грубо пошутив, накинул чьи-то трусы, о-па! — но он сделал эффектный ход, накрутил трусы на палец («Вязаные крючком трусы, друг мой! Этим следует заняться»), затем хитро, одним рывком, вытащил палец из резинки, эть, а потом в ход пошла уже одна центростремительная сила! — с другой же стороны, за твоим конкурентом числятся другие долги. Сложно об этом судить».
(Для моего консервативного вкуса это слишком. А о вкусе мастера вообще можно было бы романы писать, да, романы… Он поднял свои большие и проницательные глаза так, как, я думаю, Эстерхази столетиями поднимают глаза на мальчика-конюха, швейцара или Гайдна, если те делают что-то такое, чего не стоило бы делать.) «Знаешь, приятель, не по нутру мне эти гуманитарные напряжения мозгов, нет». В раздевалке наступила тишина, кто-то растерянно хихикал. Сам мастер тоже смутился. Но затем стало ясно, к чему шло дело, для чего ему с подобной фривольностью понадобилось вносить болезненную историческую нотку. «Зачем ее красить? Она скоро развалится», Ну, и в соответствии с собственными благими намерениями внес смущение в их ряды. Слишком уж много мелких и так называемых внешних деталей определяв ло их положение и ситуацию. «Знаете, друг мой, все труднее без ухищрений думать только о том, что и здесь не знаешь, где найдешь, где потеряешь. И здесь. Не знаешь. Где найдешь, где потеряешь. Важно».
Ребята уже потихоньку выходили, только он, как. обычно, «ковырялся». «Где, блин, бинт для щиколотки?» Но тут душа вновь спровоцировала важный эпизод. Я, так сказать, спросил у него, читал ли он то, что сказал господин Джойс? Господин Джойс сказал, что на триста лет обеспечивает критиков работой… H ведь что до этого, так и мастер тоже обеспечивает. Потому что хотя бы эти ссылки, вставки, разъяснения к ним и вся эта катавасия как жанр… «Обеспечивает. На два дня. Блин! Нашел!» Он так радовался найденному бинту, как если бы у него в мешке их было не пять штук, среди которых можно было выбирать. Но он любит этот старый, потому что он держит, но не жмет. Большим пальцем провел по талии; привычный жест, когда резинку как бы растягиваешь. Оттянул спереди и заглянул в образовавшийся тоннель, потому что образовался именно он, и сказал туда: «Конечно, два дня тоже срок». Ого-го, еще какой. Два дня — это два дня. Вот какие признания приходится записывать, ни много ни мало, гром и молния. Пока я пишу, он, какая честь, склоняется ко мне; продолговатый писательский профиль отбрасывает тень, волосы щекочут мне шею. Sapient! sat.[34] «Начинающим и теоретикам-профессионалам надо больше». Как он говорит, ему нужно т. н. грамматическое пространство [милое, чудное слово], и больше ему для жизни ничего не надо. «Свою жизнь». Пишущий эти строки печально склоняет голову и, изящно переводя разговор, сообщает; Грамматическое пространство — это я.)
Однако прочь отсюда, на волю, к свежему небу и здоровью. Он изволил подкидывать мяч, направляясь между тем в сторону поля. Господин Арманд нахмурившись ждал. Некоторые делали передачу, находились те, кто-то исподтишка норовил ударить по воротам, но тут рвущееся наружу веселье сдерживал запрет господина Арманда. («Удары по воротам всегда вызывают веселье». — «Видите, друг мой, какими пошлостями я вознаграждаю образованные крути, сторонящиеся настоящего катарсиса». Затем, чуть подкрутив, мяч: «Хи-хи-хи, — по-мефистофельски рассмеялся и потер ручки сердечком, — хи-хи-хи, здорово я врезал».)
Мастер слонялся именно вокруг господина Арманда. Неужели втирался в доверие? Нет, в этом не было никакой необходимости при данной расстановке сил! Просто он очень полюбил этого угловатого человека. У господина Арманда было четверо детей. Это тоже как-то связывало мастера с ним, по причине достигнутого мастером положения, — но только с точки зрения детей. «Забетонирую сегодня клозет». «Вскопаю сегодня огород». «Сломаю сегодня сарайчик». «Сегодня». Подобные сообщения так и порхали перед каждой тренировкой, как яркие бабочки, которые можно принять за навозных мух. «Или наоборот. Спокойнее, друг мой». Об этом речь заходила скорее по пятницам, чем по средам, потому что по средам еще слишком свежи были шрамы от ран, нанесенных воскресным поражением или победой и т. д. Они стояли в этом магическом зеленом квадрате.
«Иду сегодня делать замки». Мастер остановил почти самостоятельно двигающийся мяч, быстро его сбалансировал, но тот — как труп — постыдно соскочил с носка его бутсы. («Мне легко, — сказал однажды еще до этого господин Арманд, потому что у него не соскакивал, — мне легко: мяч липнет».) «Не липнет» — пробормотал мастер и вопросительно посмотрел на кузнеца тактики и стратегии: «Замки для сумок», — «Какие замки для каких сумок?» — задал логичный вопрос великий человек. «Хороший был вопрос. Самый бессмысленный. И для этого нужно понятие иметь, роднуля». А потом еще мудро прибавил: «Намного легче признать заблуждение, чем обнаружить истину». — «Такие замки для ридикюлей». — «Страшные, наверное?» — «Нет. Очень даже покупают. Я тоже купил жене, точнее, мне дал Мартинко, потому что я на него работаю. На Мартинко; его заведение там, рядом с булочной, где раньше была конюшня старика Фаркаша». — «Такие булочки, друг мой, можно найти еще только в одном месте. Перед лечебницей, на улице Пала Харрера, перед тубдиспансером. Или за, если со стороны города… Надо было ходить на какую-то реакцию манту. Из-за булочек это было почти великим счастьем… Я долго пытал расспросами отца, образованного человека, потому что не понимал, как может быть: если реакция отрицательная, то это хорошо».
«И хорошо платит?» Это был вопрос в яблочко: хорошо ли платит. «Хорошо. Там я четыре вечера. Иногда пять. Это уже хорошая надбавка. Только устаю очень». Мастер сделал неопределенное движение. «Знаете, друг мой, эдакое было движение насчет разумногоиспользованиясвободноговремени». Они немного далеко зашли. Это окончательно выяснилось, когда господин Арманд, в свою очередь, вежливо спросил: «А ты сколько зарабатываешь?» Он оторопел от такого жеста, ибо считал их разговор более абстрактным, для того чтобы господин Арманд мог воспользоваться такой ответной тактикой. Стояли они со своей большой симпатией у флажка аута — так как с уверенностью могу сказать, что господин Арманд тоже благоволил мастеру: наверное, нравились его открытый, прямой характер, искренняя заинтересованность, техничная правая; однако преклонялся перед его славой — беседа становилась все более чопорной. Они напряглись. Хотя он, может быть, и мог «сбежать» к воротам забивать мячи. Но нет: недаром печется о дисциплине господин Арманд. И мастер тоже не был исключением.
«Знаете, друг мой, дружба может возникнуть лишь на практике, на практике может стать закаленнее. Симпатия, даже любовь совершенно не способствуют дружбе. Истинная, деятельная, плодотворная дружба заключается в том, чтобы всю жизнь идти нога в ногу, взаимно одобрять цели друг друга и так непоколебимо продолжать свой путь, как бы ни разнились наш образ жизни и мышления». А затем он продолжил прекрасным поэтическим сравнением: «Знаете, друг мой, у меня нет дружеского круга. Я своих друзей вижу наполовину осевшими километровыми столбами вдоль берега канавы… Меня слушают вообще-то?!» Он кивнул. «Значит, слушают. Вы, mon ami, пишете как женщины. Как говорит Гейне, если женщина пишет, то на бумагу смотрит лишь одним глазом, другим она наблюдает за мужчиной; исключая графиню Хан-Хан, которая одноглаза».
Прилагаю здесь его рисунок, изображающий друзей или километровые столбы? Как бишь там?
«А ты сколько зарабатываешь?» — «Знаешь, меня деньги не очень интересуют». И вот тогда в окончательном варианте продолжилось то, что до того началось: двое мужчин безмолвно стояли: потому что им нечего было друг другу сказать. Голова господина Арманда разделяла небосвод, нежно-голубой небосвод (Божий чертог). На лбу у него капельками выступил пот, по небосводу пронеслась ласточка. Мастер, чтобы смягчить эффект, сказал что-то вроде того, что для него деньги лишь средство и что их нужно ровно столько, сколько обязательно нужно. «Пиф-паф, ой-е-ей как». Было видно, что эта чистая душа пребывает в крайнем беспокойстве. «И вечером все еще корил себя. Так по-школьному воспринять вопрос». Точно: в тот момент он почувствовал, что еще ребенок (несмотря на армию, детей, славу). «Крайне непрофессиональный подход», — более жесткого слова не может подобрать себе тот, чье занятие — жизневедение.
Затянувшемуся времени пришел конец: припозднившиеся подошли, неторопливо переодевающиеся были готовы, забитые вопреки запрету мячи вернулись. Они бежали разминочные круги. «Сколько?» Но господин Арманд таинственно молчал, отмечая присутствующих в тетрадочке. Уже порядочно запыхавшись, мастер обратился к своим товарищам: «Один угол поля отогнут, и там написано: секрет». Пыхтели дальше. В подтверждение того, что слов на ветер не бросает, перед финишной прямой он еще выдохнул: «Там. Вон». Сказать прямо, это была неправда; в том смысле, что краешек поля не был отогнут, и не было там написано: секрет; не совсем даже понятно, как он это задумывал технически, может быть, что это искусственное покрытие? — но как бы там ни было: с его стороны это снова был эдакий поэтический элемент, маленькая деталь его целостного поэтического мировоззрения. Я полагаю, это вещь достойная.
Встали они, началась тренировка. Игра — прямо как на матче с тотализатором — шла с переменным успехом, мяч стучал то на этой, то на той половине поля. Но, по большей части, на «общей» половине поля, поскольку игроки первой команды — следуя указаниям тренера — быстро уводили мяч от собственных ворот. А защитники посылали дальние передачи то центровым, то крайним. Мяч часто летел в нужном направлении. Тогда тренер даже что-то произносил: «Прекрасно, Лайош…», «Молодец, Шани». Если же по цели промахивались, главный тренер говорил: «Ничего, следующий точно выйдет», «Ошибка не в замысле, а в исполнении». Особенно они отставали от ребят господина Арманда в воздушном пространстве. «Не бойтесь толкаться, только, конечно» без рук», — отрывисто звучал голос тренера. Время прошло так быстро, никто и не заметил, опомнились лишь когда господин Арман посмотрел на часы и три раза просвистел. «Один за всех, и все за одного». (Как три мушкетера.) (Боже мой, какие блуждания, одно за другим. Но ведь таким он изволит быть: производит шаги один за другим.)
Мастер украл тапочки господина Ичи в надежде на то, что тот сменит гнев на милость. Сидел на скамейке, опустив ноги на скомканную форму. Какое зрелище! Мне, вероятно, не нужно подробно расписывать, какие преимущества означает какая-нибудь (или; конкретная) третья нога! Так вот, у Эстерхази она была! Меня это чрезвычайно сближало с мастером: сколько раз сидели мы в грязных, сумрачных закоулках пустых раздевалок, в то время как он не отрываясь смотрел на свои ботинки: левый и правый. «Неужели?…» — и недоуменно пожимал плечами. Великая честь. (Боже упаси меня от сплетен, отмечу лишь, что эта нерешительность сделала мастера чрезвычайно популярным у женщин.)
В душе мастер как раз намыливался — кто-то принес из дома пахучее мыло, и он его заграбастал, хотя… — в то время как тщедушный левый игрок средней линии, отсюда и название Комариный Жеребец, сказал, что обалдеть… можно. (Относительно многоточия здесь: я хотел отметить с его помощью не отсутствие чего-либо, я человек не настолько полусветский, просто вдруг литература пробелов не отработанный материал и получит развитие. Но ведь пишу-то я о ней, и цель моя литературной быть не может. — Курсив: самоирония. — Тем не менее, если я не хочу лишиться заслуженных симпатий читательниц и более чувствительных «натур», а также вообще всех тех, в ком живо еще уважение, почтение и тому подобное к истинным ценностям, и остаться верным избранному мной методу, а также преданности — позвольте каламбур, — так вот [!] в этом случае разгорается конфликт. О чем речь? Пожалуйста: там, в тот момент, в душе, магнитофон бы записал следующее: ОБАЛДЕТЬ, БЛЯДЬ, МОЖНО. Гос-споди… Но ведь не зря же набита рука, опыт, благоприятная среда — мастер, — в такой колее утрясается всякая проблема. Не хочу теоретических обоснований, с этим вопросом не ко мне, пусть «в самом» низу стоят голое олицетворение, результат, в случае к которым и будет применена художественная справедливость.)
Еще раз сначала: мастер, значит, после того как захватил крайнюю (самую лучшую) душевую кабинку, выперев оттуда всем своим авторитетом одного перешедшего к ним в этом году юниора из юношеской сборной, зацапал чье-то личное мыло, медленно, растягивая удовольствие, растер спину и уже приступил к намыливанию груди спереди. «Знаете, друг мой, какое великое множество существует личностей, у которых здесь, спереди, знаете, растет целая шуба?» Каракулевая шуба, выражаясь культурно. В этот момент Комариный Жеребец сказал Правому Крайнему: «Обалдеть, ива, можно». (Ясно, в общем. Если «ива» будет выступать в значении, отличном от вышеупомянутого, мы сообщим.)
По телу, отражающему геометрические пропорции, телу мастера журчала-струилась вода, а онмежду тем подслушивал. (Лучше всего у него получается подслушивать в Консерватории, в антракте. Ходит взад-вперед, с искренним интересом следит за сдержанно ссорящимися супружескими парами, выражением лица уверяет их в своей полной неосведомленности и уже передает услышанный материал далее; но милей всего его сердцу круги образованные. Здесь он долго не церемонится, крикнет через весь зал Гиттушке, потому что он устраивает все так, чтобы можно было через весь зал кричать Гиттушке: «Матушка, этот Моцарт порядочная нудятина», или что-нибудь в этом духе, и горделиво удалится.) «Короче, ива, я на «Рим» поставил единицу и крестик». — «Он, ива, в прошлый раз даже Юве побил, так что, ива, единица по праву». — «Так ведь, ива, Интер, ива — это Интер, а не объединение Электроприбор, ива, Интер — это… Комариный Жеребец уже вытирался, он был очень возбужден. Неистово жестикулировал, в основном произнося слова: ива, «Интер», да нет же и т. д. — и хотя его движения могли быть элементом «крайне возбужденной жестикуляции», они одновременно сходили и за вытирание, что сильно забавляло мастера. «Sehr praktisch».[35] «Как это, ива, Интер вот уже сколько недель не может выиграть!..» К искреннему удивлению мастера, это предложение, которое не содержало, по сути, новой информации, привело быстроногого Правого Крайнего в движение. Он сорвал полотенце с головы; это движение, эта внезапная перемена светового соотношения несколько сбила Крайнего с толку, он покачнулся и шагнул вперед и в такой позе, как будто огрызаясь, сказал кому-то другому в лицо: «А Комо, ива, берет и выходит вперед. Ива, если бы мне это сказали на той неделе… Но, ива, чтобы Интер и не смог этого…» — «Ива?!» — «Ива?!»
Тогда мастер вышел из-под душа, отодвинул плотную запотевшую занавеску и, как привидение, предстал перед ними. «Вот ива, — сказал он, грохоча, как водопад, потому что в маленькой душевой звуки усиливаются, — вот ива, здесь, в Венгрии, так набегавшись, под душем, в двадцать-тринадесятой лиге, зарабатывая 13, 20 форинтов в час, еще переживать за Комо, которая надежды, ива, подает…» — «Знаете, друг мой, я уже боялся, что ничего не случится и мы просто будем стоять до скончания века, потому что не возвращаться же мне было обратно в душ. Но потом мы все трое от души расхохотались».
Они хорошенько посмеялись в раздевалке, мало того, хочу отметить, что счастье сопутствовало мастеру, и мастер избежал коварно выставленной швабры. Повернулся в дверях, а потом, пятясь таким образом, смел опасный предмет с пути. «Друг мой, — в глазах его одиночество и сиротливость, — возможно, они тогда уже смеялись над этим? Заранее. Ох». Вот как, ему уже известны и охи; горечь и невзгоды-разочарования таким образом пополняют его писательский багаж. «О, друг мой, для того чтобы мы могли исполнить все то, что от нас ожидают, следует ценить себя выше, точнее, ниже, чем нужно». А ведь как бы его иванула эта швабра…
(В дверях он сказал: «Завоюем кубок?» — «Да», — серьезно ответил Комариный Жеребец, так, как если бы спрашивал в ответ: «Ты что, дурак?»)
11 Чтобы перебирать в памяти кое-каких… — ов, — ев, я мог бы радоваться этому двойному трафарету, который, даже если стесняя в действиях, даже помечая наши с ним столкновения сине-зелеными пятнами, — дает ориентир. «Оригинальность, друг мой, порождает оригинальность». Мастер и его п-п-повесть — это Великий Ориентир. Ведь и так который раз представляю себя, достоверного, болезного хроникера в виде блестящего зеркала, в котором — достаточно одного неудачного или удачного (не неудачного) движения и вот уже… Читателю, быть может, небезызвестны заграничные (западные) открытки, с которых, если их пошевелить, вследствие переливания световых лучей подмигивает женщина, точнее гетера… В тяжелые часы, которые доставляют мне эти записки, я часто думаю: мы не что иное, как это извечное подмигивание…
«Пасха — дата номер один». В воскресенье утром мастер водрузил свою маленькую семью на лошадь и поскакал к отчему дому. Маленькие кривые-горбатые улочки, извивающиеся по склону холма, подобно мускулам на спине, подвергли испытанию лошадь и всадника. Он прибыл тютелька в тютельку, так что только и успел выгрузить семейство, поцеловать мать в чудесную увядшую шею и с чувством взять материнскую руку в свою. Пальцы соприкоснулись с суховатой, изборожденной, поверхностью. Та часть, которая во время удара наотмашь касается лица, из-за вен представляла собой пугающую карту. Родинки и красные, даже лиловые пигментные пятна делали этот образ более правдоподобным. Кожа, словно не до конца облегающая перчатка. В основании большого пальца притаилось немного плоти, здесь ладонь блестит сильнее. Упомянутая выше перчатка — тонкой работы, шелковистая, изящная, но складки (кое-где) попорчены трещинами.
(На более раннем этапе господин Ичи подверг справедливость данного описания сомнению и приписал ему определенный литературный пафос. Происходило это так: на полях предоставленной в его распоряжение рукописи он твердым карандашом «Н» проставлял в сомнительных листах волнистую линию. Глаза б мои не смотрели на эти проклятые змейки» — потому что они влекли за собой тяжелый труд. В данном случае мастеру пришла на помощь отличная идея. Он вежливо пригласил войти мать изящного вратаря, руки которой постигла схожая с руками матери мастера участь. Он взял их в руки и стал, заглядывая в рукопись, читать и то, что читал, показывать. «Пальцы, вот, — показал он на пальцы, — соединяются с сухощавой, пожалуйста, посмотрите: сухощавой, изборожденной поверхностью, — он показал сухощавую, изборожденную поверхность». И т. д. Эта сцена вызывала дрожь. Двое футболистов пристыженно переглянулись; мать вернулась на кухню. Вообще-то можете попробовать. Требуется: по крайней мере четверо детей и немного лишений; и экспериментатор станет свидетелем апофеоза снов мастера.)
Взяв руку матери в свою, он вновь изволил склониться к ее шее и прошептал: «Матушка, ты сегодня такая красивая. Ты прекрасна, как хозяйка борделя!» Святая женщина, привыкнув уже к невозможным выходкам своего сына, наподдала по шее мастеру, который в тот момент там уже вряд ли был; не позднее четверти ему надо было быть на стадионе.
Когда он добрался до дома, участники уже собрались на обед. Однако он еще выманил из толпы собравшихся Фрау Гитти, чтобы излить перед ней душу. Он изволил сильно ворчать, пока они делали в саду важный крюк. Он шел со своей женой по воскресной тропинке, и при каждом неровном шаге их бедра соприкасались, вызывая короткое замыкание. (По этой причине мастер шагал так, как будто бы был рахитиком. Но я уверен в том, что если бы кто-то неожиданно выскочил из-под скрывавшего его тополя или из мути временной автобусной остановки и пригвоздил его обычным в таких случаях вопросом, он бы сумел ответить. «Моя старая травма снова дала о себе знать, приятель» — или что-то подобное.) «Гитти, милая, ты понимаешь, я еще такого идиота заднего защитника не видел». Здесь он прочистил горло, прервав ворчание. «А ведь за свою бурную жизнь я, можно сказать, повидал их немало». Фрау Гитти была одним вопросительным знаком. «Друг мой! Два вопросительных знака!» Ага:
«Такой был идиот, что даже не заметил ловушки». — «Ловушки?» — «Да». — «А что случилось?» — прижималась к нему женщина. «Что случилось, что случилось. Меня заменили». Редко случается с ним такое; он не привык радоваться подобным вещам. «Эта пустая раздевалка! Еще копайся там в куче тапок и полотенец! С души воротит от такого изобилия, сказать по совести!»
В это время в сад уже пробрались молодые зеленые листья, а на деревья влезли почки и цветы с крыльями мотыльков. Никто не баланисировал на желтой сердцевине маргаритки, и никто не лежал на животе в траве, чтобы тайком поглядеть на ноги девушек. «Но, mon cher ami! Вон та Гиттина! Мало того: те Гиттины!» Да, уж: у Фрау Гитти ноги первоклассные; если подходить к женщине с точки зрения психологии: она — воплощение самых отчаянных юношеских мечтаний мастера!
По саду ощутимо распространялась Пасха: хотя Воскресение уже наступило, но все-таки так недалека еще страстная пятница. В душе у мастера — вопреки всему — вытянулась маргаритка (в этот момент она, естественно, перестала быть маргариткой), и он ничего не сказал. Его рука была в хороших руках. Они вдвоем, топчущие растительность сада, были подобны благодарственной молитве. Услышав доносящиеся со стороны столовой призывные голоса, мастер скатился (с грохотом скалы — Tu es Pertus и т. д.) под бок к Гитти. Маргаритка по исчезновении подошв медленно, как если бы у нее были мышцы, поднялась вместе с окружающими ее простыми, но отнюдь не менее таинственными травинками. «Знаете, так по стадиям; как будто бы в фильме; знаете, эти фильмы по природоведению». И стала маргариткой.
Но что за водевиль еще перед праздничным обедом случился по милости младших братьев мастера! Мадам Гитти поспешила вперед, чтобы помочь, он же потихоньку брел в сторону дома, перебирая свои мысли; «когда Того стал заходить с края», все-таки ему нужно было схитрить, оп, увернуться от бьющей ноги, еще раз, потом обманный удар, костлявый, противный полузащитник на земле, лицом в траве, оттуда смотрит вверх, «их взгляды встречаются», и мимо вратаря, перед линией ворот притормозить, буме, и не надо ему до самой сетки. «А-а-а-а». Горловой, терзающий сердце, ужасающий мозг крик наполнил дом, все его закоулки; мастер, в непосредственной близости от которого крик раздавался, чуть не умер со страху. «Ну и напугали же меня», — сказал он на более поздней стадии, перелистывая письма. «Да уж, — потряс он в тот момент одним приличным конвертам, — да уж, однако цели своей это достигло».
Он ударил. «Так я испугался». Потому что он обретался в областях духа, и эта спешка оттуда назад! Возвышавшаяся над ним тень повернулась вокруг собственной оси, после того как маленький, быстрый кулак мастера прогремел, как удар кувалды. Он почувствовал кулаком прикосновение к плоти и костям. Господин Дьердь — поскольку он был возвышающейся тенью — охнул от пришедшегося по позвоночнику удара, а затем его огромная туша как подкошенная рухнула к батарее отопления. Мастер, который за это время собрался с душевными силами, после того как увидел, что это его младший брат, не удостоил того даже взглядом, кипя от гнева, вошел во внутреннюю комнату. Он был чрезвычайно взволнован. «Болван».
Таинственные, глубокие цвета внутренней комнаты, золотые полоски пробивающегося солнечного света оказали на него сильное успокаивающее воздействие; коричневые, зеленые, приглушенные желтые — спешил перечислять он. С близкими и дальними родственниками, подтягивающимися к столу, он здоровался, а потом вдруг помчался в туалет, сказав, что помоет руки. Он еще услышал, как Йозеф Веверка вслед ему слащаво произнес: «Сотвори себе, Петерке, что-нибудь прекрасное, благородное». Он всегда так говорит, и немного обижается на него. «Знаешь, Гиттушка, его засасывает эдакая мужская грусть». Женщина пожала плечами. (Йозефа Веверку с Фрау Гитти связывали более тесные узы родства, чем с мастером.) Йозеф Веверка, можно сказать, каждый Божий день вторгался в «настоящее время» семьи мастера (малой семьи), он приносил лукошко яиц, иногда редиску, хотя мастер говорил ему, что «у них этого полно», дак, если полно, сынок, что не даешь, у нас в хозяйстве редиска, может, играет важную роль, поправлял скатерть на столу и плюхался в любимое кресло мастера, информируя их оттуда о семейных хлопотах, или сразу выгребал из нагрудного кармана отвертку и начинал чинить какую-нибудь сломанную вещь или такую, которой, по его мнению, не помешала бы рука специалиста; вначале курил вонючие сигареты, затем устраивал чтение — сопровождая его т. н. невольным кашлем и похаркиванием — специальных журналов, которые он, как «Непшпорт», доставал в смятом виде из лоснящегося пиджака искусственной кожи, о раке гортани, симптомах, шансах и т. д. «Хиттушка, ива, хорошо, что он не задает вопросов!» — «Не говори так о… — е». Когда он — в скором времени — начинал собираться домой, то каждый раз бросал упреки в адрес руководителей страны и мадам Гитти: первым за то, что продали страну за понюшку табаку, вторую за то, что никогда не поливает пальму панданус.
«Но я и в самом деле не руки мыл, а писал». Выходя из туалета, он столкнулся с матерью, как раз отправившейся на его поиски. «Руки вымыл?» — спросила седеющая матрона с подозрением, сдобренным беспокойством. Да уж богатый жизненный опыт смогла передать сыновьям эта благородная женщина, но мытье рук, в современном наполненном бациллами мире, туда точно не относилось. (Бывает, когда мастер чувствует, что руки у него уже липкие, или не чувствует этого, но, решительно потерев пальцы, отделяет от ладони или от самих пальцев черные катышки, тогда да. Это тоже такое очеловечивающее краткое мгновение.) «Естественно, вымыл», — ответил взрослый сын и взял мать под руку. «Представляешь, сынок, — мать стала выкладывать наболевшее, — здесь был этот сукин сын, твой футбольный друг». — «Франц?» Женщина кивнула; воспоминание о нем вызвало у нее раздражение. «Приходит он, потому что я, ты знаешь, попросила его помочь, едва здоровается, и когда я на этих своих старых, дряхлых ногах за ним доплетаюсь, уже стоит перед кафелем, трясет головой и говорит мне: Мое почтение, здесь придешься долбить!» Мастер подскочил и выдал одну историйку: «Он работал в жилконторе. Знаешь, сколько зарабатывал этим «мое почтение — здесь-придется-долбитъ»? Проходит одиннадцатиэтажный дом, до одиннадцатого этажа, пардон, нижний жилец, пардон, предъявляет какую-то бумагу под копирку, в подтверждение, что он официально, оп, и уж грустно стоит перед кафелем, уже примеряется движение. Мое почтение, здесь придется долбить. Хозяйка поправляет волшебный халатик и, глубоко заглядывая Францу в глаза, спрашивает, нельзя ли договориться. Можно, говорит ожидающе Франц. Двадцатка, минимум». — «В общем, я сразу ему сказала, чтобы он шел оттуда, сломан-то кран». — «Прокладка?» — «Ишь ты, какие слова знаешь. Раньше ты этого не знал… Однако, сынок, этот твой друг! Делает он, как ты говоришь, прокладку, потом мы садимся, я приношу ему стакан вина, и тогда этот твой друг начинает разговор о том, что ему всегда нравились женщины старше него; я, разумеется, ни о чем не подумала, только, знаешь, он так начал смотреть на мою грудь, смешно». Чудесная женщина покраснела. «Потом полез в брюки… слушай, я таких грязных брюк еще не видела… в карман и достал оттуда какую-то ветошь, дескать, это настоящий жемчуг, который он вроде как нашел в канализации». С этими словами женщина неожиданно раскрыла ладонь — и в ней была жемчужина! Мастер громко расхохотался, схватил, накрыл материнскую руку своей и сверху сжал ее в кулак, как в скорлупу. Итак, по очереди сверху вниз: его рука, рука матери и в самой глубине найденная в канализации жемчужина. Люди, собиравшиеся по инициативе фрау Гитти и хлопотливого отца мастера, по сути дела, ждали только их: мать и сына; за исключением Йозефа Веверки, который своим тихим ястребиным носом уже вынюхивал что-то вокруг стола. Остальные все еще шушукались — перешептывались.
«Ты послушай только, сынок, какой мне приснился сон. Мы были здесь, в этой комнате. Вроде бы это было днем, но все лампы горели. — Она показала лампы. — И было очень много кроватей. Все медные. Блестящие медные кровати, а между ними втиснуты кресла. Но все покрыты белыми покрывалами». — «Чтобы не испачкались! — с неожиданным раздражением процедил он. «Прямо как Йозеф Веверка. Он тоже. Всегда их стелит». — «Но настолько тесно, понимаешь, что едва можно пройти. Только прижавшись, боком. В одном кресле сидел Матьяш Ракоши. От головы исходило сияние, мы разговаривали. Вы тоже так много переводите, уважаемый Матьяш, как и мой Матьяш, спросила я его. Я сидела на медной кровати, сжав колени. О да, ответил Ракоши, только вот я… и пожал плечами. Да, конечно, прочитаем в газете. Мне холодно, сказал Ракоши и накрылся коричневой, шуршащей ветровкой. В тот момент я опомнилась и проскользнула между кроватей. Сейчас принесу кофе, крикнула, обернувшись. А пока вы поговорите, мужчины». — «Чего, папаня тоже там был?» — «Да. И не говори папаня. Вот, и тогда я зашла в ванную, чтобы зажечь огонь, потому что гостю холодно. Но перед поленницей лежала большая черная собака, а на спине у нее маленький ягненок. Когда я входила, собака выскользнула, два Матьяша тотчас же устроили из кроватей баррикаду и спрятались за ней. Баррикада оказалась такой хорошей, что у них прибавилось смелости, и они стали дурачиться и лаять из-под кровати. А я даже ягненка боялась! Но как после этого выглядели их рубашки! У твоего отца еще куда ни шло, а вот у бедного Ракоши!»
«А мне приснилось, — грубо накинулся он на ожидающую мать, — что Лаци Надаи показывал сумку, которую можно вешать на плечо. На ней написано: Москва 1980. Со смехом показывает на чудесную пагоду, из строительного конструктора «Мэрклин». Что это? Смеется, как ребенок. Потому что ее, эту пагоду, я всегда передаю хозяйке дома, говорит он и кланяется, как герцог Кероуак, и если потом после прошусь переночевать, меня с легкой душой пускают, зная, что я не пробуду дольше положенного времени, здесь ведь пагода. Лацика, милый мой, что это за ити-отизм? — Вот что мне приснилось».
Женщина слушала, немного обидевшись на то, что они в таком темпе проскочили ее сон. Он подключался (не один раз). «Милая Лилко, — сказал он со строгостью человека, принявшего решение, — довольно вести праздно-размеренную жизнь, — (тут женщина состроила кислую мину), — каждое утро записывай, что тебе приснилось». — «Но бывает, — что мне не снится ничего, бывает, что забываю». — «Матушка, тогда ничего не записывай. Но никаких прибавлений, никаких убавлений. Что скажешь? Напишем об этом книгу, я облеку все в художественную форму, и деньги посыплются!» Мастер обнял мать и хотел было закружить ее в воображаемом вальсе, а она взяла и не далась. «Ты с ума сошел, сыночек», — стыдливо, с гордостью улыбалась она. «Видите, друг мой, я мыслю теперь одной литературой. Скажет кто-нибудь что-то безобидное, а я как паук-крестовик: дай ему! Что за хромоножие!» Однако я очень хорошо знаю, что скрывается за этим самокритичным выпадом.
Собственное сердце! Потому что на тот момент мать мастера была очень плоха. Дело и не в конкретной болезни, а скорее в том, что ей не хотелось поправляться. «Как хорошо сейчас все складывается, а я уже ничего больше не могу выдержать», — говорила она, опираясь на множество подушек, и изумительные кошачьи глаза наполнялись слезами. «Ну, не надо, мамочка», — говорили ребята, и гладили ослабевшую руку, и шли по своим делам. Но когда врач уже хотел поговорить с мастером как мужчина с мужчиной — нужно было что-то предпринимать, — тогда последовало чудаковатое предложение мастера о соавторстве. Вот как надо, значит, это воспринимать.
«Хорошо выглядишь, киска», — шлепнул Эстерхази свою мать, там, где обычно шлепают потаскушек; женщина кивнула и, опершись на сына, проковыляла (сужение сосудов?) к праздничному столу, который ломился от множества земных благ. Отец — седовласый журналист — воскликнул: «Дьердь!» Марци, вылезший с сонной физиономией, подтолкнул своего самого старшего брата: «Желваки на скулах». Это был известный признак того, что отец нервничает. Сколько подзатыльников, послуживших хорошим уроком, было получено вслед за этим в свое время. С тех пор расстановка сил переменилась, но и сейчас души переполняет глубокое почтение при виде мускулов на отцовском лице, что возможно, лишь когда жилы натягиваются и поднимают щетинистую кожу на поверхности лица (что, если рассматривать причину, означало сильное сдавливание зубов), как если бы в голове сцеплялись скрытые проволочки; каналы гнева (иными словами). Отношения между отцом мастера и господином Дьердем не были безоблачными, с моей точки зрения, и в качестве непрошенного адвоката («ива его мать, mon ami») могу рассудить, что причиной тому послужило столкновение суверенного характера господина Дьердя, а также авторитарных поползновений отца.
Für alle Fälle[36] за этим вспыльчивым выкриком: Дьердь! — «скрывались долгие годы противостояния». «Желваки на скулах», — повторил господин Марци прежний сигнал опасности. В этот момент мастер, движимый внутренним чувством, сиганул с торжественного сборища. «Пэссподи», — воскликнул он заранее, И вправду, как только он открыл какую-то дверь — вернувшись на место преступления, — то изволил увидеть вытянутую ногу. «Друг мой, рыдающую ногу!» Господин Дьердь стоял на коленях возле батареи, рук» его медленно, очень медленно сползала вниз по рубчикам, и всего великана сотрясал плач. По пыльной поверхности батареи устремлялись вниз роковые полоски от пальцев. «Что случилось, старик?» — наклонился мастер с испугом и, тяжело дыша, притянул к себе груз и поднял его. «Не будь дураком, я ведь совсем… ну, Дъердьечке, не плачь, ну, ну, не надо, ну: маленький мой». — «Ты совсем сдурел», — всхлипывал господин Дьердь. Мастер поддерживал рыдающего младшего брата, вплотную приблизившись к его лицу, которое раскисало от настоящих слез. «Господи, какая же голова у тебя здоровая», — невольно проговорил мастер и поглаживал господина Дьердя. (К несчастью, от того ужаса, в который его привел звериный рык, мастер забыл о болях в позвоночнике у господина Дьердя. Бедняга даже у костоправа в Словакии побывал.) Большое тело — минуя обедающих — повлекло себя в ванную. Он в это время плелся за ним вслед; стараясь быть полезным; но без особого успеха.
Господин Дьердь ополаскивал холодной водой распухшее, покрасневшее лицо. Однако мастера потихоньку охватывало отчаяние: господин Дьердь, убрав от лица полотенце, встал к зеркалу, выдавил угорь и попросил расческу, которую он с готовностью протянул. Чего темнить, брат прихорашивался перед зеркалом, мало того, пригладив — ладонью — назад прическу, сказал: «Засунь себе в одно место Венеру Милосскую, писателишка!» — «Свинья ты!» — выдавил мастер, признавая, что младший брат таким образом с его помощью сбросил свое прежнее «я», но господин Дьердь тотчас же охнул и согнулся возле раковины. Мастер, таким образом, не знал, что и думать. «Пойдем», — сказал он согнувшемуся в три погибели господину Дьердю, запутавшись, и тот, бросив последний взгляд в зеркало, — покладисто отправился за ним. Господин Дьердь хорошо умел почистить перышки, как павлин. Остальные не стали дожидаться гуляк и ели суп. «Он дурак», — указал господин Дьердь на мастера и с коротким охом сел к столу, чтобы наверстать упущенное.
Однако обещанный мной водевиль закончился не так, как короткий весенний дождь, он как следует полил, правда, уже не в таком темпе. «Тетечки» и «дядечки» раздувались от восхищения. Дядя Эдэн, который до старости сохранил свои усы и бороду в прекрасном состоянии, по очереди с Йозефом Веверкой нахваливал: «Лилко, этот суп — произведение искусства». Веверка произнес короткую речь, и мадам Веверка, крохотная, худенькая женщина, подтолкнула его: «Хорошо сказал, отец». В этот момент — из-за большой спешки, вероятно, — из руки господина Дьердя выскользнула вилка, простучала по тарелке и поскакала дальше. Господин Марци рыкнул: «В чем дело, приятель? Вынь кузнечика из столового прибора». Что потом было! Предваряя это, нужно еще добавить, что перед ними плескался изумительный суп!» — «Остатки, друг мой, остатки. Но приправлен был очень искусно!» И поскольку на матовой поверхности коричневого супа шевелились мутными зеркальцами пятна жира, мастер, склонившись к тарелке, немного закочевряжился. Поэтому, вероятно, и случилось так, что на шутку о кузнечике мастер прыснул в суп, составляющие которого (тминные зернышки? горошек? или перец?) наподобие участливых мух так и полетели над столом.
(А ведь как осторожно вел он себя с супами. У этого есть история. Любители литературы знают, насколько безоблачны были отношения мастера с официантами; подтверждение тому — несметные гонорары. На первом талоне о выплате гонорара стояло: гоноррея. Пиф-паф, ой-е-ей. Но все-таки был один случай. Он как раз изволил чревоугодничать в «Кукушечке». «Mon ami, вы только посмотрите на этих экспертов: молятся, читают Святое Писание, а сами в это время чинно пощипывают бифштекс а-ля Шатобриан». Мясной суп с галушками, такова была первая половина решения Верховного суда, с нашей точки зрения, это достойно упоминания. Галушку он разламывал по диагонали [обязательно: по диагонали!] ложкой и глотал таким образом, что конический, то есть неразломанный конец шел по ходу движения [губы, ротовая полость, гортань и так далее]. Однако внизу! Внизу вдруг, когда никто, ну никто этого не ожидал, жар, который заключался внутри громадной манной галушки, развалился; развалился, распространился, и он думал, что конец пришел. Жар все наступал, а он ничего не мог сделать. В буквальном смысле слова: ни выплюнуть, ни проглотить. В этот момент к нему подошел официант — чрезвычайно услужливый, — но он, покраснев лицом, теперь уж правда не знал, как себя вести, мало того: стыдился своей беззащитности перед лицом галушки. И знаком отослал его. Официант — повинуясь желанию гостя — убрался; мастер попытался позже исправить дело неоправданно большими чаевыми, чем, конечно, еще больше его испортил.)
Гости деликатно стучали ложками, мать мастера бушевала. «Ну, это уже через край. Взрослые люди!» Господин Дьердь — радуясь найденной ложечке, — ехидно сказал: «Мало того, у Петера еще и диплом есть». — «Желваки на скулах», — прошептал наблюдательный господин Марци, но затем призвал к порядку начинающего распаляться мастера. «Ты что, не можешь держать себя в руках?! Поцелуйся с мадам Солекислотной!» Мастер, соглашаясь, цокнул языком и вскочил, чтобы записать следующее; вот оно перед вами. «Видите, друг мой, наступают трудности (в написании романа. — Э.) переходного характера», — «Что это за бестактность, вскакивать из-за стола», — нашла новую придирку мать. «Не кипятись так, матушка!» — «Ну, ну», — заворчал глава семьи.
Тарелки были сменены (благодаря передвигающейся на заднем плане мадам Гитти, которая, как порядочный врач из поликлиники, держала руку на пульсе событий), и вот уже перед ними красовались котлеты а-ля Лили: тающие во рту, мягкие, почти невероятные. «Лили, милая! Как ты это делаешь?» Автор котлет загадочно улыбалась. «Кушайте». В этот момент отец мастера намеренно расхохотался: «Надо было видеть, друг мой, как моя мать посмотрела на отца! Как ребенок, когда он ужасно злится! И от злости вот-вот начнет топать ногами». Не буду вас мучить; разгадка этой вспышки в том, что котлеты — просто фарш!!! «Однако прекрасно преподнесенный». Поэтому они и тают во рту как масло и т. д. «Лилко! Они тают во рту!» — «Дорогая Лилко, их даже не надо жевать, они сами собой разжевываются, вотчто я тебе скажу!»
На тарелке господина Марци еще оставался маленький кусочек, последний вестник, из разновидности немного пригоревших, которую мастер и так предпочитает более бледным сородичам. Он попытался ее спереть. «Руки прочь от Вьетнама!» — страстно воскликнул господин Марци. (Здесь вы сталкиваетесь с недостатками перевода, точнее, переводческой бравадой, недостатки наши приравниваются к добродетелям.) Огорченный мастер уже пошел было на попятный, когда черты господина Марци смягчились, он поддел кусок мяса на вилку и, протянув его мастеру, остановился на полпути. «Значимое было событие». — «Старик, — сказал он мягко, — вот мясо» — и мастер подвинул вилку в его сторону. Он пищал от удовольствия. («Много ли надо».) С готовностью клюнул на приманку; поскольку расстояние было небольшое, он потянулся за мясом ртом. Господин Марци чуточку отодвинулся. «Вот мясо. — Лицо его посуровело. — Здесь оно и останется». С этими словами он, ам, и проглотил его. Мастер же, таким образом униженный, подталкивал свою пустую тарелку к собирающей их мадам Гитти, которая утешительно потрепала его рукой.
«Кофе выпьем в доме, — сказала хозяйка, и со смехом добавила: — Надо сказать прислуге». Что, естественно, было произнесено с самоиронией, но вышло на этот раз боком, по причине присутствия там мадам Гитти, на чей счет это могло было быть отнесено, и создалась эдакая классическая ситуация «свекровь-невестка», а ведь если и есть такие свекровь и невестка, которые хорошо уживаются, так это жена мастера и мать мастера. Заслугами удивительного объединяющего фактора, конечно! Гвоздь программы при распитии кофе: господин Марци, который пьет изначально горьковатую субстанцию с шестью кусками сахара, утверждая, что из шести кусочков надо выстроить башню, и самое интересное во всей церемонии — то, как башня разрушается. Никто не мог остаться в стороне, задержав дыхание, различные поколения ожидали, когда же кофе «насильственно разъест» постройку, один кусочек развалится, башня покачнется и потонет во тьме… «Смотри, как пьяный, который медленно соскальзывает при настройке селитерной стены». Из чашки господина Марци, как вывихнутая конечность, торчала ложка. Мать незаметно (покачав головой) положила ее на блюдце.
Йозеф Веверка бесшумно крался по комнатам, и, найдя пальму панданус — а одну он нашел, — поворачивал ее к солнцу. Мастер следил за ним взглядом. Дядя Эдэн взял отца мастера под руку. «Душа моя, мне нужно сказать тебе одну личную вещь». Он поглаживал бородку. Мастеру очень нравился его юмор: «Знаете, друг мой, по ходу старения дяди Эдэна можно было проследить этот процесс. Он был красивый мужчина, вокруг него увивались женщины. Der schöne Ödön.[37] Так вот, его напористый, суховатый юмор чем больше развивался, тем менее становился управляемым». С чувством: «Тьфу, дидактика». (Как-то раз, путешествуя со сборной по гандболу в Вену, он, в качестве невольного перла, признавая «привлекательность нападающей», сказал девушке: «Знаете, Амалка, как только я вас вижу, то определенно чувствую запах гола». — «Ах, как мило», — вроде бы сказала девушка, покраснев. Дядя Эдэн даже получил бесплатный билет.) «Душа моя, мне нужно сказать тебе одну личную вещь». Дядя Эдэн был джентльменом. «Я к твоим услугам, душа моя», — покорно затянулся сигарой седовласый журналист. Отца мастера — так казалось мастеру — собственный класс утомлял. Но не будем и продолжать: «Об отцах можно столько хорошего написать, они ведь уже так давно живут на свете». — «Слушай, душа моя, дело чертовски деликатное». Мастер навострил уши, заполз по-пластунски за занавеску, взобрался на полированный стол («который так красиво пузырится») и незаметно «стал частью сервировки, второго завтрака». Как обычно, он пошел на все, на все жертвы, каких требовала профессия; он был прилежен.
«Я к твоим услугам, брат Эдэн». Однако улыбку трудолюбивый человек вновь скрыл за пеленой сигарного дыма. «Душа моя, Йоланка прислала открытку, в которой сообщает, какого шума наделала там наша поездка в Бретань». Обе брови асимметрично — отцовское наследство — вопросительно шевельнулись. «Слушай наш общий друг, имени его не хочу произносить громко, — и тут он взглянул на телефон, — французский граф, как ты знаешь, душа моя, удалился на покой в свое поместье в Бретани». Отец мастера кивнул. «У него, вероятно, малейшего понятия не было, о чем говорит добрый Эдэн. Знаете, друг мой, однажды я был свидетелем его спора об одной книге, которую он с чрезвычайным напором защищал, и противник его затем под грузом аргументов сдался. И тогда старик, не совсем по правилам, сразил его наповал, сказав, что даже не читал книгу. Also, weißt du, Matthias!..[38] Тот человек чуть не задохнулся. Действительно нахальство, не так ли?»
«Душа моя, когда мы с женой навестили его там, то обнаружили многочисленное общество местных, как бы это сказать, роялистов, собравшихся на великолепный праздник в саду, на котором «генерал» с его живой, остроумной манерой проявил себя любезнейшим хозяином». Отец устало кивнул. «После того как вечером прозвучал последний звук скрипки, он отвел мою жену на возвышение, которое располагалось на большом дворцовом лугу, собрал вокруг себя всех танцоров и танцовщиц, подал знак Оркестру, и этот семидесятипятилетний старец подвел к жене склонившееся в «фарандоле» общество».
«Это превосходно», — сказал отец мастера и, поскольку на фаянсовом блюдечке появился кусок торта, потянулся за вилкой. (Он, можно себе представить, в страхе сжался.) «Еще бы, душа моя, только, знаешь ли, слава графа!» — «Да уж», — сказал седовласый журналист, проявляя все большую осведомленность. «Душа моя, граф, например, в часовне своего замка в Бретани с великим благоговением хранил тот платок, которым, как говорят, — здесь голос рассказчика притих (а мастер чуть не плакал; все-то они «замалчивают»), — как говорят, вытирал лоб лидер движения». Дядя Эдэн хихикнул. «Знаете, друг мой, не часто услышишь хихиканье мужчины». Для него это было драгоценным переживанием, жаль, что жизнь дяди Эдэна клонилась уже к закату, а не входила в свой зенит. «И знаешь, душа моя, хи-хи-хи, эдакий коммунистический платок Вероники». Отец мастера расхохотался. «Очень хорошо, дядя Эдэн, замечательно». Однако внезапно он посуровел, как в смешном немом фильме. («Наверняка играл, старый плут».) «А в чем дело?» — «Все же, душа моя, у тебя ведь есть доступ…» Дядя Эдэн замолчал и просительно посмотрел на отца мастера. Тот долго тянул время. «Паршивец», — после длительного молчания — это только что касается двоих собеседников, потому что невнятные звуки отдаленной болтовни продолжали журчать, — он серьезно произнес. Руку положил на плечо собеседника. «Спасибо, брат Эдэн, что сказал. Мало того, я пойду далее». Десертная вилка скользнула на пол. «Я пойду далее и выражу благодарность, и попрошу тебя: если когда-либо до тебя дойдут несущественные на первый взгляд подробности, то обязательно сообщи мне. Из таких крупинок мозаики составится, прояснится общая картина». Ему, видно, было совсем невмоготу — он оставил дядю Эдэна считать ворон.
Господин Дьердь мутил воду вульгарными поисками «Непшпорта». «Одна только радость у человека — — — — — спорт после обеда, так и его убирают». Стрела критики была направлена, очевидно, в адрес матери. Отец мастера, утомленный и освеженный состоявшимся семейным разговором, подстрекаемый основополагающей чертой своего характера, к чему также примешивались угрызения совести, поспешил на помощь жене то есть стал искать газету. «Возле пальмы панданус нет», — вставил слово Йозеф Веверка. «Знаете, дорогая Лилике, — продолжил он начатую беседу, — такое разнообразие мяса!» Отец мастера ушел искать среди цветов но это лишь еще больше разгорячило господина Дьердя. «Хорошо, что ты еще не на чердаке ищешь, старый мошенник!» — прозвучал непочтительно голос. Седовласый отец поднял руку и произнес одну из тех своих сентенций, от которых господина Дьердя, так сказать, аж перекосило всею: «Сын мой, если уж нет там, где есть, то надо искать там, где нет». Ребята одновременно замахали, как женский танцевальный ансамбль (только те машут ногами). «Хорошему человеку совесть указывает хорошую дорогу», — сказал мастер.
«Какой выбор мяса!» — «Вы еще помните магазин «Латка Й. П.»?» Йозеф Веверка утвердительно кивнул. «Боже мой: латкайэпэ! Тот самый магазин деликатесов!» Мать мастера, может быть, впервые с уважением посмотрела на Веверку. Она никогда не говорила ничего плохого о нем, мало того, иногда даже жалела. «Петер, этот бедный Йозеф Веверка, он такой несчастный… Он выглядит таким усталым, бедняжка!» Но теперь латкайэпэ, вероятно, направила отношения двух людей по нужному руслу. Глаза Йожефа Веверки, как обычно, налились кровью. «Ну да, а «Стайич»! В «Стайиче» было двадцать пять видов колбас. С жиром, с печенью». Женщина отвечала ему: «Был еще на улице Кидьо такой мясной магазин, названия уже…» — «Филе было по девяносто шесть филлеров, не по сто форинтов! Девяносто шесть филлеров! Пара молочных поросят была три форинта, хорошие ботинки были четыре форинта. Землекоп получал один форинт! И вот теперь, пожалуйста! А эти еще…» Йозеф Веверка замолчал, и вдруг наступила гробовая тишина. «Никто, очевидно, и не слушал», — сказал мастер с неодобрением. «Ну что, тема иссякла?» — крикнул господин Марци из наружной комнаты, где способный, но несколько неуклюжий в движениях центровой чем-то лакомился. (Господин Марци ест больше, чем господин Дьердь, как бы это невероятно ни звучало.)
Большой младший брат (господин Дьердь, кто еще не знает) с коробкой «Мальборо» в руке был душой компании. Он напустил вокруг себя тучу голубоватого дыма. Господин Дьердь любит и умеет поболтать, не спеша выпить. Еще ребенком этот превосходный, остроумный собеседник хорошо чувствовал себя в кругу взрослых. «Это немало, друг мой. Я иногда просто неспособен поддерживать разговор». Да: ну, он — другое дело. Великое уважение к языку, который является его рабочим инструментом, легко закрепощает. Да вот и теперь: «убийственное сидение сычом» он прервал лишь однажды. Спросил одну «раскрашенную женщину», действительно ли она считает, что сильвияшаш[39] просто класс? А ведь мастер так разбирается в музыке!.. (Однако: мастер и музыка! Это великое влияние, оказываемое на него! «Я необразован, mon ami. Но пусть это вас не вводит в заблуждение. Слушать я умею».) «Класс. И внешность у нее классная. На сцене это не последняя вещь». «Так как потихоньку наступало время вечернего телефильма», гости стали собираться домой. Мастер взглянул на часы, на эту хитроумную машину, чтобы узнать, не началась ли уже вечерняя месса.
В этот момент заявился господин Киштелеки, один центровой, они дружески похлопали друг друга по спине; из угла выкатился маленький желтый резиновый мяч — «сдутик». («Может, оттого, что мы все стояли на одной стороне, и дом накренился?») Господин Киштелеки поднял неожиданный подарок, красивы лошадиные зубы блеснули от радости, и начал подбрасывать, «жонглировать», передав после нескольких безупречных подкидываний вверх-вниз мяч господину Дьердю (который, будучи защитником, превосходно жонглировал: если засечь время, то из троих братьев он выдерживал дольше всех, может быть, из-за большой поверхности ступни; однажды мастер рассказал товарищам, что один трюк — на бегу через голову стоя спиной — господин Дьердь может проделать даже с пивной бутылкой. «С пустой?» — «Конечно. Он не дурак; он виртуоз». Смех стоял громкий), затем господину Марци, а в конце цепочки был мастер. Это и подало потом идею, со всех сторон стали раздаваться возбужденные крики: «Соревнование по жонглированию! Просим! Жонглирование!» Наспех установили правила. «Камень! Ножницы! Бумага!» — и порядок выступления был решен. У троих братьев было одинаковое количество очков, когда подошла очередь господина Киштелеки. С большой уверенностью в своих силах приступил он к работе, в зубах его отражались многочисленные пасхальные огни. Однако, когда он достиг результата Эстерхази, они — не сговариваясь — под громкий хохот «пихнули» господина Киштелеки. «Знаете, втихаря к нему все трое подобрались». — «Ничья», — громко закричал мастер. «Икс!» — «Четырехкратная ничья» — таково было официально вынесенное решение. Но господин Киштелеки надулся. (Что, бесспорно, объяснимо с личной, мелочной, частной позиции!) «Вы не джентльмены», — весомо произнес он. После короткого приступа веселья бедного парня все же однозначно прижали. «Приятель, здесь речь не о благородстве, а о жонглировании». И чокнулись. То был достойный пример братской дружбы и солидарности.
Традиционную воскресную благодарственную мессу он изволил провести в местном соборе. Время он там провел никчемней не бывает, внимание его было рассеянно; оно концентрировалось на нескольких памятных моментах и снова беспардонно застревало. Сразу на первом. Он снова вспоминал, как Того пошел… наверное, все-таки надо было ему подкатить мяч, если бы Тото тогда вернул его, дело было бы в шляпе: окна-двери нараспашку; если бы он ушел, то, наверное, дал бы хороший пас, и он подоспел бы, и с нулевой прямо между глаз!
Внезапно он изволил ощутить тишину. Все усиливающийся шелест бумаг: их листал священник. «Однако он усиленно листал». Вперед, назад, уже видно было, что безо всякого порядка и положился на удачу. Она же изволила запаздывать. Мастер выжидал. (Был такой период в его жизни, когда он крайне сурово осуждал ляпсусы, случающиеся на службе; да и теперь отнесся к этому без особой радости, однако и без содрогания!) Перелистывание внезапно прекратилось. «Есть», — сказал священник, и даже если мастер знал, что это прочитано, а продолжено будет так: (как) сказано в Писании, все же невыносимый юмор сцены, вытекающий из возможности светской актуализации святого текста, дошел и до него; «он даже толкнул ногу Гиттуш».
Перед ним сидели мужчина и мальчик. «Отец и сын». Отец был ниже; у обоих были красивые, прижатые к голове уши, и у обоих были недавно («и, друг мой, отвратительно») подстрижены волосы: они внезапно кончались на середине шеи, чуть ли не слышался металлический лязг ножниц, «напоминающих крылья падшего ангела», чтобы обнажить красные пятна натертой кожи. Когда мальчик один раз повернулся к отцу, мастер заметил строгий профиль, сильные очки — мальчик сидел так, что иногда сквозь эти очки глядел и мастер — на покатые плечи, все это вместе взятое выражало упрямство, знакомое мастеру по собственной юности: самоиспепеляющую суровость встревоженность, доверчивость и недоверие. При виде этой силы человеку ответственному пришло на ум: «Как я смогу объясниться со своим сыном теперь?!» И: «Надо выдержать этот взгляд, тогда, может, все будет в порядке».
И тогда произошло ошеломляющее событие. Мальчик поднялся — уже в самом этом было что-то пугающее, и это не просто позднейшие поправки, — подвинулся поближе к отцу, а затем вдруг неожиданно, но с такой нежностью, которая растрогала даже мастера, склонил голову на плечо отцу. Мастер предвидел намного раньше, как мальчик осторожно начнет укладывать свою голову, поэтому у него было время погрузиться-предаться чувству. Тем более шокирующе было то, что когда голова — достигнув одновременно плеча и шеи или уха, установить это было тяжело вследствие выбившейся пряди — коснулась отца, тот, как бы от испуга, вздрогнул и раздраженно буркнул на мальчика: «Перестань». Композиционное чутье мастера вроде бы разгадало конфликт. «Печальный, единичный случай». Но это еще было не все. Это еще было ничего. Мальчик был поражен, подбородок его настойчиво выдвинулся вперед — первый признак, — голова почти ушла в эти самые покатые плечи, и низким, ворчливым голосом, в то время как рот его округлился, будто бы он надувал воздушный шарик, глаза же испуганно проехали навстречу друг другу, он что-то неразборчиво прошептал, это, однако, было так громко, что дрогнуло сердце. У мастера уж точно. В глазах мальчика ужас и счастье сменялись так быстро, что почти сливались в одно. Потому что подошел ризничий; отец, которого мастер давно простил, выудил из кармана два форинта, и когда мальчик дрожащей рукой, с третьей попытки, высунув язык, попал в щель, то был сама благодарность и радость. Он долгое время с восхищением смотрел на отца. «Ладно, ладно», — сказал тот быстро.
И тогда — при виде аллегорично продемонстрированной, побуждающей к личному самоанализу непреходяще-древней юношеской чистоты, которая сейчас показала себя, — тогда у него на глаза навернулись слезы; и он преклонил колени, чтобы помолиться за мальчика. «Маленький мой братишка, маленький мой братишка, маленький мой братишка».
Так прошло время до благословения, являвшегося для мастера великим таинством. Это не опишешь словами. «Идите с миром!»
12 Господин Ференц, трансильванский прозаик, предложил мастеру, а мастер — господину Ференцу написать новеллы-близнецы. «Определим несколько параметров, и все», — сказал мастер, ухмыльнувшись. «И все», — кивнул трансильванец. «Штефанович, человек будущего», — добавил он еще и посмотрел на Эстерхази, понял ли он. Теперь очередь кивать перешла к мастеру. «Деталь пространства скомбинируем с личностью». — «Дядя Фери, — сказал он при последующей встрече, поскольку мастер всегда следит за тем, чтобы приветствовать старших коллег с глубоким и почтительным почтением, — дядя Фери, я увяз в более длинном тексте, так что отложим пока». — «Отложим», — кивнул господин Ференц, и огромная шапка волос печально упала на плечи.
13 Из «прекрасно освоенного набора писательских приемов» мастер обратился здесь к приему дополнительной характеристики (произошло с ним, как вы понимаете, жизненное событие, которое он затем отразил в системе координат, — это для тех, кто хочет использовать его в своих упражнениях. — Э.). «Знаете друг мой», — и, вздохнув, он щелкнул по спичечному коробку. Тот взлетел вверх в малоэстетичную атмосферу кабака, затем вниз. Пас. Господин Ичи выиграл. Вратарь довольно хохотнул. Однако в этот момент господин Чучу неожиданно и с нехарактерной для него решимостью (упрямство более свойственно этому техничному спортсмену) заявил, что предыдущее состязание было в осенний сезон, и 1) сейчас будет весенний; 2) начнет он; 3) и переставит кружки (и стаканы. — Э.). Ибо, с умом переставив кружки и вообще все сопутствующие питью предметы, можно было достичь того, чтобы спичечный коробок чаще, чем это гарантирует статистика, оставался на «полезной площади» и не был бы зажат между кружками. (Результат был «зацепил», если коробок, приземлившись в болтающуюся на дне кружки жидкость, «встал на ноги»; в смысле «горячо, зацепил». Напоминаем здесь также, что тринадцать одинаковых по размеру шариков распределятся самой плоской кучкой, когда 12 окружат и закроют тринадцатый. Касающиеся тринадцатого, центрального, шарика центры 12 шариков совпадают с вершинами икосаэдра. Ср.: Иисус и двенадцать апостолов, Иаков и 12 колен Израилевых, Солнце и 12 знаков зодиака, «небесный Ерусалим» и 12 ангелов, крест и 12 его прямых углов и т. д. Художественное изображение символа-икосаэдра мы находим среди вдохновленных абсолютно чистым разумом офортов Суламита Вюльфинга.)
Как только мастер перешел в своих мыслях на шепот, мир тоже почувствовал что-то в этой внутренней тишине. Кабак затих, одни только кружки господина Чучу звенели-дребезжали. Он обнаружил какую-то новую, замечательную систему. Кабатчик, с недомытым стаканом в руке, с засыхающей на кисти руки пеной, махал на вновь вошедших, чтобы вели себя тихо; он думает. «Знаете, друг мой, — посетители: рабочие, крестьяне, интеллигенция, с напряжением наблюдали, — и, знаете, я придавал большое значение тому, чтобы в произведении секретарь комсомольской организации вызывал симпатии. И я считаю этого молодца (Андраша Бекеши) симпатичным». На эти слова лицо кабака просветлело, люди повскакивали, незнакомые кидались друг другу на шею. Мастер со своей чистотой вскочил на замызганный стол и повел. Писатель и читатель с удивительной сплоченностью пели:
Любовь никогда Не бывает без грусти, Но это прекрасней, Чем грусть без любви.(«Киса моя, киса моя, что он несет!» — невинно улыбается он. Что правда, то правда: у него нет иллюзий насчет этой сплоченности. Ностальгия, na ja, есть. Хотя однажды… Кого-то как раз обходили, он играл легко и по-умному. «Старался», — сказал в душе господин Ичи господину Чучу, и они пихнули его под холодную воду. И вот тогда вратарь противника лукавым от почтения голосом спросил мастера, не тот ли он Эстерхази. И сказал мастер, зная распорядок мирской славы, что нет, он его старший брат. Что, как известно, он старший брат господина марци. В те времена господин марци, кажется, штамповал голы в Будафоке. И восстановление справедливости со стороны образованного противника: «Правда? Старший брат писателя? Мило».)
Господин Чучу, подтолкнув одну из кружек, довольно откинулся назад. «Что до меня, то я голосую за судьбу центрового». Мастер наклонил голову: чт могло означать и согласие, и болезненное сопротивление. Господин Чучу еще раз окинул взглядом конструкцию. Кивнул и дал знак господину Ичи: начинай. Господин Чучу мгновенно повернулся к мастеру («многозначительное переглядывание!»), вытряхивая из руки в сторону господина Ичи, как какого-то зверька, коробок. «Это случилось еще в пацанах». Мастер показал глазами: он слушает. Красное вино по кругу пустил он. Господин Ичи качал головой, но и у него уже загорелись глаза. «Это еще в пацанах случилось. Я просто к тому, что неизвестных великанов так много». (Господин Чучу — большой любитель неизвестного. Они, скажем, снова там, опираются на железное ограждение. Осыпается ржавчина. «На поле играет дубль или юниоры». Тогда господин Чучу с пафосом поворачивается к мастеру — что делает их такими беззащитными, — и говорит так: «Большой я любитель Неизвестного». Мастер тычет в кого-то пальцем: «Во дает. Круто». Господин Чучу продолжает: «Ты когда-нибудь перелистывал журнал «Вестник филателии» или «Нимрод»?» Настоящий вопрос. «В прошлый раз задержали на месяц, — говорит осведомленный мастер, — главный редактор в автобусе, что ли, оставил». — «А вот был ты на соревновании по дзюдо?». Мастер теперь только отводит взгляд от магического зеленого прямоугольника. «Я в прошлый раз был», — делится секретом господин Чучу. «И как?» — «Интересно. Так же, как когда перелистывал «Нимрод».)
«В пацанах тренером был Шатья. На каждой тренировке рассказывал одни и те же две шутки и всегда громко смеялся над шутками». — «Над каждой шуткой?» — «Над каждой. После короткой, но основательной (они хохотнули) разминки он делил команду на две части и, поскольку форма была одинаковая, говорил одной части: так, вы, растреплите волосы. Это была первая шутка. И сразу за ней вторая; кто-то еще смеялся, когда он говорил: победитель получает газировку с двойной порцией пузыриков». Видно, господину Чучу было очень важно, чтобы начинал не он, если он выступал с такими убогими прибаутками. Хотя мастер сказал, что ему эта шутка понравилась. Хлопал себя по колену, забавляясь. «Шатья был настоящий гигант, пил шампанское из туфли моей матери, а сам кричал: я самый лучший левый защитник в «Это». Отец трепал его по плечу. Лучший тормоз». — «И это тоже неплохо, — забавлялся он, — насчет лучшего тормоза». Господин Чучу с упреком посмотрел на вратаря, с отвращением поднял коробок «Точно в это время я выдал чрезвычайно хорошую форму». Он серьезно кивнул, и никто не испытал сомнений.
В этот момент вошел Габор Качо, секретарь заводской комсомольской организации, по девице с каждого бока (одна в очках). С широкой улыбкой он сказал: «Вот-вот: предатель». Как только он устроился у стола, господин Чучу вскочил. «Сядь», — сказал господин Ичи, но глаза от пивных кружек не отвел. «Знаете, друг мой, этот Качо был чрезвычайно вредной скотиной». Как странна эта его одностороняя вспыльчивость, ведь благотворное влияние секретаря комсомольской организации так очевидно: прохладительные налитки, бутсы, мячи и более-менее бескорыстно, от щедрот движения. Мне это так представляется. «Друг мой. О, сколько, сколько совещаний, обсуждений, собраний, агитаций, конференций превратились в пустую болтовню и стали воодушевленной видимостью демократии или, если участники сообразительней, практическим цинизмом» о, сколько, из-за этого типа?! И после таких грамматических запар — потому что вот что это было! да, это, черт бы меня побрал! это! — о, сколько народу устало махало рукой: и это мы проглотили. Какая при этом разница, что ловким распределением счетов проблематика счетов за прохладительные напитки… Я несправедлив». Да; простите, простите.
Но ведь настроение упало, вечер расстроился. Чуть погодя они плелись в сторону школы, где команда устроилась на ночлег. Они шли (домой) очень печальные, души их давил груз, такой, как (сама) ночь. Господин Чучу беспомощно путался под ногами. «Ты не заметил, как этот паршивец, белладонна, белена, ядовитый гриб, поднятая целина, проклятый паразит, ухмылялся, когда ты строил глазки его девице». Мастер протестующе отвечал: «Не строил я глазки». (На самом деле мастер посмотрел на девушку в очках, она ответила на его взгляд, затем точно так же, только в обратном порядке, они обменялись улыбками. От этого и завертелась карусель.) Правый Защитник поддерживал мастера и наоборот. Он же срывающимся голосом насвистывал блюз. Затем долгое время можно было слышать только шарканье ботинок. «Но очкастенькая все же была ничего». — «Ничего», — сказал господин Чучу, готовый к примирению. Мастер вроде бы в задумчивости стоял.
Пишущий эти строки в замешательстве; в самом ли деле он правильно поступает, обнажая? «Знаете, друг мой, трудное дело — занимать позицию относительно заблуждений века; если мы им противимся; то остаемся в одиночестве; если же подчиняемся, это не приносит нам ни славы, ни радости». Ха-ха-ха: Да ведь теперь он сам является «веком»… Не будем из людей делать опереточных солдат с накрашенными губами и в блестках, но неужели так нужна верность деталям, если она нетипична? И все же опишу вещи такими, какие они были, в надежде, что не поставлю никого в неудобное положение. Да, в случае с мастером речь идет о прямо противоположном: ведь никто не знает, какое утонченное сравнение принесет в подоле весело проведенная среднестатистическая ночь. Однако в случае с мастером речь была даже и не об этом: просто они с друзьями вечером были рады победе (на другой день не были рады утру).
Здание школы ударило в нос застоялым теплом. Батареи отопления время от времени таинственно щелкали, так сказать, несли службу, отопительный сезон, неизвестно для чего, еще продолжался. Спортсмены разбрелись по своим комнатам. Верный хроникер не мог заснуть, переполняемый ворохом впечатлений. Спустившись вниз, он случайно забрел в спортзал, где застал потрясающую картину. Скинутые одна за другой одежды и лужа блевотины (беззвучная уборка которой услугами уборщицы могла обойтись в двадцать форинтов) указывали путь. Помещение наполнял отвратительный запах смерти. Я натолкнулся на него за опрокинутым конем. Он отдыхал, лежа навзничь, как человек, который спит; возвышенные, благородные черты излучали глубокое спокойствие и непреклонность (Боже мой, можно представить!). В огромном лбу еще как будто роились мысли. У меня возникло страстное желание отрезать на память локон, но чувство уважения не позволило мне это сделать. Обнаженное тело раскинулось, завернутое в простыню. Я приподнял покров и был изумлен божественной красой членов. Грудь вздымается мощно, широко; мышцы рук и бедер немного полноваты; ноги совершенной формы; и нигде во всем теле никаких жировых отложений (может быть, только в семейном двойном подбородке) или худобы. Передо мной лежало мужское тело безупречной красоты, и от восхищения я на несколько мгновений забыл, что бессмертный дух покинул — вино! красное! — сей сосуд. Я приложил к его груди руку — глубокая тишина была вокруг — и отвернулся, чтобы дать волю сдавливаемым слезам.
Утро было грустным; понятно. Петер Эстерхази с кислым лицом и горящим желудком свернул на какую-то широкую улицу, которую вдоль и поперек раскопали, устанавливая газопровод. (Для тогдашнего состояния мастера было характерно то, что он, обладатель обостренного социального чувства и überhaupt[40] сознания ответственности, глядя на блестяще-красивые трубы, с такой готовностью заворачивающие к новым домам, смог проявить лишь крайне отстраненную радость, ворча: «Что за бардак».) Он изволил пробираться по большим причудливым кучам, а затем по ведущим через канавы доскам. Опускал и поднимал дрожащие веки. «Не выношу темноты», — сказал он господину Ичи. Господин Ичи кивнул и укоризненно сказал: «Я дал уборщице двадцатку». Мастер, преисполненный раскаяния, посмотрел на него, чистый, твердый взгляд господина Ичи его бодрил. Но желудок сводило. Холодно было, утро серое. Он изволил завернуть в гастроном, купить молока и большую булку. Принялся размышлять: пол-литра? литр? Продавщица в гастрономе обошлась с ним приветливо, и мастер тотчас же заметил, что на халате женщины, в районе живота, не хватало одной пуговицы. Белое полотно раздвинулось, и образовалась щель для подсматривания. Мастер склонил голову набок, но не смог определить, живот он видит или комбинацию. «Вот большая булка и молочко, еще что-нибудь?» Когда мастер оглянулся и увидел ее сквозь стекло витрины между двумя бутылками с пивом, женщина уже не улыбалась: считала. «Знаете, друг мой, проникать взглядом между двумя бутылками с пивом так, чтобы они не опрокинулись, — вещь непростая». Он попросил вратаря с рефлексами тигра, пожалуйста, вскрыть пакет с молоком, он со своими острыми зубками и то уже без толку погрыз два уголка. Господин Ичи снисходительно залез в карман и неплохим складным ножом — вжик! — отрезал тот утолок пакета, который мастер зверски погрыз. Он после этого стал мелкими глотками прихлебывать молоко (некоторые капли иногда вырывались на свободу по губам на подбородок и дальше), чувство было такое, как будто желудок поглаживают шелковистые руки.
Они изволили отправиться на стадион и сыграли матч за выход в финал. На поле шла отвратительная «мясорубка», головы так и сыпались; выиграть надо было с восьмью голами, и результат был 8:1. «Что за извращение! Даже радоваться не было времени!» Мастер уже во время тренировки все чаще подумывал о маленьком пространстве с кафельными стенами, две противоположные стены которого украшали картины: виадук в Веспреме и Дворец в Фертэде. (Две художественные фотографии.)
«Столько голов забили, прямо тошно», — сказал мастер в раздевалке, где застойный воздух чуть не бил по лицу, и немного погодя он уже выскочил в уборную, чтобы содержимое желудка — молоко — покинуло его, а самому голову прижать к холодному кафелю, какового кафеля прикосновение как рукой снимает, как рукой! — и, придя в себя и заглянув в унитаз, воскликнуть: «Как классно пенится! Как снеженика!» — «Не будем, однако, забывать и красное вино», — ядовито сказал господин Чучу. Габор Качо — который, чувствуя, что нападающие его не очень-то любят, да и он не любил их, — процедил сквозь зубы: «Мало. — (Имеется в виду: мало 8 забитых голов!) — Не отметят!» Господин Чучу, как обычно, «завелся» и послал секретаря комсомольской организации к такой-то матери. Мастер тоже побледнел (хотя у него за этот интервал времени причины могли быть двоякими), но присутствия его духа еще хватило настолько чтобы обнять господина Чучу и таким движением, которое едва ли кому-то будет неприятно, погладить господина Чучу по лицу: «Спокойно, голубчик мой. И правда, мало». Господин Ичи мрачно молчал.
— — — — —
Позади остались растущие, как грибы, дома, уже давно смеркалось; коварно и неудержимо, как наводнение, распространялась темнота, и он, держа мешок с формой в руке, с медленно рассеивающейся грустью в сердце, вышел из автобуса (на остановку раньше, чем «нужно» и «рекомендуется» — если рассчитывать геометрически) и направился вверх по проспекту А., когда встретил господина Шандора, поэта. Поэт курил и с привычной любезностью предложил мастеру советскую конфету, карамель «Северянка», от которой молодой мастер, однако, сославшись на состояние своих зубов, с благодарностью отказался. (Как разболелись зубы! Как будто у мастера болел нос. Целыми днями слонялся он по комнате, как сонная муха. А ведь была весна, чудесная весна: зелень появлялась, сквозь нее пробивалась желтизна, лиловость и краснота. Все это так поэтично. [По-моему, по крайней мере. — Э.]Но он только слонялся целыми днями. Мало того. Садился на стул, наклонялся вперед, подпирал щеку рукой и читал. И сколько! За три дня семнадцать страниц газетных статей господина Чата. Семнадцать! Но ведь ему так понравилось!..) Они вместе тяжело поднимались в гору! Поскольку мастер пребывал в задумчивом, чувствительном состоянии, они не проронили ни слова; что крайне жаль, если подходить чисто с ист. — лит. позиции; о чем я и сожалел. Однако вскоре дикий собачий лай встряхнул их заторможенную прогулку. Мастер испугался, перед лицом чего господин Шандор оказался лицом к лицу с двумя зверюгами. Это были великолепные животные, мускулистые, сильные, молодые, белизна зубов вызывающе блестела. Мастер сказал с меланхолией, потопленной в волнении: «Какие пруссаки!» Господин Шандор смотрел на собак, те постепенно затихли, двигаться двигались, но пасти оставались закрытыми. Господин Шандор, теребя новый мундштук и обратив на него неземной взгляд, сказал так: «Когда же мы станем такими прекрасными собаками?» Мастер тогда хорошенько пригляделся к собакам, и на это ему тоже пришла в голову мысль: «Когда же мы станем такими прекрасными собаками?» Прислушиваясь друг к другу, они шли дальше, и когда они дошли до перекрестка — улица А. сливалась с заворачивающим здесь проспектом Т., — господин Шандор пошел направо, а мастер налево.
Естественно, нам, то есть мне, хотелось бы избежать неуклюжих идиллий и лживых описаний типа «великий человек в быту»; но о том, как мастер, устало прислонившись к дверному косяку, позвонил, и Фрау Гитти открыла дверь, и в прихожей свет лампы оплел их нереальным, но глубоко правдивым сиянием, и женщина, обнимая маэстро, удивительным альтом сказала: «Дорогой», — нельзя умолчать.
Но мастер правда очень устал. «Пиво есть?» Рухнул в огромное коричневое кресло, которое занимало полкомнаты, мешок с формой даже не бросил, просто уронил, ноги вытянул, руки, перекинув через подлокотники, свесил к паркету. Тогда он сказал: «Дорогая». Лицо женщины просияло, кожа разгладилась, он сама присела на корточки, взяла мастера за руку и положила на нее лицо. «Дорогой», — сказала она, но посмотрев мастеру в глаза, добавила: «Ты где-то не здесь». Он дернул головой и пробормотал что-то несвязное. (Вот видите, здесь вновь становится понятно что художники — люди безусловно неординарные. Это движение, головой вверх! И взгляд! Который скачет туда-сюда подобно испуганной певчей птичке! Какая беззащитность!) Женщина не рассердилась, но расстроилась. «Продули?» — спросила она наконец. «Туго пришлось», — сказал с благородной двусмысленностью мастер слова и добавил: «Появились люди с сумками», — с этими словами он вскочил, без всяких объяснений ринулся в ванную и неподходящими для дела ножницами начал стричь ноготь на большом пальце, который, без сомнений, прилично врос в мясо и кроме этого в нескольких местах уже пообломался. («В доме незрячих короли одноглазы».)
14 «Друг мой! Все мы живем прошлым и разрушаемы прошлым», — сказал он мудро и масштабно. Объективные условия сильно изменились: обильный обед разморил вторую половину пасхального дня. Мастер, забыв святость дня (но оградив себя от сытого клевания носом), шнырял между присутствующими там представителями старшего поколения (Йозеф Веверка, дядя Эдэн, отец), как голодная легавая. «Друг мой; там, где нет сочувствия, нет и воспоминаний», — кивал он утешительно встревоженным душам. После этого с некоторым тщеславием прибавил: «Видите, мой друг, камни болтовни? Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою». Он хитро улыбнулся, не сказав ни слова.
«Знаешь, Петерке, — после длительных предисловий обратился к нему дядя Эдэн, — я, душа моя, необычайно люблю музыкальную мессу. Потому что она приводит в такое состояние духа». Взгляд престарелого господина то затуманивался, то прояснялся: о чем-то он забывал, что-то приходило ему на ум. Мастер, великолепный знаток людей и душ, это мгновенно заметил (но не попался в сети примитивных объяснений, вроде «старик дремлет» или «хотел бы подремать») и, будучи специалистом по части людей и случающихся с ними событий (историй), начал действовать. Он тихо сказал: «Нелегко, наверно, было».
Дядя Эдэн дернул головой и послал мастеру такой незамутненный взгляд, что могло показаться: возможность упущена и старик вот-вот спросит у него, немного изумившись: «Что-что? О чем ты? Что, нелегко, наверно, было?» — но спустя мгновение, которое одновременно показалось слишком коротким и слишком длинным, сонно моргнул, как ленивая лягушка, приличная бородавка на веке вроде бы прокатилась, «задержавшись» в густой поросли ресниц: «Нелегко было». — «Нам уже это незнакомо», — сказал мастер бесстыдно. «Да уж, сегодня этого представить даже невозможно. Чтобы, скажем, тысячу км пешком». — «Хорошенький автостоп», — сказал господин Дьердь, держа в руке короткую «Мальборо» с той прагматичной беспардонностью, которая, несмотря на свою чистоту и — хочется еще, еще и еще раз подчеркнуть — доброжелательность, неизбежной предвзятостью и преувеличениями создает конфликт поколений и возводит стену отчуждения, и в этом смысле проблематична. Мастер же со своим неприметным стремлением к гармонии как раз старался установить контакт. «Не грузите по кругу, mon ami, не надо». Большой младший брат напустил вокруг себя облако голубоватого дыма. Господин Дьердь любит и умеет не спеша выпить. Мастер хорошо помнит, что господин Дьердь еще в детстве хорошо чувствовал себя среди взрослых.
«Тысячу километров, но так, что отдыхать было нельзя. Кто раз остановится, тому конец. Мы проходили мимо замерзших людей. Некоторые, душа моя еще были живы. Но там уже не помогали. Хватало самого себя тащить. Это было делом жизни и смерти душа моя, точно могу тебе сказать. Мы ели кору деревьев: березы, платана, акации. Береза лучше всего, акация сухая. Когда мы так отступали, поймали партизана. Стою я, значит, на бескрайней равнине с партизаном». Дядя Эдэн по-козлиному засмеялся. «Он нам нужен был там, как, тебе я смело могу сказать, правда ведь, в конце концов, ты уже отец, мы люди взрослые, как корове седло. — (Снова «как козел».) — Подходит ко мне командир, крепкий парень родом из Шомодьи. Господин прапорщик! Кто это? Говорю ему, что партизан. Партиза-ан?! И еще живой? Живой. Сейчас же ликвидировать, душа моя». Дядя Эдэн потянулся вперед. Мастер услужливо подал ему бокал с вином, о содержимом которого по-барски позаботился господин Дьердь. (Да-да!) Концы усов окунулись в вино. «Партизан, ваше здоровье, вкусное винцо, как говорят русские! Из Будафока? Партизан знал, о чем идет речь. Я глубоко заглянул ему в глаза, в нем не было никакой ненависти, и он тоже чувствовал, что я хочу его спасти». — «И… — устраивался он на мягком стуле, — удалось?» — «Знаете, друг мой, я сильно подбадривал старика. Знал я… Я на его месте стал бы обманывать себя или, точнее, его». Дядя Эдэн очень человечно махнул рукой. «Душа моя, ведь там отпустить такого было невозможно. И не будем забывать: если бы я его отпустил, чуть погодя он снова стал бы стрелять в венгров… Он смотрел на меня, верил мне. Я тоже уважал его за смелость. Мы были солдаты. Проходит мимо сержант, я спрашиваю его, возьмется ли. Возьмется, конечно. Отошли они на несколько шагов от дороги. Выстрелил сержант. Партизан продолжал прямо стоять в снегу. Сволочь вы, завопил я, выйдя из себя. Душа моя, в такой момент, в такой ситуации промахнуться — нет греха больше перед страхом смерти». Теперь он поставил бокал обратно; господин Дьердь тотчас же восполнил нехватку вина. «Я дал ему свой пистолет, из него удалось прикончить».
Мастер погрузился в кресло, сейчас он ясно ощущал: он и мир — две вещи. Подошел Йозеф Веверка, с мрачным видом, таинственно. «Как дохлая пальма, ха-ха-ха», — расхохотался он в другой момент. Без остановки. До мастера издалека, очень издалека доносились звуки. Йозеф Веверка в кратком вступлении вроде бы упомянул мать мастера, с которой вместе в плену был, что ли, после какого-то там по счету конца света («Какой бестолковый, Петерке! Этот бедный Веверка! В прошлый раз сообщил, что у него песок в моче, нет ли у меня?»), затем, избрав мастера в качестве презентабельного слушателя, продолжал так («стремясь переплюнуть»): «Вот холод был, сынок, так холод, повезло моему младшему брату Лекси, ты, наверное, его видел на фотографии, еще дедушка на ней тоже, так вот, усищи у него были и там тоже, один раз, когда мы стояли в очереди за завтраком, приглянулся Лекси посудомойке, а он вообще-то парень был хоть куда, ты, наверное, видел на фотографии, ус подкручивает, а деваха хохочет ужасно, ведь ус-то остался у Лекси в руке, обломился, так было холодно, потом Лекси, конечно, деваху захомутал, потому что не в усах дело, и хлеба добавка была, не знали, куда и спрятать, дак ведь холодно было, собачий был холод, иваны, русские то есть, наступали, как татарское нашествие, плюс вши, я до сих пор от страха просыпаюсь рядом с супругой и вижу, как они медленно маршируют по комнате, и чешется по-настоящему, может, экзема какая-нибудь, Лекси, конечно, не заразился экземой, потому что посудомойка спрятала его у себя…» — «Но, отец», — встревоженно начала мадам Веверка. Йозеф Веверка и бровью не повел, «…только вот вернулся старый комендант, с которым у девахи тоже были шашни, так он как раз их застал, разозлился, понятное дело, и вытурил Лекси, и это еще полбеды, потому что, ты ведь знаешь пословицу: как веревочке ни виться, вам конец, верна девица, только деваха была накоротке с кладовщиком, достала палинки, и тогда Лекси, подвыпивши, возьми да и скажи коменданту, мол, на безрыбье и рак рыба, начальник, на что тот его застрелил, а ведь хороший был парень Лекси, а я убежал, мне очень помогли слова старого Педро, который умер у меня на руках, потому что я его застрелил, так жестока война, дак ведь или я, или ни один из нас, потому что тогда еще так было, мы еще знали, что если сняли у мужика дверь с петель на кровать, то надо повесить обратно, прежде чем уйти из деревни, никаких заначек и нет, не искали, только не очень-то рассердился на меня милый старик, так вот он сказал: запомните, сынок, где бы рядовой ни стоял, север прямо! и я вернулся, котелок мой по сей день сохранился, он мне жизнь спас, когда отмечаем мое возвращение домой и сегодня ставим его на стол, еду из него есть уже нельзя, потому что пулей пробило, но выпечку мы в нем держим, если придете, будет сырный рулет, который ты так любишь».
Йозеф Веверка немного прослезился. «Чем не прирожденный артист», — пробормотал господин Дьердь и налил. «Хорошо сказал, папочка», — погладила мадам Веверка руку супруга. «От этого, друг мой, плакать хотелось. Только я тогда уже разучился чувствовать». Дядя Эдэн обиженно молчал, коротко. «У летчиков, потому что перевели меня к летчикам, была в ходу пословица; по коням — время не ждет! Под конем, и говорить не стоит, подразумевалась не настоящая лошадь, а самолет. Машина, как говорят русские, душа моя. Бедный Хорти-младший. Душа моя, был мой в точности сотый боевой вылет». Дядя Эдэн сделал глоток. «Без сомнения, великая битва состоялась у меня с англичанином. То он меня атакует, то я его. Нажимаю я, душа моя, на кнопку пулемета, и ничего, повис над англичанином, и ничего. Он же, душа моя, смотрит наверх, лицо страшно удивленное, дескать, в чем дело. Показываю ему, что закончились боеприпасы. Пожимали мы, душа моя, эдак плечами, а я хватаю ящик с инструментами, да им и!.. В самую середину!» Веверка же сказал только: «Учился я у мастера Шантелли в свое время…». Два фронтовика по доброй венгерской традиции сначала были настроены друг против друга, но чуть позже уже вспоминали места (напр.: Добруджа), даты, общих командующих (напр.: молодой капитан Маньоки), затем объединенными силами выкинули русских из страны, по крайней мере из Будайской крепости, вновь заняли Северную Венгрию, а также значительную часть Трансильвании, слава тебе, Господи.
Между тем и тетя Лила, эта увядшая, элегантная женщина, тоже обогатила палитру. Она обращалась к Йозефу Веверке с некоторым превосходством. «Садовник совершенно точно хотел ее сожрать. — Веверка был весь внимание. — Он никогда не слушает, когда к нему обращаешься», — несколько раз жаловался мастер жене. Гуляла она, значит, по Городскому парку, чтобы немного проветриться, я думаю, вам-то (??? — Э.) не надо объяснять, что означает все утро просидеть с кучей безмозглых мужчин в густом сигаретном дыму, и как раз заворачивала на тропинку, идущую вдоль рыбного озера, ах, как прекрасно умеет она рассказывать то, что с ней случается, например мне она назвала ее миленькой тропинкой, я ее спрашиваю, почему ты не записываешь, а она только машет руками, на тебя это, Петерке, пусть не влияет хотя твои вещи я не всегда понимаю после первого прочтения, словом, идет она мимо рыбного озера наслаждается шорохом камней под ногами, когда, ну правда, совсем рядом с ней щелкает садовый инстру. мент, она отшатывается назад и тогда замечает, что в кустах, здесь мы должны вообразить южные заросли, стоит садовник и дико смотрит на нее… Ее положение и без того очень тяжело. А мальчик, которого дали в помощники, к тому же оказался негр! А климат! Да, еще и одной… женщине… вы меня определенно понимаете!»
«А ваш дядя Эдэн. Хорош гусь». — «Кто бы мог подумать», — кротко сказал мастер. «Гусь?» — спросил господин Дьердь, как будто вправду чего-то не понимая. «Точно. Мы чуть в штаны не наложили. Случилось так, что офицеры немецкого командования устроили у нас встречу… чтобы обсудить с Хорти детали. Этот пожилой господин, отмечу, держался большим молодцом. Конечно. Да что вам об этом известно. Так вот, офицеры командования… я безуспешно пыталась разрядить обстановку, «Бакарди», пластинка, но эти каменные рожи… был у меня тогда знакомый болотный рыбак дядя Фери, из Рацкеве, чудесных карпов и сомов принес, ну просто превосходных… правда, Эдэн?» — «Что?!» — «Сомы!» — «Ах, да. Эти мелкие дрянные сомы и еще карпишки, кажется». Тетя Лила махнула рукой. «А вообще-то, высокие культурные мужчины». — «И военные! Вот были офицеры, сразу видно». — «Тогда я продолжу… ведем мы скованную беседу, когда из ванной, подчеркиваю: из ванной, выходит Фюрер, Гитлер. Необыкновенное производил впечатление, а какой джентльмен, и говорить не приходится! Хайль! — вскочили все для ошалелого приветствия, я тоже, мы были выдрессированы… а потом аплодисменты… Боже мой, как вспомнится мне, что у нас за рефлексы выработались! это того стоило!.. Возвращаясь к сумасшедшим мужчинам, военным, мы долго стояли с поднятыми руками, я была ниже его и оттуда покосилась назад («через его подмышки! что за джунгли, что за джунгли!») и поймала их взгляды, которые мне достались за выходящего из моей ванной Фюрера: в них были страх, уважение и презрение». Мастера очень занимало: в одном взгляде все три вещи или поочередно? Но он молчал, уже давно. «Конечно, ваш сумасшедший дядя Эдэн замаскировался. Ситуация была очень peinlich.[41] Замечу, у Гитлера было семь дублеров, семь актеров. Конечно. Одного я лично знала, того, кто сделал Anschluß. Конечно. У Берии тоже был дублер. На переговорах, там уже был он. Месяцами изучал свою роль, говорят, удивительно тупой был. Конечно. Актер… Моим немцам, они и так с трудом понимают шутки, с трудом удалось объяснить, что это не было проявлением неуважения со стороны моего мужа, а как раз наоборот, выражением почтения. Обстановка стала напряженной, напрасно пыталась я потом что-то изменить пластинкой Каради, лакомством из земляники, все напрасно, мало того, мы еще долгое время боялись, что ночью к нам позвонят». Господин Марци с очарованием наивности спросил: «И тогда уже были органы?» Эффектно: интересно, что именно откладывается в душе ребенка?! (Взяться бы за это, а, мастер? «Цыц».)
Вслед за появлением благословенной руки мадам Гитти возбуждающе защекотал нос черный кофе. По мнению матери мастера — и Фрау Гитти его разделяет, — из третьесортного кофе можно сварить лучший кофе. «Лучше, чем из «Майнл»!»
Мастер и его седовласый отец оказались рядом. (Так бывает.) Секундная тишина отделила их от остальных; молодой так сказал пожилому: «Я и из тебя, папаня, сделаю героя книги». Он не стал продолжать. «Спасибо, сынок. Что будешь пить?» Он подозвал господина Дьердя — который и в обычном костюме взял на себя роль кабатчика, — и тот налил и виски, и красного вина, заработанного ногами господина Марци. (И как утонченно безжалостна — обе вещи являются, если даже и не исключительно, привилегией искусства — цепь намеков!) «Ah, die guten alten Familien»,[42] — вздохнул кто-то из-за «бастионов пудры». Тогда отец мастера принял то выражение лица, целью которого было скрывать великое лукавство. «Старая семья? Это означает две вещи. — Он немного поерзал на стуле церемонясь. Кто-то в такие моменты начинает заикаться (чтобы внимательней слушали). — Две вещи: благоприятная суть военных событий (в ответ на непонимающие взгляды, включая мастерский, он шепчет: «Чтобы семья не вымерла»), а также старательность и честность сотрудников архивов во все времена». И после такой ювелирной работы — гром среди ясного неба: «Потому что, дорогие мои, я еще не встречал такого человека, у которого не было бы отца с матерью». Вот что сказал стареющий отец, в котором было сильно плебейское начало (сморкание и т. д.). Конечно, теперь, когда потеряны обширные поместья и прочее, ему легко быть плебеем, однако мне не верится, что отец мастера нарушил бы границы своего класса, правда, вряд ли в этом была бы реальная необходимость.
О, история, эта великая шутница! Отец мастера знал, что такое богатство и что такое бедность. (Седовласый человек, как он остроумно замечал, являлся мучеником рабочего движения. Но чтобы не вводить вас в заблуждение: Эстерхази не поэтому приняли в университет, нет.) «Нас поселили у одного кулака», — продолжал рассказ отец мастера, помешивая кофе. («Чрезвычайно впечатляет, друг мой», — сказал он шевеля уголком рта.) «Мамочка! Кофэ правда превосходный», — но адресат, незаметно для отправителя, состроила гримаску и махнула рукой, и, может быть, по праву, потому что отец мастера бесхарактерно хвалит всякое блюдо. «Старик, ты сломленный тип», — сказал один из сыновей в ходе дискусии, развернувшейся вокруг какого-то безбожно пригоревшего блюда, каковое блюдо здравомыслящий человек или поносит, или — если великодушен или хорошо выдрессирован — молчит.
«Лучшего из людей к лучшему из хозяев», — провозгласил старый крестьянин, когда там уже с изрядной враждебностью поджидали столичных жителей. Но родители мастера, коротко говоря, симпатичные субъекты, равно как и общая беда сближала различных людей… О, детство мастера: комитат Ноград: «горбатая земля». Мягкий плеск Голубого ручья, шумящие вдали леса, шелковистые луга палоцев[43] и цветы души: песни и сказки! Солнце палит, от жары все плавится до марева, в воздухе пыль и труха! Как щиплет! «Помню машины! Знаете, тогда были большие передаточные механизмы. (Возможно, его пристрастие к «передачам» обязано своим происхождением данной конкретной молотилке?!) — Еще помню какую-то бетонную поверхность и товарные весы. И несколько разметанных по бетону вывалянных в грязи иди, гм, в навозе — это с такого расстояния уже, правда, трудно сказать — соломенных снопов!» Отца мастера рабочий класс закалил смолоду: по сей день у него на спине видны трапециевидные мышцы, которые так хорошо развились на молотильных работах. Как меняется мир, и как он неизменен: у мастера тоже есть трапециевидные мышцы, в смысле, видны: их мастер приобрел в молодежном лагере, потому что ежедневно делал 100–150 отжиманий — в среднем в день получалось 126, — и, чтобы пример стал еще более точным и в то же время, как подобает мастеру, совершенно запутанным («подходящим! точным!»)» это было так потому, что земляные работы, на которые их сагитировали, пролетели по причине нехватки инструментов — не лопат даже, а черенков! Лишь один образчик великого ума отца мастера. Ситуация критическая. Вот он в выцветшей — из коричневой превратившейся в серую — тонкой рубахе (какова такая рубаха на ощупь он смог вновь познать, будучи военнообязанным), в болтающихся полотняных штанах, со своими двумя докторскими, утонченный интеллигент, и его усталое, загорелое на солнце крестьянское лицо постольку-поскольку выдают только очки и безбожно выпуклый лоб, и этот дорогой человек, эта сложная формула, в ситуации, до крайности примитивной: нет хлеба (того, который фигурирует в «Отче наш»).
Перед сельсоветом стоял духовой оркестр, перед магазином — люди. Мастер схватил отца за руку, и эта отцовская рука была огромной. (У мастера с его крошечными ладошками — состояние на сегодняшний день — настоящий отцовский комплекс. Интересная вещь! — Да уж, очень в тему эти объяснения. — Отец мастера, в противоположность своему поколению, не был победителем, так же и поколение мастера и сам мастер. Таким образом, вечная, мистическая борьба отцов и детей в их случае приобрела личный характер, нарушая каноны.) Огромная рука, не предвещая ничего хорошего, сжалась. Никогда эта ладонь не была потной. Пожалуйста: у мастера, в свою очередь, никогда не потеют ноги. (Можно посмотреть на подошвы ботинок изнутри! Там и следа «потемнения» нет! И, пардон, запаха тоже.)
Все сверкало и блестело, кроме пыли. Изо рта у одетых в форму типов росли большие, извивающиеся желтые трубы, которые потом расширялись (как будто сами по себе выпячивались), прямо цветы тыквы. «Мьюзик», — сказал с угрозой отец мастера. Очередь медленно продвигалась. О, потом, когда до них дошла очередь и, тогда еще едва заметный, носик мастера наполнился запахом свежего хлеба и кружащейся в воздухе мукой, печальная продавщица сказала: «Тем, кто из столицы, только когда…» Отец мастера вспыхнул, «желваки на скулах», но два неподвижно стоящих полицейских сделали свое дело. (Близнецы Дьендь. Фери и Йошка. Сильные, как буйволы, были ребята. Телегу из колдобины итакдалее. Фери очень башковитый был, чуть священником не стал. По возрасту подходил, только влюбился в кондукторшу рейсового автобуса. «Расфуфыренную столичную штучку». Карьера священника рухнула. А Йожи был таким тупым, что просто фантастика. Но лица у них были совершенно одинаковые. Он следил за Фери, чтобы тот не наделал глупостей. «В деревне их, насколько это было возможно, любили. Потому что они не хотели наживаться на горе; один был слишком умен, а другой слишком глуп для этого».) И все-таки, а как же, стоя там в качестве проигравшей армии перед военным оркестром, отец мастера держал в руке, в этой огромной руке, две домо. (Так в этом уголке страны палоцев называли горбушку.) Люди все-таки помогали друг другу. «А ну-ка, заяц, — отец спрятал в каждую руку по домо (и было хорошо придумано, этому примеру мастер следует и по сей день: так он поступает и со своей дочкой Миточкой, теперь уже в роли отца, не то чтобы он во всем хотел походить на отца, о нет; «нет! нет! нет!» — но ведь это всегда так мелочно жестоко), — а ну-ка, заяц, в какой руке». Маленький Петер — примем это в качестве возрастной характеристики — со свойственной детям широтой души шлепнул по обеим рукам. Почувствовал, что ли, скрытую благотворительность хитрости («хитЛОСТИ — о, о, о»)? Два поколения могли бы грустно подмигнуть друг другу по поводу того, что жизнь не всегда так великодушно снисходит до горя, как эти два домо. Кому это сейчас известно. «Скажу с уверенностью» (слова мастера), и мастеру тоже. Потом — а музыка играла и играла («напр.: слепого приятеля») — отец объяснил правила, он по правилам выбрал — и выиграл! «Ну, заяц, ты просто везунчик» — и видно было, как он рад удаче сына.
С хлебом часто возникали проблемы. (Мастер и по сей день, живя в достатке, не выбрасывает хлеб. Ему это вдолбили. Он грызет, грызет сухие корки и вопит на свою семью, если она допускает промахи в деле святости хлеба. Симпатичная это у него черта.) Снова очередь! Мастер теперь уже цепляется за руку деда. Вот зрелище-то, когда старый граф шагает по молодому, но, в соответствии со временем, несколько стремительному социализму в своих бриджах, с неизменным беретом на голове! Я считаю, дед мастера был справедлив («Друг мой, только не будем щеголять тем, что его исключили из «Казино»!»), но сына народа из него не вышло, что, однако, уже можно сказать об отце мастера. У этого были последствия и в случае с хлебом. Продавщица сказала, что хлеба нет, пусть они возьмут печенья. Аристократ поблагодарил за разъяснение и тихо рассмеялся: «Прямо как во времена Марии Антуанетты». (Имеется в виду, что если нет хлеба, пусть едят пирожные, как сказала королева.)
Однако бывший премьер-министр (1917) мог провести еще множество иных параллелей между настоящим и прошлым. На старого графа посыпалось множество несправедливых нападок — переходящих на личности, конечно, ибо множество крови и пота, причиной которых стала семья Эстерхази, исполняющая роль, вытекающую из положения, занимаемого ею в пирамиде феодализма, несравнимо с проявлявшимися в определенных рядах и в определенные годы прогрессивными устремлениями (куруцы, вклад в искусство и т. д.) и заслуживает исторической справедливости, то есть, в этом смысле, много несправедливых нападок, из-за его представительного аристократизма. Выражаясь змеино-ядовитым, несколько кухонным языком мышления, «явление это, друг мой, по сути сравнимо с грубым свистом, встречающим выходящего на поле Бене, а ведь упомянутый футболист был великолепным нападающим команды министерства внутренних дел, не побоюсь этого слова». То, что с отцом мастера никогда не могло бы произойти: среди бела дня при всем народе на деда под каким-то выдуманным предлогом наорал кривоногий Шанта Сабо. Высокий красивый человек, держа внука за руку, так и стоял в окружении людей, и даже сказать ничего не мог, пока Шанта Сабо поносил его. Маленький Петер тянул его оттуда, и люди без слов давали дорогу этим двоим; не только потому, конечно, что почувствовали происхождение мальчика — мастера, — но и потому, что они тоже ненавидели Шанту Сабо. Вот он как раз не был ни умным, ни глупым, просто рафинированным.
С этим Шантой Сабо у отца мастера была потом история. Однажды отец стоял в уже описанном крестьянском микроклимате в ботинках, без носков Сколько ему могло быть? Наверное, тридцать четыре! Незрелый ум. И перед лицом чего поставили его вихри эпохи!.. «Сегодня, друг мой, вихрь создается феном. Однако это вовсе не беда!» Мастеру, конечно легко говорить, с этими его длинными волосами! Так вот, там был этот молодой человек, с тяжелыми — можно посмотреть! — с тяжелыми узлами мускулов на спине; потому что тогда он давным-давно распрощался с праздной жизнью барствующего негодяя и работал то на строительстве дороги, то на арбузном поле, то на молотьбе, как простой народ, применяя в этих местах приобретенное образование, прирожденную интеллигентность, докторские степени. «Умелый дорожный строитель, сынок, раздобыл железную пластину, чтобы на нее бросали камни». К ним подошла иссохшая, святая матушка. «В Хатване, рядом с большой церковью». Посмотрела направо, посмотрела налево — конспирация. «Пожалте на вторую скамью преклонить колени, от исповедальни, почитай, там кой-чего есть, на один отче наш». — «Ну, заяц, столько курицы, как тогда, вы еще не едали».
Арбузы для семьи по сей день покупает отец мастера. Постучит, как врач, потом выбирает. «Надо постучать рукояткой ножа; если звук гулкий, то плохой». Исключение — зардецкий полосатый, он меньше. Большой зардецкий, конечно, больше. «Двумя ладонями схватить: если хрустнет — спелый зардецкий». В холодном виде роскошная пища. «Икристый, вот он хорош». И если вечером господин Дьердь громким голосом начинает охаивать, наверное, и вправду немного подпортившийся фрукт, он кротко говорит: «Можете поверить: этот был еще самым лучшим». — «Это писи сиротки Каси», — ответствовал господин Дьердь, который любит, чтобы последнее слово оставалось за ним. И если матери в такой момент надоедают непочтительные слова и она, потеряв терпение, начинает колотить огромную поверхность господина Дьердя, который некоторое время дает кулакам хрупкой женщины поиграться, то потом ему это наскучивает, он сгребает вопящую по этому поводу мать в свои объятия. «Не надрывайся, матушка», — гудит сын, желая быть ласковым, но, судя по результату, переборщив, как это не раз бывало.
Итак, отец мастера стоял во дворе «лучшего из хозяев». (В соседнее с ними хозяйство попал дядя Эдэн. К бывшей содержательнице притона, которая приобретенным в Йожефвароше, веселом квартале, диалектом всегда развлекала элегантного мужчину. «Как я, душа моя, буду жить с такой особой». Волшебно. Громкий, исполненный жизни лай женщины, по сути, он даже тогда не смог ей простить, когда она спасла ему жизнь. Женщина исправила некую ошибку укрывательством. Плюс лжесвидетельством. Наверняка она была влюблена в дядю Эдэна, как большинство женщин.) Кулака как раз не было дома, потому что он был в тюрьме. («Количество слова «был» успокаивает. Стиль искрится, история движется вперед. И моя история тоже». Мило.) Он прятал вино. В кухне, напротив плиты, он и не думал его держать, туда ничего не засовывают, место заметное, нет, он спрятал его в навозе, как полагается. Там и нашли. Выйдя потом из тюрьмы, большой, дородный человек остановился перед отцом мастера. От возмущения его голос дрожал: «Вы посмотрите, посмотрите, господин доктор, что мне сделали с руками». И протянул их вперед, и рыдания сотрясали его. «На старости лет». В тюрьме его руки изнежились (мозоли и т. д.), и что самое главное, они побелели, поскольку попадали на солнце как заблагорассудится. (Как заблагорассудится, простите.) «Посмотрите, господин доктор, ну какой из меня человек?!*
Ноги отца мастера от волнения двигались в слишком больших ботинках, а ведь нога у него не маленькая. (И у господ Дьердя и Марци тоже! Завскладами только головой качают. «Дьюрика! Куда они в таких галошах поплывут?») Он снял очки, чтобы счистить с них пыль, протер закатанной до локтей тонкой рубашкой. Теперь их нужно было очищать от пота, при следующей возможности. Его большой лоб чуть ли не светился во дворе. А шея была коричнево-красной, как у крестьянина. Брюки перевязаны бечевкой. Шанте Сабо, председателю сельсовета, хотелось выставить их от кулака, в саманный дом на краю деревни, чтобы кто-нибудь из его (Шанте Сабо) людей мог переехать сюда: такова была ситуация. А ведь и это были еще те квартирные условия! Дедушка, устрашающая прабабушка, Йоланка, отец, мать мастера с господином Дьердем во чреве и мастер! Это в одной комнате.
«Туда я не перееду». — «Это очень хороший дом». — «Тогда пусть туда переезжает ваш человек». — «Не пошлю же я туда рабочего человека?!» Как видим, он проболтался. «А я кто же, черт подери?!» — завопил отец, потому что спокоен был только на поверхности, на самом деле он очень волновался. «Желваки на скулах, а, папаня?!» — «Да».
Рядом с Шантой Сабо стояли два члена сельсовета. Но один из них был не кто иной, как бригадир отца мастера. «Дядя Дани. Ну-ка. Скажите: как я работаю?» Отец мастера играл наверняка. Но Дани Деревянная Пизда молчал. «Папаня, Деревянная Пизда это высший класс», Так его кликали; он делал торты на свадьбы, праздники. Сядет старик на крыльце или под акациями, между колен деревянная ступка, и колет грецкие орехи, только уши трясутся. Так вот, движение это, вверх-вниз… понятно, наверное — Но Дани Деревянная Пизда молчал. Отец мастера налился кровью. «В чем дело, дядя Дани?! Ешкин кот! Скажите же! Скажите, как я роблю!»(Отец мастера очень вынослив в работе. «Старик, ты настоящий капиталист!» — говорит господин Дьердь, когда отец на словах критикует интенсивность чьей-то работы. «Капиталист — эксплуататор». — «Работа на то и есть, чтобы ее делать», — пожимает плечами предок; но в этом есть какая-то — естественно завоеванно-выстраданная — гордость, которая раздражает младшее поколение, братьев.) «Батя, слушай, вот чего тебе надо от этого спора о дефиниции?» Молодо — зелено.
Дани Деревянная Пизда опустил голову. Покраснел, что редко для такого взрослого венгерского мужчины. «Пусть господин доктор тоже не того». Тогда наступила тишина, только скотина шумела чуть в отдалении — и, может быть, маленький мастер гонял курицу иди другую мелочь. Но поскольку отец мастера не отводил взгляда, маленький старик вздернул голову, твердо встретил его взгляд — сквозь большие уши просвечивало солнце. «Едрить твою налево!» — воскликнул он и пустился прочь со двора.
«Если дело не пойдет, — со скукой пожал Шанта Сабо плечами, — я прикажу расселить ваших домашних». — «Пусть хоть кто-нибудь попробует до них дотронуться», — сказал тихо отец мастера. «Вы получили официальную бумагу. Я поставил на нее печать», — сказал тот, но отступил на шаг. «Так вот, слушайте внимательно», — сказал отец мастера и отвернулся к матери мастера (которая стояла там как посторонняя; заинтересованная в происходящих событиях посторонняя) и попросил от нее бумагу о высылке, ту самую страшную бумагу. «Так вот, слушайте внимательно. Читать вы, конечно, умеете». Мужчина, ожидающий произведения из графьев в рабочие, чуть перебарщивал. Он ткнул ее совсем близко под нос Сабо. Мастер хорошо помнит этот (или один: такой) ноздреватый стариковский нос. Пиршество красок! Красный, розовый, лиловый! Тысячи переходов, определенности и неопределенности! А бугорки!» «Как свекла. Изумительный».
Шанта Сабо мгновенно отдернул нос — счастливчик — вместе с лицом! — как будто там пролетала оса, з-з-з. Отец мастера ткнул в печать: «Так вот, видите. Если вы мне пришлете такую печать, а не ту, на которую сами подышали и прислали сюда с мальцом Балинтом, тогда я отсюда перееду». Ни в коем случае нельзя утверждать, что семья мастера была запанибрата с ГБ, а смотрите-ка, на этот раз именно эта печать все же помогла расставить все по местам. Шанту Сабо у кабака уже ждали остальные крупные птицы помельче. «Ну?!» — «Д-да, ива, праблема. У ентого графа от гбво бумажка!»
Отец мастера, после того как хорошенько отлупил мастера, потому что тот затаскал утенка (не то что господин Дьердь: он, о, горе, двенадцать утят забросил в отверстие туалета; «они так хорошо пищали», — привел он труднооспоримый довод), сел на краю галереи и сидел, очень долго-долго.
«Старик, как ты ешь», — элегантно набрасывался господин Дьердь на отца, который и вправду оставлял крошки. Он посмотрел вслед крошкам, волосы, как от ветра, упали на лицо, мужчина стал измученным и беззащитным; а ведь какие кресла обнимают тебя, цвета глубокие, — а лицо все равно белое, как кость. Кость. Наполовину приподнявшись, сгорбившись, он стряхивал с себя крошки, со свойственной мужчинам безалаберностью — — — —
Вспахать плугом холм Андриша — — — — —
«Выпить немного неочищенной палинки». И вернуться в белых одеждах домой на третий день. («Сыночек, зачем ты скулишь в непроглядной тьме? Зачем головой разрываешь подушки и комкаешь простыню зачем? Зачем в кулаках твои руки даже наутро, готовые к драке, зачем?»)
— — — — —
«Так просто, беспощадно, мурлыкая что-то — — — — —»
— — — — —
(Весенний сезон подходил к концу.) Натянул он поводья, притормозил. Мастер стремился на Радио, на запись. «Какая-нибудь болтовня будет». На площади Мадача он попал в огромную пробку. Казалось, движение в сторону улицы Дохань быстрее, и, может быть, стоило даже выбрать более длинный путь, но он до тех пор взвешивал все «за» и «против», пока не проскочил перекресток: проехал его: так что теперь выбора не было. К тому же сломались как дворники, так и поворотный сигнал, так что он под вялым дождем снова и снова высовывался, чтобы вытереть лошади лоб, высушить подглазья и шоры. (Приятного мало. — Э.) Перед Музеем он все-таки нашел место для парковки, но уже напрасно бежал по улице Шандора Броди — а прохладный и воистину неприятный ветер продувал милую, но вот только тонкую синюю куртку, — он опоздал.
После того как у ворот его строго и на совесть, однако, на вкус мастера, чуточку неприветливо проверили, он поспешил в «Пагоду», где его уже ждал Автор передачи, а также господа Атилла и Сабольч, оба поэты. Они перебросились парой слов о том о сем, затем ворвался Режиссер передачи, в шуршащей коричневой штормовке. Мастер попросил Автора Передачи договориться с Режиссером Передачи, чтобы он был первым, потому что у него в 4 часа футбольный матч на острове Обудаи, куда по крайней мере три четверти часа езды, а уже без пятнадцати три. «Вы прозаик?» — спросил в Студии Режиссер Передачи. «Да». — «И хотите играть в футбол». — «Да». — «В такую погоду». — «В такую погоду». Режиссер теперь поднял голову. «Ничего себе мешки», — подумал мастер пера и одобрительно кивнул при виде измученного лица стареющего мужчины. Тот продолжал шипящий диалог. «Поздравляю». «Это мог бы сказать и я», — подумал он, но всего лишь любезно сказал: «Спасибо».
Студия не была пуста, рядом с арфой сидела женщина, арфистка. «О, настоящая арфа», — прошептал он в сторону женщины. «Знаете, друг мой, и об этом уже заходила речь, очень успокаивает, если рядом с арфами сидят арфистки. Очень». — «Боже, вызвать арфу для таких текстов», — пропищал Автор Передачи. «А что, — улыбнулся господин Атилла, как школьник, — арфа Эола, которую треплет сквозняк». — «Здесь нужно закрыть двери». — «Жаль».
«Скажите, господин Эстерхази, — загремел отовсюду голос сидящего за стеклянной стеной Режиссера, — скажите, вы будете читать превосходно?» Мастера удивила сила и вездесущность голоса, он немного испуганно сжался. «Простите?» — «Вы будете читать превосходно?»- «Не знаю». — «Я повторю. Вы, я вижу, не понимаете. Я спрашиваю, будете ли вы читать превосходно?»- «Я не отвечу на ваш вопрос», — сказал мастер и легонько улыбнулся. Он, наверное, думал, что речь идет о какой-то радиошутке. «Пожалуйста» ответьте!» — звучал то здесь, то там, из каждой щели голос — Мастер пожал плечами: «Ну да. Я буду читать превосходно». — «Спасибо. Это я хотел услышать. Тогда за дело! Господин Автор на одну сторону, вы на другую. Пора в путь-дорогу. Начинайте, господин Автор!» Мастер расстроенно стоял. «Знаете, друг мой, я даже не заметил, и как-то в это время мое настроение расстроилось».
«У Петера Эстерхази я тоже…» — «Стоп. Господин Автор сказал: га. У Петега. Не верите? Перемотать?» — «Нет, нет, ну что вы». — «Готовы? Прошу!» — «У Петера Эстерхази я тоже…» — «Стоп. Снова. Артикулируйте спокойно. Р-р-р. Ехал Грека через реку, ха-ха-ха. Готовы? Прошу!» — «У Петера Эстерхази я тоже спрошу о пейзаже. Важен ли для тебя пейзаж?» Мастер набрал воздуха. «Стоп. Не набирайте воздуха. Это слышно. У вас, очевидно, плохая техника дыхания». — «Очевидно». — «Простите? Что вы говорите?» — «У меня, очевидно, плохая техника дыхания». — «Ах, да. Готовы? Прошу!»
«Если человек где-то живет, а это вполне может случиться, тогда он не может сказать: где-то красиво. Это было все равно как если бы он сказал: у меня красивая жена. Это означает, что женщина показала себя спереди, показалась…» — «Стол. Возможно, у вас другой экземпляр? У вас в распоряжении другая версия?»- «Почему это?» Мастер посмотрел на арфистку. Та быстро дернула годовой в сторону. «Вы, я вижу, любите простые обороты. У меня в режиссерском экземпляре стоит следующее! Женщина показала себя спереди, сзади». — «Ну и?» — «Прошу вас. Я пришел сюда работать, а не развлекаться. Вы сдали текст, который приняли и одобрили, ведь так». Мастер снова посмотрел на арфистку. Он что-то сдавал? И это еще и приняли? «Да», — сказал Автор Передачи с заметной поспешностью. «Вот видите. Ну, тогда не соизволите ли вы, господин Эстерхази, сообщить, где вы желаете, сейчас вот так, задним числом, самоуправно изменить сданный и в оригинальной форме принятый текст?»
Мастер сжал переносицу, как бы поправляя очки правда, очков (оправа из поликлиники за 12 форинтов) он никогда не носил, «только когда присматривался». «Я буду так добр». Внезапно наступила тишина. В руках Автора Передачи дрогнула бумага. В этот момент от невнимательного или чересчур даже взволнованного жеста арфистки всколыхнулась арфа. Все злобно оглянулись, мастер печально, но с благодарностью кивнул — он осунулся, губы его сжались, капельку побледнели, — и тусклым голосом начал говорить: «В последнем абзаце вместо положение я бы сказал справедливость, соответственно, вместо это — эта-, а также в предпоследней строчке перед навозный итакдалее: в связи с годами высылки вспоминается, навозный и т. д.» — «Стоп. В этом я вам способствовать не буду». — «В чем?» — «Такую вот политическую подоплеку, которая совершенно чужда материалу, я на себя не беру». — «Я беру», — сказал тихо и расстроганно мастер. «Вы ничего на себя не берете. У вас нет на то полномочий. Здесь за это отвечаю я. А я эту политическую…» — «Это не политическое, — сказал теперь чуть громче он, — а биографическое. Но если политическое, тогда, надо надеяться, и вы тоже… э… возьмете это на себя». — «Для вас это так важно?» Режиссер Передачи самоуверенно улыбнулся. «Знаете, друг мой, он задал умный вопрос… Только вот… Его так часто задают». Мастер переспросил, потому что не понял, о предложении говорят или о высылке. «Чтобы это предложение было в тексте? Не особенно. Точно так же, как и остальные». Потом еще добавил что-то со светским остроумием (потому что платят за объем): «Как и остальные предложения такой же длины». — «Я с вами не спорю. Я не хочу, чтобы это предложение было в тексте». — «А я хочу. Так что, начальничек, пока что крестик». — «Простите?» — «Один — один», — и двумя большими пальцами мастер показал вверх. В другой период времени он сказал об этом: «Знаете, друг мой, из этого положения, плавным полукругом, постепенно, вниз… как дворники у «Жигулей». (Позднее же только: «Дворники у «Жигулей». Конечно, мастеру было легко: он ни от кого не зависел — там.) И пошло-поехало, начались пронзительные вопли, из самых неожиданных точек помещения вываливались то союзы, то придаточные предложения («а прочие грамматические единицы»). За это время случилось предательство; дамочка, которая играет (играла и будет играть) на арфе, на цыпочках выскользнула в дверь. «Это был удар в поддых». Мастер стоял посередине и пытался угадать, но лишь в редчайшем случае обнаруживал источник звука. «Оттуда!» Нет — «Оттуда!» Нет. И т. д. Затем, так же как и после сильного дождя снисходит Божья благодать, наступила тишина. Режиссер Передачи, скрестив руки, смотрел. Мастер «добродушно» сказал: «Хорошо. Выбросим это». — «Что?» — со свежими силами, злобой и раздражением завопил Режиссер Передачи, затем, когда каждый понял то, что вроде как касалось его, запись продолжилась.
«Женщина показала себя спереди, сзади, затем родилось решение, а результатом решения, к счастью, явилось следующее: я могу быть доволен, жена у меня красивая. Но ведь в таких вещах нельзя полагаться на прихоти вкуса, нельзя снова и снова перепроверять: нравится мне Рыбацкий Бастион или запыленный район Кэбаня… К счастью, это не часто приходит в голову: живешь здесь…» — «Остановитесь, пожалуйста. Вы, как бы это сказать, портите прекрасный текст. Живешь здесь, а не живешъссесь. Побольше воздуха, спокойней. Чуть величавей, если вы меня понимаете. Хорошо, можем начинать? Прошу». — «Живешь здесь, а не туристом приехал. Проклятая задача туриста, и в этом видна степень его растления, заключается в том, чтобы восторгаться; я же, если захочу, могу состроить и кислую мину… Сейчас я имею в виду, но мог бы иметь в виду и другое, что у меня нет пейзажей, как у другого Алфельд или площадь Телеки, у меня есть предметы. Для меня интересен каждый предмет, который каким-то образом кичится своей материальностью. Церковь, например, или стрелка трамвайных рельсов… Однако дело в том, что об этих вещах я думаю довольно беспорядочно: потому что когда пространственный объем такой, как будто его вырезали из длинного, цветного, американского фильма, то мне он очень нравится, а с другой стороны… навозный сноп соломы тоже дело не последнее. Между этими вещами мне и приходится разрываться».
«Спасибо. Думаю, достаточно. Еще раз спасибо, до свидания». — «Спасибо, до свидания», — сказал, повесив голову, мастер и, с идущим вплотную за собой Автором Передачи, направил стопы к выходу. Решительно открыв со второй попытки дверь, он вышел. (Она открывалась вовнутрь, а Эстерхази пытался наружу. Какая досада! Можете себе представить щеки мастера. Однако это шествие и так было высший класс!) Когда он вышел в коридор, глаза с трудом стали привыкать к полумраку, как следует он видел лишь пятна, одна лишь высоко мерцающая фигура господина Аттилы была однозначной. Это несколько повысило ему настроение. «Конфликт, я слышал», — сказал господин Аттила; вести на крыльях сквозняков разлетаются быстро. Он изволил.
Время между тем, естественно, не останавливалось, шло; уже и три часа прошло. «Вперед, лошадка», — прошептал мастер в ухо лошадии через улицу Пушкина (!) вывернул на проспект Ракоци. «Знаете, друг мой, — прервал мастер широкий, величавый размах повествования, — знаете, мной овладело крайне дурное настроение. Конечно, дождь, еще и дождь шел; приходилось быть очень внимательным; наверное, и очки мне, наверное, новые нужны, может быть с диоптрией 1,5… Знаете, приятного мало, когда тебя подряжают превратить дисгармонию мира в гармонию».
Он промчался по площади Мадача, кое-как сменяя ряды (не будем забывать: поворотный сигнал!), перед Базиликой сбавил скорость, потому что здесь его ждал Правый Защитник, который в тот день сдавал правила уличного движения, потому что для мотоцикла нужны были права, потому что он хотел развозить почту на мотоцикле, потому что по профессии он обойщик, но потому что мало платят, он взялся разносить по утрам газеты, а теперь и полностью перешел на это. «Знаешь, Петике, бабок там вдвое больше». Правый Защитник сейчас переживал самую лучшую пору защитника: он сделался хитрым и остался твердым; правда, немного потолстел. Его имя в те времена многое говорило не только спортивным руководителям молодежной сборной, но и голубятникам. На одном конкурсе он стал первым, а его старший брат вторым. «Знаешь, что такое стандартная категория голубок?» — спросил у него мастер перед одной из тренировок. Они оба подкидывали мячи рядом с центровой: ему полагалось, а Правый Защитник случайно был техничным игроком. «Конечно знаю». — «Ладно. Я тоже знаю», — кивнул мастер, с этими словами он (смутившись) без всякой надобности пустился галопом.
Так вот, напрасно он сбавлял скорость возле Базилики, и чего уж там: за спиной нетерпеливо сигналили несколько водителей, Правого Защитника он не видел. В дверях спортивного магазина стояло много народу, и не по-всякому мастер мог сказать, что это не Правый Защитник, но он с такой явной медлительностью проезжал на своей лошади вдоль блестящего от дождя тротуара, что ожидающий, без сомнения, должен был его заметить. «Очевидно, уехал на такси». (Они уже были на поле и разминались под проливным дождем, когда появился Правый Защитник. «Спасибо, Петике», — ухмыльнулся он и пошел в теплую раздевалку к запасным.)
На площади Флориана стоял полицейский. «Елки-палки, — произнес мастер, — мне что, кружить здесь до тех пор, пока он не опустит глаза?!» Ибо на площади Флориана кольцевое движение, и не будем забывать: поворотный сигнал! Галопом пристроился он позади 55-го, подумав, авось под его «прикрытием»… Но как только они съехали с моста, автобус тут же смылся, — он замешкался у перехода, — и когда мастер исхитрялся на выезде — еще внутри кольца, но уже имея заднюю мысль, — его взгляд встретился со взглядом полицейского. Это был молодой парень, с почти синими, черными волосами, которые местами выбивались из-под шапки блином. «Да, красивые волосы. Или ворон у него под шапкой?» — пробурчал он. Полицейский упорно смотрел, за это время лошадь добралась до критической отметки: приподняла голову и ждала рывка поводьев. «Как так ворон? Это уж слишком. А что такое тогда этот относительно длинный пейс, из того же материала! Он длиннее обычного, не намного, но длиннее обычного». Полицейский чуточку пошевелился, что могло означать начало останавливающего движения, а могло и начало безразличного поворота головы в сторону; так или иначе: выглядело оно зловеще.
В ответ на этот жест мастер автоматически толкнул вверх поворотный рычаг и выскочил направо, в сторону площади Миклоша. Но чудо из чудес: поворотный сигнал работал. Он, улыбаясь, повернул назад, полицейский посмотрел ему вслед, «на его мужественном лице» ничего не было написано. Когда мастер начал обгонять 42-й автобус, выяснилось, что поворотный сигнал снова не работает. «Ну конечно».
Проспект, ведущий на остров, вдруг просто оборвался. «Друг мой, такого я еще не видел! Вот так, с бухты барахты!» Здесь он остановил свою лошадь, потом прошкандыбал по горам мусора и не смог миновать несколько глиняных пятен, поскольку смотрел только на лужи, а не на землю. «Я думаю, это естественно». Раздевалки, находящиеся на той стороне поля, были едва видны из-за проливного дождя. Он все меньше обращал внимания на то, что у него под ногами, спешил. Ребята уже переодевались.
Остановился он; сощурился; очки оставил в котомке, прикрепленной к седельной луке, намеренно. Вроде бы различил вдали тренера, и когда приблизился, то предположение подтвердилось: именно господин Арманд — как казалось оттуда — высовывался из стены и махал ему рукой, совершенно очевидно стараясь не пересекать линию навеса, где начиналось царство дождя. И все-таки, когда он подошел, господин Арманд вышел из укрытия, жестко протянул руку, а потом сказал так: «Ты опоздал. Переодевайся».
В маленькой раздевалочке сидели они друг у друга на головах. Мастера очень занимала послеобеденная дискуссия. Очевидно, только так могло случиться, что вместо майки под номером 8, которую носит где-то лет шесть-семь, он надел 2-й (!) номер. (Господину Организатору пришлось исправлять протокол, ведь рядом с именем мастера он без раздумий поставил восьмерку.) Осторожничая, дрожа от холода, скукожившись, они отправились на поле. «Ну, за работу», — вздохнул он, все еще прислушиваясь «к чему-то другому», и после короткого, но ловкого разбега двумя ногами «шлепнул» по лужище. Затем — под проливным дождем! с лужами! с грязью! — отошел к расположенному рядом с полем большому дубу и пописал. Он качал головой. «Что могло быть надо от меня этому типу? Так брешь я или бастион в социалистической культуре?… А как же», — и немного встряхнул штаны.
Судья почти не осмеливался выйти из своей рубки, но потом вышел. Сразу после того, как начали, мастер отвел назад, а затем пошел. Молодой Полузащитник без колебаний гнал мяч под ноги мастеру, подкинув, тот сначала шлепнулся, в траве ускорил движение, а затем совершенно остановился в луже воды. Началось бешеное и упорное состязание в беге между мастером и Центральным Защитником; первый ближе, второй по касательной. Уже казалось, что Эстерхази достигнет мяча — и тогда до самых ворот не остановится! — когда защитник издалека кинулся ему под ноги, (Пожертвовав собой.)
Мастер сидел посреди лужи и снова тряс головой. Его глаза, рот были полны грязью, слякотью, и он все сильнее ощущал, как прикасаются к его коже грязные штаны. (Грязь — мокрая земля, — казалось, впиталась в штаны и, таким образом, атаковала уже изнутри.) «Видите, друг мой, недаром я сказал: жил, любил и много страдал. Так оно и было». В этот момент в его пронзительном взгляде зажегся лукавый огонек. «Но из аута вбрасывали мы, а ведь…»
15 «Ты уж извини, дядя Тибор, — поскольку мастер обращался с почтительным почтением не только к своим коллегам, но и к специалистам по вычислительной технике, — сравнения и я могу произносить; мало того, мне за них платят».
16 Последний весенний матч оказался трудным. «Даже его перерыв! он и подавно!» А ведь весна была так прекрасно-непритязательна! «Знаете, друг мой, например, эти ветреные дни! Обманчивая погода! Чтобы грибочки смело!.» Солнце светит, мир искрится, но воздух еще прохладный, «поясница мерзнет»! А женщины… они просто поддаются на обман! Легкие рубашки, холсты, обтягивающие майки появляются из закромов, и когда они в художественном беспорядке сидят на стадионе, так чтобы их можно было с волнением отыскивать, или отделившись от многочисленных милых беззубых пенсионеров на «той» стороне, трепещущие на ветру юбки время от времени («в трепетный период») прижимаются к бедрам, и между двух ног на юбке образуется крошечная по размеру, слегка изгибающаяся ложбинка; чтобы затем выше, напротив, выпятился холмик, который притягивает взор, как мед пчелу (чтобы оставаться в рамках стиля. — Э.). Так вот: это весна.
Игре света и температуры постепенно пришел конец: воздух, ворча, нагрелся, матчи становились все утомительней, девушки потели или, увы, уходили на пляж. «Помните, друг мой, ту девушку в синем, которую я так рассматривал на разминке… которая потом так очаровательно ругалась, точнее, обругивала меня… а. я, ну, там, возле 16-метровой…» (Я тогда отметил, что, уж простите, но когда взгляд мастера пересекся со взглядом молодой дамы, я и сам хорошо помню ее — 15.53, — на ней было синее шелковое платье и легкий ветер сильно обнажал детали грудей, но в тот момент мастер точно не околачивался в районе 16-метровой… Это наблюдение, являющееся моей задачей, само по себе удивило. Он поднял дедовские брови. «Скажите, Э., вы бы не хотели овенгерить свое безобразное имя на Эдьхедьемедье! Его тоже можно было бы сокращать как: Э.». Беспардонный намек на очаровательного маленького сыщика из одной довольно известной в Европе новеллы про шпионов! Какой позор, какой позор! Затем, просветлев и успокоившись от одной мысли [не то чтобы мысль просветила и успокоила его!], он пробормотал: «Ах-х! И сколько всего еще можно сократить на Э.! Гм-гм. Неужели мы станем Иудой для самих себя?! Эффектно!» Он ждал случая, чтобы проявить шизофрению, как паук. Вот он и представился, как я отмечал: не могу уследить за его мыслью. «Попытайтесь, зайка, попытайтесь!» — с этими словами он холодно поднял ворот пиджака. Однако затем в нем прорвалась жизнь — это великое его преимущество, жизнь! [Можно воспользоваться!] — и со стремительностью широкого жеста он перекувырнулся через интермеццо, пространно показывая-разъясняя вороту пиджака секреты расположенного «по ту сторону» войлока, важность пристающей к нему всякой всячины, мягкость на ощупь, распускающиеся волокна нитяного шва, незначительность-важность границ и т. д.)
Они было собирались выходить из раздевалки, когда внимание защитников или нападающих обратили кое на кого: быстрого, жесткого, хорошо обманывает и плюется. Тогда он вспылил: «Я еще такого не ивил. Есть ли хоть один такой противник, — и он стал показывать на пальцах: раз! два! три! четыре! — который не был бы стремительным, как молния (без дождя), жестким, прямо как видия, не обманывал бы чертовски и не плевался бы точно и смачно?!» — «Успокойся, Петике, не тебе блокировать». И тогда он уже напрасно махал руками, к нему и пристало: он не любит блокировать, ему нельзя доверить человека. (Горькая ирония!) «Но, друг мой, все знают также и то, что это неправда». (Имеется в виду блокирование.) Это так. «Знаете, — сказал он в более поздний период, когда уже было ясно, что его план «относительно шести или семи носатых дочек потерпел крах», — знаете, я воспитаю сына центровым блокирующим. Он будет крепким, безжалостным и всем будет мозжить головы». И кивки со смехом означали: такой потенциал в мастере, в этом точеном правом связующем, был.
Теперь уже главную роль играла жара. Подул далее какой-то ветер. Сначала легкий, прохладный; затем окреп и стал невероятно горячим. Фен. Погода стала душной. Он еще не изволил быть «зашнурован». (Длительное, змеистое или скорее даже кишечное блуждание шнурков по следам выходящих игроков!) В искрящихся лучах солнца он изволил перебегать из тени в тень, не в силах обогнуть широкую, солнечную до безобразия местность: поле. Откуда-то сбоку Либеро пискнул: «Петике!» Но он как раз делал последние шаги еще-в-тени, восклицая: «Мне пришла охота играть. — Потому что в тот момент ее в нем еще не было. — Я буду сражаться, как лев». (Что за интенсивность. Мы это еще увидим. Соответствующее чувство и соответствующая реакция.) «Сделай шаг», — ехидно сказал Либеро, вооруженный опытом уже с солнечной стороны. Мастера же застопорило как раз это предложение, а не конспираторское обращение, прозвучавшее ранее. «Пять ящиков пива поставили», — тихо сказал Либеро и кивнул в сторону здания клуба, который был в собственности противника. «Знаете, друг мой пять ящиков пива на этом уровне — королевское предложение». Без раздумий он изволил сказать «нет» (скривив рот, покачивая головой). «Все равно проиграем. Их домашний судья ведет матч». — «Знаю». — «Петике, помирать — так с музыкой…» — он беспомощности развел руками; раздраженно отмахнулся: он считал, что все уже на мази, однако без содействия мастера предложение осуществить было невозможно. «Музыка? В такую жару?» — специально подшучивал большой человек. Он понимал ход его мыслей: если уж они и так продуют — потому что противник сильный, а судья уже знает результат, — тогда, по крайней мере, не надо быть лопухами. Но он мог думать лишь о том, «какого хрена» он проскакал полгорода, если сейчас состоится псевдофутбольный матч. «Нет», — сказал он вновь затем, увидев, как симпатяга Левый Защитник (который всерьез присоединился к совету старейшин в силу престижа, которым пользовался в команде, и неожиданно тоже разделил мнение Либеро) неуверенно покачал головой и покраснел, быстро добавив: «Но не потому, Яника, что я честнее, ерунда это. Исключительно из практических соображений. Просто с какой это стати я впустую пробегаю матч. Давайте, ива. Говорите хоть одну причину». Те молчали. Мастеру это не нравилось. «Ну, одну, котятки. Если бымы хоть за бабкииграли. Но обманывать на этом уровне… Для вас три бутылки пива: причина? Не причина. Если мы на это пойдем, то мы точно такие же уроды, как они вместе с судьей. И потом выпьем три бутылки пива. Идиотизм». Они поплелись на ту сторону поля. Либеро чуть свернул в сторону и головой показал: нет. Тот, кому он показал, разозлился. «Ничего не поделаешь», — сказал Либеро. Мастер совершенно не убедил остальных в том, что это решение верное, а то — неверное. Да и не хотел, он был выше этого. «Знаете, друг мой, я просто хотел, чтобы они признали обоснованность моего шага». Ну и конечно, он хорошо знал, стервец, с чем это сопряжено. Однако даже он не знал того, как удачно сложится встреча, какой нравственный пример удастся ему показать в этот день. «Мир играет мне на руку». (Ногти у него! Кошмар!)
Вследствие состоявшихся перед этим дружеских переговоров игра проходила в порядочно «натянутой» атмосфере. Как это мастер проскальзывал между горами мяса и к тому же сохранял свой задор! Как это он, поднявшись с земли, нагло говорит: «Лапуля, не надо этой помпы!» — «Почему бы тебе не ива свою мать?» — прозвучал в его адрес вопрос. «Приятель, — сказал он уже на бегу, — приятель, я над этим подумаю». Это обывательски-гуманистическое обращение мастера с текстом на волосок от скандала, понятно, раздражало. Считается классическим случай, когда он, перейдя в защиту (был обыкновенный матч), провел с господином Ичи длительную дискуссию на тему некой статьи в журнале «Вигилия» по поводу некоего нюанса в связи с господином Оттликом и литературным журналом «Нюгат» — «уже не существует, mon ami». «Так сказал господин редактор Ошват», — вопил, к примеру, мастер с 16-метровой господину Ичи и проводил мяч между атакующими его противниками. (Технически несложная задача.) Как ему тогда досталось за бесспорное легкомыслие! Не одну неделю ходил он потом в Спортивную Больницу на физиотерапию. «Как мертвому припарки!..» Бедный мастер! О господине Оттлике уже и не…
«Котлету из тебя сделаю, носатый!» «Боже, Боже мой, — размышлял он как-то раз, жаря сало на костре уже по уши измазавшись и жирный; хорошо шло вино «Шопронское Кекфранкош» урожая 1974 года — Боже мой, в самом деле, деревенский я писатель или городской?» Интересно ему было, знаете ли, на чьей он стороне. Затем изволил прийти к тому, что, принимая во внимание древние корни его семьи, он явно деревенщик, с другой стороны, опять же, плохонькие усы (не то чтобы на венгерский лад, просто никакие!), а также тот факт, что на каждом третьем-чет-вертом футбольном матче его ругают евреем, свидетельствуют о городских мотивах. «В этом не нужно искать больше оттенков». Отмечу, что нос господина Дьердя также стал объектом для исторических шуток. По грязи простаивающего перед кабаком «трабанта» было выведено: в гастроном поступила свежая маца.
«Котлету из тебя сделаю!» — «Маменькин сынок ты, шеф, — выдохнул он в ухо парню-защитнику, — поэтому тебя сюда поставили! Чтобы из меня котлету!» Малыш был Малой Смертью, защитник из разряда убийц, только еще молодой. «Брат его старший хороший картежник, Большая Смерть». Мастер просто терпеть не мог Большую Смерть! Если бы умел ненавидеть, то ненавидел бы. Малая Смерть вплотную приблизился к знаменитому лицу. «Опять вы к нам пожаловали, носатый, а?!» — «Но, милый мой, — ответил он тоном маркизы, — если так решил прихотливый жребий». — «Не умничай, ива, котлета из тебя будет!» Тогда он наконец принял личный вызов и процедил в ответ: «Попробуй, карапуз». И приподнял локоть, чтобы поспособствовать его встрече с небезызвестными ребрами; как матерый кабан, вырвался мастер из нежных тисков защитника.
Они как следует насолили противнику. Конечно, они тоже не могли оставаться безучастными, так что нейтральный наблюдатель — скажем, тот субъект в одном из опоясывающих стадион новых огромных домов, который бросил взгляд вниз, с высоты, — видел встречу двух команд, редкую в своей жестокости. Мастер, по доброй традиции, не пинался, а «лишь» был взвинчен. «Он свое дело делает». Даже судью кто-то из них пнул — мячом. (Либеро.) Судья обернулся, ища мечущим искры взглядом преступника. Он зловеще приближался, когда мастер разогнал грозовые тучи мудрыми словами: «Да что ты, брось. Если бы кто-то с такого расстояния специально в тебя попал, — потому что от волнения перешел на «ты» с аморальным судьей-молокососом; «Господи, он одних со мной лет», — ива, тогда бы он не здесь играл!»
(Они продули со счетом 1:0 — с голом, забитым из вопиющего положения вне игры.) «Вы видели, как они боялись», — устало смеялся мастер, уходя с поля. «Божечки, да они чуть в штаны не наложили». Потом, поравнявшись со взмыленным Либеро, который — несмотря на то что в последнее время демонстрировал ухудшающуюся форму, «падал в грязь лицом», — теперь проявил себя одним из лучших в команде, похлопал его по спине, ухмыльнулся: «Ну, что, ива?!» — «Петике, — сказал отрицательный, а затем положительный герой матча, — Петике, они ползали как улитки… На будущий год перехожу в «Космос». На что далеко не старый, но и не первой свежести, а именно второй половины дня воскресенья, обрюзгший мастер: «За пять ящиков пива, минимум». Поражение еще никогда не было так приятно.
— — — — —
Где-то что-то изменилось, колеса скрипнули, резкий — как нож — свет автомобильных фар внезапно появился, ворота (!) разорвались, как лист бумаги резиновая дубинка мягко опускается, рука, которая хватает, может принадлежать Караяну, кого-то незаметно начинают пасти, кто-то — потому что об этом его конкретно просят — незаметно начинает пасти, ледяной кубик победно гремит, запор гремит, телевизионная беседа входит в русло, где-то что-то приобретает окончательную форму.
Не считая нескольких взглядов из категории странных, которые он регулярно изволит ловить на себе в коридоре, ведущем из раздевалки на поле, и в которых можно прочесть эдакое своеобразное одобрение («Все нормально, парень!»), ничего не произошло: не было ему никакого тайного знака, или письма, или случайно оброненного слова, никто его неожиданно не приглашал немного потолковать, ни в рюмочную, ни куда-либо еще, ни о чем через посредников не изволили ему намекнуть (), зарплату ему не понизили, мало того, согласно предписанию, повысили (до двух тысяч семисот форинтов), никто его к себе не вызвал и никаким иным способом не сигнализировали о том, что мастеру кое-что нужно понять особо, вокруг него не рождалось сплетен больше обычного, его положение ни на работе, ни в личной жизни не становилось невыносимым (), ничего не происходило: матчи приближались, матчи проходили, — все-таки медленно, как холод вслед за поспешным предутренним зевком, в тело мастера проникала и биологическая уверенность в собственных силах, сознание порядка и организованности, вера: что не изволит быть один, его шаги (мало того: пасы, выходы, резаки и пробежки назад) прослеживаемы: за ними следят, оцениваемы: их оценивают, вследствие чего в паре мест он изволит быть обязан действовать с ответственностью. И это хорошо.
17 Мастер призвал господина Банта к ответу. Ответ господина Банга был уводящим. «Старик», — сказал он. Затем под напором мастера повторил: «Старик». Однако выяснилось, что именитый иллюстратор, по сути, ничего не сделал. «Старик, как только я вошел, он начал раскладывать на столе папки и сказал, что, к сожалению, ему надо идти, потому что, к сожалению, надо отвезти в ремонт, к сожалению, машину, но не надо волноваться, все будет в порядке». Мастер махнул рукой. Но затем они превратились в людей действия (прогресс). Мастер вскочил на дисциплинированно ожидающего жеребца, господин Банга прижался к нему сзади и обеими руками с ужасом вцепился в мастера, как детеныш мартышки в свою мать. Он изволил поторопить умную скотину. Они добрались до типографии. Мастер взялся объехать Европу с чтениями, «ах, эти обязательства, mon ami, эти обязательства!», и для этого необходима была типографская продукция. Волосы господина Банга трепал ветер, крошечный коричневый лоб интеллектуала отсвечивал, ничем не скрытый. Со спины лошади он то и дело кричал грубым, но повторяющим некую и красивую мелодию голосом пешеходам, в основном если это были местные девушки. «Лапочки мои, бубудьте осторожны, попотому что приидет сееренький волчок и утаащит за боочок». Но в песне это выходило еще лучше; можно себе представить. А если бы господин Банга молчал! Вот была бы радость и находка! Потому что, например, внезапно в такие моменты художник восклицает: «Тинейджер!» — и мастер уже поводит большими проницательными глазами для восприятия ожидаемого зрелища, однако тогда, например, господин Банга дает отбой». — «Нет. Не тинейджер, — он качает головой, — коррупция!» — «Это ошеломительно друг мой!» И углубляется во что-нибудь совершенно иное, в какую-нибудь походную социологию.
Когда удалось потесниться и каким-то образом дать место голосовавшей на дороге польке — мастеру девушка не понравилась: она взяла и, ни слова не говоря, уселась в седло на книгу; «друг мой, своими бедрами, бедрами села на нее!» — господин Банга так обрадовался, что чуть в пляс не пустился. С большим жаром, применяя свои лысеющие познания в русском языке, он начал рассказывать девушке одну историю. Его самого чрезвычайно эти вещи забавляли, но уследить за историей не удавалось даже мастеру, а ведь его пристрастие к историям и их морали велико; мало того, венгерские слова, с душой вставляемые господином Банга в рассказ, он также понимал лучше польки, лучше. По ходу повествования господин Банга иногда трепал мастера по плечу (как будто жеребцом был он) и, оборачиваясь между тем к девушке, говорил: «Пишта Тюшке. Пишта Тюшке и фошисти». — «О чем ты рассказывал?» — спросил он с подозрением, когда они отделались от девицы. «У входа в лагерь ее уже поджидали бычки».
«Как так — о чем я рассказывал?! Дак о партизанах и фашистах. А Пишта Тюшке, это партизан, его к ним забросили», — «А зачем ты трепал меня по плечу?» — «Зачем, зачем. Чтобы показать, что Пишта Тюшке — это имя, что, к примеру, тебя могут так звать!» — «Меня не так зовут». — «Знаю. Это я ей показывал». — «Ива».
Оп-ля, вот они уже стоят перед типографией, но, собираясь в обратный путь, товарищ Йонаш приветливо машет им вслед. С трудом пришли два художника к общему знаменателю относительно того, давать товарищу Йонашу на чай или нет. Решением стала неловкость, а также то, что оба с такой прямотой посмотрели в услужливые глаза и радость их была так неподдельна.
Город дрожал от летнего зноя, камни, асфальт, бетон излучали жар, и множество светлых пастельных тонов — они тащились по какому-то современному городскому центру, — и это марево делали городской пейзаж крайне нереальным (и в этом мерцании как будто дымка висела между недружелюбными коробками домов, смягчая впечатление), особенно теперь, когда оба завороженно рассматривали новую книгу (издательство «Магветэ», Будапешт) и все остальное — геометрию, джинсы, ситцевые платья и звуки, звуки — воспринимали исключительно как вещи второстепенные. Эти мне художники! Они не видят и не слышат в такие моменты. (Это правда, в такие моменты может вырабатываться очень своеобразное чувство пространства. «Обостренное, вогнутое».)
Или все-таки? Потому что они «видели и слышали» книгу, и сердца их — профессиональные требования! — великое событие не смягчило. Господин Банга, насколько позволял возвышенный, кроткий склад его души, кипятился. «Я им говорил, делайте без полей! Разжевал и в рот положил». И пихал мастера, чтобы тот тоже посмотрел. «Угу», — говорил тот, не отрывая взгляда от текста, его губы объединенными усилиями морщила скептическая усмешка, радость и печаль, как всегда, когда он впивался в собственный текст, растворяли его в себе. «A растр!»- возопил господин Банга. В ответ на это даже мастер не мог оставаться безучастным к своему другу и товарищу по работе. «Возмутительно! Что это за растр!» — сказал он с сомнительным сочувствием, одновременно листая свежую, пахучую книгу, потому что именно это и требовалось. И щурились два именитых художника в льющемся, как подлость, свете. (Это был фактор не из последних!) Но и мастера постиг справедливый рок. «Как это, хлеб с медом-маслом!» — побледнел он. У господина Банга — который разбирается в мельчайших проявлениях жизни, своей маленькой ручкой усмиряя находящиеся вокруг него предметы, он исключительно своими силами пробился туда, где сейчас находится, — нашлись силы спросить, и даже с подлинным интересом: «Ты не знаешь? Чудак человек…» Но мастер не считал это шуткой: сейчас он был задет за живое. «Это не хлеб с медом-маслом, это хлеб с медаслом. Так он называется. Я два раза переправлял в корректуре». — «Два раза? — изумленно причмокнул иллюстратор, углубленный в собственную проблематику. «В одиночестве».
Вновь наступил черед скачек. «Как ты едешь?» — призвал господин Банга мастера к ответу; он понимал своего друга: ведь добрый господин Банга, если поворот, который мастер преодолевал, не вписывался в гармонию, которую определял его заслуживающий доверия вкус, сразу заводил об этом речь, не поддаваясь влиянию конкретных поворотов дороги. Однако мастеру в конце концов приходилось ссылаться на то самое, на практику.
Но, в самом деле, на что было ссылаться господину Банга в случае со сваренным им кофе, когда парочка прибыла на место? Не на что. Он не воспринял направленную в его адрес критику. Мастер же повторное угощение. Его одновременно злили две вещи. «Почему нельзя закрыть скобку? Почему? — брюзжал он. — Если людей можно», — добавлял он в духе Джимми Картера. Но искристое остроумие господина Банга уже переключилось на похвалы. «Старик. Все-таки вышло довольно неплохо». Это заставило мастера — из чувства меры — покритиковать кофе. «Знаете, друг мой, ругать что-нибудь чрезвычайно простая вещь. — Он честно продолжил: — Или хвалить. Это вещи до примитивности просты». Своим носиком он втянул долю общего количества кухонного воздуха комфортабельной квартиры из домкомбината. «Голубчик мой, он пахнет мышами. Твой кофе пахнет мышами». И еще показал зубами, какими мышами: «Пи-пи, такими вот мышами».
18 Мастер надел свой прославленно-ославленный писательский халат и занял место на своем месте; руку — уже не на уровне школьника — игриво держа на вихрастой макушке Венгрии. Блеснул шелковый отворот; легко можно было заметить длинный волос, в котором, как на волнорезе, отражался вечерний комнатный свет. (На следующей странице с волнением прилагаю достоверное изображение одной детали из шапки великолепных волос. Надеясь доставить большую радость поклонникам.)
«Любовь моя, — сказала мадам Гиттуш, — не тряси волосами». Он по-собачьи посмотрел в ее сторону. «Вот, пожалуйста, и здесь колтун! Чего ты так скребешь голову?» — «Творческая неудовлетворенность», — хмыкнул он. «А я, значит, порядок наводи», — бухтела для виду женщина. Она хлопотала над чаем. «Граф Грэй»? Не «Граф Грэй»? — возникает всегда вопрос. В этот момент раздался плач Донго Митич. «Что мне делать?» — спросил мастер. «Что-что, накрой ее», — состроила мину женщина. Мастер на цыпочках засеменил к кроватке. Миточка разочарованно уставилась на папу заспанными глазами королевы. «Мишку». — «Хорошо, — кивнул отеческий мастер, — ведь я у тебя хороший папа, принесу мишку». С этими словами он хотел было принести мишку, но, когда наклонялся, поскользнулся пяткой на паркете, потерял равновесие, пол ушел у него из-под ног, и со всего размаха он пнул кроватку, планочки с треском обрушились, и мастер, как какой-нибудь левый защитник — активному связующему, вмазал Донго Митич по цветочному ангельскому лицу пяткой. «Ах, я свинья», — сказал он коротко. Вбежавшая мать подхватила младенца, отец, растянувшись на полу, неоднократно. Изо рта девчушки сочилась кровь. «Какая я свинья», — сказал он теперь между делом. Волнения улеглись. Всхлипывания девочки и зловещее клокотание кранов («Прокладки, прокладки Франца!») служили своеобразным демоническим фоном к словам Эстерхази, которые должны были последовать…
Он рассеянно помешивал свой чай («Граф Пээй» — снова только щепотка, для вкуса»), листая книгу господина Дежэ. «Как хорошо, когда кого-то зовут Дежэ»; — думал он про себя. Мадам Гитти положила себе в чай сахару. Мастера это движение своим практическим и живописным полетом заставило остановиться. «В нем есть сахар?» — спросил он, имея в виду свой чай. «С чего это?» — ответила она устало, потому что уже был вечер. «Это не упрек, а вопрос», — примирительно сказал Эстерхази мадам Эстерхази. А затем примирение продолжилось: книга господина Дежэ, потеряв достоинство, приземлилась на кафель кухни, потому что ведь мастер — отодвинув ужин в сторону — встал и поцеловал жену в шею. «Еще», — сказала женщина в тот момент, о котором можно догадаться. «Дорогая, — сел мастер обратно, — дорогая… Где соль?» — «На своем месте». После коротенькой паузы, за которую мышцы, вероятно, напряглись и расслабились, мастер вскочил и принес соль. «Проси чего угодно», — склонился он перед женой. «Прошу соль», — сказала она, улыбаясь. «Радость поселилась меж твоих глаз. Это хорошо». — «Ошибаешься, — ответил мастер, у которого начинало портиться настроение, — это мой нос».
«Ты меня любишь?» — «Люблю».
Мастер сел в большое и милое, необъятное кресло и стал сжимать ладонь. В начале сезона кожа содралась — за это даже не всегда полагается штрафной удар! — а постоянная работа обеспечивает протяженность раны во времени, усыпляя бдительность обладателя раны тем, что вид раны все более утешителен. Не густо, скажу я вам: вид ее все более утешителен. Не всякий шлак удавалось из нее вымыть, таким образом, спонтанно возникали островки, которые при надавливании «выделяли гной». (Ибо мастера так расстраивала все растущая численность пустых, как консервные банки, человеческих отношений, что случись ему, то ли «под открытым небом», то ли в самом начале спуска в метро, увидеть у какого-нибудь мужчины на руке, на ладони, россыпь чертовски похожих на его стигматы ран, он с ним заговаривал: «Тоже малый стадион?» И какими разными были ответы!)
«Не мой посуду, — крикнул мастер в кухню, — я потом помою». — «Уже почти ничего не осталось», — провопила женщина. «А, ну ладно», — сдался он и большими, проницательными глазами пробежал валявшееся на столе письмо. Старческие, дрожащие строчки и трагическая сила, излучаемая некоторыми размашистыми буквами, сразу же выдавали отправителя письма. «Этот Рубинштейн обещал прийти вечером, — читал он, — и сыграть на досуге Рахманинова. Но играл этюды Шопена и, можно сказать, фальшивил. Кроме того, съел все мои бутерброды. Какая удача, что их было в избытке, можете себе представить, дорогой Петер». Мастер улыбнулся: «О да. Бутерброды с салями, лососем, белым мясом, филе, икрой, сардинами, яйцом, ветчиной и маслом». «Видите, видите, старею, — было написано дальше, — и становлюсь все более раздражительной. С меня слетают слои доброты и терпения, я становлюсь все более тощей старухой».
Фрау Гитти на цыпочках вошла из кухни, руки держа чуть на весу, с подушечек пальцев капала вода, потом взяла и вытерла ладони о джинсовую юбку: ткань натянулась, мастер с радостью узнал взмывающую линию бедра, которая вверху так волнующе обрывается. «Ты красивая…» После непродолжительной ласки, детали которой нас обязывает умолчать деликатность, мастер углубился со своей верной подругой в беседу, ценную и с точки зрения истории литературы. «Я тут читал письмо тети Йоланки… Удивительная старушка». — «Уже немного склеротичная», — сказала жена после короткого раздумья. «Да». Мастер обвел горизонт затуманенным взором (рука снова на макушке, там играет, крутит кольца, крутит), затем медленно, чтобы преданный и восхищенный автор записок мог в точности все записать, начал говорить. (В точности! Что за нелепое слово! Ну, вот как мне передать сопровождающую слова шелковистость слов, сопровождающую слова оперетту движений, передающие слова дерзкие смены интонации, икание, прищуривание глаз, которые кавычками венчают слова или, наоборот, свергают с престола. Да и вся ситуация!.. Непростое искусство. Но позвольте сделать передышку: пре-е-екра-а-асное.)
«Важным этапом в моем духовном развитии была тетя Йоланка». Мадам Гитти теребила письмо. «Это бумагам — признала она. «Некогда она была красивой женщиной, с огромным пучком волос каштанового цвета, выражающим ленивую уверенность в себе взглядом, который, как королева чаек, диктую по слогам: ко-ро-ле-ва-ча-ек, опускался на каждый новый предмет и на человека с одинаковым спокойствием все примечал. Я часто сидел у нее на коленях, и спиной, прижимаясь спиной к ее груди, и лицом. Последнее мне не нравилось потому, что нужно было с большим напряжением разводить ноги». (Это ему и по сей день не нравится. Когда Левый Защитник или Правый Защитник — оба, по разным причинам, страстные мотоциклисты — предлагают подвезти его до автобуса, это два перекрестка, он долго колеблется, прежде чем принять предложение, чтобы потом всю дорогу испытывать сильный страх, «Яника, ива, потише, мне же страшно!» — вопит он на бешеном ветру, а потом долго ощупывает поясницу, бедренные суставы. «Ну, приятель, и вид у тебя».) «Развозить?» Мадам Питти иронично складывала пеленку. «Знаете, друг мой, он уже видел, в чем несостоятельность этого прохладного взгляда на вещи. В том, друг мой, что он эгоистичен». Разойдясь, он изволил продолжить: «В то же время последнее я страстно любил потому…» — «Веселенькая диалектика!» — «Заткнись. Я работаю». Да уж: искусство эгоистично, как я где-то прочел. (Конечно, это не тот же самый «эгоизм», что чуть выше.) «Так вот, вот, значит, а любил я это неудобное раскоряченное положение потому, что из него, не скрываясь, мог смотреть на ее прекрасное лицо. Из этого положения, из тогда еще бессмысленной, но уже тогда волнующей теплоты объятий, внимания заслуживал главным образом нос… Тот путь, который отмечали брови и где взгляд мог проскочить, как… как…» — «За-а-аяц!» — «Спасибо, голубушка моя. Как заяц, у переносицы мешкал. Основание носа немного расширялось, но очень изящно, четко, наподобие площади в маленьком городе, так, как… э… на изображении Джо Луиса, Коричневого Бомбардира, вот только, наподобие нереальной тени самолета, взмывало на глазах у зрителя вверх, прочь. Носу, в общем-то классическому, это придавало какую-то неопределенность, какую-то возбуждающую грубую силу, которую — но это уже можно было утверждать только в моем тогдашнем, немногим доступном положении, — которую усиливали темные, отбрасывающие тень ноздри».
О-о, однако ведь его отношение к волшебной женщине далеко не так эстетично. Та несломленная («вопреки всему!») вера, которую излучала эта лучезарно умная, деклассированная женщина, имела и имеет на мастера большое влияние. А ее женственность! «Дорогая Йоланка, — неосторожно сказал он как-то гораздо позже, — вы теперь уже можете быть такой старой, какой хочется, но и тогда останетесь т. н. привлекательной женщиной». «В пятидесятые годы ее преследовали». Но не так, как врагов народа обычно, а так, как в цветных фильмах. Она скрывалась то на одном хуторе, то на другом. «Как-то она в течение нескольких месяцев каждый вечер пела с местным следователем по нотам, сидя под ореховым деревом». А ведь по ее рукам сразу надо было определить некрестьянскую сущность! Мастер в те времена констатировал это так: «Ну, и вы тож не много робили». И маленький палоц — потому что жизненный путь он начинал в этом качестве — вертел шелковистую руку, как упавший с луны предмет. (Сходное замечание классового характера на сходную тему? «Скажите, пожалуйста. Как же ж можно ходить на энтих крохотных ногах?!») Мастер жил уже в кругу семьи с тенденцией к улучшению («Круг: след от стакана на липком столе в рюмочной. Дефиниция»), когда поздним вечером в дверь позвонили. У мастера, как вы понимаете, со всей определенностью отсутствует тот рефлекс, под воздействием которого у родителей начинаются судороги. («В-в-воздействие, друг мой, оно самое! Отмечу, в этом есть доля истины. Конечно, ж чем ее нет?!») Таким образом, одно лишь любопытство прижало его к стеклянной двери — где при умелом обращении с занавеской возможен был даже просмотр запрещенных фильмов, — но откуда он тогда, без всяких объяснений, отпрянул. Нежданной гостьей была тетя Йоланка. Она как раз еще скрывалась. Перед рассветом отправилась дальше. Мастер не спал. Жуть как интересно. Одной ноги у тети Йоланки не было, точнее, это была искусственная нога. В войну она прославилась (как в +, так и в — сторону) методичным христианским поведением, которое в данной ситуации выражалось в предоставлении убежища еврейским детям (пропитание, забота и т. д.); однако из-за этого сама оказывалась в бомбоубежище реже (игра слов. — Э.), вот ей ногу-то и… Которая пристегивалась! Этим можно объяснить леденящее кровь волнение родителей мастера, возникшее впоследствии. «Слушай, она ногу здесь не оставила? Одну из своих искусственных ног», — «Надо бы ее сжечь». — «А кожа! Знаешь, как она воняет, когда горит!» Вот каким боком может выйти готовность прийти на помощь.
В начале своего пребывания в деревне они спали с тетей Йоланкой в одной комнате. И еще со многими. Убогое детство так закалило мастера, что и в нынешние ласковые времена он может быть как камень. Tu es Petrus, как я уже отмечал… Хотя его небольшой наследственный двойной подбородок… «Знаете, друг мой, — заметил он с болезненной мудростью и трогательностью великих людей, — знаете, и я ведь только заполняю возникший благодаря себе космос». Это точно: вот она, трагедия смертности всех нас, тех, кто не является Всемогущим. А здесь один он со всеми! — Жила там и, отделенная занавеской, внушающая ужас прабабушка. Мастер боялся ее как огня. Даже отец мастера боялся ее. «Она всегда говорила нам: magnez du pain, mes enfants, sinon vous sentirez les renards! — то есть чтобы мы ели хлеб к мясу, иначе будем вонять как лисы!» Ну, в ту пору это насущной проблемой не являлось. «Смотрела в лорнет! Уже это само по себе!» Кожа у нее была желтая, лицо жесткое. Мастер всегда слышал о ней только одно: какая она важная персона. Долгое время он считал, что прабабушка — король! Только по какой-то причине сейчас она оказалась здесь, с ними. Она целыми днями практически ничего не говорила. Ей надо было целовать руку, постоянно. И когда она слышала произведенный мастером поцелуй, учитывая то, что какой-нибудь тихий чмокающий звук можно приравнять к поцелую любого характера, то резко отнимала холодную, костлявую кисть, почти ударяя мастера по губам. «Мне было очень страшно». (Впрочем: мастер в этот ранний период своей жизни был способен испугаться в разнообразнейших ситуациях! «Боже мой».) Однажды на округу опустился тяжелый, глубоко летний зной. На краю веранды рядом бочкой дождевой воды сидела в кресле-качалке прабабушка. Вокруг ее черного, полукругом обшитого кружевами, высокого, закрытого платья гудели слепни. «Знаете, друг мой, можно было встать так, чтобы одновременно видеть кружева, а за ними навозную кучу!» И между этими двумя предметами прабабушку. Мастер околачивался поблизости, когда старуха выпустила т. н, газы. С этого момента со страхом было покончено! Теперь розовый ротик маленького мастера мог хоть потрескаться после поцелуя руки! Бедная, старая прабабушка! («Друг мой, в то время я смотрел на это немного под другим утлом: бедная, старая прабабушка! И: чтоб ты сдохла!»)
Прабабушка и тетя Йоланка, мягко говоря, терпеть друг друга не могли. Когда дочку тети Йоланки увезли в деревню Киштарча, в лагерь, и мать со слезами на глазах села рядом с мастером за традиционный урок немецкого языка, прабабушка с невероятным возмущением, почти жестокостью, бросила ей: «Любезная Йолан, лучше бы вы помолчали, любезная Йолан!» А ведь тетя Йоланка не сказала ни слова! После этого две женщины никогда больше не разговаривали. «Одна умерла, другая эмигрировала». «Знаете, милый Петер, все близкие вокруг меня умерли, и я немножко устала».
«Дядя Тибольд часто бил ее», — вставила в качестве своеобразного vox diaboli[44] свое слово добрая мадам Гитти, которая все больше отступала на задний план, бросая оттуда такие-разэдакие взгляды. Был, значит, передний план и задний план. «Не бил, только пощечины давал». Мастер растопырил ладонь, потрогал края ранок, «как роса на предрассветной траве», выделилась слизь: «рана сочилась» (эквивалент мастера). «Сколько раз я сидел на коленях у Йоланки, мы смотрели фильм, первую часть «Битвы за Сталинград». Нам всегда привозили только первую часть. Но и это было здоровско. И поскольку мы сидели вдвоем только на одном стуле, деньги, которые мне давали на кино, оставались непотраченными. Целиком». И тогда она на эти деньги покупала книги. Пробуждающийся разум с жадностью поглощал 100 чудес света! О, эти дешевые библиотечные книжки! Рваные, растрепанные, грязные, да ведь разве тогда это имело значение!.. Как тряпичный мячик! «И свечи, сгоревшие без остатка!» Затем мастер, как человек, который хочет, чтобы поверили, что он так тихо говорит то, что говорит, потому что это не касается никого «другого» (шутка!), может быть, даже самого мастера, сказал: «Максим переворачивается в гробу».
Мастер вновь оказался на цветущей поляне историй, вдохнем же вместе с ним ее ароматы, давайте! И однажды случилось таю когда он с тетей Йоланкой однажды пришел домой из кино, где снова смотрели первую часть «Битвы за Сталинград», дома в углу сидел господин Михай и за-заикающимся от плача голосом, медленно-медленно, то запинаясь, то куда-то торопясь, рассказывал: «Бедный Папочка, как его побили, лучше бы повесили, не страдал бы так». Мастер обернулся к жене: «К сожалению, и это тоже превратилось в семейное предание. Его надо рассказывать следующим образом: и сел тогда Михайка к фортепиано, но после нескольких аккордов бросил играть. Мы расстроились, это точно, думали, ну вот, сел в лужу. Однако он — и это, представьте себе, у всех на глазах! — встал и протянул руку за бутербродом, который начал с аппетитом поедать. Остальные, естественно, последовали его примеру. Старые пердуны, так их! вечно все сметут, всегда говорил Дьердечке. Марцику тогда еще нужно было кормить грудью, поднялась большая суета, а Михайка возьми да и скажи: может, коза пьяктичнее? Ну разве не прелесть?! Еще и пьяктичный. Конечно, и за Марцику не надо бес покоиться, именно он — конечно, гораздо позднее — спросил меня: скажите, Мамочка, вы еще девственница? Что мне было сказать на это своему четвертому ребенку? Не хотелось его разочаровывать… Возвращаясь к Михайке, тот в одной руке бутерброд, другая на клавиатуре, а вокруг гости, точнее, как это, старые пердуны, и тогда он эдаким легким, поучительным тоном говорит: бедный Папочка, как его избили в пятьдесят шестом, лучше бы повесили, не страдал бы так. Стоит он, вокруг тишина, и улыбается, представляете…» Мастер облизал ладонь (но отнюдь не десять пальцев: он намного более беспощаден по отношению к самому себе!). «Примерно так надо рассказывать».
Мастера уже с младенческого возраста «посещали темные ангелы головной боли». (По его словам, в такие моменты он изволит ощущать, что является интеллектуалом.) Мало того, эти головные боли младенческого возраста были мигренью! Прямо как у взрослого! (Он не состарился прежде времени, а просто был зрелым человеком…) Тот год («вот видите, друг мой, мы — деликатные слоны в посудной лавке»), пятьдесят седьмой данного столетия, является для мастера важным, сложным воспоминанием. То было его позорным поражением. Почему? Все началось с пятерки из картона. Мастер по сути своей всегда был хорошим учеником, мало того, скучным образцовым ребенком и милым, хорошо воспитанным мальчиком. Так вот, в то время он считался первоклашкой, за три пятерки полагалась одна пятерка из картона, которую учительница, Мария Катона, лично изготавливала и вручала то одному, то другому. Ну и вот, на короткий период осени означенного года вдруг самой лучшей оценкой стала единица (а прежде была пятерка). Мастер благодаря прилежанию и способностям приобрел даже две единицы из картона. Да, но одну потерял, а, согласно правилам, поскольку потери были делом нередким, она не засчитывалась — даже если все о ней помнили. Но это он изволил скрыть и сделал единицу из картона с помощью соседа, бригадира кузнецов-гвоздарей. (Нелегкая это работа.)
Но явное всегда становится тайным… Уже утром! Пришли солдаты и обыскали квартиру. Прочесали ее. Порхали листы бумаги. Мастер стоял с родителями, рядком, как на парадном групповом портрете. Этому на сто процентов соответствовала напряженность лиц. Мастер с большим почтением смотрел на солдат. Те спросили, есть ли оружие. Они сказали, что нет. Однако господин Дьердь сказал, что есть. «Желваки!» Они спросили, не покажет ли им темненький мальчуган оружие в единственном или множественном числе. Господин Дьердь любезно удовлетворил просьбу и извлек из-под кровати свое пробочное ружье. Как же он перетрухнул. Мастер, немного злорадствуй, попрощался со взрослыми, потому что ему надо было идти в школу. Автоматчик во дворе заставил его снять ботинки, вдруг у него там что-нибудь есть, но там, так сказать, были только ноги! Сквозь отверстия дула автомата то и дело проглядывало небо.
В школе же выяснилось, что хорошей оценкой снова стала пятерка. Мастер оказался в очень невыгодном положении, потому что «обмена», во избежание злоупотреблений, не было. (Потому что так за настоящую, полученную до этого периода единицу можно было бы получить настоящую — непериодическую пятерку.) Не будем сейчас о проведенной совестью экзекуции, — только о головной боли, которая начала мучить ребенка (его!). Вместо того чтобы «пулей вылететь из школы», он вышел, пошатываясь. Он был настолько измучен, что на главной площади пришлось остановиться. Там стояло много народу, он оказался у всех за спиной. Видел большие черные спины; ему хорошо запомнилось примерно пять типов пальто, все черные. Потом одно пальто обернулось: старое лицо, с усами, — и, увидев бледного ребенка, отвело его в сторону: «Иди, сынок, домой». Он доплелся до дворика почты. Прислонился к стене. Увидел вблизи селитерные пятна, и тогда на него нашел ужасный приступ рвоты (прошу прощения! прошу прощения'). Было такое ощущение, что внутри ничего не осталось. Его затяжное — можно сказать: повторяющееся — воспоминание, начиная отсюда, составляет кусочек морковки, который с чрезвычайным трудом сдвинулся с предназначенного не для него места! Плюс запах. Когда он снова вывалился на главную площадь, весь белый, ему было немного полегче, но все же довольно паршиво! Толпа расступилась, и он увидел, как бьют в ее центре отца, потому что глаза у него тогда еще хорошо работали, а внизу, у ног отца, (сбитые) очки с распахнутыми дужками. Но тошнота так его занимала, что он повернулся и пошел домой. Когда же отец мастера на третий день прибыл домой в клетчатой рубашке, с разбитыми очками, с несколькими достопримечательностями на лице и чудесном лбу — данные материальные признаки, вероятно, были знакомы и по предыдущим случаям, — ему было известно больше, чем другим, и он по достоинству оценил мужское прикосновение отцовской руки к его макушке. В ответ на поверхностный вопрос господина Дьердя он взял очки в руки, покрутил, лицо его стало чужим, особенно незнакомо сощурились глаза, и сказал так: «Они упали». Упадочность была при этом доминирующим элементом. («А измученное лицо прорезали три параллельные борозды».)
«Примерно так надо рассказывать, а потом сюда по вкусу можно присоединить какую-нибудь историю с палоцами, какой-нито анихдот». (Еще какой! Как, например, в церкви господин Дьердь наступил мастеру на ногу, или наоборот. И тогда в величественной, благоговейной христианской тишине раздавался тоненький, как ниточка, голосок, будто ангельский [если наступал господин Дьердь, то мастера, если мастер, то господина Дьердя]: еаб твоаю маоть!! — Боже, вообще-то говоря, эта светская жизнь, которую я вынужден вести, какое-то мучение.) В этот момент позвонили.
«Кто это?» — спросил, не подумав, он у Фрау Гитти, хотя вопрос был бессмысленный, ведь она была точно так же информирована относительно звонка, как и мастер. «Откуда мне знать, открой дверь», — ответила женщина, соответственно; но когда мужчина, уже от двери, обиженно оглянулся, стала посылать мужу поцелуи, как примадонна, в знак того, что предыдущее предложение получилось таким резким случайно. Мастер с выражающим смягчение, мягко сказать, наплевательским отношением начхал на звонящего. «Ради симметрии лучше все-таки закончить какой-нибудь историей о Петерке, к примеру: а он еще совсем во младенчестве!! Был замызганный карапуз, в своих штанишках, «гандах», стоял в саду и шлангом гонял больную кошку, которая уже несколько дней скрывалась под сенью кустов. Эти кошки просто ужас! А больные так просто отвратительны. Однако Петерке, являвшийся одновременно настоящим паршивцем и чувствительным мальчуганом, кое-что подозревал о бренности кошачьего существования, что не помешало ему ловко направленной струей воды изгнать тварь со своей территории. Но когда та выскочила на улицу и между кустов, как молния, мелькнуло убогое тело со свалявшейся шерстью, а тотчас же вслед за этим послышался визг тормозов, тогда Петерке произнес следующее: я умру. О моей книге пусть позаботится издательство «Магветэ», но потом я поправлюсь… Разговаривай с ним после этого. И просто держал перед собой пшанг, отведя его в сторону, лужа росла, он не шевелился и постепенно сам уже стоял в воде». — «Иди уже!» — прошептала мадам Эстерхази. «Иду», — крикнул мастер. В дверях стояли двое мужчин: один — седеющий и худой и другой — молодой, «склонный к полноте». Седеющий и худой вызывал симпатию (с первого взгляда), второй на первый взгляд такой уж симпатии не вызывал.
19 (в помине) «после матча раскинувшись бледно прижавшись к поверхности взмыленно со впалой грудью разбито шумно лежать на 16-метровой быть линией подушкой и делать усталости и неожиданному пиву ясным видение резко вогнуто ощущать геометрию окружающей среды и даже быть ее частью сильно бояться снова и снова ее нарушить лежать значит на 16-метровой с поднятой рукой разбирая на составляющие и обратно наблюдать за движением облаков и в активном убожестве придумывать ко всему этому случившиеся случаи наивно» Над мастером, эдакой несчастной грозовой тучкой, склонился старик. Все превратилось в его лицо. Косящие глаза смотрели неизвестно куда, его окружил кисловатый винный запах и запах старости; но мастер все равно не «сопротивлялся». «Приветствую, господин Пек». Тот махнул рукой, дескать, ладно, ладно, речь ведь не об этом. Так прямо и махнул. «Какие проблемы?» — спросил он, заметив обеспокоенность. «Правда?» — дребезжаще спросил главный болельщик, как человек, который как пить дать знает: правда. «Что?» Мастер начиная с этого момента говорил то правду, то нет, но до самого конца планомерно врал. «Правда, что уходите». — «Кто?!» Господин Пек посмотрел на мастера. «Ну, Петике», — подбадривал он, чтобы нападающий собрался с мыслями. «Правда, что вы переходите в район, Петерке?» — «Нет», — сказал он, и это было правдой.
Потому что появились эти с портфелями, и он начал подумывать. Но кто же эти люди с портфелями. Поскольку младшие единокровные братья мастера — в противоположность короткой, полной надежд эпохе мастера — своим искусством забивать мяч еще и деньги зарабатывают, легко реконструировать соответствующую сцену: скажем, господин Марци надевает верхние зубы на нижнюю губу, — можете попробовать; как человек, который «вот-вот зубами вытащит из угла паука», — скрючивает на манер хищной птицы пальцы и свирепо нападает. «Вум-м, — торжественно говорит он, — и в этот момент прилетает бо-о-ольшой орел, — тогда он воровато, как будто протягивая ладонь за чаевыми, протягивает ладонь, — и откладывает мно-о-ого, мно-о-ого орлиных яиц». Это значит — орлиные яйца. А теперь, если в районе поля вы замечаете незнакомого мужчину с колючим взглядом с таким вот редко встречающимся дипломатом в руке («это поэзия»), тогда проще простого подумать: «Это он. Спортивный агент. А в портфеле у него мно-о-ого, мно-о-ого орлиных яиц». И между зубов гордо цедится: «Появились эти с портфелями». (По сути, в конце каждого сезона так бывает. Или бывало, потому что время не останавливается.)
Люди с портфелями появились и позвонили. «Петерке, мы, по сути, только производим разведку». Мадам Гитти подозрительно прислушивалась. Имя симпатичного седовласого худого мужчины мастер знал как почитатель. «Петерке, вы бы на долгие годы избавили нас от забот». — «Хотите кофе?» — спросила мадам Гитти без особого доверия. «Если вас не затруднит, премного благодарны», — сказал другой, молодой и полноватый. «Послушайте, Петерке, мы хотим вам добра». Молодой закашлялся. «И себе, конечно, тоже». Седовласый — со злостью, мастер — с уважением посмотрели на него. «Петерке, вы можете просить о чем угодно». Мастер улыбнулся. Среброволосый также улыбнулся, тонко. «Ну, конечно, как здесь, в нижней палате, водится». Возникла небольшая пауза. «И не забывайте, Петерке, по линии политики мы все, все можем устроить». Мадам Гитти вошла с двумя чашками кофе. Мастер тотчас увидел, что в одной меньше, и сразу понял, это для него. На две персоны аппарат. «По линии политики», — кивнул он. Мадам Гитти вопросительно смотрела. Седовласый начал рассказывать о том, как его личность уже несколько раз обсуждали в прошлом; всплывающие имена в какой-то степени заставляли мастера напрягаться. «А вот и кофе, премного благодарны», — прогудел молодой. «Тогда, Петерке, — стал прощаться человек с портфелем, — мы предпримем необходимые шаги». — «Мы вам сообщим», — сказал уже за дверью полноватый; дверь была захлопнута практически у него перед носом.
«Говорили, что вы уходите и что в район», — сказал господин Пек неуверенно, потому что заметил, что мастер сказал правду. «Знаете, как это бывает, господин Пек Столько всего говорят…» — «Петике, осенью вдарьте как следует». — «Вдарим». Ну, а это опять было враньем.
— — — — —
Итак, наступило пахнущее медом лето; он изволил отправиться в европейское турне, в поездку с чтениями вслух, по нескольким культурным центрам. Господин Белль от волнения притопывал ногой, господин Хандке до корней обгрызал ногти, господин Сартр прикуривал сигарету от сигареты, господин Месэй провел рукой по проволочным волосам даже дважды. Европа валялась у мастера в ногах и поглаживала волосы на голени против шерсти. Могу сказать, что Европе повезло: если бы ей пришлось поглаживать ноги господина Марци, руки у нее были бы все в занозах…
Торопливо пройдя окрестности, покрытые рощами в окаймлении террас, извивающиеся в густом подлеске тропинки, вытянутые кипарисы и дубы, каковые дубы есть сама непринужденность, кактусы и тамариски, бурные столетники, он оказался в тяжелом, пряном воздухе — на ужасно большом приеме. (В его честь?)
Эх-ма, бурлило сборище, пощелкивали галстуки-бабочки, аперитив погонял аперитивом. Он хорошо заученным жестом взял оранжаду, добавил к нему алкоголя, изготовив таким образом боле. «Ну, матушка моя, можешь выпить с настоящим герцогом». — «Я всего лишь граф», — отвел он то ли непрошенный комплимент, то ли оскорбление, с тем понимающим юмором, который так не любил в себе. (Он, такой беспощадный критик собственных поступков, речей, молчаний.)
Комната была залом, огромные люстры разливали холодный свет, каждого можно было хорошо рассмотреть, но далее шли уголки, салоны, где теплыми тонами царапали торшеры. В этот момент он обнаружил хозяйку дома, в чудесной тунике, с нигде не виданным макияжем! Да: Джина Лоллобриджида!!! Мастер посмотрел на женщину и как будто провалился в глубокий колодец; из окружающего не осталось ничего, кроме быстро вращающегося колеса (круг!) колодезного сруба, моральный резерв и жизненная позиция оказались не чем иным, как мелькающим при падении зеленым мхом, скользким, клейким, стремительно уносящимся мхом. Он увидел и сеточку морщин вокруг глаз, и прочие признаки возраста сразу же; это лицо было еще более красиво-изможденным, чем у Эрики Боднар. (Как-то раз, сидя перед телевизионным приемником, мадам Гитти умудрилась критично сказать следующее: «Посмотри, дорогой, у нее морщинки вокруг глаз!» Он пришел в крайнее негодование. О недоброжелательном отношении мадам Гитти к женщинам ходят легенды. Так же как и об отношении господина Андраша к коллегам. «Ладно, ладно, но у нее стрелка на колготках». — «Да, очень большая. Но видел бы ты ее без лифчика!»- такие заявления у нее в порядке вещей. Суть же негодования заключалась в том, что распоследняя морщинка Лолло стоит больше, чем все смертные женщины вместе взятые.)
Случилось так, что, когда они одновременно потянулись за оливкой, их руки столкнулись. «Извините», — произнесла Джина. Как сто альтов. Тысяча. Без улыбки, только взгляд, более продолжительный, чем требуется. Мастер уронил оливку; она проскакала по брюкам. Поскольку он так извозюкался, звезда мирового экрана предложила свою помощь. «Я вам почищу брюки, Петер», — сказала Лоллобриджида. «Бросьте, это неважно, всего лишь джинсы». Его мутило от подобной тривиальности… Но и позднее поверх голов многочисленных приглашенных женщина смотрела на мастера — он, в свою очередь, тайно качал головой… В одной из внутренних комнат постукивал мячик пинг-понга. Лолло хотела сыграть с мастером. Он долгое время позволял ей вести, однако затем твердой рукой «разбил в пух и прах» несколько изнеженную кинозвезду, 21:18. После дружеского матча Лоллобриджида со слезами на глазах приняла поздравления, немного театрально — что стало ясно мастеру лишь в ходе позднейшего анализа, но с тем большей силой, он почти ужаснулся, как бабулька, признав: вот актриса! — театрально выступила вперед, на мгновение опустила глаза, огромные ресницы-метелки почти касались его лица (это одновременно покоряло и отталкивало), груди мощно покачнулись, почти сталкиваясь с легким летним материалом. («Простой шелк», — резко сказала мадам Гитти впоследствии.) «Ты можешь вернуться, когда остальные уйдут?» Он вертел ракетку: backhand, forhand[45]… «Приходи», — нашептывала-просила Лолло, У него сердце чуть не разорвалось. Нравственное существо, каковым является мастер, пришло в небольшое замешательство. «Ты красивая», — простонал он наконец. (Потому что к привлекательной женской личности, как это обычно бывает, подключался грамматический балласт: «Знаете, mon ami, это проклятье, я люблю говорить то, что думаю. А вдруг мне надо думать то, что можно говорить»). И еще серьезно добавил: «Es ist kein Scherz» — или: Это не шутка [немецкий]. В этот момент, однако, распахнулась дверь и вошел — да не муж или что-то в этом роде — маленький Карло, сын Лолло. Он был так прекрасен, златовласый блондинчик, что мастер почувствовал: надо рыгнуть (эффект Томаса Манна). Но он не смог бы представить объяснение своему побегу, так что остался. «Скажи, милый мой, — посмотрел мальчонка прямо на него, — ты маму любишь?» Он покраснел, Джина склонила голову. «Люблю». Маленький судья продолжал расспрашивать: «Больше всех на свете?» Он без раздумий ответил: «Второй по счету». Карло задумался. «Гм. Это совсем неплохо». Однако ему тогда уже пришел в голову верный нравственный шаг. «Второй? Да ведь это полный пшик». — «Убирайся из комнаты!» — завопила Джина на сына. Тот с достоинством направился к выходу: «Но, мама, на кого ты похожа?» Джина повалилась на стол для пинг-понга. Она рыдала. Подрагивало божественное тело в широкой тунике. Мастера это теперь немного нервировало. «Нет, радость моя», — сказал он без надобности. Джина поднялась, уцепившись за сетку для пинг-понга, которая оборвалась. «Дорогой эстерхаци», — всхлипнула она и выбежала вон.
Но какой усложняющий поворот за этим последовал! Ему вдруг пришлось стать пораженным свидетелем того, как пользующийся из-за своей настырности дурной славой режиссер — славянского происхождения — вразвалку выходит из комнаты женщины, увидеть мутные глаза, услышать снисходительный смех. Он сел на порог («как бродяга или верный сторож»), Лоллобриджида лежала на кровати, оперевшись на локти. Классическая поза изломана, тело несколько угловато; ситуация была тривиальной: спутавшиеся волосы и красноватые пятна на лице. Мастер чувствовал сильную жалость по отношению к самому себе, но старался не смотреть на женщину как на распутницу. Что до чувства превосходства, то оно скоро улетучилось. Не потому, что он чувствовал: единственным нравственным поступком — потому что отсутствие поступка тоже может быть безнравственным, ого, да еще как, — было бы безотлагательное бурное соитие; нет; просто из женщины в форме монотонного потока слов прорвалась бездонная горечь, убогость жизни, обманы («в которых, друг мой, все мы живем»), компромиссы, судорожные новые начала, — женское отсутствие меры и наигранная правдивость (от которых Лолло даже в эту критическую минуту не смогла освободиться) переполнили его страхом и угрызениями совести, поскольку ведь, по причине своей неопределенности, двусмысленности, были безответственными; таким образом, на него обрушились глубина и темнота жизни женщины. «Пойдем поедим чего-нибудь», — вскочил он с игривой легкостью и погладил женщину по руке.
Вот так он и изволил всегда метаться внутри этой двойственности: между правдой и фальшью.
(1. Лоллобриджида — уже покончив счеты со всем, то есть с ним, — с грустной горечью попросила у него что-нибудь на память. Он наклонился, а потом с очарованием маленького мальчика протянул ей изумительную зеленую травинку. Кое-что из того огромного сада, по которому она так исстрадалась. Громадная зеленая площадка! Ранний утренний ветер треплет волосы, пока ты во время беспечной прогулки читаешь Спинозу! Потом немного джема, свежая булочка, яйцо всмятку! Но женщине этой маленькой травинки было недостаточно, ей нужно было что-то осязаемое. Наконец, он изволил как некий экзотический предмет отдать актрисе монетку в 20 филлеров, что каким-то образом сохранилась у него в кармане. С течением времени выяснилось, что Лоллобриджида просверлила в монетке дырочку и с тех пор так и носит ее как амулет. Это можно увидеть в «Штерне», где она с господином Марлоном Брандо стоит возле огромного пластмассового телефона. На атласной шее вы увидите монетку в 20 филлеров!!!
2. Милый Петер!
Пишу эти строки в самолете, возвращаясь в Рим. Вверху солнце, внизу барашковые облака. Самолет иногда дергается, поэтому почерк корявый. Марлон Брандо спрашивает, кто ты. Я говорю ему, писатель. Да нет, кто ты мне. В ответ на это я разрыдалась. Этого я не знаю. Но правда в том, что для тебя я не стала многим. Бедненький! Думаю, ты сильно меня испугался. [Сейчас самолет скачет, как в польке, я жду. ] Знаешь, у меня есть такие невидимые антенны по всему телу и в мозгу; я знаю, что чувствует или думает кто-нибудь, даже если его здесь нет. Так что еще…
Между тем: единственным странным моим желанием было лишь — в благодарность за то, что ты есть, — один раз прижать тебя к груди. Ничего больше. Но, увидя сразу возникшую подозрительность, я поняла, мои намерения ты бы истолковал неверно. Из напряженил, возникшего между желанием и его явной неосуществимостью, и родилась затем, пока я лежала после ухода Игоря в комнате, нелепая вороватость и ухищрения, которые я продемонстрировала. [Этот сраный самолет опять качает!] Хорошо вам всем, принадлежащим кому-то, чему-то…
Я была у Марлона [Брандо] и на следующий день уже вернулась обратно, как побитая собака. Снова. Никак не научиться. Но время все лечит…
Даже не осуществленные еще планы, остановившиеся на полпути, в воздухе, и бесполезные движения трусливой любви.
Мы сейчас выходим.
Пока: Джина)Их направили к накрытому для ужина столу. В сложившихся кружках шла обычная болтовня. «Пошлость, друг мой, перла изо всех углов». Мастер, эдаким художником, откинувшись на стуле, с наслаждением наблюдал за конструкцией, которую никто не нарушал, где ничье движение не было искренним или не собиралось таковым быть.
Но затем он вдруг утомился от постоянной готовности услужить, пресытился собственной благовоспитанностью. «Все были очень вежливы, тихи, элегантны, милы и беспардонны». У него же от этого заложило уши, в них гудело, как если бы там была вода, а ведь ее там не было. «Боже, Боже мой», — «Что ты бормочешь», — спросил его сосед, господин Миклош, поклонник литературы. «Дядя Миклош, давай слиняем отсюда, ради всего святого». — «Ша», — сказал умудренный опытом мужчина, А кавардак какой потом начался! Скандал, можно сказать. Мастер потянулся к корзинке с хлебом в центре, на обратном пути безжалостно сметя несколько бокалов с вином. «О-па», — воскликнул он и тотчас же, с опозданием, попытался подхватить бокалы, но только стряхнул салфетку господина Миклоша, попросил прощения, наклонился, попросил прощения, в это время, ударившись снизу головой об стол, опрокинул что-то новое. Покраснев, извинился перед обществом, которое повело себя жутко деликатно. Лишь понимающий и вместе с тем неодобрительный взгляд господина Миклоша свидетельствовал: он-то знает, о чем речь. Когда все усиленно запыхтели над судаком орли, он тихо прошептал господину Миклошу. «М-да, старик, — тут он повысил голос, пардон, — скажи, пожалуйста, блядь, сейчас чем есть-то?» Затем снова извинения по кругу. (А ведь, оказывается, кроме него еще многие не знали, что такое нож для рыбы.)
Поверхностную дребедень, водруженную на этот дипломатически-политический, умеренно демагогический пьедестал, он выносил с трудом; рвал и метал. «Ты был довольно примитивен», — сказал позднее господин Андраш. Он стоял согнувшись. «Каким он мог быть еще», — продолжала жужжать вышеупомянутая личность. Спустившись по ступеням, миновав ворота и дверь, они выбрались на свежий воздух. Он жмурился; пульс вечного города бился. «Думаю, я тоже стоял там совершенно на уровне вечного города».
— — — — —
К нему прибилась какая-то кошка. Заморыш и т. д.: словом, никакой шелковистости, округлости, кошачести. Имя: Марчелло. Печально сидел он в комнате, пожилая хозяйка принесла теплый плед и горячий чай. Тогда вошел малыш Карло. «Красивая у тебя кошка». — «Да». — «Как ее зовут?» — «Марчелло». — «А нельзя ли назвать ее Альберто?» — «Можно, — ответил мастер, — только ведь ее уже зовут Марчелло». — «Слушай. Давай договоримся». — «Хорошо». — «Пусть она будет Марчелло-Альберто». Он кивнул. Мальчик высунул руку в окно. «Дождь еще идет». Он повернулся, а рука все еще была снаружи. «Weißt du, mein Guter — знаешь, милый мой (немецкий); с этими словами он указал на кошку, — я бы с большим удовольствием на ней женился, но, думаю, это было бы нелегко». Чай, плед, дождь, кошка, мальчик — вот то, что было.
— — — — —
Ткнуть пальцем в сотрудника секретных служб, не смейтесь ↓ этой шуткой: «насколько мне известно, у него трое детей».
— — — — —
«Знаете, маленький мой подмастерье, — да, конечно, знаете, еще бы! — мы, восточноевропейский Фауст, говорим: «Остановись!» тому мгновенью, когда не достает начальство».
— — — — —
Европейский рассвет застал его с пересохшим горлом. Господин Андраш тихо посапывал на соседней кровати. Он с помятой, бульдожьей мордой шатаясь вышел в коридор. «Капельку черешневой, прошу», — было сказано ему в лицо. Угощающий был хорошо одет, галстук на нем аккуратен. Взгляд мастера остался, как колотушка, холодным, безразличным предметом. «Хотя мне было немного страшно». «С черной этикеткой». Так как мастер на это явно отреагировал (рот его раскрылся, затем захлопнулся, как у карпуши, как у некоторых карпуш), с размахом добавил: «Клин клином». Мастер почувствовал защиту стены, вдоль которой — но сразу же! — он может прокрасться. «Благодарю за любезность», (Но это нам уже знакомо.) У второго мужчины блеснули зубы. «Как знаешь, дорогой». Коричневая кожа выдавала целенаправленного загоральщика.
— — — — —
его охватило такое желание по отношению к мадам Гитти, он стал так беззащитен перед волнами мощного чувства, что начал вертеться в кровати («как покойники поважней внизу») и даже, вертясь, испытывал прежнее чувство
— — — — —
(в помине) (демонстрация метода) Европа валялась у мастера в ногах и поглаживала волосы на голени мастера против шерсти. Могу сказать, что Европе повезло: если бы ей пришлось поглаживать ноги господина Марци (Гимнастический Клуб Ференцвароша), руки у нее были бы все в занозах!..
Торопливо пройдя окрестности, покрытые рощами в окаймлении террас — →, извивающиеся в густом подлеске тропинки — →, вытянутые кипарисы и дубы — →, каковые дубы есть сама непринужденность — →, кактусы и тамариски — →, грозные столетние растения, он оказался в закрытом пространстве, которое было украшено бутылками с пивом — «Полными, друг мой, полными!» — а также красным вином. Внимание мастера было рассеянным, то есть он был невнимателен. Задали ему задачу. «Что теперь, скажите на милость?» — скептически спрашивал он сам себя. «Может быть, каких-нибудь «Фанчико и Пинту». Это так мило, не правда ли, все-таки первая моя книга». Но затем вечер покачнулся → → →, и он забыл о мучительных заботах. Некий господин Дьюла, наколдовав между тем горящую сигарету из кармана, которую в одночасье выкурил, так что чахлый человек совсем согнулся, а ведь обычно грудь колесом, этот господин Дьюла — теперь уже, обращаясь к текущему процессу, лихо вызасовывая сигарету изо рта, точнее, за, да еще вставляя слова! — сказал: «Откуда вы взялись, такие чертовски наглые?»
Одна милая девушка усилила громкость магнитофона, крошки — как все крысиные принцы из балета — закружились по паркету. Господин Андраш рядом с мастером рассмеялся. Вопрос касался и его тоже. Господин Дьюла жил в ф стране, непохожей на Ф страну мастера, и в другом городе, но, хэй, они все же задавали друг другу вопросы и даже заготавливали ответы. «Я тебя не понимаю», — сказал мастер. Господин Дьюла крякнул. «Знаете, друг мой, почти так же, как моя бабушка. Это поразило меня в самое сердце. Я ему так и сказал. Надеюсь, он понял». — «Откуда в вас эта дерзость… дерзость, вот именно…» — «А-а, чего там», — махнул он рукой, потому что почувствовал (и не без основания), что его хвалят. Тем не менее вопрос, таким образом, был скомкан, чего господин Дьюла (НИ) в малейшей степени не заслуживал. «Мерси, месье», — изволил он еще сказать, и это заявление заиграло всеми цветами радуги в разных смыслах слова.
Мастер в этот момент многозначительно вскочил, голос его интересным, современным штрихом прервался, втайне он был счастлив, и взбежал наверх, в свои апартаменты, бросив вечер на произвол судьбы. Выхватил свою знаменитую — мало того: пресловутую — тетрадку, и ручка принялась бороздить ее. «Ну, малыши-карандаши!» Затем мы вновь видим его внизу ↓ в обществе господ Иштвана и Гезы, затем наверху ↑, затем внизу ↓: великая душа практически испепеляла ↑ себя. Как сигарета господина Дьюлы (за вы ↓ четом вытряхивания из кармана): («Андрашлапа! За дело, за дело, за дело! Мать твою») тление, это постоянное ↓-↑, которое соответствует тамошнему →-←-ю и, конечно, еще втягивание! Потому что после каждой такой «прогулки наверх» он, совершенно → мученный, возвращался обратно к веселящимся людям, сиротливый, выжатый, чтобы тоже быть одним из них. Обрушившись в кресло, сопел. «Старик, — сказал он с легкостью, потому что может быть и таким, человек такого масштаба тоже может быть легким, как воздушный шарик господина Иштвана, да-да, может, — старик, где, к дьяволу, синие чулки?» Мастер начал с жаром объяснять, нос его то и дело покачивался, чертя в тяжелом от табачного дыма воздухе правильные дуги. «Ну, конечно, собиралась прийти целая куча синих чулков, а ты, — и тогда он показал на себя: ессе homo, — а ты тут днем и ночью сопротивляйся!»- «Синие портянки», — со знанием дела махнул рукой поэт.
Уже и раньше, поскольку работа его находилась в прогрессирующей стадии, он изволил ощущать, что внимание у него как у героя романа, сейчас же, из-за сложившихся образцовых и лабораторных условий, особенно. «Знаете, когда я ↓ пускался, например, из своей комнаты, где проводил время в усердных трудах, то чувствовал, что еще чего-то не хватает. И тогда я ↓ пустился и стал искать подходящий эпизод, чтобы он потом со мной произошел». Затем он еще прибавил: «Видите, mon ami, капут пришел сочинительству романов. Конкретно, конечно, это касается меня. Так что как раз подошло время… Я сыт этим по горло».
Пусть наш взгляд, свежее оленье стадо, перенесется на лестницу, где стоял прежде мастер. Как раз по случаю ↑. Мастер слышал от господина Иштвана превосходный анекдот, который, казалось, можно ↑ пользовать. Поэт, своим низким голосом — который сам по себе не мог бы стать эротической продукцией, «если найдется, друг мой, баба, которой этого будет достаточно», — рассказал, что в Стокгольме в пятьдесят шестом — и от его голоса, как синие колокольчики зазвенели-забренчали стекла, оконные, — в Стокгольме в то время на дверях одной гостиницы корявыми буквами было написано: венгры! с телефонисткой можно перепихнуться! И — это вроде бы может засвидетельствовать господин Геза — 10 лет спустя она, надпись эта, все еще была там. А ведь где была уже к тому времени эта бедная девчушка-телефонистка, со своими мечтательными скандинавскими глазами, его гетера! Однако в тот момент господин Геза находился не в положении свидетеля (и не в чьих-нибудь объятиях, ха-ха-ха), а в волнительном. «Из этого тоже родится литература», — сказал он, и даже очки его вздохнули, именно так. «Видите, друг мой, это печально простой механизм. Достаточно имени и sine qua non,[46] и куча интеллекта покатывается со смеху. Я и сам с трудом могу сдержать веселье. Сам не знаю, как мне это удается». Здесь и сейчас проведем небольшой типографско-технический перерыв по ссслучаю утомления.
Что касается господина Гезы, любезный поэт, потому что поэтов-то в той комнате было хоть пруд пруди,[47] наверное, не знал, насколько окажется прав. Мы увидим: господин Геза оказался героически прав. Это оказалось литературой, да какой. Сжимающая сердце, венгерская, суровая, судьба.
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
В этот момент — не будем забывать: на только что упомянутой лестнице — перед ним вырос огромный венгр и протянул мастеру руку-лопату. Млеющим от какой-то славянской тоски голосом он обратился к мастеру, который явно симпатизировал большому увальню. «Господин писатель, — сказал он, естественно, в шутку, — господин писатель, напишите вот это, эти ладони!»
Ага: большое тело о чем-то подозревало. Мастер еще поинтересовался тем, сем, спровоцировал своеобразный диалог касательно упомянутых рук, но когда собеседник углубился было в какую-то развеселую историю о ГБ, удалился.
Истощив самокопанием свои силы, он грохнулся на мокрую террасу. Плетеный стул трещал под ним, а ночь чернела, как «правительственный «мерседес». «Мистика зеркал», — указал господин Тихамер на круглеющее перед террасой озеро, и его мнение совпало с мнением Господина Лукача, ну и, по крайней мере, проживающего в Вене господина Ханака. Оппардон. Мастер изволит испытывать затруднения. Темнота даже постепенно ↑ парялась, начинался переход от ночи к рассвету.
Он изволил вернуться, чтобы поспать. Апартаменты были им братски разделяемы с гоподином Андрашем, рука которого была между головой и подушкой. «Давай спать!» Однако они не спали. Нежелающий успокоиться дух мастера с треском заполнял пространство. Об этом сказал он своему товарищу. Поскольку господин Андраш с молниеносной быстротой стал для него именно: товарищем. (Эта часть изволит обладать лирической красотой.)
«Дурак», — сказал господин Андраш. (Он блестяще умел обругать представителей творческих профессий.) «Подожди. Я это запишу». И в самом деле он изволил вскочить. «Готово?» — спросил теперь уже смягченным от любви голосом высокий, готический молодой человек. «Соу-соу». Затем он изволил расхохотаться (простите: но именно это слово сюда подходит: ↑ хохотаться): «Это будет открытое произведение, пощады не жди». Затем с ответственностью добавил: «Конечно, в музыке не так». — «Давай спать». Но они для этого слишком устали. Немного погодя мастер встал и принялся работать, работать…
О, эти круглые глаза, круглые глаза! В большом зале уже собирались люди и распределялись вокруг него, как стружки в магнитном поле. Он же подошел к почетному гостю и поцеловал ручки, как молодой магнат (ха-ха-ха), выдохнул следующее: «Целую ручки. Э-э… в своем выступлении я обязательно… э-э… упомяну ваше имя, обязательно, прошу на это в таком случае не сердиться». Свидетель великих времен потрепал мастера по шее, как будто она была лошадиной, и мастер был этому Рад. Великий мастер выдерживать паузы объявил мастера. Наступила тИшина, глубокая
он изволил полистать листы конспекта вперед — затем так же, преисполненный важности, пробежал их целиком, затем, с неимоверной силой прижав напряженной ладонью столешницу, начал. Прежде чем в качестве примечания, но с точностью сообщить сказанное там, снабдим некоторые пункты текста некоторыми примечаниями, описав прежде всего некоторые движения. «А систему координат, друг мои, кто будет помечать, Шари Федак (читай: Пушкин)?!» Вместо «Дора, эта высокая, порядочная женщина» (по просьбе м. д.) вставить «эта порядочно жирная женщина»;
во время чтения части: «и с этими словами он, оп-ля, выхватил листок» он, оп-ля, выхватил листок, «эдакий лист для гостей», что было встречено раскатистым смехом; «Может быть, лучше фломастером!» — что в тот момент вышло у него конкретным окриком, господин Геза в испуге даже перешел на фломастер;
«в какую-то развеселую историю о ГБ»: шум ПО центру слева, аплодисменты с правой стороны, но смущенные, это уж точно, следующее за этим «простите, простите, вероятно, не следовало» имело сильное воздействие, освобождающее воздействия, «Произошло-таки, дядя, смягчение». Тогда он с вызовом посмотрел на господина Иштвана. Господин Иштван это медленно, но абсорбировал. Чтение же мастер устроил таким образом, как будто бы шла чья-то личная беседа; это было большим свинством — но господин Иштван, потеряв терпение, рассказал свою стокгольмскую историю, со всей ее вульгарностью. Тот же самый эффект был применен в случае с «Палика, не могли бы вы напечатать это и т. д.» ((с) Эстерхази, 1977).
Записки Эккермана целостная идея гете дилетанты друг мой если уже сделали все что могли обычно оправдываются тем что их труд еще не завершен естественно он никогда не может быть завершен потому что они никогда не подходили к нему соответствующим образом мастер несколькими штрихами делает свое произведение завершенным обработанное или нет оно уже завершено послушайте мой маленький эккерман не ковыряйте в носу двойной эпиграф бадди гласс конечно просто псевдоним мое настоящее имя майор джордж филдинг антиклимакс вот с какими словами обратился ко мне петер эстерхази знаете mon ami я очень устал извинитесь перед теми людьми я всю первую половину дня делал эту фигню так сказал он не щадя себя почти несправедливо эту фигню да продолжал он непреклонно а еще за обедом дора эта высокая порядочная женщина сказала что наверное не надо было этот комикс можно себе представить какое впечатление она произвела на такую чувствительную ко всему душу мастера конечно сложное понятие эта душа этот упрек но ведь таков художник все это нам живущим в их лунных сияниях надо знать новелла-боевик сказал он затем на уровне бульварной новеллы которые так охотно принимают как отечественные и зарубежные ведущие литературные издания но вот ведь еще что такое отечество не будем об этом и с этими словами он оп-ля выхватил листок эдакий лист для гостей преимущество деревенской прозы и пустил по кругу чтобы все присутствующие написали там свои имена если распечатать это потом будет лучше бормотал себе под нос великий мастер а затем прямо как мать родная добавил волнуясь может быть лучше фломастером из-за типографии по коням однажды сухим солнечным неподдельным летним утром петер эстерхази поднял свои большие проницательные глаза на одного из своих коллег и сказал так блядь не мог заснуть о эта лживость слов я здесь в лепешку расшибаюсь но ведь что лживо и что подлинно что это за вопросы великие вопросы наш взгляд это свежее оленье стадо да перенесется на лестницу где стоял прежде мастер так вот в тот момент господин цыган ткнул мастеру руку-лопату ста смертям не бывать одной не миновать млеющим очевидно от какой-то славянской тоски голосом он обратился к мастеру который явно симпатизировал большому увальню господин писатель господин писатель напишите вот это эти ладони и поднимал-опускал их вдоль данной вертикали петер эстерхази был сделан не из того теста который в такой момент вскочил бы на лошадь и поминай как звали нет крайне деловито сказал он что это за шрамик у тебя на ладони скажи пожалуйста петерке улыбнулся зубами этот венгр петерке да я же порезался чем но он это так спросил что чувствовалось он имеет в виду консервную банку и это блестяще подтвердилось порезался консервной банкой сказал цыган лорант когда ты ее открывал продолжал выспрашивать мастер а собеседник соглашался на месте а какие это были консервы в одночасье резко прогремел разумный вопрос как та молния душной ночью господин лорант негодуя слетел вниз по склону который образовывал рафинированный стык лестницы с двухмерными плоскостями что я открывал говоришь отвечу пиво естественно атыкакдумал вот он уже углубился было в какую-то развеселую историю об органах простите вероятно не следовало мастер однако своим долгим певучим шагом устремился к креслу где свирепствовал вечер но цыганский голос еще раз достиг его напишите это господин писатель это ведь вы не сможете правда но в то время его уже и след простыл какие взгляды скользили по его покрытой пушком шее друг мой в том-то и дело что никакие взгляды старик сказал он легко потому что он может быть и таким человек такого масштаба тоже может быть легким как воздушный шарик господина кормоша хермански 21 шиллинг может да-да может ну где же к дьяволу синие чулки мастер начал с жаром объяснять нос его то и дело покачивался, чертя в тяжелом от табачного дыма воздухе правильные дуги ну конечно собиралась прийти целая куча синих чулков а ты и тогда он показал на себя ессе homo а ты тут днем и ночью сопротивляйся а результат все равно один и тот же предпринял попытку собеседник результат махнул рукой он процесс киса моя процесс синие портянки со знанием дела махнул рукой поэт кормош господин тинс эй господин тинс_скрайним беспокойством склонился над солеными орешками из этого тоже будет литература сказал он и даже очки его вздохнули именно так сам эстерхази хорошо думал про господина тинс здесь я втисну малюсенький нюанс который так характерен мастер всегда считал что господину тинсу шестьдесят лет и что он вместе ходил в школу с господином вэрешем поэтом велико же было его удивление при виде мужчины средних лет поэт печально покачал головой литература будет ну что же господин тинс наверное даже не знал насколько он окажется прав он оказался героически прав это литература а какая сжимающая сердце суровая венгерская судьба знаете mon ami я сидел там с господином кормошем поэтом и своим другом гезой тинсом а также атиллой йожефом его плотно облегал блейзер с двумя рядами пуговиц я еще дал ему немного денег чтобы он его себе купил в гернгроссе знаете атилла был человек очень замкнутый а в таких вещах особенно после того как разругался с кашшаком я был его единственной но это следует понимать именно так друг мой как я говорю единственной опорой продолжая завязывать узелки уходящего времени господин кормош добрый господин кормош человек серьезный есть в нем душевная теплота на другой стадии он шепнул отличному господину шипошу следующее эс шипош бэ шипош ты слушаешь это гигант произошло-таки дядя смягчение но что же сказал господин кормош то что сказал мастер нам известно это факт литературной истории он сказал друг мой послушайте вот это мемуары настоящие мемуары но господин кормош в самом деле уважаемый иштван как там было в конце концов вчера я еще не был пьян чего там в Стокгольме было написано что эту девицу что и мастер горячо поблагодарил престарелого поэта-великана за милую историю которая поистине великолепной образцовостью освещает структуру уходящего господин тинс уходящего времени за что он сильно уважал господина круди и еще он сказал щелкнув теперь лошадиной плеткой с венгерским орнаментом я рад все очень хорошо вы люди центальноевропейской культуры и вы прекрасно выдрессированы это трогательно плоская вещь прежде чем сбежать оттуда он обратился к господину палу надю редактору палика не могли бы вы напечатать это в цеху о хитрая лиса мастер то есть как можно оказывать прессинг на редактора палика старик старик тогда слово ебать разбейте так е многоточие ть это важно спасибочки и вот мы уже натыкаемся на него свесившего ноги под моросящим дождем стул из камыша таинственно поскрипывает под ним и ночь чернела как правительственный мерседес ну не будем об этом печалиться сказал естественно расставляя ударения он и не радовался и не печалился заметил крошечное рыбацкое озеро круг поразился он х в квадрате плюс у в квадрате равно г в квадрате потому что от первого испуга подумал о круге с центром в начале координат но затем в нем взвилось желание вырваться классическое устремление я вперед и с пролетающей в том направлении мамзель дедински он оказал любезность этой общепринятой аксиомой и мастер сразу же начал хлопать себя по коленке над рождающейся шуткой каковую коленку скрывали поношенные писательские джинсы вы это послушайте друг мой канонизированная фигура тамаша тюза и таким образом одна великолепнейшая шутка сменяла другую до раннего рассветного часа однако уважаемый эта идея уж вы простите за логику слов настолько известна эх разве имеют значение идеи они конечны сердце же которое бьется у нас в груди сердце бесконечно на этом он умолк чтобы с тем большим воодушевлением затем взмыли вверх аплодисменты.
Выступление подошло к концу, он был опустошен, как те консервные банки. А как он потом заявился в семейном кругу, из Европы (в Европу), мадам Гитти, повиснув на муже, спрашивала: «Скучал по мне, скучал?» Мастер не заметил, к чему относится вопрос, и ответил так, грубовато: «Было вкусно», ↓ несем же и мы для себя, гуманных, аккуратных людей, урок, кавалькаде позитива и негатива, которая вытекает из двойственности этой «вещи».
Негатив: мы являемся свидетелями потускнения, потому что завоеванное благодаря непогрешимости шуршащей белой бумаги и нескольких нравственно тощих букв со временем утрачивается, на эту его непохожесть в Литературе, которая вместе с тем является фривольным симбиозом себя самой с Жизнью, который он с таким хитроумием и напором воплощает в качестве классической авангардистской мечты, наплевали. А теперь перейдем к позитиву.
Позитив: с другой стороны, быть причастным к увяданию творения — вещь дельная и полезная. И еще кое-что: видеть, как текст гоняется за собственным хвостом, кис, кис, кис. «Кыш, противные кошки, mes amies!»
20 Дорогой Петер!
Едва вы вышли из моей комнаты, как мне пришло в голову то, что я еще хотела сказать, но я уже так стара, что все вылетает из моей старой головы. Нередко я путаю то, что мне снилось, знаете ли, с тем, что мне не снилось. Часто хожу, задумавшись, под вашими тополями, но перелетающие мячи уже и там не могу перебросить через забор. Как только вы вышли из моей комнаты, как красивы ваши цветы. Вы знали, что это мои любимые? Или просто случайно наткнулись? Когда захлопнулись двери лифта, мне пришло в голову то, что я непременно хотела вам сказать: что я особо благодарна вам за то, что вам пришло в голову в последний раз благословить старую бабку.
Я получила одно очень удачное фото от примас-герцога. Много чего вылетает у меня из головы, но ваши цветы чувствуют себя хорошо. Как вам Й.? Наверняка очень была вам рада? Я тоже очень была рада визиту, который, как всегда, был слишком краток! Раньше родственные визиты не были такими короткими. Всаднику нужно было отдохнуть!! Но я была очень рада.
Мне нужно сказать еще только одну вещь (если не почтете за оскорбление), мне не нравится ваш теперешний род занятий: зачем таким способом потакать человеческим слабостям? У меня это, можно сказать, перед глазами стоит. Тогда почему не кондитерская? Там тоже нужно все смешивать или блины делать. Любезный Петер! Не почтите за оскорбление — но при виде ваших прекрасных цветов мне пришло в голову написать это.
Но тем не менее крепко обнимаю вас,
ваша старая Йоланка.Добавленное мной в конце передайте, пожалуйста, вашему отцу.
21 Дорогой Петер!
Премного благодарна за ваше подробное письмо. Сочувствую. Что за книги вез ваш друг, что их отобрали? Бунтарские книги? Или Джойса? Маленькая Кузина говорит: «Гитти жутко милая» (что за выражения! но я после вас, дорогой мой, уже ничему не удивляюсь!), потому что она прислала к красному платьицу оборку и нитки. Она уже их пришила, по ее словам, очень симпатично. Наряды — ее мания, она все на себя нацепляет. Вот и сегодня была здесь, завалила меня своими новостями, не продохнуть, а ведь это немало значит. Например, что в это воскресенье «планируют устроить прогулку» в Долину Радости. Говорят, это чудесное озеро, окруженное хвойным лесом. Можно жарить шашлыки. Твоя кузина недавно закончила «произведение под названием» «Дочь Шотландии». Ей очень нравится. Стиль нравится, как она говорит. Довольно об этом.
Хотя жара стоит сильная, я себя чувствую хорошо. Жду Карлу, пока два «Перло» пошли убирать охотничий домик. Или это была лишь болтовня?! Местные соцдемы устроили чемпионат по пинг-понгу для стариков, инвалидов. (Это условие я выполняю на сто процентов.) Один матч по пинг-понгу я выиграла.
Представляю себе измазанное шоколадом лицо Доры! Она что, в самом деле так вымазалась?! Сколько энтузиазма в вашей Гитти. Она сделала правильный выбор. — Я согласна с Мамой в том, что теннис намного элегантнее и не такой грубый, как «футбик». Хотя было такое время, когда его презирали за то, что это игра для избранных! Я плохо играла, но любила наблюдать за величавыми, белыми движениями.
Крепко обнимаю вас,
ваша старая Йоланка.P. S. Только что получила ваше письмо за 7-е число, о капитане Э. Но меня намного больше интересует, как нога вашей матери? Есть ли еще боли? Сколько продлятся лечебные процедуры? Сколько раз в неделю приходит врач и т. д. и т. п. Проблема в сужении сосудов? Сведений недостаточно. Ей делают акупунктурный массаж? Здоровье все же интереснее, чем «футбик». Я сержусь. Знаете, милый Петер, вокруг меня поумирали все родные, и я немного устала. Ваша страна, да и моя страна довольно утомительна. Не знаю, понимаете ли вы, в каком смысле утомительней Конечно, нет. Конечно, не чувствуете, потому что у такого молодого человека, как вы, еще есть на то причины.
Йоланка.— — — — —
Речь шла об эдаком путешествии на лодке, чем-то среднем между катанием на лодке и походом на лодке. Даже если и не в Долину Радости, даже если и не с шашлыками!
Он осторожно перенес зад с лавки на днище, затем, придерживаясь этой опорной точки, съехал торсом на стертые, с точки зрения зеленого цвета, доски так чтобы облака служили таким образом ориентиром для головы и он мог наслаждаться кавалькадой наблюдаемых вверху образов: играющим в прятки солнцем, изменением формы участвующих в этой игре гордых облаков, когда, напр., из де Голля получается Италия, а из нее большой… и т. д. и т. п. — все это забавно. В предыдущем положении порядочно дул ветер, он торчал снаружи, здесь же, теперь, на дне челнока стояло приятное тепло и безветрие. («Текст не закодирован!» И: «Знаете, друг мой, истинная символика — это когда исключительное заменяет собой привычное не как мечта или тень, а как секундное, животрепещущее раскрытие тайны неразгаданного».) Он закрыл глаза и отдался во власть солнца. Но поскольку из-за плеска волн внутрь заплюхивалась водная субстанция, внезапно приподнялся, чтобы спросить капитана, господина Андраша: «В чем дело, ухабы на дороге?» Он изволил моргнуть. «На это, — сказал господин Андраш, изящно склонившись к мотору, чтобы его разворотом поставить челнок под более благоприятным углом относительно волн, — на это старые береговые жители говорят, что челнок разивачивают». Сидящие в лодке рассмеялись: помимо упомянутых: господин Тихамер, скульптор.
«Дядя Тихамер», — сказала Донго Митич на берегу «Не дядя», — поучал отец свою дочь; хотя спокойно прицепился бы и к «Тихамеру». «Нехет?» Но к этому моменту дело уже шло к плачу. Они стояли там, покачиваясь. Но Авдотья Егоровна заупрямилась. Приветливый капитан Андраш очень приветливо приглашал малышку, мастер же пытался проявлять отеческую строгость: «Ну! Заяц! Пришло время решать, кем ты хочешь быть: морским волком или сухопутной крысой!» Строгий взгляд открыл слезовые шлюзы, «милая крошка» сказала, всхлипывая: «Хочу! Сухухохопухутной крыхысохо-о-ой! Хочу!»
Когда господин Андраш, великий поклонник правил и предписаний (удостоверение, пешеходный переход и т. д.), ушел обратно в дом за бумагами и время таким образом было оттянуто, девчушка успокоилась; она сучила-мусолила ручонками: «Чего малышке Доре бояться? Вот дети не боятся. Чего бояться?» Этими словами она, вся трепеща, себя подбадривала. Фигуры мастера и капитана Андраша появились в начале тонкой бетонной полоски пристани; они несли бумаги. По пути с ними случилось 3 достойных упоминания вещи — с ними, из-за них. 1. На горячем бетоне лежал дохлый угорь с пожелтевшим, блестящим шрамом на животе. «Как рот в травматической лихорадке». — «Именно», — «Только длинный; продолговатый». Потом мастер еще сказал, что угорь вроде не венгерского характера рыба (не в том смысле, конечно, что угры, финны и т. д., — ситуация была не настолько пустяковая). «Да она и не водилась здесь никогда», — сказал капитан Андраш, как древнейший обитатель здешних мест, конечно. (Никуда не денешься: морской волк.) 2. Обсуждая какое-то произведение, господин Андраш рассуждал так (в тапочках!): «Связь этой схематичной формулы и современного общества белыми нитками шита, но вместо аналитического изложения колеблющих границу невиновности ссылок наклеивают лишь ярлыки, да и те не всегда в нужном месте. Одним из столпов идеологической постройки является властелин масс, другим же — котел с мясом». Он, устремив вдаль взор, кивал, он и сам испытывал к подобным вещам омерзение. И хотя — судя по всему — прикладывал усилия для того, чтобы принять аутентичное участие и в разыгрывающейся сцене, его неугомонная сущность уже обнаружила кое-что другое. Этот неизменный прищур! «Стой!» — сказал он с некоторым ужасом и указал на один из бесчисленных фонарей на молу. Тот вимм-вумм и правда шевелился, подрагивал, как и полагалось. Двое художников одновременно произнесли: «Срезонировал». Своими чувствительными радарами они уловили юмор фразы, однако трагедия сдвинутого предмета подействовала на них сильнее. Факт остался фактом, слава Богу. «Вот-вот бетон расколет», — покачал головой он. «Ты про этот мост смотрел?» (Немногословное примечание, относящееся к фильму, снятому об одном подвесном американском мосте, каковой мост затем обвалился в реку. Спичечные человечки спешили спасать свою шкуру.) «Видел». — «Солдаты поэтому тоже не ходят по мосту в но…» — «Знаю». Мастер разговаривал как учитель физики, это, понятным образом, злило ученого музыканта, который и сам был без пяти минут математиком. Тогда он решился на поступок и всем телом обнял длинный железный столб фонаря и сначала дрожал вместе с ним, а затем движение все слабело, а затем он, стоя неподвижно, тяжело дышал. «Может… может, от порывов ветра…» Капитан Андраш с любовью покачал красивой готической головой, положил мастеру на плечо руку: «Ну ты и задница!» Пардон. 3. Оставив позади небольшой поворот, они наткнулись на минимально окрашенный корабль под названием «продается» — приземистый, устрашающего вида предмет, как некий ветхий монитор (сторожевой катер), — на корме которого, да и вообще по всей палубе усердно работали хозяева или их доверенные лица.
Вслед за этим тройным приключением они прибыли обратно к родному челноку, где за это время (как раз вследствие продолжительности «этого времени») выяснилось: отправляются в путь одни мужчины (wie gewöhnlich[48]), Миточка и жены — обратно к ухе! («О, Бланка! Эта уха!» — чувства так и метались из стороны в сторону. Но затем он открыто высказал свое мнение и преломил хлеб.)
Так вот, именно уха со своим запутанным нагромождением последствий и системой условностей принесла уже там, в центре озера, бесценные минуты! Посмотрим, что же произошло! Когда капитан Андраш с пошлыми шуточками, но — надо отдать должное; мужественно — продвигаясь навстречу волнам, «разивачивал» лодку, мастер, поддавшись природному любопытству, спросил, можно ли эту лодку перевернуть. На что скульптор и ученый музыкант не оставили от мастера мокрого места. «Ага, сначала только один карп… а потом… но ведь мы сами можем убедиться, к каким неутешительным результатам это привело в истории… один шаг, и Arbeit macht Frei[49] — линия, без сомнений, такова». Те переглянулись, им, дескать, его жаль.
Еще до катания на лодке, когда они под ивой[50] в саду смотрели на лениво, но жизнерадостно плещущихся в садовом озерце карпов, состоялось великое совещание. «Надо сказать Колчаку», — сказала мама капитана Андраша, решившись на крайний шаг. (Сосед; мастер на все руки; что до имени, то я тут ни при чем.) «В чем проблема?» — бодренько сказал мастер. Как человек, который сразу готов прийти на помощь. Да, такой он. «Кто будет оглушать рыбу?» — прошептала мама капитана Андраша. (Его папа поймал рыбу В этом еще ничего такого нет, в принципе. «У него замечательные волосы, друг мой, точно он мне приятель».) Капитан Андраш, сдерживая себя, отвернулся. «А-а. Рыбу?! Я оглушу, если надо», — сказал он, точно дитя природы. Народ смотрел на него брезгливо, но все-таки активно. «Я хочу есть, — сказал он просто, — и вы тоже хотите есть». Это было правдой. «Брат мой Андраш, скажи только, куда бить!» Он взмахнул своими руками палача. Фрау Гитти взвизгнула. «Животное!» Она узнала мужа с новой стороны. «По носу», — сказал капитан Андраш издали и с некоторой противоречивостью протянул мастеру эдакую резиновую дубинку, из дерева. Душа мастера не дрогнула. Капитану Андрашу — это и раньше было заметно — в тот день выпало исполнять отрицательную роль: он, затаив коварство, собирал рыб в ведро. Мастер вынул оттуда одного карпа, на газоне поставил его на хвост, левой рукой успокаивал, «ну, ну, не надо, ну, сладкий мой», потому что злополучный зверь то и дело дергался, а в другой руке картинно вращал битой, как куруцы или другие прогрессивные слои населения, и бэнгШ ударил. Карп сделал так: а, а. Еще два раза вмазал он, кто-то взмолился: «Хватит! Ради Бога!» — «Прекраснодушие!» — пробурчал исполняющий работу. Из основания жабр заструилась, а затем брызнула кровь, отчего щиколотки мастера и все вокруг него стало таким-разэдаким. Он волочил ступнями по траве, таким образом вытирая их. Глаза были опущены. В кухне затем критично, кровожадно взвизгнули: «Да где ж его оглушили?! Еще шевелится!» — «Объясняй потом женщинам, что это рефлективное подрагивание».
На открытой воде он изволил ответствовать на придирки двоих мужчин, имея за плечами вышеописанное: «Вот те на. Это в благодарность! Это!!! Берусь, делаю как следует, а теперь в меня за это плюют!» — «Кто тебя об этом просил, ну кто тебя об этом просил», — пели те свое. «Убийца есть убийца». — «А уха есть уха» — с этими словами он вскочил на ноги в маленькой пироге, так что та вот-вот готова была трагическим образом качнуться (почти ответив на забытый, но все же поставленный вначале вопрос; можно ли перевернуть), и, аж светясь от обиды — что, как лишь потом выяснилось, было наигранно, — воскликнул: «Кому-то же надо это делать, блин! И все-таки лучше, если это сделаю я, чем кто-нибудь другой, ничего в этом не понимающий, бессовестный отморозок! А вы в меня плюете! Неблагодарный народ!» С этими словами, зумибумм, назад на дно, чтобы теперь уже не только плеск волн, но и ритмичный хохот двоих художников «ивачили» челнок в связи с услышанной парафразой. (Может быть, он даже плюхнулся в воду, но его то ли вытащили, то ли было не глубоко. «Так всегда бывает».)
— — — — —
Дорогой друг новелла ваша интересна остроумна своеобразна заслуживает выхода в свет но опубликовать ее мы не беремся поскольку на (пропущено) длительный срок обеспечены принятым к печати (пропущено) материалом с благодарностью за оказанное нам доверие (пропущено) рукопись приложена дорогой друг у меня нет сомнений в вашем (пропущено) таланте (пропущено) рукопись вашей новой новеллы нам понравилась в меньшей степени из-за (пропущено) сути (пропущено) укладывающейся в четыре-пять предложений (пропущено) не стоило в начале (пропущено) так долго кряхтеть у нашей редакции возникло чувство будто что (пропущено) вы (пропущено) влюблены (пропущено) в (пропущено) собственный стиль (пропущено) для присланной нам подборки новелл это уже с определенностью характерно среди них удачна лишь одна (пропущено) самая последняя (пропущено) но (пропущено) из-за нее мы на этот раз не станем городить огород (пропущено) если вы разочаруетесь в своем без сомнения прекрасном стиле если напишете целеустремленно и экономично скомпонованную новеллу то мы с удовольствием ее примем и напечатаем рукопись прилагается дорогой петер твоя новелла великолепна к сожалению мое начальство кочевряжится раздражитель невинный венгерский язык еще раз подчеркиваю твоя рукопись доставила истинную чистую радость с тех пор как я в газете такого еще не читал пришли еще что-нибудь по возможности не больше десяти полос конечно не стоит и упоминаний что это не основной критерий дружески обнимаю.
Что за событие! Он просто стоит, будто врос в землю, а листы бумаги, порхая, слетают вниз. Что случилось? Случилось то, что мастер — как всегда — последним добрел до раздевалки, чтобы там вместе с товарищами по команде провести перерыв, который располагался между двумя таймами (ох уж это «между»); последним, потому что сначала ему нужно было отыскать язычок своей бутсы, ибо он был оторван и в пылу игры всегда ослаблялся, сбивался на сторону и ерзал, тогда он его выдергивал и швырял в сторону аута, хорошенько запомнив место, и в конце первого тайма «регулярно о нем забывал».
Итак, вместе с измочаленным язычком (вообразите себе этих двоих) он брел к зданию, когда… «Небо, друг мой, заслоняет огромный вертолет, тень его давит, звук хлещет, бурчит, клокочет и сбрасывает вниз эти листочки». Как огромные хлопья снега, изготовленные из переработанной бумаги листы с виньеткой порхали вниз; мастер останавливается, подставляет свое усталое, забрызганное грязью лицо дождю.
Дорогой петер свяжись со мной как-нибудь поговорим по душам коротко нет но наше уважение к вам отстается неизменным о твоей книге мы напишем с дружеским приветом будем польщены если со своими последующими трудами вы также обратитесь в нашу редакцию в первую очередь мы готовы опубликовать такие произведения в которых описывается стойкость и готовность к самопожертвованию и которые не превышают 8–9 печатных страниц с уважением и дружеским приветом.
«Будьте внимательны, киса моя, к этому «и». Оно может оказаться решающим». Итак, он стоял, замечтавшись, в вихре искусственного снега. Вертолет, большая стрекоза, упорхнул, внезапно глубокая тишина. Зрители внимательно наблюдают. Затем сзади, оттуда, где обычно стоит семья Либеро (если погода хорошая и все трезвые), кто-то крикнул: «Ты чего, Пети! Иди в душ!» — «Знаете, друг мой, это было не совсем доброжелательное замечание. Судить можно по Пети». — «Да иди ты к остальным и помойся!» — «Не обращайте на него внимания, Петерке, такие типы везде есть». Оказался он от центрального круга на стороне входа. И уйти хотелось, и остаться.
«Я прочел», — прогудел знаменитый человек Мастер взволнованно сидел на липком стуле из кожзаменителя, тогда еще с туманом неведения в душе, две руки зажав между двух ног, и ожидал именитого суждения. Его неопытность выпирала наружу, он полагал, что «прочтение» — это уже даже некая оценка по сравнению с «чтением», хотя и не мог придумать: какого характера это суждение. «Милый мой, ты очень талантлив». Мастер кивнул. (Не потому, что был согласен, а потому, что понял! Но кто же это сегодня сможет проверить? Кто?) Усики шевельнулись. «Слушай. То, что ты делаешь, очень интересно, но поверь мне, что и сам уже сталкивался с кое-какими тупиками» Мастер поверил этому без слов (начитанный он человек, в конце концов.) «Потому что то, что ты делаешь, — тупик, такой же самоцельный тупик, как у джойса сенткути и дьюлы, хернади». Мастер покраснел, потому что не рассчитывал на такую похвалу. Но затем выяснилось, что это была критика.
Уважаемый Петер Эстерхази мое начальство согласно с тем что это сочинение написано талантливым человеком, с которым надо поддерживать контакт если бы вы немного его подсократили это пошло бы сочинению на пользу и тогда мы могли бы его опубликовать петер ты с ума сошел такое в ежедневную газету быстро присылай другое и не делай из меня дурака привет а вообще-то чертовски хорошо чересчур хорошо мой дорогой друг у меня уже не было возможности перед сдачей рукописи позвонить или написать поэтому теперь вместе с корректурой сообщаю что две строчки нам пришлось вычеркнуть из твоей рукописи прошу тебя отнесись с пониманием и не переделывай по-старому с сердечным приветом.
Перед ним лежала издающая сильный запах корректура. Полтора года назад он сдал рукопись, и вот теперь плоды этого. И здрасьте-пожалуйста: червивые! Он изволил ходить взад и вперед на манер дикого зверя, бить хвостом и жалостно браниться. «Чтоб вам пусто было!..» Великий человек боролся. «Знаете, друг мой, это возмутительно! Как я дошел до того» чтобы думать о таком!» Уж простите, но, не правда ли, ему бороться с собственной трусостью и готовностью к уступкам, вместо того чтобы радоваться этой низменной сделке! Ему пришлось раскапывать в себе клубок справедливых (!) доводов относительно того, почему в самом деле можно вычеркнуть две помеченные строчки. Напр.: «Новелла не настолько хорошая, чтобы две строчки что-то в ней нарушили». Но в этот момент он встряхнул приличным конвертом: «Ну, да — тряс он им, — ну, да, однако же именно это и случилось». Малодушно размахивал он руками. «Какая разница! В Издании все-таки будет». Итакдалее — и так до позднего вечера. Или грудь в крестах, или голова в кустах, вот как непредсказуем творческий человек! Настолько неожиданны в нас выпуклости и провалы; человек, который сможет им угодить, должен быть не промах! Бедная Фрау Гитти и все те, кто за это получают зарплату!
Его очень изнурили самоистязания; постоянным несчастьем я считаю то, что его порядочные доводы стали непорядочными, да и вообще: что все превратилось в испытание на порядочность. И что это за вещи! «Знаете, друг мой, пятиразрядное предложение второразрядной новеллы чертикакогоразрядного новеллиста в, — он наклонил голову со скрипящим почтением, — в перворазрядном журнале! Большей ерунды! Вот, а потом один из эпитетов можно будет оставить в тексте, и мне, как герою, можно будет ехать домой, сначала на метро, затем на автобусе». Итак, ситуация заключалась в том, что он не хотел быть ни героем, ни предателем, а хотел быть прозаиком. Затем он напал на ход мыслей, уже столько раз служивший добрую службу.
Он вошел со смертельно округленными глазами в редакцию и дружелюбно сказал, что не вычеркнет. Ладно, сказал главный редактор (не поздоровавшись!!!), ладно, если мастер так, тогда и он так, и в таком случае он не может «протащить» материал. Мастер ответил, хорошо, но не сдвинулся с места. Последовала глубокая мужественная тишина. «Да Боже мой!» — воскликнул наконец с горечью главный редактор, ц эта человечность сделала его на минуту симпатичным в глазах мастера. «Для тебя так важно это проклятое предложение?» Ага: это ему уже было известно. И вопрос, и ответ (его ответ). «Нет. Так же, как любое другое». И любезно добавил: «Которое, конечно, такое же длинное. Потому что платят за вес». — «Я тебя не понимаю! Почему бы нет? Ведь…» — и занимающий ответственный пост мужчина изложил один из доводов, которых мастер накануне вечером добросовестно наштамповал сотню. «Нет никакого повода их вычеркивать». (Вот тот самый ход мыслей, который я имел в виду. Если у какого-то поступка на первый взгляд нет никаких отрицательных последствий, но при этом дело все-таки чуточку подозрительно, его сразу можно совершить. Вы попробуйте.)
Вновь тишина. «Знаете, друг мой, ради этого стоило все проделывать! Ради двухкратной тишины. Ради нее!» — «Слушай, друг милый, давай пойдем на компромисс». Прояснилось лицо у него. Мастер очень хорошо умеет идти на компромисс. Улыбается, улыбается и говорит, что нет. «Не совсем». Однако теперь плакать хотелось от всего этого! «Чтобы два взрослых» половозрелых человека уебывались над этим сопливым предложением…» По сути, речь шла о трех опре делительных конструкциях; из трех осталось два, единица вылетела; неплохое соотношение, «до боли неплохое соотношение».
Молча оправляется внутрь нападающий, бумага шипит у его щиколоток, как змея. «Вдарьте, Петерке, во втором тайме». Он как раз было наклонил голову, чтобы пролезть в махонький вход, когда вроде как в добавление последним выпархивает маленький, желтоватый, никчемный лист бумаги, минует трубу (летит вниз), оказывается перед трибуной, проделывает пируэт, как будто он передумал и хотел бы вернуться назад. Все смотрят на него. («Пересохшие губы, морщины, углубления, румяна, помада, ямы глаз, глазная слизь, щетина, кожная складка, складки пальтишек, ветер, пыль в глазах, в волосах».) Мастер тянется вверх, приходится встать на цыпочки, ловит его. Его окружают лица и дыхания. «Бумага о перерегистрации», — шепчет один. «Полное имя!» — восклицает другой. И, уже без остановки, доходит до громкого крика. «Дата вступления в клуб!» «Родился!» «Место!» «Дата!» «Рекомендация». «Название нового общества!» Вновь тишина. В руке у мастера бумага. Пальцы напряжены.
Затем снова ползком в раздевалку, последним, в руке найденный язычок бутсы, по большому зеленому квадрату ветер гоняет бумажные клочки
— — — — —
Мастер взял мадам Гитти за руку. Изумительна эта рука, надорванная стиркой пеленок, разъеденная порошком, сначала пересушенная, потом… а затем нечто гноящееся ноющее-чешущееся; взять это в руку, ощутить настроения кожи, осторожное пожатие разбухших пальцев!.. Уложив спать детей, двое родителей безответственно окунулись в поздний летний вечер, чтобы в ближайшем кабачке оказаться за скромным, но богато приправленным ужином. В матери то и дело поднималось беспокойство, но мастер с решительным отсутствием чувства время от времени ее обезоруживала «Не волнуйся, имущество застраховано!» Итакдалее. Перед кабачком на фонарном столбе они увидели объявление, интересное. Следующего содержания:
Кро-о-олик!
Пропал белый кролик 1 шт.
(имеются особые приметы!).
Нашедшего ожидает вознаграждение.
Телефон 215–290 Карико Мате
Мастер хмыкнул. «Я думал, что за кро-о-олика дают больше… Хотя… Что такого особенного может уметь этот кролик?» Он дотронулся до столба: «А вот великолепно просмоленное бревно!» В этот момент откуда-то из глубины некто произнес: «Петерке, наверное, достаточно будет сказать, что с вами хочет говорить Президент». Оп-ля! И мастер только и заметил болтающийся просторный заплечный мешок субъекта! «Яне хочу есть», — сказал он вдруг; но это заявление осталось без каких бы то ни было последствий.
Внутри звучала жалкая музыка. «Над этим надо хорошенько подумать». — «Я подумал. Подпишу. Если дадут работу, подпишу». Мастер вскочил от стола, женщина хотела было что-то сказать: однако мастер удалялся, а ругаться ни капельки не хотел. Он держал путь в направлении отхожего места, вблизи хорошо различив громадные буквы: женский. Итак, когда он вошел в другую дверь, после приятного тепла зала его пробрал тамошний неприятный холод, который, вероятно, беспрепятственно проникал сквозь разбитое оконное стекло; итак, когда, значит, мастер без раздумий тотчас же потянулся к ширинке, чуть погодя он все же задумался: да или нет: вот в чем был вопрос («как, друг мой, и в более справедливых, ясных ситуациях»). Решила нужда, а резкость, в какой-то степени, былауравновешена чистотой и отсутствием запаха. Когда он победно вернулся к столу, то вопросительно взглянул на мадам Штти, которая кивнула. «Я заказала. Фрикаделек из печени не было, так что тебе я заказала с манными галушками». — «А пиво?» «Мы договорились, что не будем пить пиво, потому что от него клонит в сон». — «Я всю дорогу считал, что мы будем пить пиво». — «Нет». — «Не страшно. А что вместо него?» — «Минеральную воду». — «Минеральную воду?» — «Да. И я попросила, чтобы она была не слишком прохладная». — «Да», — кивнул он терпеливо, а затем сказал, что если бы ему навскидку пришлось назвать своими именами вещи, которые лучше (здесь он немного повысил голос) теплой минеральной воды, тогда, ему кажется, ей бы пришлось в смущении ломать крошечные, но хорошей формы руки. Мадам Эстерхази обиженно ковырялась в принесенных манных галушках. «Сухие и холодные». — «Как хорошее белое вино». — «Но это манные галушки».
Мастер, хихикая, заметил (то есть он опять изволил подслушивать, подстерегать тайны, загадочные послания действительности, плывя навстречу лучшим представителям человеческой расы), что сидящая за соседним столиком женщина никак не решится произнести: Pinot Noir («…нам этого… этого, ноара»). Мужчина рядом с ней кивнул. «Странные какие-то», — сказала мадам Гитти, руководствуясь женским интуитивным методом, так его называл мастер, от которого ему «на стену лезть хочется»; точнее, он признает его практическую эффективность — а именно, если о ком-нибудь мадам говорит: у этих крошечных поросячьих глазок хитрый взгляд, — с таким человеком он тоже будет немножко осторожнее, — однако по отношению к себе считает метод («к сожалению») неприменимым. «Только если уж напарываюсь на факты». Лицо соседки было очень интеллигентным, однако вместе со спутником она выглядела грубой. «Женщина эта…» — прошептала тихо мадам Гитти. Мастер очень разозлился.
Когда он после чуть несвежего, но не лишенного колорита так называемого блюда шеф-повара, на славу сдобренного приправами, в два присеста выдул минеральную воду, а затем, показав официанту бутылку, сделал однозначный жест, чтобы повторить, мадам Гитти снова была на коне. «Проси прощения». — «Прошу прощения», — тотчас же ответил мастер. «Прощаю», — тотчас же ответила жена. Мастер спросил официанта, почему тот принес рис, когда полагается смешанный гарнир. Буквально он спросил так: «Почему это рис — смешанный гарнир?» — «Если бы вы сказали, я бы поменял. Наверняка повар перепутал», — ответил официант. В руке у женщины с интеллигентным лицом полыхала спичка. Мадам Гитти, протянув над столом руку, погладила произрастающую в углу рта мастера волосинку. (Плод недобросовестного бритья.) «Травинка», — сказала она, вызывая у мастера такую радость и смущение, что он долгое время без слов смотрел на рассчитывающего официанта, который услужливо вырос перед ними со своей ручкой. Затем он опомнился от супружеского экстаза. «Было одно блюдо шеф-повара, но вместо смешанного гарнира мне принесли просто рис — Он ждал, официант нетерпеливо склонился над ним. — Я это сказал не из-за денег, а в качестве жалобы». — «Только не думайте, пожалуйста, что кому-то от этого есть выгода». Они посмотрели друг на друга. «Естественно, я сам так не думаю… Однако я также не думаю, чтоб это было доброжелательной ошибкой». — «Приносим господину свои извинения». Он изволил заплатить. (Женщина рядом с ними швырнула на стол пятьдесят форинтов и, отрыгивая, выбежала вон. «Что за народ!» — отыскивал благодатную почву в мастере и его жене главный официант. Но он уставился на лицо мужчины, оставшегося у того стола в одиночестве. На нем было удивление и знание чего-то, «странное знание, из-за которого я мог бы ему и позавидовать, и посочувствовать».)
Выл ветер, а он ходил по улицам. Президент ждал его. Он достиг длинной террасы, которая вела к ржавой железной двери. Та со стоном и скрипом отворилась, и можно было ожидать, что в ужасе начнут метаться милые летучие мыши и зашевелятся пауки в своих паутинах. Но еще до этого отвернулись молодые люди, свесившиеся с высокой, разрушающейся стены, которая окружала террасу. Они облокотились на стену, локти у них были в пыли, кирпичной пыли и известке, у кого как — в зависимости от того, кому какой выпал интервал, — но у всех. Что производило крайне забавное впечатление. Когда он двигался вдоль террасы, облокотившиеся юнцы по очереди поворачивались к нему спиной. В нем этот переход не вызвал радости. «Певучий» шаг сейчас на этот раз не давал ему преимущества. По ту сторону балюстрады, внизу, пышнел зеленый газон, где проходила тренировка. Судя по всему, здесь находились травмированные, освобожденные, отлынивающие и тормоза! Мастер почувствовал по этому поводу некое превосходство. Несмотря на свое плохое зрение, он обнаружил знакомого, правда, тот, отделившись от опоры, оказался от него чуть ли не в двух метрах. Высокий, элегантный парень, один из лучших центровых с окраин (с тех пор он уже стал профессионалом, — Э.), в своей черной майке, узких итальянских джинсах (на коже), окликнул его. «Хорошие у тебя джинсы, Пепе». — «Из Вены», — ответил тот извиняющимся голосом. Интересное нововведение, они не стали останавливаться для разговора, мастер замедлил шаг, как бы продолжая двигаться по эскалатору, и его знакомый перенял это движение («вектор движения»), а затем все равно отстал. Но не будем торопить события, какими бы мелкими они ни были (господин Банга, спасибо, дорогой господин Банга!), торопить! Речь шла о вельветовых «леви», вообще-то, хотя не хотелось бы увязнуть в деталях. Высокий парень конфиденциально прошептал: «Сейчас?» — «Угу». — «Вместо Моки?» Он пожал плечами. Не хотелось думать о том, что, возможно, придется заменить д-ра Моку. Хотя… кого-то, естественно… «Знаете, друг мой, это была великая линия нападения, не понимаю даже, зачем ее хотели разворошить. Может быть, между Освальдом и д-ром Мокой что-то произошло? Или инженер-химик просто состарился? Хуш, Баша, Освальд, д-р Мока, Угроцки. Сюда нужно попасть. Угроцки — венгрофицированная фамилия, от Урин. Наверняка подсказали». — «Отсеки их по-настоящему». Мастер — уже немного обернувшись назад, вблизи от заржавелого монстра — кивнул. Два будущих товарища по команде улыбаясь посмотрели друг на друга. Потом он окинул остальных взглядом, они смотрели на них. На террасе все были в джинсах, на манер молодых. Он ловил взгляды и некоторые обрывки слов. («Это Эстерхази». — «Да». — «Кто это?» — «Парень из Чиллагхеди». — «Защитник?» — «Кто?» — «Это старший брат Эстерхази».) Здесь было бы тяжело произвести оценку, точнее, можно было только предварительно; это он и сделал.
За тяжелой, необъятной и старинной дверью, однако, проживали совсем не пыльные летучие мыши, а располагался новый, поддерживаемый в чистоте коридор, куда выходили конторские помещения. У первой двери, из-за которой раздавался звук, он остановился. Не веря себе, прислушался. «Мотыга в эту пору в особом почете». Он в изумлении наклонился к замочной скважине; по сути, лишь намеревался наклониться, но призыв: «Сюда, Петерке, сюда!», прогремевший с того конца коридора, из недосягаемой дали, застал его все-таки в невыгодной позе. «О-па», — самокритично выпрямился он снова, имея в виду опять-таки намерение. «Приветствую», — подал ему руку кричавший. «Приветствую», — сказал мастер непринужденно. Он и не знал даже, кто тот, кому он подает руку. «Заходи, заходи… давай-ка сразимся по-крупному». — «Нужно сражаться?» — спросил доверительно мастер. «Знаешь, как это бывает…» Он подталкивал мастера. «Позвольте, господа, представить вас друг другу». Он любезно, пройдя проверку на способность к адаптации с оценкой «отлично», улыбнулся.
«Отчасти это наша новая надежда, его, наверно, и представлять не надо было, ведь мы как раз тебя ждали, Петерке. И тогда по очереди. Товарищ главный инженер, президент секции, пожалуйста, оп-ля, стул, пожалуйста, товарищ генеральный директор, ай-яй-яй, с этого надо было начать, простите, товарищ генеральный директор — президент клуба, он президент клуба, так, два наших страстных активиста, их ты, хе-хе-хе, уже знаешь. — (Мастеру припомнились заплечный мешок, польский «фиат», который медленно рулит по темной улице, «как будто там сидит влюбленная парочка», предупреждения, сделанные сдавленным голосом, сквозь зубы, с благими намерениями…) — Вот два товарища из организации (эдакие власть имущие; «власть имущие в двух экземплярах, друг мой»), ну, и я собственной персоной. Приветствуем». — «Приветствую». Сев в удобное и глубокое кресло, он изволил практически исчезнуть среди множества толстяков.
Председатель говорил, обе половины, по сути дела, молчали. «Слова так и сыпались»; мастер напрасно внимательно слушал (вначале), он ничего не понимал, только одно: этим непониманием он ничего не теряет. От жужжания его охватила дежавю. Он недавно точно так же сидел, на приеме, во время своего европейского турне. «Ну, матушка, — сказал тот, кто давал прием, своей решительной жене, — ты можешь с настоящим графом поужинать», — «Две дюжины», — пробивало себе дорогу чувство языка. Там одна речь сменяла другую, он с удовольствием прислушивался. «Что ни возьми, все шедевр, без преувеличения. Эта поверхностность никогда не бывает нарушена, скажу я вам!» Он был отчасти во власти эстетического переживания, отчасти же его тошнило по поводу того, что он вообще забыл на таком приеме. «Дядя Миклош, — прошептал он находящемуся рядом с ним настоящему мужчине, — дядя Миклош, давай отсюда слиняем. Пожуем булочку и посмотрим на Европу». («Потому что дело шло к тому».) Мужчина кивнул, окутавшись мудрой улыбкой. В этот момент коммунист коммунистической Венгрии вызвал улыбку на устах многих западных интеллектуалов смелой и обдуманной шуткой. Но мастер был не такой. С простой строгостью он сказал из-за бастиона аперитивов: «Я этот анекдот знаю, только там про Картера». (И говорить не стоит, это была неправда, в силу того, что анекдот, который он знал, тоже был не о Картере.) Заявление мастера являло собой запутанное высказывание, невозможно было понять: нападает он или одобряет. (У мастера так часто; ибо он ни то и ни другое! в этом соль! потому что ни то и ни другое.) Здесь и там он слышал понимающее сопение, но чаще просто звон бокалов на ножке. «Хорошо, — закхекал рассказчик анекдота, — очень хорошо. Наверное, — подмигнул он, выдавая себя, и хихикнул, — наверное, и для меня было бы лучше, если бы я тоже… хм… знал его о Картере». На что мастер ответил, как нож или колотушка: «Не думаю». И, выпив залпом слишком сладкий аперитив, улыбнулся кое-кому… «Боже мой», — сказал он после супа на венгерский манер. «Что ты бормочешь?» — бросил ему господин Миклош. Прибл. в это время был положен на язык и таял судак орли. Господин Миклош с набитым ртом прошептал; «Операция «Булочка» откладывается». — «А я твердо, молодечески рубанул: хорошо!» Однако не все было так хорошо, потому что, когда они прошли наверх и на улицу, он изволил покачнуться — по всей вероятности, из-за пульсации света и духоты воздуха, а не от потока подлости — и снова тихо сказал: «Боже мой». Господин Андраш рядом с ним кивнул с высоты. Положив руки друг другу на плечи, они вымелись вон (но сначала со всеми, как водится, попрощались; мастер намеренно не поцеловал ручки, хотя это там в моде; «на улице-то и подавно!»).
«Слушай, что касается наличных, мы можем выплатить их только по частям, но я полагаю, Петерке, это не проблема. Твою милую маму… как же ее… да: милую маму Лили возьмем уборщицей, за полгода получишь десять». (Ха-ха: в то время добрая женщина уже была уборщицей для господина Марци!) «Каковы условия товарища спортсмена?» — спросил один из товарищей, товарищ от организации. Председатель сверкнул глазами на мастера. Он изволил его понять. «В сущности, никаких». Тот кивнул из-за солнечных очков («О, это слишком характерно!»). «Работа нужна», — сказал нападающий. «Парень математик», — пояснил оратор. Товарищ главный инженер утвердительно кивнул: «Можно устроить». Посмотрел на мастера: «Четыре». Мастер затряс головой. «Четыре тысячи, — пояснил инженер, затем, увидев выражение лица мастера, фильтровал дальше: — в месяц, имеется в виду». — «А что нужно делать?» — спросил он. Товарищ главный инженер отмахнулся. «Однако прошу тебя не путать день зарплаты и, по возможности, получать деньги еще до обеда». Лицо мастера выражало ожидание, относившееся еще к вопросу: а что нужно делать? Неизменная открытость, нерешительность лица вызвала смущение в комнате. Мастер как бы продолжал сидеть на карусели: «геометрия смещена», он отмечает мелкие, кажущиеся бессвязными детали: товарищ генеральный директор сопит, товарищ главный инженер копается в волосах, лепешечка перхоти бело падает вниз, один из власть имущих ковыряет нос, снаружи слышатся издаваемые спортсменами приглушенные звуки. «Лайош, заходи с краю!» — «Это Хуш», — узнает мастер. Хуш — давно известный талант, быстрый, жесткий, хорошо делает передачу, только с причудами. Товарищ генеральный директор как раз раскрыл рот, чтобы что-то сказать, как власть имущий начал говорить (как бы синхронизируя его): «Тогда давайте поговорим о перерегистрации».
Ситуация накалялась. «Это просьба или ультиматум?» — спросил мастер спокойно. «Ультима-атум? Но дорогой товарищ спортсмен Эстерхази?!» — «Знаете, друг мой, — растапливал лед своим добродушием мастер, — знаете, в дрожь бросало оттого, и до сих пор бросает! — что я не верил, не мог поверить ему, что это всего-навсего треп. Хотя, — покачал он своей умной головой, — возможно, это правда был только треп». (Ох, господин, эти мне «возможно», эти «возможно». Сказал бы я здесь пару ласковых. Мастер утверждает: возможно, все было тем, чем казалось. Возможно. Но пусть тот, кто уже испытал на себе разную власть, скажет, что такое «возможно», хотя это следует знать. Ведь какова вероятность того, что Наполеон на белом коне, сайка наголо, въедет на полном скаку в шипящие клочки пены для ванны? Знайте же: 50 %. Потому что он, возможно, въедет, а возможно, и не въедет. Так вот это и есть «возможно», о несчастный мой господин.[51])
К товарищу генеральному директору вернулся дар речи. «Мы знаем, что вас зовет и «Ланг». Или «Эрдерт». Все равно. Вы получите все, Петерке, что только пожелаете».
Без сомнений, достаточно пищи для смеха дает наблюдение за тем, как за него борются два клуба III лиги… (Не преувеличивайте, mon ami, лишь один из них».) Но ведь если человек — он, имеется в виду, — находится внутри мира, тогда этот мир совершенен. В таком случае нет разницы между великолепным, как говорят, травяным покрытием «Непштадион» и твердой, глинистой поверхностью стадиона «Голи», испытывающей подошвы на прочность. «Друг мой, для этого стадиона нужна специальная погода». В свою очередь, в силу схожести ситуации и ее же общественной значимости, в крут ассоциаций неизбежно попадает и господин Марци; да он и так его любит.
И очень даже забавно, что когда вокруг «Марцики» начался тарарам и в родительский дом заявился уполномоченный именитого клуба, там тоже прозвучали эти слова: «Марци получит все, что только пожелает». Там сидели глава семьи, подавленная мать, мастер и… но это пусть будет сюрпризом. Седовласый журналист начал смеяться, как добродушная лошадь, выставляя красивые желтые зубы. «Послушайте, уважаемый, я вам расскажу одну историю… Один из моих сыновей, — (да будет известно читателю: речь идет о господине Дьерде, без сомнений), — в два года посмотрел на полную луну, — талантливый переводчик едва мог сдерживать веселье, — посмотрел и говорит: Хоцу это. Не знаю, понимаете ли вы меня». Целые очки обеспокоенно блеснули. Уполномоченный несколько нервозно, потому что не знал, торгуются Эстерхази или просто дураки, сказал: «Послушайте, уважаемый. Мы взрослые люди. Шварц ауф вайс[52]«. «Шварц ауф гельб[53]«, — ляпнул мастер крайне остроумно, сдав, таким образом, экзамен по историческому мышлению на «отлично», но остальные были поглощены кровавыми подробностями практической стороны — им было до него как до лампочки. Мало того, отец мастера процедил: «Не надо их недооценивать». — «Послушайте, уважаемый, будем говорить начистоту». Он набрал побольше воздуха: «Даем вдвое больше, чем «Фради». Тогда из-под кровати — это и есть обещанный сюрприз! — раздался смех гнома: «Не напрягайся, приятель», — сказал господин Марци, который хитро туда спрятался; фрадист до мозга костей способен на такие выкрутасы: даже из-под кровати! «О, Марцика очень хороший мальчик, с ним не будет никаких забот», — быстро и невинно сказала мать мастера.
Уморительная была сцена, многочисленные отпрыски никак не могли понять гостя. (Отсутствовал общий знаменатель.) И все это время постоянное хихиканье господина Марци из-под кровати! Уполномоченный — уполномочен был совсем по другому делу, — спросил, что это. «Марцика спрятался», — ответил с готовностью мастер, который любил правду. Вот над этим все посмеялись от души. А отец мастера перешел с представителем — как со всеми представителями — на «ты», а затем его потихоньку выпроводили. «Ах, ну, я очень ряда», — сказала мать мастера и на прощанье, как каждого представителя, заставила его рассказать правило штрафного удара. «Сынок. — покатывалась потом со смеху святая женщина, — не понимаю я его». — «Потому что никогда не слушаешь, мамуля-наседка». — «Да-а не-ет», — и по неровному лицу текли от смеха слезы. («Важен момент удара по мячу».)
«Что у меня будет за работа на моем рабочем месте?» Он пытался спросить об этом без агрессии, без особого успеха; он изволил рассудить, что слишком долго учился для того, чтобы иметь липовую работу. Плюс к тому его высокая нравственность. «Слушай, душа моя, я тебя понимаю, — с озлобленной любезностью сказал товарищ главный инженер, — но на данный момент должность par excellence,[54] в смысле математическую должность, мы предоставить не можем. Но слушай. Это чисто вопрос времени, я поговорю с Байттроком из центра, у них есть отдел вычислительной техники». — «Что-нибудь в этом духе и надо», — сказал дипломированный нападающий. Руководитель гулко засмеялся: «Если хочешь, я могу устроить так, чтобы тебе нужно будет ходить на работу. Даже на тренировки не будут отпускать». Над этим хорошо повеселились и счастливые, и несчастные. После того как утих шум, мастер неуместно посчитал уместным обозначить свои убеждения: «Мне нужно не рабочее время, а работа». Человек от организации нетерпеливо сорвал солнечные очки. Мастер — поскольку без слов понятно: тотчас же устремил туда свой недоброжелательный взор — увидел чистые, синие глаза. Как у Пола Ньюмана. Своеобразно. «Мы бы хотели, чтобы товарищ спортсмен играл здесь, под знаком этого общества». — «Ну, — пожал он несколько озадаченно узкими, изящными плечами, — так ведь затем я и здесь, а не где-то еще». — «Ну, тогда, Петерке, — напирал сбоку председатель, — здесь, пожалуйста». Уже всунута была ручка в руку мастера, перед ним бумага, на ней сплюснутый палец услужливо указывал то место, где надо. Он растопырил свободную руку на бумаге (сплюснутый палец срочно ретировался), с любовью положил ее, как поступал обычно со всякой бумагой. Однако голос был не тот, хотя он и маскировался. «Мы еще успеем с этим», — беззаботно сказал мастер. «Нам было бы спокойней, если бы дело было завершено», — сказал власть имущий, уже снова надев очки. «Мне бы хотелось, чтобы ты подписал», — дружески убеждал его товарищ генеральный директор. Он слегка покачивал головой. «Подождем еще известий из центра относительно места». — «Душа моя, считай, что оно уже есть». — «Я очень рад», — честно сказал мастер. «Нам было бы спокойней, если бы товарищ спортсмен…» Мастер тут вскочил — вновь ощутив то же, что и на европейском приеме, — и стал решителен. «Слушайте, ребята, — сказал он, галантно переходя на «ты», — все, по большому счету, в порядке. Я перехожу сюда». Радость при этом известии была уравновешена отложенной в сторону ручкой. (Это все же не каждый день происходит! Чтобы он, мастер пера, отложил перо в сторону. Плачевная ситуация, что ни говори.) «Как только будет место, о котором мы говорили, вы мне звоните, я прихожу и подписываю. Время есть, хотя и немного». (Это такой типичный для него ход: довести игривым жестом мелочи жизни до необъятных размеров. Время есть, хотя и немного. А потом все это необъятное со смирением возвращается в среду быта, которой недавно было рождено.)
«Ну, если так…» — «Так». Все встали. «Я очень рад, что товарищ спортсмен с такой ответственностью думает о работе», — сказал более молчаливый (: менее значительный) власть имущий. Второй власть имущий многозначительно молчал, а затем, когда махонькая ручка мастера дошла до него при прощании, он накрыл ее своей даже на пальцах волосатой лапищей и дружелюбно произнес: «А вот этого описывать не надо, мой маленький Эккерман». Однако случилось так, что после нескольких публикаций в литературных журналах о деле более-менее узнали, он прославился. Мастер хотел было отнять руку, но тот сжал ее как в тисках! «Я обо всем напишу», — сказал он, смотря перед собой, тихо, не делая на этом ударения, с отчаянием. Толстая ладонь чуть шевельнулась, но это не предоставляло для мастера возможности. «Не думайте, однако, что мы вас тут наивили». — «Да вы и не наивывали меня», — просиял он. «Да я и говорю, что мы вас не наивывали. Вот если будем разивывать, то все равно это будет по-другому!..» Оп-ля, тут махонькая ручка выскользнула из потного железного кольца; кто бы мог подумать, что она такая махонькая. «Угу, естественно, и даже очень, конечно, непременно», — склабился он и громко одобрял, с тем вызывающим симпатии хамством, которому научился от господина Марци, и покинул пожилых мужчин. «Потом, mon ami, они еще раз хорошенько дадут мне под зад», — и он потер двумя цветочными руками, как деловой человек…
Итак, это произошло. Он ощущал внутри себя легкость и небольшую грусть. Кто же будет играть вместо него? И кто будет капитаном команды? Наверное, Либеро. Но будем надеяться, что Левый Защитник. Однако он быстро спустился с небес на землю. Хуш, Баша, Освальд, д-р Мока, Угроцки. Который? «Ну? Подписал?» — спросил высокий парень. Теперь облокотившиеся на балюстраду снова смотрели на них. «Еще нет». — «Ясно, штарик. Это хутбол». — «Что-то в этом роде». Они уже попрощались, когда мастер внезапно повернулся: «Да вытри ты свой локоть наконец, Господи Боже мой». Центровой приподнял локоть, пожал плечами и со смехом толкнул мастера в грудь. «Ты сегодня, я вижу, придуриваешься». Они снова попрощались.
Внизу он миновал поле. Тренировка подходила к концу. Хуш бежал по касательной к центру, Освальд и д-р Мока с ходу его атаковали. Д-р Мока, побежав за укатившимся мячом, оказался рядом с мастером и узнал его. Они как-то вместе играли в районной сборной. «Это был благотворительный матч в пользу жертв наводнения», — «Ну что, малыш, переходишь сюда?» — «Судя по всему». — «Хорошо», — сказал д-р Мока и побежал обратно бить по воротам. Бросив косой взгляд на верхний этаж, он, к великому изумлению, увидел сплоченные ряды давешних партнеров по переговорам, за чем-то следивших. Следили за ним. Пихали друг друга в бок. «Знаете, друг мой, как в гимназии, когда по улице Сэнткирайи по солнечной стороне проходила какая-нибудь цыпочка». Он изволил остановиться и, пошире расставив ноги и откинувшись назад, нагло посмотрел вверх, да, вверх. «В чем дело?» — гаркнул он. Ответа сверху, конечно, не последовало, одна лишь смущенная возня и негативное отталкивание от окна, как если бы та самая дамочка (на улице Сэнткирайи или где-нибудь еще) обернулась к молокососам-гимназистам: «Ну, в чем дело, ребята?!» Он изволил медленно покинуть спортивный стадион. Даже и не подозревая: здесь он был в последний раз.
22 Мастер поднял палец (страна притихла) и пошевелил им. «Видите, друг мой, мы сменяем писательский план, как другой — нижнее белье. Это заодно и объяснение». Одним глазом он, однако, уже шарил в полиэтиленовом пакете рядом с полотенцами: нет ли там резинки для гетр. Затем, растягивая между двумя согнутыми крючком большими пальцами резинку для варенья, которую он обнаружил, проверяя должным образом, упругая ли, справедливо произнес: «Знаете, друг мой, — а сам неодобрительно теребил резинку, — мне бы хотелось, чтобы время просто вливалось в роман. Как будто… А, старая слишком!» И выкинул слишком старую полопавшуюся резинку. Ему как раз пришла сильная охота поучать, в тот момент он изволил быть последователем великих предшественников. Команда играла на тренировочном матче вяло, и нужно было что-то делать. Тогда он взял слово и поставил на вид, что если так и будет продолжаться, после матча команда будет оставаться вместе и он будет читать отрывки из своего романа в тысячу страниц. Конечно, такого романа не существовало, но наверняка не знал никто. Ребята, по крайней мере, зашумели, стали тихо давать обещания. Правый Защитник сказал: «Тогда лучше будем участвовать в чемпионате».
«Как будто, — продолжал он свои рассуждения о вливании времени в свете теории романа, — как будто из неловко вскрытого пакета с молоком жидкость льется на стол, Мягко, естественно; чтобы почувствовалось даже коровье дыхание. Полировка или жир сгоняет молоко в озерца, можно сказать: его можно заметить то здесь, то там. Спокойно так. Никакой дидактики, одно молоко». Он изволил задуматься, в красивых «грязно-серых» глазах теснились мудрость и сомнение. «Друг мой, роман — субъективная эпопея, в которой автор просит позволения трактовать мир на свой лад. Вопрос лишь в том, есть ли у него тот самый лад; а остальное видно будет».
Автор этих строк, как уже с определенностью стало ясно из прочитанного, подходит к литературе серьезно. Поэтому он купил — когда представился случай — десять литров молока, шестнадцать пол-литровых и два литровых пакета и пошел на кухню неловко их вскрывать. Ему, можно сказать, пришло в голову множество вещей относительно способов. Он разодрал зубами середину, и молоко брызнуло ему в лицо. «Чтобы время… так?» — покачал он испуганно молочной головой. Он дергал, грыз, рвал. Зверские шансы и кондиции. Но сама-то молочная капля, которая уже здесь, ее кроткость бесспорна. Не знаю, вылился ли этот случай в форме вопроса, приходилось ли мастеру видеть такой измочаленный, опозоренный пластиковый пакет? «Приходилось», — сказал он замкнуто, с прохладцей.
23 Мастер торопился на тренировку, на этот раз на электричке. Во владение орловским жеребцом все чаще вступала мадам Гитти. Воздух жутко нагрелся. Мастера — как интеллигента — слегка мучила головная боль; испарения человеческих тел, сырость только ухудшали ситуацию. «В этот момент» к нему повернулся Кальман Миксат (1847–1910, любимый венгерский писатель-классик мастера, он при любом удобном случае ворует (заимствует) у того что-нибудь) и спросил, который час. Мастер сказал. «Спасибо, сынок», — сказал господин Миксат, который сверх всякой меры потел и пыхтел. В его коротких волосах, подобно горному озеру, поблескивали капельки пота («кротко!!!»), усы были влажные, как будто бы он купался, жилеточка топорщилась и ходила вверх-вниз, как кузнечные мехи. «Бедные пуговицы», — подумал мастер обеспокоенно. Из одного кармана выглядывала измочаленная сигара. «Эти мне господа хорошие либералы…» — покачал головой господин Миксат в ритм с движением жилетки. Мастер понурил голову. Ему тяжело давались беседа и молчание. Из господина Миксата wie gewöhnlich[55] струилась красочная сказка.
«Я только что из нижней палаты. Нет, ты это послушай, братец. Достаточно того, что я решил подвести часы по каким-нибудь совершенным часам. В этих целях обращаюсь я в коридоре к Кальману Тисе, который был поглощен беседой с Лайошем Лангом.
— Милостивый государь, который час?
Тиса рассеянно ответил:
— Очевидно только одно, а именно, что полдень уже пробил. — Руководствуясь этим, я, конечно, часы подвести не мог».
Контролер попросил приготовить билеты. Мастер протянул ему проездной, на который получает от своего института дотацию в шестьдесят пять форинтов. Господин Миксат копался до тех пор, пока не пронесло. Тогда они оба — впервые — посмотрели друг на друга, как два… человека.
«Так я продолжу. К счастью, пробегает мимо Хегедюш.
— Который час, не соблаговолите ли сказать?
— Сейчас, сейчас! — восклицает он на бегу и поныне бежит, если до сих пор не остановился. Я повернулся на каблуках, направляясь в комнату министра. По дороге встречается мне Калман Селл.
— Милостивый государь, который час?
Он со скукой отвечает:
— И это теперь я должен говорить?
И с его помощью я не узнал, который час, однако вон в углу сидит Михай Ласло, он-то скажет.
— Который час, Мишка?
Наш друг Мишка с подозрением на меня смотрит.
— Гм, — произносит он, осторожно оглядываясь, — почему ты спрашиваешь именно меня? Спроси у Хорански!»
Электричка подъехала к остановке «Филаторигат». Село много женщин, по большей части с ткацкой фабрики. Ноздри у Миксата, как и у мастера, дрогнули. «Дядя Кальман, ну же», — сказал он тихо, в то время как взгляд его скользнул в пройму ситцевого платья Господин Миксат был невозмутим.
«Я и собирался спросить Хорански, но в группе где слушали Гайари, который рассказывал приключение на охоте, его не увидел.
— Эдэнке, душа моя, который час?
Гайари, вечно внимательный, вежливый Гайари без всяких раздумий отвечает:
— Который прикажешь?
На что я, не удовлетворившись, поворачиваюсь к угрюмо прохаживающемуся взад-вперед Имре Вестеру, дескать, который час.
— Черт его знает, — бурчит он огорченно.
Увидел я, что и здесь ничего не добьюсь, и хватаю в коридоре Аппони:
— Который же теперь час?
Алпони вынимает часы и говорит так:
— Принимая во внимание то, что позавчера в десять часов двадцать минут я установил часы по часам Политехнического института, однако уже вчера в одиннадцать часов пополудни проявилась дифференция в девять минут, предположив теперь, что эта дифференция носит перманентный характер, на данный момент еще нет часа; но поскольку дифференция, вероятно, прогрессирует, поскольку дифференции способны к развитию, по моему мнению, беря конкретный случай, результат ultima analysi[56] получается тот же: еще нет часа.
И здесь я ничего не добился; все-таки лучше, наверное, обратиться к старому либералу. А вот ковыляет Карой Флугер.
— Который час, старик?
Его хищные усы обвисли, он печально машет рукой:
— Нам ужо и того не говорят!
Оставляю и пасмурного саксонца и отыскиваю Йокаи, который зашел из верхней палаты перекинуться парой слов.
— Который час, дядя Мориц?
Йокаи настроен шутливо:
— Я что, по-твоему, часы? Ног нет, а хожу, рта нет, а скажу.
С этими словами он крепко хлопнул меня по спине и пошел дальше. В этот момент земля, казалось, задрожала. Из Зала заседаний вышел Дежэ Силадьи, отдуваясь, пыхтя, как зубр из чащи.
— Милостивый государь, позвольте узнать, который час?
Он бросил на меня уничтожающий взгляд и рявкнул:
— Что за идиотский вопрос?
Я стал незаметно пробираться оттуда, и среди множества равнодушных, холодных субъектов один только Пал Кишш-Немешкэрский смотрел на меня ласково, как знакомый.
— Милостивый государь, который час?
Он подумал, вытащил свои часы, посмотрел на них, затем вдруг захлопнул крышку.
— Если уж тебе так хочется знать, — произнес он с сомнением, — я могу спросить у Дараньи».
24 Любезный Петер!
Вот куда забросил меня Господь! Я довольно сильно ударилась при падении, многие места все еще «болят», но сильнее всего сердце. Болит от окружающей меня красоты и от одиночества. Как бы я хотела, чтобы здесь были вы и милая Гитта.
Проведя десять часов в поезде, я оказалась здесь. Долина чудесна! Дикие каштаны, рододендроны. Солнце садится в 1/2 9-го. Я только что с ним попрощалась. В парке все еще слышно кукушку. На рассвете я просыпаюсь под воркование диких голубей и пересвист жаворонков. Цветные окна здесь совершенно как пионы. Пылают от изобилия красного. Завтрашнюю торжественную мессу в сопровождении музыки и хора будут транслировать по радио. На одной торжественной мессе, которую проводил Папа, я уже была. Вам известно, что в папских водах пиратствовать[57] неприлично, но вы спокойно пиратствуйте!
Библейский Теологический Словарь я выслала. Боже мой, нам нужно быть благодарными за столько вещей. Я это не о Словаре говорю. Вчера, 20 августа, я мысленно была в Будапеште; успешно ли прошел и когда был проведен «день хлеба»! Был ли фейерверк? Его хорошо было от вас видно? Какая у вас работа? Попалась на глаза фотография Густи Бучаньи. Сколько шику придают человеку усы! А сейчас он дряхлый старик.
Храни вас Бог, сынок.
Йоланка.25 Любезный Петер!
Посылаю вам в этом письме два забавных документа, о процессе Карлы в пятидесятом. Вас тогда еще и на свете не было. Но, может быть, вам будет интересно. Без всякого на то повода, сидя в саду санатория (не на солнце!), я почувствовала себя плохо и громко стала звать на помощь. В прошлом у людей было больше вкуса, чем сейчас. Официанты очень обходительны, только, как я посмотрю, экономят на лимонах. Думают, что я настолько стара. Сегодня в полдень я поинтересовалась насчет лимонов. Хитро так спросила, как будто ничего дурного не замышляю. Парень официант не покраснел, а ведь я была уверена. Каталин хныкала.
Обнимающая вас старая Йоланка.P. S. Бумаги не афишируйте. А вообще, как хотите, меня это уже не интересует. А Карле все равно. Если найду еще, пришлю. Вы в цифрах разбираетесь и наверняка догадаетесь, достаточно посмотреть на даты. 7 апреля был оправдательный приговор, 8-го (!) интернирование, а для окончательного оправдательного решения (24 окт.) потребовалось три года. Бедный Карла. Неудивительно, что он предвзято настроен, хотя это раздражает до смерти.
Йоланка.1. Выписка из протокола главного судебного заседания, 7 апреля 1950 года.
Свидетельские показания.
Ференц У., житель Ч.: Я только видел обвиняемого несколько раз. В феврале сего года мы с Яношем Надем поехали в О. за углем. Перед пунктом выдачи угля ожидал и подозреваемый со своей телегой, препираясь с секретарем профсоюза. Секретарь сказал, что он не может перевозить уголь, потому что не состоит в профсоюзе. На это обвиняемый сказал: хотя я и не в профсоюзе, но ем тот же хлеб, что и вы. После этого секретарь профсоюза удалился, а обвиняемый остался разговаривать с Йожефом Ф. и сказал про В., секретаря профсоюза, что он еще будет мальчиком, и показал рукой на землю.
Обвиняемый: В. там даже не было, он к тому времени давно уже был разоблачен.
Свидетель: Насколько мне известно, тот, кто был там секретарем профсоюза, звался В.
Йожеф Б.: Обвиняемый препирался с начальником профсоюза и по ходу заметил, что положение скоро изменится и они станут такими крошечными, и рукой показал вниз. О войне речь не заходила. Начальник профсоюза мне незнаком.
Янош X., председатель профсоюза: Я сказал Ф., что обвиняемый хотел бы заплатить членский взнос, но не может этого сделать, на что обвиняемый спросил: почему, кулак он, что ли? На это я сказал, что не кулак, а классово чуждый элемент. Тогда обвиняемый спросил: так что, мне и перевозить нельзя? На это я ответил: я этого не говорил, и удалился.
Йожеф Б.: Все произошло так, как сказал У.
Янош X.: Мне никто не упоминал о том, что обвиняемый сделал в мой адрес такое замечание, хотя и в мое отсутствие. До меня председателем профсоюза был В. Обвиняемого я знаю по перевозкам. Зимой он перевозил и бревна для железной дороги, и уголь для м-ских рабочих.
Густав К.: В Ч. я услышал о том, что аптекарь и ветеринар получили повестки. Мы стали совещаться о том, что же могло быть тому причиной. Кто распространил слухи, я не знаю.
Иштван П.: Ничего не знает, с обвиняемым не знаком.
Йожеф П.: Председатель излагает ему инкриминируемые высказывания. Я такого не слышал. Я слышал только, когда обвиняемый разговаривал в первый раз с X. X. спросил меня, почему я не вступаю в… Обвиняемый подключился к разговору, мол, он тоже хотел бы вступить. На что X. сказал, что ему вступить нельзя.
Ференц У.: После этого разговора, когда X. ушел, обвиняемый обратился к Ф. и сказал: мир скоро изменится, и он еще станет мальчиком. И в это время, направив руку в сторону удаляющегося X., показал рукой в направлении земли.
Йожеф Ф.: Такого заявления обвиняемого я не помню. Сообщения о войне я не слышал. Заявлений, направленных на подрыв демократии, не слышал, знаю только, что обвиняемый перевозил зимой бревна для железной дороги.
Густав К.: Я стоял там, но У. и Б. не видел, только Ф.
У. и Б. в один голос заявляют, что разговор происходил не у хранилища для товарных весов, а примерно в пятнадцати метрах от самих весов.
Обвиняемый: Разговор происходил не у края товарных весов, а прим. в десяти метрах от него. Правда, там стояло несколько человек, но всех поименно я не знаю. Густава К. не знаю. Если бы увидел, то смог бы сказать с определенностью.
2. Копия
Комитет Государственной Безопасности Министерства Внутренних Дел
Будапепгг, VI, пр. Андрашши, 60.
Тел. 127-710
Почт. ящ. 509.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
(перепечатано на машинке) на основании пункта б) § 1 пост. Пр.-м. за ном. 8130/1939 и § 2 пост. МВД за ном. 228010/1948 IV/1 приказываю поместить под стражу (интернировать) бывшего графа, крупного помещика, извозчика, проживающего по адресу…
ОБОСНОВАНИЕ
Вышеназванный настроен против демократии, способен возбуждать в народе ненависть к демократии, по причине чего, с точки зрения государственной безопасности, решение о его интернировании обоснованно. Данный окончательный приговор на основании пункта б) § 56 ст. XXX за 1929 год надлежит без предоставления права на апелляцию привести в исполнение немедленно.
В течение 15 дней возможна подача апелляции на имя господина Министра Внутренних Дел.
Будапешт, 8 апреля 1950 года.3. Копия
Верховный Суд Венгерской Народной Республики Б. IV. номер 5984/1950 — 8.
(…) То, что обвиняемый в своем установленном по факту заявлении подразумевал в перспективе не изменение демократического государственного строя, а намекал исключительно на те изменения, которые, вероятно, должны были последовать за ближайшими выборами руководства профсоюза, которые окажутся неблагоприятны лишь для личности занимающего на тот момент пост председателя, с которым у него был определенный конфликт, — подкрепляет то, что употребленные обвиняемым слова («Он еще будет таким маленьким мальчиком!») сопровождались упомянутым жестом руки, указывающим на малые размеры, который подразумевает изменения личного порядка. Если бы обвиняемый имел в виду действительную смену строя, в таком случае изменения, которые произойдут в судьбе функционеров основных институтов демократии, он, очевидно, символизировал бы не жестом, указывающим на малые размеры, приобретение малой формы, что, впрочем, и отдаленно не напоминает ту судьбу, которая ожидала бы функционеров демократии в случае предполагаемой смены строя.
В свете этого апелляция признана необоснованной, по причине чего Верховным Судом она была отклонена и одобрен оправдательный приговор.
Б-т, 24 октября 1950 года4. Киштарча, 2-й полк
Милая мамочка!
Свидание 22-го по техническим причинам отложилось. Я потом напишу точно, когда будет. Вещи, которые я просил в открытке за 2-е число, пришлите, пожалуйста, по почте. Кроме одежды, мамочка, купите еще, пожалуйста, тренировочный костюм моего размера, по возможности темно-синий, и две упаковки сансредства. Продукты вышлите отдельно, пожалуйста, и большую посылку тоже отдельно. Лучше всего, если вы и мелкие вещи зашьете в какой-нибудь мешок, еще, не дай Бог, растеряются. Карандашей не надо. Надеюсь, мамочка, дома у всех все хорошо? Посылку отправьте так, чтобы, по возможности, на будущей неделе пришло и то, и другое. Жду ответа на открытку за 2-е число, и до свидания, целую вас, милая мамочка:
26 «Электричка идет дальше». Любитель вздыхает, видя эту великолепную согласованность, структурную связь жизни и творчества. «Эффектно». Как к этому будничному, серому, но, во всяком случае, дельному факту, отправлению электрички, присоединяется призывающее к полноте, неразрывной целостности существования, хотя и мало знакомое, оптимистичное осознание, движение жизни вперед!
«Электричка идет дальше», — бормотал мастер негромко; вагоны электрички покачнулись, серая масса моста Арпада постепенно осталась позади. Место у мастера было и хорошее, и не очень, — он стоял на солнечной стороне, на неимоверной жаре, но зато у окна, — так что ощущения были и приятные, и не очень. А ведь он приложил все усилия для того, чтобы ощущения были приятные: не делал вдохов, «повернулся боком», носом, этим знаменитым предметом, крутил-вертел так, чтобы прохлада возникающей довольно приличной тени служила утешением. Получалось не очень. Эстерхази был творчески не удовлетворен; он знал, что в наши дни писателю уже не нужно ратовать о судьбе подкидышей или за сокращение рабочего дня, не нужно притуплять перо в борьбе с рабоче-крестьянской властью даже за увеличение объема свободного времени! Однако, например, в сражении за подлинное высвобождение, осмысленность свободного времени, его обогащающее человека содержание роль у искусства великая, ничем не заменимая роль.
Электричка неслась мимо уксусной фабрики, накреняясь на поворотах, уходила в сторону от Дуная. Мастера слегка мучила головная боль. На повороте людей немного покачнуло, людей потерло друг о друга. Он хорошо знал, что необходимо молодому писателю. Ему необходимо не трепание по плечу, а доверие и вместе с тем строгое суждение, чтобы не выдохнуться, как это часто бывает, уже к выходу второго тома, но больше всего, наверное, чтобы его не потопили в тех псевдоспорах, которые в любом случае уже и так являются анахронизмом.
«К сожалению, — пожал он расслабленно узенькими плечами, — к сожалению, до судьбоносных вопросов мне не дорасти». Но это неверно. Я уже хотел заметить, что у мастера никогда не поймешь, что он воспринимает серьезно, а что нет. И ведь это… неверно. В глазах у мастера зажглись лукавые огоньки, он весело сказал, закручивая мою щеку когтистыми пальцами, как злая тетушка: «А ну-ка, а ну-ка, негодник, — закручивая на — ник, — это тебе должно быть известно». Повторяю: он проявлял чрезвычайное благодушие. Позднее оно уменьшилось. Он вежливо произнес «Ай-яй-яй. Я совсем опустился до собственного уровня».
Однако вернемся в электричку, не будем растекаться мыслею по тому самому древу; «повернемся лицом к электричке». «Отчего вы так наэлектризованы, друг мой». (Самоирония.) Перед уксусной фабрикой коротал век старый маленький паровоз. Кофемолка. Поворот скрыл и его тоже. В тот день мастера все как-то тянуло на сентиментальные, общественные воспоминания. У основания растущих, как грибы, зданий, заключающих в себе светлые, просторные квартиры удобной планировки, — полуразрушенные старые дома (Круди, известный венгерский писатель 1878–1933; и т. д.). Появились тени: «Для понимания современных проблем социализма, mon cher ami, нужно снова и снова пересматривать прошлое. В связи с прошлым возникают разнообразные вопросы. Литература — решение, взятие на себя обязательств, выбор, приговор. Или крестьянский вожак Дожа, или Вербэци.[58] Торг здесь неуместен! Здесь не может быть снисходительности, забвения, прощения! Каждый должен выбрать».
Жизнь тотчас же поставила его в пикантную ситуацию: пока они выходили из поворота, выезжали к шоссе на Сэнтэндре и собирались поворачивать на прямую перед Филаторигат, мастер мог выбрать. Если он тыркнется в сторону женщины, то может нечаянно потерять свой пятачок (на улице Элека Бенедека, когда двери открываются «наоборот», почти наверняка), если же в сторону на вид ни капли не привлекательного, приземистого, пыхтящего мужчины, тогда место наверняка останется за ним и солнце будет светить на ту половину лица, к которой прилегает не болящая часть лба. Мастер выбрал приземистого.
При движении переместилась и рука, и он носом ощутил, что сильно потеет. (Знаю, это не литературная тема, но мы увидим, чем его сияние привлекает такие низменно материальные — или в иных случаях: духовные — «вещи».) Собственный пот ему не казался отвратительным, мало того, наверное, ошибочно он вообразил себе, что: пот — мужской запах. «Друг мой, львиный запах». Его возможно понять с практической точки зрения, тяжелое детство оставило сильный отпечаток, а дезодорант вряд ли играл в те времена главную роль в жизни семьи… Однако теперь, вопреки этому, охваченный крайне чувствительной общественной чувствительностью, глубоко и сильно испытал, что он не просто сам по себе, а еще и — для других-то уж без сомнений — чужеродное тело, поэтому все же содрогнулся, почувствовав характерную влажность у себя под мышками. На нем была черная с оранжевым майка. «Отличная майка. Я в ней просто красавец», — сказал он как-то по секрету, на основе полученной от мадам Гитти информации. И материал неплохой, воздух пропускает, форму сохраняет. Зимой ее можно было носить несколько дней кряду. Однако кто носит зимой летнюю майку? Это опять-таки характерный поворот жизни.
Зажегся красный свет, электричка, трясясь, остановилась. В этот момент к нему повернулся Кальман Миксат — потому что маленький и приземистый был именно он — и спросил, который час. Спотыкаясь на «ах, да» и «вот еще», часто покашливая, он начал свою байку. О не очень приятном, надтреснутом голосе, изборожденном морщинами, некрасивом лице, свисающих, как у сома, усах (о них господин Марци чуточку позже сказал: «Что за ястребиные усы! Нет, у меня, у-у-у, будут усы как у моржа!»), постоянно сползающем галстуке заставляла забыть духовная красота. Склонный к полноте, приземистого телосложения, господин Миксат, чья по-татарски круглая голова почти без шеи («ишеинет») поднималась на широких плечах и которого однажды какой-то читатель спросил: «Эту новеллу вы написали с вашей фигурой?» — во время разговора преображался; его преображало внутреннее обаяние людей с богатой жизнью и богатой душой. «Который час?» Мастер сказал. Тот пыхтя поблагодарил. Господин Миксат потел и пыхтел сверх меры. Свистящее дыхание, постоянное покашливание — все это указывало на то, что мотор жизни, сердце и легкие, в нем пошаливает.
«Откуда-то я его знаю», — опустил мастер глаза с усталой дидактикой. «Квелый какой-то», — указал он на пульсирующий лоб. (А рядом с крепышом господином Миксатом это заблистало стократно усиленной правдой.) Новоиспеченный знакомый — знакомый незнакомец! каковыми являемся все мы — рассказывал размахивая руками, в красках. Мастер кивал. В колючих волосах господина Миксата выступили капельки пота, как поздний сорт сочных фруктов в конца лета, усы были пропитаны влагой («как трясина в Эчеде перед великой стройкой, закаляющей душу и сердце»), жилет его то топорщился, то собирался в гармошку и ходил туда-сюда, как фуникулер. Из нагрудного кармана выглядывал добродушный кончик сигары. (Точная стыковка сигары и нагрудного кармашка подействовали на мастера успокаивающе.)
Контролер попросил предъявить билеты. Он протянул ему проездной (на который он от своего института, где является интеллигентом с гарантированным рабочим местом за две тысячи семьсот в месяц, получает дотацию); господин Миксат ловчил до тех пор —»Ты великий прохвост!» — сказал ему как-то раз Кальман Тиса, — пока не пронесло: контролер узнал мастера и добровольно поцеловал ему ручки. «В воскресенье с кем играете?» — «С «Ниткой». — «Дома?» — «Там». — «Сильные они?» Мастер надул губы. «В прошлом году они нас сделали». Но в это время парень контролер со строгой миной уже стоял перед студентками; мастер, забавляясь, наблюдал сцену. «Недействителен», — сказал он маленькой черненькой («эдакая мир-дружба-жвачка»); взгляд парня переходил от гражданского к официальному, прямо как два соседних цвета радуги. Черненькая что-то протарахтела, на что контролер вернул проездной и продолжал стоять. «Неудачная была шутка», — заметил он кисло.
Мастер — перескочив через собственную боль — взглянул на господина Миксата. Двое мужчин заговорщицки переглянулись. Мастеру в нос ударил дружески выбивающийся изо рта господина Миксата смешанный запах вина и сигар. Пухлые щеки и подбородок оказались чуточку поросшими щетиной, немного выпученные глаза «были окружены двойным рвом», наподобие крепостного.
Мастер почувствовал в себе внезапно писательскую жилку. «И выглядывает из терема Дашенька прекрасная и дуб в придачу». За ассоциацию несут ответственность налитые кровью глаза господина Миксата, ну, и образованность, происходящая от начитанности. «На высоком дубу, да сухой веточке высокого дуба, сидит-посиживает кукушка. Кукушка! Кукушка! Налево путь держи, девочка!» Из уголков глаз господина Миксата спускаются толстые складки, мясные холмы, у щек они расходятся в разные стороны — как намыв медленно текущей реки, — подпирая сами щеки, точнее, становясь с ними единым целым. Теперь они блестели от жары. «Пошла Дашенька налево. Вдруг, откуда ни возьмись, как выскочит, как выпрыгнет Мишка-медведь, полным именем Михаил Иванович. Сагреб Дашу в охапку и был таков».
Электричка только теперь подъезжала к остановке «Филаторигат». Вероятно, заступила новая смена — стояло множество женщин перед крошечным угрюмым зданием станции. «О, эти легкие платья», — вздохнул мастер и увидел, как небритый, пахнущий вином старик рядом с ним ищет глазами женщин. «Ух, ты ёкэлэмэнэ!» — мотнул Миксат головой в сторону высокой женщины; в руке у женщины была авоська, под мышками, по краям проймы, почти параллельно с проймой бледнел небольшой полукруг. «Соль выступила». Черные тяжелые волосы неподвижно спадали вниз, подобно замерзшему Ниагарскому водопаду. Глаза она не красила, а вот ногти были уродливо красными. Все же нет ничего прекраснее естественности, неспа?![59] Господин Миксат говорил, наблюдая за женщиной.
«Она красива, прямо как распустившаяся роза. И зовут ее как-то в этом роде. Роза Пшеницкая или Кирпицкая. Как она умеет подрагивать, покачивать бедрами, Боже мой! Каждый мускул играет, раззадоривая мужские взоры. Видишь, сынок высокая, прямая, как лилия, а каждая линия у нее все-таки округла, как будто живописец писал». Из авоськи торчала газета «Эшти Хирлап», а сквозь сетку просматривался сдавленный стаканчик йогурта. «Эшти Хирлап», йогурт», — произнес тяжелым от головной боли языком мастер. Роза Пшеницкая (или Кирпицкая) направилась сначала сюда, потом туда; вероятно, ситуация, сложившаяся у одной двери, была предпочтительней, чем у другой. Кальман Миксат взволнованно проталкивался, потому что и для него одна дверь была предпочтительней другой. (Вопрос теперь и т. д.) Писательская жилка мастера вновь ударила, как молния. (Как молния в родительский дом. «Бумм», — сказала как раз проводившая там время Донго Миточка и рассмеялась. «Пять тысяч», — сказал частник и высказал свое почтение матери мастера. «Эти!.. — махнул он рукой. — Только болтают много, я извиняюсь, а народ, мое почтение, недоволен». И хотя в случае с матерью мастера — которая слегка реакционно настроена [в отличие от отца!] и по личным причинам терпеть не может коммунистов, — эти слова упали на благодатную почву, все-таки женщина тоже была крайне недовольна. «Такие деньги, Боже мой!» На более поздней стадии женщина так и «вскипела»: «Сынок, я с тобой никогда не ругалась, но это сейчас же сотри». — «Что мне стирать?» — сказал он с плутоватой улыбкой, сделав невоспитанный жест. «Сотри это, потому что с тех пор, как вижу, что и они точно так же стареют, как я, посмотри на старого Точку, я совершенно успокоилась. И еще мне сказали, что Атилла Йожеф был тоже коммунистом…»)
Возвращаясь к жилке: «На высоком дубу, на сухой веточке, сидела-посиживала птица-кукушка. Кукушка! Кукушка! Направо путь держи, девочка! Пошла Машенька направо. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочил, вдруг, откуда ни возьмись, как выскочит, как выпрыгнет Мишка-медведь, полным именем Михаил Иванович. Сагреб Машеньку своими лапами и был таков. И давай с ней бежать».
27 «Я, например, хоть миллион лиц увижу, все равно самой красивой буду считать Гитту Реен», — «Дорогой мой». — «Хорошо с тобой вместе жить». МАСТЕР И ГИТТА — не будем, однако, говорить пошлостей.
28 Крайние делали передачи, а центровые, набрасываясь на мяч, старались направить его в сетку. Он долгое время качал своей благородной головой: «Чтобы движущийся мяч… очень трудно… очень трудно». Вначале он делал попытки и озабоченно промазывал. Господин Эжен, кладовщик, — у которого со славным гоподином Арманом были натянутые отношения — отпустил господину Миксату в кредит бутылку пива «Кэбаньаи». «Холодное, как из погреба», — засмеялся крошечный господин Эжен (в смысле, что в погребе тепло, — и в этом соль шутки). Большой палоц посасывал пиво, наблюдая за мастером, который с пяти метров попадал почти по всем спасованным мячам подряд. Кладовщик больше пива не дал. «Хватит, папаша». Господин Эжен был маленького роста, но решительного характера. (Примерно в это время всплыли некоторые проблемы, и решительность господина Эжена проявилась и в этом случае, что — в переносном смысле — привело к кровавым схваткам между ним и господином Арманом. В зараженном воздухе обязательно развивается необоснованная подозрительность и клеветничество. Суть дела заключалась в нехватке средств.)
Господин Миксат помахал мастеру рукой на прощанье. «Коктейль-бар?» — крикнул он, труся за укатившимся мячом. Великий мастер анекдотов, который во время оно[60] с ошеломляющей резкостью высказал свое мнение в адрес правительства, и партии, чей инстинкт реалиста, живое чувство справедливости уберегли от вступления на путь разочарованных, потерявших надежду, на чьей душе камнем лежала вызывающая тревогу безвыходность эпохи, однако даже в одетом броней цинизма, стареющем писателе скрывалось прекрасное бесстрашие непохожести времен его молодости, и об отношениях которого с Кальманом Тисой буржуазное литературоведение создало легенду (да, потому что таким образом оно хотело обезоружить его едкую критику: ведь как может быть беспощадным сатириком общества господ человек, который на террасе виллы Йокаи в швейцарских горах чуть ли не каждые субботу и воскресенье смотрит, как Тиса играет в карты), так вот, этот человек пожал плечами и жестом ответил занятому тренировкой мастеру, что «он еще опрокинет где-нибудь пару рюмашек». Он кивнул, затем внимательно выслушал, в чем состоит следующее упражнение; наступила очередь так наз. игрового упражнения, однако он, как всегда, его не понял. «Не сердись, ива, не понимаю я». В ответ на это ему стали объяснять, медленно, как детям. «Стоило тебя посылать учиться, приятель».
29 «Однако, дядя Кальман!»
30 «Кто этот говнюк?» — спросил господин Дьердь небрежно (а ведь господин Дьердь знает всех, ну просто всех), смотря как бы сквозь мастера, в то время как руки его двигались с молниеносной быстротой: он быстренько вымыл стакан, кивнув стоящей рядом с мастером и его спутником мамаше. «Двести красного, так, радость моя?» А «Да, да, золотой мой, только тридцати филлеров нетути». Старуха смущенно переминалась с ноги на ногу. Черное, грязно-ветхое пальто из болоньи висело на ней, образуя крупные складки, и лишь на согнутой спине натягивалось. «Как несчастная ведьма». (Мастеру, с точки зрения внешнего вида, она напоминала его бабушку. Только этой старухе «явственно не хватало сил». Но и его бабушку прошедшее время так же согнуло. Она превратилась в черную крестьянку, и она тоже — добрая ведьма. Когда, сгорбившись, смотря теперь уже только в землю, с почти непостижимой для мастера скоростью, она семенила по маленькому селению, сквозь щели между одинаковыми домами, по улице, с ней очень почтительно здоровались. Неспроста. И всегда бывало очень забавно, когда какому-нибудь и не всегда, может, надутому западному туристу она на одном из мировых языков объясняла дорогу.) Господин Дьердь весело взглянул на мастера. «Так нетути! Ничего, мамаша, завтра занесете». Но за это время старая женщина уже схватила дрожащей рукой стакан, секунду держала перед собой, а потом в мгновение ока выдула вино; пробормотала что-то господину Дьердю и рванулась на улицу. «Адью, уважаемые дамы, адью», — произнес знаменитый шинкарь ей вслед.
«Кто этот говнюк?» — кивнул он снова в сторону чрезвычайно скромно, но плотно стоящего рядом с мастером господина Миксата. «Извини, дядя Кальман», — опустил он значительно глаза, а потом тем же манером зыркнул на господина Дьердя: «Не все ли равно? Приятель, кто угодно». — «Два пива?» — «Два пива», — сказал он младшему брату, переполняясь определенным чувством.
Много ли, мало ли времени прошло, и вдруг он — почему, а почему бы и нет — подумал, что может позволить себе (вследствие гнетущего чувства ответственности и жажды знаний), и поэтому, поставив на металлическую стойку свою кружку и вытерев — как Рука тучи с горных вершин — с носа пивную пену набросился на Кальмана Миксата, которому (однако) мастер был явно по душе. (Далее ирония Эстерхази несколько бледнеет. Случайно ли это? Звездный знак намеренности или временное обесточивание дисциплины? — О, о, сказали солдатики в витрине.)
«Скажи, дядя Кальман, ты добровольно брался за определенные задания, или начальник пресс-службы премьер-министра Арпад Берчик приказывал?» Так, с места в карьер! Фантастика! Господин Миксат еще не допил пиво. Аккуратно пил, тыльной стороной ладони вытирал усы. До тех пор на них, как иней, белела пена. «Добровольно. Я чувствовал, что это правильно. Я верил в это». — «Не грузи, дядя Кальман. Все прямо верили?» — «Многие». Старик мечтательно прихлебывал. Теперь их разделяло большее; диалога как будто бы и не было. «Очень многие», — «Да, но дядя Кальман», — мастер гневно, нетерпеливо всплеснул в воздухе руками. (Только теперь ясно, как ему повезло с тем, что кружка поставлена на стойку.) Старик только бурчал про себя, вроде говоря что-то, а вроде и нет. «У нас с этим так, не умеем мы об этом рассказывать так же, как не может человек говорить о первой ночи любви». — «Да, но, дядя Кальман, так то-то и оно! У невесты яйца между ног!» Господин Миксат редко смотрел мастеру в глаза; однако теперь взглянул. И сколько всего отражалось в паре подернутых пеленой карих глаз: великое знание, почем фунт лиха. «Большой ты мамелюк, старик», — молодечески сказал мастер. Кальман Миксат отвернулся. «Брань на вороту не виснет».
Мастер вспыхнул безудержным гневом. (Потому что так чувствителен он именно к словам, к злоупотреблению ими. От этого он приходит в крайнее уныние. «Сыто рассиживать и врать, друг мой, — наихудший вариант». На эту тему добрый человек любил говорить также следующее: «Друг мой, грамматика аморальна». И если у него очень плохое настроение, добавляет: «Kultur ist Parodie[61]«. В полную силу может это прочувствовать он.) Предки-куруцы схлестнулись в нем с предками лабанцами (потому что среди Эстерхази полно и тех и других), толедский клинок с выпрямленной косой, его глаза блестели, был он знаменем, которое можно развернуть, и древком; это поддается дефиниции. Кальман Миксат в возбуждение не пришел. Он сделал господину Дьердю знак рукой: еще пива. «Хорошая у вас тяга, батя», — засмеялся великий шинкарь. Внимательная неподвижность господина Миксата охладила пыл творца этого столетия. «Знаешь, сынок, пусть смелыми будут твои куруцы, а не писатель». (Да ведь и мастер не хотел быть ни смелым, ни несмелым.)
В кабаке появился худенький белобрысый мальчонка, за собой на веревочке он тянул маленькое пианино. Подошел прямо к шинкарю, спросил что-то, однако тот отрицательно покачал головой. Завсегдатаи сидели за столами и пили — не много, но постоянно. «Отца ищешь, а?!» Но даже не подняли головы от карт. Это не было новостью: за некоторыми из них вот-вот придут, за другими никто и никогда.
Мастер с жаром публициста продолжал допытываться. «Да, но, дядя Кальман, определенные признаки все же подозрительны…» — «Оставь ты меня в покое. Не те уже мои годы… Память портится». — «Это хорошо, рассыпающаяся память — то, что надо!» — трещал мастер, о котором ходила слава великого гурмана. Господин Дьердь замахал руками: пусть потише веселятся, мать у меня болеет, бедняжка. (Однако затем ее самочувствие улучшилось.) Господин Миксат пожимал плечами. Наверное, ему многое вспоминалось. «О, новая страна, новая жизнь, новые иллюзии!» — Боже правый, я могу прикусить губу; и напомнить мастеру о множестве положительных судеб, которым это ироническое предложеньице навредило. «Если я не обижаюсь…» — сказал он с небережной молодцеватостью. Я напомнил мастеру его собственную ситуацию, мало того, изволил заметить, что, может быть, он в конце концов, подходя с точки зрения истории, все-таки эдакий милый (не милорд, ха-ха-ха!) кукушонок в мягоньком гнездышке социализма. Конечно, полезный, порядочный кукушонок. «Эй ты, ты, кукушка, ну, твою мать!» — завопил он легко, элегантно. Итак, после того как он эффектно отразил наставленные на него, через мое посредничество, скользкие рапиры, вновь стал доставать господина Миксата. Кое-что еще хотелось знать ему, и кое-что считать он изволил неправильным. «Здесь взятки гладки, друг мой».
Между тем господин Дьердь работал вовсю. Его любили гости; жаль, что господин Дьердь так над ними возвышался. Он давал им то, чего они ожидали, — даже если в порции по пятьдесят и двести граммов и недоливал: с женщинами, какими бы замухрышками они ни были, заигрывал, с мужчинами вел себя по-мужски. Только… Все равно: в господине Дьсрде была «душевная теплота». «Дьюрика, вина с газировкой». Клиент заметил мастера. «Привет, Петике. Ты здесь? Наконец-то встал на правильный путь». Они засмеялись, мастер и малейшего понятия не имел, кто тот человек, с кем он разговаривает. «Выиграете в воскресенье?» — «Выиграем». — «На прошлой неделе ты тоже так говорил». — «и выиграли?» — «Нет». — «Ну вот».
Господин Миксат отодвигался дальше, к игровому автомату. Мастер следовал за ним. Ох уж это непрошенное панибратство и оптимистичный цинизм! Мастер осторожно пошел в наступление. «Ты был писателем мрачной, переходной эпохи». Господин Миксат кивнул; на это? или на новую бесплатную игру короля игровых автоматов? «Конечно, в те бедственные времена…» Но здесь мастер переборщил. «Запомни, сынуля, времена всегда бедственные». Господин Миксат сосредоточил все внимание на скачущем туда-сюда шарике.
«Говорят, дядя Кальман, что по молодости было в тебе какое-то милое мужество, какая-то нравственная сила, которая ощущалась в твоих словах». Они стояли позади короля игральных автоматов, так что мастер шептал: «Конечно… я понимаю… великие эпохи рождают героические характеры, а немые годы неподвижности разъедают железо характера». — «Видите, mon ami, это чепуха. (А ведь он это сказал. — Э.) Движение относительно; вопрос системы координат, до поры до времени. Не существует неподвижной эпохи, если существую я!» — и опьяненным успехом взором он посмотрел перед собой. Мастер, пардон, слегка подлизывался к господину Миксату. Он хотел выманить зверя из норы. «Друг мой! Дичь!.. Да ну ее к черту! Только жрут и толстеют». А белый соус? Однако напрасно это ехидство.
«Дядя Кальман, прошу тебя, скажи, ведь я смело могу надеяться, что в тебе, благодаря тебе можно было выявить разницу между мелочным, упадническим культом своего «я» в загнивающем буржуазном мире и гордым самосознанием тех, кого захватил героический пафос освободительного демократического движения. Твоя, дядя Кальман, тяга к джентри[62] никогда не означала отождествления с ними». Мастер довольно потер ручки с обгрызенными ногтями. «Знаете, друг мой, этот роман повредил моим ногтям». (Это сейчас — роман, но холодный страх детства, всхлипывание в темноте, зарывание головой в подушку, сбивание простыни, сжатая в кулак рука, — все это уже с давних пор вело к тому, что мастер не стал перлом маникюрного мастерства.) Но повернулся только король игровых автоматов. «Сотня?» — «Что-что?» Из этого король игровых автоматов мгновенно понял, что мастеру игра мало знакома и стал его подзуживать. Однако он не изволил поддаваться подзуживанию. Господин Миксат сопел, возился. Затем неторопливо и обдуманно было произнесено веское слово.
«Чего ты хочешь?» Господин Миксат обернулся, прямо бывалый развозчик пива. Мастер вновь что-то понял, бедняга. Однако для их усмирения вырос господин Дьердь: «Ну, ну, не надо, ну, ну, сладкий мой». Защищал он всех. «Тяжело, сынок, быть венгерским писателем». Господин Миксат примирительно смотрел. Но мастеру все еще чего-то было надо.
«Подлый, антинародный режим…» Предложение прервалось. «Вот блин! Представляете, друг мой, я не нашел сказуемого». Да уж: вот так он иногда скалит зубы, когда пишет, поглаживая при этом подбородок. (Как иногда на матче, когда им овладевает некое «отупение».) Рука его в такие моменты над бумагой — левая — плотоядно растопырена, как у хищной птицы. «Справедливо. Ну, погоди!» И когда в такой ситуации маленькая Миточка розовой ручонкой стучит мастера по спине и еще многими другими — по отдельности крайне süß[63] — способами доводит до сведения отца свои претензии на любовь, тогда он, бывает, теряет терпение. «Дорогая Авдотья Филипповна, — вопит он в такие минуты сдержанно, — иди к такой-то матери, точнее, к своей, — да, к сожалению, он может быть и таким прямолинейным, — я уже пятый раз начинаю это дурацкое предложение». Чтобы несколько смягчить свою вину, как бы разделяя свои заботы с крошкой, он говорит: «Мне, малыш, ни одно несчастное сказуемое не приходит в голову». Однажды девчушка сказала: «Папочка. — В это время она, по своему обыкновению, с жаром жестикулировала, вертя раскрытыми ладонями. — Папочка, напиши короткое предложение». «Друг мой! Что мне было делать. Я пообещал, что по мере совершенствования стиль будет упрощаться». (Так что любители литературы могут быть спокойны!) (Размножаются знаки!)
«Да, но, дядя Кальман, как могло случиться, что никто не осознавал, о чем идет речь? Что господином является восприимчивый господский мозг! Пройдохой-господином! И что в частом помаргивании генеральски холодных, потухших глаз скрывается господская подлость!» А потом совсем тихо: «Или вам было страшно». — «Брось. Я старик. Мы взяли на себя все. Все. Мы заблуждались и это тоже берем на себя».
«Ну, вот, еще лучше», — сказал молодой человек. Господин Миксат снова отвернулся от игрового автомата. А ведь тот взволнованно жужжал; поднимались ставки. «Сынуля. Если бы ты тогда там… тогда ты бы там точно так же». — «Тогда я бы был в тюрьме!» — жестко воскликнул он. Господин Миксат кивнул: «Ёкэлэмэнэ, еще бы! Невелико искусство. Но там, в самой тюрьме, там, там ты бы точно так же… По-другому нельзя было. Лишь отказавшись от одного или другого, но в любом случае точно так же! Шаблоны прилипали к памяти, как репей к овечьей шерсти. В голову не может прийти, что все могло быть и по-другому», «Такое бывает», — подумал глубоко про себя мастер. Ведь сколько раз бывало, что вдруг, уже где-нибудь у 16-метровой, в такой благоприятной позиции, ему в голову не приходит ничего. («Справедливое искажение фактов».) «Боже мой, — бросает нападающий взгляд на мяч, который катится, — ничего не приходит в голову». Зачем, что, для чего, кому и, главное, как. «Наверное, поддаст носком, блядь, в куст ракиты!» — быть может, разочарованно подумаете вы. Ан нет, затем он естественно изволит ввязаться в запутанную потасовку и тяжким, утомительным трудом отвоевывает пятачок, после чего с извиняющимся лицом смотрит на товарищей.
«Такого не бывает», — сказал он громко. «Молодой ты». — «Молодость — нравственная фора». Эффектно. «Заблуждаешься». Тогда он обратился к мудрости. «Заблуждения очень даже уместны, пока мы молоды, но к старости с ними нужно кончать». И сразу после этого опять перешел к публицистическому напору. «Я еще ничего плохого не совершил, а за совершенное ответственности на себя не беру», — «Не надо так гордиться тем, что еще ничего плохого не совершил… Впрочем, потихонечку все-таки и вы начинаете совершать… Однако, сынуля. Я уже сказал, мы берем на себя ответственность. Ты и сам можешь в этом убедиться». — «Немножечко рассчитаетесь с долгами, немножечко посмотрите в глаза, и в ваших глазах зажигается былой задор. Вы очень растроганы». Он поучительно поднял палец: «А ведь с точки зрения новой истины нет ничего опаснее старого заблуждения!» — «Да что ты об этом знаешь?! Что здесь с верой и убеждением жили поколения, которые в тот момент с глубоким убеждением взяли на себя переустройство общества! Да что ты об этом знаешь, мягко говоря». Мастеру наступили на любимую мозоль: «Ну, конечно. А я что говорю! Мне сказать? Мне, которому тогда было — 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 лет, в таком порядке?!»
Господин Дьердь без приглашения выскочил из-за пульта с двумя щедро наполненными кружками: «Пейте, дурни». — «Я им про Фому, а они мен…» Они выдули пиво. Тогда Кальман Миксат засмеялся, с такими перебоями, что это было уже просто ржание. Мастер покраснел, а потом и он поступил так же. Да: Петер Эстерхази — великий отрицательный герой, о котором можно говорить только уважительным тоном!
31 Моя дорогая Йоланка!
То фамильное дерево, которое вы прислали в прошлый раз, пожалуйста, нарисуйте снова фломастером. Благодарю вас (Я потерял первое, вот зачем мне это нужно.)
С почтением:
петер(Знаки размножаются. — Фломастер!? Потому что для типографии так нужно! Ни о какой потере и речи нет. Здесь он прибег ко лжи; семейное древо красуется на другой стороне — в отпечатанном теперь, конечно, уже: безупречном виде. Где же невинность?! Как где? Нигде, понятно. И что мы получили взамен? Картину того, как литература активно вживается в мировые процессы.)
См. приписку к седьмой сноске (стр. 188).
32 В этой точке на поверхность всплыло определенное накопившееся желание быть понятым, которое он, судя по всему, — подчеркиваю: мое мнение субъективно! — не удовлетворял. Мастер без обиняков сказал так: «Тот, кто хочет упрекнуть писателя, друг мой, в туманности, пусть сначала окинет взглядом свою душу, есть ли там требуемая ясность. Совершенно ясную запись в полумраке становится невозможно прочесть». Чик-чирик, вот и все. Таким образом он шикарным шведским винтом вернул мяч сделавшему передачу. В этом заявлении была, без сомнений, поза, но и немало сухости. Однако затем, как водится, в температуре произошли изменения в сторону христианской теплоты. (Мы становимся обладателями секретов цеха; новые богачи — наверное, сказал бы он, имея за плечами своих предков.)
Может быть, надо было таскать кирпичи, и мастер так долго смотрел на свои пыльные и слегка, но до боли ободранные о зазубренные кирпичи ладони, что в ряду не осталось места, или, может быть, он не смог помочь при переноске передвижных ворот, или, может быть, у каждого из углов брезента, с помощью какового брезента скошенная трава выносится с поля, было по человеку («Штатский на поле!»), или кожаный мяч с песком закончился прямо у него перед носом, — во всяком случае, мы стояли на каком-то острове спокойствия, вокруг которого происходила суета, что вызывало крайне приятные ощущения. Он, трогая ладонь, теребя форму и пиная оброненные травинки, говорил:
«Знаете, друг мой, глава, спрятанная и откопанная здесь, посреди текста, — это глубокий-преглубокий, прекрасный-распрекрасный, таинственно опасный колодец». Я представил себе колодец. А воду-то из него можно пить? А на пастбище вокруг трава сочная? На что он вспылил, мол, «некоторые» с большой радостью обложили бы его колодец налогом на воду. Он был взбудоражен: уже было начал протискивать к огромному брезенту.
Однако затем он все же направился в сторону шлака. С некоторым — после травы! — отвращением стоял он на черном поле, которое хранит память о стольких продолжительных или нещадно стремительных пробежках. На нем были новые бутсы с высокими, опасными шипами. Он начал ими рисовать. Приходилось странно скособочивать ногу, чтобы «выходил» только один шип. «Знаете, друг мой, это конструкция двухступенчатого колодца». И рассказал поинтересовавшемуся, что как в изначальную ткань романа врезается эпоха Тисы, так и в нее саму — выступление Ракоши. «Проекция, приятель». Ну да, сказал я самому себе со злорадством и гордостью, все-таки в случае с мастером имеются и другие впадины. Сам рисунок был таким:
Очень красивый рисунок. Да еще ногой! Я — да будет вам известно, впрочем, я никогда этого и не отрицал — так, ну просто так люблю цветы и вообще вещи артистические. Но и дорогу, например садовую дорожку, где на параллельных полосках изборожденного граблями гравия отпечатываются легкие женские туфли (знак! след!), дорожка поворачивает, пробегает мимо живописного альпинария, соприкасается с чванливой розовой беседкой etc. etc… не надо, наверное, объяснять подробнее. У меня таким образом выработалось прекрасное чувство симметрии. Бросим взгляд на рисунок. Он симметричен! За это я его люблю.
— — — — —
Мастер появился в кабаке. Это было запущенное местечко, от пола исходил резкий запах керосина, а из кухни — тошнотворный запах рубца, и все было пропитано затхлым смрадом пива. («Да, друг мой, это тот же самый кабак». Забавно устройство времени и пространства.)
Мастер махнул рукой господину Дьердю, тот сверкнул в ответ сводящими женщин с ума, печальными карими глазами и налил пива. В этот момент Шани, король игровых автоматов, громко воскликнул: «Да!» Он выиграл какую-то жутко крупную сумму. Но все-таки, сколько? «Восемнадцать кусков». Не верю. «Я тоже. Но столько он выиграл». (Прим.: восемнадцать кусков = восемнадцать тысяч; современный сленг.)
«Сто роз лафранс для туалетной тетеньки!» Король игровых автоматов радовался, хотя и был привычен к этому, — да, но ведь ставка! «Всех сегодня угощаю!» — воскликнул он. «Да здравствует», — хлопнули ладоши, но не с таким воодушевлением, как «мне представлялось». Король игровых автоматов не был особо популярен. Поговаривали, что он мухлюет. Однажды трое решили его побить. «Взаправду». Привязались к нему на улице К., на углу напротив столовки. Довольно темно было. «Шаньика, ива, закурить есть?» Он, конечно, уже «был в курсе». Вынул монетку в один форинт, щелчком подбросил, а потом, когда она — как и предполагалось — вернулась на место, двумя пальцами согнул. Деформированную монетку он послал в сторону троих «нападавших». «Вот вам, ребята. Можете купить сигарет». И прошел мимо них как мимо почетного караула.
«Одно ставлю!» — махнул он теперь рукой в сторону господина Дьердя. Шинкарь кивнул. Король игровых автоматов ходил вместе с мастером в восьмой класс. «Я очень завидовал его технике метания мяча… Мой рекорд, друг мой, был 32 метра «. У девушек этого, вероятно, было бы достаточно, чтобы занять первое место. «Второе».
Король игровых автоматов обнаружил мастера, который все еще стоял практически в дверях, потому что с тех пор, как вошел, постоянно что-то происходило, отвлекая внимание. «Если мы за чем-то наблюдаем, плохо, если и с нами что-нибудь случается. Потому что мы изменяемся, и тогда уже неизвестно, на чей счет относить наблюдение». (Выдержка из господина Хейзенберга. — Э.) После этого он применил крайне симпатичное, уводящее в дальние пещеры творчества замечание: «Я так быстро отдаляюсь от своих дел». (Мне ли не знать! Мне, который производит эти изменения и таким путем организует дела! И таким путем все больше невыгодно отстает с темпами; размножаются знаки.)
«Привет, Петике. Что пьешь, ива!» — «Здорово, старик». — «Как ты, старик? Ива, давно не видел тебя… Как ты поживаешь?» — «Потихоньку. Бабы, выпивка, наркотики». — «Ребенок?» — «Одна дочка, один сын».[64] — «A y меня два сына». — «А я и не знал, что ты женился». — «Эх-хе-хе, да еще как! Пять лет в кабале. Два года оттрубил в армии, потом чуток пьянки-гулянки, дольче вита, а потом раз-два — и в кабале. С женой, с ребенком уже не попрыгаешь». — «Да уж». — «Хожу сюда, играю на этой хреновине. Небольшая надбавка к зарплате». — «Вижу, у тебя выходит». — «Петике, ива, знаешь, у меня руки как музыкальный инструмент. Техничность и ловкость пальцев».
Они посмеялись. С мастером поздоровалось несколько человек, короля игровых автоматов позвали, и он ушел. Мастер очень любил эти идиотские разговоры, поверхностные знакомства, потому что в них сильнее всего ощущал «неповторимость». Как-то раз он именно этими словами обрисовал понятие родины костлявому другу (Татрушу), собирающемуся на Запад. (Что бы ни говорили. Оно существует.) «Эта «Фанчико и Пинта»,[65] ива, не пошла что-то», — сказал ему один полузнакомый во время матча на малом поле, в перерыве. «Я тривиален, друг мой». В этот момент он вдруг, со скоростью звука, увидел одного из спортивных агентов. К тому времени он давно изволил что-то подозревать, в деле с перерегистрацией не было никакого продвижения. Он сожалел. «Ну, какие новости, шеф! — сотрудник секретных служб весело хлопнул упомянутое по плечу. — Какие новости? Защищаемся или нападаем?» Приземистый коротышка черным по белому: покраснел. «Вот что я скажу, Петерке, в жизни не видал такого, честно скажу, чтобы футболист просил такую работу, где…» Он даже слово это не стал произносить: работать. Опустил голову. «А потом руководство постановило оказать доверие доктору Мока», — «Ясно, старик», — сказал он, и только не слишком симпатичный субъект его и видел.
(Об этом случае рассказывали по всему окраинному району: «Знаешь, почему не подошел старший брат Эстерхази?» и т. д. Так преданность — в фальшивом образе случайного и бессовестного спортивного руководства — выиграла битву. Конец. «Друг мой, этому мотиву перерегистрации пришел конец, как писюлям в Сахаре». Мастер в похвальном слове использовал слово «песок», я же, вследствие важности и масштаба предприятия, произвел данные изменения. Выбор был сделан между точностью и правдой. «Итак, mon ami. He правда ли. Если я один из самых — — венгерских — — — — — , та легкая великосветскость, с которой я переодеваю искусство в чистое, — очень даже вызывает опасения», — и он ужасным жестом погладил подбородок.)
Центром событий стало внутреннее помещение, рабочий кабинет, страна четырех королей. В распоряжении картежников были самые что ни на есть ветхие столы, под ножки которым господин Дьердь подсунул скомканную бумагу. (В таких случаях картежники проявляют недовольство.) Если места оказывалось недостаточно, пылкие добры молодцы устраивались даже за бильярдным столом, рискуя погибнуть под белыми пулями. (Я имею в виду шары из слоновой кости, которые наш дядя Флутер — чемпион округа Сольнок — далеко посылает кием.)
Тарок на копу. — «Тарок в бито». — «Помогает терс-мажор, двадцать очков» — «Контра!» — «Реконтра, взятка!» — «Реконтра!» — «Суперконтра!» — «Держу ставку!» — «Инвит!» — «Северный связующий железнодорожный мост!!!»
«Господа, успокойтесь», — угрожающе произнес сквозь зубы господин Дьердь и вышел из-за стойки. «Кто этот говнюк?» — спросил он у мастера. Тот посмотрел на господина Миксата, который вел великое карточное сражение, лоб у него блестел, слышалось громкое сопение. Перед ним красное вино. Господин Дьердь, не дожидаясь ответа, кряхтя от боли в пояснице, поспешил обратно к своим делам. Мастер взял стакан со стойки, пододвинул стул к господину Миксату и стал следить за игрой. «Знаете, друг мой, вот это было действительно бесплатное вино». В те времена господин Марци в качестве награды за свои золотые ноги то и дело получал даже вино, перепадало и мастеру; однако вино Миксата было все-таки бесплатнее! Мастер был в финансовой ситуации. Незадолго до того крайне рассеянно прошла встреча двух поставщиков вина. Мастер и господин Миксат шли вдоль аллеи из тополей, пространно, дружески беседуя. Мастер скоро пришелся господину Миксату по душе, процесс начал стремительно набирать обороты после того, как господин Миксат узнал, что мастер, подхваченный очищающим вихрем истории (тоже), научился сначала говорить на языке палоцев и только потом по-венгерски. Перед семейным домом господин Марци как раз поверхностно подметал тротуар. (Я говорю не о поверхности тротуара, а так, чтобы применить средства сатиры.) Дым стоял коромыслом; что там устроили пыль и письма! Мол, вечный бой, покой нам только снится! Господин Марци, как увидел господина Миксата, так и, бум-м, уронил метлу, и та как будто упала в обморок. «Что за ястребиные усы!» — сказал он с нескрываемой завистью. (Я не случайно использовал выражение «упасть в обморок» выше. Потому что если господина Марци во время подметания тротуара или разгребания снега поражала направляющаяся из медицинского училища к электричке группка девчонок, тогда господин Марци, если была охота [а, как говорят: охотник он великий], закатив глаза, просто падал в обморок. Те его давай оживлять [искусственное дыхание, проявление элементов материнского инстинкта и т. д.]. А он чуть дышит. Мать мастера теперь уже и не знает, плакать ей или смеяться над беспримерной ленью своих сыновей!.. — Тому, что они, напр., даже тротуар не хотят подметать.)
«Какая улица, говоришь, приятель? — применил мастер выражение своего младшего брата. — Улица «Усачева»?» — «Что за усы, как у сома! — сварьировал господин Марци и потрепал господина Миксата по плечу. Господин Миксат в крайней растерянности стоял в гуще семейной жизни. — А у меня, вум-м! будут усы как у моржа!» Скрючив пальцы, он поднес руки к несуществующим усам, задрал верхнюю губу, как кусачая нутрия, и продиктованным рядом звукоподражательных звуков «вум-м» движением тряхнул обеими руками вперед, как если бы они соскальзывали по изгибу гигантских обвислых усов. «Вум-м! Вот такие!» Миксат и Эстерхази, два видавших виды светских льва, с улыбкой переглянулись. «Молодо-зелено!»
Господин Миксат чувствовал себя ну прямо в своей стихии: составилась партия в карты, и вино убывает. «Садись сюда, сынок, поближе к старику». — «И наклюкались же мы, друг мой». Однако ситуация не так уж примитивна! Из уличного сумрака возникли двое полицейских. Вокруг игрового автомата началась мелкая возня, шевельнулись погруженные в карманы руки, но больше ничего не произошло, только господин Дьердь услужливо вскочил, его сознание определялось бытием. «Что прикажете, господа стражи порядка?». — «Мы на службе». Господин Дьердь подмигнул мастеру и побежал наливать пиво. Господин Миксат весело тасовал волшебные карточки. Молодой белокурый полицейский пристально смотрел на мастера. «Скажи, дядя Кальман, — обратился он за опытом к старшему коллеге, — ты никогда не нервничаешь?» — «Чтобы я да психовал? Ёкалэмзнэ, с какой это стати?!. Не такой я маленький человек, чтобы замечать или не замечать правительство. Мне это совершенно безразлично. Я замечаю только Венгрию». Раздали, он посмотрел в свои карты. Карты он тоже замечал. «События так или эдак, рано или поздно, все равно произойдут. И насколько я знаю соотношение сил, а его я хорошо знаю, — пухлой рукой он любовно погладил промасленные карты, — я еще и выиграть могу».
Полицейские выпили пиво, ушли. Господин Дьердь позвал мастера. «Знаешь, кто был белобрысыйфараон? Чурес. Помнишь, из юниорской?» Мастеру вдруг вспомнились лимоны. «В юниорской нам всегда выдавали лимоны». Их приносил в бумажном пакете крошечный отец тогдашнего Левого Связующего. Разрезал прямо у них перед носом, весь перерыв у них текли слюнки, и, по сути дела, старик заканчивал только к концу перерыва. Тогда каждый получал по порции и, морщась, съедал. Можно было даже попросить добавки. Мастер часто смотрел сквозь тонкий ломтик на солнце. «Почему в наши дни нет лимонов?» — «Было доказано, — ответил как-то раз господин Арман, — что от них нет пользы». Господин Арман наморщил лоб. «Помидоры с солью лучше». — «Ты это так говоришь, ива, — набросился мастер на своего тренера, — как будто нам их выдают».
«Словом, Чурес. У него была хорошая левая, только много выпендривался. От него тоже шарик можно было получить только после дождичка в четверг». — Господин Дьердь любил пословицы-поговорки. А уж если он к одной привыкнет! Они с господином Марии неделями их трубили! Когда, например, он был вСеверной Венгрии у костоправа и возвращался домой по большому холоду, холод он передал так: «Белые медведи, старик, просто умоляли, чтобы я их впустил в загон». Он показал руками, как умоляют. Неделями по дому разносилось: «Белые медведи…» и т. д. Мастер спросил: «Лучше тебе?» — «Не знаю», — заныл великан. «В прошлый раз он проверял алкогольным зондом батю Шани. Старик здорово накачался. Велосипед шел домой на своих двоих, как лошадь. А тут Чурес, трубку сурово держит. О, Чурес, рыгнул старик. Помнишь, как он раньше кричал на стадионе. Помнишь? Пас, Чурес! Аж уши закладывало. Вдыхайте, дядя Шани, не дуйте, вдыхайте, подсказал потом шепотом Чурес. Так его и пронесло… Знаешь, на сколько бы его обули? Три куска, ива, три куска. Ребята с кирпичного завода уже два раза подлавливали Чуреса, потому что вел себя как свинья. Отдубасили его как следует». Мастер сдержанно кивнул. (Он держался несколько в стороне от форменной одежды.)
Господин Миксат страстно играл в карты. «Сказал я прямо Йокаи в глаза, что намного лучше играю в тарок, чем он. А ты, дядя Мориц, намного лучше пишешь, чем я, — и это тоже кое-что. Так ему и сказал». Мастеру пришло в голову множество голенастых, покрытых варикозными венами литературных ног, и он подумал относительно футбола то же самое, что господин Миксат — относительно тароке. «И это тоже кое-что». В этот момент, замысловато вывернув руку, которая дотянулась до потайного, глубокого кармана, он изволил извлечь на поверхность теннисный мяч. Мяч покоился в его ладони. Ворсинки примято жались. Что бы это значило? «Послушайте, друг мой, — слегка раздвинул он горизонт с такой естественной простотой, с которой иной растягивает штаны, — на самом деле мы учимся лишь на тех книгах, о которых не можем составить суждение. Автору, — он изволил скромно улыбнуться, — о книгах которого мы можем судить, есть чему поучиться у нас». Согласен!!!
«Послушай, дядя Кальман, вот твой живот». — «Ну… да, вот». У мастера вырвалось признание. «Дядя Кальман, я влюбился в твое пузо». Господин Миксат прыснул в стакан. «Да чтоб тебе!» — зажмурился он, потому что и в глаза тоже попало вино. «Дядя Кальман, мой милый старый предшественник, я бы хотел провести над тобой эксперимент». Он подбросил теннисный мяч до уровня головы, затем, когда махонькая ладонь вновь обхватила его, раза два дал запястью спружинить; надув губы, измерил вес. Мастер здорово это умел. «Эксперимент». В поросячьих крошечных, но горящих живым блеском глазах господина Миксата читался страх. Продолжая подбрасывать теннисный мяч в каком-то странном ритме, о котором однажды кто-то с исчерпывающей подробностью и аналитической точностью доказал, что это есть не что иное, как т. н. ритм сердца, и как поразительно то, что биение человеческого сердца — почти — затихает, — он изволил начать урок:
«Сиди, пожалуйста, неподвижно. На твое пузо сверху, вот так, я кладу мяч, вот так, который потом скатится вниз. Целью эксперимента является выявить, когда мяч покинет жилет с металлическими пуговицами. Очень тебя прошу, милый старик, не отрыгивать, и вообще, создать условия». У господина Миксата от растерянности сперло дыхание. «Вот-вот, — одобрил мастер лабораторные условия. — Вот-вот! Даже воздух нельзя!» — с этими словами, поправив жилет на господине Миксате, он положил на пузо мяч. Отодвинулся вместе со стулом назад, голову склонил набок. К тому времени вокруг стола уже стояло много народу. «Как это», — сказал господин Миксат. Народ знал, в чем суть дела, и улыбался. Мастер попросил тишины. «Ап!» — воскликнул он и с этими словами просто выпустил находящийся в вытянутой руке шарик. Обрамляющие ладонь пять растопыренных пальцев образовали терновый венец. Мяч отправился во фривольный путь, затем приблизительно в первой трети пуза отделился от него. «Теперь! — воскликнул мастер весело, потому что до тех пор все шло как по маслу. — Видите, сладкий мой, совпадает! — Он опирался на свою основную специальность. — Друзья мои! С поверхности полусферы радиусом R, находящейся в состоянии покоя, груз с нулевой начальной скоростью соскальзывает без трения».
Вопрос мастера, ни больше и ни меньше, состоял в том, где груз отделяется от поверхности сферы. Рассмотрим следующий рисунок:
Груз отделяется от поверхности в тот момент, когда необходимая для центростремительного ускорения сила становится больше составляющей веса груза, направленной к центру сферы.
Центростремительное ускорение: V2/R; следовательно:
mg cos α = mv2/R (1)
С другой стороны, из равенства потенциальной энергии и энергии движения следует:
mgh = mv2/2
Из последнего уравнения, выразив ν2, подставив в (1) и выразив оттуда cos α, получаем:
cos α = 2h/P (2)
Непосредственно исходя из рисунка можно записать:
соs α = (R-h)/R (3)
Из сравнения (2) и (3) следует: h = R/3
Господин Миксат постепенно приходил в себя. «Прокисли у тебя мозги, сынок, как вино у Кальмана Седла». Мастер, избегая взглядов, вновь установил теннисный мяч. Тот немного перекатывался, он легкими, кружащими движениями отыскивал его место. Что-то нашептывал. «Знаешь, дядя Кальман, такое пузо великолепно. Воплощение духа и достоинства…» Он рывком забрал мяч, на руке вздулись мышцы. (И одна вена, как у силачей.) «Скажи, дядя Кальман, ты в самом деле намеренно и сознательно играл в тарок с Тисой?» — «Ну, если не хватало четвертого», — сказал спокойно мастер едкого анекдота, который избегал Йокаи и декадентов, с успехом ведя борьбу за голос, который был способен стать отражающим реалии эпохи зеркалом. «Ну, если не наберется четверо то как же нам играть Пашкевича?[66]«- продолжал он с обидой размером с муравья. Мастер понимающе кивал. «Да уж… играть в тарок с Тисой… Неслабо!» — мечтательно сказал он в продолжение. (Неужели это — решение? «Друг мой, — сказал он уныло, — вот решение: h = R/3».) Сжимая в ужасе видавший виды теннисный мяч, свободной рукой — потому что таковой являлась одна его рука: свободной — он замахал. «Но я не знаю ни одной карточной игры. Только вист…»
(Ну вот, снова интересное место — как дыра в окружающем женский солярий заборе, намерения наши, конечно, не подлежат сравнению! — наблюдать за тайными изгибами в искусстве, за дряблым, но сосредоточенным духом, глаза потуплены, конечности раскинуты, и все, все открыто навстречу чудесному, льющемуся золотому свету солнца. «Доводилось ли вам, несчастный мой друг, бывать в женском солярии?! Могу вам сказать, что вряд ли найдется что-то менее отвратительное». Здесь речь идет о тайном признании: он ввиду женского солярия чувствует себя аутентиком, поскольку им и является, здесь следует стыдливый поклон, одной душой и телом с мадам Гитти! Итак, беспрепятственно возвращаясь к скрытым течениям в искусстве, очищению в клубах пара, неустойчивой и намеренной красоте цветов и запахов: да будет уважаемому и наблюдательному Читателю известно: он и в «шестьдесят шесть» — или в «шесть-шесть»? — умеет играть! Вам самим точно так же, как и мне, известно, что такое данное слово. Я знаю, что изменились отношения — связь между орудиями производства, производственными отношениями, производительными силами и т. д., — однако благородное поведение остается тем, чем было. Потрясенно осознаю в данную секунду: он сказал неправду [в том смысле, что и в «шестьдесят шесть» умеет играть, а не только в «вист»]. Однако положим торжествующе руку на сердце: эти заблуждения очевидно не равнозначны. Есть чисто субъективные, случайные промахи. Мы знаем, что даже такие гиганты литературы, как Толстой, не были застрахованы от ошибочных взглядов. Однако же Толстой был правдивым зеркалом русской революции! — я считаю, то, что можно было выяснить, мы здесь выяснили.)
Господин Дьердь перестал церемониться. «Да-амы и Г-господа! На выход, на выход. Гр-рус-стный момент». Бросал горестный взгляд на кого-то. «Батя, завтра, — всхлипывал он, — завтра встретимся». Затем прогремел, как спущенный с цепи фельдфебель: «Закрываемся, едрить твою налево! По домам, по улицам, по крышам, по сторонам, всех ждет домашний уют. А завтра Джорджо!» Все стали собираться, лишь пощелкивал игровой автомат. Тогда господин Дьердь выбрал чрезвычайно простое, но тем более действенное оружие. Выдернул штепсель. Поднялся угрожающий ропот: «Не дури, граф!» — «Не страшно было?» — спросил мастер на более поздней стадии у младшего брата. «Я бы его задавил», — ответил здоровенный парень. «Но он здорово дерется»; — «Ниче. На случай, если запахнет жареным, была там парочка корешей». — «Гм-гм», — хмыкал мастер.
«Знаете, друг мой, я еще никогда никого не ударил. Только своих младших братьев». Эхе-хе, старые добрые времена, когда мастер в бараний рог скручивал щуплых братцев! Например, дошло даже до того, что он объявил Конкурс Мордобития! Кто выдержит от него больше пощечин! «Как если бы я, друг мой, был сама Жизнь». На конкурсе с большим преимуществом победил господин Михай, который с посинелыми губами выдержал хлопки, шлепки и т. д. 212 ударов. О нравственной высоте мастера говорит то, что господин Михай — по собственному признанию — не собирался останавливаться на двухстах двенадцати, а хотел побить рекорд; однако же до этого дело не дошло. Ему надоело, да и стыдно было. Господин Марци продержался до пятидесяти шести, а потом «вылетел». А господин Дьердь даже участия не стал принимать, со страхом сказав: «Нет». Уже тогда он физически был сильнее мастера, но больше года не осмеливался дать сдачи, укоренилось (крепостное) сознание. Для мастера расположение сил также не было секретом; очевидно, поэтому он вел себя по отношению к господину Дьердю еще более агрессивно, вызывающе. «Мерзкий был год». Он изволил насаждать подлинный гнет, полицейскую диктатуру, со шпионами, казнями, сфабрикованными обвинениями, процессами, несметным числом пощечин, развевались перья жандармов, до тех пор пока господин Дьердь ему так не дал по морде («вдарил»), что мало не показалось. Он смел все: кровать, диван, вазу, книжную полку, — все. После этого они всю вторую половину дня проплакали в саду под гамаком, и таким образом ситуация была разрешена. Господин Дьердь настолько сильнее мастера, что о драке и речи быть не может. Не то что господин Марци! Там уже нет той безмятежности, господин Марци и так-то менее почтителен, чем господин Дьердь. Господин Марци способен по сей день, даже после критических признаний, выворачивать его — в прочих случаях — держащую перо правую руку, и когда мастер изгибается буквой S, доставая лбом до знаменитой правой ноги господина Марци, тот цедит: «Сволочь! Сейчас ты заплатишь за все страдания! Рассчитаешься за все преступления, которые совершал против меня в течение долгих лет». — «Но, Марцика, — визжит авторитетный труженик пера; без сомнений, он представляет собой в этот момент жалкое зрелище: может быть, только братская любовь может подсластить пилюлю, — но, бесценный мой Марцика, я и в прошлый раз уже рассчитывался». Господин Марци отпускает мастера, наподдает разок, если есть настроение, так, что тот опрокидывает два стула и приземляется у батареи; господин Марци задумывается над словами мастера. «Ничего, — возникает у него идея. — Еще раз рассчитаешься», — и с поднятым кулаком направляется к извивающемуся на полу мастеру. «Сумасшедшие», — сухо улыбается мать мастера.
«Знаете, друг мой, тот удар пришелся как нельзя кстати. Хотя мог бы все-таки быть полегче. Уже очень утомительно было насаждать террор. И скучно». Отмечу здесь — хотя, может быть, где-то в другом месте это привело бы к меньшим недоразумениям, однако иногда — простите меня! простите! — я бываю сыт по горло этим трезвоном, тем, что мастер из огня скачет в полымя, что порядочная, располагающая к себе схема изложения, точнее, линейный ход вещей, уже практически стали недостижимой мечтой, что, однако, более чем странно, во всяком случае утомительно, и поскольку хотелось бы поколебать оказанное доверие: то тематически или хронологически совместимое, я стараюсь совместить; д-да, понесло меня, — значит, мне следует добавить, что удар, похожий на удар господина Дьердя, получил он еще однажды, в августе 1968-го, на берегу венгерского моря; после того как они небольшой компанией («практичная смесь парней и девушек») перелезли через шлагбаум перед ними вдруг выросли пожарные на своей маленькой, симпатичной, красной машине, с соответствующим персоналом. «140 ф-ов», — сказали они. Мастер стал препираться относительно практической стороны дела, штраф ему казался большим (отметим: он и был большим; с другой стороны: через шлагбаум дисциплинированный гражданин практически никогда!..). Последовавший спор проходил на повышенных тонах, мастер «рта не закрывал». В этот момент, как будто из-под земли вырос, из тени платана вышел какой-то мужчина и без спешки подошел к мастеру, который как раз излагал людям в форме свою любимую теорию, а именно, что он протестует против применяемого к нему тона, они мастеру не начальники, мастер им не подчиненный, и несмотря на то, что они тоже не подчиненные мастеру, однако стоят на страже режима мастера, за это он, мастер, платит налоги. (Это было ужасно милым преувеличением, ведь тогда он еще не платил налогов, а как раз сдавал выпускные экзамены и считал, что мир принадлежит ему. С этим ребяческим подходом мы здесь можем столкнуться на каждом шагу.) Тот платановый спокойно подошел к мастеру и, не размахиваясь, так ему врезал, что — как после удара Брюса Ли — тот немного приподнялся над землей, затем отлетел назад, описав плавную дугу, прямо на деревянный забор, который медленно обвалил. «Знаете, друг мой, на другой день я долго там околачивался, с плюшкой в руке, и думал о себе с почтением, адресованным мощности удара. Однако на следующий день забор уже стоял, ничего нельзя было увидеть, и я сам руководствовался лишь платановым деревом». Забор обрушился, медленно, как бы бросившись вслед за мастером (потому что он-то его быстро проломил). Было не больно, мало того, мастер хотя и не видел во время своего полета испуганные, большие птичьи глаза одной конкретной «блондиночки», но мог их представить и на мгновение подумал: как ловко у него вышло, малой кровью стал героем, объективный наблюдатель («Только не я, mon ami! Я могу пообещать быть искренним, но не беспристрастным») посчитал бы ситуацию достаточно запутанной, ни тот, ни другой не были правы, да ничего страшного бы не было, но в тот момент он вдруг очень испугался, очень. Итак, этот удар по морде пришелся не вовремя.
«Не дури, граф. У меня осталось еще пять бесплатных игр». — «Хорошо, приятель. Заплачь еще. Но чтобы не пустить тебя, приятель, по миру, приходи завтра за пять минут перед открытием, поимеешь ты свои пять игр. Еще и пива стакан бесплатно налью», — бросил господин Дьердь свысока и без раздумий вытолкал компанию в замшелую тьму улицы. Господин Дьердь не выносил мелочности в любом проявлении; ему было даровано доброе сердце, на пару с неуемным эгоизмом. «Ну, старик», — ласково обратил он предназначавшийся мастеру взгляд на господина Миксата, которого выпивка хоть и не брала, но теперь немного «разморило». Неуверенно двигаясь, он распрощался с партнерами, погладил мальчугана с пианино, который виртуозно играл йессер, по белокурой голове. «Мьюзик», — удовлетворенно кивнул господин Миксат, истинный талант, который смог стать творцом своей судьбы, а не ее пленником, как это бывает с половинчатыми талантами; без сомнений, путь его был труден: много было парализующей, опутывающей душу лжи, а поддерживающей силы рядом не оказалось но он все равно смог — хотя и относительно — отвоевать внутреннюю независимость: он смог стать заступником в делах народа; подражая ему, далеко не уйдешь, но у него можно и нужно конструктивно учиться — не только профессиональным тайнам мастерства, но и писательскому достоинству. Мальчик выволок пианино, ловко огибая ботинки, мастер склонил голову. «Пивная пена растворяется с легчайшими хлопками!»
«Ну что, старик, еще бы одно красненькое с минералкой… мелочи нет, да?… завтра занесете 40 филлеров». Господин Дьердь поддразнивал его, выпендривался, мастеру это и нравилось, и нет; вот большой, статный человек посмеялся вместе с ними, а потом, как человека, под коротким летним ливнем за мгновение ока промокшего до нитки, его внезапно охватила усталость, и, кряхтя от боли в пояснице, он отправился выводить баланс. «Славный парень», — сказал господин Миксат, когда они вышли в тяжелую летнюю ночь. Мастер незаметно, но с большим интересом оглядел поджидающий там «трабант» господина Дьердя. Оборачивая дело в шутку, он не узнал, есть ли в универсаме свежий опреснок; но с пристальным вниманием изучил накарябанную на грязном стекле надпись ГРЯЗНАЯ. «Видите, друг мой. Машина, вне всяких сомнений, грязная. Там так и написано: грязная. А там, где стоят буквы «г», «р» и «я» и т. д., там какая? Вот как раз там-то она чистая. Очень интересно то, mon ami, что слово «грязная» передается чистотой. Это можно сформулировать так, что беззащитная чистота указывает на нечистоплотность, предательство и т. д.» — «Эх-х, зачем выискивать во всем мораль».
До остановки электрички два писателя-реалиста почти не сказали ни слова, их силы уходили на ходьбу — сложное желание, заставляющее плясать под свою дудку душу и тело. Один раз безостановочное движение прервалось, господин Миксат вцепился в мастера, как в кулек с фисташками, и так посмотрел на мастера, чтобы тот почувствовал: сейчас последует нечто поучительное. Однако затем они изволили отправиться дальше. В электричке господин Миксат тихо что-то мурлыкал. Парень контролер остановился перед ними: «Мой последний заход». Однако, увидев их замкнутое покачивание головой, удалился. Обернувшись, сказал: «А спортивный образ жизни, Петерке?» — «Буду играть за половину бабок», — ответил он с вялым юмором. (Кальман Миксат снова ехал «зайцем».)
Транспортное средство остановилось. Господин Миксат выглянул в окошко, а потом с испуганной поспешностью дернул дверь. «Филатори Гат». Сполз вниз. Обернулся. Посмотрел на мастера. «Пока, сынуля». Теперь они оба проснулись. «Блин, — сказал старший из них снизу, кисло рассмеявшись, — ну и бестолковый сегодня мир, но, Боже мой, вчера он был такой же бестолковый. И завтра наверняка тоже будет. В этом есть нечто утешительное».
Современная, автоматически закрывающаяся — однако вручную открывающаяся! — дверь с громким лязгом, как гильотина в отпуске, захлопнулась. «Утеши бум-м!» — практически проглотила она слово господина Миксата. Хвостик слова; головотяпка. Двери закрылись, но электричка еще не тронулась. В окне, ставшем до какой-то степени зеркалом, мастер мог одновременно видеть самого себя и господина Миксата. Мастер внимательно изучал устройство своего глаза, то, как длинное переходит в короткое: его патлатые кудри — в колючий ежик старика.
На черном фоне — свечение его волос, в их обрамлении — прозрачное лицо. Ну вот, а в его обрамлении виднеется лицо господина Миксата! То в промежутке между двумя пухлыми щеками появится рубильник мастера, а то — о чудо! — над розоватыми губами мастера закручиваются усы (коршун? сом?). А глаза! Сверкают друг на друга, как два драгоценных камня в витрине. («Рядом с ними, mon ami, кусачий ценник».) Электричку тряхнуло, мастер ударился виском о поручень. Подскочил к окну, прижался лбом, выглянул наружу. Но не увидел никого знакомого, лишь большое столпотворение, на ткацкую фабрику спешила ночная смена. Господина Миксата нигде не было. Вот шельмец! Наверняка уже прошмыгнул вслед за молодой девушкой с вертлявым задом, которая работает здесь ткачихой, и теперь ей повысили почасовую оплату с тринадцати пятидесяти до пятнадцати; хотя ткачихи работают, скорее, сдельно.
Я намеревался привести здесь одну из его бесчисленных записок, которые окружают мастера во время работы, «прямо как маленькая семья». (Вот видите, на примере этого микроскопического сравнения можно застигнуть врасплох художественную беспощадность, которую он применяет по отношению к себе, и эгоизм, каковые качества, несомненно, помещают его семью, теперь уже людей из плоти и крови, в невыгодное положение. Но, несмотря на это, мастер — мужчина серьезный, надежный и бескорыстный. В нем есть одиночество, свобода, душевная страсть, крупномасштабная оптика, вера в себя, а также близость к грехам и безумствам; хотя присутствуют в нем и человеческие качества: немного чувства, страсть, любовь. Однако все это чистая импровизация. Да, вот каким он изволит быть.) Мастер вместо приведения здесь записок удалился с упомянутыми в свою святая святых, чтобы за несколько часов кропотливого труда — фломастером! — создать так наз. спонтанную записку (см. след, стр.). Над чем я все-таки
в душе забавлялся, поскольку, как выясняется, и у человека такого масштаба есть свое маленькое тщеславие.
33 Идет кисонька из кухни, У ней глазоньки опухли, Повар пеночки слизал И на кисоньку сказал!34 (воскресенье для тунеядцев) Донго Митич сияла улыбкой, мастер во всем блеске отцовства стоял там. Шелковистые, тонкие волосики девчушки рассыпались по воздушному лбу, а также сзади по шее. На щеках розами цветут здоровье и жизнерадостность. «Не-ет, папка, не-ет», — последовал протест. Мастер заискивающим голосом затянул песню. (Его отношения с дочерью покоились на искренней, дружеской основе, но не были лишены некоторых дидактических приемов.) «Идет кисонька из кухни, — вздохнул он, — у ней глазоньки опухли!» Таким образом, с отвлекающими приемами дела обстояли хорошо в тот момент, когда Миточка неосторожно наступила на резиновую собаку (на своего лучшего друга гривастика-ужастика с большой головой) и впечатляюще упала. Розовый ротик скривился; вот-вот расплачется. «Не реви, коммунисты не плачут, — отдал молодой отец плачу приказ «смирно», с немного пошлым и довольно антиисторическим шалтай-болтайством, — не реви, жизнь тяжелая штука… Однако продолжим!» (О, память, лгунья с осиной талией! Так вот, ситуацию, личность: говоря нескромно: суть — лучше помню я! Но слова! Слова уже только, как навьюченный осел в моей жизни, теперь являются простыми посредниками. Мастер относится к этому несколько по-иному. Все это должно было прийти мне в голову в силу жесткой логики. В самом ли деле он изволил сказать: однако продолжим? А не: однако же продолжим? Или взял [?], да и просто продолжил? Не введет ли это в заблуждение? Не являетесь ли вы рабами содержания точно так же, как я сам, благонадежный интеллектуал, или с удовольствием окунаетесь в сомнительную пену формы, стиля???Я вот думаю о чем-то, а потом в другой раз подумаю об этом же и вдруг, не знаю, о том же самом я думал или нет… Но затем закрою глаза, подумаю о мастере и без всяких яких начинаю абзацвот так: прохладным, солнечным воскресеньем сентября месяца 19… года — и так далее. Видите, господин Дежэ! Такая у меня легкая рука. Больше всего меня бы порадовало, если бы как можно больше читателей подумало: с ним произошло то-то и то-то [это был бы он сам], теперь он это рассказал, и… [тремя этими точками также был бы он]. Я — сердце, полное надежды. Однако продолжим! [Sic!])
«Но, послушай, я тебе хороший отец: давай я тебя в лоб чмокну, и баиньки». Лицо дитяти просветлело, и, соединив неуклюжий шажок и подъем на цыпочки, она прижала свой лоб к отцовским губам. Последовал чудесный концерт, скажу я вам. «Знаете, друг мой, Гайдн, без сомнений, был бы мне рад». — «Видишь, Дэйна моя, это был настоящий, фирменный папочкин целебный поцелуй! Спроси у матери, как он хорош!» — «Петер!» За это время мадам Гитти вышла из ванной, она присела на корточки, и джинсовая юбка многообещающе завернулась.
«Итак, кратко перечислю наши успехи на данный момент, — молвил глава семьи, — идет кисонька из кухни, у ней глазоньки опухли. Вместе с тем продолжу: повар пеночки слизал». К этому времени как мужчина так и женщина с маленькой Дорой-борой улыбались, к чему-то готовясь, мало того, мадам Эстерхази нежно провела указательным пальцем под носом У Донго Митич. «И на кисоньку», — взволнованно сказал мастер и выжидательно наклонился вперед. +И на кисоньку», — сказали супруги в унисон. Миточка (вообще-то: лучший лева, главная глухая рыба, иногда даже маленькая скотинка на убой) героически выдерживала момент. Раз, два, три, четыре: «Сказа-ал!» — выкрикнула она наконец, и несколько «а», конечно, заглушит хохот. Авдотья Егоровна снисходительно погладила лица родителей. «У твоего ребенка произношение, — сказал мастер с иронией, — как у плохого Диссидента». — «Ну да», — перебила на полуслов
— — — — — -
Эстерхази
(сочинение)
Эстерхази — имя существительное. Название одной семьи. Они христиане. Хорошие люди. Однажды один Эстерхази умер. Священник его похоронил. У бедняги было двое маленьких детей. Упокой, Господи, его душу?
Почему не прав тот, кто эмигрирует?
Многие уезжают жить за границу. То, что они покидают родную землю, большая ошибка. Что было бы, если бы все уехали из Венгрии? Многие эмигрируют потому, что у них зарплата, иногда работа лучше, чем здесь. А ведь и зa границей есть плохие вещи! И если они не хотят, чтобы Венгрия отстала, пусть они лучше помогают своей родине. Здесь на счету каждый отдельный человек! Здесь почет труду, а на Западе — деньгам. Но почему еще люди хотят уехать за границу? Может быть, из-за красивых мест? Так ведь они и дома есть. Здесь синеют воды Балатона и влечет туристов вершина Кекеша. Помимо этого: система здравоохранения в странах социализма на высоте. Если в другой стране кто-то заболевает, то теряет целое состояние. А у нас здесь есть поликлиники. А сколько светлых голов дала Венгрия миру! Ее успехи в области культуры следуют один за другим. Недавно с оглушающим успехом прошли концерты хора Венгерского Детского Радио. Наши народные танцы известны во всем мире! Маленькая Венгрия тоже пробивалась вверх все эти годы! А сколько у нас бывает иностранных гостей! Летом ими кишат Балатон и Хортобадь. Интересно, что для некоторых людей красивы только другие страны. Я же считаю, что «другой отчизны не ищи и смертный час тут встреть, в беде иль в счастье должен ты здесь жить иль умереть[67]».
В лагере куруцев
Рыская по лесу, подлые немцы обнаружили на поляне лагерь куруцев. Ликуя, вскочили на своих усталых лошадей и во весь опор поскакали к своему командиру, подлому атаману шайки с тонкими, как спички, ногами и носом как у сороки.
Куруцы, ни о чем не подозревая, пели, готовили обед. Сторожевые в камзолах из волчьих шкур, черных сапогах и красивых бархатных колпаках зорко охраняли покой лагеря. Вожди, сидя в своих шатрах, разговаривали о лабанцах. Что это за низкие негодяи: нет чтобы помочь — пришли занимать нашу родину! Выродки!
Но что это?! Лошади заволновались. Чуют дух лабанцев, шутливо вставил один солдат. Там же трещит хворост! Тревога, по коням! Началась кровавая битва. После двух часов смертоубийства лабанцев победили. На этот раз вышло, но как-то будет в следующий? — вздохнул кто-то. Мертвых похоронили с подобающим почетом.
Из этого видно, какой это был смелый, любящий родину народ. Они были способны оставить свои семьи, чтобы защищать нашу маленькую родину, к сожалению безуспешно.
Мое выступление на жилищном собрании
Уважаемые товарищи жильцы! Во-первых, хотелось бы поблагодарить Кароя Мате за то, что он устроил так, чтобы автобусный маршрут захватывал и проспект Каласи, но, к сожалению, есть и недочеты, хотя их все меньше. Приходится решать новые проблемы. Во-первых, автобусный маршрут. С тех пор как было наводнение, он перестал ходить по старому маршруту. Это большой минус. Необходимо также установить новые весы. Благодарю за любезное внимание и прошу довести мои претензии до сведения вышестоящих инстанций.
— — — — — -
е женщина и влюбленно ответила на его взгляд. (Это с моей стороны прием сжатия формы: поскольку это значит, что до песни мастер влюбленно посмотрел на нее.) Миточка классически сияла улыбкой, находясь между супругами, немного впереди, чтобы вышла хорошая фотография.
Ну, что там говорить, мастер — чудное создание. Сядет или встанет где угодно, во всяком случае, среди людей серьезных, которые за деньги, из энтузиазма или по другим легко понятным причинам выполняют — иногда, бывает, и небезупречно! — свою работу, и вдруг возьмет и скажет: «Вчера в «Глухую рыбу» играли, я наконец-то занял первое место». Вздыхает и со скрытой гордостью оглядывается по сторонам. Не будем подробно разбирать последствия такой краткости. О чем здесь речь? «О композиции Мастер-Миточка». — «Мы — две глухие рыбы». — «Карп». — «Ладно, только плавники держи как следует». Она держит как следует. «И тогда, друг мой, надо начать ходить по комнате, бесшумно, мелкими шажками, в отчаянье раскрывая рот. Это и есть глухая рыба». В жюри — Фрау Гитти, она строга, неподкупна. Миточка занимает первое место, мастер — второе. И в таких случаях он подробно разъясняет ценность серебряной медали, потому что «голубушка, в случае с таким строгим жюри вполне может случиться так, что ты будешь на втором месте. Это тоже нада цанить». Так он подготавливает девочку к жизни. И в самом деле, наступил момент, когда первое место занял мастер. Но поучительного примера из этого, хе-хе, не вышло, потому что Миточка Дейна в свою очередь второй не стала. «Папочка, я не глухая рыба, я Дора». Пиф-паф.
Вернемся к нашим баранам, прохладному воскресенью сентября месяца, — тот день начался уже утром. «Это не глупость. Ведь сколько таких дней, которые даже в полночь не…» Мастер проснулся точно в полвосьмого. Продолжительное потягивание сопровождалось незнакомым треском. «Знаете, друг мой, — сказал он на более поздней стадии, — знаете, такое, наверное, ощущает на войне солдат: протянет было руку за подарком маркитантки, каковым является сама маркитантка, когда: тра-та-та-та-та. Волосы у молодого солдата вздрагивают, как будто под дуновением ветра, но больше ничего не происходит». Ничего? «Ничего. Но всем очень страшно».
«Блин, — сказал он после озадаченной паузы, — это кровать!» Фрау Гитти посмотрела на него снизу вверх сонными глазами. Мастер вновь подивился на утреннюю разглаженность женского лица, свежую красноту рта, ослепительную (не в том смысле, разумеется!) черноту глаз, мягкие дуги бровей, доверительную нейтральность носа (сов-вершенство!) и усталую белизну лба; он, мастер, просыпается каждый раз измятым, как бульдог. Правда, на лице ее уже появилось несколько складок — исчезла свежесть гимназических лет. «Ты все хорошеешь». — «Шпунты», — шепнула женщина со знанием дела. «Что-что?!» — «Деревянные кобылки». От этих слов он расслабился. «Хорошее слово. Деревянные кобылки». Но было не до искусства, к сожалению, — добавлю я.
С великой осторожностью выполз он из постели. Беглым взглядом окинул пространство: тапок не видно. В конце комнаты на грани бодрствования и сна причмокивала Бойго Дикич. Рекомендовалось соблюдать тишину (ту самую). Мастер был не рад такому повороту дела, с тапками: он не любил, когда приходилось касаться основания унитаза, стоя перед ним в ожидании расслабления по-утреннему тугого полового органа» — и шаря правой ногой вокруг в поисках желтого губчатого коврика (о котором мастер то и дело думает: это полотенце, упавшее полотенце), поскольку холод от холодной каменной плитки взбирался до колен. «Знаете, mon cher ami, стоять, пока не переключатся каналы». (Вновь меня одолевают сомнения. Входит ли на самом деле в задачу хроникера настолько прослеживать события приватной жизни? Вероятно, я уже упоминал: ничто так не чуждо мне, как создание записок типа «великий человек в быту». Однако я, скорее, надеюсь на то, что рано или поздно в частной жизни блеснут гуманистические залежи. И тогда уже… «Спасайся, кто может!»)
«Из-под стула припустили в направлении стены два старых кеда. За ними тянулись ворсистые, замусоленные шнурки. Носок левого просил каши, как будто хозяин его был левшой. Наши наполненные ужасом взгляды встретились. Матьвашу! Им было страшно, мне тоже было страшно, но им страшнее. Они поскрипывали в углу, чуть ли не кусая друг друuа и стену. И смердели».
Мастер примирился было с неизбежностью, когда заметил, что из-под упавшего листка рукописи и снятого журнала «НАДЬБИЛАГ» выглядывает заломленный задник кеда. Он всунул в них ноги вместо тапочек и зашаркал из комнаты. На носке левого кеда ткань, как на ране, разошлась, создавая впечатление, будто мастер — левша, хотя он — правша, и как раз-таки шаг, производимый этой ногой, влечет за собой второй, который таким образом продирается. «Мышь?» — тихо спросила мадам Эстерхази. «Что-что?» — спросил он, судя по форме вопроса раздраженно. «Это не мышь шуршит?» — «Нет. Не мышь. Тапки. Точнее, кеды». — «Тапки?» Мастер подтвердил: «Тапки». — Подобный вихрь вопросов, раздражения, недоразумений и нежностей требовал разъяснений. В то время в родительском доме мастера развелось много мышей. Они появлялись каждый год, но на этот раз их развелось много. Мать мастера, многое на своем веку повидавшая и испытавшая и, прямо скажу, замечательная женщина, экспериментировала с изысканными средствами. Сначала, естественно, отправила «седовласого, старика-отца» мастера за официальной мышеловкой. Но из этого ничего не вышло. «Подпорка», — вздохнула мать, обращаясь к мастеру, когда он прилег отдохнуть после утомительной тренировки. «Послушай, сынок, — сказал отец, поспешивший жене на помощь, поскольку лицо мастера говорило о небольшом количестве усвоенной информации, — послушай, я думаю, достаточно будет сказать: мыши, для того чтобы найти свою смерть, нужно одной рукой держать дверцу мышеловки над пружиной, а самой, если кишка не тонка, лакомиться вкусной приманкой». — «Не солоно хлебавши?» — расхохотался Эстерхази-младший. Родители не настаивали. Мать мастера деликатно перешла на другую тему. «Есть не хочешь?»
Мастер вырос, по этому поводу он не радуется, но й не печалится. «Есть не хочешь?» — «Ну, мамуля, если чего-нибудь вкусненького? Чего-нибудь легенького». — «Есть хлеб с вареной колбасой», — сказала мать, опустив глаза. Мастер махнул рукой. «Давай». Да-да: отношения между матерью и сыном могут быть только такими. В этом духе. Мое грандиозное начинание — величие которого не что иное, как отбрасываемый мастером солнечный зайчик, — несколько повернулось вокруг своей оси: пишу о себе: мать мастера подошла ко мне и сказала: «Петер». Она предпочитает звать меня так, а не Йоханом. «Петер, это обязательно?» Я с большим почтением разговаривал с седеющим, чрезвычайно симпатичным существом, которое то и дело оказывало мне помощь в виде хлеба с жиром, да и множества других вещей, за что я должен ее поблагодарить. «Поверьте мне, любезная мадам, ваш сын благодаря этому станет лишь более велик». — «Ну конечно, да, — сказала она невнимательно, — но это… то, что здесь написано… как-то так нелитературно…» Не стану отрицать, мне тяжело было это слышать. Однако кто переносит слова упрека с легкостью? Кто? «Мадам, это не может быть точкой зрения», — ответил я тихо и склонился над ее покрытой бледными венами, тонкой, с прозрачной кожей, увядшей от многочисленных стирок, чудесной рукой и поцеловал ее. Она опустила глаза, ее лицо, которое было уже несколько одутловато от времени, печально лоснилось. Она чуть не плакала, как это часто случалось в последнее время. «Только будь осторожен», — сказала она затем. Я очень ее люблю, ведь она все-таки мать мастера!
Главная мышеловная машина была хитроумна, в силу своей простоты. Горшок и орех! Подпертый грецким орехом горшок на листе картона: только и всего. «А скажи-ка, прекрасная моя мама, сработа-а-ает?» — «Да». Это все же не так просто, я знаю. Потому что грецкие орехи, в силу самопроизвольного движения (?), за ночь сдвигаются, а горшок, бум-м! падает. Отец, как вы понимаете, продолжает спать как сурок, но чуткая мать испуганно-настороженно всхр-вхрапывает. «Что это?! Кто это?! Ну же! Петердьердьмихаймарци! Это ты?!» (Многое из этого случиться не может! Мастер переехал, господин Дьердь с утра до ночи работает, господин Михай в венских краях, а господин Марци ведет спортивный образ жизни. «Вы на это полюбуйтесь, друг мой! Футбол, Кабак, Вена, Литература: кто бы мог сказать что-нибудь другое?») В оправдание будет сказано, что к тому времени — к концу нашей тирады — добрая женщина- вновь спит. Однако затем утро! Кровожадное прислушивание утром! «Скребется, это точно, скребется!» Палач — господин Дьердь. Исполинскими ручищами он хватает горшечноореховомышинокартонную композицию и затем один соответствующий ее элемент (мышь!) профессиональными движениями топит в воде. Господин Марци, душа более чувствительная, вцепившись в брюки господина Дьердя, плачет, умоляя оставить бедняжкам жизнь. «Не надо, не надо!» Но господин Дьердь высвобождает свою ногу из объятий поблескивающих зубов господина Марци и делает свое дело. А господин Марци с тоской опускается в кресло, чтобы найти утешение в одной или другой из своих любимых книг. (Господин Марци читает две книги: «Железную пяту» господина Джека и желтую книгу господина Дежэ. Больше ничего. Иногда мастера, из приличия.) Как-то раз, например, господин Дьердь заметил, что в штанине повешенных напротив кровати на дверь брюк «шебуршится дикий зверь». Господин Дьердь нащупал свой старый добрый «Смит и Вессон» 38-го калибра, тапок[68] и, подкравшись к двери, ужасающим движением жахнул выцветшим вельветом по коленке и стал давить, выдавливать дух вон. Чуть погодя он уже нес трупик на тапке, как на щите. «Со щитом или на щите», — сказал господин Дьердь, у которого было классическое образование, и от его тополиных шагов гудел дом. «Ой, какая хоесенькая», — вздохнул господин Марци уже во второй раз на своем веку, показывая на мышь. «Дохлая», — просветил его господин Дьердь. «Жалко».
Итак, в то обещавшее быть ясным сухое утро позднего лета мастер, выйдя из ванной, озабоченно остановился перед кухней. Он шаркал куда-то в своих кедах, погруженный в думы, наконец у кухни принял решение. (Выбор был правильным: пока он выйдет за газетой, вода для чая вскипит.) С третьей спички получилось зажечь плитку, и он поставил воду для чая кипятиться. Сходил за газетой. Мастера охватила секундная паника: а бросил ли почтальон («мальчишка-почтальон») им в ящик «Нэпшпорт». «Иногда забывает, хотя все реже». Свежий воздух подействовал освежающе. «У меня лицо просыпается». Лицо мастера проснулось. Для этого времени года погода стояла прохладная, как настоящим осенним утром (когда светит солнце). В медленно поднимавшемся тумане, как на картинах Ренуара, предчувствиями выплывали и скрывались предметы, люди. Неопределенность уравновешивалась тем, что благодаря туману и прохладе «друг мой, стал виден воздух». Я бы не хотел здесь надолго задерживаться, но, если нам позволят, давайте представим себе его на мгновение в тисках двусмысленностей, перед почтовым ящиком, со сложенными газетами под мышкой, в пижамных брюках с чуть короткими штанинами (которые он на себе немного перевернул, чтобы ширинка — пардон, пардон — находилась не в отведенном ей месте и, таким образом, не возникло никаких ляля с каким-нибудь попавшимся навстречу соседом), одной рукой он стягивает воротник пижамной рубашонки, где не хватает верхней пуговицы, одной рукой, как обычно, роется в чужом ящике в поисках чужой газеты, которую затем невероятно быстро и смущенно пробегает, все более свежеющее, хотя еще довольно полосатое с ночи лицо внимательно следит за видимым и невидимым, пока не начинает лязгать зубами; насколько позволили обстоятельства, потягивается: не движением тела даже, а, скорее, мышцами, волей мышц. Как только из тела улетучилась сонливость — что какое-то время можно рассматривать как бодрость, — выяснилось: мастер устал, (да, устал). Особенно было ощутимо существование икр. Давала о себе знать мышца на стыке ляжки и задницы. Усталость — это было хорошо, боль — нехорошо.
Он немного переборщил с лязганьем зубами, сильно стучал, аж челюсть заклинило. При виде выходящей женщины совестливо вздрогнул («чужая газета!»). «Доброе утро!» — поздоровалась женщина; у калитки она еще раз обернулась, глаза были густо обведены зеленым, со вкусом и все-таки жирновато, мастер поднял руку, для эдакого заигрывающего воздушного поцелуя: пижама от этого разошлась, благоговение рассыпалось в прах, выступила гусиная кожа.
Было воскресенье, день Графа Грея. Мастер насыпал щепотку этого чая в чайник. Из комнаты, из глубины ее, доносились слабые, требовательные звуки жизни. «Цыц!» — крикнул он в том направлении с большим удовольствием. «Любовь моя!» — смягчился он затем. (Насколько эта аккуратность отличается от утренней спешки будней. От того, как он с превеликим трудом поднимается, вырываясь из спящего семейного крута, шаркая, добирается до ванной, щурясь, находит зеркало и в нем — он это умеет! — свое лицо, и долгое время смотрит сквозь стекло, чтобы день как-нибудь начался. «А надо бы делать это так, друг мой, — вырвалось у него как-то семейное воспоминание, — неторопливо прогуливаться ранним утром в туманном, освещенном солнцем огромном саду, можно углубиться в чтение Спинозы издания 1920 года, ко-неч-но, для нас оно было бы пройденным этапом, еще бы, но все еще нравилось, времени идет не больше 1/28-го, потому что речь пойдет не о лени, напротив, легкий ветер будет шевелить нам волосы, иногда перелистывая и страницы, сад будет, в сущности, лугом, громадная зеленая иллюстрация, не нужно опасаться столкновения с каким-нибудь предметом, и за одним из поворотов мы окажемся перед садовым столиком, вокруг необъяснимое множество плетенных из камыша стульев; джем, ветчина, тосты, отливающие коричневым булочки и маленький рулет масла! Я думаю, друг мой, день стоит достойно встретить так». Если разделить на две части временную протяженность тупого разглядывания зеркала, то хорошо, если ему, по крайней мере, в самом начале второй половины приходит в голову: вода для чая. Если на три части, тому же суждено произойти, соответственно, в середине второй части [«то есть несколько позже»]. Последний момент — тот момент, когда еще стоит ставить воду для чая. Затем скольжение мыла, стремительный поток холодной воды и жадная чистка зубов, и приобретение стекающей изо рта смешанной с зубной пастой водой розового цвета в процессе этой деятельности… А чай! Хотя это не белый чай, как — насколько мне известно — китайцы называют кипяток, но ни темноты, ни маслянистости, которые так милы сердцу мастера, нет и в помине. «И все равно неплохо, довольно горячий». А затем, к половине восьмого, он как штык заявляется на свою серьезную работу. Впрочем, мог бы и опоздать. «Петерке, — подмигнул вахтер, — на восемь — десять минут когда угодно. Когда угодно». Вахтер, по его утверждению [я это формулирую так, потому что он сомневается: «Неужели было столько свинопасов?!»], был свинопасом в доме у отца мастера, но поскольку был «парнем расторопным и дельным» и т. д. «Видите, Петерке, не будь ваш дед так добр ко мне, было бы намного лучше, хе-хе, для меня». — «Извини, дядя Лаци». Однако он говорил не всерьез.)
«Сегодня семья будет есть яйца всмятку», — сообщил он миру. (Лихорадочное засекание с секундомером!..) На плетеный деревянный поднос он поместил солонку, в маленькую корзинку — яйца, чашки, чайник, нарезал хлеб — и его туда же, отнес все это в комнату и поставил на кровать. «Вот вам идеальный муж», — склонился с щербатой элегантностью мастер (пижамные брюки же перевернулись обратно.) Женщина обманчиво улыбнулась, а затем с полным благодарности сердцем сказала: «Ложки, подставка, блюдца, джем, вареная колбаса, яблоки». Мол, всего этого недостает. Мастер обиженно кивнул, признал практическую правоту, но дистанции из-за этого не возникло. Мало того!
Он налил Фрау Гитти чая. Еще один нюанс. В жизни есть несколько мелочей, в которых он, скажу так небезупречен — если уж это вообще можно назвать упреком. Он, посмеиваясь, признает эти милые недостатки своей натуры. Сюда относится разлитие чая; потому что per absurdum,[69] что им движет вежливость, но на самом деле «маленькая хитрость», ибо первому наливают бледный чай. Ибо в каком бы взаимном переплетении ни жили два человека, все равно остаются области недосягаемого, отчужденность, тайны, увы. Он тоже не рассказал о своем трюке с чаем Фрау Гитти. «Но, но, mon ami!»
Педантично дождавшись, пока тарелки опустеют, пространства для мусора заполнятся — и сам он немного насытится, — мастер, следя за тем, чтобы взбесившаяся статика кровати не повредила ему, опрокинул жену на кровать и поцеловал ей руку. «Дорогая». — «Дорогой». Мадам Гитти была прекрасна, как на картине. Ее смуглая кожа и веснушки так и лучились, над городом поднимались цветные пузырьки воздуха, мастер закрыл глаза, а люди повсюду останавливались и глядели, глядели… «Знаете, друг мой, я вот этими глазами лично видел свою жену!»
После этого мастер длительное время боролся с Луиджи Донго, чей веселый хохот и подражающий сенбернару рык наполняли уютную комнату. Пока мастер осторожно заправлял кровать, ребенок был перепеленован, а кофе сварен. «Ты сахар положила?» — спросил он мягко. «С чего это». — «Это не упрек; это вопрос», — быстро ответил он, но недостаточно быстро для того, чтобы воспрепятствовать добавлению сахара в кофе, правда, он и не хотел этому препятствовать. Распитие кофе незаметно перешло в чтение газет. В небесах уже сиял свет настоящего предполуденного солнца. В комнате посветлело, поблескивали пылинки, на ковре преступно сверкнуло несколько длинных золотых волосков. В воскресном приложении он прочел новеллу. «Хороша, — сказал он молчаливым стенам справедливо, — хороша: почти испоганена». Ибо при желании он умел быть и таким безжалостным и великодушным. Поднял с пола спортивную газету. «Эх, товарищ Яцина, товарищ Яцина», — пробормотал он. Оказавшийся на расстоянии вытянутой руки первоклассный литературный журнал тоже подключился к рондо: выступление тренеров в прессе закончилось предоставлением профуполномоченным новых прав, которые оттеняли новеллу в стиле Круди. «Знаете, друг мой, это было изумительно: целый Божий день я ничего не делал. Просто лежал кверху пузом. Хороший был день для тунеядцев». (Что еще за тунеядцы! Как это несправедливо по отношению к самому себе! Ведь по мере того, как он изволил прогуливаться, поплевывать семечки, почесываться, и, сощурившись, прислушиваться к неинтересным разговорам, можно сказать: к Разговору Вселенной, в нем все откладывается, и он, мягко ступая, подстерегает, подобно хищному тигру!.. Трудная это работа. А сколько слюны уходит на лузгание семечек! Боже мой! «На ранний летний вечер уходит много слюны!» Вот так. Смею поэтому полагать, что если я и смотрю сквозь нечеткий объектив на творческий путь, жизнь, жизненный путь и смерть обожаемого Эстерхази, то с такого расстояния — ах как это расстояние велико! — каковое является гарантией.)
В полдень мастер заскочил в кафедральный собор, чтобы отслужить там благодарственную мессу. Цветные окна иногда отвлекали внимание. Когда он оглянулся, то уже на лестничной площадке ему в нос ударил запах картошки. «Знаете, друг мой, я видел одного редактора, который, когда об одной новелле, скажу точнее: о моей, кто-то заявил: но, старик, ведь это реалистическое произведение! — тогда у него, как у боевого жеребца, задрожали ноздри и он с надеждой ответил: «Ты так считаешь, уважаемый Имре?…» К чему же я это рассказал? А. Я тоже так дрожу от запаха картошки». Картошку с луком и растительным маслом мастер полюбил еще в деревенский период. (Нужда заставила.) Его привязанность не имела границ! Уже давным-давно хватало и на мясо, когда он попросил приготовить на праздничный обед в честь дня рождения именно ее. (Обеды в родительском доме, как в деревне, начинались в 12. Это тоже пережиток. Однако новые времена постепенно вытеснили и это. Каждый ест, когда приходит домой.) Можете себе представить возмущение господ Дьердя, Михая и Марци! Но в те времена физическое преимущество было еще на стороне мастера, за подзатыльниками, эдакими тумаками, дело бы не стало. С тех пор, как нам известно, ситуация изменилась! Эхе-хе, сколько раз я видел его униженным, на груди гигантская коленка оставляет опасные вмятины, а рука безжалостно крутит имеющийся в наличии нос. Хорошо еще, что мастер такой хиляк, так что мстить ему, по сути дела, неприлично.
Он навалился на звонок плечом. Как только дверь открылась, он тотчас же заметил: здесь речь уже идет и о копченой колбасе. «Картошка с паприкой?» — поднял он вверх брови. «А что, может, не нравится?» — сказала женщина с явной агрессией. «Ну, что ты». В общем-то, случилось то, что блюдо содержало жидкост-ибольше, чем ожидалось, но и паприки больше; он изволил упомянуть и то и другое — со знаками — и +.
«Смотаюсь на матч Марци», — поднялся он от стола, практически сразу залезая в грязную ветровку. «Возьми с собой яблоко», — сказала мадам Гитти, а сама залезла мастеру под куртку и обняла за талию. «Хорошо мне с тобой», — сказал он смущенно. «Возьми с собой яблоко». И он взял. Казимир Митович неистовствовала на огромном листе бумаги, который еще накануне мастер принес из химчистки. Девушка на выдаче заказов долго искала пальтецо. «Не найти, — сказала она, — а ведь я все глаза проглядела». Когда она потянулась, короткий халат задрался буквально до пупа, так что она оказалась в трусиках синего цвета. Мастер — тогда — прочистил горло и вежливо сказал: «А если вы будете так потягиваться, то я тоже все глаза прогляжу». Тишина оказалась мертвенней, чем мастер ожидал (он никакой не ожидал), а девушка покраснела; пальтецо нашлось, оно по ошибке оказалось среди юбок. «Кто же мог это сделать?» — прошептала девчушка.
«Я спешу», — сказал мастер на бегу и завернул к своему великолепному жеребцу, на которого вскочил. Яблоко на повороте качнулось, как свинцовый шар. Мягкой рысью отправились они в путь в разливающемся свете. «Превосходный день. Хорошо можно пожмуриться». Он удобно откинулся назад, ногами рассеянно перебирал в стременах, доверив выбирать скорость лошади. «Лошади». Его практически занимал только сигнал поворота. Тело вновь заломило от усталости, что теперь было однозначно приятно. Тряску он мог считать и благотворным массажем, и средневековой пыткой.
Господин Марци не смог обеспечить мастеру бесплатный пропуск на стадион, поэтому мастер купил билет; а потом тыквенных семечек. К тыквенным семечкам он попросил и кулек — отгородившись от проблемы «В какой карман насыпать, молодой человек?»: — молодая девушка-цыганка явно была раздосадована, но мастер чувствовал: другого выбора у него нет. На вершине короткого эскалатора — из-за больших черных спин — неожиданно выглянуло поле: зеленая трава, штанги ворот белые, солнце светит, сетка натянута: в порядке; мастер кивнул. Не спеша в обход подошел к бетонной лестнице на той стороне. Сочетание четкости ближней панорамы с замызганным полукругом внешнего кольца радовало глаз. Он пошарил в кармане, в темноте замкнутого пространства, ладонь с небрежной радостью наполнилась безупречным яблоком (о котором впоследствии выяснилось, что есть в нем прогрызенный туннель, горький туннель), затем, запястьем оттеснив яблоко к стенке кармана, нащупал очки и достал их. Большим пальцем обстоятельно протер стекла — сначала по кругу, затем вертикальными параллелями, — которые были на ощупь жирными и исцарапанными. Отпечаток пальца «как пашня на снимках с воздуха». Я в этом не разбираюсь, естественно, знаю только: нет очков неопрятнее, грязнее, запущеннее, плачевнее этих! Или произнесенными намедни замечательными словами господина Марци: очей!
Мастер взял одну дужку очков в рот и, помахивая ими (движением своего бывшего, теперь уже покойного, учителя физики), не спеша зашагал на ту сторону. «Знаете, друг мой, стадион уже украшал тот гул, без которого не может начаться настоящий матч». Некоторые читатели его узнавали, и если бы он поспешно не засунул руки в карман к яблоку и пакетику с семечками, их бы ему точно поцеловали. «Ай-яй-яй, ай-яй-яй», — улыбался он, и подозреваю, почти наверняка подозреваю, что он даже и не замечал, что иногда кто-то кидается ему под ноги и начищает ботинки. (Что, говоря между нами, не помешало бы. Иногда господин Дьердь за десятку готов почистить обувь. Бывали уже такие прецеденты.) «Сколько баварских метров может быть это поле в длину?» — думал он все это время.
Господин Дьердь был уже там. Элегантное пальто из лодена, как хвойный лес! Суровый хвойный лес Был там и старый отец мастера! Седые волосы сбил на лоб ветер, и сквозь слабые пряди просвечивали беззащитные виски. Мужчина зябко ежился. На плечах — там, где у ведьм растет горб; семейная черта? — пальто натянулось; он нервно переступал с ноги на ногу. Он был таким тоненьким, таким худеньким, как птичка. «Э-хе-хе, бедный мой отец: как тощенький воробушек». Кости лица были почти ничем не прикрыты, губы чуть не плакали. Я очень люблю отца мастера, ведь это все-таки отец мастера!!! «Холодно», — сказал господин Дьердь. «Светит солнце», — сказал мастер и провел рукой по волосам, в своеобразном, шероховатом прикосновении которых ощущался ветер.
В это время команды выбежали на травяное покрытые. «Ну, за дело», — сказал бы он в ином случае, но по вине господина Марци им всегда овладевала странная судорога, поэтому он более скромно приступал к таким спортивным мероприятиям. Двое братьев, во всяком случае, попрощались с отцом и встали подальше. Что правда, то правда: как болеет отец мастера! Это скандал.
Он изволил вынуть яблоко, откусить. «Холодное». Холод забрался в один из зубов. В этот момент его внимание вдруг обратил на себя поднятый воротник. Чуть перед этим у него между зубами застряло тыквенное семечко. После того как удалось вытолкнуть языком, он выплюнул его на плечо впереди стоящего. «Ох, и получил бы я», — кивнул он господину Дьердю, показав на расположение тыквенной семечки. «Будь спок», — авторитетно сказал господин Дьердь. «И в этот момент я вижу этот пиджак с поднятым воротником». Войлок, соприкосновение войлока и ткани на изнанке воротника, и в углублении стыка — грязь. Всякая разная грязь. И тогда вдруг («и он теперь говорит это!..») мастеру вроде бы припомнились поднятые воротники определенных пиджаков, серый войлок: «Это живо в моей памяти». На открытой площадке 33-го трамвая, с посиневшим ртом, поднятым воротником, который как раз доходит до подбритых снизу волос. «Войлок: вот что можно утверждать!»
Мастер все больше коченел, от каждого движения делалось: делается хуже. «Selten kommt was besseres nach».[70] У туннеля для игроков он изволил дождаться господина Марци. «Был один аут. Здорово ты вбросил», — сердечно прокричал он группе взмыленных игроков, после чего поспешил к месту парковки, где привязал лошадь. Господина Дьердя и отца он подвез до площади Баттьяни, оттуда они поехали на электричке домой. Мастер пустил своего скакуна галопом. Сомневаюсь, чтобы он обращал внимание на ограничитель скоростей…
Вернувшись домой и пристроившись к будничному циклу кровообращения, мастер предпринял попытку сменить пеленку. Пеленку, если мы уже расстелили ее на поверхности, можно неправильно расположить разными путями. Мастер, скажу я вам, не знал преград. Маленькая Митович почувствовала неуверенность рук и по привычке заревела. Потом сказала: «Дадеком». Что всего лишь означает, что мир с некоторых пор движется не в том порядке, которого бы ей хотелось. Но даже если халтура свисала до кругленьких коленок, если край пеленки торчал из-под низа — указывая верный путь веществу, когда придет время, — если крошечная талия была оголена и нескольким кнопкам в конце пришлось застегиваться на одном и том же месте, потому что место осталось уже только там, вследствие чего симметрия нарушилась, — произведение было готово, и мастер, хоть и плавая в поту, но объявил: «Готово».
Фрау Гитти, как только вошла, заметила. Наклонилась над кроваткой и прошептала: «Бедненькая, бедненькая ты моя». Она подвинулась вперед, чтобы ребенок «мог буянить» возле ее шеи, а сама коленом, которое представляло собой значительную часть ее веса, встала дряхлой кровати на «хребет». Хрясь! «Да что же это за блин, на фиг, такое!» — вскочил мастер, которого и так уже обидело деликатное, но однозначно критическое поведение. Жизнь, конечно, даже теперь не стояла на месте. Дора заснула, мастер начал молчаливо есть. В этот вечер он демонстрировал плохую форму. Молчание он прерывал сочными выражениями, которыми хвалил поданный суп-рагу, ведя речь о том, что вот, годы проходят не бесследно, огонь рутины и любви все-таки налаживается, в супе теперь уже оказывается и соль, он не тепловатый, и этот водянистый вкус, который вначале, после густых материнских супов, приносил (в переносном смысле) столько горечи, когда… когда женщина с тихой болью сказала: «Не перенапрягайся, приятель. Это консервы». — «Вкусно», — сказал он, уйдя в свою раковину. (Как всякий титан, мастер также несчастлив.) Но это еще не конец: был еще маленький «сюрприз». Торт с фундуком. «Твоя мать прислала», — между прочим сказала женщина. Когда мастер наткнулся уже на второй цельный (непрерывный) кусок масла в креме, он с полным ртом прошамкал: «Да и муттер не та уже» —. и на высунутом языке предъявил инкриминируемый кусок. Мадам Гитти начала хохотать, вместе е ней угодливо и мастер; только когда у мужчины от этого уже слезы выступили на глазах, она раскрыла тайну: торт делала сама, голос прервался, и женщина ушла мыться. Что за ляпсус!
Он печально сел в любимое, необъятное кресло и стал читать новости в потрепанном журнале «НАДЬВИЛАГ». Лампа рисовала на паркете желтые круги, а вверху, на потолке, как птица или крупный комар, то и дело потрескивало пятно света в форме каблука (которое было образовано местом стыка на абажуре лампы).
Затем он заглянул в ванную. Просунул туда голову. Сначала нос, потом голову. «Знаете, друг мой, это такой виноватый порядок действий». Фрау Гитти читала в ванне. Выступ, за который заходила ванна, скрывал ее голову. Свисал край большущей газеты: но держащей ее руки уже не было видно, только стремление кистей уберечь ее от воды. Но на край и так попадала пена. По краю пены, по всей окружности — забрызганная водой бумага, как гнойная рана. «На стадионе «Голи», если до того дни стояли довольно сухие, можно обзавестись такой раной». Но пена белела как снег: «Дай мне на тебя посмотреть». Край газеты вздрогнул, но и только. На оборотной стороне он изволил увидеть: Do You Wanna Dance[71] — только наоборот. «Предлагаю ничью». — «Идет». По воде без всякой цели плавали островки пены. Одна нога, огромная подводная лодка, поднялась из воды. С округлой поверхности — отмеченной веснушками — вода стекать отказывалась. Плоский живот — серебряное блюдо, верхний его край оказался практически на поверхности, внизу, как нарядная цепочка, пролегла складка. От одного движения покатого бедра вода подернулась зыбью, и вместе с ней дрожь пробежала по всему — включая и мастера. В зеленой от ароматической соли воде, чуть ниже, покачивались изумительные водоросли… «Нечего слюнки глотать! У вас что, кроты в горле завелись?!»
(раскадровка) Мастер вырос, по этому поводу он не радуется, но и не печалится. (Не хочет «бережно хранить детскую чувствительность», но и не бежит покупать кошелек.) (Не то чтобы он в связи с этим проиграл или выиграл.)
Во всяком случае, лишь сейчас может случиться такое: вот, кажется, теперь-то он заскочит к родителям. Перед тренировкой или после тренировки; или перед матчем, или после матча. Вот видите, для него эта игра является точкой отсчета. Сползает с электрички, проявляя эту свою занудную вежливость, которая больше вредит, чем помогает. Плетется вдоль ряда тополей. Старается не смотреть ни направо, ни налево. Те два угла, которые мастер проходит до нынешнего света в окнах старинной резиденции (мало того, не побоимся этого слова: резиденций), таят тысячи опасностей. Основная трудность здесь заключается в том, что мастер осознает, что идущий ему навстречу человек вроде какой-то знакомый, поэтому начинает пристально смотреть, от чего, конечно, толку никакого, напрасно он отчаянно щурится или, мало того, образовав из больших и указательных пальцев обеих рук ромбовидные щели, еще и изображает очки; идущий навстречу таким образом очень даже видит, что мастер его заметил, справедливо удивляясь, почему с ним по-прежнему не здороваются. Когда же предмет оказывается на расстоянии чуть ли не двух метров, мастер расцветает и скороговоркой делает то, чего от него ждут, так чтобы человек за это время еще не успел с ним и поравняться. Все это очень утомительно. (И для многих подозрительно. Poor Esterhazy.)
Сторожевой пес из породы командор — неизменный второстепенный герой многих милых новелл — издох, от старости. «Шио спит. Вечным сном», — сделала заключение Митович. Мастер левой рукой может дернуть (и дергает!!) двустворчатую садовую калитку на себя, а правой может вытолкнуть прут-подпорку, и тотчас же хвататься за нее — как за шею, но напористость, размашистость его движений уже не будет раздражать собаку, которая не начнет, полагаясь на здоровые инстинкты, без надобности скалить зубы, ее зубы не будут блестеть желтым и не раздастся предупреждение, но не злобное ворчание — до поры до времени. Ее не надо приучать к тому, кто мы такие (то есть кто мастер), а это, конечно, непросто.
Маневр будет произведен и на этот раз, только менее дисциплинированно, с лязгом и буханьем; и без особого дара провиденья можно предсказать, что прут-подпорка в один прекрасный день, — напрасны то встревоженные, то строгие, во всяком случае, учащающиеся вспышки гнева матери мастера, — не выйдет из состояния мнимого трупа: он все больше погружается в грязь, в мягкую насыпную землю. (Потому что раньше здесь были топи, кочки и селезни. Поэтому нет погреба. Где — рядом с углем — мог бы стоять и стол для пинг-понга!.. Насыпная почва! Как загадочно! Как если бы мы в самом деле ходили над землей! Ну, о нем-то это можно сказать; о его поэтически-артистическом взгляде на вещи! Как будто бы он устроил черные кучи, чтобы появился гумус, то есть чернозем!)
Он может решить — если это чудное посещение места, всегда бывшего ему домом, приходится на утро, — что проберется в комнату господина Марци, который, без сомнений, еще спит, и, стоя у кровати нападающего, прошептать: «Дубинушка моя стоеросовая!» — и смиренно погладить спящее детское лицо. Господина Марци он сможет вновь увидеть за завтраком, заказанным на 11. «Мне, матушка, пожалуйста, в 11, — так звучит заказ господина Марци, — завтрак с железной вилкой». (У господина Марци хорошее чувство языка. Он также ворует-заимствует. Истоки языкового изящества братьев нужно искать в их матери. Святой женщине известно целых два вида венгерского е-. Великому человеку уже нет…) Господин Марци ужасно много ест. Поглотив ham and eggs[72] из множества яиц, он просительно обнимает седовласую женщину. Тычет ее в бок Та визжит, как школьница. Какая сцена! Ну и ну. «А мясца какого-нибудь нет, мамуль? Хорошо прожаренного?» И тогда еще три-четыре куска мяса! Вот сколько ест господин Марци! А ведь в нем нет и грамма лишнего веса, спасибо ВФА![73]
Однако можно представить, что господин Марци по какой-то необъяснимой причине проснется рано. (Или отец мастера по какой-то объяснимой причине поздно…) И тогда наверняка: закрутится карусель: господин Марци произнес пароль: озор! Озор означает следующее: Утренний свет солнца полосами пробивается в комнату. Световой клинок. Отец детей спит. Он (всегда) лежит на спине, правую ногу сгибает в колене, с левой уже сползло покрывало, оранжевое одеяло с бахромой по краям; рот открыт, подбородок отвис, как сломанный, и от этого лицо стало впалым, ощущение, будто лицевые кости прорвут бледную и щетинистую кожу: мясо из-под скул украли. Он прямо как мертвец: луч краешком уже ползет по его кадыку. Поскольку господин Марци — человек добрый, он расстраивает ситуацию (он не сторонник беспричинных смертей). Самой удобной выпуклой точкой для этого является большой палец отца. Господин Марци потирает руки — никто, ну никто бы не подумал, что они такого же размера, как у господина Дьердя, как лопаты, — обгрызенные до корней ногти (по сравнению с ним мастер — реклама маникюрного салона!) то и дело царапают кожу, с губ слетает смех лукавого гнома. (Мастер многому научился у младшего брата.)
И закручивает. Отец издает вопль итакдалее. («Зверски сильных отцов сменили декаденты-внуки». Закон третьего поколения.) Потом наступает небольшая пауза, бдительность засыпает, отец принимает ванну. Но затем господин Марци раскачивает дверь ванной, как бы перелистывая книгу (две книги!), на цыпочках — встав на носки — подкрадывается к общему с мастером отцу, чье белое тело, как потерявшая цвет водоросль, покачивается в ванне. Линии тела расплылись: одна-две волны образовали подозрительные переходы; правда, несколько четких контуров и в районе головы не внушают особого доверия. Однако не думайте, что их отец возьмет и растворится в воде для купания. На одном уровне с его шеей по линии талии в направлении ванны загибается дощатая подставка. Сюда, пережив многочисленные столкновения, проникает откуда-то пучок света; и делает воздух — благодаря пылинкам — видимым. На пылинках никого («Надо? Не надо!»). По правую руку — с обеих сторон помазка стоят две бакелитовые мисочки. Посередине дощечки — зеркало, целое, в блестящей оправе, несколько откинувшееся назад, как от боли в пояснице. Стекло заполняет оправу без щелей, и разве что покрыто паром. Налево, в глубине, равномерно разбросанные, валяются тюбики, наполовину подвернутые, как штаны калеки.
Мастер, простите, с хихиканьем наблюдает за борьбой: господин Марци плюется в отца водой с зубной пастой, а потом — бум! хрясь! — два раза дает по вопросительно поднимающемуся значительному лбу кожаным тапком. Но поскольку это вызывает у стареющего мужчины одно «детское хихиканье», господин Марци наливает туда холодной воды. «Нападаем, молодой человек, нападаем?!» — и широкой, натренированной в молотьбе, в дорожном строительстве ладонью он шлепает по воде. Младшего брата как из шланга окатили.
«Я сидел, притаившись, на крышке унитаза». (Ну, чтобы такое!.. Так утратить последний пафос… Или, может, он изволит быть новым чемпионом в каком-то новом виде? Проливает свет возвышенного на будничные вещи?! — «На что я проливаю? Это не я. Дьердь. Или Марцош. Или моя драгоценная мамочка, и твоего мужа, нашего доброго отца, тоже не будем исключать из позорного списка. Мало того, а ты, наверное, вне круга первичных подозреваемых, голубчик мой?!)
Стихающими взрывами тапка на лбу озор завершается.
Изобретательность господина Марци всегда играла важную роль. К примеру, насыпание соли в чай! Отличная была работа. Отец в один присест выпил а они все фыркали, фыркали о своем! Молоко в калоши! Пакет молока. Один из самых верных приемов когда кто-то из родителей спешит! Потом только… Тёте — леска, двоюродному брату — бесстрашно раскачивающиеся качели и вообще: вытащенный стул. «Одна из самых, друг мой, интеллектуальных шуток». Однако все может начаться и более мягко.
Залезть в постель! Это было лучше всего. Пройтись вдоль ряда чужих кроватей для того, чтобы немного прикорнуть. В такие моменты на передний план выступают преимущества большой семьи! Потому что взглянем на дело с точки зрения мастера, тогдашнего ребенка: кровать «мамы» — чтобы представить степень переживаний, — кровать мамы уже наверняка опустела (в смысле опустела без мамы). Так рано просто невозможно проснуться! Если она в самом деле опустела, то ее сразу можно занимать. Это не самый удачный случай, ведь поскольку кровать мамы самая теплая («пушисто-теплая»), после нее все остальные могут быть только хуже, и хуже всех — холодная и пропахшая никотином кровать папы, но, вопреки этому, может быть, как раз благодаря своей мужской суровости, пользуется относительно высокой популярностью. Нет, намного лучше, если какой-нибудь проныра братец уже обосновался там, потому что тогда его кровать пуста. И поскольку речь идет о тех временах, когда царила диктатура мастера, и царила в правильном направлении, валяние в этой кровати можно было прервать когда угодно. Даже кровать папы можно было заполучить: применив либо тактику молчания, дождавшись, пока добровольно не уберутся, либо долгосрочную операцию ОЗОР, можно попеременно. В этом случае может возникнуть короткая перебранка: кому лежать внутри, кому снаружи. «Кто идет: совсем внутри, а кто внутри, но с краю».
В такие моменты можно было спросить у отца, знающего толк в жизни, важные вещи. Например, кто хороший человек и кто плохой. А также конкретно, хороший ли человек такой-то. Например, хороший ли человек Кеннеди? Отец мастера, вздохнув, смеялся, видны желтые, с зубным камнем (красивые, как известно нам от господина Гласса), зубы. «Людей нельзя разложить по полочкам». Но поскольку маленький мастер путал Божий дар с яичницей, то отец говорил: «Хороший человек». Или: «Плохой человек».
За отцом мастера, ходячим словарем, как он его однажды назвал с непочтительной точностью, что характеризует мастера с благоприятной стороны, ходила дурная слава любителя не только людей, но и собак. Вокруг сарайчика появлялись бродячие псы. Не случайно. Потому что упомянутый мужчина и после кончины Шио выставлял — как раз к сарайчику — понемножку того, сего. И приходили, сволочи, в немалых количествах: мастер конкретно помнит двоих: помесь таксы с овчаркой, бр-р-р! и подобие маленькой венгерской овчарки — с тремя ногами.
«Отвратительно», — зудела мать мастера по приобретенной за десятилетия привычке, но отец мастера с прилежным постоянством продолжал выносить пищевые отходы (кости, картошку, напр.) и размоченный в молоке хлеб (лакомство!). Но затем жизненное равновесие нарушилось, и собаки, сбившись в стаю, стали штурмовать сарайчик. Вошедший мастер застал великое волнение. Мать мастера отчаянно ломала руки, обращаясь к сыну. «Они съедят уголь!» — «Да ну, мамочка!» — сказал он осведомленно. Многодетная мать высунулась в окно и сказала, не очень-то громко: «Марш отсюда, собаки!» (Букву «а» женщина позаимствовала из какого-то иностранного языка. Когда они, например, ехали один раз домой от окулиста — «Глаза у вас — как у орла. Сто форинтов», — с тех пор ему памятно запомнилось одно такое «а». «Такси!» — закричала мать. Но потом они сели в автобус. «А помнишь, муттерка, как мы стояли далеко друг от друга, притворялись, будто бы друг друга не знаем, а сами сладострастно перемигивались!» — «Какой скандал был, какой скандал!»)
Однако в этот момент отцовская фигура поднимается из-за пишущей машинки, знаком подзывает самого старшего сына, и двое мужчин — прекрасно понимая друг друга по скупым мужским движениям — выходят. Сдерживая дыхание, заворачивают — да-да, туда, в отхожее место! «О, mon ami, неужели это все, что осталось от первобытной охотничьей страсти?! От большой охоты на заре, от полчищ сигнальщиков, от полчищ загонщиков, от исходящих паром спин лошадей, от хрипения в легких лисы, от kill-a? Подсматривать из туалета за собаками, намеревающимися спариваться у сарайчика?!»
Нет времени на вздохи, отец мастера, откуда-то совсем из глубины, издает жуткий вопль: «А ну, пшел отсюда, мать твою раостоак!» «Был у нас один лесничий, — рассказал однажды мастеру отец, — он так беспардонно разгонял загонщиков. А ну пшел у куст, дикарь волосатый. Я долгие годы думал, что это: диконь». Отцовский голос, натренированный, вероятно, в голубовато дрожащем свете (являющемся, конечно, как нам известно, тенью) благородных салонов, возымел действие: многочисленных дворняг след простыл! Стареющий мужчина с гордостью отвернулся от окна туалета (толкнув коленом — ту же самую — крышку унитаза, она немилосердно хлопнула), сын с гордостью посмотрел на отца, на него.
В этот момент господину Марци, например, может наскучить подметание двора. Вряд ли работа готова, скорее, медицинские девушки уже ушли. «Какие новости?» — застает его врасплох мастер, ведь и от него каждый Божий день требуют последние известия о господине Марци. Однажды он откинулся в кресле, стремительно подоткнул под себя писательский халат и затянулся хорошей сигарой. «Знаете, дорогие мои, и спортивные врачи теперь уже не те». Раньше ему жилось привольно. Все шло гладко. «Вы по линии герцогов? или по линии графов?» — задавал вопросы любезно реакционный, хотя и забывчивый доктор — и на справке уже стояла печать: К СОРЕВНОВАНИЯМ ДОПУЩЕН (дата). Однако когда на горизонте появился господин Марци, от него тотчас же стали требовать красочные подробности о том, что и в каких количествах господин Марци точно получил. «Сколько, Петерке?» Мастер, чуя неладное, отвечал, что нисколько. И в самом деле, господину доктору приходилось не по вкусу, что мастер не сознается. Предает их. «Петерке, мы немы как могила». И помахивает в руке удостоверением. Мастер не знал, что делать, только головой мотнул, дескать, нет. «И его тотчас же, без промедления погнали на ЭКГ и на рентген».
Но господин Марци всегда увиливал от мастера. «Отвяжись. Какие новости?! Читай газеты». Но потом говорит: «Сыграем в шестьдесят шесть». — «Батя, — обратились они к отцу, потому что уже так обнаглели, что дальше ехать некуда, это точно, — батя, составь», — «В десятку, приятель». Отец кивнул, сел между ними, перетасовал и раздал. Но вот те крест, вышел последним. Может, потому что козырем были крести? Да ни в коем случае. Просто братья мухлевали. Мастер передал под столом червового вальта господину Марци, а тот, в свою очередь, просунул ему крестового короля. «Знаете, друг мой, те наши части, что находились над столом, в особенности лица, были благовоспитанными, нас венчали порядочные и благородные седины. Я заказал крестового туза, потом заявил сорок, и все». Они изволили легко выиграть. А тот лишь лоб морщил. Как известно, он ужасно здорово умеет морщить лоб.
«Вы мухлевали», — все-таки сказал он потом, с удивлением. Тогда господин Мартон сгребает с неожиданной готовностью объявившийся там тапок (!) и с противоречащей задумчивому выражению лица силой бьет отца по лбу. (Вот она, современная молодежь! Современное почитание родителей! Вот они, нынешние, жестокие времена!) «Цыц», — смеется господин Марци, немного струхнув. Старик, втянув голову в плечи, поднимает взгляд. «За что?» — тихо протестует он. Поднимается, и они говорят: «Батя, ты проиграл». — «Простофили», — говорит он и садится к своей печатной машинке, чтобы перевести на немецкий, английский или французский языки берущее за душу исследование «Картофель в Венгрии»; потому что такая у него работа.
Он хорошенько потянулся. Время вновь было занято работой, и это ему очень нравилось: вставать со знанием того, что нужно делать. Однажды, преклонив колени в кафедральном соборе с красивыми цветными окнами, он произнес по этому поводу пространную благодарственную молитву. А в другой раз он выглянул в окно, прижав лоб к стеклу, как водится (отчего оно «засаливается» подлежащим штрафу образом), и заглянул в глубокую, объемную тьму, в этот момент его охватило вышеупомянутое чувство блаженства; по поводу того, что это продолжается уже почти два года. Хорошо он тогда заглянул во тьму.
Когда он работает, то не видит и не слышит. И если работает, то может работать и при самых невозможных обстоятельствах: по ходу дела вскакивая переменить на ком-то пеленку, или высвободить сарделево-розовую ножку, потому что на нее упал Большой Мишка, или склоняется над работой в комнате, размером со среднюю кухню, где еще 5 обеспеченных рабочим местом интеллигентов болтают, работают, курят, а он изредка только выскакивает по просьбе господина Тамаша из-за подобия бастиона, состоящего из специальной литературы («Справочник по программному обеспечению», «Параметрическое программирование» и т. д.), к укрепленной на стене доске (с которой на его шею и так будет осыпаться мел), чтобы, нарисовав на ней один-другой знак двойного интеграла ориентировочного характера, доказать свое присутствие как специалиста. Ситуация не так цинична, а: так оптимистична. (Его самообладание было велико, мало того, все его существо составляло незаурядную характерность; вкупе с обстоятельностью, благодаря которой ему всегда удавалось овладевать материалом.)
Он не видит и не слышит, но из своей образованной занавесками, превосходной, грандиозно крохотной комнатенки (о-хо-хо, сколько он боролся против нее, сражался, сверлил и строгал! — но как-то раз признал: «Цыпа, по сути ты была права!»), так вот, отсюда он время от времени в экстазе вопит: «Я тебя люблю-ю!» Ручка в это время строчит по бумаге, голова и видимый кусок души неподвижны. Затем: «Жить без тебя не могу, как без воздуха-a!» Впрочем, личность восторженную зачастую постигают неудачи. «Друг мой! Восторженность, которая проявляется в словах!..»Это тоже его конек. «Намного спокойнее» — раздраженно машет он на жену, если она начинает описывать какое-нибудь само по себе и правда ценное, вот только блекнущее рядом с более объемными понятиями событие. «И, представляешь!..» — «Голубушка моя, — говорит он предостерегающе, — просто на стенку лезть хочется, когда ты пересказываешь истории так же, как X. Боже тебя упаси от того, чтобы ты мне тут приукрашивала, а главное, восторгалась!» Имя известного прозаика X служит у него характеристикой; но не константно. Он, по молодости, то одно говорит, то другое. И на этом выдыхается; но не мадам Гитти.
О чем же думала в самом деле мадам Гитти после таких «я тебя люблю» или «жить без тебя не могу» в первые годы супружества? Извольте: прислушивалась к зову крови и вваливалась в маленькую отгороженную комнату, перелезала через горы рукописей, словарей, листочков, конспектов, через мемуары Аппоньи, полное собрание Миксата, сатирического журнала «Мальчик-с-пальчик», через брошюру под названием «Визит в самый глухой уголок мира», комиксы об Астериксе (большой формат), «Книгу о приправах», охотничьи истории Шандора Немешкери-Киш, через томик «Песен Вольных Народов», через несколько номеров католического журнала «Вигилия», которые два порнографических журнала (что за намеренная фривольность!), подобно страстной женщине, заключают в свои объятья, эдакий южный бутерброд: молодой лук, помидор, оливки, рыба, раки, салат, салат, салат! — через все это, чтобы очутиться в объятьях Петера Эстерхази, своего супруга; крайне выведя мастера из себя, и он, удивленный и не понимающий, как женщина вдруг очутилась там, здесь, произносит: «Какого хрена! И здесь не дают нормально работать!» Время между тем накладывает отпечаток: четыре-пять лет супружества: это столько, сколько: итак, женщина, «грузная фея», берет и перелезает через новые журналы «Вигилия» и два старых порнографических («эффектно!») в объятья своего супруга, и они покрывают друг друга поцелуями; из руки мастера выпадает ручка «Пеликан» (стержни для которой, по 2 форинта за штуку, он приобретает в специализированном магазине господина Яраи), стук, произведенный ее падением, приводит художника в себя, и он повелевает красавице удалиться, что она — сопротивляясь, ибо мастер ей не противен, — выполняет. («В лесу птицы, в тереме девицы, а у бражки — старые бабы».)
Вот что произошло, но потом он тоже вскочил. Его звал долг: футбольный матч. По исчезновении большого внутреннего напряжения выяснилось; что болит голова. Вдобавок из доброго орловского скакуна что-то потекло — может быть, бензокраник? кто знает? («Йошка Бор знает, но где Йошка Бор? кто знает?») Так что сначала автобус, а потом электричка.
«По вынужденному обычаю двадцатого века» он рассчитал время тютелька в тютельку; не было ничего нового в том, что мастер прибыл на тренировку одним из последних. Ребята стояли, опершись о железную ограду. Он бы не мог сказать, что именно было не так, что изменилось и обратилось ему во вред, но сразу же почувствовал напряжение, единственным выражением которого была сухость в приветствии. Все торжественно пожали ему руку, а ведь это обычно происходит только в воскресенье, а также в будни с Левым Защитником. «Что здесь такое?» — сказал он прямо. Команда заржала, притворно, как в школе, по другому поводу. «Что это за обряд?» Пиф-паф. Тишина.
Гигант мысли обратил внимание на три вещи, связующим звеном между которыми служила погодя безмятежная, но предвещающая беду. В кладовой сидела, скрестив руки под «огромными бидонами» мадам Сюзан, нарядчица — обряд! Вот оно, звено цепи. Сидела так, что с улицы поздороваться с ней было нельзя. Это было первое. Суровость огромной женщины — вещь небезызвестная, но теперь все равно по-другому… «Что-то окончательное?» Второе: в тот момент, когда мастер как раз заглянул поглубже, желая выяснить, что с этой женщиной (или, может быть поздороваться изнутри), он вдруг, как в фантастическом сне, заметил: исчезла раздевалка.
В прямом смысле слова; и не приукрашиваю! По эту (пардон!) сторону выступа, точнее, выходящей из продольной плоскости здания кирпичной стены находились личный состав и кладовая; поясню ситуацию в ракурсе истории (прошлого): кладовая была пристроена к основному зданию позднее; внешней стеной этого здания — то есть того, где располагаются раздевалки и душ, — и была когда-то эта кирпичная стена. За пределы которой теперь устремился взгляд художника! А затем потрясенно проследовал вниз. Потому что там, где «вчера» стояли себе скромно облупливающаяся раздевалка и душ с временами засоряющимся стоком, там… там теперь не было ничего, по сути своей. О, это предательское выражение лица! «Ну что, приятель», — принужденно посмеивались молодые спортсмены. Они были лучше проинформированы, не только потому, что раньше прибыли на стадион, а потому, что такой обвал, распоряжение и Vernichtung[74] исходили от завода, где большинство «ребят работало», кто за сдельную оплату, кто за почасовую. Так что мастер мог узреть лишь тяжелые, медово-жирные плоды, многотысячное перешептывание кроны, дрожаще-блестящее движение листьев, «летнюю вибрацию», но там, в глубине, где речь идет о серьезном наличии минеральных солей и водных артерий, он чужой. Для него, который чувствует себя в этом мире как дома, это случай редкий. Данная вещь была позднее поставлена ему в упрек, вызвав у выдающейся личности крайне депрессивное настроение. Для того чтобы где-нибудь чувствовать себя как дома, в другом месте надо быть чужим. «Эффектно».
Тыл кирпичной стены как будто подвергся бомбовому удару. «Госсподи», — сказал, конечно, пацифис мастер и теперь уже — очнувшись после оцепенения — отошел подальше, чтобы окинуть взглядом все. Вероятно, незадолго до того здесь так же стояли остальные.
«Здесь определенно были перегородки». И только. Вот и все, что смог вымолвить, он, господин и раб слова, и только. Зрелище было не из тех, от которых развязывается язык; типичным его последствием, скорее, был паралич. Штукатурку сбили, она виднелась внизу, как и кирпичи, о когда-то возвышавшейся над ней трибуне напоминали лишь плачевные останки железных траверсов и груда досок на полу. Вместе с кирпичами осыпалась и известка. Все покрывала пыль. Данный момент чрезвычайно характерен. Из бетонных балок, играющих столь важную статистическую роль, как одеревеневшие кишки выпирали тонкие железки. «Но где снега былых времен?» — просвещенно пробормотал он. Снаружи на одном гвозде висела покореженная табличка с красной надписью: УВАЖАЙ КОМАНДУ ПРОТИВНИКА! Из нее торчал большой ржавый, засохший гвоздь. Стены исчезли, и с их исчезновением план постройки полностью изменился. Мастер потерял ориентацию. Это ранило больнее всего; поэтому, вероятно, и случилось, что, повернувшись, вместо того чтоб сказать по-человечески, он произнес: «Где был душ?»
В этот момент было произведено третье наблюдение. В ответ на хохот нарядчицы, который был скорее циничным, чем радостным или удивленным, он раздраженно дернул головой, как лошадь, когда натягивают удила; это резкое движение привело к последствиям: он изволил увидеть сзади у котла господ Эжена и Арманда. Крепко сбитый господин Арманд и щуплый и пожилой господин Эжен размахивали руками, качаясь из стороны в сторону… как кустарник с ивой,[75] и где чья рука, если речь идет, к примеру, о руке, сказать было бы сложно.
Близорукие глаза и живая ассоциативная база мастера связали это с одним давнишним событием, которое в те времена случалось не раз, и они, юниоры, если оставались долгими летними вечерами на поле подкарауливать ребят из первой лиги и, морщась, потягивать остатки горького пива, становились свидетелями того, как тщедушный господин Эжен со стоном покусывает руку своей древней старухи, а она в промежутках между покусываниями любовно поглаживает шелковистые волосы. Мадам Сюзан была огромной, как статуя на центральной площади: окорока, грудная клетка, плечи — королевское изобилие! Она поднимала мешки с (водопроводным) оборудованием или мячами с песком, как мужчина.
Однако она была женщиной. Мастер хорошо помнит случай, еще в начале шестидесятых, который глубоко отпечатался в половозреющей душе. С этим по чувственной силе может сравниться случай с мастером на пляже (дул ветер): когда он прижался коленом к спине Й., а она позвоночником ответила, а рядом, у синего ограждения, был ее жених. (Или оно тогда еще было покрыто суриком?) История несколько непродуктивна, но, несмотря на это, в чувственной памяти его колена навеки сохранился отпечаток позвоночника Й., гладкость спины, след резинки от плавок на бедре. Неаутентично размышляя задним числом: Й. была довольно хилой женщиной. О мадам Сюзан мы можем говорить что угодно, можем эстетствовать и т. д., но к такому выводу ни в коем случае прийти не сможем. Ее чудесная женственность не оставляла сомнений; даже теперь, а ведь ей уже почтальон носит пенсию. Им теперь уже работает Правый Защитник, «везунчик».
Однако вернемся к шестидесятым годам, к предыдущему впечатлению! («Со мной до десятилетнего возраста уже все произошло», — сказал господин Шандор, поэт.) Летним утром в понедельник он изволил приехать на стадион, в маленькой тачке, увозя со стадиона «Газ»-а использованную вчера экипировку, потому что никак по-другому устроить не удалось, а у него и так уже были каникулы, и вообще он всегда готов помочь. Кроме того, дома ему было лучше глаз не казать. Ибо произошло, к несчастью, следующее: бурные вечерние развлечения четверых чертят («саранчи») дошли до того, что нога господина Марци оказалась под спинкой дивана, а остальные трое, как вы понимаете, на диване. И тогда нога господина Марци, хрясь, сломалась. (Так что если от нее иногда отскакивают мячи, то по известной причине. Мастер берет ответственность на себя.) Но братья приказали ему молчать как могила. Родители были на курсах ПВО. Господин Марци всхлипывал, но был должным образом запуган. И дети спокойно улеглись спать, а паинька мастер принимал похвалы вернувшихся домой родителей. Однако утром нога господина Марци распухла и была горячей, у него поднялась температура, он хныкал, что не могло не бросать тень на мастера. Sic transit gloria[76]… Предпочтительней было на время удалиться.
На двухколесной маленькой тачке он тянул-толкал два огромных мешка. Откуда взялась тележка? Может, он получил ее у дяди Точки или у телохранителя? Или тогда еще существовала семейная тачка? Во всяком случае, она характерно поскрипывала. Мало того: смешно поскрипывала; так что радость, от управления и извилистой параллели следов двух колес, рассыпалась в прах, мало того, перед универсамом, где во время зимней разминки в гору сворачивает Большой Поворот, его охватило отчетливое чувство стыда, а ведь девчонки-продавщицы (некоторые как раз на выданье; «на проданье, друг мой, на проданье!») на этот раз даже не хихикали насмешливо.
Большой Поворот не пользовался популярностью. «Он малость длиннее, чем нужно. Знаете, друг мой, чувствуешь, что как раз не сможешь его пробежать до конца. Ситуация не изменится к лучшему, даже если пробежишь, потому что думать продолжаешь то же самое. Да-да, mon ami, опыта не наберешься». Над пробежкой по стадиону его возвышали девушки и собаки. «Знаете, друг мой, так бывает». Бывает такой вид скрытых, тайных отношений между бегунами и собаками, интимности которых никоим образом не может угрожать присутствие хозяев и тренеров и для которых характерно не что иное, как неодобрительный взгляд время от времени, мелькающая кисть руки, тявкание и дыхание с присвистом. «Спокойно, папаша, радуйтесь, что шавка ваша еще тявкает». — «Вот укусит за задницу, не будешь пасть разевать!» — «Ага. И я про то же, папаша».
А когда — к сожалению, уже на довольно поздней стадии — команда достигла универсама, свистя легкими, с одеревеневшими от бетона икрами, девушки-продавщицы, ежась от сильного холода, сбившись в кучку, поджидают их, — такое ощущение, что со времен юниорства четыре девушки никогда не менялись: цыганистая, маленькая, в желтой майке, в обтягивающей майке (сколько здесь использовалось скабрезных словесных извращений! «сколько? одно!»)» беленькая, с мышиной мордочкой и длинными балетными ногами, и щербатая кубышка, «пышка-кубышка», — подошвы стучат все более бесчувственно, девушки, в свою очередь, с интересом над ними подтрунивают, они же, насколько хватает воздуха, дают короткие, конкретные ответы.
Теперь же на улице никого не было, маленькая брюнетка сидела за кассой, доносилось щелканье аппарата, это делало ее умнее в глазах мальчика (то есть его); мышиная мордочка с кем-то разговаривала, сквозь отражающее стекло было видно лишь вечное гримасничанье, она постоянно гримасничала, — и все равно он спешил скрыться вместе со своим убогим скрипением, как будто эти четыре следили за каждым его шагом. Почему-то казалось, будто он сам скрипел. «Стыд какой. Средь бела дня! Прямо средь бела дня!»
Он перешел на бег, тележку позади сильно мотало мешки переваливались с боку на бок, как пьяные их положению на поворотах нельзя было позавидовать. Пыхтя, подгоняя себя из последних сил, будто на финише важного соревнования, он, сделав смелый поворот, прибыл к кладовой, с веселым грохотом опорожнил тачку — антифункциональный удар дышла о землю счастливо предотвратил кронштейн, он же стал и источником торможения, — и, как и человек на большом, зеленом лугу («где плетеные стулья и рулетик масла к завтраку и т. д.»), повалился на спину и раскинул руки, обратив лицо к синему небу, в таком самозабвении привалился в качестве третьего пьяного к мешкам и стал пыхтеть, сопеть» отдуваться. «Игрой я изживаю печаль», — поговаривал всенародный художник перед матчем, и тогда, по сути, произошло то же самое: бегом он изжил стыд. (Конечно, иногда после матча, так сказать, по этой причине, настроение портится. Сидят они тогда с господином Чучу желтые, как воск, на какой-нибудь «гимнастической скамье», просто сидят и смотрят на затоптанную их ногами майку или штаны. Сидение.)
И вдруг, бум! трах! опоры нет, мешка, нет, и он летит вперед затылком, буме! а тележка опасно опрокидывается, увлекая за собой младое тело, которое навзничь упало на твердые, зернистые доски и, раскинув руки, обратилось к синему небу. Однако, когда он открыл глаза — потому что закрывал их, — над ним возвышалась громадная туча: мадам Сюзан. Мастер поднялся было снова, но женщина, держа на плече большой мешок, который и был физической причиной, взяла и со смехом наклонилась вперед, когда мастер достиг критической точки, едва коснулась его пальцем, и мальчуган сразу же плюхнулся в исходную позицию. Это повторилось раза три. Под нарастающий хохот мадам Сюзан. Мешок так и трясся. Из перевернутой перспективы, в которой оказывался мастер, в память врезались изгибы, линии отреза, вытачки и складки, начиная с замысловатой поношенности расположенных ближе всего к нему тренировочных штанов (а угол зрения — ощущение экстремальное: лоб его касался отвисших на коленях штанов!), а потом выше!.. Что было выше, удалось понять лишь позже! Потому что сначала — и в основном потому, что солнце светило в спину, — ему померещилось, что женщина голая («ГОЛАЯ!»): он с уверенностью видел обнаженный, покрытый пушком живот, который выпирал (как у любителя пива или, может, она тоже любила пиво), гора плоти над ним была ослепительно двусмысленна, отчетливо виднелись плечи, подмышки, «висюльки» под мышками: голая!
Но нет. «Вставайте уж, Петерке, много спать — добра, иль чего там у вас, не видать», — положила она конец этой странной игре и, ухватившись за края мешков, таща один на плече, другой волоком, пошла в кладовую. Он немедленно стал смотреть ей вслед, на лопатках был виден делящий спину надвое изгиб: значит, она не была голая. Однако о том, что это мог быть лифчик, он ни разу не подумал. «Купальник. Раздельный. Это была, конечно, его верхняя часть». А ведь то был лифчик.
Парень сидел скрючившись спереди на тележке, не смея, да и не желая предложить помощь. Женщина управилась с работой: сняла с одной из полок два полотенца, перекинула их через плечо, как сделал бы и сам мастер. «До свидания, Петерке. Спасибо, что привезли. Иду мыться, не мылась еще. До свидания». — «Мое почтение». Возбуждение подталкивало к решению. То, что произошло с мастером там, переходит границы любой фантазии.
Как только, подрагивая бедрами, что вызывало нечто вроде землетрясения, большая женщина исчезла при ничтожных обстоятельствах, а именно вошла в дверь — со свеженамалеванной поверх нее табличкой: УВАЖАЙ КОМАНДУ ПРОТИВНИКА! — началось бесшумное передвижение мастера, сердце стучало в горле — попробовало бы оно не стучать или стучать где-то в другом месте! — осторожно обогнул здание — тогда котел топился еще углем, а не газолином, — когда поблизости хлопнула дверь душевой, он лег ничком, как Пишта Тюшке у доброго господина Банта, слегка коснуться которого своим пером, «прямо как шальной фашистской пуле[77] волос партизанок», нам уже предоставлялась возможность. Лоб был близко к шлаку, и поскольку он сопел от возбуждения, пыль у лица взметнулась вверх, отчего запершило в горле. Пахом он плотно прижимался к земле. Ожидание пришлось ему по вкусу. Затем стояние на цыпочках у чумазого от угольной пыли, запотевшего окна, это переплетение — переплетение тела и воды, ну, и мыла! Мыло, оседающее на черных впадинах! «Как иней!» Он изволил хорошенько рассмотреть отложенное в сторону дрянное хозяйственное мыло, от которого до тех пор брезгливо воротил нос, не вынося ни запаха, ни вязкой консистенции, но с тех пор с удовольствием возит по себе коричнево-сероватое недоброкачественное, дешевое стиральное средство. «Она знала».
Пронесемся по ассоциативной нити назад, как паук, который создает свое ткаческое произведение из самого себя, оно так объективно — попадет туда муха или нет, — мы оказываемся возле наблюдающего за перебранкой двоих мужчин мастера. Он изволил подойти поближе, и гневу пришел конец. Господин Эжен был все еще бледнее, господин Арманд все еще краснее обычного, в седеющих волосах — испарина. Он был всегда моложе господина Эжена, но не настолько, чтобы это сдерживало эмоции. Господин Эжен — костлявые, тонкие ноги при этом нервно вибрировали в широких штанинах из клотта; место было — сказал: «Кто, черт подери, мне за это заплатит!» Господин Арманд всплеснул в воздухе руками, судя по всему, это был знакомый поворот спора. Господин Эжен повернулся. «Привет, Петерке», — сказал он спокойно, будто бы и не был взвинчен, затем, конечно, взвинченный, широко шагая и размахивая руками, пошел, пробурчал что-то команде, кивнул жене головой, дескать, «за мной», и женщина безмолвно последовала за ним — в сторону казенной квартиры размером с нору. «Не плелась и не подшучивала: следовала». (Мадам Сюзан — как женщина-борец, а господин Эжен — как ручная шавка.) «Казалось: они любят друг друга».
«А, ива, — махнул рукой господин Арманд, после того как они поздоровались, — ива». — «В чем дело?» — сказал мастер, хотя и так было видно. Переход от следствия к причине — процесс чисто исторический. И в то время, как славный господин Арманд кипятился, «подогреваемый частичной правотой», сквозь «жалкие железные траверсы», сквозь проломы в крыше, спускающейся к бывшей трибуне, в отчаянии вновь и вновь проглядывало небо. «Я разговаривал с новым генеральным директором. Нормальный чувак, раньше гонял мяч. Мы играли друг против друга, он вспомнил». — «Наверняка сказал, что ты здорово отделал его на том матче, и рассмеялся». Господин Арманд на всем скаку затормозил. Мастер изящно поклонился: знание жизни! Господин Арманд продолжал с меньшей уверенностью, однако вскоре вновь достиг прежней стремительности, о чем свидетельствовал цвет ста лица. «Я разговаривал с ним, и он пообещал, что деньги будут». — «И?» — «И тогда можно снести это дерьмо и на его месте поставить новое». — «Ну, и в чем же тогда проблема?» — «Да уже в понедельник разобрали раздевалки, а каменщики два дня все не идут. Господин кладовщик, который здесь, ну, ты знаешь, всему голова, ну, ты знаешь, потому что ведь кто, если не он, так вот он знает, что они и не придут вовсе, потому что все приостановлено». — «А на самом деле?» — «Да не знаю я! Ты-то чего ко мне с этим лезешь! Едрить твою налево, ну случилось маленькое затруднение, что, сразу надо вопить, как базарная торговка? Сразу ничего не получается? И сразу: кто заплатит? Ну как может так что-нибудь получиться? С «вынь да положь»? Как?» Мастер молчал. Ему, естественно, импонировал идеализм тренера, нерушимая жажда деятельности, общественное мышление. «В этом его поколению можно позавидовать. Точнее: можно позавидовать чувству коллективизма времен из их молодости». — «Однако ситуация не так проста». Нет, потому что для господина Эжена это рабочее место и потому что нет денег, отсутствуют необходимые рабочие условия. Центрифуга не работает, газонокосилка ломается, валик!., валик видел в движении 5 лет назад какой-то проныра, сток в душе забивается, грунтовые воды поднимаются, и в таких случаях движение возможно по расположенным на кирпичах опасным мосткам, склад маленький, стены сырые, штукатурка обваливается, кабель промокает, трава выгорает, шланг хилый, сетки обрываются, тренировочное поле заросло сорняком по пояс, бутсы заканчиваются, полотенец мало, и они маленькие, Боже, какие они малюсенькие, на юниоров экипировки почти не хватает, экипировку на чемпионаты никто не отвозит или отвозят не туда — «на стадион УФЦ вместо Шоймара, потому что Лаци Кохута занимает все что угодно, только не распоряжения насчет машин», — носки дырявые, горячей воды мало, мало, мало.
Так что он с пониманием слушал все, что накипело на душе у господина Арманда, но на эту длину волны не настраивался и с ней не резонировал. Нет, он, скорее, все больше грустнел. «Свершилось…» Он смущенно ковырял ногой землю, хмыкал в ответ на пламенные речи господина Арманда и все явственнее переживал заново знакомую трагедию: проигравшие грызутся между собой. «Бедняги». Господа Эжен и Арманд оказались не в той ситуации, когда можно злиться на кого-то еще, «убить они могли только друг друга». Для того чтобы положить конец потихоньку обволакивающему дурному настроению, он обратился к полезной разновидности притворства: встал к полкам и начал разбирать экипировку. Покопошившись так, после многочисленных попыток он собрал несколько комплектов — майка, штаны, носки, обувь, полотенце, — одно (сочувственное или нет) созерцание могло развеселить компанию; хотя делал он это не для того.
35 Он изволит привести здесь спонтанную записку (см. след. стр.).
36 По словам мастера, это началось уже во второй половине дня. «Знаете, друг мой, стоял я на середине 903-й комнаты, держа в руке специализированное издание, а в ней — моя техническая статья. Ужасно было вот так, на середине комнаты!» Девушки-машинистки хихикали, мастер им и нравился, и нет. Воспользовавшись привилегиями на проходной, он прибыл на стадион вовремя. Тренировка, по сути дела, была отменена, потому что господин Арманд объявил, что Центральный Защитник накануне умер, так что немного поиграли с малыми воротами, где команда мастера продула 6:5; с небольшим перевесом.
На землю уже садилась темная птица вечера, когда он тихонько позвонил в дверь один раз, привалившись плечом к звонку. В это время заметил: что в почтовом ящике что-то белеет. Пока мастер самозабвенно разгуливал по Европе, господин Марци посеял ключи от ящика. (Ай-яй-яй, ай-яй-яй, господин Марци, что же вы! Уж извините. Такого-то бережного отношения заслуживают энергетические запасы мастера!) Выуживание послания даже с миниатюрными руками мастера было делом непростым. После нескольких проталкиваний удалось. Но мадам Гитти уже давно стояла в дверях, ожидая, «чего там возится» муж. «Знаете, друг мой, даже не знаю, но когда я попросил, дай, мол, посмотрю открытку от Йоланки, она уже… Эх-х!» — «Зачем? Зачем тебе сразу ее читать?!» — «Не сердись, но так не терпится». При виде непонимающе разгневанного лица женщины он неуверенно добавил: «Я бы хотел прочитать…» Когда женщина не смягчилась, разгневанно продолжил: «Кроме того, тебе не кажется отвратительным, что я держу открытку в руке, немного наружу?» Фрау Гитти махнула рукой. «Петерке, не сгущай краски», — сказала фурия. Мастер уязвленно всхрапнул. «Тогда, пожалуйста, сегодня ко мне больше не обращайся», — сказал он чрезвычайно энергично. А затем легким голосом, как «гежиссег-педегаст», сказал: «Спасибо. На сегодня все». Но легкий тон облегчения не принес. Сердце-то находится глубже. Они избегали друг друга в маленькой квартире. (В другое время могла появиться Миточка и, предположим, сказать: «Нет, папочка, нет». И тогда бы он заглянул к себе в душу и послал Миточку к мадам Гитти сказать: «Мамочка, ты удивительная» — и девчушка пришла бы назад со счастливой, плутоватой мордашкой: «Я ей сказала, папка», — и расцвела бы в улыбке. Но она уже спала.)
Поскольку мастер лег позже, его место сиротливо пустело рядом с мадам Гитти на постели. Он уже наполовину там устроился, когда решился на самоироничное сближение, но не был оценен по достоинству. «Я бы хотел прочесть тебе первое предложение. Оно жутко милое». — «Не надо!» — крикнула женщина, чудо еще, что Митович Буланжер не проснулась. — Меня это не интересует, не интересует, не интересует!»
Утром он встал рано, сходил в магазин, не забыв дома талоны на детское молоко, — незабываемый был день. Вернувшись домой, поставил авоську в кухню. Она немного опрокинулась, но, к счастью, по направлению к стене. «Положение «Сметаны» и так было… гм критическим».
Эстерхази вынес мусор. За это время мадам Гитти приготовила завтрак: нарезала хлеб, вынула несколько кусков сыра, фромаж, который остался еще с писательского турне, и редиску (подарок господина Ноа Вебстера). «Что ты, на фиг, туда положила? — примчался мастер обратно с мусорным ведром. — Вонь запредельная», — «Лечо». Поморщившись, поставил он ведро в углу кухни. «Ты бы помыл его». — «Зачем класть сюда лечо?! Стошнить может», — с этими словами он направил сильную струю горячей воды в желтое пластмассовое ведро.
«Давай выпьем кофе в саду», — предложил мастер после завтрака, который прошел в мертвой, недоброй тишине. «Мне все равно». Но они все-таки вышли. Яркий свет утреннего солнца вынудил мастера прищуриться, очертания предметов были до обидного прямолинейны и в то же время туманно-расплывчаты. («Привычные миражи».) Все было наполнено светом. «Наверное». — «Сахар в кофе есть?» — «С чего бы? У тебя что, день рождения?» — «Нет. Впрочем». Мастер посмотрел на женщину; оба без смеха сказали: «Это не упрек, это вопрос!»
Митич здорово «шлепнулась». Но отношения были формально восстановлены еще до этого, потому что Фрау Гитти, важничая, произнесла: «Я бы хотела прочитать тебе первое предложение из открытки тети Йоланки, оно такое милое». — «Читай», — разрешил мастер и поставил на бревно чашку с кофе. (Сад — свободная от бетона полоска земли; но бревно могло бы стоять и в таком саду!) «Мой дорогой, когда я начинала это письмо, стояло жаркое лето, теперь уже позднее». Мастер вложил свою руку в руку женщины. «Дорогая моя», — подумал он. «Дорогой мой», — сказала стыдливо мадам Гитти.
Трехколесный велосипед Митич жалко покачнулся, и Донго Митич впилась зубами в бетонный бордюр, «Госсподи», — вскочил тот родитель, у которого реакция была быстрее, потому что изо рта ребенка густо хлынула кровь. Мастер воспринимал действительность грамматической и исторической. «Blut muss fliessen knüppeldick, vivat, hoch, die Republik!»[78] — пробормотал он и тоже вскочил, вторым. К тому времени, когда Миточка открыла рот — первый поток крови схлынул, — они с ужасом увидели, что весь нижний ряд зубов торчит наружу. Мастер посмотрел на жену. «Одноплечий рычаг, — кивнул он, — здесь ударило, там вылезло». Мадам Гитти бесстрашно, одним движением, вдавила зубы обратно. Митич долго рыдала: «Мамка, мамка».
37 (до того) «Убийца держит». Предстоял приятный, но явно проходящий с тотализатором матч. Он проскочил за стеной болельщиков, немного опаздывал, а нужно было еще отлучиться в уборную. Внезапно в заднем ряду кто-то обернулся — «снова эти непомерно огромные, черные пальто» — и положил руку мастеру на плечо. Он будто натолкнулся на стену. «Убийца держит». Привычный творческий путь мастера, конечно, был связан с осязаемым, реальным передвижением в пространстве, так что он потихоньку вернулся назад, туда, где они оба стояли. «Что держит?» Тот рассмеялся. «Правильно, Петерке! Нечего бояться!» — и с этими словами отпустил ничего не понимающего мастера на все четыре стороны. Тот, придя в волнение, ускорил бег и изволил отправиться в раздевалку, мимо мирно покуривающего трубку, открывающего глаза на манер черепахи: лишь в крайне редких случаях, старого завхоза. (Речь идет о чужом, но знакомом стадионе.) «Не сердитесь, дядя Ножи, — сказал он, уже переодевшись, как я его люблю за эту застенчивость, — но мне так надо было в туалет, что я и поздороваться забыл», — «Нужда заставит» — ответил старик, безучастно греясь в лучах бледных возможностей. (На стадионе Г. был один завхоз, который никогда ничего не давал. У него был только один глаз. Всегда дружески подмигивал и начинал ломать руки. «Нету, сынок, ни одной подвязки». «Гад! Все у него было!») В соседней церкви начали звонить к шестичасовой мессе, великий перезвон — при сложности начинающегося матча — был почти невыносим. Иногда он, например, прижимал руки к ушам; и так бежал, можете себе представить. Однако затем наступила тишина.
— — — — — -
экспериментально идентичное время» — тогда еще, к великому счастью, играл господин Дьердь; на него же накинулись стаей; стоило сделать два обманных удара, и, как бомбардировщики, налетели защитники, по одному с каждого бока, из чего он сделал вывод: речь идет о спасении шкуры; позволил мячу уйти, широким, «певучим» шагом вырвался из круга и направился по узкому спасительному коридору в сторону господина Дьердя, который, как природное явление, господствовал на 16-метровой; а ведь господин Дьердь в те времена был на закате своей карьеры; напр.: играл с грелкой для спины — «идиотизм»; господин Дьердь трогательно заботился о старшем брате, который своими нежными действиями, без сомнения, приобретал много недоброжелателей, хоть и играл честно: раздражение и гол порождают страсти, и господин Дьердь всегда сбивал с ног (втаптывал в землю, обламывал ноги, колотил, лупцевал, отделывал, дубасил) субчика, который перед этим сбил с ног и т. д. мастера. «Переполох был еще тот!»; а однажды в другой раз, на стадионе «Сталь» была гроза, и господин Дьердь заявил, что так играть не будет, ведь он выше всех, и в него обязательно ударит молния, на что мастер, забыв о капитанском достоинстве, — на ведь поставленная на карту жизнь младшего брата была ему дорога — предложил судье матча посадить себе на шею двоих судей на линии, чтобы они сразу стали самыми заметными фигурами, — таким образом, дилемма центрового была бы разрешена; «знаете, друг мой, штанга или распоследний защитник важнее, смело читай: значительнее судьей»; вот отчего он, еще не выйдя на поле, потому что дело происходило под одним из окружающих поле тополей, уже был сражен желтой карточкой; до этого он изволил получать ее только раз, в такой же маргинальной ситуации, но мастер, по крайней мере, осознавал, до чего могут довести его «временами просто пошлые шуточки»; слонялся себе вдоль края, остальные играли в отдалении, и тут вдруг увидел, что земля зашевелилась, кочка заелозила, и вот те на: шнюф-шнюф-шнюф, поднялась кротовая кучка. «Мастер, — обратил мастер внимание судьи на линии на возникший феномен-мастер, подайте сигнал, кроты в ауте»; «знаю, шутка неудачная, но они правда были в ауте»; судья на линии подозвал главного судью, и мастеру показали желтую карточку, со словами — ей-богу; «нечего издеваться над малобюджетной рабочей ассоциацией»; «вы видите, mon ami, видите, какая социальная чувствительность свирепствует» — а один раз ему пришлось участвовать в матче после двух часов сна («так получилось»); два часа сна — этого для его развивающегося организма мало; в такие минуты кажется, что пространство вогнулось и что надо, двигаясь боком, протискиваться между двумя невидимыми штуками; живот он, как индус, полностью втягивает, голову поворачивает, чтобы нос не создавал препятствий; прямо египетское изображение! а вот занятие мячом в такой ситуации проблема еще та! хотелось бы, чтобы господин Банга или Дора, женщина с неохватной талией, как-нибудь нарисовали такую вогнутость — долгая, коленная передача
(после этого) Мастер взглянул на стекло двери. Грязные волосы красиво вспыхнули, как лунный свет или «костер». «И много славных девчушек в комбинезонах, с прутиками в руках, негромко поют революционные песни и чуть-чуть фальшивят» — со свойственной ему стремительностью он тотчас продолжил поэтическую картину. Мастер изволил опустить голову — «сей есть Сын Мой Возлюбленный, в котором Мое Благоволение» — и, не замедляя спешки, заправил в штаны выбившуюся майку, затем передумал, поправился, вытащил ее оттуда, вытер лоб и затолкал назад.
То были плоды легкой победы, он тоже неплохо себя проявил. «По крайней мере, на семерку».
Он уже переступал ноющими ногами по сброшенной полосатой форме, от этой привычки даже вопреки частым предупреждениям не мог (или не хотел?!) избавиться, когда рядом прозвучал голос Убийцы. (Он уже изволил предчувствовать.) «Знаете, друг мой, я, переживая перед матчем, о ком угодно могу подумать, какой, мол, хороший игрок». В самом деле: в юнце, у которого еще молоко на губах не обсохло, он видит титана, распираемого силой, выше всех на голову, в хилом старике усматривает ум, «этому и бегать не надо, он щиколоткой будет раздавать пасы, а мы — носиться по полю как угорелые». «Грязная скотина», — сказал противник, который зачесывал волосы как Элвис Пресли в молодости. «Хохолком». Мастера до крайности занимал, прямо терзал, вопрос, подбриты ли волосы сзади. Поэтому он немного отодвинулся в сторону на форме, словно натирая пол. (Ренуар: «Женщина, натирающая пол воском».) «Свинья», — продолжал злобствовать неприятель. «И правда», — подтвердил неожиданно мастер и, только Убийца поднял голову на эти слова, взглядом киллера мгновенно впился Убийце в затылок; но тщетно, тщетно: некачественное освещение (недостаточная яркость, не обходится без ряби в глазах и т. д.), а также отсутствие одной, а лучше полутора диоптрий не дали определенности, но и опровергнуть, конечно, ничего не опровергли. Ему хотелось, чтобы было подбрито. Мастера редко штрафовали так, как на этом матче. «За первые 5 минут я оказывался на скамье трижды». Убийца средств не выбирал. «Котлету из меня сделал». Мастера разъярило не это, с парочкой гадостей он готов смириться. «Такова задача защитника». Например, он прямо бесится, когда защитник — «маменькин сынок» и не «вылезает». Теперь досталось ему, и все бы ничего, но, с одной стороны, старый защитник загордился, о чем, как известно, сообщил мастеру, а с другой стороны, перешел определенные границы (пнул лежачего мастера, врезал ему по пояснице и т. д.). Итак, заметно было, что мастер злится — эстетический интерес, проявленный к волосам, ничуть того не смягчил! — и все же он ласково сказал: «Правда, сволочь был судья». Убийца подозрительно взглянул на него, а сам медленно — как бы готовясь к (символическому) удару — стянул штаны. Мастер сделал неожиданный выпад: «Сволочь, что не удалил тебя раньше». Он не осмеливался подойти поближе, хотя сейчас, казалось, мог бы ознакомиться с местным кодексом чести. Противник догадался, откуда ветер дует и что до сих пор был объектом насмешек.
«Че те надо, — сразу пошел в атаку Убийца, — думаешь, ты так круто играешь?» Мастер искренне ответил: «А вот и нет». Собеседник совершенно взбесился. «Да при мне ты б ни разу не ударил». — «Ты уж извини, старик, — произнес мастер невинным голоском, — у кого, черт подери, под носом я тогда бил?» — «Тогда, когда меня уже удалили». Дело принимало серьезный оборот. «Может и так, приятель, — изволил он сказать «сжав губы в ниточку», — но ты и до того еле ползал». — «Чего ты выпендриваешься? Чтоб в пятую лигу попасть? Да ты б от радости умер, если б в со мной в одной команде мог играть». Было видно, что Убийца обратился к славному прошлому. «Приятель, воспоминаниями сыт не будешь». Тот от злобы заерзал, поднял и швырнул полотенце. «Только не думай, что сам ни в жисть не состаришься». Мастер, пожав плечами, сделал шаг в сторону находящегося прямо рядом с раздевалкой душа, как раз на тот момент оказавшегося свободным. «И ты ни в жисть, ясно, ни в жисть не сыграешь в такой команде, как я». Мастер всем существом повернулся назад. (Шанс попасть в душ был, конечно, упущен.) «А че. Где ты играл-то». — «Где надо. Поспрашивай. Может, и скажут». Противник тяжело дышал и, сверкая глазами, смотрел на него. «Я поспрашиваю, — изволил сказать мастер с мгновенно возникшей грустью. — Как зовут-то?» — «И это тоже спроси!!» — «Ладно, приятель», — сказал мастер и пошел в душ. А когда вернулся, старый игрок уже собирался уходить. «Всем пока», — сказал он, ни к кому не обращаясь. «И тебе пока», — ответил мастер точно так же.
Они уже стояли на улице, на сыром, прохладном ветру, одна группа мокрых прядей прилипла ко лбу, а другая, насильно выпрямляемая капюшоном пальто, шаловливо дразнила шею; стояли у церкви, на углу, он возил подошвой по осклизлому асфальту и в который раз говорил господину Ичи, что у него такое ощущение, будто допущена ошибка, и его беспощадность к иллюзорным представлениям Убийцы о прошлом — здесь — необоснованна. «Наверняка, потом здорово поругается с женой». — «Чего ему от жены надо?» — указал господин Ичи на мастера и отвернулся к остальным. Господин Ичи не склонен мириться даже с элементарной грубостью защитников и понимал трагедию, которая, однако, и для хорошего вратаря не является секретом (Мастера долгое время занимал этот диссонирующий случай, в основном потому, что старик, как ему казалось, и правда был в свое время «игроком покруче» него. Он рассказывал эту историю кому ни попадя, с подтекстом, психологично, мадам Гитти, матери, господину Дьердю, отцу, даже в литературную форму попытался облечь. «Сволочь», — изволил печально сказать он.)
38 Мастер морщил лоб. При этом причмокивал, выпячивал губы, шипел, да еще и подслушивал. Мадам Гитти уже несколько раз заглядывала, не нужно ли помочь. «Нет! И очень тебя прошу, не шепчись с ребенком, когда я работаю. Можете спокойно стоять на ушах, только не шумите. Не шумите!» Но как только пришло решение, пришло и спокойствие в семью; вот как все взаимосвязано, («Гиттушка, я бы в том месте, где ты выступаешь во всем человеческом величии, приписал, что у тебя потеют ноги. В качестве художественного контрапункта». — «Нет. Тогда я заплачу и слезами размажу чернила».) Над бровями образовались жуткие рытвины, по которым с болезненной нежностью любят пробегать пальцы Фрау Гитти. Рытвины — отцовское наследие: а у того какой высокий лоб! Как небольшая футбольная площадка!
Час-с-стый ш-ш-шепот принес наконец тишину, спокойствие души и губ. «Ш-ш-пг. Смазываете жиром смычок, mon ami? Ш-ш-ш. — Можно попробовать звуковой эффект. — Как ветер. Повес-с-сть. Ветер холодный и свис-с-стит. Ну, конечно, у всех есть батареи, камин по крайней мере!» Верно, как это верно! При его потрескивающих звуках и дружелюбном красноватом свете мечутся бесчисленные мысли. «Что, между нами говоря, друг мой, не помешает». Я позволил себе также заметить, что «повес-с-сть» есть маленький роман, что является словом с двойственным значением… «Гм, гм, — задумался он ненадолго, — то есть любовный роман?!». Идея ему понравилась.
39 Мастер был приведен в страшную досаду выводом о том, что если все наденут на белые майки траурные повязки, то по траурной повязке выйдет, что каждый — капитан, а ведь им является мастер. Минута молчания была назначена в начале матча. «Этот гад судья отсчитал ровно минуту. Знаете ли вы, друг мой, как долго тянется минута? Я теперь знаю». 23 человека стоят, потому что судьи на линии, конечно, еще нет, а ветер носит черный шлак! Что за церемония! Пронзительная, беззвучная сцена прерывалась реалистичным позвякиванием мусоровоза с холма за воротами. «Звуки, образы и я бросились врассыпную, как курицы». Они играли неплохо, однако противник без труда вел в счете. Когда все уже было потеряно, он бессмысленно ворвался в штрафную зону, ведь что-то нужно было сделать, там его и сбили с ног. Ведущий судья не колеблясь засвистел. Он лежал в районе шестнадцатиметровой, головой на земле, то ли грызя ее, то ли плача, а на губах была одна черная пыль, пыль.
40 «Приходит Веверка его большое опухшее лицо ползет, ползет и теряя очертания течет разливается как обезумевшая Тиса потом его волосатый живот проталкивается вперед и пускается бегом в опустевшую комнату принимает ее форму заполняет ее тяжелый мужской парфюм проникает повсюду и массивное покачивание галстука а также напористые хорошо выбритые двойные подбродки оп-ля мы только на минуточку заскочили тебе же мы особо мешать не хотели петерке ты петерке пиши себе красиво и благородно из танца темных и светлых мягких и жестких поднимается как рыба внезапно мне хочется плакать ну ты за это поплатишься глаза бородавки в носу морозоустойчивый рот гнилая деревяшка в ноздрях паук-крестовик Веверка да-да Енэ говорю говорит Веверка эта люстра как раз твоих размеров и купил ведь мы пойдем уже опрыскивай пальму панданус опрыскивай панданус».
41 Мастер замедлил бег коня и, прищурившись, стал наблюдать за движущейся навстречу по тротуару худенькой фигуркой, которая перемещалась чуть ли не в полуметре от земли, прямо как ангел. Только — как обычно, в последнюю секунду — он узнал в явлении господина Шандора, поэта, то надавил на тормоз, и верный орловский жеребец практически встал как вкопанный на крайне дурном асфальте. Он умудрился вытащить ноги из стремян, упруго — сказывается спортсмен! — спрыгнуть вниз, и они поприветствовали друг друга. Он был очень рад встрече, потому что уже давно откладывал «восхождение» к господину Шандору и все чаще о нем думал. Однако после быстрых приветственных жестов господин Шандор припустил ангельским галопом дальше, мастер же широким шагом поспешал рядом. «Знаете, друг мой, я еще никогда не ходил так быстро, так, чтобы не бежать… То есть вообще-то однажды. С машинисткой, до площади Маркса… Как она неслась! И огибала людей! Чудесная кошачья мордашка!» Но происходивший разговор был все же таким, как если бы они остановились поболтать каким-нибудь осенним днем. Господин Шандор задавал вопросы относительно семьи и работы мастера, и тот четко на них отвечал. (Мадам Гитти болеет, Миточка — прелестный ребенок, роман увеличивается в объеме. «Количественные показатели опасений не вызывают».) Когда же достигли цели поэта («которая сама его находит»), универсама, перед дверями мастер приступил к церемонии не слишком долгого, но все же личного прощания. Однако господин Шандор сопротивлялся — даже не смотря в район лица прозаика, и он ощутил то, что ощущал уже столько раз: господин Шандор где-то не здесь или если здесь, тогда его самого нет. «Погоди-ка, погоди-ка, купим что-нибудь маленькой Дори…». — «Да не надо, Шандор…» — набрал мастер в грудь воздуху (многоточие является здесь характернейшим оборотом речи), но господин Шандор уже, как угорь, скользнул между изобилующими товарами полками. Забрели к стиральным порошкам; «Томи Стар», «Томи Супер». «Может быть, что-нибудь отсюда», — сказал тихо господин Шандор, проносясь вместе с мастером между полками. «Да не надо, Шандор… Я тебе позвоню, и вы как-нибудь вместе с Дорой…» Господин Шандор взял в руки пакетик с макаронным изделием «тархонья», он по инерции сделал отрицательный жест. Счастливая звезда привела их в шоколадный отдел. Мастер, как человек, которому уже все безразлично, показал на шоколадку с фундуком (не с начинкой!), который любит (Г) больше всего, пусть его дочери купят это. При виде изнывающей перед кассой очереди он совсем пригорюнился. «Но Шандор… еще стоять здесь», — он чуть не расхныкался.
Однако господин Шандор с неожиданной для него решительностью протолкался к кассирше, которая, сильно потея, молотила по кассе-автомату, глаза поднимала только до корзины, а руками с колдовской быстротой вновь и вновь пересчитывала деньги, господин Шандор, загадочно вибрируя голосом, обратился к ней, показав две шоколадки (из великой щедрости, конечно, взял две): «Пожалуйста, это потом тоже мне посчитайте». Кассирша даже не посмотрела вверх, да и на что ей было смотреть? Господин Шандор протянул мастеру руку, высказал радость по поводу их встречи, и поскольку под перекрестным огнем одобрительных взглядов встал в самый конец очереди, мастер остался один как перст, соответствующим образом обезоруженный. («Магазин самообезоруживания, ха-ха».) Немного потоптался на месте, а потом слинял.
«Знаете, друг мой, стоял я на холме, прижимая к груди шоколадки с фундуком, — в отдалении нетерпеливо рыл копытом землю его скакун, — и чувствовал себя совершенно разбитым». И долго еще возвращался в мыслях к «тому «бесчеловечному эпизоду». «И гонка эта! Меня как будто вытряхнули из собственного времени!» У него иногда мороз проходил по коже от величия господина Шандора.
— — — — —
«Сад семьи Ваша — визуальная новелла».
В помеченном крестиком месте хорошо сидели мастер с компанией, в это время солнце садилось и светило в глаза, у подножия трех молодых сосен, на простом, зеленом квадратном участке.
«Знаете, мой друг, разговор с Вашей означает, простите меня, интенсивное ощущение жизни. Как если бы Ваша был искрящейся глыбой льда, только не изо льда, а из времени». Вот как изящно умеет выражаться мастер.
«Я потому не могу нагородить тебе чего-нибудь в ответ, что с тобой говорю, как с самой собой».
(Эдит прекрасная.)
В соседнем дворе, на пути солнца и луны, стоит уксусное дерево с обширной кроной. В последние годы все реже становится сеть ветвей, ибо листья опали, крона исчезла; дерево хватил удар. Оно еще живо. Бросает тень на безмолвную, иногда невозмутимую тишину нашего двора. Аромата не испускает, пахнет чем-то кислым, почти воняет. Особенно осенью, когда сыплет желтую пыль. Но, говорят, под землей корни его больше, чем крона.
— — — — — -
— мастер еще чувствовал теплоту их рук в своей ладони, чему не был от чистого сердца рад,[79] Фрау Гитти обольстительно залезла в ванну, и тут же в дверь позвонил господин Имре, потому что звонил именно он. Рядом тявкал его игривый пес. Но собаке господина Имре — игривому псу — по имени Пам или Пами в приеме было отказано, потому что мадам Гитти боится собак как огня! (О, сколько раз, помнится, жена судорожно сжимала ему руку, и кисть его была как в настоящих тисках, и тихо дрожала, а он с раздраженной холодностью разубеждал: «Это всего лишь собака». — «И я о том же» — говорила, бывало, женщина в страхе.) «Знаете, любезный Имре, — сказала красивая молодая женщина на более поздней стадии, — я собаку могу представить лишь на фоне сада». Над этим господин Имре от души посмеялся, пока колол грецкие орехи.
Да, но сначала выпроводили собаку. «Это твоя собака?» — «Конечно». Они напряженно стояли в дверях. Собака буйно рвалась то туда, то сюда, а мадам Гитти в ванной насторожилась. («В чем мать родила, настороже!») «Голая», — подсказал поэту мастер. «Славная», — кивнул тот и ждал новых и новых вопросов, которые не заставили себя долго ждать. «А команды знает?» — «Нет», — твердо сказал господин Имре. Он кивнул, этого-то он и ждал. «Хорошо еще, что не чистой породы». После чего кокетливо добавил: «Echt promenad-mischung…[80] Ну, а как ее зовут?» (Это будет чрезвычайно интересная часть:) Господин Имре в своей сухо-корректной, но такой живой манере ответил: «Пам, или Пами». Мастер задрал брови, как дед на нескольких сохранившихся фотографиях: «Так и зовут? Памилипами?» Господин Имре мгновенно уловил (в смысле тотчас же понял скрытый смысл) проблему. «И на Пам откликается. И на Пами». Мастер махнул рукой, как будто ерунду какую-то услышал. «Но звать-то? Как звать?» В этот момент собака выбежала во внешнее пространство, под открытое небо. Господин Имре, как добрая мать, закричал ей: «Па-ам!» — «Ага», — изволил он извлечь информацию. Пам чуть погодя вернулась, а господин Имре с серьезным видом спросил: «А я, — тут он указал на себя бледно-изящным французским жестом, — я могу войти?» — «Да».
Но в этот момент произошел неожиданный поворот событий, вследствие чего они все-таки изволили не зайти, а выйти, и гость произнес: «У тебя есть фонарик?» Итак, эти двое, звездная пара, прозаик и поэт, вышли посмотреть, что за масло течет из «Жигулей». Легли на живот и, пока Пам вовсю буйствовала на слегка идущей вверх, извилистой улице, стали анализировать ситуацию. «Капает по окружности», — установил мастер. Добавлю: справедливо. На пыльных, сухих шинах — более темные потемнения, почти правильной формы, «дольками»! «Это масло», — сказал господин Имре тоскливо. «Может, из дифференциала», — сделал уверенную попытку мастер. Тогда господин Имре понял, кто лежит рядом с ним под «Жигулями»: вы уж меня извините за это слово, но применяется оно в специфическом значении — бездарность. «Асимметрично», — добавил он значительно и посветил способным к замыканию аппаратом, фонариком, в разные стороны. Они поднялись, почесывая затылки. Пам прыгнула на заднее сиденье. «Я вроде в яму какую-то въезжал». — «В овраг», — произнес он милое сердцу слово. «Много колдобин». Господин Имре, после того как закрыть дверцу машины, посчитал, что Пам, наверное, постоянно нужен свежий воздух (пусть даже будет холодно), поэтому — чтобы покрутить ручку (вниз), — открыл дверцу машины. Как только открылась дверца «Жигулей», на углу в очаровательной, красной машине появились пожарные. «Это понятно, друг мой, где-то всегда что-то иногда горит».
(Как-то раз мастер и его верная подруга создали маленькую пожароопасную ситуацию. Они возились с ужином, Злодей-Бармалей уже подремывал. Внимание мастера приковала к себе серия картин сюрреалистов. Что оказало нежелательное воздействие на процесс разливания чая. О льющемся через край кипятке сообщило шипение женщины. Однако с практической, поверхностной и одобряемой нами точки зрения серия картин принесла пользу. Так-то вот!
Начал он с четкой сцены забивания свиньи на рассвете, типичной для тогдашней поэзии, что, мол, кровь можно еще и есть: вот в чем мораль! Паленая свиная щетина вела в пасхальную церковь, пламя поддерживаемой мастером свечи попало на раздувшийся парус тогдашних волос мастера; его, можно сказать, святое спокойствие на фоне бесчисленных женских причитаний, когда, зажав пламя в кулак, он по-научному лишил его доступа кислорода. Запах ладана, серебро, торжественное веяние ветра. Здесь мастер, однако, запнулся, потому что порядок расположения картин, а главное, запахов во времени создавал помехи. И тут вдруг выяснилось, что речь идет о «настоящем»!
Они повскакали с мест, мастер в замешательстве хотел бежать и туда, и сюда. Наконец печально взглянул на чайник: «И он чуть теплый». Какая чувствительность к теплоте на пожаре! Очаг обнаружила мадам Гитти. Рядом с газовым нагревателем горела простыня. Душ! Струя! И запах!! Мастер после этого долго нудел. «Гарь», — говорил он плаксиво. «Соседи», — говорил он плаксиво, потому что опасался неделикатных вопросов, которые могут последовать за проветриванием. «Ну все, хватит уже», — сказала женщина, которая руководила восстановительными работами.)
Распахнулись дверцы дверей пожарной машины, оттуда выскочили двое и, проделав полпути ускоренным шагом, с той же решительностью, но уже неторопливо продолжили его по направлению к молодым людям. Третий пассажир маленькой красной машины облачил младое тело в гражданскую одежду и, выйдя из машины, стал без дела слоняться. Машина стояла от наших героев приблизительно в 20 метрах, а одетый в гражданское, не смущаясь, слонялся. «Слонялся, друг мой, без пятнадцати десять вечера. Вы бы могли дать этому объяснение, если бы понадобилось?» Что сказать на это мне, которому отведена столь скромная роль? (Черные, густые волосы слоняющегося полыхали синим, несколько торчащих на макушке, покачивающихся туда-сюда волосков создавали мальчишеский эффект.) «Стихийные повреждения», — сказал господин Имре без надобности, намекая на многослойные трещины от мороза.
«Чья машина?» — выразил понятную заинтересованность человек в форме, не сводя изучающего взгляда с обоих выдающихся мужчин. Мастер и господин Имре посмотрели друг на друга и одновременно ответили. Мастер сказал: «Моего друга» — ибо господин Имре являлся таковым (см. стр. 209); долгое время он являлся почти его другом, он и это изволил расценивать как чрезвычайно выгодную позицию, но затем, когда отсутствие господина Имре стало казаться бесконечным и от этого он чувствовал себя опустошенным — пусть даже не целиком, а в форме некой дыры, он решил — господин Имре — ему друг. А господин Имре сказал: «Моего отца» — потому что «Жигули» принадлежали его отцу.
«Ага, — сказал вопрошавший, и взгляд его скакнул туда-сюда. — Ага». Теперь он уловил противоречие в двух показаниях (!) и, не давая им опомниться, набросился: «Удостоверения личности!» Мастер посмотрел в землю, на тапочки, ибо в этот вечерний час был уже в тапках. Теперь, приподняв ступню и перенеся вес на пятку, он наполовину вытащил ногу из тапка. «Друг мой! Мотив!» Затем, приподняв над поверхностью тандем ступни и тапка, стал покачивать последним на одном из пальцев ноги, точнее на большом. Пам в этот момент начала тявкать (не поэтому).
Два этих события — двойное выражение домашности и имущественных отношений — возбудили в вопрошавшем целый ряд мыслей. «Ага». Они даже слова сказать не могли, их реакция в этой связи, мне кажется, была хуже среднего. «Ага», — продолжил человек в форме свой как бы монолог; было видно: он многое обдумывает, взвешивает, решает, какие-то факты отметает как несущественные, другие выдумывает: словом, размышляет. Мысли — и это, что и говорить, успокаивает! — повели его в нужном направлении. «Ага. Тогда это все-таки ваша машина… И собака эта в ней… ваша…» Господин Имре кивнул, хотя машина была отцовская. «Ну, до свидания», — сказал страж огня мастера и господина Имре и шагнул к бесшумно подъехавшей тем временем миленькой красной машине. Любезный bel ami[81] с синеватым хохолком уже сидел внутри.
Господин Имре как гуманист покачал головой: «Неужели было не догадаться, что произошла неполадка! Обязательно украли! — Он продолжал качать головой: — И мы еще радуемся, что пронесло!» Однако в этот момент со ступни мастера упал тапок, отчего он вздрогнул и сказал незнакомцу (все мы в этом мире незнакомцы!): «Извините, шеф. Вы не посмотрите, что здесь проистекает?» О, роскошная двусмысленность, затесавшаяся между протечкой масла и очередным свинством! Довольно! Он изволил шепнуть господину Имре: «Поползает он у нас, как правый защитник «Волана СК»!» — «В чем проблема?» — заглотило крючок официальное лицо и повернулось. «Вроде бы масло течет… И неизвестно: опасно это или неопасно?» Тот наклонился. Мастер почти ощутил, как вдавливается в живот кобура. «Ну, так ничего не увидишь, — констатировал он. — Я посвечу», — и в самом деле сдержал слово: посветил: сначала одно колесо, затем, чтобы «больше опустить» коленопреклоненного человека, что-то сзади и, наконец — чтобы быть вне всяких подозрений, — второе колесо. «Радиальная протечка масла», — сказал мастер. Когда же человек в форме вылез из-под машины, лицо его блестело, шапку он снял заранее, и теперь светло-каштановые волосы падали на лоб, и сказал: «А, ерунда, немножко жира и все. Слишком много залили, а так ерунда» — и мастеру стало казаться, будто он разговаривает со специалистом, обыкновенным механиком, который хорошо знает дело и работает на совесть. Но затем он отогнал эту мысль, этому способствовало то, как мужчина поправил ремень и поднял шляпенцию. «Всего хорошего, — сказал он бесстрастно. — Спасибо». Но когда маленькая красная машина бесшумно удалилась по извилистой вечерней улице, он — с меньшей симпатией — потер ручками сердечком: «Хи-хи-хи. Поползал он у нас».
«Однако, друг мой, что это за чепуха!?» Вы уж извините, но что такое хеппи-энд, я знаю… И в самом деле, что это за история, которая заканчивается тем, что предъявите, мол, документы, и все. «Очень хорошая история». И не мастер ли сказал, что все то, что здесь правда, маловероятно, а вероятно лишь то, что я присочинил, то есть то, чего не было. «Это не я сказал». Да и вообще, если в искусстве нет искуса, что остается? Он раздраженно парировал: «Кусст». Затем в свой мудрый период он произнес: «Dichtung und Wahrheit»[82] — и знал, к чему. Позднее он так определил свои художественные устремления: «Der Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug»[83] — в том смысле, что безудержное стремление к правде есть в то же время радость плутовства; что две эти вещи порождают жанры искусства. Пиф-паф.
Возвращаясь теперь к изначальной ситуации, Эстерхази был сверх меры доволен собой, поскольку и он такой выдающийся человек, но когда «любезный друг» обернулся и посмотрел сквозь заднее большое стекло отъезжающей машины, и выражение его лица, застрявшее на полдороги между плачем и смехом, было точь-в-точь как у конферансье из Кабаре, он изволил положить руку на плечо уже направляющегося к входу поэта и сказал: «Уф, ива,[84] с этим мы могли бы влипнуть».
В самом деле.
Мадам Гитти за это время облачилась в длинный халат и с беспокойством поинтересовалась о собаке. Господин Имре, молодцевато бравируя голосом, долгое время держал хорошенькую в неведении молодую женщину, которая затем — когда подлог обнаружился — тем больше развеселилась.
Мало того: на маленьком столе в ожидании их возвращения выстроились в ряд соленое печенье и яблоки. Что и отметил господин Имре. Но мастер сделал ему знак: «У нее руки золотые», — прошептал он. А когда господин Имре начал елозить пепельницей, женщина по установленному правилу пригрозила: «Если станете сыпать пепел на пол!..» — «Но я не курю». — «Тогда совершенно непростительно сыпать пепел на пол», — улыбнулась женщина, поднаторевшая в подобных диспутах. «И еще есть грецкие орехи с медом». Этому господин Имре обрадовался; он резко вздернул сухую, интеллигентную голову, разнообразие которой придавала борода в нижней части. Как он затем — уже разочарованно — сообщил, что думал, будто это какое-то лакомство (из Марокко), грецкие орехи с медовой начинкой или что-то в этом роде. Каково же было изумление, когда мастер после такой установки — а он во время встречи вел себя как настоящий отец семейства, каждое блюдо подавал, разделял на части, да еще и с необыкновенной ловкостью, не забывая при этом подливать, — внес грецкие орехи и отдельно в маленькой фаянсовой чашечке мед. «С чего это — грецкие орехи с медом! Меду поешь, грецких орехов поешь. И что?» — «Временной фактор». — «Ага, — подхватил на лету поэт, — как лен и конопля». — «Стэн и Пэн». — «Фанчико и Пинта». — «Но-но!» — взревел он.
Господин Имре, не долго думая, вытащил стихи и всучил их мастеру. Он сразу понял, чего от него ждут, и приступил к делу. Лицо его стало строгим и прекрасным. (Лишь вполуха прислушивался он к игривому разговору мадам Гитти и господина Имре; господин Имре ставил под сомнение отцовство мастера — в форме ужасно слабых шуток, — которые в последнее время все больше нравятся мастеру: водопроводчик и т. д., — так что он, завершив чтение стихов, первым делом выдавил из себя: «Я хочу знать имя! Имя этого ублюдка, имя!» Жена только рассмеялась. «Вымя», — ответила она, или что-то в этом духе. Объяснение произошедшего в тот момент печального отчуждения господина Имре таково: отчасти, и справедливо, ему было обидно расщепление внимания мастера, отчасти же, услышав такой — поверьте, формирующийся по необходимости — супружеский язык, он почувствовал смущение, которое сродни гневу.)
Он читал. Хотя строгое выражение его лица и не было маской, но на сердце потеплело. Он думал, как хорошо, что господин Имре существует; это как-то успокаивает. «Меня по крайней мере очень успокаивает», — сбавил он обороты. Мастер думает так о немногих, но несколько все-таки есть. Затем он расположил листы как карты и посмотрел на все сразу, потом еще раз на каждый в отдельности, затем с оборотной стороны и, составив в стопку, положил сверху растопыренную ладонь, как бы давая благословение, — и изволил сымпровизировать небольшую речь по всем правилам. «Хорошо». Затем вернул папку, аккуратно ее закрыв. (Как кто-то, кажется режиссер, один раз отметил: «Как любовно ты обращаешься с бумагой! Словно открываешь или закрываешь тетрадь». Мастера это очень разозлило, но виду он не подал.)
Они ели финики, потом яблоки, непринужденно болтая о том, о сем, и чувствовали себя классно. Случилось так, что он взял в руки книгу мадам Галгоци, к которой всегда относился с уважением, и, качая головой, сказал: «Как захватывающе ее непостоянство». Но к тому времени они уже стоя прощались.
На улице возле машины господин Имре надел очки. «У тебя сколько?» — спросил мастер тотчас же. «А что? — повернул к нему лицо высокий мужчина. — Что у меня все это спрашивают?» Но мастер дал хороший ответ: «У меня тоже есть! Я спрашиваю, ибо ворон ворону!..»
Господин Имре долго, педантично разогревал мотор, чего мастер еле дождался, потому что начал равномерно лязгать зубами. Господин Имре напоследок еще высунулся из машины и прокричал зябнущему прозаику цитату из Артманна, про луну, очень даже к месту, потому что сверху, с небес, им добродушно улыбалась большая, желтая блюдоликая. «Длинные тени. Длинные тени». (Цитата не это, это мысль.)
42 «Умер», — сказал тренер на тренировке в пятницу. Они стояли. И как бы между делом: «Извольте пробежать два круга!» Во время бега он выл как собака. Рот закрыт; внутри слышится беззвучный плач. Взглядов старался избегать, но это было взаимно. Они бежали, быстрее обычного. Он не очень-то любил Среднего Защитника, профессионалом тот был плохим; расстановка, готовность к удару и т. д. Да и воскресные голы чисто… («Оставили несмываемое пятно на его репутации. При том-то дожде!») То есть их отношения состояли из перешучиваний перед матчем (Средний Защитник умел хорошо пошутить, по крайней мере хотелось смеяться) и переругиваний после матча. Они не знали друг друга. Но эта поверхностность лишь усугубила дело. После двух кругов сыграли на малые ворота, тренировка как таковая была отменена, игрой они медленно изживали ужас (как он регулярно дурное настроение), за четвертым забитым голом уже последовал довольно крупный спор. Они продули с небольшим перевесом: со счетом 6:5. «Но все-таки что произошло?» — спросил кто-то, стоя под душем, потому что не в силах был дальше выносить молчание. «Ничего не произошло!» — крикнул Средний Нападающий (он жил со Средним Защитником в одном доме; у них даже была общая баба). «Ничего!» — он встал под душ, и светлые волосы медленно, слякотно потянулись на лоб. Вода струйками текла по лицу. (Он был немного подшофе, как уже бывало, дал Аги по губам, как уже бывало, дома съел полкило хлеба, сжевал вдобавок приличный кусок зимней салями, как уже бывало, потом еще и с матерью поругался, хлопнул дверью и крикнул ей, что уйдет от нее навсегда; так, с небольшими вариациями, происходило каждую неделю.) — — В следующее воскресенье уже играли в рейтузах, он изволил хорошо запомнить холодную каменную скамью и дыру на рейтузах, когда Левый Защитник с серьезным лицом вынул траурные ленты. «Они лежали вместе с резинками для щиколоток! Да-да!!» Еще до этого, копаясь с рейтузами — как предпочтительней расположить дыры, — он изволил подумать, что, наверное, следовало сделать или заказать траурные ленты, но тут же — не прерывая временного единства — подумал еще, что так даже лучше, «по крайней мере не будет стоять ком в горле при взгляде друг на друга». Но траурные ленты были. Все время, пока Левый Защитник английской булавкой закреплял у него на руке ленту (булавка методично расстегивалась на присобранной ткани, Левый Защитник ногтем вдавливал ее обратно), все это время он жутко боялся, что булавка проткнет вену.
После того как начали с центра поля, противник — по договоренности — вывел мяч в аут, и судья засвистел. Пришло много зрителей, по большей части с кирпичного завода, создав накаленную атмосферу; до них с трудом дошло, в чем дело, а сначала, к сожалению, мелькали неуместные замечания, потом, однако, наступила тишина. «Я стоял в центральном кольце и хорошо видел, как вытянувшийся в струнку судья медленно-медленно поворачивает запястье и бросает на него взгляд, сколько, мол, осталось еще от минуты. Потому что эта сволочь отмерила точно минуту. Я не знал, куда и смотреть. Напротив меня центровой нападающий противника жевал жвачку». Мастер посмотрел на свои бутсы. Пошевелил в них ногами. (С тех пор как господин Дьердь с великосветской галантностью подарил ему две пары бутс, одну «боевую» и другую «для разминок», он с трудом может решить, какую конкретно надеть; для скользкой травы, жесткой почвы, жесткого противника — так подразделяются шипы.) На черном шлаке блестели осколки стекла. Ветер усилился: шурша, взлетал черный шлак, и, шурша, взлетали над головами волосы ребят. Он слышал собственное сопение, как будто в носу были полипы. Сзади, на расположенной за воротами огромной куче мусора, громыхал «ЗИЛ». Тогда я посмотрел на флажок аута». (С той целью, чтобы не разреветься.)
43 «Ау-ау-ау, До-о-орика, доченька, ау». Звук гудел по ту сторону высоких гор и, как обычно, производил на него воздействие: обуха по голове. Вновь влезло большое, ухоженное лицо Веверки. Он сидел, окруженный тетрадями, в превосходной отгороженной комнатке, устав от целого дня (минуту отдыха давали лишь пеленки, подлежащий намазыванию хлеб и мусорные ведра), от целого дня, который теперь вроде бы подходил к концу. Йожеф Веверка в новом тулупе уже заполнял собой пространство перед ним! «В Воньярцвашхедьи на заказ сделали». («Чесслово». И?) Он подмигнул мастеру, которого от этого трясет: «Так дешевле». Его дернул черт: «На сколько?» — «Разделим, помножим, и будет ни много ни мало, короче говоря, Петерке, дело того стоило. Вместе с бензином, конечно». — «Тогда хорошо» — и он предложил супружеской чете сесть. «Хотя мы ненадолго, но пальто бы сняли». Все смеялись, он был отечески похлопан по спине и остался стоять, как оплеванный. «Гитти тоже смеялась». (Бедняжка, металась меж двух огней, в классической конфликтной ситуации.)
Итак, он помог снять мадам Веверке пальто. «Как вы сегодня элегантны, милочка», — проворковал он устало в волосы крошечной женщины. Нежное создание: работа, мужчины — все позади. «Ой, Петер, не валяй дурака!» (Как она, бедняжка, — и она тоже, — хитро, униженно, все этот Веверка! — жалко, лукаво подталкивает обычно под зад мастеру белую простыню — полпростыни, — чтобы не запачкались новые колониальные чехлы для мебели… Как-то раз она привела в пример Йожефа, он, дескать, даже носки стирает сам чуть свет, поскольку мастер, рисуясь перед самим собой, сокрушался, что даже пуговицы не умеет пришить. Да-да. «М-да, — сказал он, — если бы у меня, как у Йожефа, потели ноги, — он очень гордится, что у него не потеют ноги, — то и я бы переквалифицировался в прачку». — «Да что вы», — покраснела мадам Веверка. Мастерское утверждение явно было справедливо. «А что, нет?! — С шутками он немного переборщил, как уже не раз бывало, на что уже обращалось его внимание, конкретно в тот раз неблагодарную обязанность взяла на себя мадам Гитти. — Да ведь вся улица Ш. мне жалуется. И если уж мы заговорили об этом, не надо меня щипать, Гитти, — потому что добрая женщина намеревалась положить конец неделикатным поэтическим излияниям, но он ответил так, как ему раньше отвечал господин Дьердь, если они каким-то образом оказывались в благородном обществе и старший брат наступанием под столом на ногу напоминал об использовании какого-либо колюще-режущего предмета по назначению, призывал сдерживаться в выражениях и т. д., результатом чего была: грубая отповедь господина Дьердя, что всегда делало его очень популярным в кругах взрослых; мастер же в светской жизни был простым, порядочным, прилежным пареньком, воспитанным на совесть, что, по сути, не было вознаграждено по заслугам, — если уж мы заговорили об этом, соседи возмущаются, почему Йожеф развешивает свои носки на электропроводах, вот будет замыкание на линии, они еще опоздают на работу, а ущерб кто будет возмещать? Думаю, их можно понять. Скажите, мама, только откровенно, вы возместите?!» Представляете, какая была сцена.)
Мастера, развалившегося в необъятном кресле, никак нельзя было назвать комильфо. Тогда Йожеф Веверка в срочном порядке спросил: «Петер, почему ты не поворачиваешь к солнцу пальму панданус?» — «Где ваза для цветов?» Мастер с сухой любезностью отряхнулся от вопросов, как собака от воды, и тишина после этого стала усиленно нарастать. (Мадам Веверка с Фрау Гитти шуровали на кухне. Добавим, они принесли, 6-10k штук яиц, wie gewöhnlich,[85] 3 кг моркови, сельдерей, мясного супа и картошку в авоське. «Роднуля, — прокомментировал он кухонное зрелище по прошествии событий, — ну что ж ты не сказала, что еще те сто… А, да ну, на фиг!» Прошу прощения. Как-то раз в интимной ситуации он с мягкостью так это прокомментировал: «Гиттушка, это все-таки мезальянс!») В тишине Веверка не переставал строить кислую мину. Обиженно строить кислую мину. Чувствительный мастер погладил висок и, вскочив, заревел. «Что вам надо, дорогой Йожеф Веверка?! Двое детей, в армии служил, даже «Непсабадшаг»[86] обо мне написала. Идите, пожалуйста, на хуй со своей пальмой панданус!!»
44 Представление метода.
45 То, что вот стоит раздевалка, которой нет, было делом непростым. «Парадокс, друг мой, вреден для здравомыслящего человека». Видны все до единого разрушения, от этого что-то надломилось, и он чувствовал, что команда потихоньку разваливается. Общее здание клуба, система раздевалок были теми внешними признаками, которые создавали видимость клуба, команды. «Но знаете, дражайший, убожество усиливало любительство». Не футболисты, а любители футбола. Да и сам мастер!.. Ему нужно было испытать и это! Ведь он, например, никогда не злился, когда в раздевалке (той, старой) стояла сырость, и если, сидя на расшатанной скамейке, доски сиденья которой, смещаясь, легко защипывали мясо, он неосторожно откидывался назад, на голову, на пышные, густые волосы, сыпалась штукатурка, и еще спустя 3–4 дня под совершающими бессознательное почесывание ногтями попадались кусочки стены, или если во время весенней оттепели, или из-за осеннего дождя, или по другим весомым причинам поднимались грунтовые воды, он же без слова упрека балансировал по установленным на шатких кирпичах мосткам. «Мы — общество маленькое», — и ответственность за это брал на себя.
Но чтобы приходилось изворачиваться у таза, плюс шланг: и это называется мытьем! Это было слишком. Это не компенсировалось даже тем, что по ту сторону котла вокруг другого таза толклись гандболистки! Конечно, кет, ведь при существующей душевой такая возможность предоставлялась еще чаще! Не родилась еще та раздевалка или душевая, в которую нельзя было бы подсмотреть. Наверху, например, там, где выходит печная труба! «Посмотрим кино, — сказал сто лет назад кто-то из «больших», встал на скамейку (скамейка все та же), расшатал кирпич, подвинул трубу в сторону и давай себе. — Пока еще новости идут!» Но мастер никогда не смотрел кино. Ему бы очень хотелось, только, к сожалению, очень жалко было девушек. «Знаете, друг мой, когда они там моются, мне их жалко». Да и то правда, что в те времена очередь до него дошла бы довольно поздно. Господин Голубка много спрашивал у него о девушках. «Особенно об одной, по имени Мони». «Пришлем им морковки! В подарок, — обещал он. — Если продуют, то тертой!» Но только обещал. В такие моменты его плохие зубы темновато двигались, и сквозь них брызгала слюна. Мастеру нравился господин Голубка, но не в такие моменты, понять же он ничего не мог. Вот так и с кино тогда. А теперь, личность сформировалась, и что? «Давайте девок подкараулим», — сказал Молодой Полузащитник, который был в том возрасте, когда естественна мысль: этот футболистом будет, великим. Он был флегматиком и делал обманные движения чуть чаще, чем нужно. «Тэрэчкеи, сынок, — сказал он осторожно, — ты считай. Считай и при ударе (n-1) делай пас». Но толку… «Да у них и волосы еще не растут», — продолжал о своем талантливый юнец. Когда мастер поднял глаза — когда-то это было любимой темой и для него — и покраснел. Качая головой, мудро и с тоской махнул на все рукой; он отправился вперед найти хороший мяч: относительно круглой формы — на многих есть маленькое, милое вздутие; Комариный Жеребец поглаживает их, приговаривая: «Маленький санчо!» — словом, более-менее круглый, не слишком легкий, не слишком тяжелый, но капельку мягче нужного, ибо так угодно мастеру.
Господин Арманд стоял на краю поля, мощное тело отбрасывало тень на зеленую траву. Мастер, жонглируя выбранным мячом, приблизился к тренеру. У того на волосатых руках искрился свет, за исключением запястья, где располагались часы, с толстым, изношенным, полопавшимся ремешком, как у дедушки мастера. В руках у тренера неизбежная тетрадь со спиралью — тетрадь со спиралью! о, эти добрые и злые знакомцы мастера, еще один нюанс, который достоин внимания: он, поясню на примере, как и, например, господин Тибор Дери,[87] тоже пишет в тетради, не печатает, о, нет, играя в этом технократическом мире в дурака, он слушает вечно прекрасные напевы чижей, овсянок и кротов, а сам со скептицизмом размышляет о (социалистическом) мире, — тренерский дневник, ручка в его руке нерешительно шевельнулась, проехалась трелью по спирали и т. д. — что тоже было ему известно.
«Скопления масс не наблюдается», — сказал Эстерхази. Тренер стремительно махнул рукой, и ветерок от взмаха, в соответствии с замыслом, достиг и мастера, ибо замечание его было капельку небрежным. Для господина Арманда все, что было важно, — было свято. Лишь во второстепенных вещах на поверхность выходило в общем-то неслабое чувство юмора, швабское озорство. Напр.: «Ты как труба иерихонская», — сказал он одному судье, чтобы потом быть отстраненным на полгода. У мастера дела с шутками обстоят не так, это мы можем констатировать, переходя от страницы к странице, с тоской и страхом в сердце.
Мастер возился с мячом. Взгляд упал на бутсы, и поскольку мяч (или это была гравитация, ха-ха-ха) периодически отскакивал в сторону, ему становились видны прорехи на бутсах, особенно на левой, дальше носки, а под ними, даже если он не видел, но знал, — натертые большие пальцы: прореха пронизывала все слои. Мяч подлетал все выше — номер усложнялся; говорят же, тише едешь — дальше будешь, говорят, господин Тити Гэрэч подбросил аж 30 раз на высоту 20–30 метров, — и у него появилось время взглянуть на господина Арманда, не хочет ли он что-нибудь сказать, но тот с молчаливым упрямством что-то писал в тетради (мастер чуть не разревелся при виде несоразмерных — но не излишних! о нет! — стараний: «Чего ты там пишешь, бедняга, Господь с тобой!», и это предложение так хорошо можно обобщить до перехода на личности), потом его большие, проницательные глаза проникли на задний план, меж грудами строительного мусора и кучами кирпичей. Из разрушенного здания бесцельно свисали во внешний мир железяки, все покрывал толстый слой пыли. Присутствовали даже сухие кусочки камыша, пучками. «Откуда, зачем?» — «Особенно эти жирные кирпичи!» Остатки известки на кирпичах определенно удручали мастера. Носок сполз на бутсу. Он любил, когда носок — даже на тренировке — закрывает голень, и не был сторонником «гармошки», однако носки за долгие годы так съеживались, что неизбежное применение резинки становилось неудобным и болезненным: мы имеем в виду глубокие, красные борозды от резинки. У входа, у бывшего входа, лежала гора бутс. Преобразования оказали воздействие на склад (его не стало), результатом переустройства стала эта выставка. «До чего сплюснутая обувь!» Те, кто уже видел большое скопление поношенных бутс — смятых, истоптанных, с болтающимися на ветру стельками, — знают, наверное, какое плачевное это зрелище! Как братская могила.
Тренер захлопнул тетрадь. Ручка между двух легких, тонких листов бумаги чуть не треснула. «Я им сказал, что они сволочи». Господин Арманд говорил, как будто продолжая начатый разговор. Солнце светило, ветер дул; в прохладе воздуха контуры: изуродованное здание, холм позади, ходящие ходуном деревья — приобретали значимость. Дым от котла, к несчастью, прибивало к земле. Создаваемый ветром треск создавал впечатление, будто стрекочет камера оператора; как будто сейчас читают текст к любительскому малометражному фильму; синхронизируют; значит, что-то «сместилось». «Я им сказал, сволочи, мол, вы, и так нельзя, мол, поступать». В этот момент мастер выпустил любимый инструмент, мяч: тот, как слезинка, соскользнул с носка. «Что-что?» — потряс головой нападающий. Господин Арманд, видя, что он ни ухом, ни рылом, рассмеялся: «Какие новости? Защищаемся или нападаем?» — «Самая лучшая защита — нападение», — надулся он, когда таким образом был пристыжен (потому что это можно воспринимать в качестве выговора). Затем вдруг, как уже столько раз в делах экономических, его осенило: «Нет денег?» У господина Арманда хорошее настроение пропало даже с поверхности, им вновь овладела удрученная порядочность. «Не знаю, что воображает такой вот директор? Кто такой директор? Ну, а я — заведующий технической частью». Мастер немного по-декадентски кивнул; слава Создателю, не изволив обеспечить звукового сопровождения. «Понимаешь, это свинство. Вчера в друзья набивался, или, ладно: мы оба набивались, а сегодня говорит, он, дескать, сожалеет, без объяснений. Сожалеет». — «О чем, что в друзья набивался?» — «Какое там. Денег нет. Что денег нет. Но, ексель-моксель, пусть тогда старое дерьмо не сносит». Беспримерное возбуждение господина Арманда отлично характеризуют употребленные им слова, вульгарное упоминание фекалий: обычно он с крайней тщательностью избегает дурных слов; временами он укоряет мастера, который в пылу игры или, случается, по причинам стиля не брезгует их употреблением. «Сносит, а потом говорит, что сожалеет». Мастер, с трудом преодолев предубеждения, неохотно спросил: «Качо не может достать денег?» Излил душу великий человек. «Сняли его. К сожалению», — сказал господин Арманд. (О Качо они были схожего мнения; вот как их прижало.) Славный человек громко свистнул и встряхнул руками; господин Арманд был слесарем-инструментальщиком и очень гордился своими руками: «Изя-я-ящные штучки, — по-доброму передразнивал он мастера (тот обычно говорил: изящный почерк, изящная цыпочка, изящное лезвие — чтобы уж охватить основной костяк), — изящные штучки», — вертел он расплющенными, толстыми руками, в глубоких складках которых с доисторических времен скопилась черная грязь и масло; теперь он встряхнул именно этими двумя руками.
После секундного колебания — громко сказать или не громко — он громко сказал: «Из железа кулак натруженный — туда ударит, куда нужно». Господин Арманд не стал притворяться, будто бы верит, что мастер шутит (есть жесты отстраняющие, а есть — свидетельствующие о сходстве!), и махнул рукой. Теперь они изволили смотреть друг на друга. «Да уж, ударит. Ладно. Знаешь, с кем мне приходится бороться каждый Божий день? Чтобы парней отпускали в день тренировки, чтобы спортивные фонды пускали на то, что нужно, чтобы была по крайней мере обувь, а экипировку подвозили, тогда и туда, куда нужно, чтобы не приходилось от стыда сквозь землю проваливаться». Да: это как мытье в тазу. Экипировка должна быть на месте. Этим, наверное, не игрокам нужно заниматься!!
«С Лаци». Мастер не мог поверить. «Лаци Кохут?» Из-за «детей» мастер без сомненья потихоньку приобретал право перворожденного! — он уже слышал, что «есть» какие-то «проблемы» с Лаци Кохутом. Что он «вонючая скотина» (пардон), как выразился тихий Левый Защитник; но он необъективен или как раз-таки конкретен, потому что Кохут заигрывал с его женой. «А ведь она тогда уже на третьем месяце была». Девушка с бесцветными волосами из универсама. «Ну что, сынок, не зря разминку делали?» — стал подтрунивать мастер, услышав о свадьбе. Недоношенная крошка в 4 кило! Но потом ему стало грустно. Однажды в душе — «в довольно беспардонной форме» — он взял и спросил: «Скажи, приятель, а вообще ты бы на ней женился?» Потому что ведь встает этот проклятый вопрос. Парень закрыл кран. Они уже просто мылись. Мастеру тяжело вылезать из-под чудесной, болезненно-горячей струи. Стало тихо. «Умный парень, друг мой, когда не в форме. А вообще аккуратный подлец-защитник». Посмотрел мастеру в лоб (то есть, не в…) и умно сказал: «Вопрос так не стоял». И захихикал (а вот это он бы с радостью опустил). Суть была в том, что жена Левого Защитника, новоиспеченная женушка, только-только спровадила господина Кохута.
Мастер еще играл вместе с господином Кохутом. «Подвижный пацан был». Господа Арманд и Кохут были как Шерлок Холмс и доктор Ватсон (дабы угодить определенному кругу читателей) или как грецкие орехи с медом и т. д. Начиная с юниоров они играли вместе, были парой полузащитников — «Лацика с Армандом!» — великая слава местного значения гремела по всем окраинным стадионам. «Они вели игру как Дьюси Ракоши». «Мы друг за друга умереть готовы были на поле», — часто слышали они. И мастеру припоминалось что-то в этом духе; как однажды на стадионе «Нитка», тогда еще активный игрок, господин Кохут, можно сказать, выйдя из себя, гаркнул ему: «Малец, умри на месте или отправляйся в душ». Так и сказал: «в душ». Цитату он сопроводил кислой улыбкой, как бы признавая свою ограниченность: «Поэтому-то я все и запомнил, только».
«Товарищ Кохут — хороший товарищ, — коротко сказал тренер. — Руководит секцией на заводе и ставит мне палки в колеса где только можно». — «Но зачем?» — спросил он по-детски. Тренер с горечью пожал плечами: «Так проще. Неделание всегда выглядит проще. А поскольку все, что он делает против меня или, точнее, против вас, означает, что не выплачиваются какие-то деньги, он этим еще и популярность завоевывает». — «Да какие это деньги? Чепуха». — «И я так говорю. А Он говорит, с бору по сосенке. На это я так шваркнул дверью, что маленькая секретарша, ну, конечно… поперхнулась своей булочкой с вареной колбасой или с чем там, пока с лестницы поворачивал, все время слышал, как кхекает и приговаривает: «О-ой, товарищ Кохут, тако-ого, товарищ Кохут…»
Мастер вновь стал подкидывать мяч, изящно, тихо, чтобы не помешать. «Курсы, вот это у него хорошо выходит». Мастер слышал завывание ветра, которое гармонировало с бесподобной геометрической эстетикой (штанга ворот, прямой угол, полоскание флага, колыхание сетки, зелень и т. д.), которые предоставлял к его услугам каждый спортивный стадион. «А. В общем, ты послал Кохута. Сначала я так понял: директора». — «Ничего ты в этом не понимаешь. Видно, что всю жизнь только учился. — Между нами говоря, он за это уважал мастера, а здесь это со стороны господина Арманда отчасти словесный оборот, отчасти выражение реальной критики, вместо более мягкого анализа. — Я подвергся ступенчатой обработке. Сначала, как известно, вызвал меня товарищ Кохут». — «Да брось. Он и тебя вызывает?» — «Позвонил, зайди, мол, старик». Мастер, успокоившись, кивнул. «Чему радуешься? Что от этого изменилось? Теперь я хлопнул дверью, будучи на «ты»! Быть вежливым легче всего. Так дружище, сяк дружище». В этом они все одинаковы. «Ясно. А потом, значит, вызвал тебя директор, с которым с раннего детства…» — «Нет. Я так разгорячился и пошел к нему…» — «Пропустили?» — спросил он со знанием дела. «Мамочка, старая секретарша, завизжала было, но обитая дверь была открыта, я увидел, что он там и что нет у него никого».
«И вы оживили старые…» — произнес он тривиальную фразу и точно так же умолк. Господин Арманд гордо покачал большой головой. «Куда там. Там уже, как полагается, товарищ направо и налево и на «вы»…» — «И?» — «Говорю ему, стоп, мол. Я не об узком профиле пришел выслушивать, фонд, дескать, проектирования туда, центральный лимит сюда. Я только хочу сказать, что это свинство, ведьмин корень».
«Не верю», — сказал мастер, потому что так и думал. Мяч остановился. Господин Арманд рассмеялся. Смех не был чересчур спонтанен, однако уместен — и то, и другое было по нему заметно. «Я спокоен. Потому что не побоюсь и скажу все, что угодно. Пусть ловчат как хотят, я вкалывать буду». — «Гм-гм», — сказал он. «Понимаешь. Вкалывать всегда надо». — «Директором тоже надо быть всегда», — сказал он тихо, ну что же, если это пришло ему в голову. «Конечно, — продолжал смеяться господин Арманд, и стало ясно, что слесарь-инструментальщик уже ожидал этого протеста, и он просто-напросто вляпался в это ожидание, — конечно, нужен директор. Только не всегда один и тот же». — «Тебя тоже могут выгнать». Господин Арманд всю дорогу потешался. «Конечно. Но я и тогда останусь кем был. Слесарем-инструментальщиком».
Мастер опустил глаза. («Если терять нечего, состояние благородное», — утерся он в другой раз.) Слишком короткие рейтузы, собравшись в гармошку, сползли на бутсы. Вдруг, сам не зная зачем, он нагнулся, как бы завязывая шнурки, а сам провел рукой по узловатой голени. Возвышающегося над скрюченным мастером господина Арманда можно было изобразить на фотографии, то ли в виде огромного дуба, то ли живой статуи, — не забыв только про перемещающееся позади солнце, что, как я полагаю, просто дело техники.
46 —! (Можно еще раз прочитать: Внезапно к [Имре] приходит чувство любви ко всему здесь, он рад всему: близости [Янки], траве, площади, стертой зебре перехода, светофорам на перекрестках, забавным, желтоголовым, длинноногим одуванчикам, взволнованным контролерам, грязным спускам в туалет, выцветшим пожарным, поражению под Мохачем, битве при Капольне, одиноким телефонным будкам, суровым маневрам и белым барашкам-облакам на горизонте.) (См. также 54-е примеч. на стр. 521.)
47 Дорогой Петер!
Вчера получила ваше письмо с фотографиями. Дора улыбается — так бы и съела ее, Марцеллка прелестен. Во сне он мне привиделся не таким красивым. К сожалению, вновь собирается большой ливнище, и дует легкий ветер. Официанты очень приветливые, хотя, как видно, на лимонах экономят. Думают, я настолько стара. Сегодня в полдень спросила о лимонах. Хитро так спросила, будто бы без всякой задней мысли. Парень официант не покраснел даже, а ведь я была уверена.
Могу лежать на террасе, черешня. Пишу эту строки под звуки органа, от этого такой плохой почерк. Здесь был Ники! Естественно, говорили по-венгерски. В Сиднее у него 11 помощников, все венгры.
Nachtschwester-Zimmer[88] с самого начала мне неприятна. Через помещение находится аппаратная. Не знаю, смиряться ли мне. Знаете, Петер, я уже удаляюсь от дел и не знаю, имею ли право что-то менять. Нет, лучше о моем сне.
Я постановила: то, что я делаю, все-таки абсурд. Они живут здесь, подо мной, а я к ним не спускаюсь. Спустилась. Позвонила в дверь. Голос вашей Гитти издалека: Уже иду! Я вас уже ждала! В траве парка неподалеку от входа раскинулись едва одетые женщины. Фу, ну и уродины же вы! сказала я спокойно по-венгерски. К моему удивлению, одна стала перечить мне в ответ… по-венгерски. В этот момент ворота открываются. Петер лежит в комнате, говорит Гитти и передает мне ребенка. Я не знала, что младенец — Марцелл. Только по глазам определила. Это были ваши глаза. Мы вошли. Малыша я посадила вам на грудь, вас поцеловала в лоб. Вы хотели со мной поздороваться, но не смогли встать из-за сидящего на груди ребенка. Он что-то лепетал, что было очень похоже на вас или в вашем стиле. Я плохо расслышала, но в его лепете уловила что-то вроде: черт подери! Это с вашей стороны означало сам приговор. Голые женщины постучали в окно. Они с грохотом трясли грецкими орехами, которые держали в руках! Тогда пришла Гитти и унесла младенцев. Я проснулась… Впечатление было почти осязаемым.
На Адвент я уже буду дома. Книги постараюсь раздобыть. Благодарю за готовность Гитти на самопожертвование.
Обнимаю вас. Ваша Йоланка.48 Дорогой Петер!
Наконец-то я снова дома, хожу взад-вперед по квартире. Без палки!! Но слабость все еще есть. Аппетит хороший. Читаю рассказы Кишхона, если не сплю. Обнимаю вас всех крепко.
Йоланка.P. S. Сокровище мое, будьте осторожней. Вы такой «невезучий». Но это хорошо. Поймите и храните это. Конечно, вам лучше знать, «почем фунт лиха». Видите, я учусь у вас. Стиль ваш ужасен.
Й.49 Tante Jolan am Sonntag verstorben. Michael.[89]
50 Дни у мастера репрезентативны; при взгляде на него льстит смесь великого с тривиальным, окончательного с преходящим. Ведь что произошло этим пасмурным, промозглым днем? Он уже было отправился на похороны Среднего Защитника, в которых команда принимала участие полным составом, когда к нему подошел господин Киштелеки, знававший лучшие времена центровой,[90] и попросил мастера как-нибудь занести его в свои записи (в мои записи! — Э.), ему это, еще до зимних каникул (ибо команды уходят на зимние каникулы) с общественной точки зрения пришлось как нельзя кстати, поскольку в прошлый раз посыпал поле удобрением «Карбамид», и по причине недостатков покрытия на газоне внутри шестнадцатиметровой, за шестнадцатиметровой и на линии появились большие, уродливые рубцы, что — хотя господин Киштелеки с мячом обращаться умеет — ему поставили на вид, мало того, когда он выходит на поле, со стороны членов колхоза доносятся издевательские замечания. Мастера вдохновила степень влияния литературы на массы. («Ну, милостивая государыня, — сказала как-то Мари, которая немного помогает по хозяйству в родительском доме, когда мать, чтобы похвастаться, дала Мари прочесть крошечный шедевр мастера, — знаете, графиня, не найти слов. Что много, то много. Я вообще-то не чужда литературы — правду говорю — но ведь это черт знает что. Мир вывернулся наизнанку! Чтобы это сегодня называли искусством! Пусть уж милостивая государыня не сердится, но меня прямо зло разобрало». Мастер по обыкновению не очень-то стал извлекать из этого урок, но, конечно, как человек, задумался. Впрочем, это его трюк. «В самом деле, что побудило Мари к такому высказыванию? Отчего было не состроить нейтрально кислую мину? Непостижимо. Дело в том, что вообще эта женщина крайне смиренна. В прислугу попала еще до 45-го; так бывает; бывает и по-другому. Зачем же прямо, как проспект Калинина?!»)
Позднее мастер с некоторым чванством рассказал господину Чабе, что поскольку господин Киштелеки — опираясь на связи Вашаша — провел его на последний двойной матч, он изволил включить его в роман. Господин Чаба, прозаик из Деча, который провел детство в местной (дечской) фотолаборатории среди фотографических изображений чужих лиц, портретов, которые показывали человека снаружи, высказал беспокойство: «Этих матчей столько. Ты теперь каждого скупщика билетов будешь вносить?» Мастер удивленно ухмыльнулся: «Да ведь столько этих романов! — Будет. — Но если они как раз так и рождаются». (Знаки размножаются:)
Он изволил посетить похороны. Замусоленная ветровка немного выделялась в толпе. Народу было много. Грязные листья налипали друг на друга. Музыканты-духовики, в промежутках между произведениями, вытряхивали слюну из инструментов. Руководители предприятия, по чистой случайности, стояли отдельным полукругом. Господин Кохут приветливо поздоровался с мастером, как будто в парке. Он ответил на приветствие. Женщины прочитали «Отче наш», и он вместе с ними. «Сложная это вещь, mon ami». Когда процессия двинулась, полил дождь. Он наклонил голову, влага проникала к беззащитно-теплой шее даже несмотря на поднятый воротник. Мастер был занят исключительно тем, чтобы не наступить в лужу. И, понятное дело, постоянно в нее наступал. «Грязь неделями покрывала ботинки». Да и вокруг могилы была свежая глина.
— — — — —
: когда же благодаря добросовестной работе время затянулось — вещи несколько утратили актуальность, и все бури потихоньку улеглись, конкретно же случилось так, что у мастера произошла склока с Яношем Мелким (за имя не отвечаю), жителем А. и владельцем виллы, у которого за хорошие деньги он снял виллу через туристическую службу при «Ибус» е,[91] потому что хотел, чтобы Гиттушке — если можно так выразиться: Гиттушке — устроить небольшой отдых, потому что, между нами, хоть мы и утверждаем, что мастер — примерный муж, в разгар страды все брала на себя одна женщина, а из-за романа объем[92] произведенного мастером мытья посуды дошел прямо-таки до низшей точки, итак, дело дошло до склоки, потому что владелец виллы, который, впрочем, был человеком, явно привыкшим командовать, думал, что мастер с семьей уедут уже в воскресенье, он же специально снимал виллу так, чтобы не нужно было ехать с кучей неопытных шоферов в воскресенье вечером, а отправиться «припеваючи» в понедельник, итак, он предъявил квитанцию на комнату под номером 205189, технический знак: 211, благодаря которой ситуация на 100 % выяснилась, но она, к великому изумлению, не убедила владельца виллы, он лишь бегло взглянул на нее и крайне болезненным и утомительным для мастера образом уже со второго слова стал разговаривать как фельдфебель с подчиненными (мастер был, вероятно, подчиненным), и он поймал себя на том, что «с беспримерным ребячеством» бесится («этого нельзя было избежать, такие думают, что им принадлежит мир!»), и был близок к тому, чтобы сказать: «Ну, ива, берегись, братьям скажу!», но затем, когда владелец, проклиная все, пошел на попятный, заверив мастера, что в понедельник на рассвете вышвырнет его из кровати, он же успокоил его тем, что ладно, но тогда он с двухдневным запасом сухого пайка закроется в квартире и все тут, и поскольку хозяин на это лишь заржал, сказал: «И еще кое-что, шеф. Следите за так называемыми литературными изданиями. Потому что я вас где-нибудь так распишу, что век не забудете, это уж как пить дать», — это произвело нужное воздействие, поскольку, правда, понято ничего не было (популярность мастера еще не снесла всех преград), но продемонстрированное тупое выражение лица было именно тем, что требовалось гиганту мысли «в момент душевного кризиса», затем он, покорно отодвинув тетрадь со спиралью и отстранившись от возникшей и приближающейся к концу сцены, сказал: «Гитти, так дальше идти не может. Это линеарно невыносимо (?). С сегодняшнего дня только пишу и играю в футбол, пока не буду готов. Прекращаю все, что есть». Так он и изволил поступить. (Можете проверить. Конечно, к тому моменту, когда читатель прочтет об этом, он уже вновь будет жить полной жизнью — пусть и не такой, как «прежде».)
51 (сила, содержащаяся в предателе, — прошу прощения, прошу прощения) При виде опасного, а главное, чрезмерно ухудшающегося положения — роспуска юниорской команды по причине нехватки экипировки, снятия дубля с чемпионата запасных команд, падения посещаемости разболтанных тренировок, происходящих в «пронизанной солнцем» тени истерзанных раздевалок, бессмысленных препирательств господ Эжена и Арманда, — в душе мастера назревали осознанные, позитивные обязательства. И он, который — уж позвольте мне — приятно провел лето под знаком предательства, во всяком случае измены, и как известно: от него ничего не зависело! — теперь, скрипя зубами!.. Словно обручем, охватывал он бурные события и бурное отсутствие событий; команду, стадион. Не стоит воображать зрелищное, яркое чудо, которое спускается с небес под «звуки «Интернационала», вообразите незаметное усердие будней; работу, которой и врагу не пожелаешь. Мастер полагал, что от этого усердия проку никому нет, только самому мастеру, в чем черпал силы — «неизменна сила народная». Так вот, несколько упрощая, то есть подходя со сложной, практической точки зрения, команде могла помочь лишь одна вещь: кирпич. (Кирпичи! Ну конечно.) Ведь наступят холода, а они наступят, и тазом не обойдешься… От права проводить на своем поле первые пять встреч в рамках чемпионата они отказались. Точнее, одна команда, «Махарт», не пошла на это. Или «Теши». Так что пришлось переодеваться в ближайшей школе; и перелезать через забор! Вы представляете! Целая команда! Через заборы! Как банда садовых хулиганов! И еще стук обуви по асфальту! О последнем мастер сказал так: «Widerlich». Каждый раз, когда вспоминается этот эпизод, точнее, стук, с его уст срывается это слово. Означает оно: противно, мерзко, отвратительно (нем.). В отместку господин Эжен устроил так, чтобы к махартовцам не поступала горячая вода. А ведь полагается, без этого нельзя проводить матч, но тогда она была уже перекрыта. Как они ругались! «Бывает, приятель», — выглядывали они из-за двери временной раздевалки, а у самих, шельмецов, от спин шел горячий пар.
И вот однажды, сухим осенним днем, господин Эжен угрюмо заявился с телегой кирпичей. На козлах сидел дядя Фаркаш и понукал лошадей. «Тпр-ру, чтоб тебя!» Господин Эжен, насупившись, поспешил на склад. Дядя Фаркаш щелкнул пальцами. «Ребяты. Сложить надоти». Господин Арманд, переступив через себя — не потрудившись даже задать вопрос «Кто привез кирпичи?», — сразу взял бразды правления в свои руки. Построил ребят в цепь нападения (даже защитников — ха-ха-ха), и вот уже кирпичи, как неуклюжие птицы, полетели куда следует. Из бойкости распоряжений следовало, что господин Арманд уже много думал об этом: о том, что куда. Хотя тот факт, что господин Эжен подвел телегу туда, куда подвел, — свидетельствовал о его заранее обдуманном плане. Как трагично это совпадение! Возможно, конечно, что они сами являются жертвами, однако причина: причина в них, если смотреть с точки зрения развала дел. Они так отчаянно дулись друг на друга, что итог очевиден! Потому что один сдастся! Господин Арманд стоял на принципиальной плоскости, так что шансов у него!.. А команда без тренера?! Конечно, рано или поздно будет другой! Но кто заменит эту маниакальную любовь к спорту, живущую в господине Арманде, этом сердечном человеке, кто сравнится с ее сиянием…
Мастер стоял в очереди в полученных от господина Дьердя новых бутсах; он как раз собрался разносить обувку. Бутсы сверкали и блестели, это держало его в напряжении. Puma Pele King. «Слишком хороши для тебя». — «Слишком», — кивнул он между двух кирпичей. Он выполнял работу с большим старанием, не дай Бог опростоволоситься, не разбирается, мол, в этом. (Недавно помогал он господину Ичи, и там испытал это; ведь он в жизни еще не работал! Что, то сям, даже бывшие одноклассники, кое-кто из команды, с чужого пустыря [противник] и т. д., и, сменяя друг друга, они таскали мусор. Здорово было.)
Однако затем, в кирпичные перерывы, он с такой болью и отчаяньем осматривал свои розовые от кирпичной пыли и потихоньку-полегоньку, конечно, покрывающиеся бахромой руки, что рано или поздно начинало колоть глаза (опростоволосился, да-да). «Слушай, — сказал кто-то дружелюбно, — слушай, покажи-ка, какого размера у тебя руки?» Мастер показал, но гордость, с которой он вертит ими перед женщинами по случаю какого-нибудь приема, теперь из него улетучилась полностью. Тот, кто спросил, не веря, тряс головой. «Это у тебя нормальные руки?» — и осторожно ощупывал, словно чудо, натертые, пыльные, истерзанные ручки мастера. Порядок нарушился, цепь нападения разорвалась. «Нечего столько цацкаться», — сказал раздраженно маленький Правый Крайний. Он не думал, что вместо тренировки будет подло устроено это; а ведь он и на тренировки-то не любил ходить. Уже последовал было ответ, наверное, со стороны господина Эжена, и тогда господин Арманд бы тоже не стал молчать — они работали на двух концах цепи, ибо господин Эжен едва заметно выбрался из склада и встал к телеге подавать кирпичи, там стоял дядя Фаркаш, пыхтя своей почерневшей трубкой, разговаривая с лошадью, как это в наши дни умеют единицы, — собиралась, значит, перебранка, под эгидой которой они к этому времени и так работали, когда господин Ичи, еще более нарушив и без того уже довольно нарушенный строй, выскочил вперед, присел на колени перед мастером (у него на коленях долгое время был потрясающий отпечаток сучковатой почвы; «щербатина»; мало того, еще и во время переодевания видел он кусочек гравия, вдавившийся в кожу), присел на колени и, протянув руку вверх, схватил исполняющую главную роль руку мастера и вздохнул: «И скажи, приятель, этим… этим ты держишь ручку?»
«Убирайтесь!» — воскликнул мастер на этой импровизированной встрече писателя с читателями и, вырвав свою руку из руки, освободил ее для кирпичей. Какой изящной символичностью было это с его стороны, плюс к тому же вновь началась работа… А держащая ручку рука — поскольку, не стоит упоминаний, это была именно она; господин Ичи правильно угадал — все мозолилась, мозолилась (на службе)…
Кирпичи потихоньку заканчивались — половину нужно было снова перемещать, потому что не в том месте сложили, не было толку от двойной продуманности! — и неясность сумерек стала постепенно покрывать общую массу. Стихли полеты кирпичей, языки развязались, как вечером на посиделках…
«Вчера были с этим, ива, Йожи у Фери». — «У кого ключ? У Фери», — вставил он, пожав лавры беспримерного успеха, служа хорошим примером тому, какую немногословность терпит общество (летняя подготовка, девичий комсомольский лагерь, деревянные дома, деревянные дома с ключами, ключами, ключами; а ключ у Фери). «Входим. Выходит Фери, важная птица у них, галстук…» — «Бриолин». — «Фери — настоящий аристократ». — «Выходит, что мол, надо, парни. На что, ива, Йожи, а народу кругом — море, говорит, нахуйферике (прошу прощения), мне бы какие-нибудь штаны итальянские, узкие такие, ива, но чтобы яйца не давили. Вот так слово в слово через головы покупателей». — «Рад вам был, наверное, добрый Ференц». — «Он был в отпаде. На каждую иву тревожно оглядывался и говорил так: прошутебя». «Чтобы сразу загладить предыдущие ругательства», — подумал он с пониманием. «Потом, конечно, короче, очень быстро, короче, завернул в эти улицы с пальто». — «А штаны-то были?» — «Еще бы, извлек из-под прилавка, потом подтолкнул к двери. А на улице хорошо разывил». Можно представить. «Просто показал, что он тоже умеет». — «Умеет».
Один-другой кирпич сдвигался с места, потом останавливался и все-таки рано или поздно достигал своей цели. Под чутким руководством господина Арманда. «Шнеци-то, представляете. Стибрил откуда-то рога директора, знаете, ну что он застрелил, приставил к голове и бежит по двору по заводскому, а сам кричит, и этого, мол, привязали старой иве, и этого привязали старой иве! А мы, ива, встали перед мастерской рядком, и ну ржать. А сверху из окон из конторских выглядывают цыпочки, мы давай кричать им наверх, но они окно быстренько закрыли. Шухер был еще тот». — «И что потом? Шнеци в три шеи?» — «Выговор получил». Второй Связующий таинственно замолчал. Его затеребили, из чувства долга. «Выговор получил, потому как часто опаздывает». — «Свинство». — «Он правда опаздывает», — засмеялся Другой Связующий. «Оп-ля, оп-ля, оп-ля».
Правый Защитник тихо, затем повышая голос (прямо) пропорционально нарастающему интересу, но с неизменным злорадством рассказал, что когда на большой праздник рабочего движения они развесили на крановом пути «пузыри» с водой и когда какая-нибудь хорошенькая, или дурнушка, или так себе проходила мимо, бемс из рогатки, по горлышку! «Но один раз, ей-богу, по ошибке, Лаци Кохут как раз…» — «Человеку свойственно ошибаться», — посочувствовали они. А в другой был такой случай, поскольку господин Кохут любит перед концом смены нагрянуть в душевую, а ребята в это время любят уже стоять под душем, они подождали, пока господин Кохут зайдет подальше, после чего спины повернулись наружу, чтобы хлещущая горячая вода отскакивала от них в определенном направлении, а господин Кохут стоял и мок в своем галстуке, и спастись бегством-то было тяжело, потому что несколько человек посередине намыливались. «Увы, увы». — «Эти тетки в цеху не даром хлеб жуют». — «Хлеб суют?» — «Ерунда. Когда я попал туда учеником, так и разинул рот, сколько, мол, мамаш… Почти в одно сливались. Когда я первый раз вошел, в глазах зарябило; сидят они там в два ряда, а потом, как мы девицам, двумя пальцами так и засвистели. Пошел я к начальнику цеха доложиться, а одна тетка ставит подножку…» — «Одиннадцатиметровый! Если в Бога верит, он ей воздаст…» — «Воздал. Но они как будто сговорились, потому что я падаю, а следующая берет и разворачивается вместе со стулом, Мони, большая стерва, я лицом ей в колени». — «Один: ноль». — «А она начинает гладить меня по голове, все, мол, хорошо, ты в нужном месте. А сами все смеются. Но не в насмешку. Дышать было почти нечем. Точнее, тот воздух, которым я дышал, до этого проходил между теткиных бедер. Ну, и горячий же был».
Мастер улыбается, улыбается (как задрипанная актриса).
Когда же последний кирпич оказался на своем временном месте, линия нападения еще одно странное мгновение оставалась невозмутимой, руки устало опустились, плечи сгорбились, пальцы старались не прикасаться друг к другу, напряженно протыкая темный воздух, были колени, которые дрожали, и уверенно расставленные ноги тоже не энергию излучали. Как раз вовремя — прежде чем пришлось бы объясняться — прозвучал свисток господина Арманда. «Слюна брызгала».
И, как будто приближаясь к концу настоящей тренировки, пробежали они еще один расслабляющий круг. Большинство, по привычке, ускорилось на последних четырестах, чтобы быстренько помыться в душе, мастер же, верный привычке, трусил себе «без напряга», а теперь еще, ехидничая, думал: «Тьфу! Мытье! Корыто, ребятки, корыто». Дважды все обдумав, он, таким образом, поставил галочку напротив этого круга.
Бежал он по траве, с профессиональной точки зрения слишком уж высокой, и травинки рисовали на носках пыльных Puma Pele King тонкие, извилистые полоски. «Как если бы там проползали худые улитки». Как если бы они устраивали там рандеву. Иногда он прерывал и без того медленный бег и сменял его на ходьбу. Вечер гудел, и по мере того, как он все больше отставал от глупым образом выбравших бег остальных, все сильнее ощущалось одиночество в этой глубокой темноте и одновременно с этим какое-то дерзкое слияние с природой. (Отец мастера — прямая этому противоположность: то, как этот человек попадает от одной печатной машинки до другой — словно лунатик.) Добравшись до противоположного поворота, он оказался перед горой, ее большой черной массой, которая почти растворялась в небе, звезды на последнем, на первом же свет мерцающих фонарей делали зрелище разнообразным и особенным. Сверху слышалось гавканье собак. Элегический круг завершился коротким ускорением.
Внутри он поступил неожиданно, набросив одежду (переброшенную ему господином Дьердем, севшую при стирке рубашку и т. д.) на потное и немного зудящее тело. «Ты на этой неделе уже мылся?» Он поучительно поднял палец (ноготь на нем еще меньше, чем на других; задача, наверное, и из-за нее), в называемом раздевалкой закоулке бывшей маленькой раздевалки, называемой складом. «К грязи можно привыкнуть», — сказал он со значением то, что, наверное, уже было известно ему из другого места. Он оказался до обидного прав!
52 Мадам Гиттислегла. Семейный мотор. Однажды вечером она вдруг села в кровати, ангел сна все еще витал над ней, нанося печать бессмысленности на ее черты, и сказала читающему книгу перуанского господина Варгаса Льосы мастеру: «Слушай, ива(!), этот обойщик Табачко — вроде человек искусства. Рисует, книги собирает. Любит искусство». (В связи с Варгасом Льосой, или, как мастер называет его на венгерский манер, Варгашем Йошкой, мне вспоминается, что у мастера еще в начальной школе был одноклассник по имени Йошка Варга, вратарь классной команды. Это был вратарь с хорошими рефлексами, но ненадежный. Во всяком случае временами он здорово защищал ворота. В таких случаях при уходе с поля он, ломая руки, сновал взад-вперед и выражал неудовольствие. В таких случаях нужно было подойти к нему и сказать: «Да нет, Йожика, ты однозначно хорошо защищал». — «Вы так считаете», — начинал тешить себя надеждой Йожеф Варга. «Это эффект-йошкиварга». Мастер иногда применяет его по отношению к мадам Гитти. Как мы видим, эффекта столько, что куры не клюют.)
Он подскочил к женщине, убрал у нее с лица измятую прядь. Погладил. «Старушка ты моя» — с этими словами он изволил уйти в аптеку. Кассирша спросила мастера, нет ли у него 50 филлеров. Он ответил: «Есть» — и начал рыться в удобном кармане своего пальто из лодена — щедрая душа господина Дьердя! — и в самом деле нашел 50 филлеров, чего и сам не ожидал, — передавая, значит, денежную единицу, улыбнулся он и сказал: «А ведь если серьезно, я и сам не ожидал». Покинул территорию дружбы и, как заведено, сбоку, встал в начало очереди в кассу. Тогда кто-то враждебно произнес: «Встаньте, пожалуйста, в конец». «Кто уже оплатил, пусть подходит вперед», — встала на его защиту аптекарша, которая чрезвычайно понравилась мастеру. («Что это еще за женщина?» — спросила мадам Гитти. Мастер небрежно махнул рукой: «Дружище, я — это лирическое «я».) Он побрел было вперед, поджав хвост, потому что, к сожалению, принадлежит к такому типу, когда несколько человек заявили, что здесь все платили. На это лицо его прояснилось, чувство языка пробило себе дорогу, и он удовлетворенно сказал стоящей перед ним женщине преклонных лет: «Тогда это очередь для тех, кто без очереди». Он увидел, что молодой человек за два до него улыбается, а тот, кто в самом начале посылал его назад, пожимает плечами — — — — —
На мастере лежала ответственность. «Так сразу все навалилось». (Расплодились…) Раным-рано мастера спрашивают, спит ли он; и с течением времени пифическая хитрость вопроса доставляет ему все меньше удовольствия. «Папка, ты спишь?» Он изволил перевернуться на другой бок, отмахнувшись от дилеммы; он уже прекрасно знал: маленькая дамочка, напрягая мускулы, ждала его следующего трюка. «Папка! А-а! А-а!> — счастливо хихикала она. Я такого еще не видел: как выброшенный пружиной, до этого еще такой разморенный дух вскакивает и сонно отправляется за Горшком; затем, шатаясь, выходя из кухни, потому что чуть не упал в обморок от такой кучи пованивающей немытой посуды, особенно от одного серебряного, но скорее мельхиорового блюда, к которому полностью присохли желтоватые остатки яйца, и зайдя в ванную, не нашел там ничего, даже свое лицо в зеркале, затем, покачиваясь, во внутреннюю комнату, увидел скомканную постель, в ней маленькую женщину с желтыми волосами, свернувшуюся, как кошка, тогда он подошел к кровати, навалился на нее слегка и в то же время оперся, затем пристально посмотрел Митович в глаза (простыня слизко темнела, губы у девчушки оттопырены) и сказал: «Зазнаемся, шеф».
(Можно улыбаться. Но все-таки эта ситуация — как мастер, рухнув на кровать и своего ребенка, беспомощно вновь и вновь обводит все взглядом, как тотчас же обнаруживает Горшок рядом и с безнадежным гневом и любовью смотрит на маленькую паршивку, а также сладко посапывающую жену, а в это время хлопотливые соседи уже поднимают шторы и дают подзатыльники досадно копошащимся детям, не дай Бог, опоздают в детский сад, а вследствие этого потом и на работу, — так вот, эта ситуация, добавим к этому отчуждающее воздействие запахов, хорошо характеризует безнадежность перспектив на уединенное существование, о которых уже писали и другие, да и я уже, в другом месте.)
Мастер, движимый великой жизненной силой, наконец пристроил малышку на Горшок, притворившись, будто приключившегося конфуза в его матовой желтизне рядом с милой мадам нет вовсе, «как какой-нибудь извращенец-муж».
Он растроганно посмотрел вокруг, девчушка восседала, Фрау Гитти по-младенчески сладко сопела. «Знаете, друг мой, тогда я подошел к окну, прижал лоб к стеклу, оставил след, и мне пришло в голову, что всегда надо будет помнить это время, ведь тогда… — стыдливо всхрапнув, он чуточку помедлил — …тогда я был счастлив». Гей!
И, таким образом, мое описание приобретает точность, Gott sei Dank.
Хотя довольно было и этого мимолетного взгляда через окно на более значительные взаимосвязи, как труба уже звала его (!). Отпрыск завопил, потому что края были мокрыми, а женщина с места в карьер сказала: «Ты поставил воду для чая?» Еще не поставил. «Да», — ответил он и помчался в кухню. Тогда началась великая неразбериха! Что за похожая на месть цепь мест, совпадений событий, изменений и отождествлений!
В силу того что немытые тарелки, словно целеустремленные чемпионы, почти достигали крана, чайник можно было втиснуть на место лишь повернув набок но в силу того что таким образом он наполнился лишь наполовину нужно было немного его выровнять таким образом несколько тарелок у основания раковины дзынькнуло в силу того что свалилось в силу того что мастер человек щепетильный он заметил что идущая вода холодная таким образом вознамерился ее вылить и планировал прибегнув к помощи газового нагревателя заменить ее на горячую однако носик крана за это время как-то очутился в чайнике и оттуда ни туда ни сюда только если повернуть набок но тогда выльется вода которую он только что туда налил хотя тут его как громом среди ясного неба осенило что именно этого он и хотел.
«Мне тут пришло в голову, друг мой… Все-таки одно дело: наливать, и опять же другое дело, когда просто так выливается». Его гордость казалась несокрушимой.
Поскольку в результате размещения горячей воды произошла заминка, он решил, что открутит газ максимально. Но сначала надо было зажечь его. Не будем вдаваться в подробности, еще кто-нибудь подумает, что я над ним потешаюсь. Ограничимся перечислением нескольких сломанных спичек, шипящего от боли лица, восклицания «Чтоб тебя черти съели!» и запаха газа: поскольку сначала он включал не то, что зажигал.
Затем поскольку асбестовую решетку — как говорят, совершенно напрасно — он изволил оставить под чайником, то спустя некоторое время она накалилась и явила свои завораживающие розовую и огненно-красную переходные стадии. Смотрел он на это, эстетствуя, а потом спохватился. Снять чайник. Затем неудачный эксперимент с голыми руками! Боль. Затем прихватка — собственноручный шедевр мадам Гитти, — и ею! К запаху газа теперь еще запах паленого хлопка! («Не хлопок, Петерке, ковролин».)
Поскольку с этим было закончено, присел отдохнуть. И как раз в это время вышла жена. Которая в свою очередь не в кровати нежилась, а о чем-то подозревала. «Малыш, — сказал он обаятельно в начале болезни, — да ты никак хворать надумала». — «В горошек», — кивнула она, выдавив улыбку на расцвеченное горячечными розами лицо. Но теперь уже поправлялась. «Что ты здесь делаешь, прелесть моя?» Слово «прелесть» она сказала, не разжимая зубов. Можете себе представить. И попробовать: прелесть. В этом была сплошная закономерность, которая руководствовалась увиденным: покачивающим головой, слушающим орущее радио мастером («Па-рампа-рампа-па — а пахлави! Карел Готт! Узнаешь?»), бесстыже открытым холодильником, все еще хлещущей из крана горячей водой, «иррациональным хрипом» гудящего нагревателя, клокочущей водой для чая.
«Вода совсем выкипела», — схватилась истощенная болезнью женщина за эту осязаемую конкретику. Испугался тут же великий человек, что, возможно, зря он вставал чуть свет… Сгреб тогда он «женскую плоть» и вернул вяло сопротивляющуюся женщину в постель. С женщиной на руках остановился, пыхтя, у постели, а потом бум-барах! вытащил из-под тела руки, которое с большой осторожностью плюхнулось на постель. «Ах ты, притворщик!» — «Останешься здесь, — приказал глава семьи. — Одно неверное движение…» — и он сделал традиционный жест, как бы сворачивая шею.
Снова в кухню из престижа! Немного погодя вступил он с подносом, а на нем продукты. «Завтрак, милостиссударыня». — «Благодарю, сударь. Сегодняшняя пресса?» — «Вы опоздали, прошу покорно, она уже там!» Муж потер свои изможденные от масла, салями, огарка свечи, чаинок, кипятка маленькие руки. «Все идет, как завтрак в постель», — сказал он наконец; вот!
— — — — —
Фрау Гитти, потревоженная от своего ночного занятия, сна, не преминула молочными губами отметить: «Дорогой мой!» — и мягко вибрирующие слова, вибрация в пространстве, взлетев, как лампионы, это видно, какая досада, что никто не видит, ведь он, как рак — покраснев, взглянул на мадам Гитти! О, эта теплота! эта твердость! эта непоколебимая кротость! радость и горечь! бесконечность будней и тот маленький шанс! — старая ты, старая, старая, старая,[93] бедра твои раздаются, плечи мускулисты, ненавижу[94] вокруг глаз сеть морщинок, нос у тебя никакой, ты некрасивая, вредная, я сыт тобой по горло. Да: художник — «или муж, mon ami, или муж» — со свойственной ему интуицией-сознанием, сконцентрировавшись даже на мгновении, может понять разрушительность будней! Всю монотонность их порочной сути! Дорогая моя, ты чудесно превращаешься в зрелую женщину, даму, ты всегда разная, букет твоих морщинок возле глаз — мой, мельчайшая жировая складочка у тебя на животе — это тоже ты, единственный мой Бог, а что же из этого ощущает Фрау Гитти, и наоборот;[95] из этой альфы и омеги?[96]
53 Он изволил долго откладывать отработку повинности у зубного врача. Вообще-то, он ни капли не боялся (поскольку случаи из детства благодаря дяде с золотыми руками не превратились в судорожные воспоминания, а остались семейными визитами — мало того: там еще была картинка с голой женщиной, как несомненный плюс), итак, не боялся он, а просто смирился, потому что изначальная опасность прошла, хотя иногда правая сторона сзади воспалялась, в таких случаях там даже возникал крошечный гнойничок, на него давил он с тем безжалостным любопытством, с которым подростки немилосердно сдирают там-сям корку с раны, но по сути — за исключением менее приятного утреннего запаха изо рта — зуб не вызывал раздражения. Вызывать не вызывал, но начал уменьшаться. (Маленькие осколки выходили из строя. Затем, на другой день, язык старался избегать осколочно-острой поверхности. Затем привыкал. Либо зуб шлифовался. Одним уровнем выше — ниже — не все ли равно.) Прекращение этого уже перестало быть детской игрой, он пошел к дантистке.
Красавица-дантистка набила ему рот марлей, тампонами, всем на свете. В таких случаях всегда создается очень интересная ситуация (опять такая, при которой что-то исчезает оттого, что появляется): стоит только набитости возникнуть, как у него (до этого сидел в кресле-монстре, руки между колен, пикнуть не смел) возникает раскрепощенное желание говорить, легко и содержательно болтать о том о сем (отмечаю я или это одно и то же? — врачиха тоже начиная с этого момента говорит такие вещи, на которые можно отвечать), мало того, не останавливается он на страстном желании и начинает, как было запланировано (см. выше). Но в тот момент вы уже можете себе это представить: «Аэаыиаэо!» — так и только так. Врачиха рассказала, что, по мнению ее сына, господин Марци и мастер — как Каспарек и Черницки. Он с набитым тампонами ртом, в сильном, бледном освещении, был, вероятно, ожесточенным типом. Из-за этого или чего другого врачиха сказала: «Вы, конечно, явно не читаете Миксата». — «Иаэао». — «Вы, конечно, модернист». — «Ауэыои». Слюноотвод сочувственно (невыносимо) причмокивал. «Вкус крови». «Скажите, друг мой, как так: сквозь одни белые халаты трусики просвечивают, а сквозь другие нет?» Не знаю.
54 Перед кабинкой вахтера он изволил аккуратно повесить ключи, перебросился парой дружеских слов со старым вахтером, с которым вошел в хорошие отношения уже тогда, когда у него еще не было постоянного пропуска.
Свежо и молодо — будущее за молодостью! («О, нет, друг мой, будущее за моей старостью, точнее сначала за моей зрелостью!») — вскочил он на спину своего орловского жеребца и отправился… было, если бы отправился. Еще раз завел. При звуке этого характерного, все сильнее барахлящего, расплющенного и тихого «иго-го» у него сжалось сердце. Результатом двух новых попыток стало уже одно лишь безнадежное «иго». Стоял там злополучно, скакун грустно посматривал на него, его же безо всяких на то оснований переполнило чувство ущемленности, нечто похожее он ощущал последний раз перед мадам Гитти. Наконец он решился обратиться за помощью.
«Ребята, извините, не подтолкнете?» Двое молодых парней заржали, потому что он забыл сказать, что. Потом толкали, толкали, все без толку. Мастер слышал их пыхтение. Затем несколько запальчиво извинились перед мастером и исчезли. «Я думаю, они, наверное, шли в кинотеатр «Кошшут». Он, неповоротливо лавируя, пристроился между двух машин, снял с седельной луки патронташ и встал там! Если кто-то уже оставался вот так стоять, тот знает, как это унизительно. По душевным законам, самоистязания перешли в активный гнев. Бедный мастер периодически скалился вслед проносящимся мимо машинам. «Зубами скрипел».
Он медленно направился по направлению к автобусной остановке. Как непохожи теперь обезоруживающе одинаковые, тяжелые серые массы домов на те, что он видел утром. Более сплоченные, уверенные в себе. Мастеру больше нравятся маленькие и чахлые ранние улицы. Утреннее солнце криво светит между домами. «Сами дома тоже какие-то кривые. Линия, рождаемая от соприкосновения законных стен двух домов, пользовалась свободой: у какой-нибудь из них всегда доставало смелости нарушить перспективу. Грязные тротуары уже полили, но не так аккуратно «рассыпчато», как это делает отец мастера, скорее плеснули просто — для порядка. Эта поверхностность тоже по душе мастеру. Да и запахи. Овощной лавки, превратившегося в помойку пустыря, куда, каждый раз, высокая женщина в джинсовой юбке выходит тогда, когда мастер заворачивает на крадущуюся вдоль пустыря тропинку, и если в тот момент у поросшего кустарником подножия пожарной стены он изволит оглянуться (один-два раза он уже так делал), тогда некрасивая овчарка, которую женщина, вероятно, незадолго до того спустила с поводка, начинает делать свои дела (то, что женщина еще ни разу не взглянула на мастера, совершенно невозможно; но, будучи правдой, «обнадеживает»), вывешенного в некоторых окнах постельного белья, за которым видны закрытые женские лица, столовой, в угловом доме сразу за пустырем, старухи в столовой, которая в то время, как лезет себе под хлопчатобумажный чулок и чешет икру, рассказывает о письмах Иосифа Флавия, и все, мастер тоже, подтягиваются поближе, ларечника, который каждый раз на 20–30 форинтов обсчитывает покупающего жевательную резинку мастера, в чем тот всегда его упрекает, но ларечник предоставляет эффектное объяснение, трамвая, цветов и особенно стрелок (стрелки издают запах, который ни с чем нельзя спутать), магазина автомобильных шин, где некий господин Тамаш (мы могли встречаться с ним у доски) один раз поставил под сомнение надежность тамошнего манометра, и как только хозяин сослался на английское происхождение манометра, первоклассный специалист по вычислительной технике вытащил из недр шикарного пиджака ручной манометр, «английский, не английский, этот на воде работает, а тот на пружине», мастер, который был там в качестве свидетеля, ей-богу, чувствовал себя неудобно, ему казалось, «старый спец» и на глаз скажет, где сколько атмосфер, кроме того — сентиментальный мотив — его растрогало изборожденное лицо старика, руки, в которые впиталось масло, десятилетняя грязь, и рядом с этими руками («вот, друг мой, сдвиг, в который мы вошли») они с коллегой были до неприличия хорошо одеты (а манометр, между прочим, показал разницу в +0,1 атмосфер!!!), поэтому после пустыря он с большей охотой идет не прямо, а направо, выбирая между теми или другими двумя сторонами прямоугольника, что является симметричной возможностью,[97] и ничто не говорит в пользу того или иного маршрута — общая сумма солнечных и тенистых интервалов одинакова, возможности парковки малоинтересны, запах перины компенсирует запах закрытой овощной лавки, люди на тротуаре случайны.
Ветер фыркнул на улице, поднял в воздух обрывки бумаги и листья. (Восторженное описание Пешта.) (Как-то раз мастер стоял под тополями, перед домом, там, откуда сквозь О-образные ноги тети Точки видно до станции электрички, а мать пилила мастера, пусть сейчас же найдет листочек, который, по ее мнению, потерял — так оно и было, — в этот момент на улице повеяло ветром, он закрыл глаза, слезы и пыль щипали их, протянул руку, как настоящий слепой, и это была та самая бумага!)
55 Раздевалка была построена, и появилась душевая, лучше прежней. Тогда стало ясно, что такое раздевалка и что такое душевая. Ничего. «Молоко и хлеб». И мастер отчетливо ощущал — ведь дышал (и ха-ха-ха: гнушался) тем же воздухом — сгущающуюся атмосферу; как будто все оказались на улице; добавлю: по ошибке. «Fortwursteln»,[98] — бормотал он с надеждой, осуществляя мечты; и не мог придумать ничего лучше, чем — «по стопам предшественников, mon ami» — умереть на поле битвы, выражаясь поэтическим языком. Каждую неделю можно было подумать: конец пришел. Все разойдутся по домам, а господа Эжен и Арманд останутся лежать у боковой линии с размозженными головами, держа орудия для размозжения голов в руках. А стервятники будут точить когти о штангу ворот. «Красота». Но по прошествии времени, ведь оно шло, они изволили привыкнуть к новой ситуации, так что корень зла засох сам: все вернулось на свои места. Что опять-таки удручает — хуже, чем оказаться на самом дне: из-за отсутствия катарсиса.
«Знаете, друг мой, двух вещей хочу я достичь в жизни наверняка (точу когти на): Один раз послать мяч в Дунай со стадиона «Голи», — господину Дьердю, в начале 70-х годов, уже раз удалось. А некоему господину Тибору три раза! За один матч. Его чуть не удалили. Скажем, эта мечта уже неосуществима. Это первое. Второе же заключается в том, чтобы в неподдельной fair play situation,[99] во время ответного вбрасывания, взять, разбежаться на краю, и потом, бумм, «вдарить между глаз»! «А потом, конечно, извиниться. Изумительно». Однажды они изволили прохаживаться с господином Марци вдоль средней линии. Их вытолкнули вперед. Они шатались взад-вперед (смена позиций и т. д.), их сопровождало несколько защитников. Господин Марци высказал мысль о шапке-невидимке. Это было общим детским воспоминанием, и оно теперь катализировало двух братьев. С большим воодушевлением и изобретательностью обыгрывали они возможности использования шапки. Напр., у 11-метровой не выбивать у противника мяч, а поставить перед ним ногу, и тогда он как будто будет пинать бетон! «А мяч, как человек, которому под зад дали, будет плюхаться в сторону». Они хихикали возле центральной кольцевой линии. Защитники переглядывались, время шло (90 минут).
Когда была построена раздевалка и душевая, они устроили жарку сала, праздничную жарку сала после тренировки. Ситуация была сложная. Он очень любил, когда они время от времени собирались в большом семейном саду для жарки сала! Тошнотворность обугленного жира, контратака красного вина, джинсы, хранящие несколько дней горело-сладкий запах сала, — и на заднем плане старый цыган в il silencio,[100] в майке, как какой-нибудь хитрый итальянец!
«Мастер, — соврал мастер господину Арманду перед тренировкой, — захворал я». — «В чем дело?» — «На щиколотку ухнулся». Это диалектное выражение вызнало веселье. Со стороны господина Арманда последовал вопрос-утверждение. «Что, Пепе, ручка на ногу упала?» Все смеялись надо всеми. От легкомыслия господина Арманда, зная господина Арманда, плакать хотелось.
Тренировка — легкое перемещение — началась, мастер же отправился на добычу нескольких солидных прутьев. К сожалению, стопы он направил к зарослям акации; но держался достойно. Хотя, если бы не помощь Правого Защитника, он бы, наверное, сдался. Правый Защитник пришел позже, по уважительной причине, ему нужно было отвезти в больницу двух своих детей, потому что те задыхались. «Петике, я такого еще не видел. Они прямо тряслись. Мы смотрели какое-то время с женой, у меня сегодня выходной, знаешь, я тогда, бывает, целый день в кровати лежу, встаю только пожрать как следует, но и это, бывает, жена приносит, так я ее и не выпускаю, понимаешь?!. Жена-самобранка, как в сказке». Правый Защитник вырезал прутья умелой рукой. «Тот конец, что потолще, обстругивай, граф». — «Знаете, друг мой, эти акации были такими чахлыми, не было там толстого и тонкого!» И что мастеру тогда еще было неизвестно — выгода, копчение, шипение, искрение над огнем! Этот конец потолще и так был для него новостью! Ведь что толку с садовой рутины и il silencio, там господин Дьердь, душка, со знанием дела все подготавливал заранее. (Маленький мастер как-то побывал с господином Дьердем в цыганском квартале, в погоне за какой-то ценной, ржавой велосипедной цепью. Но, заслышав визг беззубой, жирной, но обладающей бесподобными волосами женщины, они обратились в бегство. За ними даже гнались, потому что они бежали. Господин Дьердь издал вопль, ставший с тех пор классикой: «Люди добрые, помогите! Людидобрые! Помогите!» Это «людидобрые» годами вспоминалось, издевательски. Мастер улепетывал точно так же. Тогда вроде бы кто-то из преследующих цыган крикнул, что мать мастера и еще более крошечного господина Дьердя — графиня. Тогда два напуганных ребенка вроде бы посмотрели друг на друга и одновременно остановились. Подождали их. «Это твоя мать — графиня», — сказали они какому-то чумазому, но задним числом, дружелюбному мальчугану, съездили по морде и получили в ответ.)
«Я думал, что они истерику закатили, поэтому трясутся. Старший, он как раз такой. А потом, слушай, было страсть как интересно, Петике, лежим мы с женой, слушай, старик, не знаю, как ты, но я женат семь лет, но мне и сейчас еще кровь в голову бросается, как жену увижу». — «Мне тоже бросается» — сказал мастер, чувствуя то же самое, и покраснел. «Вдруг, ни с того ни с сего, мы возьми оба и испугайся. Блин!» Мастер, услышав это слово, с удовлетворением отметил: учеба даром не прошла. «Штаны накинул, детей под мышки, и вниз по ступенькам, а ступенек-то сколько было, как при разминке, бегом к тачке, скорей в больницу. Хорошо еще, что недалеко». — «У тебя еще есть штаны на крючках!» — «Ты что, дурак?»
Они безмолвно работали, мастер ойкал, когда натыкался на колючку. Правый Защитник терпеливо объяснял премудрости пригибания ветвей, срезания лозин. «Прочел я эту твою книгу», — пробормотал Правый Защитник. Мастер печально кивнул. Собеседник вырезал прут. «Я такое читать не привык (не привыкший). Вкалываю, деньги есть на кого тратить, а потом на боковую. А что, не прав я?!» — «Согласен», — сказал он сдержанно. Он обдирал с ветки прутики. Нож то и дело соскальзывал, в такие моменты ему становилось немножко страшно. «Что-то мне понравилось, что-то нет». — «Это так обычно и бывает». Правый Защитник затряс головой, ответ ему не понравился, да и сказать он, наверное, хотел другое. («Вот как получается».) «Погоди-ка. — Он еще больше сузил маленькие глаза, став почти раскосым. — Погоди-ка. Дело даже не в том, что я не понял, Пепе я и не понял, конечно, а в том, что я себя не понял».
Опасный инструмент застыл в руках у мастера, он посмотрел на порядочного молодого человека лет тридцати, с признаками полноты. (А ведь он в то время на него дулся, потому что тот месяцами морочил ему голову, принесет, дескать, книгу по разведению голубей: она ему позарез была нужна. Задавал он жару товарищам по команде. После долгой и исключительно упорной пробежки гонял их не только за заведомо недостижимыми мячами, но и за сведениями. Второй Связующий должен был разузнать о зарплате ткачих. «Зарабатывают хорошо, но работа — дерьмо», — сообщил Второй Связующий. «Поточнее, сынуля, мне нужно совершенно точно». — «Почему это?» — «Почему, почему?! По кочану». На этом нить прервалась. Однако ввиду отсутствия мотивации доверенные лица работали довольно вяло. Они даже получили выговор. Он, выйдя из себя, обратился к одному отлынивающему: «Ива, такого [-] героя из тебя сделаю, каких еще поискать!» Ребята посмеялись, посмеялись, но все-таки немножко поутихли.)
Итак, нож был неподвижен, мастер окинул взглядом предательскую, дородную фигуру Правого Защитника и тихо сказал: «Спасибо». Чтобы скрыть то, как он растроган, воскликнул: «Гляди-ка, приятель». Но для этого нужна была удача, «удача, друг мой, до сих пор всегда сопутствовала мне в этом мире[101]», а именно, чтобы в их сторону как раз шли две гандболистки. Две лучшие бомбардирши. «Что это за ивовый спорт, — разглагольствовал мастер на благодарную тему, — чтобы отсутствие правил было общепринятой формой добывания мяча?!» (Это и в самом деле так. — 3.) «Как дела, красавицы, вы что, близняшки?» — крикнул Правый Защитник, подмигивая мастеру. Та, что поменьше, хотела было ответить, да, мол, или: нет, мол, или: чуть-чуть близняшки), но та, что побольше, хоть сама и смеялась, подтолкнула ее локтем, и она не произнесла ни слова. Они были в красно-розовых ситцевых платьях и одинаковых зеленых туфлях. Выглядели грозно: и были изумительны. «Как же вам не холодно?»
«Вы близняшки?… А мы вот с Петькой — близняшки». При этих словах даже большая остановилась. Об этом они и подумать не могли. «Вы?» Правый Защитник, как плохой актер, — «как хороший актер, друг мой, который изображает плохого актера», — обнял мастера. «Да, мы. Правда, Петька? Мы — пара близнецов». Это — пара близнецов — подчеркнул он, как человек, видящий в этом скрытое противоречие. Мастер улыбался. Девушкам это вдруг перестало быть интересно. «Повезло», — сказала та, что побольше, уходя. Однако Правый Защитник не позволил приключению ускользнуть и громким голосом взвыл им вслед: «Конечно, повезло. Но и вам бы повезло!» Таким образом, все опять пошло на лад: девушки, и маленькая и большая, обернувшись, хохотали. «По уши в нас втрескались», — сказал Защитник между делом и начал считать прутья.
Мастер взглянул на часы. Ему нужно было идти. (Какое у него могло быть дело? Какое дело может быть важнее? Может… может, ему нужно было писать? А что? Нам, явно, не может повезти настолько, чтобы он шел описывать именно это, но, по сути дела, это и неважно. Вроде бы он и вправду уходил из-за этого… Вечнозеленая трагедия, и как незначительна!) Ребята уже оделись и с подозрением пробовали прутья. «Самые изящные штучки, изделия знатных мастеров…» — «Ты какую делал?» — спросил осторожно господин Ичи. «О, я изготовил самые лучшие». — «Но все-таки, конкретно?» — «Ты увидишь, те, которые будут так эстетично покачиваться…» — «А потом — хрусть», — перебил господин Ичи. Мастер счастливо закивал в ответ на завуалированную ars poetica:[102] «Да, да, потом — хрусть».
Куски сала оказались на палочках, а впереди, на острие, «кокетливые, пухлые дамочки»: луковицы. «Мне нужно идти». Но запах свежей горбушки — домо — свел его с ума. Он отрезал маленький кусочек сала. Помогая себе указательным пальцем. Масса дрогнула, палец увяз, вещество загустело, на боковой поверхности, как пот, блеснул жир. Нож с трудом продвигался вниз, соскальзывал, спотыкался, как строптивая лошадь, и в такт с ним покачивался пласт сала, вполне можно было опасаться, что он развалится.
Грубо, в свойственной другим спешке, он разодрал луковицу, часть ее съел «на месте», несколько развалившихся кружков положил на сало, а их (положил) на домо. Стал уплетать. Остальные или еще только собирались, или, уже сидя у костра, по-любительски свешивали прутья в огонь. «На углях, только на углях». Объединяло их одно: они не ели. Мастер стоял на заднем плане, у ржавой ограды и, торопливо глотая, запихивал сало в себя. Диссонирующее явление, достойное ситуации. «Нет ничего обиднее, друг мой, чем есть сырое сало во время жарки сала. Нет ничего обиднее… С этим может сравниться разве что чай с сахарной пудрой».
А его дыхание! Ну и воняло от гиганта мысли, Боже, Боже мой!..
— — — — —
На все решающий матч можно попасть двумя способами: ↓ и ↑. («Хеппи-энд отбрасывал тень. Большую, черную тень».)
— — — — —
Игра была еще в разгаре, но результат был уже предрешен. Беготни, конечно, хватало. Сам мастер тоже, хотя мяча у него не было, «помчался», не сломя голову, но, возможно, зря, дав место Второму Связующему, который это затем — мастер хорошо его знает — без колебаний его обнаружил и (плавной дугой) побежал по стылому следу мастера: какой же господин Чучу, у которого в тот момент находился мяч, сделал вывод: остается крайне неясным. Но еще до того, как разгорелись отчаяние и надежда, защитник, от полной безысходности, пнул Эстерхази. Куда, мог бы спросить посторонний; но пишущий эти строки подразумевает некоторую осведомленность. Гротескная сцена! Он, тот самый, что, коротко и неуклюже споткнувшись, грохнулся на шлак и, чтобы умалить смехотворность — говорю без обиняков! — падения, выставил обе руки вперед, чтобы почти уже казалось, что на голых ладонях тут и там расходится кожа (и туда «тотчас же» «дерзко устремляется» «прекрасный шлак»), однако затем, когда через какое-то время и из какого-то неизвестного места появились ноги°, по крайней мере одно предплечье пошло вперед, его или сразу же накрыла грудная клетка, или сначала тело перевернулось по касательной: так или иначе: несколько ран на локте потом кровоточило.
° В угоду неумехе-читателю вставлю здесь маленькую историю, не в качестве сноски на полях, хотя, ей-богу, как раз сейчас это более соответствовало бы стилю, маленькую историю, которая характеризует не только мастера, но и мир. Случилось все так: встречаемся мы как-то где-то — неисповедимы пути духа! — думал я угодить ему и разыскал «пушечные выстрелы и девственниц в белых балахонах», по крайней мере, они таковыми назвались, а повода для сомнений у меня не было. Я никогда не намекал ему, даже осторожно, на Jus primae noctis.[103] Он, однако, пуритански их отверг. «Друг мой, успокойтесь. Я сейчас здесь как частное лицо. Так что не дрожите как осиновый лист». Он задрал ногу и стал вращать ею у щиколотки. Та издавала своеобразный звук, как будто в каждом отдельном случае все кости в ней раскалывались на мелкие кусочки. «Это произошло на матче «Данувии»… Мне пришлось выйти из игры… Сразу же после хруста…». Я с подобострастием — «друг мой, уместен ли этот нарциссизм, как я прочел у графини Хан-Хан?» — с подобострастием слушал его. Какие подробности, какие подробности! Однако тогда он вдруг убрал ноги, подогнул под себя, так рьяно и с поспешностью, как будто рассердившись, причем на себя, за то, что слишком «выдал себя» — «ха-ха-ха: издательство «Магветэ»! вот именно!» — и энергичным жестом схватил стакан с кампари. («Друг мой, — обратился он ко мне в один из последних дней, к тому времени, как уже были подготовлены дерзкие горы копирок и листов бумаги, — друг мой», — спросил он дрожащим голосом, и сердце его при этом объял холодный ужас. «Цыц», — сказал я с почтением, сам тоже рассматривая бумаги. Ибо воистину я являюсь его ограничителем, но его, как вешние воды, перехлестывает через меня. Его плоть и кровь! Бедненький мой.)
Поговорим о чем-нибудь другом. Он повернул красивый стакан к свету. «Мы всегда говорим о другом». — «Эффектно». Однако вместо неловкого молчания последовала лавина мыслей. «Помните, друг мой, во время войны бомбы так и падали, у-у-у-у, ш-ш-ш, бум-м-м, и кто-то крикнул: наши! и в воздух полетели обтрепанные солдатские пилотки и гражданские головные уборы!» Конечно, атмосферное давление… «Какое, к черту, давление. Эх-х-х, вы… Не атмосферное давление: праздник!» Стакан с кампари запотел от холода. «Вот видите, я, когда приземляюсь легким ударом ног друг о друга или путем иной, случается, более грубой затеи, то, как только из неизвестного места появляются ноги, почти восклицаю: наши! И это чувство не зависит от того, внутри шестнадцатиметровой произошел случай, снаружи или в точности на линии».
56 (партеногенез) Мастер, будучи слаб в машинописи, попросил отца, седовласого корреспондента газеты, кое-что напечатать. На беду попалась как раз отвлеченная часть. Отец стал придираться. «Безусловно, он человек образованный; учиться посылали, и так далее…» — «Что такое воробушек? Что такое воробушек?» Он был сражен. «Папаша, — выпустил он джинна из бутылки, — держи свою образованность при себе и печатай». Что и говорить: сурово! Потом, когда дошли до того места, что «я люблю отца мастера, ведь он все-таки отец мастера», — тогда мастер, который и знаки препинания тоже диктует, продиктовал: «Отец мастера, два восклицательных знака», — «Меня этим не купишь», — взвился отец мастера. Властелин (своего) мира махнул рукой: «Ладно. Пусть будет три восклицательных знака!!!»[104] — «Видите, друг мой, здесь можно сказать: и по батюшке и по матушке!» Он обшарил целый воз копий. Но это случилось уже на такой поздней стадии, что едва можно привести здесь. Так разве, чтобы позлить (и втянуть в расходы) типографию. Мы подобны позднему, сочному фрукту конца лета. «Размножающиеся знаки, друг мой, когда что-то начинает разъедать само себя. Разнузданность настоящего времени, голубчик; и если бы не среда, мы бы закатили суровую, тоскливую оргию, кутили бы до рассвета, как в Риме эпохи упадка… «Ко-ончи-на-а», — прогнусавил он. Была в этом заявлении какая-то самобичующая печаль; вот вам жизнь проблематичного индивидуума. (Читаем мы.) Без сомнения, мы уже наблюдаем краски заката: они богаче, гармоничнее красок дня, ночная тень уже сгущается в них. Итак, гранки. «Посмотри, Гиттуш, сколько женщин меня набирало!» Потому что вверху колонки, например, было написано: 7 889 430 017 001 Вероника Буршич 788 943, 17. «Производственный роман» VII. 31. 9-я машина — и на основе этого он пронюхал, что 31 июля и первого августа был поручен 9 женщинам. Еве X., Магди С, Еве Урбан, Й. Ач, мадам Сиклафи, Юдит Беллер, мадам Сабо, Ирен Гомбош, Веронике Буршич. «Надеюсь, Йе Ач — тоже женщина», — бормотал он и был в самом деле очень всему этому рад, довольно помахивая оттисками, полученными от дамского букета. «Юдит Беллер, без сомнений, высокого роста, — мечтал он вслух. — Или маленького». — «Или т. н. среднего», — ощетинилась Фрау Гитти. «Гм, — отступил Эстерхази на тыловые позиции, в область узко профессиональную, — это, здесь, только первое издание готовится. Как мы придирчивы!» А горизонты, господин хороший?! — — «Полужирный шрифт Бодони», — как-то раз сказал он о «грузной, чувственной чешке» на стадионе «Шоймарского Кирпичного завода». — — Внимание было обращено на ограниченность исправлений. Он застенчиво вышел из вращающегося лифта, господин Цибор (левый крайний) в такие моменты всегда думает о своем сыне, щиколотку его сына такой аппарат потащил за собой, и с тех пор карьера господина Цибо-ра пошла вниз, подбородок мастера скрипел щетиной, и он мило-испуганно оглянулся, вдруг кто слышит, «даже, как трава растет». Щурясь, нашел он дверь нужного издателя; та, кого он искал, разговаривала по телефону и при виде мастера отодвинула трубку ото рта. «Это просто шутка», — прошептала она и на секунду опустила ресницы. Макияж ее был свежим, деловым. «На кого вы смотрите?» — спросила та, кого мастер искал. «На вас», — выдохнул он так ловко, что все засмеялись, кроме той, которую мастер искал. Затем речь пошла о том о сем, и он в это время хитростью узнал: «за слово, за знак препинания, за пробел в колонке — три тридцать, в верстке — шесть пятьдесят». Тот факт, что он записывает, был встречен без понимания. (Для очень многих он не изволит быть подарком.) «Все это, может быть, и не совсем правда». — «Правда — это то, что двигает прогресс». — «ЭХ, ГУЛЯЙ СТРАНА, РАЗГОВАРИВАЙ ЗАБОТА ВЕНГЕРСКОГО ИСКУССТВА!» — — «Вы знаете, друг мой, что Клод Гарамон появился на свет в тысяча четыреста восмидесятом году, а угасла его опаленная с двух концов жизнь в тысяча пятьсот шестьдесят первом году?» Мотает туда-сюда.
57 То, как он в силу необходимости протягивает руку к перу, может произойти и происходит тысячью способов. И все же ощутима растерянность, когда это «происходит» благодаря случайности, что, вероятно, не соответствует ожиданиям. Мы можем это увидеть на месте. Чаша переполнилась (во второй раз), когда после срочно произведенного после взволнованного сообщения звонка произошло новое протягивание руки. «Друг мой, — вспылил он с искренним чувством ущемленности, — это ужасно. Становится толще, чем…» Он даже выговорить это не посмел.[105] В другой раз он с привычным ребяческим легкомыслием пояснил то же самое: «Эх. Мор Йокаи в нас не погиб». (И на небесах, и в аду они как дома!) Однако после телефонного разговора произнес: «Видите, друг мой, все возможно! Роман, который пишется сам собой. — Он задумался. — В самом деле, где проходит грань между сплетней и философией?»
58 Дорогой mon ami,
воспользуюсь приятным случаем и расскажу о заинтересовавших вас приемах, математичности и т. д. Я, по своей привычной манере, углубляюсь в подробности. (Природная музыкальность, мог бы прогундеть я.) Да и теперь меня принуждает к этому лишь необходимость; однако я не пожаловаться хочу, а дать принципиальное обоснование. Пардон. То, что последует, является не «признанием», а «настроением момента».
То, что я скажу, к сожалению, справедливо и для шедевров. (Обязательно: так что…) «То же самое» можно создать так же хорошо тысячей способов. От «буйства случайности» я намеревался защититься тем, что позволил ему уноситься на собственных волнах, настроению «личного дня» формировать, а рукописи писаться. Это в самом деле решает проблему «позиции» (ого, это немало! да еще как), по не воплощения в жизнь. Мир должен соответствовать имеющимся о нем описаниям, как я слышал в последний раз именно от господина Имре. Но я вновь возвращаюсь к описанию.
Естественно, всегда было очевидно — если у человека хватало ума, — что речь может идти исключительно о вариантах, и я со своим проклятым чувством языка могу засесть на слове и писать до слепоты в глазах, как (пишет) мой ученый друг, господин Якоб, и заменять одно слово другим, и оно будет или лучше, или хуже, точнее не лучше. Там — до сих пор, включая и эту книгу — проблему «позиции» решало то, что можно было надеяться на «самоформулирование», возникновение тишины (и т. д., и т. п.), которая — промчавшись по тексту — задним числом делает расположение одного-двух слов более-менее несущественным.
В ином же случае (поэтому я и говорю, что то, что я говорю, не «правда», а миндальничанье) по причине свободы остается раздражение; поскольку это придает — миру (не мне даже!) нежелательную безответственность. Как произошло теперь. Так вот, на данный момент я вижу решение в «колодках», «дорогой сердцу функции» (которая нашла бы соответствие между определенным набором слов и точно определенной тотальностью». То, что я рассказал, для меня — практика. (В смысле: не теория, и: в смысле: станет ею). (Все это без сомнений не «форма», в смыслe, если она есть, «и содержание».) Отмечу, ситуация с наростом не так тревожна: сердце, несмотря ни на что, все-таки хочет надеяться.
Обнимаю вас: петер.P.S. 1. Видите, я даже это могу напечатать, чтобы можно было приложить в качестве подлинного документа.
2. Кабы соизволили писать аккуратно, я не поседел бы так рано.
3. Прилагаю здесь[106] отрывок из книги.
59 Легко узнать окрестности, где предстоит провести матч. Постепенное стягивание черных людей — потому что с определенного расстояния они черны. «Замедленный снегопад; нет, правда!» Речь, конечно, идет не о последних минутах непосредственно перед ним, не о беготне с толкотней! Нет, скорее о второй половине первого тайма предварительной игры! Прогуливаться, глотнуть нивка, переброситься словцом с вышедшим к калитке знакомым, посвистеть вслед восточным немкам у купальни, показывать ребенку овчарок и барашковые облака. «Вот, заяц, это — барашковое облако… Вот ты и с соломорезкой познакомился».
Мастер, чтобы присоединением к вялому шествию увильнуть от выпавшей на его долю посвященности, пустился бежать длинным, «певучим» шагом. На углу перед ним какой-то незнакомец поднял руку в приветствии. Он тоже поднял в ответ раскрытую ладонь. Но таким образом поприветствованный не сдвинулся с места (в четырех направлениях: вперед к стадиону, назад к электричке, от мастера и к нему); это означало, что незнакомец — знакомый (!) и ждет мастера.
То был Левый Защитник. «Привет, Пепе». — «Здорово, сынок». Они пожали друг другу руки, крепко, по-мужски. Левый Защитник был чрезвычайно церемонным парнем, при рукопожатии его лицо напрягалось, смуглая кожа, можно сказать, празднично сияла. И он всегда всем жал руку. Серьезный человек был, с железной хваткой. (Назначен судья, много матчей у них провел. «Гад». Отмечу, его самого часто спрашивали, зачем он жал руку конкретному товарищу судье. Он просто говорил: «Так надо». [Он — капитан команды. ] Возвращаясь теперь к данному судье, на церемонии перед выбором поля мастер подметил, какое вялое у упомянутого лица рукопожатие. «Как плавленый сыр. У меня, приятель, с руки капало после рукопожатия». А после встречи, когда о судействе сформировалось негативное мнение, мастер особенно взъелся на то, что: «Со мной одних лет, друг мой, а знаете, как разговаривал… так разговаривал, как будто… а ведь одних со мной лет», так вот мастер изобрел адский план. Он послал к судье Левого Защитника, объяснив ему даже, зачем. Это нужно было видеть! «Спасибо», — кивнул Левый Защитник, и железные объятия — клац! — сжались. Судья чуть ли не визжал, извивался, краснел, а они смотрели. «Спасибо товарищу судье». И, что характерно, бутылку с пивом он потом держал в другой руке, первая безжизненно свисала. Но его тогда уже занимало, зачем этому дали пива; он был против, и остальные тоже.)
У Левого Защитника только что родился сын. Отцы горделиво обменивались впечатлениями! В таких случаях защитник громко смеялся, заметно обнажая широкие десны, и хлопал себя по бедру. А один раз они вместе отвозили Комариного Жеребца в больницу. Мастер подбадривал левшу-нападающего. «Ты был прав, старик, прирожденному нападающему нужно было вмешаться!» Да и было, отчего подбадривать: нос его теперь располагался чуть в стороне, как будто был подвешен к правому глазу. Мастер с особым сочувствием следил за перемещениями носа. Это было понятно. Подбадривал, но сохраняя элементы искренности. «Да, несомненно: прирожденный наподдающий. — Он изволил покачивать головой. — Однако, ива, головой-то надо соображать!» Левый Защитник хлопал себя по коленке. Орловский скакун был хорошо навьючен. На нем сидела даже жена Левого Защитника. Когда мастер смотрел из седла в зеркало заднего вида, мерцающие передвижения на дороге были, без сомнения, последним, что удавалось углядеть. А что же удавалось? В основном, это было не что иное, как рожица жены Левого Защитника! «Гм, — сказал он, задумчиво моргнув, — какое хорошее зеркало сегодня! Такое классное изображение у него редко бывает. Мастер — просто кавалер; в этой связи он изволит заявлять, что является типом мужа! Но жена Левого Защитника начала хихикать. Мастер быстро спросил: «Больно?» Комариный Жеребец кивнул — — он стоял перед матчем, опершись локтями о перила, зрители уже собирались, играла запаска, и его то и дело спрашивали: «Петике, выиграете?» — «Не могу делать заявлений для общественности», — шутливо и небрежно отвечал он; все на всех надеялись; взглянув в лицо господину Чучу, слоняющемуся поблизости, ковыряющему жесткую железную трубу, он обнаружил там то же напряжение, что и у себя самого, и мягко произнес: «Чучу, скажи, тебе здесь так же, как и мне, давит?!» — и показал куда-то между сердцем и ложечкой. Господин Чучу тихонько рассмеялся, тихонько.
60 «Какого хрена, для нас что, уже нет ничего святого?!»
61 «У меня так тяжело на сердце». — «Давай послушаем матушку Джоплин». — «Тебе не кажется, что эта матушкаджоплиниана то же самое, что и проклятая аттиловщина?!» Жестикуляция. «Нечего руками махать. Тоже еще Караян». (??)
62 Спустилась тьма. Мастер чувствовал себя как-то «опущенно». Оттуда, снизу, ему казалось, что у тополей напротив нет объема, как будто они вырезаны из бумаги. У их подножия вытянулась заводская стена, длинно, бело, тихо. Тишина по случаю воскресенья. Надпись на стене была не видна, но он знал, что там написано: а здравствует абочий клас. Затем он увидел на деревьях гигантские метелки. «Кому такие большие понадобились?» — не мог представить он. Болели седалищные мышцы.
По правую руку показался кабак, и он — как будто торопясь успеть еще до прибытия на место — сказал плетущемуся рядом Либеро: «Глянь, как здесь пусто, аж дух захватывает». И даже показал. Либеро в свою очередь кивнул уже в дверях. «Ива».
Они уселись за столик на две персоны, пиво так и пошло, бутылка за бутылкой, как будто отмечалась победа. Он безмолвно сидел; но чтобы никто об этом не спрашивал, иногда что-нибудь говорил. Например: «Кто старше, бобиорр или филеспозито?» Но и это примерно в три присеста. «Пойду я, — сказал он через 1 час, — Митич надо купать». Он уже стоял в пальто, прижимая подбородком, точн., двойным подбородком, накинутый крест-накрест шарф, когда кто-то спросил, не скажет ли мастер, как проверять, хороша ли вода для купания? Он, не дрогнув лицом, продемонстрировал руку, а затем под гром аплодисментов пробрался между стульями и отправился домой.
«Ну, и несет же от тебя кабаком», — мило потянула носом воздух дома Фрау Гитти. «Оставь меня в покое», — сказал он свирепо. (Вот сколько сил успел накопить! Скажу я вам!) Мадам Гитти с пониманием замолчала. Шагнула к мужу, с большим сочувствием и готовностью помочь погладила лоб мужчины. «Знаете, друг мой, это было чересчур. Сюсюканья всякие». В сильной ярости он сгреб номер журнала «НАДЬВИЛАГ» — почему-то жертвой становится всегда он, — затем без слов выбежал из квартиры, сел на улице на холодные перила и уставился оттуда на небо. Затем бесшумно вернулся назад. «Не сердись», — сказал один из них — — «Гиттушка, — сказал он в ходе бесчинств в кухне, подразумевая курицу по-южному, — это не бифштекс!»
63 Мастер в унылом состоянии духа сидел на скамейке запасных. Он к ней прирос; во всяком случае, ничто не указывало на то, что он с нее встанет. Матч давно закончился, несколько человек стояли за пивом и ругали весь свет. Грязное весеннее пальто — в эту плохую осень — он подоткнул под себя! Еще никто и никогда не видел его поправляющим под собой пальто! Скамейка запасных! Черт! Как-то раз, уходя от защитника,[107] он бросил взгляд на скамейку, где запасные ели горький хлеб запасных, и вызывающе поблескивающие на солнце желтые тренировочные костюмы, и без того блестящие искусственным волокном трусы — покорили его. А когда ему было разрешено играть в желтой майке и синих штанах — хорошо ли, плохо ли — он несколько минут радовался как дитя. «В желтом с синим?» — спросил после обеда отец мастера и тонко улыбнулся (зубной камень).
Он смотрел в землю, из руки свисала бутылка пива. Лицо осунулось, кожа обтянула скулы, щеки впали. От этого уголки рта немного опустились. Эта трагичность его красит. (Господин Петер как-то сделал его снимок — и не один! Это был великий день. Он притворно бранил «фотографа с узким объективом», однако тот в самом деле снимал. Фото доставило потом мастеру большую радость [см. снимок на сл. стр.]. «Распятое лицо», — сказал господин Ваша; он любит сильные христианские сравнения.)
Он тряхнул головой, как бы разговаривая сам с собой и как раз себе противореча. (Воробушком — сейчас можно было назвать и его.) «Mehr Licht!»[108] На головокружительные изгибы его кудрявых от природы волос и своевольные образования волосков — подвижные обычно пряди навалилась какая-то тяжесть, трудно определимое нечто, которое нельзя назвать грязью; не то чтобы они были чистыми — спустя две недели об этом не может быть и речи; однако жесткость волосков, печальные секущиеся концы, боязливость слипающихся кудрей, проглядывающее таким образом ухо — «нет ничего более запущенного, друг мой, чем выглядывающая из зарослей волос голая ушная раковина!» — насколько все это неуловимо! Так же как и запутавшийся в волосах ветер — не лохматость, а прикосновение! Нередко случалось, что они с господином Чучу стояли где-нибудь недалеко от яростно развевающегося флажка аута, и, в зависимости от того, зрителями являлись или игроками, он стягивал на себе майку, захватив ее в горсть и немного подтянув вверх, к шее, или поднимал воротник поношенного пальто, и когда они съеживались на завывающем ветру, растянув, можно даже сказать, в оскале, рты, мастер проводил рукой по волосам, затем многозначительно подносил ладонь к глазам, принадлежащие ей пальцы («собственные пальцы, друг мой, собственные пальцы»), оттопырившись, бугрились на ладони, и говорил: «Дует ветер». Вот вам и доказательство.
Он ощущал сырость подгнившего сиденья. «Сырость, сырость». Непроизвольно ковыряющаяся рука «отделила» кусочек древесины. Он рассыпался между шевелящимися пальцами. К пальцу прилип «кусочек краски»; он его растер. В это время по бутылке с пивом начала скользить этикетка. Ее тоже долой: 10,5 В° 0,5 л ГОСТ 8761 розничная цена: 5.20. Не пастеризовано. Срок годности: 8 дней.
Ему не хотелось возвращаться к постройкам, но, с другой стороны, надо было. Он не шел, а чуть плелся. Остановился на куче глины, спиной к котлу. Здесь был произведен нижний снимок. (Я, естественно, не хочу устраивать музей, где, возможно, будет закусывать салом музейный смотритель, а жирные руки вытирать о теплые, толстые брюки из фланели, мастера я воспринимаю как человека и воспроизвожу для других во всем несовершенстве и колоссальности; прилагаю усилия, работаю локтями, отступаю, захватываю территории, проявляю бдительность, держусь!
Простите: опять я о себе! Прямо как господин Бабич.[109] На изображении мы видим мастера держащим пиво «Кэбаньаи Светлое», на заднем плане — футбольное поле — «мерзкий прямоугольник!», по правую руку — хорошо знакомая по укрепляющим разминкам гора. Большой Поворот! «Знаете, друг мой, суть укрепляющей разминки в том, чтобы выполняемое задание было как раз тебе не под силу». Не приведи Господь Большому Повороту присниться мастеру во сне. Взгляните на его лицо! Горные вершины спят во тьме ночной…[110] После 90 минут такой разминки он еще был в состоянии блеснуть былым задором! Рядом с ним — разбитый господин Пек.
64 Ему нужно было позвонить матери, потому что та — вследствие полученного из известного места телефонного звонка нейтрального содержания («Пожалуйста, скажите Петеру, пусть он перезвонит. По возможности, еще сегодня») — начала активно и конкретно беспокоиться за своего сына. Он долго теребил рычаг, рукоятку и диск. И при этом шествие на гору автобусов, кранов, зилов! Пока он таким образом хитрил с порядком цифр, на периферии его взгляда (выражение господина Арманда) появилась женщина. Большие и проницательные глаза мастера поднялись от тускло-черной, пропахшей сигаретами, влажной трубки, и размашистыми, условными жестами он спросил: вы позвонить хотите? Женщина с тихой деликатностью кивнула, как бы не желая мешать, а ведь и линия-то не работала. Затем заработала, и, набрав цифры и ожидая, пока вызванный номер ответит, — «не знаю, друг мой, замечали вы уже, что это мгновение так безответственно!» — сказал: «Ни за что бы не догадался, что вам нужен телефон. Вы так, — в этот момент начались гудки, и он заторопился, — вы так скромно стоите. Здесь. — Лицо женщины осталось непроницаемым. — Знаете, я немного близорук, так что не видел…» На этом месте мать мастера ответила: «Да!» «Это я, погоди секундочку, старушка, — и еще поспешно шепнул женщине: — так что по вашим глазам я прочесть не мог!».
В телефонный разговор с понятным волнением вступил отец. Но тот, кто думает, что мастер был намного спокойней, — ошибается. Он сказал что-то вроде того, что ему хватает своих опасений и никаких семейных опасений ему не нужно. Отец мастера, верный старческой привычке, обиделся, сказав, что это за разговоры, может, лучше им вообще не волноваться: может, так лучше будет? «Дай мать», — сказал он далеко не примирительным тоном. «Да», — сказала мать полным предубеждения, холодным тоном. (Она, без сомнений, слышала предшествовавшую перебранку.) Мастера внезапно переполнило теплое чувство, как после кровотечения из носа. «Тихо, мамуля, ни звука, — ибо он изволил понимать, что мать начнет возражать, — ничего не случилось, вот что я хотел сказать. Целую, целую, целую». — «Счастливо, сын», — сказала мать, и сдержанно, и одновременно смягчившись.
— — — — —
Он с жаром молчал. Судья просвистел уже во второй раз, поторапливая. «Друг мой, чего вы пятитесь неизвестно откуда, под прямым углом к себе и остальным? Не простирайте надо мной предостерегающей руки! — Его взор затуманился. — Послушайте, mon ami, я брался писать правду. За это мне государство деньги платит… — Он поправил гетры, которые никогда не мог нормально «надеть»: подтянул, как рейтузы, а подвязку затянул пониже резинки. Ну… У него немного побелели губы. Мастер — товарищ жизнерадостный, но иногда бледнеет. — И за тот страх, который вы видите в глазах моей матери, в зеленовато-серых чудесных глазах, даже сейчас, друг мой, в эту секунду, когда я показываю вам эти строки, та эпоха не заслуживает никакой пощады! Никакой, даже от меня. — Я бы хотел сказать, что… — Нет!» Он вышел в дверь малюсенькой раздевалки, инстинктивно наклонив голову — если кто-то однажды здесь ударится, здание рухнет, — при его выходе грянуло воодушевленное, хилое «Давай!», а отец Либеро отнял пиво ото рта, сказал: «Петике, хряпните парочку, а потом можете идти домой. К маме».
65 Либеро как раз рассказывал мастеру, что у него в Пече такая девчонка — лучше не найдешь. «Скажу одно: черный лифчик носит. — Мастер молча шел рядом. — Ждет меня на вокзале с «Жигуленком». И за все платит». — «Ага». Затем мастер — прошу прощения — заржал. «А у твоей жены все в порядке?» Но желаемый эффект достигнут не был, потому что парень обалдело посмотрел на мастера, чего, мол, «веселого» в том, что жена его больна. «К сожалению, нет. У Марики не все в порядке. Почки». — «Да, я знаю». Он знал это потому, что мать мастера помогла Либеро раздобыть заграничных лекарств. Мастера, по сути дела, интересовала эта баба в Пече, и, помолчав для приличия, он спросил: «Ну и как?» — «Так», — показал Либеро руку, сжатую в кулак, оставался, значит, на той же волне. «Знаешь, Пепе, люблю я зрелых женщин». Он держал нарастающее неудовольствие в ежовых рукавицах шутки. «Словом, старая она». Мастеру вспомнилось лицо жены Либеро: младенческое личико, двойной подбородочек — «расплываться начинает» — гладкая кожа и усталые глаза. «Девчушка с глазами как у взрослой». «Бедняжка», — сказал он вполголоса. Либеро смеялся над «словом, старая», так что не услышал про «бедняжку»; дело бы усложнилось без всяких перспектив на примирение.
Они шли вдоль длинной заводской стены. На оштукатуренной стене были написаны красным выцветшие буквы, обрывки чего-то. С такого близкого расстояния прочесть их было невозможно. Другой вопрос, что изначальная надпись была мастеру известна.
«Да я всегда любил женщин постарше!» — сказал с вызовом Либеро. Обе руки он вытянул вперед, будто вцепившись во что-то. «Вы не замечали, друг мой, — сказал он на более поздней стадии, — какое бесконечное чудо — ладони? Не думаю, чтобы существовал женский зад, великодушные ягодицы, чьи выпуклости они бы не смогли охватить!»
Раньше он, может, и согласился бы — под некоторым давлением — на пошловатую консервацию (это к вопросу о позитивных сторонах женщин в возрасте), но по мере того, как «становился радикален» в других вопросах, у него появилось желание переубедить народ в этом, да и вообще. Это и так касается их обоих. (Современный венгерский писатель, вероятно, смотрит на сегодняшний день с высот будущего: везде он видит величие, непобедимую силу нового. Так с какой же страстью должен он вступить в бой со всякими пережитками за это запланированное будущее. «И т. д. и т. п.») Так что у входа в кабак он тихо сказал: «Я принимаю сторону жен». — «Да ну, кончай базарить», — сказал Либеро. «Что есть, то есть, приятель», — сказал он скромно.
Они сели за стол, точнее сначала составили два стола, а потом сели. Руки доброго господина Дьердя, огромные лопаты, с тектоническими трещинами, обхватили по кружке и уже звякнули ими на столе: «Нате». Немного погодя появились остальные, Правый Крайний отпросился, «у него была стрелка». Пиво, кружка за кружкой, как во времена больших пирушек. Постепенно разбегались предложения и жесты, Либеро рассказывал, как в пятницу «подцепил с корешем двух телок», но «приятель сделал ноги», напрасно искал Либеро собутыльника, «приятель слинял», а он остался с двумя бабами и без всякого успеха просил одну отослать другую домой, ни та, ни другая на приманку не поддались, обе остались на иве (у него на шее), но потом 2-я «растаяла без следа», «моя половая жизнь была как в водевиле (слова и музыка народные): гоп-ца, дри-ца, гоп-ца-ца — а потом все закручинились» (что за стиль, невообразимо!); в одном из углов раздался печальный напев, господин Арманд гундел себе под нос то же, что обычно. (Мокрое место… от некоторых команд надо оставлять мокрое место!,[111] и у мастера уже лопнуло несколько жилок на глазах, и внимание его было более рассеянно, тогда он повернулся к господину Арманду и с надеждой спросил: «А теперь что?» Господин Арманд взглянул на мастера. Тот вращал кружку. «А что может быть». — — А теперь что? Что может быть. А теперь что? Что может быть. А теперь что? Что может быть. — — Перед тем как отправиться домой — купание! — его остановил господин Дьердь и подмигнул. «Ты только послушай! — Перекрикивая гул, он воскликнул: — Папаша!.. Вы! Вы! Вы только послушайте, папаша! На том, что вы, папаша, выпили за свою жизнь, небольшая водяная мельница могла бы работать?!» Из-за спин поднялся старик. «А, дядя Фаркаш», — «Дьюрика, да что там водяная мельница, большая русская баржа бы развернуться могла». — «Да ладно, папаша», — замахал шинкарь руками на происходящее; мастер поблагодарил младшего брата за выступление, а господин Дьердь дружески похлопал мастера по плечу: «Я его специально для тебя спровоцировал». — «Спасибочки». — «Ты даже можешь этим воспользоваться». (Потому на тот момент мастер заразил уже всех.)
66Мастер вместо подушки положил под затылок руки. «Гиттушка, — засопел он, — я сегодня столько классных женщин видел». — «Это хорошо, старый ловелас», — похвалила женщина мужчину и с этими словами — чмок! пощечина прямо! — поцеловала его в губы. Мастера — всего до мельчайших подробностей! — захлестнул знакомый, горячий прилив крови. Он стремительно повернулся к женщине, и они фронтально столкнулись, нет, кроме шуток, их тела действительно шлепнулись друг о друга, и они были этим глубоко потрясены. На мгновение, как при послеаварийном шоке, их тела неподвижно сплелись, но лишь для того, чтобы потом все стало еще более извилистым.
Ноги женщины внезапно получили свободу, особенно явственно ощущалась линия сильных, упругих бедер, потому что мастеру, после прижатия их, с хрустом, к талии и даже немного к ребрам, перестало хватать воздуха; он хотел было с яростью высвободиться — но к тому времени уже было некуда: вместо этого «кто-то» вцепился мастеру в плечи (конечно, это была мадам Гитти), задыхаясь, пыхтя в шею. И т. д. и т. п., вы себе представляете.
О, эта тесная близость! В эпоху совместного дыхания и обжигающей жары, набегов, отступлений, неистовствований, проникновений, растяжений, уходов, подъемов, удалений и изгибов, округлений и судорогообразных выпрямлений! И усталый, болезненный провал в сон, похожий на обморок. «Шеф, я тебя люблю, — сказал он спящей жене. — Люблю, потому что ты удивительная, умная такая, а задница у тебя пр-росто клас-с-с». (Ай-й! Здесь я не смог в знак протеста спрятаться перед лицом верности под юбку справедливости, где кромешная тьма, и даже между ног солнце не просвечивает!)
Свежая елка темновато подрагивала. «Рождество — крайний срок». Одна шоколадная конфета завертелась вокруг собственной оси. Мастер подложил одну руку под затылок, потому что вторую сжимали жаркие бедра, но не напряжением, а собственным весом. Однажды, в ранний утренний час, он изволил уже стоять в пальто, готовый отправиться в путь, когда невольно услышал, как в соседней квартире сказали: «Боже, вот что ты здесь тихаришь?» Мастер чрезвычайно любил подслушивать. Основным полем деятельности для него была Консерватория. Он изволит подкрадываться на цыпочках, держа бутерброд с лососем в руке. И когда земля уже горит под ногами, потому что каждый член взятой под наблюдение компании уже не только окинул его через плечо изучающим взглядом, но даже началось стесненное перешептывание, в этот момент он очень скромно, но с немалой долей элементаризма — конечно: всем и никому — произносит: ребята, думаю, поль мариа без ума от такой музыки.
Он изволил шагнуть из квартиры, одновременно с соседом, муж устремился вперед, а за ним высоко и элегантно следовала жена; ее лицо оттеняла большая, зеленая шляпа. («Она модный парикмахер». — «Модный, модный», — махала на это рукой Фрау Гитти). Он как-то раз изволил поцеловать ей руку, долгое время удерживал в своей руке женскую, не слишком нахально, но легонько сжимая, а потом выдохнул на душистую руку горячий и комический поцелуй. Однако женщина покраснела, и как только взглянула на него из-под длинных, мохнатых ресниц, ему стало холодно или жарко, и мастер испугался — подумал, что лишком очевидно. А если и женщина пошутила? «Ага, — изволил он размышлять, — и правда. Возможно, и правда, что она приняла это всерьез только вшутку». Впрочем, этот поцелуй благодарности (или сак мне его назвать) не просто так повис в воздухе, на то была причина. Ибо мастер — «поскольку после достопамятной ночки сломалась кровать» — попросил у соседей молоток. Семья мастера не может похвастаться наличием инструментов. Был у них т. н. молоток для забивания гвоздей под картины, которым, как известно, мадам Гитти закрепляет на стене «подлинные репродукции Чонтвари».[112] (После той самой пассерованной ухи мастер и Кº» стояли у воды. Зеркало воды чуть шевелилось, он и капитан Андраш вызвали в нем некоторое волнение. В парной дали раскинулась панорама… В этот момент он вне всякого контекста сказал: «Я знаешь что раздобуду, Андраш, сынок?» Высокий человек выпрямился. «Ну?» — «Огромный портрет Джеймса Джойса. — А потом сделал как господин Марци, когда тот показывает усы: — Вум-м! Во всю стену!» Капитан Андраш кивнул, а затем бросил взгляд специалиста на подпрыгивающую рыбу. «Амур, это амур». — «Черенки у тростника ест, неспа?»[113] — сказал мастер, как ребенок. «Да», — любезно кивал головой капитан. Он изволил любить в нем способность радоваться, когда кто-то немножко прав. «Вместо того чтобы есть тину. Жиреет только… Но мясо чрезвычайно вкусное».)
Возвращаясь к молоточку, когда тот не выдержал испытания делом, — а ведь, думаю, не будет кощунством сказать, что дело — пробный камень для всякого молотка, — и настоящий, слегка заржавленный, но прямой гвоздь в кроватной доске даже не шевельнулся, мастер, приведя себя т. н. биением в грудь в состояние требуемого экстаза, швырнул на пол здоровенный инструмент, и тот сломался. (По сей день можно увидеть головку молотка с коротким обломком рукоятки, которая, наподобие кристалла, образовала на изломе красивые щепочки. Настоящий кактус!)
Парикмахерша возилась с ключом, одним глазом следя за мастером, встречи с которым явно хотела избежать. Рванувший из квартиры мужчина уже покидал лестницу, где его настигло приветствие мастера и откуда последовал ответ, но самого соседа там уже не было. Женщина осталась одна. И после картинно взбудораженного удаления мужчины — «независимо от того, друг мой, кто был, если вообще был! прав в споре» — женщина осталась терпеть поражение, брошенная на произвол судьбы! Как полагает моя вскормленная на литературе фантазия: женщина чувствовала себя несколько обнаженной.
Он же «ключничал» еще дольше и пропустил супружескую чету вперед. «Знаете, друг мой, мне доставляет редкую радость, когда утром кто-то подходит к гаражу передо мной и не мне нужно онемелыми пальцами теребить ключ замка и наваливаться на раздвижные двери… Хотя раздвижные двери еще не самое страшное». Такая же простодушная радость охватывает его, когда дарят литературный журнал. Это бывает не часто, но иногда тот или иной редактор из забывчивой вежливости дарит. В таких случаях он становится невыносим, и надолго! «Друг мой! Бесплатно! Послушай, бесплатно! — и потрясает кулаками. — Потому что, к сожалению, это я бы и так купил!»
Во время внутрикарманного запрятывания ключа он поднял глаза, женщина в тот момент отходила от садовой калитки: сбоку было заметно сильно накрашенное веко («Профи!») и свисающий, как второй профиль, край шляпы. По виду женщины было заметно, что она нарочно не оглядывается. «Глупость. Как будто смотреть в ту сторону и специально в ту сторону не смотреть не одно и то же». После исчезновения статно-красивой фигуры ему пришло в голову: «Неужели это она тихарит?» И он энергично закачал головой.
Но он напрасно спешил; ибо источник совершенной радости — «выехать из гаража перед носом у пропущенного вперед лица, поскольку тому еще надо разогреть снабженный водоконденсатором автомобиль с четырьмя скоростями». Мастер все же добродушно помахал направляющейся из гаража на улицу супружеской чете; накрашенные глаза и скорость как бы сливались в одну линию! «Полет накрашенных глаз».
Когда он подошел к стойлу верного коня и конь лениво потянулся за горстью сена, мастер не поверил глазам. «Друг мой, зажигание было не выключено». Этому, конечно, ни один скакун не обрадуется. «Даже с места не сдвинулся, скотина». Он изволил пожать разок плечами и направить стопы к автобусу. Однако повезло ему не очень (в техническом отношении), потому что водитель автобуса как раз починял машину.
А тут еще одна типичная мадам Сюзан, только в благородном обличье! «Кубышка, друг мой. И все-таки…» Да, так вот: поскольку женщина была крупногабаритная, но статная! из-под легкого, зеленого зимнего пальто с глубоким разрезом сверкала мощная линия икр и затем, чуть выше, исчезала в совместных покровах выглядывающей юбки и лениво колышущегося пальто, целеустремленно, решительно, как стрела. «Друг мой: указывая путь заблудшим и усомнившимся!» Поражали не размеры, а ведь могли бы: какие ягодицы! а впереди — разлив! не только пышное барокко линий, но и «достоинство, mon ami, да-да»! «И то, что пальто облегало тело так же плотно, как блузка или юбка». Сильное она производила впечатление.
Рядом с сиденьем женщины занимался починкой шофер; приподнял резиновую плиту, сдвинул металлическую, и мастер, наклонившись вперед, — ибо, само собой разумеется, лагерь он разбил где-то недалеко от женщины, — в отверстие увидел землю. Это показалось таким смешным.
Шофер, худой, сухой человек, опустил руку с отверткой в эту дырку, вследствие чего стали разлетаться маленькие искорки, созвездие Медведицы среди бела дня! На что «праматерь», «деревенская венера» истерически завизжала, пусть мужчина сейчас же прекратит искрение, ей уже 40 лет, и у нее и так истощенная нервная система. Шофер уже задвинул обратно металлическую пластину, подошвой подтолкнул резиновую плиту. Взглянул на женщину. «Откуда мне знать, что у вас истощенная нервная система». И пошел вперед к кабинке; они поехали.
Затем «раскисший Синдбад»[114] пересел на 15-й, устремляясь в сердце города, потому что на днях углядел место, где торгуют елками, и оно завоевало его симпатии. «Оно завоевало мои симпатии. Так бывает. Кто-то что-то видит, и готово: кончено: они возникли». Надпись крупными буквами нескафе напомнила о господине Петере. (Господин Петер — со своими звонками от самоубийц! «Дела у парня уже идут на поправку», — сказал он деликатному мастеру о том, кого он, мастер, и не знал даже, только один раз «подслушал». «Я все больше подозреваю, что под действительностью я понимаю то, что может быть расследовано полицией. Все или ничего». Как жаль.) Растворимый кофе господина Петера сравним разве что с кофе господина Банга (кот наплакал). Они уже давно планируют засесть на каком-нибудь отрезке пространства с террасой и потрепаться за пивом о том о сем. «С этих пор, дорогой мой старичок, — сказал он тихому человеку, — я. каждую точку (т. общепита. — Э.) рассматриваю с той стороны, можем мы с тобой там засесть на террасе или нет. Мало того. Я даже фактор температуры принимаю во внимание. Например, если солнце будет светить, а пальто будет довольно теплым, можно или нет, и т. д.; здесь много переменных…» — «Да скоро снова будет тепло», — сказал господин Петер.
Небо нахмурилось, наступила странная предполуденная тьма: праздничная и страшная. «Друг мой, это как немцы чрезвычайно мило говорят: doppeltgemoppelt.[115] (? — 3.) Праздничное всегда страшно». Вспомним хотя бы кричащую драпировку, а вверху, на накрытом столе, пластмассовый поднос, кувшин для воды и шесть стаканов! «Друг мой, стаканы для воды! Из них кто-нибудь вообще пил?!» И состав праздничной рождественской елки соответствует составу распятия…
Продолжим описание природы: вот видите, в этот самый важный христианский праздник даже зимняя природа накидывает праздничный капюшон. Есть трудности переходного характера: снег был скорее дождем со снегом, но по крайней мере пошел. Магазины и витрины сверкали волшебным светом от множества дорогих подарков. По улице Ваци шествовали элегантные женщины. «И в этот момент, друг мой, тот случай с той женщиной, в феноменальной, темно-синей шляпе с широкими полями!» Шляпа с широкими полями — его слабость, в основном из-за тени, которая падает на верхнюю часть носа и щеки! (Боже мой, сколько мотивов! Если бы я был другим человеком, то возмутился бы: это уже не мотивы, это шляпный салон! Я еемь Сущий.)
Стройность женщины, наложенная пудра и краска, намеренно раскачивающаяся походка — создавали впечатление недоступности. «Мужская красота, друг мой, — поделился он тяжело доставшимися знаниями, — мужская красота — не что иное, как постоянное мерцание взгляда! Да, но эта женщина! Она была, как бы это сказать, так красива… что ее можно было представить только очень умной». Это не шутки какие-нибудь, а излучение совершенства, то есть вещи глубокие.
Мастер практически выскочил из улицы Регипошта. Я говорю так не в оправдание. Начавшийся снегопад или снегопад с дождем вообще-то не представлял собой ничего особенного, если не брать в счет Рождество. В тот момент мимо проходила упомянутая женщина. Ее лицо было спокойно, и безмятежно, и отстраненно; это бросалось в глаза в той святой толчее! Она тихонько мурлыкала какую-то песенку. «Друг мой, держитесь покрепче и не упадите в обморок… — Она тихо мурлыкала, скорее даже ритмично скандируя, чем напевая: — И сне-ег идет, тир-лим-бом-бо-ом…»
Это разбередило в мастере воспоминания о краях детства, всплыло изборожденное морщинами лицо самой лучшей в мире бабушки, на которое падает снег, и видно, как хлопья тают, наполняя складки морщин, как канавы вдоль дороги, «настоящей водой». Он часто проводил лето у все более согбенной с годами старушки. Черное, грязное пальто из болоньи плотно облегало спину, как у ведьмы. Бабушка первой научила мастера работать. Нужно было рубить дрова и носить воду. Переноска воды 50 филлеров — лучшая сделка, только имеет свои пределы! Дрова стоили — в зависимости от толщины, а также твердости — 10 филлеров, 20 филлеров, 50 филлеров, 1 форинт и 2 форинта. Маленький мастер и господин Дьердь на глаз определяли стоимость дров; и никогда не обманывали. Они даже немного друг дружку проверяли. (Об этих временах сохранился один трогательный документ: в книге господина Виктора Сомбати под названием «Вертеш — Герече», Будапешт, изд-во «Гондолат», 1960, изданной в количестве 2400 экземпляров, на одной из фотографий можно увидеть белобрысого мастера и два тяжелых кувшина перед ним. Подпись под снимком: Герб на жилище отшельников. Автор снимка — Золтан Тильди мл.) Еще он помнит бабушкину строгость, особенно последовательность оной. Однажды, как говорят, щавель не ошпарили, и от этого он — это уж точно — стал горьким, как желчь. Мастер пытался его в себя запихать, используя безмерное количество хлеба, но несмотря на это почувствовал приступ тошноты, так что пришлось сказать что ему нехорошо. Что одновременно было и правдой и ложью; но, по сути дела, враньем. «Ты заболел?» Бабушка посмотрела на него. У плиты — дым, пар. По стульям скачут кошки. Ведь это просто бесплатный цирк был! Как там обращались с кошками! Как с живыми существами! Мастер однажды был свидетелем того, как отец схватил за хвост кошку, которая, улучив момент, лакнула водянистого супа, и вышвырнул на улицу. Поднялся такой тарарам, что мастер, и отец тоже, громко рассмеялись. Но тогда отец мастера некрасиво поругался с бабушкой мастера. «Да, заболел», — ответил он, хотя почувствовал какой-то подвох. В сети которого и попался: потому что три дня пришлось пролежать в постели, что, если честно, было домашним арестом. Было обидно до слез, особенно потому, что на те дни пришлись показательные выступления парашютистов. Их хорошо было (бы) видно со двора. Ее многие навещали: она была очень гостеприимной. Особенного внимания заслуживает книга для посетителей! С именами разных знаменитостей! Мастер тоже записал туда свое имя, и не раз. И каждого внука, регулярно, отмечали у дверного косяка. Целуя на прощанье, она большим пальцем правой руки рисовала па лбу крест. «В такие моменты она была похожа на священника». В разговор, также как господин Дьюла, вставляла слова-паразиты — только у господина Дьюлы это было: гэ-гэ, а у бабушки же: дн-дн, — вначале это. Всегда вызывало у внуков смех (лишь многим позднее обнаружил он в этом привлекательность. С одной стороны, невольное «отсутствие утвердительных поток», а с другой, в перерывах между заиканием: беззащитность). Отец мастера неизменно приходил в сильный гнев. Так же непонятно было его раздражение, когда во время одной из совершаемых в окрестностях прогулок господин Марци, увидев на вершине горы большую бронзовую птицу,[116] символизирующую тысячелетнюю славу Венгрии, спросил, что это такое? «Коза турул», — ответил проказник-мастер. «Желваки на скулах». — «Чтобы я этого больше не слышал». — «А чего?» — стал препираться мастер. «Есть вещи, которыми шутить нельзя», — сказал отец, чей гнев не утих. «Было в этом, друг мой, что-то венгерское».
Мастер тотчас же увидел Елку. И понял: она или ничего. Махонькое деревце издали, на прищур, и при ближайшем рассмотрении оказалось стройным, пропорции свидетельствовали о том, что деревце с душой, не недомерок какой-нибудь, была в нем осанистость, не горделивость, но этика; со скромным сознанием этого оно стояло одно-одинешенько, прислонившись к ограде, в объятиях угла. А рядом ни елки, ни души! Как удачно. Чуть поодаль происходило великое столпотворение. «Благотворительность — пиф-паф твою мать! — вызывала слезы на — отец, ну, а я-то когда встал! — глазах у присутствующих, то были благородные слезы умиления — вот свинья! постеснялись бы его возраста! — выражаясь изящным языком, как прекрасна благотворительность; и как немногие все-таки ею занимаются!» В связи с этим можно процитировать содержательный афоризм господина Марци: «Ты, ты скотина в человечьем обличье!» (Ибо как-то раз — «круг постепенно замыкается» — у господина Марци еще продолжалась утренняя сиеста, уж что-что, а сон ему необходим! в это время мастер, прокравшись в его комнату, с большой осторожностью! «не дай Бог занозить руку», погладил господина Марци по голени, умиленно прошептав: «Дубинушка моя стоеросовая!» Господин Марци вскочил; мастер долго потом еще дрожал от страха. Центральный нападающий, которого так многие любят и ненавидят, изрыгнул приведенный выше афоризм. Адресовав его мастеру.)
Вокруг Елки царила тишина. Мастер, поднеся к носу хвоинку, растер ее между пальцев, островок мира, символизируемый приятным ароматом и елкой, был Рождеством. Мастер решительно встал рядом с «обалденным уловом», не желая сдвинуться ни на шаг. Продавец, высокий, молодой парень со складным метром в руках, никак не хотел замечать человека. («Voila un homme!»[117] — воскликнул в разгар лета Президент того клуба, где мастер проходил испытание, после того как мастер покинул помещение; вот вам человек: и это самое главное, что можно сказать об Эстерхази! Он похож на человека.)
Он пытался поднимать длинный указательный палец, все впустую. Он изволил махать, как официанту; в этом, вероятно, и была ошибка. Но ведь оплата рано или поздно должна произойти, и, пробиваясь сквозь бурлящий человеческий котел, он толкался до тех пор, пока не очутился в задней части автобуса: он и его елка. Люди оглядывали его, кивали с улыбкой. «Признание!» И, как оказалось, накопленный таким образом запас признания вскоре пригодился.
«Что. Это?» — спросила, выдержав зловещую паузу, женщина. «Как что». — «Что это за чахлый, дегенеративный куст?» На губах у мастера уже появилась обида; дело в том, что в прошлом году Йожеф Веверка заявился с елкой под стать мачтовой сосне. «У нас тут что, парадный зал Парламента?» — спросил он в те стародавние времена красу-девицу. Но да ведь у красы-девицы в такие моменты мнение предвзятое. Но сейчас у мадам Гитти с головой было все в порядке, она разглядела психологическое состояние мастера. «Так ты хочешь уравнять ее в правах?… К твоему сведению, то дерево было просто стройняшечкой!»- «Еще бы. Отрубили от него 1,5 метра, а оно все еще стройняшечкой оставалось», — прокомментировал мастер, а сам в это время очень хитро развязывал шпагат, чтобы форма компенсировала в глазах жены размеры. «Посмотри, любовь моя. Какой формат!» — с этими словами сбросив последний узел, он обнажил свое, творение. Еще и пируэт описал с елкой в воздухе, а потом поклонился.
Пока он стоял в согбенном положении, со врезавшимся в живот ремнем, точнее пряжкой, ожидая возгласов признания и изумления, взгляд его упал на выползающий из-под ковра паркет, таинственную решетку и щели, которые — и это компенсировало тяжелое зрелище! — загибались под тем же самым углом, что и планки. В этот момент послышался женин вздох, он резко выпрямился, «как складной ножик из города Балмазуйварош». «Вот видишь» — сказал он сразу. Триумф был мимолетным. «Что это, Петерке? От этого дерева откусили кусок». Он взглянул на деревцо — «само сов-вершенство!» — затем вопросительно на жену. «Да ты поверни его, счастье мое», — прозвучал циничный голос. Он так и поступил, как вдруг!.. «Друг мой, обнаружил часть, которой не было». (Как и раздевалок, если мне не изменяет память.) Откусить от елки! Ну, уж это! Он кивнул, он был само…; можно себе представить. Теперь уже Фрау Гитти поступила aufwärts![118] «Ничего страшного, мы это потом к стене повернем…» «Ангел из гипса», — пробормотал посрамленный творец. «Ангел из гипса, ангел из гипса, — рассердилась супруга. — Главное, наш!» Произнеся, таким образом, приговор. После скудного обеда ему было приказано сесть в огромное кресло, но совсем не для того, чтобы лакомиться литературными деликатесами, или прилагать новое русло для истории под энергичное почесывание головы, или углублять или засыпать старое, или даже просто чтобы прикорнуть; нет! А ведь как он умеет в такие моменты помахивать литературным журналом!
«Делай петельки!» — сказала мадам Гитти расположенному в кресле мастеру и указала на шоколадные конфеты. Он воспринял это с большой радостью, всю свою сознательную жизнь он был рад той домашней работе, при которой не надо было подключать интеллект. Поэтому можно понять испуганную нотку в вопросе: «А крючочки?» Фрау Гитти как раз со вкусом упаковывала подарки. (На прошлогоднее Рождество один подарок был без всяких прикрас: шпагат и оберточная бумага! Да, но то был очень хороший поступок. В буквальном смысле — заслуга женщины; в благих намерениях и мастеру, конечно, не откажешь, но вот в способности их осуществить — иногда да. До сведения мадам Гитти дошло, что есть один инженер, который в одиночку воспитывает семь дочерей. Так вот мадам Гитти обошла всех встречных-поперечных, нет ли у кого чего-нибудь лишнего. Затем наступил великий день. Но как они все спланировали! Чтобы подарок был одновременно вручен лично, но и не был в тягость! Чтобы инженеру едва пришлось благодарить за него! Лошадь спрятали в темном боковом переулке, мастер велел ей держать ухо востро. И не зря! Быстро и ненавязчиво сделав свое дело, они вернулись радостные, но спешным шагом. «Радость моя, — говорил он, ногой, вслепую, ища стремя, — я тоже хочу семерых дочек. Они встанут в ряд, как органные трубы, ты только представь, и у каждой будет ужасно огромный нос!» Как нам известно, вышло все по-другому и т. д.)
«Т пр крччк?» Женщина зубами отрывала ленту для подарков. «Да. Про крючочки», — сказал мастер, приходя в отчаянье. «Да Господи Боже мой, чего ты ждешь, моток вот, ножницы вот, работай!» — прорвало супругу, потому что у нее как раз оборвалась лента, однако следует добавить: не там, где нужно. Однако мастер как раз хотел избежать размышлений по поводу того, какой длины должны быть крючочки, достаточно ли в один ряд, а также хотел избежать ловкости рук: поскольку нитки из хлопка слипаются, перекручиваются, раскручиваются и т. д. «Если нужна только сила, берусь», — говаривал он с гордостью. (Хотя погрузка у господина Ичи свидетельствует как бы об обратном… «Там я к тому же хилятиком оказался». Так вот, по-моему, в таком случае мало что остается…)
Мадам Гитти, разглядев корень всех бед, погладила мастера по голове и вернула его к жизни из летаргической безысходности, после чего он смог констатировать лишь, что нарезанные по шаблону крючочки, как «мертвые червячки», расположились рядком, испещряя подлокотники. Готовый к бою, он потер ручки и неблагодарно сказал: «А они не слишком длинные?» Его это немного беспокоило. «Ну конечно, длинные, Петер». — «Ну да, ну да. Но ничего страшного. Что-нибудь придумаем». «Длинные, Петер, — продолжила Фрау Гитти сдержанно, — как раз то, что надо». И он изволил приняться за петельки, петельки, петельки.
Закончив, он сходил на лоджию за Елкой, застряв, даже два раза, в дверях, переломов не последовало, осыпалась лишь очередная партия хвои. Затем выяснилось, что елочка внизу слишком толстая и не влезает в подставку. «На крепкий сук — острый топор», — пошел на попятный мастер. Женщина наклонилась вперед, разглядывая проблему, платье спереди отвисло, мастер тотчас устремил на это неформальное декольте взор больших и проницательных глаз. «Гиттуш, дай припасть к твоей груди». Как-то они вдвоем посетили полунудистский пляж. Он сразу же все вокруг обошел и, вернувшись к жене, сообщил, что, по его мнению, «дела» у жены «обстоят неплохо», «уверенный партер» или «нижний ярус балкона» — это «не так уж мало». После следующей прогулки великий художник примчался тяжело дыша. «Радость моя, — пыхтел он, — ты на это посмотри». Мастер, видите ли, узрел обалденную негритянку, сидящую у стойки бара под открытым небом (!): «Друг мой, с вашу голову! Но если бы голова была упругой!» Стройная дамочка пошла посмотреть на негритянское чудо, но когда вернулась, сказала: «Не нашла». — «Да не так уж важно», — сказал мастер с песочного ложа, не открывая глаз.
Он изволил терзать, мять елочку, чудо еще, что на ней сохранилась вечнозеленая хвоя. «Ну и елка, ну и заморыш», — сказал он наконец торжествующе, и женщина не возражала. Природа — несмотря на предобеденные потуги — праздничный наряд не надела. Шторами служили большие, инертные снеговые тучи.
«Знаете, друг мой, когда я вышел на кухню за дочкой, чтобы «под звон ангельского колокольчика» начать праздник, и наступил на отскочившую плитку пола, меня внезапно осенило: Рождество уже давно пришло». Может быть, невнимательность проявил, или выкрутасы времени, точнее праздника, тому виной, но факт остается фактом: он давным-давно жил в Рождестве. «Гиттуш! — крикнул он в комнату, а сам наклонился, чтобы поправить отскочившую плитку, — Гиттуш, Рождество наступило!» Но поскольку женщина не могла проследить ход его мысли, то решила, что над ней издеваются, и ответила соответственно. Мастер, раскиснув от окружающего непонимания, демонтировал Миточку с Горшка, нашептывая на ушко малышке, «обрисовывал ситуацию в общих чертах», упоминая, что Рождество — неисчерпаемый источник поэтических произведений; сколько всего приходится на этот день! маленький Иисус раздает детям подарки, несмотря на то что за предшествующие недели на них нагнали страху Санта-Клаус, а также Чертик, и пока милая мама развешивает сокровища из своей кладовой: круглые вафли, грецкие орехи, яблоки и т. д.; под окном раздаются колядки — Мастер тоже в них участвовал, правда, не пошел дальше роли Третьего Пастуха От одной католической семьи ходили к другой. Однажды, когда он, как полагалось по роли, гаркнул: маленькийисусродилсярадостьнам — и, топнув ногой, выступил вперед, то почувствовал, что пол под ним проседает и вот-вот провалится. «Паркет периодически подрагивал». Это еще было полбеды, потому что компанией они были дисциплинированной, если бы взрослые, которые в возбуждении стояли вокруг, не стали притворяться, будто ничего не случилось. «Ни слова не говоря, замахали руками, подбадривая, ничего, мол, не случилось, спокойно продолжайте… Да какое, к лешему, ничего! Бедный маленький Иосиф (к сожалению, с тех пор эмигрировал в ФРГ; не поэтому. — Э.), как пьяный матрос, выписывал круги между святыми и маленькими волхвами и, покачнувшись, опрокинул Деву Марию!» При виде этого Эстерхази тонким мальчишеским голоском расх-хохотался! «Но как-то дотянули до конца. И всего помню лишь ужасную жару, но не из-за шубы — Третий Пастух без шубы — невообразимое дело! — а из-за лица. Я как пощечину получил». Что здесь ближе к истине, кто знает, но руки у молодого веснушчатого капеллана, видимо, чесались!
«Ну, малыш, — сказал мастер устало, поскольку пеленание в стоячем положении его измотало; чего нельзя сказать о жертве: недостаточная заправленностъ привела к совершенной сырости, — ну, вот, сейчас прозвонит ангелочек, точнее, твоя мама по его поручению, и мы войдем». Отец и дочь ждали в невыносимой вони, отнюдь не рождественской: Горшок остался на табуретке. «Ангел звонить», — сказала девчушка. «Я как раз сейчас говорил Миточке, — изволил он проорать в комнату, — что если зазвонит, Гиттушка, если зазвонит! Ангел, то мы войдем». — «Ладно, ладно». Он изволил прийти в настоящее изумление.
«Колокольчик», — просияло детское лицо, и они вступили в комнату. Молодая пара растроганно следила за малышкой, в чьих глазах отражалось множество свечей и брызгающих, мигающих бенгальских огней. «А теперь помолимся». — «Помо, помо, — сказала Миточка. — Папка на корточки, мамка на корточки» — в том смысле что встаньте на колени. И правда. «Отче наш, сущий на небесах, да святится Имя Твое, да при-идет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого».
«Елка», — показала Казмер Митович на елку, после того как наспех осмотрела кукол рит, большого мишку и голопузых львят. «Безупречная аргументация», — подумал он и, подхватив крохотное создание, стал кружиться, вращаться с ним до небес. А после того, как поставил на пол и оба еще неуверенно ступали от головокружения, малышка взяла в измазанную пухлую ручонку хвоинку. «Папка! Папулечка, — посмотрела она умоляюще на отца, — назад!» — и потянула иголку к елке. Мастер беспомощно погладил золотую головку: «Не сердись». Без сомнения, каждый год в доме все от мала до велика отправляются, хорошенько обувшись, утоптать скрипящий снег на дорожке к Божьему храму; у малышей глаза слипаются от усталости, но ни за что на свете они не пропустят случая поблагодарить маленького Иисуса за подарки и выпустить в церкви пойманного исключительно для этой цели воробья. Чудесная идиллическая картина, которая настолько же наивна, как и возвышенна.
Э-хе-хе, скрипящий снег! Но где снега былых времен?[119] Ну конечно, они изволили «заполнить время» по дороге к крошечному кафедральному собору разговорами о преимуществах Рождества — что поделаешь: праздник каждый год приходится подстраивать под данные погодные условия. Главное, что церковь изнутри такая же, как обычно; точка опоры. По пути встретились с братьями и отцом. У матери мастера все еще болела нога, да и вообще святая женщина чуточку брезгливо относится к скопищам людей. «Это так турбулентно, сынок». Мужчины топтались перед церковью, роясь вокруг Фрау Гитти, господин Дьердь непочтительно шлепнул ее по спине, господин Марци и т. д. Седовласый корреспондент газеты выражал беспокойство. «Знаете, друг мой, упомянутое лицо можно упрекнуть в том или ином, не будем выделять курсивом, в чем, друг мой, но святы две вещи: он непревзойден в том, как морщит лоб и беспокоится». Такому беспокойству следует обучать. «Дети, наверное, следует войти, тогда бы и места достались». — «Не волнуйся, батя», — произнес господин Дьердь с нажимом.
В конце концов места достались всем, только мастеру и господину Марци стоячие. Народу пришло много, охарактеризуем плотность толпы так: во время демонстрации тела Господня невозможно было стать на колени. Любезный брат, взяв под руку, поддерживал его почти с материнской нежностью, и пока он стоял в море правоверных католиков, горло у него сжалось было от чувства единения (для которого у него были все шансы, ведь малейшая сутолока, незначительнейшая, роковая перемена ноги в результате самопроизвольного движения толпы, потому что достаточно открыться двери исповедальни, достаточно даже вздоха поглубже по поводу пропущенных исповедей — следующие за передвижением теснения, трения и протискивания были физическим выразителем чувства единения — «в 46-м, наверное, так было, в паре-тройке битком набитых общежитских комнат»; его очень привлекает это чувство, ощутить которое глубже всего можно на пляже — с какими светскими декорациями! — нужно сидеть на зеленой траве, ощущая усталость от известной игры в мяч, покрывал должно не хватать, вынуждая некоторых сидеть на траве, ему нужно молчать, да его и не должны спрашивать: будучи с ним едва знакомы, затем кому-нибудь нужно подтолкнуть к нему кружку со словами: «Держи, ива, хорошо играл», конечно нужно заранее разбираться в этой игре в мяч и вдарить так, чтобы тело стало липким от пота и рука, по той же причине, скользила по пузатому телу кружки), однако вместо всего этого — уж извините за каламбур — горло сжалось от одиночества, «взгляд и глаза раздвоились», он видел всех и вся, «и поводов у него было мало».
Однако приходит слово: «Знаете, друг мой, всякое сущее — прообраз всего сущего; поэтому мы всегда видим существование разобщенным и связанным одновременно. И знаете, радость моя, если мы будем слишком соблюдать аналогию, все под знаком идентичности сольется в одно; если же мы будем ее избегать, все рассеется в бесконечности. В обоих случаях созерцание прерывается, в первом случае потому, что чересчур активно, во втором потому, что погублено нами».
С понятным ужасом он изволил приступить к молитве, от которой во время причастия его отвлек крайне будничный случай, ошибочное, не к месту высказанное господином Марци «желание сцапать», при удобном случае, «пусичку в лиловом». Это было не к лицу господину Марци, и скажу прямо: не к лицу и мастеру — главным образом, этот сдавленный, школьнический смех, который ознаменовало сильное сотрясение спины, что затем передалось и спине господина Марци, вызывая крайнее возмущение сидящего сзади отца. «Не дергайся, старик», — непочтительно сказал теперь господин Марци, он уже перед церковью, пиф-паф! вмазал по спине седовласого корреспондента газеты огромным снежком. «Больно», — сказал отец. «А ты чего думал?».
Они все еще стояли, беседуя с соседями. С господином Марци поздоровался некто господин Хуш. «По ступенькам спускались Хуш и Баша». Правое крыло на полуночной мессе! «Спелись, а?» — ухмыльнулся господин Марци мастеру, ответив на приветствие. «Батя, — как раз говорил тот отцу, — у меня для тебя есть лакомство». И сказал, что удалось достать настоящего горького шоколада, bitter. Вверх дном город перевернул. Ему хорошо запомнилось из детства, что отцу: достается горький шоколад, потому что это его любимый. У матери все то же самое было с куриными спинками. Ему, на взрослый уже взгляд и вкус, это казалось странным, но Боже мой! Если им это нравится! «Я тебе потом скажу, кто его любит», — добродушно прорвалась из отца накопленная годами горечь (шутка — Э.). Как искусно скрывалась истина! Так, почти случайно, выяснилось, правда, можно было это узнать и из других источников, что родители мастера относятся к типу людей самоотверженных. «Требую только белое мясо и окорочка», — заявила при дальнейшем расследовании мать.
Две семьи попрощались друг с другом и отправились, кому направо, кому налево, с сонным видом. Мадам Гитти взяла мастера под руку, прямо как неродная. Бесснежный сочельник приближался к концу, но в маленькой кухне — холодный кафель демонстрировал отвратительную температуру; «шлеп», топала по ней обычно Донго Митич — напоследок блеснул, чтобы затем, по извечному закону природы, уступить место для завтра. Босой, в пижаме наизнанку, он ковырялся в рождественском студне, когда Фрау Гитти (в тапочках!) произнесла в качестве обрывка уже происходящего, но неизвестного мастеру разговора: «Мяса в нем, кажется, не много». Мастеру следовало ответить, но он в точности не знал, к чему фраза относилась. «Пир горой у Винни-Пуха», — сказал он наконец сдержанно и протянул руку за уксусом. Вилку воткнул в студень, мелкими, разнонаправленными движениями взрезал поверхность и налил в ужасную расщелину уксуса.
67 «Раздобудем мирного неба, свежего хлеба, вина и гульнем разок», — сказал мастер с горечью (тайная вечеря, или последний ужин). Они стояли перед складом после последней тренировки. Мастера этот процесс, а точнее: что после каждой тренировки экипировку нужно относить на место — чрезвычайно утомлял. Начнем с того, что он об этом всегда забывает. «Бывает. Нет у меня этого в крови». Да, но всегда находится тот, кто, когда он, наклонившись по причине малых размеров входа в раздевалку, собирается уходить, напоминает об этом. Радости это у него не вызывает. А как он потом его несет! Как будто при переезде! А всего-то: трусы, майка, два носка, пара бутс! Можно сказать: ничего! И все-таки, когда бутсы норовят подпрыгнуть в руках, как огненная шиншилла, носки «наподобие дохлых шарфов» обвиваются вокруг запястий — и он достигает цели: это уже кое-что! А рациональностью, с которой трусы завернуты в майку — «двух зайцев, друг мой, именно!» — он определенно изволит гордиться. А потом сортировка!! Сортировку он пропускает. Оглядывается, как выступающий с торжественной речью оратор, и, если господин Эжен отвернулся, бросает маленький комок в какую-нибудь кучу. Господину Эжену, конечно, с точностью известны мастерские проделки мастера (игра слов), и он «от души про себя хохочет». Треплет мастера миниатюрной рукой: «Ладно, Петерке, вдарьте как следует!» Он вздергивает голову: «В будний день, Эженке? Матча же нет». Кладовщик опускает голову «А вы всегда». Эффектно.
Команда топталась в чересчур натопленной кладовой, и уйти хотелось, и остаться. Нужно было обсудить детали ужина в честь закрытия сезона. «Куда пойдем?» — «Дети мои», — энергично поднял он руки. Господин Арманд — обычно хозяин ситуации — бухтел на заднем плане, причем давно уже, мол, дело не двигается, а стоит. Что-то надломилось в господине Арманде. Тренер, как бы ни сложились условности, отвечает за команду. А они теперь… «Знаете, друг мой, мало того, mon ami, я нахожусь в ситуации намного более выгодной. У меня нет коллективного чувства вины». Да: мастер — воплощенная насмешка. Господин Арманд воплощал слишком многое из того, что потерпело крах, и, несмотря на его кристальную честность, это («поэтому!») привело к перелому, вот и теперь он подчеркнуто скрылся среди полок, ему вдруг срочно понадобилось приводить в порядок экипировку. «Ситуация отцов».
Ну, а мастер продолжил. «Дети мои. Идите в город. Там вы повстречаете несущего пивную кружку человека. Идите за ним и там, куда он войдет, скажите хозяину: мастер прислал спросить, где те покои, в которых я с товарищами могу вкусить ужин? Он покажет вам просторные, обставленные для приема пищи палаты». Вот что прозвучало у подножия облезлых, за копейки выстроенных заново раздевалок. Правый Крайний поморщился. И когда он бросил туда взгляд, сказал: «Петике». Остановились, как не раз бывало, на кабаке господина Дьердя. Он пришел раньше, сел рядом с господином Дьердем у «мертвого» игрового автомата. Большой брат утомился. «Мяса достал и картошки дешевой». — «А салат? Салат будет?» (При появлении на горизонте какого угодно совместного ужина он тотчас же интересуется насчет салата. Напр.: «Разобьете «Теши» — ужин в «Барашке»!»; «Спасибо, господин Пек! Салат будет?»; «Если, то». «Салат с огурчиками?» и т. д.) Господин Дьердь не ответил. Иногда мастер его утомлял.
Вошла женщина. «Посмотри-ка на мамочку, — сказал шинкарь, — в меня влюблена». — «Естественно». Однако что-то в этом, наверное, в самом деле было, потому что женщина стала донимать господина Дьердя. Когда она ушла — спешила назад в свой табачный киоск, мастер произнес следующее: «Так с тобой разговаривала, как плохая жена». — «Видал, — ответил с детским воодушевлением господин Дьердь, — чему он обрадовался? — Но затем по быстрому невнимательному взгляду младшего брата в сторону увидел, что тому чуточку скучно, взрыв эмоций устроен скорее ради мастера. — Видал? Этим она себя и выдает». — «Обычно так делают» — проворчал известный всей стране писатель. Рядом с ними остановилась старушка с ведром и половой тряпкой. Голова у нее сильно тряслась. «За двадцатку убирает туалет, — шепнул господин Дьердь. — Окупается. Знаешь, какая жуткая работенка?» Мастер не стал выдавать секрет своего убогого (армейского) опыта. Бабулька беззубо улыбнулась господину Дьердю. (После удаления старушки мастер не удержался от того, чтобы не сказать: «Приятель, думаю, ей тоже… ей ты тоже симпатичен». — «Ничего девчонка», — сверкнул глазами молодой мужчина, поскольку был охотником до шуток). Бабулька говорила и во время разговора, в такт ему и голове, ритмично трясла ведром, которое «безбожно громыхало». «Дьюрика, чего удивляться, что вам-с эта баба не нужна…» Это было как наваждение: туалетная тетенька говорила как господин Кашшак.[120] «Дьюрика, говорю вам, вы правы. Если бы я была мужиком с тысячей хуев, — здесь она захихикала, так что мороз прошел по коже, — с тысячей хуев, то и 1001-й не доверила этой бабе». — «Ладно, мамаша, глотните пятьдесят грамм черешневой, а потом марш домой». — «Домой, домой…» — стала бормотать, вновь уйдя в себя, старуха, но господин Дьердь безжалостно направил ее к стойке. Мастер испытал виноватое облегчение.
Он изволил было подняться, но поскольку господин Дьердь продолжал держать ладонь на его плече, план потерпел фиаско. «Да сядь ты, поговорим немножко». Мастер не знал даже, плакать или смеяться. «Вот-вот, друг мой, или». «Такую конфетку сделаю из этой пивнухи», — и обвел вокруг рукой. «Полкоролевства», — перевел мастер движение руки на человеческий язык. «Во-первых, пущу вдоль пожарной стены душистый горошек. Мать уже спросил, когда нужно сажать душистый горошек». — «И сказала?» — «Все мямлила чего-то, я ей говорю, нечего воду в ступе толочь, говори быстрей, обиделась, выгнала, непочтительность, мол, проявил». Мастер набрал в грудь воздуху, чтобы начать серию возражений, которая должна была, как обычно, быть нацелена на отношение господина Дьердя к миру, но, вновь встретившись с быстрым косым взглядом, так воздух и выпустил: «Ф-ф-ф». Господина Дьердя неприятные вещи регулярно оставляют равнодушным. «Но за ужином пошла на мировую, пообещала, что спросит этого длинного типа, он в этом разбирается». Поразительно, сколько всякого народа не знает господин Дьердь — по сравнению с мастером. «Тот, высокий, который раньше жандармом был, кажется». Ему что-то припомнилось. «А не телохранителем?» — «Ну да». — «Настоящий muskeltier».[121] (Вот какую любезность он оказывает немецкому переводчику. Джентльмен просто.) «Во всяком случае, он старый поклонник семьи». — «В общем, сначала душистый горошек, потом пианистка». И мастера понесло: «Маленькая поблекшая старушка, сигареты, французский голос, в окне вывеска: КАЖДЫЙ ВЕЧЕР МАРГО, большими золотыми буквами…» — «Что-нибудь в этом роде», — прочувствовал все это господин Дьердь. «И здорово шарит в музыке». Мастер, по собственному утверждению, со словом «шарить» полностью утратил чувство языка. Давайте же проследим это языковую предвзятость in statu nascendi:[122] бродят они, скажем, с господином Чучу всю вторую половину дня, ни говоря ни слова, потому что у него здорово получается (шарит он в этом) молчать с господином Чучу, но затем, сидя на краю стадиона, на четверти бетонного кольца, или на бетонной лестнице, или просто на поваленном электрическом столбе, — последний смотрится на окружающем поле холме как огромная зубочистка, — один из них говорит, мотнув головой в сторону какого-нибудь стоящего игрока: «Здорово шарит». Второй (если же и т. д.) кивает: «Здорово». И мир входит в свою колею.
«И здорово шарит в музыке», — восхищался, значит, он будущей пианисткой, но господин Дьердь воистину охладил его пыл. «А, неважно, — сказал он мрачно, — главное, чтобы музыка была. Суть в другом». Хорошее настроение мастера сменилось было на плохое, когда господин Дьердь сунул ему листок бумаги. «Черновик. Посмотри, ты же все-таки великий стилист», — и подавил в себе смешок. Мастер приступил к чтению.
У. П. О.!
Обращаемся к руководству П. О. с огромной просьбой перенести часы работы нашего заведения: с 10–22, как это было до сих пор, на 11–23. Основанием нашей просьбы является следующее: оборот заведения между 10-ю и 12 ч. составляет, по нашим подсчетам, макс. 500 форинтов. Значительное сокращение поступлений можно мотивировать оттоком клиентов в недавно открывшиеся рюмочные. Опыт, однако, показывает, что между 22-мя и 23 ч. доходы заведения могли бы возрасти, чем мы в какой-то мере смогли бы компенсировать сокращение утреннего оборота.
Просим поддержать наше предложение.
С уважением: + +Теперь стремительное равнодушие охватило его, кивнув, он вернул бумагу назад; сказав лишь: «Перед и нужна запятая». — «Да пошел ты».
По мере того как постепенно подтягивались ребята, рос круг обязанностей господина Дьердя, и пропорционально этому «рассеивалось» интимное, хотя и не лишенное натянутости уединение двух братьев. «Господа, — поклонился заместитель заведующего, — нам удалось зарезервировать для вас отдельное помещение». С этими словами он указал на три сдвинутых в углу стола. Еще не утихло сдержанное веселье по этому поводу, как господин Дьердь оказал новую любезность. Ибо к нему подошел дядя Фаркаш, волосок, дескать, в пиве обнаружил. «Где?» — спросил господин Дьердь с громогласной любезностью. Старик показал. «Папаша, это не волосина, а отметка на стекле». — «Знак? Внутри?» — «Конечно, отметка, что до сих пор надо наливать». — «Тогда, сынок, забери-ка это назад и налей до сих пор». И пристыженному господину Дьердю пришлось выполнять законное требование. Мастер подозревал, что младший брат с самого начала знал, чем все закончится. «Дочери дяди Фаркаша!» — продолжал он развивать мысль. Эдит и Клари. Долгое время их образ мучил мастера грызущим чувством вины. То было вечнозеленое католическое чувство греховности: он еще в школу не ходил, когда прятался с обеими дочерьми в мешок! Сначала с одной, потом с другой. То была очень хорошая игра, «игра в самоубийц или что-то в этом духе», лицо у него краснело, жарко, помнится, было. Только потом возникла перспектива греха и резвым играм пришел конец. Он изволил струсить; «к сожалению». Затем для дяди Фаркаша наступила черная полоса, он все пропил. А как он тогда заявился на выпускной банкет к своим девочкам, в толпу разнаряженных пештских дам с турнюрами! Поверьте мне, то была сцена, достойная пера писателя. «Скандальная сцена, достойная пера, наверное, более раннего (пожилого?) писателя… Знаете, mon ami, дядя Фаркаш был великолепен. Отмечу, он и по сей день является таковым. Даже по отношению, например, ко мне сохраняет марку. — Так за это он его и уважает! — Как он появился, в лохмотьях, худой, небритый, и все же, как будто, ни на что не претендуя, ни на салями, ни на ветчину. Я — это я, вы — это вы; я не сержусь. Такой он был. Конкретно, он, конечно, хотел есть, салями, ветчину. Утверждать, что девушки несказанно обрадовались, было бы, конечно, преувеличением. И конечно, скандал тоже был; на поверхности всегда находятся скандалы», — оборвал он цветную нить повествования.
В это время появился господин Арманд, как первый среди равных. Подсел к столу, где уже сидело несколько человек, среди них и мастер. Но подсаживание к столу не вошло в число старых добрых традиций: кто-то вставал и шел смотреть, как играют в игровые автоматы, или даже начинал играть сам, или выпивал с господином Дьердем, пока тот колдовал над кружками, а в это время и другие подходили, и их ожидала та же самая судьба. У игрового автомата стояла девушка. «Развалюха». Однако господин Чучу сказал: «Вместе со мной в первый класс ходила». Мастер был деликатен (как наследный принц, ха-ха-ха). «Но сейчас она, кажется, и за скромное вознаграждение…» — «За кружку. Но если попросить, то и безвозмездно». — «Потасканная уж очень». — «Одного со мной возраста», — повторил, в качестве довода, господин Чучу. «Слаба на передок?» — «Да ну. Обыкновенная шлюха».
Стол был в постоянном движении. Мастер с беспокойством взирал на «неформальную обстановку». Скажу искренне, как есть, — «пунктик», для него характерный, — он изволил опасаться, что прощальный ужин не начнется. Кто-то раздобыл бутылку румынского коньяка, которая пошла по кругу. (Травмированный Левый Крайний скоро захмелел.) «Не знаю, mon ami, как остальные, но я ждал чего-то». («Можно потом процитировать».) Мастер, конечно, произнес приведенную выше фразу, обратившись к Левому Защитнику, который благодушно не так его понял и стал поторапливать господина Дьердя с ужином.
Пиво появлялось автоматически, лица раскраснелись, и у господина Арманда тоже. Настроение угрожающе поднялось. Мастер верил в то, что ужин — «стихийная биологическая сила» — соберет народ вместе, и тогда господин Арманд встанет, откашляется и чуть растроганно — как мы убедились, ему не чуждо подобное чувство и общественные задачи заставляют его выходить на поверхность, — произнесет Заключительную Речь, а именно: даст оценку результатам, сообщит статистику, самый лучший средний результат, самого результативного игрока (им станет мастер с 24 голами), ну, а затем объявит… Да, объявит, уходит или нет. Потому что в этом тоже была какая-то неясность.
Но мастеру пришлось жестоко разочароваться. На первом этапе в самом себе, затем в развитии событий. «Благородная последовательность». «Жрачка, господа», — прогремел господин Дьердь, на руке — тарелки жемчужным ожерельем. «Ишь ты, как настоящий официант!» — разинул он от удивления рот на брата. Он с особым трепетом относится к официантам. «Маринад, — мановением руки официант извлек серовато-белые тарелочки с маринованной паприкой и ассорти из овощей «чаламади». — Острый, что надо. Это команде от Голубки». — «Начинается», — он изволил потирать руки, потому что на запахи начали стекаться, возвращаться на места ребята. Он видел, как господин Арманд вынимает из наружного («!») кармана короткого (но нового) кожаного пиджака квадратик бумаги, разворачивает, разглаживает, складывает и откашливается.
Тарелки поступали с успокаивающей непрерывностью, ни о каком подманивании калачом, как это часто бывает, речи не шло, и с такой быстротой, что тому, перед кем кушанье уже стояло, был резон подождать остальных. Таким образом, установилась истинная гармония, потому что тому, перед кем ничего не было, тоже был резон подождать. Но и в эту гармонию, как и во всякую другую, была внесена сумятица.
Неожиданно послышались удары и сразу после этого визг бывшей одноклассницы господина Чучу («Знаете, прямо как в фильме, а это как будто синхронный звук») и еще хруст. «Как если бы порвалась одежда, только хуже. Или, скажем: если бы порвалась очень дорогая одежда».
Мастер, опираясь на предшествующий опыт, полагал, что среди щетины, вихляющих бедер, плоских, приподнятых грудей, туалетов с просмоленными стенами, мутных, желтых озер, поднимающихся над засорившимся водосливом, размазанных бровей, треснувших, кровоточащих губ, опутанных сетью жилок глазных яблок, кисловатого запаха изо рта и затхлой вони под мышками, закатившихся пуговиц от ширинки, никогда не застегивающихся молний и множества женских задов — всего этого реквизита гуманиста — чувствует себя как дома, но теперь, при виде лица лежащего на земле мужчины и второго, одни только его широкие плечи, из-под которых иногда мелькали нацеленные для пинка ноги и пинали же опущенное на землю лицо, не смог сдвинуться с места. А ведь его положение было самым выгодным. «Знаете, друг мой, мне было страшно. Такое лицо… а главное, хруст…» Господин Арманд оттолкнул стул и уже вырос на месте битвы, но в это время господин Дьердь вдруг — чудом освободившись от посуды — сгреб широкие плечи и, прямо как котенка, оттащил приземистого нападающего от жертвы; повернул к себе, при этом осторожно держа от себя подальше. «Не дури», — сказал человек саженного роста. «Нормальный парень-таксист, — сказал на более поздней стадии господин Дьердь, — домой меня бухого часто отвозил». «Да, но так бить ногами, — изволил он сказать с ужасом отвращения. «Знаешь, в чем тут дело. Кровь в голову ударила».
Сцена все еще тянулась; характерно, что полчаса спустя мастер заметил возле ботинка пуговицу средних размеров. Он поднял ее. «Пуговица от ширинки», — сказал он со скандальной откровенностью. «Цыпочке отдай», — сказал кто-то с ехидством. Он почтительно растянул маловажное событие, произнеся: «Реликвия. Пиф-паф» — и щелчком послал пуговицу куда-то. Что всякий может понимать как ему заблагорассудится. (Изощренное цитирование предложения Оттлика.)
На столе, за небольшим исключением, расположились куски мяса, которые остывали. Шницель, панированное мясо и картошка. «Самый лучший сорт толченой картошки». — «Принеси ты рис, Дьюрика, и я бы тебя убил!» — сказал Либеро. «Что есть». Господин Дьердь, так сказать, «недолюбливал» Либеро.
Тогда мастер, как он это обычно делает, даже в лучших ресторанах, схватил рукой картофелинку и засунул в рот. «Этикет — это я», — сказал он, опираясь на опыт прошлого, исторического прошлого. Но теперь была допущена большая ошибка. Как реакция на его движение страсти получили выход: ребята начали есть. «Может, подождем», — сделал попытку он. И, что самое фантастическое, в это время — явно не осознавая сам — потянулся за новой картофелиной, мало того, говорил это уже с набитым ртом.
Поднялась полная неразбериха. Кто-то уже не ел, кто-то еще не ел, кто-то только начинал. Либеро собирал кости для собаки. Молодой Полузащитник в шутку украл один из кусков мяса с тарелки господина Ичи, который этого не заметил, так что когда Молодой Полузащитник с набитым ртом спросил господина Ичи: «Достаточно?» — раздался громкий хохот. Господин Ичи, как всегда, был вежлив: он пригладил характерные, похожие на проволоку волосы: «Спасибо за вопрос. Как в количественном, так и качественном отношении…» — «Дурак». (Всем известный факт: «Вкусовые железы расположены у господина Ичи на пятках».)
Поскольку кое-где основная задача была выполнена, образовались небольшие группки беседующих. Мастер, похолодев, отметил, что вечер не только что начался, а уже перевалил за половину. После разговоров о том о сем он обнаружил, что рядом с ним шепчутся, конспираторски шепчутся. «О плане действий». Как им заявить, что если господину Арманду нельзя остаться тренером, то они уходят. «Как так уходим?» — задумался он. «Это чтобы попугать, — просветили его негромко, — надо просто засвидетельствовать, такой, мол, сякой Эжен». — «Но ведь это неправда», — сказал он ошарашенно. «Ну, не прямо так, — сказал Второй Связующий, — но, по сути, Арманд уходит из-за Эжена». — «Это правда». — «Серьезное это было поражение, друг мой. С одной стороны, перешептывания… Мы собирались в кучки, шепчась о правом деле, но никто не встал, чтобы за столом сказать об этом четко и ясно… А потом много разговоров не пошло ребятам на пользу. Они доступны пониманию в своих действиях: кто-то грубоват, например, кто-то тихоня, все по-разному. Но знаете, mon ami, выступать здесь с теориями!..»
Но, несмотря ни на что, его сердце на коротенький период переполнилось теплом, ведь все-таки это сомнительное собрание произошло именно вокруг него, чувствуется, значит, что он даже если и не такой, как все, но все же один из них. (Э-хе-хе, здесь его еще ждет сюрприз!) Начали они играть в щелчки; это требовало продвижения дел с выпивкой. «Знаете, дорогой мой, просунуть голову между двумя пивными бутылками, так, чтобы ни одна не упала, дело немалое».
Мастер подошел к господину Арманду, чтобы расставить наконец все по своим местам. Отвел измученного тренера в сторонку и стал тихо говорить: «Слушай, Арманд, оставайся». Разговор быстро подошел к концу. «Не будем об этом, Петер». Они смотрели друг на друга. Наверное, и остальным передалось это мгновение, но пиво все же убывало, играющие щелкали коробком. «Попробуйте. Держи их вместе». Мастер гневно махнул рукой. «Не будем об этом», — изволил он сказать на этот раз. Они продолжали стоять. Вопреки своему гневу они друг на друга не сердились: они друг друга знали. «Знаете, друг мой, мое дело, к счастью, маленькое: я играю!» Боже, до чего просто! — могу сказать я.
Он поплелся назад на место. На жирных тарелках комками торчали смятые салфетки. Правый Крайний уже поджидал его. «Че ты ему гонишь! Наконец-то уходит». Он не нашелся, что ответить. Он и не думал, что у господина Арманда есть и враги! По перешептываниям казалось, что все, как один, были за тренера. («Но да ведь в этом и заключается своеобразие перешептываний!») Так он и сказал Правому Крайнему. Тот тонко рассмеялся. «Петике! Да что ты обо всем этом знаешь?» — «Как так?» — поперхнулся он. «А так! Ты здесь на тренировках и на матчах бываешь, а потом все, идешь домой». — «А что? Есть что-то еще?» — спросил он с обидой. Маленький чернявый парень взглянул на Либеро. И он тоже? «Так в чем дело? Мы всю неделю на заводе пашем. — Он немного подождал, потом продолжил: — А ты что воображал? У тебя нет врагов? О тебе не треплются?» Он продолжал стоять. «Это везде так, Петике», — произнес Либеро.
68 Господин Дьердь стал поторапливать: «Закрываемся!» Тогда господин Арманд поднял руку. Наступила тишина. Сердце Петера Эстерхази стукнуло. Чуточку не так, как обычно. «Время первой тренировки: первое воскресенье января, десять часов утра, — сказал господин Арманд, уставившись в стол. — Прошу присутствовать».
КОНЕЦ
* * *
Дорогой читатель!
Ты дочитал мою книгу. Я стремился сделать ее интересной, захватывающей, занимательной, чтобы по прочтении ее ты знал больше, чем когда брал ее в руки. Потому что книга стоит чего-нибудь лишь тогда, когда читатель помимо развлечения извлекает из нее урок.
Мне любопытно твое мнение. Напиши мне, чтобы и я мог кое-чему научиться: чтобы понял, что сделано хорошо, что плохо. Смело напиши, какая глава понравилась больше всего; какая показалась лишней или неудачной, что было непонятно в описании станков, машин и т. д.; о каком заводе, шахте, о каком элементе народного хозяйства или человека ты бы хотел прочесть еще; к какого рода работе тебя потянуло во время прочтения книги.
Свое письмо посылай на адрес издательства «Магветэ»: Budapest V., Vörösmarty ter 1. sz.
С сердечным приветом:
Петер Эстерхази.Примечания
1
Цифровые пометки — см. раздел «Записки Э.» (прим. OCR)
(обратно)2
Читай: пи джей проби.
(обратно)3
Читай: герой; понимай: герой.
(обратно)4
Цвета венгерского флага.
(обратно)5
Сын регента Венгрии, Миклоша Хорти, военный летчик, погиб во время боевого вылета в 1942 г.
(обратно)6
Партийному секретарю.
(обратно)7
Сильвестр Матушка — террорист-индивидуалист, взорвавший в 1931 году виадук на железнодорожной ветке Будапешт — Вена.
(обратно)8
«Нюгат» — известнейший прогрессивный литературный журнал Венгрии первой половины XX века.
(обратно)9
Цитата из баллады Яноша Араня «Валлийские барды», перевод Л. Мартынова.
(обратно)10
Как остроумно! (фр.)
(обратно)11
Т. е. Кальман Тиса (1830–1902) — хотя и с иронией.
(обратно)12
«Негласные компаньоны» (нем.).
(обратно)13
Морицель, ты великолепен! (Нем.)
(обратно)14
Чудовище (нем.).
(обратно)15
Прелесть! Очаровательно (фр.).
(обратно)16
Сегедские глаза! (= глаза сегедских девушек!) (Фр.)
(обратно)17
Альджи Бета утверждает: под ногами Тисы дорога была такой скользкой, что, сделав шаг вперед, он всегда на два скользил назад. При таких обстоятельствах ему в силу своей дипломатической сущности (?) приходилось поворачиваться и идти туда, куда он не хотел попасть, чтобы попасть туда куда нужно.
(обратно)18
Иоганн Себастьян Бах (1685–1750), пардон, Александр Антон Бах (1813–1893).
(обратно)19
Поскольку премьер-министр всегда носит с собой две пары пенсне и надевает на нос то одну, то другую. Однажды он забыл дома одну пару («бросил в стирку» — в насмешку сказали остряки), и в течение всего заседания у него не было никаких мыслей, и он в замешательстве ерзал на стуле.
(обратно)20
Дорогой (нем.).
(обратно)21
Продвигаться вперед (нем.).
(обратно)22
В полном расцвете сил (лат.).
(обратно)23
Профессиональный термин для обозначения охоты (англ.).
(обратно)24
Прославленный художник-модернист XX века, венгр по происхождению, ставший известным во Франции.
(обратно)25
Последний по счету, но не по значению (англ.).
(обратно)26
Текст поврежден (здесь и далее).
(обратно)27
Эккерман Иоганн Петер (1792–1854) — немецкий писатель, секретарь и литературный сподвижник Гёте. Наблюдая за жизнью, творчеством и, наконец, смертью обожаемого учителя, пунктуально вел записи своих разговоров с Гёте в последние годы его жизни.
(обратно)28
Приятный, сердечный (нем.).
(обратно)29
Это не мой кофе (нем.).
(обратно)30
Бабочка (нем.).
(обратно)31
Между нами говоря (нем.).
(обратно)32
Позаимствовано у господина Эркеля.
(обратно)33
Наш Адольф (нем.).
(обратно)34
Мудрому достаточно (лат.).
(обратно)35
Очень практично (нем.).
(обратно)36
Как бы то ни было (нем.).
(обратно)37
Красавец Эдэн (нем.).
(обратно)38
Ну, знаешь ли, Маттиас!.. (Нем.)
(обратно)39
Сильвия Шаш — известная венгерская оперная певица.
(обратно)40
Вообще (нем).
(обратно)41
Щекотливая (нем.).
(обратно)42
Ах, старые добрые семьи (нем.).
(обратно)43
Палоцы — жители Северной Венгрии, говорящие на характерном диалекте.
(обратно)44
Голос искусителя (лат.).
(обратно)45
Лицевая сторона, обратная сторона (англ.).
(обратно)46
Обязательное условие (лат.).
(обратно)47
Выражение мастера.
(обратно)48
Как обычно (нем.).
(обратно)49
Труд освобождает (нем.) — лозунг в фашистских концлагерях.
(обратно)50
Здесь мы используем это слово в значении «растение».
(обратно)51
Э. П. не согласен с этой масштабной точкой зрения.
(обратно)52
Черным по белому (нем.).
(обратно)53
Черным по желтому (нем.).
(обратно)54
Как таковую (фр.).
(обратно)55
Как обычно (нем.).
(обратно)56
В конечном итоге (лат.).
(обратно)57
«В папских водах не пиратствуй» — книга Эстерхази.
(обратно)58
Дожа Дьердь (1470–1514) — вождь крестьянского восстания (1514) в Трансильвании. Вербэци Иштван (1458–1541) — палатин Венгрии, соратник Сапояи, по приказу последнего Дожа был казнен — заживо зажарен на железном троне.
(обратно)59
Искаженное n'est pa (фр.) — не правда ли.
(обратно)60
Добавлю здесь, что он был возмущен: «Как так во время оно?! А потом?» — Но понимать это надо так: у него отвисла челюсть.
(обратно)61
Культура — это пародия (нем.).
(обратно)62
Джентри — мелкое и среднее дворянство в Венгрии (и не только), зачастую — разорившееся.
(обратно)63
Милыми (нем.).
(обратно)64
В первом варианте рукописи в этом месте стояло: «Ребенок?» — «Нету, только дочка». — «Это не важно, главное, чтобы здоровая была». Однако за время пресловутой типографской читки и скрупулезной доработки у него родился сын. «Видите, друг мой, литература — осколок от осколка-, из того, что произошло и рекомо, записано крайне мало, из того, что записано; осталось крайне мало». Но появились и другие последствия, например, с этих пор он не может с уверенностью сказать: «Я являюсь единственным членом семьи мужского пола». Хотя: одним бонмотом меньше, но сколько преимуществ, благодаря ребенку-мальчику, по сути. Пусть даже он следовал своим литературным критикам. Все-таки речь идет не совсем об этом.
(обратно)65
Книга новелл Эстерхази (1976).
(обратно)66
Тарок на четыре персоны, а вообще-то вышеупомянутое лицо являлось талантливым командующим русской армии, с готовностью принявшей участие в подавлении венгерской революции, как нам всем прекрасно известно.
(обратно)67
Прим. ред.
(обратно)68
Уй-й! Задним числом проверяя, исправляя текст и испытывая стыд при взгляде на него, замечаю, что слово «тапок» встречается уже который раз! Но тогда это мотив! Но тогда это искусство. Вот как! А ведь я не хотел. Наверное, я счастье-писатель: записываю себе, что так, мол, и так… и пожалуйста: снова тапок! Когда я говорю. — искусство, то хвалю не себя, а мир: за то, что в нем тапки располагаются так, что рано или поздно становятся мотивом. Надеюсь, что таким образом не извратил идею. Прим.: про «Смит и Вессон» я пошутил.
(обратно)69
Абсурд заключается в том (лат.).
(обратно)70
Редко бывает лучше (нем.).
(обратно)71
Хочешь потанцевать (англ.)
(обратно)72
Яичница с ветчиной (англ.).
(обратно)73
ВФА — Венгерская футбольная ассоциация.
(обратно)74
Разрушение (нем.).
(обратно)75
В данном случае мы употребляем слово в значении «растение».
(обратно)76
Так проходит слава… (лат.)
(обратно)77
Под содержимым скобок следует понимать ранних фашистов. — «У тебя жар, — спросила встревоженным шепотом Таня и два раза провела рукой по горячему лбу и лицу Наташи, — Ерунда это все, только прошу тебя, ни слова Фери (Фери — партизан). Но бедный Фери! Из стеганых штанов все сыплется и сыплется труха. Ведро опрокидывается, из жидкого состояния переходит в газообразное. Открывается тяжелая железная дверь. Издалека вниз по капле проникает свет (может, даже…). В его единственном глазу загорается прежний задор. Он начинает двигаться. Янош все еще в кандалах. Оковы издают грохот. Фери на лестнице. Янош вопит».
(обратно)78
Кровь должна течь рекой, да здравствует республика! (нем.)
(обратно)79
Это было характерно для турбулентной* сущности этого дня.
[*»Мамочка, почему ты не передала сообщение?» — «Ой, сынок, это утро было такое турбулентное. У меня голова не записная книжка». Но это было неправдой, добрая женщина лукавила.]
(обратно)80
Настоящая дворняга (нем.).
(обратно)81
Милый друг (фр.).
(обратно)82
«Поэзия и правда» (нем.).
(обратно)83
«Стремление к правде и удовольствие от лжи» (нем.).
(обратно)84
Прим. автора: в данном случае мы применяем слово и в его риторическом смысле.
(обратно)85
Как обычно (нем.).
(обратно)86
Негативно.
(обратно)87
Тибор Дери (1897–1977) — венгерский писатель.
(обратно)88
Комната дежурной медсестры (нем.).
(обратно)89
Тетя Йолан скончалась в воскресенье. Михаэль (нем.).
(обратно)90
После этого он еще раз видит(ел) хорошие времена.
(обратно)91
Венгерское туристическое агентство.
(обратно)92
0; разбив по кварталам: 0; 0; 0; 0. «Друг мой, это, все же несколько преувеличено!»
(обратно)93
Слегка ошарашивающая мысль в разговоре о женщине, которой за двадцать.
(обратно)94
Ну, ну, не надо, радость моя.
(обратно)95
!!!!!!!!
(обратно)96
«Хорошо и правильно», — со слезами на глазах сказала мадам Гитти в момент примирения, когда был выяснен вопрос о ее безгранично настырном поведении.
(обратно)97
a + b = b + a.
(обратно)98
По-прежнему жаловаться (нем.).
(обратно)99
Игра по правилам (англ.).
(обратно)100
Тишина (um.).
(обратно)101
Венгрии, (Прим. автора.)
(обратно)102
Мастерство поэзии (лат.).
(обратно)103
Право первой ночи (лат).
(обратно)104
Спасибо, что это — точнее то, что в тексте, — печатает не отец мастера. А то пришел бы нам конец…
(обратно)105
Не будем таить: он имел в виду книгу господина Гезы. (Он ее периодически перечитывает, чтобы знать, «откуда ветер дует».)
(обратно)106
Он изволил взять и послать письмо в двух конвертах. В одном письмо, в другом отрывок. «Ой». Что за ощущение наблюдать за собственным, независимым миром, который, как некий прекрасный шар, у тебя на глазах постепенно приобретает форму и делается круглым», пишет N.
(обратно)107
Три ангела хранят меня, От головы — один. От ног — другой, А третий душу мою грешную ждет. (Из песенок мастера в районе 16-метровой; во взрывной форме!) (обратно)108
Больше света! (Нем.)
(обратно)109
Михай Бабич (1883–1941) — выдающийся венгерский писатель.
(обратно)110
Перевод М. Ю. Лермонтова.
(обратно)111
Он прав. Но для того, чтобы я мог убедиться в справедливости его заявления, мне нужно знать, кто противник. «Ну, кто?!» «Будайский Кирпичный завод». «Мы, к собственному удовольствию, путаемся в простых шутках».
(обратно)112
Костка Тивадар Чонтвари (1853–1919) — венгерский живописец.
(обратно)113
Не так ли? (Искаж. фр.)
(обратно)114
Герой произведений Дюлы Круди (1878–1933), стилистически сопоставим со Сваном, героем романа Пруста.
(обратно)115
Один черт (нем.).
(обратно)116
Птица турул — нечто среднее между орлом и ястребом.
(обратно)117
Вот вам человек! (фр.)
(обратно)118
Наоборот (нем.).
(обратно)119
Перевод Ф. Мендельсона.
(обратно)120
Лайош Кашшак (1887–1967) — венгерский прозаик-авангардист, поэт, редактор.
(обратно)121
Гора мускулов (нем.).
(обратно)122
По ходу формирования (лат.).
(обратно)
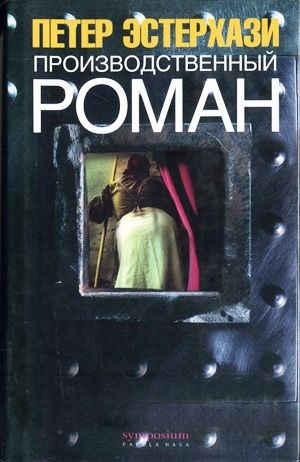
![Так [не] бывает](https://www.4italka.su/images/articles/555790/primary-medium.jpg)






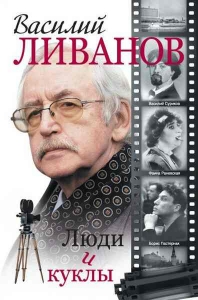
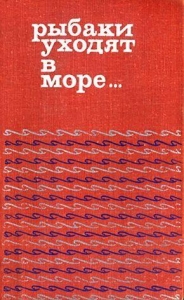
Комментарии к книге «Производственный роман», Петер Эстерхази
Всего 0 комментариев