Не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая весь, – и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных Ахиллов имеет, и не иметь не может.
История одного города М. Е. Салтыков-Щедрин
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ЭТОЙ ИСТОРИИ
Разные со мной случались приключения на моем-то веку, и всяческие мне встречались лица. Многие из них мне запомнились тем, что по ним, не межуясь, можно было бы историю родного Отечества совершенно спокойно пронаблюдать, а, лучше сказать, проследить ее, ту историю, от самого ее начала до самого ее конца, не забыв совершенно о прологе и эпилоге. Ибо сказано во множестве писаний разных титанических эпох: зрите в лица и вам откроется не только судьбинушка их, но и физиономия местности, города, или даже какой стороны. И стоит только поднять вам глаза повнимательней – и сейчас же натолкнетесь вы на какой-нибудь взгляд непорочный в самом том отношении, что не ведает он, что деяния его давно уж имеют свои отметины на его непробудном челе, и по ним можно с дивной легкостью угадать и кто он, и что он, и где он тут отойдет в мир иной вместе со всеми своими нездоровыми родственниками.
Я вылетел из вагона совершенно очумелый, поезд сейчас же тронулся, и я остался один.
– Вставайте скорей, ваша станция!
Проводник толкнул меня в плечо, и я разлепил глаза. Ночью в купе было душно, не уснуть, а потом – холодно, не проснуться. Господи, как же замерзла голова.
– Вставайте же! Стоим одну минуту.
– Минуту?
Я вылетел из вагона совершенно очумелый, поезд сейчас же тронулся, и я остался один.
На перроне стоял туман. Густой, как молоко со сливками. Семь часов утра. Неужели я приехал? Я же должен был приехать в девять. Туман разорвался, и я увидел надпись над беленьким зданием: «Пропадино».
– Пропадино? Но мне же в Грушино надо!
Это была не моя станция. Проводник, дубина, высадил меня не поймешь где!
Из тумана осторожно высунулась голова. На голове помещалась высокая форменная фуражка. Голова какое-то время просто висела в воздухе, потом она спросила:
– Заблудились, милостивый государь?
– Я? – удивился я обращению.
Голова посмотрела куда-то вниз, видимо, надеясь отыскать там свои ноги.
– А ног-то и не видно, – сказала голова, полностью подтвердив мои подозрения. – Не странно ли? Только что были ноги.
– Ну да бог с ними, найдутся когда-нибудь! – продолжила голова, задумчиво пожевав воздух, скривив губы и хмыкнув. – Не так все печально. Печально другое, – слово «другое» голова произнесла нараспев.
– Что? – не удержался я.
– Судите сами. Остановился поезд. Из него вышел человек. Поезд ушел, а человек пять минут разглядывал надпись, состоящую из девяти букв, а когда ему задали вопрос, не заблудился ли он, ответил на него долгим «Я-а-а?».
После этих слов голова с фуражкой выдвинулась из тумана так, что появились грудь и рука.
– А вот и рука с грудью! – сказала голова с фуражкой, оглядев свою руку и особенно тщательно грудь, после чего показалась уже вся фигура. Фигура скорбно уставилась себе на ноги. – Я же говорил, что они никуда не денутся.
«Городской сумасшедший», – подумал я, и по спине пробежал мерзкий холодок.
– Позвольте представиться, – сказала фигура, торжественно выпрямившись, – Поликарп Авдеич Брусвер-Буценок – начальник станции, ее смотритель, хранитель, кассир и бухгалтер.
– Это не Грушино?
Лицо начальника станции сделалось таким, будто он только что ненароком проглотил небольшую жабу и теперь не может сразу сказать, какие же по этому поводу он имеет впечатления и размышления.
– Город наш, – сказал он медленно, словно обессилев, бесцветным, тусклым голосом, – сударь, называется Пропадино. Ударение на последнем слоге.
И тут он заметил небольшую обертку от печенья, лежащую на асфальте. Он медленно нагнулся, поднял ее и поднес к глазам.
– Странно, – проговорил он. – Странно видеть пищу нашего будущего, лежащую просто так, без риска быть съеденной, в нашем прошлом.
– Вы не будете? – спросил он меня и протянул мне обертку.
– Я? (Сумасшедший, настоящий сумасшедший.)
– Вы. Я уже завтракал.
– Не буду.
– Значит, вы не из будущего. А начиналось все хорошо.
– Что начиналось?
– Теперь это уже не так важно. Надо вас зарегистрировать.
– Что надо сделать?
– Зарегистрировать. Документ какой-никакой, позвольте полюбопытствовать, имеете?– Странно, – проговорил он. – Странно видеть пищу нашего будущего, лежащую просто так, без риска быть съеденной, в нашем прошлом.
– Паспорт подойдет? – спросил я совершенно потерянно.
Взяв в руки мой паспорт, Поликарп Авдеич рассматривал его с живейшим интересом. Он даже понюхал его, крякнув от удовольствия.
– Люблю! – сказал он после того как перелистал каждую страницу. В голосе его прозвучала слеза, чувство прозвучало. – Люблю запах! Настоящий документ должен и пахнуть по-настоящему! И эти водяные знаки! Водяные, водяные!
Волосы мои, надо признаться, опять шевельнулись, а Поликарп Авдеич продолжал:
– Водяные! Знаки! Признаки! Признаки государства! Вот так близко от меня, ничтожного, и все признаки государства! Могучего, необоримого, непоколебимого! Сейчас! Сейчас! – он почти рыдал. – Сейчас я вас зарегистрирую.
Он немедленно вытащил какую-то бумажку, чиркнул в ней что-то, приложил печать, которая оказалась у него в кармане, и, к великому моему удовольствию, вернул мне мой паспорт вместе с бумажкой, орошая все это слезами – просто потоп какой-то. В бумажке было только одно слово: «Зарегистрирован».
– Ну? – спросил он меня, всхлипнув в последний раз, после чего глаза его сейчас же высохли.
– Что? – сказал я.
– Как вам у нас?
– Послушайте, – сказал я осторожненько, – не подскажите ли, когда следующий поезд? Мне надо в Грушино.
– Нет ничего легче, друг мой, – сказал Поликарп Авдеич, беря меня под руку и поворачивая к входу на станцию, – надо всего лишь посмотреть в расписание.
С тем мы и вошли в здание.
– Вот оно! – он ткнул в большой плакат с видимым удовольствием. На нем было написано «Расписание движения поездов». Под этой надписью было совершенно пустое поле. Ничего там не было.
– Это расписание? – осторожно спросил я.
– Оно самое! – отважно ответил Поликарп Авдеич, все еще любуясь пустотой.
– Но в нем же ничего нет. Ни одной строчки. Ни единой!
– А если нет ничего, но очень хочется, следует помолиться. Вон и иконка у нас имеется. В углу.
В углу станции действительно стоял столик со скатертью, над ней висела икона, а под ней горела лампадка.
– Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! – протяжно пропел Поликарп Авдеич, закрыв глаза. Потом он открыл левый глаз и зыркнул им из стороны в сторону.
– Ну как? Не появилось расписание?
– Нет.
– Ну что ты будешь делать! – тут он открыл правый глаз.
В этот момент я заметил, что на станцию зашел милиционер.
Видите ли, до этого момента все вокруг было пустынно – ни одной живой души, серость да туман – живой и липкий, и вот из тумана появился милиционер.
Я не помню, чтоб я когда-либо раньше так радовался появлению отечественной милиции.
– Милиция! – вскричал я в совершенном восторге. – Товарищ милиционер! – после этого я побежал, я просто бросился к нему.
Милиционер был толст, сонлив, и на носу у него росла большая бородавка. Но более всего меня поразили его пуговицы, пуговицы его мундира – крупные, как сливы. Они висели и, казалось, понимали, что висят не просто так, но от усердия.
– Я не товарищ! – сказал он.
– Ну, это все равно! Господин милиционер! – захлебывался я от восторга.
– И не господин. Я – городовой.
– Кто? – я почти не удивился.
– Городовой. Служу этому городу. Городовой. Вой, городо…
– Это очень хорошо! – необычность этого высказывания стража порядка меня почти не взволновала. – Я сошел на вашей станции случайно. И теперь мне надо попасть в Грушино, а тут нет даже расписания движения поездов.
– А документ у вас какой-никакой имеется?– Вот оно! – он ткнул в большой плакат с видимым удовольствием. На нем было написано «Расписание движения поездов». Под этой надписью было совершенно пустое поле. Ничего там не было.
– Конечно! Вот паспорт, вот! Паспорт… вот…
Милиционер, или городовой, если угодно, взял в руки мой паспорт, как некую драгоценность. Он даже взвесил ее на руке, зачем-то мне подмигнув.
Я зачем-то подмигнул ему в ответ и рассмеялся.
А вот этого делать не следовало, городовой тут же стал серьезным и сказал:
– Если нет расписания, значит, так и должно быть. У нас, сударь мой, ничего не происходит просто так и вдруг. Это вам не цирк, милостивый государь, это государственное учреждение. Вот если было бы расписание, а поезда не ходили? А? Что бы тогда? Безобразие, не так ли?
Я не мог с этим не согласиться.
– А так – не ходят поезда, и расписания нет! И, знаете ли, слава тебе господи! А если б поезда запаздывали? Хлопот не оберешься. Объясняй потом, почему они запаздывают, как они запаздывают, по какому такому поводу, и по каждому поезду, заметьте! По каждому поезду и по каждому проводнику можно составить целый список замечаний. Тома замечаний. И они, те тома, множатся, потому что власти надо как-то реагировать. Нельзя же просто так стоять и ничегошеньки не делать. Надо писать, описывать эти замечания и свою реакцию на них. А так – нет расписания – одно замечание. А нет расписания, так и поезда не ходят. Все очень логично. Не так ли, Поликарп Авдеич? – обратился он к начальнику станции.
– Сущая правда, Григорий Гаврилович, сущая правда! – с восторгом отозвался начальник станции.
– Да! – важно и даже несколько торжественно, с легким полупоклоном обратился уже ко мне Поликарп Авдеич. – Разрешите представить вам нашего стража, так сказать, порядка. Григорий Гаврилович Бородавка – весь город с него начинается.
– Город начинается с порядка! – мягко заметил Григорий Гаврилович. – Во всем должен быть порядок. Ну-с! Посмотрим, что у вас тут!Он начал рассматривать каждую страницу паспорта, причем держал он ее так, чтобы свет падал на страницу под углом.
– Как играет, как играет, а? Вот так бы, казалось, и стоял бы до самого вечера и смотрел, как играет, – говорил он вроде бы мне, самому себе и Поликарпу Авдеичу. – Все водяные знаки на месте, и в то же время на месте все биометрические данные роговицы, коды. И вот эта строчка.
Он дал мне полюбоваться чем-то тем, что, на его взгляд, являлось биометрической строчкой, кодом, а заодно и роговицей.
– Гордость-то охватывает вас, а? – спросил он строго.
– Меня?
– Ну не меня же! Меня-то она, почитай, с самого рождения охватывает, не отпускает. Вас-то она как? Охватывает? А? Вот сейчас? Нет?
– Сейчас?
– Да!
– Сейчас охватывает! – сообразил наконец я – А вот сейчас она это делает особенно сильно. Просто, я бы даже сказал, обуревает. Точно покусывает. Вот в этом месте (я указал на середину груди), а еще вот тут (я указал на средостение).
– То-то! – городовой был строг. Он еще какое-то время, нет-нет, да и смотрел мне на грудь и на живот, будто запоминал, в каком месте человека должна охватывать гордость, а заодно и обуревать, потом он еще немного порылся в моем паспорте и спросил:
– Зарегистрирован?
Вопрос был адресован не мне.
– Само собой! – отозвался Поликарп Авдеич.
– Вот! – городовой-милиционер назидательно поднял вверх палец. – Порядок!
Он постоял еще какое-то время, вроде бы прислушиваясь, не возразит ли ему кто.
– Сейчас я вас зарегистрирую.
– Так… – не понял я, – у меня же уже есть бумажка.
– Не бумажка! – прервал меня он тут же. – Не бумажка, а регистрация! У вас есть регистрация от Поликарпа Авдеича, а теперь будет и от меня.
Господи! Да они тут все сумасшедшие!
Мне немедленно был вручен еще один листок. Можно было не проверять, я и так видел на ней только одно слово, скрепленное печатью. И это слово было мне уже знакомо.
– Так как же Грушино? – спросил я, получив назад свой паспорт и еще одну «регистрацию».
– Грушино, Грушино, Грушино… – городовой и милиционер был задумчив. – Грушино! Кушино, Кукушино, Мушино, Пушино, Грушино. Где это? Что это? Кто это? Как это? Кем это? Каково это? Откуда это? Так ли это? Тогда ли это? Когда это? Словно бы слышал я что-то когда-то! Надо бы по карте посмотреть.
Он извлек из-за пазухи сложенную много раз пополам карту, развернул ее и внимательно в нее уставился. Я тоже сбоку в нее глянул. Там было только три города – Москва, Санкт-Петербург и Пропадино. И больше ничего – только холмы и низменности.– Поелику… нет такого города, – сказал наконец важно Григорий Гаврилович, сворачивая полотно карты, – и, видно, никогда и не было. Никакой иной причины не прописывается. Воочию…
– Но я же ехал… – начал было я.
– Но не доехал.
С этим невозможно было не согласиться – железная логика.
– А почему? Почему не доехал? – Григорий Гаврилович был строг. – Почему? Ну?
Осталось только развести руками.
– А потому что нельзя никуда доехать. Ехать-то некуда! Едем-то от себя. Бежим, бежим, неразумные. Все бежим и бежим. А куда бежим? Куда-то! – Григорий Гаврилович стал вдруг необычайно мудр, задумчив и лиричен с особенной статью. – Все спешим, спешим, прости господи! Господи! Прости! Меня, меня, прости, Господи! – он осенил себя крестом. Поликарп Авдеич повторил его движение. Ну и я тоже истово перекрестился.
– А ведь хорошо-то на душе стало? – Григорий Гаврилович посмотрел на меня как на родное существо. – Ведь хорошо? Не правда ли?
Я согласился.
– Вы совершенно правы! Правы! Вот так порой невзначай и осенишь себя крестным знамением и чувствуешь себя сразу так легко, точно и не весишь ты ничего вовсе. Точно летишь ты над землей грешной, над землицей, над лесами и поселками, над людскими слабостями и печалями.
Я почему-то совершенно растрогался и даже потянул носом.
– Вы-то, почитай, часто летаете? – поинтересовался Григорий Гаврилович.
– Я-то? – переспросил я на всякий случай.
– Ну да.
– Частенько, – этот ответ был для меня самого совершенно неожиданным.
– Вот и я о том же! – не задержался с ответом Григорий Гаврилович. – Вот и я! О том же! Иногда воспаришь, а порой – словно в нору какую или яму бездонную падаешь, и все-то в тебе течет в тот период медленно, но неизбывно и верно.Там было только три города – Москва, Санкт-Петербург и Пропадино. И больше ничего – только холмы и низменности.
Григорий Гаврилович постоял еще некоторое время, глядя куда-то в потолок, а потом перевел свои мечтательный взгляд под ноги, мотанул головой, потянул шумно носом, отчего бородавка на самом кончике, кажется, даже издала какой-то посторонний звук.
– Но что это мы? – воскликнул вдруг Григорий Гаврилович, словно бы очнувшись. – Стоим тут, либеральничаем, полемизируем, позволяем любопытству взять над собой вверх, а человеку не помогаем?
– Действительно, Григорий Гаврилович! – отозвался совсем было стихший до поры Поликарп Авдеич.
– Пора, мой друг, пора! И сердце просит! Просит надеть на себя вериги! Хватит идолом-то изнывать! Пора! Пора действовать!
Я немедленно подтянулся, ощутив очередной прилив сил.
– Сами-то мы действовать не намерены, – доверительно обратился ко мне милиционер-городовой. – Не по чину, поскольку случай, похоже, исключительный, но городское начальство! – тут он возвысил свой голос до торжественности. – Начальство! Оно же!!! Оно же! Оно задумывается почти внезапно! Оно-то умеет выходить и не из таких передряг! Обречено оно на совершенный и полный успех! Да!
Я кивнул головой, потому что, как мне тоже показалось, пришла пора, да и мысль об успехе приободрила меня необычайно.
– Вы-то, чай, не благородного происхождения будете? – осторожненько спросил Григорий Гаврилович до того, как он начал действовать.
– Я-то? – честно говоря, вопрос застал меня врасплох. Я и не помнил, да и не особенно как-то сразу сообразил, о чем тут идет речь.
– Прабабка… – начал я было натужно протяжничать, – прабабка моя – урожденная княжна Преснянская, а вот прадед…
– А Его Высокопревосходительству губернатору нашему Всепригляд-Забубеньскому, Петру Аркадьевичу, родственником не приходитесь?
– Всепригляд?
– Забубеньскому.
Я сначала неуверенно – а черт его знает! – а потом все энергичнее и энергичнее замотал головой:
– Нет. Кажется, нет…
– Так позвольте все-таки уточненьице-то получить. Все еще «кажется» или же уже «нет»? К слову говоря, Поликарп Авдеич не даст мне соврать, однажды я вышел на улицу и просто даже удивился. Движется мне навстречу старушка. Так, ничего себе особенного, старушенция, перемещается, так сказать, уважаемая всеми старость. Достигает меня и со словами «Вот вам печеньице» – неожиданно подает мне сверток. Я было сейчас старушку к стенке – порядок-то знаем – ноги шире, и ну проверять на отсутствие возмущения в народе и терроризма, а потом оказалась она ближайшей трехюродной тетей главного казначея Тортан Тортаныча Захмутайского, и имела она в виду только пачку печенья от доброты сердешной к чаю. А я-то ее уже и распял безо всякого на то поощрения. Конфуз и помрачение рассудка явственно коснулись моего виска – вот тут как раз и коснулись, в этом самом месте! – Григорий Гаврилович указал на свой висок. – Есть отчего меняться воздуху, и как тут не вспомнить о связях! – возвестил он тут же с заметным волнением.
– Но, – продолжил Григорий Гаврилович после незначительной паузы, утихомирившей его волнение, – всякое мрачное и неожиданное помрачение содержит в себе и зерна внезапного просветления, как и вчерашняя смерть содержит в себе надежду на возрождение! Печенье себя не замедлило обнаружить, а там и фамилия дамы открылась мне в документе, выпавшем из сверточка вместе с указанным выше продуктом. Кроме того, на землю высыпались все ее регистрации.
– Неужели же все?
– Абсолютнейшим образом!
– И что же вы? – поддержал я разговор.
– И что же я? Сдвинув ошибочно растянутые вдоль стенки ноги нашей уважаемой старости, я сейчас же при ней подобрал с почвы и съел все печенье, прерывая его икотой по причине отсутствия чая, на что старушка ответила собственной икотой, рискуя устроить диссонанс, но все обошлось. Мы приноровились, достигнув в этих звуках сочетаемости, необходимой гармонии. Какое-то время ее икота все еще опережала мою и звучала не в такт, но я ловко выправил ситуацию, а после прекращения оного действа поблагодарил эту преклонных лет не закатившуюся еще гражданку за такое проявление к себе чувств, после чего она была отпущена восвояси, куда она и отправилась, приволакивая ногу.
– Кстати о ноге! – Григорий Гаврилович никак не мог остановить свою речь. – Что говорить о поселянах и поселянках, когда и более значительные фигуры полагают приволакивание ноги своим совершенно частным делом. Я же смотрю на вопрос шире, не побоялся бы этого слова, государственней. Что твоя нога, как не часть общества и его ресурс? Таким образом, приволакивание ноги вводит государство в расход, и как тут не вспомнить мою записку, поданную на Высочайшее имя, о том, что при достижении семидесяти пяти лет, когда человек еще в самой поре, надо бы отказывать ему в медицинском содержании, дабы к ногам своим и к остальным элементам тела он относился со всей серьезностью, не полагаясь на кого-то или же на что-либо там еще.
– Поликарп Авдеич! – обратился он с ходу к начальнику станции. – Вы, смею предположить, останетесь на вверенном вам посту, в то время как мы с этим гражданином отправимся в путь.
– Само собой, Григорий Гаврилович! – поторопился с ответом Поликарп Авдеич. – И в мыслях своих не держал покинуть вверенные мне пределы, променяв сладкую, но трудную свою обязанность на прогулку. Зоилы и свистуны…
– Полноте, Поликарп Авдеич, – прервал его городовой, – не в Законодательном собрании, чай, знаем, знаем, что в вас творится и почему. Одно дело делаем. Несем, я бы даже сказал, свои сердца. Засим желаем здравствовать!
С тем мы и вышли с господином городовым наружу.
Сразу за дверью мы попали в туман. Он уже начал потихонечку истлевать, так что дорогу уже можно было различить.
Вокруг была почти осень. Листва кое-где еще только собиралась пожелтеть, кое-где уже ронялась, и только в некоторых местах еще ощущалась неразумная буйность зелени. Что же касается моего сопровожатого, то он шел по дороге гулко и почтительно, но твердо держал меня за локоток. Не могу сказать, какие меня при этом обуревали чувства. Точнее, не могу их правильно сформулировать. Вдруг внутри меня послышался собачий лай, а потом и мой собственный голос, говорящий: «Так его, так! И правильно! Совсем распустились! Туда его, туда!» – и вот еще что удивительно: чем сильнее сжимал мой локоть Григорий Гаврилович, тем я все явственней и явственней ощущал гордость за нашу страну, за ее размеры, просторы, богатство и широту – широту души, разумеется, да будет позволено так выразиться.
И при этом мне хотелось строгости. Строгости не в виде строгости, но строгости спасительной, то есть в виде заботы. Я даже на какое-то время обрадовался тому обстоятельству, что судьба высадила меня на этой богом забытой станции, не позволив сразу же попасть в Грушино. Иначе как бы я испытал все эти чувства относительно Отечества?
На дороге было пусто, как в пересохшем русле эфиопской реки, – никого, ни единой души.
– Что же так в городе-то никого-то и нет? – спросил я у Григория Гавриловича, не выпускавшего мой локоть ни на секунду.
– А кого вы ожидали видеть? И главное, что вы ожидали, позвольте спросить? – немедленно отозвался тот. – Праздность? Толпы? Никчемность? Лукулловы пиры? Страдания? Ливень мероприятий? Человек не знает, кто он, до двадцати пяти лет, а потом – до пятидесяти – он не знает, что он. Какие такие действа почитались бы за подлинное сердценесение? Какие такие упования переходили бы в уверенность, а уверенности те множились бы, покоясь на упованиях?
Признаться, я был ошеломлен этой речью, самим ее построением и…
– Но дети… – сумел я из себя выдавить – дети…
– Дети на улицах кажутся вам благом? Дети, родители, юноши и их сверстницы, тети и дяди – у нас все на своих местах, перемещение с которых отмечается регистрацией.Признаться, я был ошеломлен этой речью, самим ее построением и…
– Но дети… – сумел я из себя выдавить – дети…– Каждое перемещение?
– Каждое. Иначе как доказать самому себе, что ты был, а не просто существовал где-то между прошлым и будущим? Регистрация есть свидетельство жизни. Все регистрации следует хранить и держать при себе три года.
– Три года?
– Никак не меньше. Три. И никак иначе.
Между тем мы шли по совершенно пустой улице, и наши шаги были слышны. Это был единственный звук, оскорбляющий здешнее безмолвие, ветер был почти не слышен, в воздухе ощущался запах лаванды, колбасы полукопченой, ружейной смазки и уксуса. При чем здесь колбаса и уксус, не знаю, но тем не менее.
– Люди же страдают, – продолжал Григорий Гаврилович, перебивая мои размышления об уксусе. – Они страдают от потери направления. Они мечутся, не спят ночами от дум, от невзгод, от предчувствия завтрашнего дня. Но покажи им это самое направление, укажи на способы и пути, возглавь, наконец, приведи, усади, накорми, напои, позаботься о будущем. – Григорий Гаврилович был, несомненно, горяч, очень горяч.
– Они хотят свободы, – все продолжал он и продолжал, – а сами-то мечтают о том, чтоб кто-то за них думал, юдолил, страдал. Им же нужна не свобода, нет, не свобода как таковая, но нужны ее плоды.
Мы подошли к площади. В самой ее середине была огромная яма, заполненная водой, и в этой луже лежала громадная свинья, а вокруг нее носились ветры. Ветра испускались ею.– Вот! – продолжал Григорий Гаврилович. – Извольте! Яма, грязь, лужа, смрад! Что нам стоит ее закопать, уничтожить? Ничего нам не стоит. Но не будет ли это началом уничтожения нашего самобытства? Нашей культуры! Традиций! Памятников! Можно зарыть, можно! Со всем тебе прилежанием! Но чем тогда наш городок будет отличаться от других городов? В чем будет заключена его изюминка, его особенность? И как быть с высоким чувством гражданственности? Как с ним быть? Как нам быть с этим существительным женского рода, неодушевленным, но находящим отклик в душах живых? Уничтожь приметы старины, заметы сердца, и за что же зацепится взор живущего и умирающего? На что мы укажем поколениям? С чем мы себя идентифицируем, наконец?
Что приходит сразу на ум, заговори мы об Отчизне? И что придет нам на ум, если все эти приметы будут уничтожены? И как быть, наконец, с этим невредным источником народного благосостояния, коей, например, является все та же свинья?
Григорий Гаврилович остановился и взглянул на меня строго, потом он продолжил:
– Споры о том, убирать или не убирать это все безобразие, идут и по сей день. Есть даже проект окаймления ямы и предоставления ей статуса государственного заповедника.
В этом момент я поймал себя на мысли, что думаю примерно так же, как и Григорий Гаврилович. Вернее, начинаю так думать, и, что самое интересное, ход моих мыслей, ход рассуждений и те слова, те выражения, в которых те мысли и рассуждения протекали, меняются. Меняется их стиль.
То ли погода, то ли природа, то ли то, что меня ведут и ведут по этим бесконечным, безлюдным улицам, то ли то, что меня ведет такой бесстрашный страж порядка, как Григорий Гаврилович, держа своей железной рукой за локоть, то ли… черт его, словом, знает…
Господа! Я вдруг стал думать, говорить, как он! Как они! Как они – те немногие, кого я уже здесь видел (раз и два), и, я в том совершенно уверен, как те, которых мне еще только предстояло увидеть, и как те, кого я не увижу тут никогда!
Поразительно! Все это поразительно! Все это поразило меня, как в те места, открытые для подобного поражения, так и в те места, о существовании которых я мог только догадываться и потому не сразу смог правильно их назвать, – вот!
Следующей мыслью, пришедшей мне на ум, была мысль о том, что все, о чем я сейчас подумал, есть полнейшая чушь.
Вот ведь незадача! Только что я ощутил, что все вокруг меня сошли с ума, но не прошло и мгновения, как я начал думать точь-в-точь как они, и нести при этом такую же околесицу!
Вот что случается в сумасшедшем доме!
Там сумасшедшие не только пациенты, но и весь персонал!!!
В ту же секунду, как только я обо всем этом подумал, раздался грохот. Грохот копыт. Туман разорвался – открылась перспектива. К нам приближалась кавалькада. Кавалькада всадников на лошадях.
– Поберегись! – раздался крик, – Поберегись! Всем встать к заборам! Принять! Принять!
– Что принять? – невольно воскликнул я, а мы тем временем с Григорием Гавриловичем уже приникли спинами к забору, и сейчас же мимо нас, поднимая неизвестно откуда взявшуюся пыль, пролетели всадники в старинных одеждах, в высоких шлемах, касках и кирасах.
– Что это? – продолжал вопрошать я скривленным ртом, оберегаясь от пыли.
Мгновение – и все кончилось. Всадники пропали пропадом, но пыль еще летала.
– Принять надо было влево, – отозвался наконец Григорий Гаврилович, – а было это вот что: историческая реконструкция въезда Его Высокоблагородия в город после победы.
– Какой победы?
– Одна тысяча восемьсот двенадцатого года. Глава города – Его Высокоблагородие по старому штилю – теперь всегда к себе в присутствие так ездит. Раньше на машинах, ну и раздавишь кого по дороге – сразу же неприятность, обильная горькими последствиями, годными только для измерения глубины этой самой горести, а теперь на конях – если и придавят кого, то ненароком – так велика всеобщая симпатия к истории Отечества, и двугривенный погибшему в ценах 1812 года – это очень удобно.
– Удобно?
– Ну да! Все же ради удобства. Удобства управления. Вы не читали сочинения нашего главы «Удобство управления», «О вспоможении», «О градоустройстве» и «О милых сердцу приметах старины»?
– Не читал.
– Жаль. Много в том всяких мыслей.
Между тем мы продолжили свой поход, а Григорий Гаврилович, разговаривая со мной, ни на секунду не выпускал из рук моего локтя.
Но вот раздался странный рокот, рокот все нарастал и нарастал. Я взглянул на своего спутника – он казался невозмутимым. И тут уже рокот превратился в страшный гул, после чего низко, казалось бы, над самыми нашими головами, прошли два самолета, покачивая крыльями. На крыльях были красные звезды. За ними гнались еще два самолета с черными крестами на крыльях. В сейчас же очистившемся небе возник короткий, но убедительный бой. Самолеты пропали, всюду ощущался дым – сражений и Отечества.
– «Юнкерсы» и «Миги», – ответил на мой вопрошающий взгляд Григорий Гаврилович. – Самое начало войны.
– Тоже реконструкция?– Поберегись! – раздался крик, – Поберегись! Всем встать к заборам! Принять! Принять!
Григорий Гаврилович думал дольше обычного, а потом вымолвил:
– Скорее всего, да!
В это время нас и остановил фашистский патруль – двое с автоматами:
– Ахтунг! Аусвайс!
Мы оба немедленно приняли положение «руки вверх», после чего были повернуты лицом к стене и обысканы. Потом у нас проверили документы. Во время проверки патруль говорил только по-немецки. Тщательно проверив наши паспорта и все мои «регистрации», они вернули нам все и пропали за поворотом.
Мы медленно возвращались к жизни.
– И это тоже реконструкция? – спросил я наконец у своего спутника.
– Она самая, – отозвался Григорий Гаврилович, – Народ наш должен все время помнить о нашей Великой Победе. А эти воспоминания не будут полными без ежедневного унижения. Чувства не должны ослабевать. И лучшая тому подмога – унижение, испытываемое ежесекундно. Переживая его, ты заново переживаешь чувство очищения и неприятия всяческого насилия над человеческой личностью. То есть сначала надо испытать, а потом не приять испытанное. Вы не читали постановления «О воспитании ненависти» или «О принуждении к миру»?
Я замотал головой.
– А «О положительном удостоверении»? «Об истинном отношении»? «Об успехах вольномыслия»?
Еще один энергичный рывок.
– А положение «О вине обывателя»? «О пользе законов»? «Об утрате инстинкта плотоядности»? «О понуждении к выращиванию плодов»?
Увидев полное мое в том невежество, Григорий Гаврилович вздохнул и сказал:
– Милостивый государь! Все наши беды оттого, что мы нелюбопытны. Народ, что природа, должен или спать, или веселится. А еще хорошо бы немного любопытствовать, почитывать сочинения нашего руководства, делящегося с нами своими великими думами. Дикими на первый, непросвещенный взгляд, но зажигающих неугасимые огни в благородных сердцах.
С этими словами Григорий Гаврилович подвел меня к двери крупного здания. Рядом с дверью была табличка «Губернское правление». Ручка на двери была массивная, медная, натертая до нестерпимого блеска.
За дверью нас немедленно обыскали: «Колющие, режущие предметы, взрывчатка, брусчатка, ядовитые вещества и вирусы – все выложите на стол».Не знаю, выложили ли мы на стол все свои вирусы, но то, что было в карманах, выложили незамедлительно. Бдительные стражи, одетые в костюмы пехоты времен императора Павла Петровича, порылись в вещах, но ничего не нашли. Потом они провели нас через арку-детектор – и опять ничего.
– Куда направляемся? – был нам задан наконец вопрос.
– К начальнику следственного департамента, – ответил Григорий Гаврилович.
– Первая дверь направо.
За дверью мы увидели комнату. В комнате по обеим сторонам тянулись стеллажи с книгами, а за ними, в глубине, стоял стол. На столе лежала лысая голова. Она лежала так, что глаза ее были полузакрыты, а все выражение – будто голове сей все едино в мире этом.
Мы вошли, я оторопел. Голова лежала совершенно неподвижно, но потом она качнулась и… И тут я понял свою ошибку – голова, видимо, уронила что-то под стол, и теперь пыталась до него дотянуться, отчего все тело скрылось под столом, куда сама голова не влезла. И вот теперь тело пыталось на ощупь найти что-то под столом.
Мы оба немедленно приняли положение «руки вверх», после чего были повернуты лицом к стене и обысканы. Потом у нас проверили документы. Во время проверки патруль говорил только по-немецки.
Голова формой и цветом напоминала туркестанскую дыню.
– Ну вот! – сказала голова и приподнялась над столом. Тело при голове имелось. – Достал! – По какому вопросу? – спросил начальник департамента, превратившись из головы в обычного человека и усевшись в кресле.
– Требуется ваша помощь, ваше превосходительство! – начал свою речь Григорий Гаврилович. – Извольте видеть. Человека высаживают на станции из поезда.
– На нашей станции? – энергично отозвался начальник.
– Да.
– Удивительно. Там же давно никого не высаживают.
– Это так, но тем не менее высаживают.
– Ну хорошо, и что же после?
– А потом оказывается, что он едет в Грушино!
– Как? В Грушино? В Грушино?
– Да.
– Ну и хорошо! Едет! Ну! Но почему его высаживают у нас? Ехал бы себе и ехал!
– В том-то и дело! По ошибке!
– По ошибке? Я правильно понял?
– По ошибке-с!
– Но документы? Как у него с документами? Где они?
Все мои документы немедленно оказались в руках начальника следственного департамента. Он ловко выхватил лупу из ящика стола и приник к первой странице моего паспорта.
– Линии вычерчены верно. Похоже… похоже… что паспорт подлинный. Хотя вот этот водяной знак… минуточку, – начальник схватил другую, видимо, более мощную лупу. Все лицо его являло собой поиск и в то же время следствие.
– Этот водяной знак с изъяном, – говорил он, не отрываясь от лупы, вроде бы самому себе, – за что можно было бы посадить голубчика на парочку лет за подделку документа, но следующая линия уравновешивает состояние. Хотя, впрочем… А где его регистрации?
Оказалось, что у меня уже не две, а целых три регистрации. Последняя, видимо, была сунута мне в карман фашиствующим патрулем.
– Регист-раааа-ции, – задумчиво тянул начальник. – Так, хорошо, посмотрим, что у нас здесь.
– Так, так, так, очень интересно. Очень интересное получается положение, – продолжил он изучать мои регистрации, изредка бросая поверх них на нас испытующий взгляд.
– Так! – сказал он, шумно откинувшись на спинку кресла. – Попался наконец!
– Кто попался? Кто? – забеспокоился Григорий Гаврилович.
– Лихоимец и государственный изменник! Нет, батенька, меня не обскакать! Мы-то знаем, сударь мой, что к чему. Мы в таких летах, голубчик, что уж будьте любезны! Не поддаемся мы руладам! Нечего их тут выделывать! Вот полюбуйтесь!
– На что? – с все возрастающим беспокойством отозвался Григорий Гаврилович. Он почтительно приблизился к столу в ответ на приглашение приблизиться, изогнулся дугой и посмотрел в лупу, которую держало в руках начальство.
– Видите? – вопросил начальник с небывалым торжеством.
– Где?
– Здесь.
– Что?
– Орел.
– Какой орел?
– Орел на печати.
– Орел?
– Ну да, орел. И не один. Двуглавый орел.
– Да.
– Он улыбается.
– Кто улыбается?
– Орел на печати. Двуглавый орел на печати у вас улыбается.
– У нас? Не может быть!
– Может. Охрану сюда немедленно. Вязать подлеца.
– Кого?
– Его! – теперь они оба глядели на меня. – У него поддельная регистрация. Кто ему давал эту регистрацию?
– Регистрацию?
– Ну да! Вот эту регистрацию кто ему давал и печать на ней ставил?
– Я не давал! Это не я!
– Тогда где же ваша регистрация? Настоящая? А?
На Григория Гавриловича было жалко смотреть. Городовой и милиционер был просто уничтожен, раздавлен. Мне его было до того жаль, что я уже, кажется, согласился бы, что это я сам подделал эту несчастную регистрацию, только бы его перестали мучить.
Лицо его подергивалось правой щекой, в то время как левая щека, не видимая начальством, делала мне какие-то знаки, а глаза его тем временем вылезали из орбит. Казалось, он ими ел начальство, буквально ел.
Но начальник следственного департамента был непреклонен:
– Вы приводите мне человека, якобы сошедшего с поезда, не зарегистрировав его подобающим образом. И в то же время при нем есть одна регистрация, ужасно напоминающая вашу, но она оказывается такой, что на ней двуглавый орел на печати улыбается! Кто ответит за это преступление?
В это время взгляд начальника еще раз падает на лупу, все еще лежащую на этой самой злосчастной регистрации.
– Хотя погодите! – говорит он и опять берет лупу в руки. На Григории Гавриловиче, если так можно выразиться, совсем уже нет лица – просто есть совершенно плоское место.
– А вот если смотреть вот под этим углом… – говорит начальник и смотрит в лупу, – Смотрите-ка! Если смотреть вот под этим углом, то и все вроде бы нормально. И не улыбается никто.
Надо заметить, что Григорий Гаврилович в этот момент шумно выдохнул. Воздух, постепенно набранный им во время этого инцидента в легкие, после этих слов начальника начал сам по себе выходить, и вся фигура сникла, сдулась, теряя объем. Все черты его немедленно вернувшегося на свое место лица стали вдруг округлыми и доброжелательными. Он даже порозовел. Он даже улыбнулся правой частью, обращенной к начальнику, и тем догнал левую часть, давно уже пребывающую в объятиях добродетели. Симметрия была восстановлена. Если бы у него был хвост, мы бы, наверное, увидели, как он виляет, потому что повизгивания от него уже начали доноситься – настолько он подался обаянию любезности начальника.
– Осмелюсь поинтересоваться, – голос Григория Гавриловича превратился в тонкий голосок, в нем зазвучала сладкая мольба, – Григорий Евсеич (так мы узнали Григория Евсеича), как обстоят дела с вашей живописью? – Григорий Евсеич, – заметил мне немедленно господин городовой, – наш известнейший живописец, и побывать у него и не поинтересоваться этим вопросом – величайшее безрассудство. – Так как вы? – немедленно возвратился он в первоначальное состояние. – Удалось ли выставить что-нибудь новое на торги? Я все время наблюдаю за искусством Григория Евсеича, – оборотился городовой ко мне еще раз, – и никогда не отказываю себе в удовольствии приобрести, хотя бы и в кредит, один из его шедевров.
– А вот как раз и закончил картину «Синь», – отозвался не без гордости Григорий Евсеич, после чего он нажал необходимую кнопку на столе, и часть стеллажа с книгами уехала куда-то в стену, а на его место приехало живописное полотно.
На полотне было изображено что-то лиловое.
– Ах, какое богатство тона! – немедленно отозвался Григорий Гаврилович. Он даже отступил назад и развел руками, пораженный увиденным. – Какая глубина и в то же время простота, нарочитая простота в деталях.
Начальник следственного департамента окончательно смягчился, смущенно улыбался и, потупясь, грыз подвернувшийся карандаш.
– Мягкость и в то же время твердость убеждений. Чувствительность и строгость. Душа и все ее оттенки, – не унимался Григорий Гаврилович, – страдания во славу Отечества и удивительная сердечность, приятие всего вокруг как большой, божественной ценности. И сколько во всем этом науки! Почти столько же, сколько и искусств. Поль де Кок и прочие классики – совершеннейшее, знаете ли, отребье на этом фоне. Поверьте! Мне ли говорить о бессмертии, но о бессмертии души? Душу на лист – будет тебе бессмертие! Душу на лист! Душу!..
– Вы совершенно правы, Григорий Гаврилович. А не видели ли вы мою «Ночь»? – Григорий Евсеич, казалось, необычайно воспрял духом.
Одно нажатие кнопки, и картина поменялась. Теперь она являла собой квадрат. Квадрат был закрашен черной краской.…Но не прошло и суток, как я все это зачеркнул, во всем теле разлилась желчь – так и появилась «Ночь» – буйная и страстная, переживающая коловращение.
– Видите ли, – взялся объяснять картину ее автор, – сначала я хотел написать «Утро». Вроде бы встаешь ты утром, а в окно глядит уже новый день. Но потом тема мне показалась излишне избитой, и я вознамерился написать «День» – что-то солнечное, выплеснутое ненароком на холст. Но потом и она перестала меня увлекать, и тогда я прямо сверху «Утра» и «Дня» написал «Вечер» – умиротворение, простота, уединение, упоение. Но не прошло и суток, как я все это зачеркнул, во всем теле разлилась желчь – так и появилась «Ночь» – буйная и страстная, переживающая коловращение.
– Ах, какая глубина прорисовок. Сколько тут мысли, чувства, страдания, метаний. Она то темная, то розово-темная, то золотисто-темная, то сине-темная. Так и переливается. Так и играет. Глубокая. Очень глубокая концепция.
– И философия.
– Разумеется. Куда же без нее.
– Но вернемся к нашим делам, – вспомнил обо мне начальник следственного департамента. Он нажал кнопку, картины уехали, приехал стеллаж с книгами. Григорий Гаврилович немного сник, но тут же взял себя в руки.
– Что же мы имеем? – продолжил Григорий Евсеич. – Человек сошел не на той станции. А надо бы – на той.
– Совершенно верно.
– Отведите-ка его в департамент наших путей. Там должны разобраться, – с этими словами Григорий Евсеич отдал мне все мои документы и регистрации, добавив от себя и свою собственную регистрацию, после чего мы немедленно оказались за дверью, где Григорий Гаврилович сразу же взял меня за локоток.
Именно в этот момент я и спросил своего сопровождающего:
– А чего это, позвольте узнать, у начальника следственного департамента такие таланты?
– А оттого-с, – довольно сухо начал Григорий Гаврилович, – милостивый государь, что у нас в Пропадино всюду таланты. Всюду разложены. Да и поощрены они Его Высокопревосходительством, который и сам, что там греха таить, то на дуде дудец, а то и музыку вдруг бросается сочинять. А какие он пишет оды! А еще он играет в местном театре, где периодически предстает перед всеми нами в образе Сарданапала. Помните? «Как бедность пресмыкаться стала, увидели Сарданапала на троне с прялицей меж жен».
– Гм… понимаю, – начал было я, но Григорий Гаврилович сделал мне знак, что он свою речь еще не закончил.
– Анархии, друг мой, то есть безначалия надо опасаться пуще всего. Она величайшая из бед и жупел всех наших невзгод на развалинах мироустройства. А чем мы можем сопротивляться этакой напасти, как не искусством? Вот и поем, и пляшем, а то и картинами, кистью рафаэлевой балуемся. Писание картин воспитует так необходимую в народе чинобоязнь и начальстволюбие. Не занятый сладкими плодами просвещения ум тянется к смуте.
С этими словами мы подошли к двери начальника департамента путей. Как только мы вошли, так сразу же и обнаружили начальника висящим на канате. Точнее, он на нем сидел, испытывая взором окружающее пространство.
Спортивный канат спускался посреди кабинета с потолка и до самого пола, и на этом канате, как кузнечик на лиане, и сидел начальник. Но вот он как раз начал спуск.
– Одну секундочку, господа! – прокричал он нам тут же сверху. – Одну секундочку! Я незамедлительно к вам спускаюсь!
– Не извольте беспокоиться, Гавний Томович, – заговорил сейчас же Григорий Гаврилович. – Мы обождем-с!
– Ну как же! Люди не должны нас ожидать! – начальник, произнося это, проскользил по канату вниз, а потом он мгновенно оказался сидящим у себя на столе в позе лотоса, – Люди! Они же избрали нас! Точнее, не совсем они, конечно, но мы все равно избранные! И как избранные, мы должны себя им! И тем, кто нас назначил, и тем, кто нас мог бы тут выбрать, положись руководство на их ум и беспристрастие. Мы обязаны! А как нам надо отдавать себя? Надо бы отдавать себя в лучшем виде. Вот и приходится трудиться над формами тела. С утра залезаю на канат, а потом и на стол. Форма тела – это что шкворень, на коем ходит передок всякой повозки. Как без него ревновать во благо и счастье той самой страны, что все мы тут почитаем за Родину? Никак без него нельзя.…С утра залезаю на канат, а потом и на стол. Форма тела – это что шкворень, на коем ходит передок всякой повозки. Как без него ревновать во благо и счастье той самой страны, что все мы тут почитаем за Родину? Никак без него нельзя.
– А еще нельзя забывать о порочной воле обывателя! – отозвался Григорий Гаврилович.
– Истинно так! Но не строгости, а кротости для!
– В кротости есть известная доля приятности.
Перемолвившись таким образом и оставшись собой в высшей степени довольными, они наконец занялись и моим делом. Григорий Гаврилович очень кратко изложил самую суть.
– Грушино? – воскликнул Гавний Томович почти в восторге.
– Оно самое!
– Так ведь нет же ничего проще! Надо взглянуть на карту!
Немедленно на столе возникла карта, а на ней – холмы, холмы.
– Грушино… – задумчиво рыскал по ней наш спасатель. – Грушино… где-то я видел Грушино. Кажется, я упоминал о нем в своих мемуарах. Где мои мемуары? – он порывисто бросился в стол и достал оттуда солидную книжищу. Он немедленно отправился в оглавление. – Грушино… о моем детстве… об отрочестве… Отечестве… о разуверениях… об уветах… о времени как материи… а, вот! О холмах! Так! И что мы тут имеем? Хиреют холмы… это все не то. А вот: «Было Грушино, да все и кончилось!»
– Как это? – сорвалось у меня с губ.
– Ну нет у нас его! – заявил Гавний Томович, и глаза его покрылись маслом спокойствия.
– Как это? – чуть не поперхнулся я. – Я же ехал!
– Ну ехал. Пока ехал – было, как доехал – кончилось. Это часто случается.
– Да как же оно может так случаться?
– А так! Вот если б оно имело все возможности находиться в моем ведомстве, то, примите мои уверения, и не пропало бы, а вот ежели оно проходит по ведомству сельского хозяйства, – так там и слон недавно пропал.
– Какой слон?
– Африканский. Лопоухий такой. Водили тут слона, зашли за поворот – и нет слона. Кинулись в ведомство сельского хозяйства концы искать – так и нет никаких тебе концов. В последнее время, что там злословить, в нем произошел, конечно, значительный нравственный переворот, в особенности спасительно повлияли виды на будущий урожай, но недород, суховей и отсутствие должного полива вернули прежнее лукавство.
– Вы полагаете… – начал я.
– Я полагаю, – торопливо вмешался в мое начало начальник департамента путей, – что ежели название населенного пункта имеет в своей основе сельскохозяйственный элемент, то в случае утраты его следует искать, стало быть, в той стороне.
– В какой стороне?
– В стороне сельского нашего хозяйства. Уж хоть какие-то следы должны там быть.
Через минуту мы с неизменным Григорием Гавриловичем уже шли по коридорам в поисках начальника департамента сельского хозяйства. Надо ли говорить, что на руках у меня была свежая регистрация от начальника департамента путей. Навстречу нам то и дело попадалась канцелярская жизнь. Кто-то все время сновал, изгибаясь, и в руках все держали какие-то бумажки. Скорость и ловкость, с которой они нас миновали, не могла не восхищать.
– Как они ловко-то! – не удержался я от восклицания.
– Что они? – не понял меня поначалу Григорий Гаврилович.
– Как же они ловко перемещаются, – заметил ему на ходу я. – Словно бы рыбы в косяки. Только мы к ним, они уже – фыр! – и от нас с полным тебе удовольствием.
– Так ведь задень они нас – тут тебе сразу и участие.
– Какое участие?
– Ну так им же придется участвовать в нашем стремлении – выслушать, разобраться, выдать регистрацию, чтобы путь отследить было возможно, а там и перенаправить не абы куда, а хотя бы в ту сторону, что предположительно лежит в стороне разрешения нашего вопроса.
– То есть…
– То есть, – не дал мне договорить мой спутник, – им предписано участие. Не решение вопроса и избавление от всех бед, а именно участие, рассмотрение и рекомендование. Но кто же хочет себе лишних исканий!
А вот об этом я и не подумал. Исканий! Все бегут именно их! Нет исканий – и остается тебе только твоя канцелярская жизнь.
Между тем мы уже подошли к двери начальника департамента сельского хозяйства. Тут ощущалось движение воздуха. Будто массы какие-то, направляемые с востока, устремлялись на север. Дуло как-то.
За дверью нас встретили куры. Куры ходили и клевали зерно. Всюду были расставлены проекты будущих строек, объектов, ферм и водохранилищ. Все это размещалось вдоль стен и радовало глаз. Проект обводнения сейчас же привлек мое внимание: там вода вливалась и выливалась. А еще был проект затопления во время пожара и макет, воспроизводящий суховей. В середине же кабинета было выделено пространство, где размещался ледовый каток. На катке в это время каталась на коньках женщина величавых форм – Домна Мотовна Запруда.
– Здравствуйте, Домна Мотовна! – проблеял Григорий Гаврилович. Голос его вдруг изменился, истончился, ум съежился.
Женщина глянула на нас злым взглядом, остановилась, молча сняла коньки, кашлянула, сипло потянула носом воздух, прошла и села за стол, нажала на нем какую-то кнопку, после чего каток провалился под пол, а на его месте возник паркет.
– Ну? – спросила она так строго, что немедленно куда-то пропали все куры вместе с зерном, а суховей перестал веять.
Григорий Гаврилович говорил обо мне секунд десять, голос его непривычно дрожал.
– Вас кто ко мне послал, разлюбезный? – начала свою речь Домна Мотовна. Голос у нее был такой силы, что она им собрала бы всех бурлаков с Волги. – Этот хер на веревочке? Этот Гавний Томович? А? Мудильник департамента несуществующих путей! Это что за долгий путь долбоеба в дюнах? Вы зачем ко мне явились? За благословлением? Молебен я, что ли, должна отслужить? Образа обслюнявить? Я тут с суховеем все никак не могу разобраться (она зыркнула в сторону установки суховея, и та, прервавшаяся было с началом речи, немедленно заработала вновь), а он шлет мне этого заблудившегося переростка! В уме ли вы все, господа? Во здравии ли? Человек заблудился, и теперь его водят по всем кабинетам, не ведая, куда ж его деть. Ну пристрелите его на месте. Выведите за угол и пристрелите, утопите, отравите! Что за беспомощность такая! Никто не может избавиться от человека! Все только бумажки друг другу пишут, вместо того чтобы решить проблему раз и навсегда. Не веет ветер, поставьте вентилятор, не идет вода, проведите трубу, горит – залейте, лишний человек – закопайте! Или вам показать, как надо закапывать? Яма два метра на два, а сверху цветок. Целую клумбу цветов его имени посадите.
Григорий Гаврилович от всех этих речей превратился, как мне кажется, в соляной столп.
Обо мне и говорить нечего – я совершенно охолодел.
И тут Домна Мотовна вдруг смягчилась:
– Что там за станция, говорите?
– Грушино, Грушино, Домна Мотовна! – сейчас же ожил мой сопроводитель, и, с треском слабым отклеившись от пола, заторопился и сделал даже шажок вперед, дыхнув проглоченной репой, где снова замер. – Можно посмотреть по карте… – успел добавить Григорий Гаврилович.
– Знаю я ваши карты, – тут же оборвала его Домна Мотовна, разложив на столе толстые локти, а я на них так и уставился, так и уставился. – По ним немцам в сорок первом году хорошо наступать – тут же в болоте будут. А на дорогах разбросан шлам – все танки без гусениц останутся. Карты! Холмы и низменности. У нас свои источники имеются. Грушино, Грушино, Грушино… – Домна Мотовна открыла какой-то талмуд, – Грязево, Гущино, Говонино, Грызино, Греблово, Куево, но это уже на букву «ку». Грушино. Странно.
Хлопнув, она закрыла талмуд и взглянула строго:
– Нету! И не было. Я тут что-то похожее находила как-то между Греблево и Куево, но, видать, давно это было – кончилось.
– Как это кончилось? – не выдержал я.– Куда! Стоять! А регистрацию? – строго уставилась Домна Мотовна на Григория Гавриловича.
После чего ему по воздуху был отправлен необходимый листочек. Домна Мотовна так ловко его зашвырнула, что он совершенно непоруганным долетел до Григория Гавриловича.– А что вас удивляет? Сгорело, околело, окоченело, окопытилось, окочурилось, оконфузилось, погрузилось в торф. У меня тут Гнилово вместе с Гнобино уплыло вниз по реке – никто не спохватился. Три старухи, полтора бревна. Ни привеса, ни надоев – свет им проводи. Электричества у них нет. А что у них есть? Ничего у них нет. И не было. В Гнусино поставили больницу. Где теперь эта больница? Я вас спрашиваю! Где? Сама ездила на открытие! Открыли, потом закрыли, втихаря свернули и увезли! Так? Приехала и ахнула – чистое поле, бурьян-многолетник. В Гробино построили школу – провалилась сквозь землю вместе с ближайшими домами. Все жители ушли в лес и превратились в мартышек. В Глупино провели Интернет. Интернет! Они в него только глянули, узнали, где они и что они, в ту же ночь собрались все и выехали на ПМЖ в Швецию, а дома сожгли! Некоторые успели даже получить компенсацию за ущерб! В Голожупино поставили оборудование на молочную ферму. Ни фермы, ни молока, ни оборудования через полчаса. И само Голожупино куда-то пропало даже с карт годичной давности. Кто-нибудь может мне объяснить этот топографический феномен? Спутниковую антенну разместили в Голово. Спутниковую. Чтоб они общались, значит. Со всей Вселенной. Голово пропало так, что я туда посылала группы армейской разведки. Пропали даже группы. Воруют их, что ли? Инопланетяне! Газ! Провели наконец газ в Гандоньево! Остались торчать только трубы на перегоне Говонино и Грызино! Где теперь Гандоньево вместе с газом? Не знаете? А что вы знаете? До чего не коснись – все тлен! В Гавкино провели фестиваль деревенской песни. Теперь там только ветер гуляет. После двухчасового пения умерли все. Даже крысы!
В Гоблино поехала группа кинематографистов снимать фильм о событиях 1612 года. Откуда ни возьмись появилась польская конница и порубила их всех. У вас есть на этот счет хоть какие-то соображения? Копали древнее капище в Глюкино, отрыли могилу Рюрика. На могиле было написано: «Не вскрывать». Вскрыли. Возникли смерч и ураган. Бушевало так, что унесло все. Заколотили – перестало бушевать. Берестяные грамоты нашли в Гаднево. Полгода не могли прочитать. Наконец прочитали. Вы знаете, что там было написано? Там было написано: «Пошли все на хер!».
– Что ж мне теперь делать? – совершенно упал я духом.
– Что делать? В суд подавать. У нас цивилизованное общество. Подаете в суд, и потерянное вам возвращается. Вот я, например, всегда подаю в суд.
– В суд?
– В суд. Туда. В родной наш суд. Справа по коридору самая последняя дверь. А перед этим советую побывать еще и в департаменте социальной защиты, потому что что ж это, как не вопрос нашего социума, и еще советую заглянуть в отдел здравоохранения.
– А в здравоохранение-то зачем?
Домна Мотовна посмотрела на меня внимательно:
– А затем, сударь, что у нас все, прежде чем умереть, проходит через здравоохранение. Пока будете двигаться к суду, эти две двери вам попадутся обязательно.
Только мы повернулись с Григорием Гавриловичем, чтобы следовать в указанном направлении, как были остановлены криком:
– Куда! Стоять! А регистрацию? – строго уставилась Домна Мотовна на Григория Гавриловича.
После чего ему по воздуху был отправлен необходимый листочек. Домна Мотовна так ловко его зашвырнула, что он совершенно непоруганным долетел до Григория Гавриловича.
Как только мы оказались за дверью, я сейчас же ощутил, что Григорий Гаврилович постепенно приходит в себя – из глаз его пропадает стекло – медленно, ломаясь подтаявшим льдом. И я не мог не задать ему тот вопрос, что мучил меня все это время:
– А зачем же, любезный Григорий Гаврилович, Домна Мотовна каталась по кабинету на коньках?
– А затем она каталась, – не замедлил с ответом мой сопроводитель, – что Его Высокопревосходительство затеял провести историческую реконструкцию Ледового побоища, где сам он выступит в роли Александра Невского, а вот Домне Мотовне отводится роль Марфы Посадницы.
И тут глаза его зажглись, он продолжил:
– Старая Русь являет нам примеры некоторых славных женщин – весьма немногих, но потому еще более достойных внимания нашего.– Но позвольте, дражайший Григорий Гаврилович, как же так? – заерзал на ходу я. – Ведь Ледовое побоище никакого отношения не имеет к Марфе-то Посаднице! Что ж это за история у вас такая?
– А и что с того-с? – не смутился Григорий Гаврилович. – Ну? Вот такая у нас история! И что-с? У нас все возможно-с. И Александр Невский, и Дмитрий Донской, и Марфа Посадница, и великий князь московский Иван Васильевич, и святой старец Зосима, и Кочубей! Надо будет для дела, у нас и сам Адольф Гитлер на реконструкции сего исторического действа будет представлен! Мы за ценой не постоим!
– Но как же…
– А так же! – Григорий Гаврилович стал строг. – Народу-то! – он остановился, поднял палец вверх, и я тоже остановился, напряженно вглядываясь в этот палец. – Народу-то все равно, только чтоб пышнее, чтоб пахнуло весной, чтоб литавры, что гром победы, чтоб ядра – чистый изумруд! И Кутузова! Кутузова обязательно!
– Кутузова? – вырвалось у меня.
– Его! Потому как русский дух! Потому как Русью пахнет!
– Кто пахнет? Кутузов?
– Он самый! И ведь все так славно, так ладно будет слеплено! Это вам не пустяки на бобах разводить! Усталые и полуразбитые! Так и проходят вереницей перед мысленным взором – истинно! истинно! – бесстрашно проникая в самые глухие закоулки народного самосознания! Только-то тяжелая, беспокойная дремота овладела всеми членами, как на тебе – и снова в бой! Без всего! Без пищи и питья! Без сна и задоринки! Голыми руками! По морозу! Неделями в траншеях! Вши! Тиф – а мы идем! И побеждаем!
Я смотрел на Григория Гавриловича с тем самым чувством непременного участия, с которым я уже смотрел на него давеча, полагая его не совсем в себе. То чувство ушло было из меня вовсе, но, похоже, очень скоро вернулось на свое законное место.
– Ну хорошо, я все понимаю, но коньки? – не отставал я.
– А что коньки? – казалось, Григорий Гаврилович осматривает землю.
– Отчего же на коньках-с?
– На коньках-с? А оттого на коньках-с, что вначале предполагалось, что Домна Мотовна будет над всем этим летать наподобие бесноватой Валькирии, но потом отказались от строп в целях пущей безопасности, и утвердили коньки.
От дальнейших рассуждений нас спасла дверь. То была дверь социальной защиты.
Как только она распахнулась, так оказавшаяся за той дверью начальница департамента – как потом стало понятно – заключила меня и Григория Гавриловича в свои объятья. Она немедленно поцеловала в губы его, а потом и меня, смахнув слезу.
Я до того опешил, что не сразу заметил на ней наушники и то, что весь ее кабинет был наполнен звукозаписывающей аппаратурой.
– Как хорошо, что вы ко мне зашли! – вскричала она, дав себя рассмотреть. На вид ей было лет сорок – самый опасный, как я полагаю, девический возраст – и в глазах ее блистал огонь.
– Мы сейчас же будем петь!
– Петь?
Вместо ответа на вопрос она запела: «Снаряжай скорее, матушка родимая, под венец свое дитятко любимое!»
Григорий Гаврилович немедленно ей вторил: «Протяжней спой, чтоб за сердце хватало!»
Далее они уже пели в два голоса: «Ах, не ко времени! – Ко времени, ко времени! – Смогу ли я? – Смогешь, смогешь!»
Неожиданно пение прекратилось так же внезапно, как и началось. Начальница департамента незаметно для меня вдруг оказалась сидящей за столом, а вся аппаратура и наушники исчезли.
– Ну-с, Григорий Гаврилович, – сказала она строго, – с чем пожаловали?
– Извольте видеть, Ольга Львовна! – сказал Григорий Гаврилович, а затем он изложил мою историю.
Ольга Львовна Глуховатых – начальник департамента социальной защиты – выслушала его очень внимательно.
– Грушино? – задумчиво произнесла она. – Неужели же нигде и никаких следов?
– Истинно так, Ольга Львовна, истинно так!
– «Посинели, посинели, посинели, разлились!» – пропела она, размышляя. – Надо бы в таблицах посмотреть! – решила она наконец и бросилась к шкафам.
Надо заметить (очевидного не скрыть), что Ольга Львовна, если того требовала социальная защита, немедленно на все бросалась.
В шкафах были таблицы. То были таблицы наших достижений, как узнал я много позже, и они немало способствовали благополучному исходу многих событий. После посещения оных таблиц, как мне потом довелось узнать, в благодарных сердцах обывателей непременно зажигались неугасимые огни.
– В таблицах должны оставаться следы, – натужно вымолвила Ольга Львовна, сгрудив на стол целый ворох этого добра.
– Вот! – сказала она через какое-то время, изучая таблицы на свет. Она держала их перед глазами так, чтобы свет падал на них под углом сорок пять градусов.
– Вот! – Она произнесла это слово несколько раз и всякий раз на несколько тонов выше предшествующего, отчего начало казаться, что она на рыбалке и у нее клюет.
– Нашла! – в голосе ее сквозило торжество. – Смотри-ка, если мы повернем таблицу так, то Грушино на ней появляется, а если изменим угол наклона, то пропадает.
– И что сие означает? – не выдержал я.
– А означает сие, что при получении денег из бюджета оно есть в природе, а вот при распределении – его уже нет.
– Как это?
– Атак! При распределении же меняется угол зрения на предмет.
– Угол?
– Конечно!
– Но само-то оно в природе должно же существовать?
– В том-то и состоит весь вопрос! – Ольга Львовна взглянула на меня как на дитя неразумное, обратила свое внимание на Григория Гавриловича, а тот понимающе ей кивнул и даже закрыл от понимания глаза. – Вы не читали мою статью в «Отечественных записках» «О видимости и наружности»?– Нашла! – в голосе ее сквозило торжество. – Смотри-ка, если мы повернем таблицу так, то Грушино на ней появляется, а если изменим угол наклона, то пропадает.
– И что сие означает? – не выдержал я.
– А означает сие, что при получении денег из бюджета оно есть в природе, а вот при распределении – его уже нет.Я замотал головой. – Как же можно?!! Я же уже обращалась к общественности в прессе! Прошедшее встает перед нами совершенно осязаемо только до того тебе момента, пока дело не касается средств! Грушино – это наше с вами прошлое, прошедшее. То, что мы уже миновали в своем движении вперед, в своем развитии. Его нет, но оно появляется, как только получается бюджет, но в следующее мгновение вы в него можете не попасть, потому что иссякли средства. То есть пока вы ехали, оно было, а когда доехали – исчезло. У нас половина округи так живет.
– Но ведь там же есть люди! – не сдавался я, – Я же ехал к конкретным людям!
– А при чем здесь, голубчик, люди? – тут Ольга Львовна рассмеялась тем счастливым детским смехом, каким смеется ребенок, пощекочи ему животик. – Бюджет имеет отношение к видимости, а не к наружности! Видимость – это когда вы только видите деньги, перед тем когда они исчезнут уже навсегда. А наружность – это то, в существовании чего, чаще всего, не бывает уже никакой нужды. Или я не права, Григорий Гаврилович? – обратилась она за помощью к моему сопровождающему. Тот понимающе кивнул и снова закрыл глаза.
– Уф! – сказала Ольга Львовна, оставляя в покое таблицы. – Даже устала. Притомилась я от такой работы. Не спеть ли нам? «Я на тропке горной притомилась. Прикорнула я под сенью дуба. А когда средь ночи пробудилась. Крепко обнимал меня любимый», – запела она немедленно, томно глянув на изнывающего совершеннейшим идолом Григория Гавриловича, который и без того смешно глазками вертел.
«На заре ты ее не буди, – вдруг не выдержал он и запел, – на заре она сладко так спит. Утро дышит у ней на груди. Ярко пышет на ямках ланит».
Уставившись друг в друга, они все пели и пели, переходили от одной песни к другой, о любви пели, о России, о Родине, о городе любимом, что может спать спокойно, и видеть сны, о чувствах, о прекрасном, о диком, о свободолюбивом, о необузданном, о строптивом, о страстном, но наконец иссякли. Григорий Гаврилович даже поперхнулся и проглотил слюну. Ольга Львовна не поперхнулась, но, кажется, тоже что-то проглотила. Что-то мимолетное.
– Однако как же нам поступить? – спросил Григорий Гаврилович, охолодясь. – Тут Домна Мотовна нас к судам отправляла, а по дороге велела еще и к медицине заглянуть, окромя вас, разумеется.
– Непременно надо заглянуть к медицине, – сейчас же оживилась Ольга Львовна. – Узнать, все ли в порядке со здоровьем, никогда не рано! А вдруг откроются новые обстоятельства, не больно-то мудрящие?
– Обстоятельства чего? – не удержался я.
– Обстоятельство того, как у вас возникло желание найти Грушино! Ведь до того у вас не возникало такого желания?
– Желания? – промямлил я.
– Ну да! Желание нами движет. Желание нами правит. Желание нас влечет. Оно одно определяет и нас и наше естество. Я всегда говорю: правильно формируйте свое желание, и вы будете услышаны.
– Услышаны где? – не удержался я.
– Услышаны там! – подняла она палец вверх. – Там и только там! И уморены не будете.
– Уморены?
– Конечно! Уморительны – возможно, но уморены – никогда. Вперед! Неуклонность, неупустительность и натиск!
С тем мы и оказались за дверью социальной защиты. Невозможно даже подумать о том, что мы вышли из нее, не имея на руках очередной регистрации.
После этого – всего лишь два шага – мы оказались у двери, скрывающей нашу медицину.
Как только мы оказались рядом с дверью, за которой притаилась наша медицина, Григорий Гаврилович вдруг начал проявлять все признаки врожденной робости духа. Он несколько раз заносил руку над дверью, чтобы в нее постучать, а потом с сомнением на лице и в теле одергивал, задумчиво поднося правую руку к губам и прикусывая свернутый калачиком указательный палец. После он еще (сделав мне заговорщицкий знак, мол, знаем мы это гнездовье принципов, тут с умом бы надо) осторожно прикладывал ухо к двери и вроде бы даже втекал в нее этой своей частью, но всякий раз отстранялся, оглядывался и снова приникал.
Я был, признаюсь, немало озадачен этим его поведением и повадками, напоминающими слежку филера за неприятелем, но во всем его теле было столько смысла и исступления, что не прошло и минуты, как я устыдился этих своих порывов. Я перебрал их в уме все и остановился только на одном порыве – это был порыв сострадать. Ведь все это из-за меня, ведь это я всем тут доставляю столько хлопот. Ведь это из-за меня сей доблестный муж должен всего тут опасаться, дабы не впасть в многочисленные административные ошибки.
Наконец он постучал. Это действие оказалось настолько незначительным, что скреб мыши в пустом амбаре в сравнении с ним выглядел бы громовыми раскатами в пьесе «Грозовой перевал».
Но несмотря на то что звук был исключительной слабости, дверь распахнулась так, что нас потом при ее движении назад просто всосало во внутреннее помещение.
В помещении были видны люди в масках и белых халатах, пахло гнилью, сыростью и перемолотыми в мясорубке витаминами. Мы «ах!» не успели произнести, как у нас были взяты все необходимые анализы.
– Ну, что там у нас? – спросил человек, расположившийся в глубине зала.
– Сейчас, Геннадий Горгонович! – был ему брошен ответ. – Сейчас проведем всю принудительную диспансеризацию, и наступит полная ясность! Осталось только взять несколько мазков для составления подробного генетического портрета.
У нас были взяты анализы крови, волос, кожи, ногтей и спермы. Во рту несколько раз полоснули ватной палочкой. Кал отделился автоматически, моча пошла сама.
– Алкоголики? – между тем вопрошал Геннадий Горгонович кого-то сбоку.
– Не похоже. Но организм ослаблен, недавний полет птиц…
– Вы думаете?
– Я предполагаю. Хотя, может быть, и молоко.
– Молоко? Это очень серьезно!
– Оно самое.
Тут, признаюсь, я совсем ничего не понял, потому как разговор запестрил от латинских терминов, из которых я признал только термин penis, причем в различных вариантах: radix penis, corpus penis и glans penis, – потом было еще неизвестное мне слово cavemae и известное – urethra.
На Григория Гавриловича было жалко смотреть. Он весь сжался, как кот, которого собрались перевозить на дачу в багажной сумке.
– Совершенно выраженная зависимость, – продолжили далее, слава богу, на русском языке. – Реально она, конечно, другая! Но возрастная планка снижена! И ВИЧ!
– Что ВИЧ?
– Он ведь с поцелуем теперь передается.
– Как с поцелуем?
– А что ж, полагаете, любезнейший, слюна – это вам уже и не кровь вовсе?
– Но…
– Никаких «но»!
Судя по выражению лица Григория Гавриловича, он так же, как и я, вспомнил о недавнем поцелуе, полученном в департаменте социальной защиты от самого ее начальника.
Он побелел. К чести его надо заметить, что побелел он только той половиной лица, что была обращена ко мне, а другая его половина сохраняла честь и достоинство, избежав всяческого паскудства.
Надо заметить, что все эти разговоры происходили у людей в халатах и масках друг с другом, касаясь нас лишь как предметов, объектов, так сказать, как если б мы были исследуемый материал.
– Что же касается умственной отсталости, врожденных, так сказать, внутриутробных пороков…
В помещении были видны люди в масках и белых халатах, пахло гнилью, сыростью и перемолотыми в мясорубке витаминами. Мы «ах!» не успели произнести, как у нас были взяты все необходимые анализы.
– В этой связи меня беспокоит только дефицит йода. А что такое дефицит йода для внутриутробного развития плода? Это врожденное уродство. Конечно, щадящая клиническая картина…
Слово «щадящая» подействовала на Григория Гавриловича успокоительно, умиротворяющее, но последующее обсуждение не оставило от его умиротворения ни одного грана.
– Заторможенность и слабоумие! Врожденное уродство – очевидный факт!
– Сифилис.
– Сифилис?
– Он самый. Знаковое изменение! Целостная картина! Очевидное ослабление государственно-эпидемиологического надзора.
В эту минуту, похоже, была составлена полная наша генетическая карта (на каждого своя), которая и легла на стол Геннадию Горгоновичу – начальнику департамента здравоохранения (это был он и только он). Он сейчас же углубился в изучение поступившего материала, сделав нам знак приблизиться, а всем остальным исчезнуть. Все исчезли, а мы приблизились.
– Так что же? – спросил у нас Геннадий Горгонович. – Будем лечить или все же лечить не будем?
– Что лечить? – не утерпел я, поскольку разум Григорий Гаврилович от слов «лечить» и «сифилис», кажется, пошел полным прахом.
– Врожденное уродство и слабоумие или заторможенность. Это на выбор, но принудительно, поскольку лечение врожденного уродства ведет к заторможенности, а лечение заторможенности…
– К врожденному уродству. Так, значит, лечим все-таки не сифилис? – поспешил я закончить его мысль.
– Сифилис? – Геннадий Горгонович еще раз посмотрел в наши бумаги. – А при чем здесь сифилис?
– Но говорили…
– Кто говорили, где говорили, о чем говорили?
– Так ведь…
– Никакого сифилиса. Мало ли о чем тут все говорили! Вы медик? – Геннадий Горгонович глянул строго.
– Медик? Видите ли, в чем тут дело, я в Грушино ехал.
– В Грушино? – удивился Геннадий Горгонович. – А разве там не карантин?
Услышав, что хоть кто-то тут знает о Грушине, я воспрял духом.
– Подождите! – Геннадий Горгонович посмотрел в бумаги. – Что вы меня путаете! Это в Гнусино карантин. Там уже и обработку провели. Выселение, запрет и уничтожение! Домашней птицы!
– Геннадий Горгонович! – отчаянно возопил тут Григорий Гаврилович, обретший наконец свой голос. – Геннадий Горгонович! А как продвигается ваше изучение истории православия на Руси? Геннадий Горгонович, – заметил, обращаясь уже ко мне, с совершенно диким, истерзанным видом Григорий Гаврилович, – в реконструкции Ледового побоища должен будет являть собой прообраз митрополита Кирилла и канонизировать потом то, что останется и победит…
– А вот как продвигается дело! – немедленно откликнулся на это Геннадий Горгонович. Он встал и сейчас же облачился в рясу. Глаза его смотрели на нас строго.
– Господу помолимся! – нараспев произнес он.
– Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! – затянули мы немедленно с Григорием Гавриловичем в два голоса. Геннадий Горгонович осенил нас крестом животворящим.
Пропев все это, мы ощутили себя как бы заново рожденными, обновленными, то есть совершенно здоровыми.
– Вот и славно! – сказал Геннадий Горгонович, разоблачаясь. Он в тот же миг, казалось, забыл о своем желании подвергнуть нас принудительному лечению от слабоумия. – Так что у нас там произошло с Грушином? Пожар? Наводнение? Марлевых повязок опять на всех не хватает?
Григорий Гаврилович сейчас же рассказал ему все. Вплоть до того момента, как нас отправили в суд, а по дороге велели непременно посетить и его ведомство.
– А вот это правильно, господа! – согласился Геннадий Горгонович. – Врожденное здоровье, в отличие от врожденного слабоумия, явление, я вам замечу, весьма сомнительное, редкостное. Не ровен час. И как подвергать себя суду, ежели не думать о здоровье. Только здоровые люди должны предстать перед судьей, ибо судить больного…
– Геннадий Горгонович, – напомнил Григорий Гаврилович, – нам бы Грушино.
– А что Грушино? Где у нас медицинская карта местности?
Медицинская карта местности была явлена нашему взору незамедлительно.
– Славно, славно! – рассуждал между тем Геннадий Горгонович. – Все эти пищевые добавки. Все хотят выглядеть хорошо, а едят пищевые добавки. И снижение веса. Все это как попало! Невозможно! Я ежедневно с этим сталкиваюсь и, скажу я вам, мрут! А как производится хранение продуктов? Какими ядами все это поливается? А потом все тянем в рот. А известно ли вам, дражайшие, что покойники в земле уже перестали за тридцать лет гнить. Не гниют трупики в земле-матушке – вот какие у нас продукты. Все мы консервированы, господа, и консервированы заживо.
– Нам бы Грушино… – заикнулся опять Григорий Гаврилович.
– Разгул преступности, – не унимался Геннадий Горгонович, – требует введение всему населению обязательной регистрации генетического кода. Отпечатки рук – само собой! Биометрические паспорта – с полным тебе удовольствием. Но генетика! Тут уж злодеям не отвертеться. Лицо можно изменить. Радужная оболочка глаз? Вы мне сейчас же скажете, что радужную оболочку глаз лихоимец подделать не сумеет. А? Что? Не сумеет? А? Сомневаемся? Уже сомневаемся? Врешь и сомневаешься? Да, господа, мы уже во всем сомневаемся. Нет ни в чем нам благодати! С памятью у нас разлад! То томительны некстати, то, понимаешь, милы мы невпопад! Но генетика – самое надежное на сегодня средство идентификации. Прогресс – никуда мы не денемся. Прогресс, консерванты, принудительная диспансеризация! И масочку! Масочку на лицо обязательно! От лесных пожаров! А еще – занавески на окнах надо мочить…
– Но Грушино! – взмолился я.
– Грушино! Конечно! Оно! Оно… Да нет тут никакого вашего Грушина.
– Как же нет? Вы же его нашли!
– Я? Нет. Медицина – она же занимается только живыми. Жизнью и ее продолжением. Пробует оно – жив или же не жив. Скальпелем, осторожно. И если уж жив, то занимается. В известных пределах, конечно. Безнадежно больные не в счет. Потраченных на них средств хватило бы на десять здоровых. То есть эти средства забираются от безнадежно больных и направляются туда, где мы еще успешно боремся с наступающим недугом! А то, что уже мертво, – это к археологии.
– Как мертво?
– Так. На моей медицинской карте местности написано: «Избыто!» – стало быть, мертво. Это вам в отдел археологии надобно.
– Погодите! – не сдавался я. – Но я же ехал! У меня и билет был.
– На Мамаев курган тоже может быть выписан билет, но, согласитесь, все его защитники давно уже умерли.
– Мамаев курган?
– Ну да!
– Но нам же Грушино нужно.
Геннадий Горгонович посмотрел на нас с укоризной.
– Мне кажется, мы уже решили вопрос с врожденным слабоумием и принудительным лечением от него, – заметил он вкрадчиво. – Ужели ж мы должны к нему возвращаться? В археологию! Вам надобно в археологию! Справа от нас будет желтая дверь.
Я уже не помню, как мы оказались перед дверью археологии. Пахло схимой. Точнее, я уж и не знаю, чем пахло: затхлостью какой-то, которая казалась мне схимой, – черт его разберет. Григорий Гаврилович явно мялся перед тем как ее открыть.
– Шорох, – сказал он мне шепотом. Он почему-то перешел на шепот. – Вам не кажется, что слышится шорох?
– Где слышится? – так же шепотом отвечал ему я.
– Везде, – выдохнул Григорий Гаврилович, – Всюду. Шорох. И тени.Это был лист регистрации от начальника медицинского департамента – и как он зацепился за мое ухо – ума не приложу.
И это было через секунду после того как пропали шаги того типа в ботфортах.– Тени?
– Тихо. Т-ссс! Вот послушайте.
Эта часть коридора действительно была несколько пустынна, тут никто не ходил, не бегал, не проникал. Все как-то обтекали это место стороной.
– Стороной, – словно эхом отозвался мой спутник. – Стороной тут все ходят. Шаги слышите?
– Шаги?
Действительно, послышались шаги. Кто-то шел в старинных ботфортах, потому что отчетливо были слышны высокие каблуки. То есть было слышно, как кто-то большой, просто огромный с каждым шагом вколачивает свои каблуки в пол, и эти звуки приближались, все громче и громче, все слышней и слышней, вот сейчас кто-то покажется из-за поворота, вот сейчас.
Но потом он остановился, не дойдя до нас каких-нибудь двух метров, и в этот момент коснулись моего уха – т-с-ссс – это из меня вышел воздух!
Это было так, как если бы в детстве ты залез на старый чердак и стал там осторожно ходить, но тут вдруг паутина касается лица, и сердце твое замирает, и как только ты ее отодрал, тут же из глубины чердака к тебе кто-то пошел; он повторяет за тобой каждое движение, и ужас охватывает тебя, и крик застревает в горле, пересыхает слюна – а это всего лишь твое собственное отражение в старом зеркале.
И только вы это понимаете, вас хватают за штанину, но через мгновение становится ясно, что это ты за что-то зацепился, но сердце уже выпрыгивает из груди – вот как коснулись моего уха, – ослабеть, не встать!
Я заставил себя скосить глаза и посмотреть – ни черта там не видно. Тогда я осторожно протянул руку и ухватил… И у меня в руке остался… листок регистрации.
Это был лист регистрации от начальника медицинского департамента – и как он зацепился за мое ухо – ума не приложу.
И это было через секунду после того как пропали шаги того типа в ботфортах.
На Григория Гавриловича лучше было не смотреть.
– Вы слышали? – выдохнул он не совсем свежий свой внутренний мир.
– Слышал, – ответил ему я ослабленным голосом. Мне вдруг ни с того ни с сего показалось, что в этом мире не хватает красного. Красного цвета. Платочек газовый вполне подошел бы – глупая мысль, согласен.
В это мгновение сама собой открылась дверь, и мы, вытянув шеи, туда заглянули – за дверью была темнота, она нас в себя просто втянула, после этого дверь закрылась.
Мы еще не привыкли к темноте, когда на нас полетел огненный череп. Лично мой вздох остановился в районе печени. В этот момент мы услышал скрипучий голос:
– Входите!
– Чего? – спросили мы одновременно.
– Входите же, сквозняк!
И тут в полутемной комнате мы увидели впереди за столом странное существо. Оно напоминало мышь в очках.
Вокруг стояли головы. Головы были везде – на стенах, полках, столах, стеллажах, под стеклом и просто так, накрытые тряпкой. Это были головы великих.
То, что показалось нам черепом, оказалось золотистым шлемом и висело над входом.
Все головы были подсвечены снизу небольшими лампочками.
– Это посмертные маски, – сказала нам мышь, заметив, что мы все это рассматриваем.
– С нынешних на всякий случай мы сделали их при жизни, – продолжила мышь. – Смерть меняет на лице чувства. А хочется сохранить именно их.
– Гародий Дожевич Приглядов, – представилась нам мышь. – Специальность – смерть и налоги. Хобби – археология. Чего вам надобно от того, другого и третьего? Кстати, может быть, вы знаете, какого роста был Александр Невский? Недавно измерили его надгробную плиту или то, что почитается оною, – сто восемьдесят два сантиметра. При толщине стенок восемь сантиметров остаток – сто шестьдесят шесть. То есть в гробу лежит сто пятьдесят шесть? Совершенно немыслимо! Судите сами. Вот текст: «…И взор его паче инех человек, и глас его аки труба в народе, лице же его…» – вот сейчас: «Сила же бе его – часть силы Самсоня… хотя видети дивный възраст его…» – рост то есть. Дивный. Дивный рост сто пятьдесят шесть сантиметров? Всего на пять сантиметров более Александра Македонского и на одиннадцать сантиметров более Чингисхана? Как вам такое? Как такое возможно? Александр Невский ликом печенег, а ростом пигмей? С чем приходится работать! А берестяные грамоты? Одна за другой говорят нам о том, что ничего такого не было! Вообще ничего. Все, что было, придумали после.
– Нам бы Грушино! – заикнулся Григорий Гаврилович.
– Грушино? Оно имеет отношение к Ледовому побоищу? На Чудском озере у Вороньего камня? В озере торф. Там чудно все сохраняется. Так вот, не обнаружено ни одного доспеха. Если рыцари тонули, то где же доспехи? А? В Грушино?
Григорий Гаврилович мягко изложил наш вопрос. Мышь выслушала его очень внимательно.
– Батенька! – воскликнула она наконец. – А при чем же здесь археология? Вам в отдел сказок надо.
– Сказок?
– Сказок, сказаний, верований, фольклора, поверий, гаданий и прочей этнографии. «Поди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что». И принеси. В трех экземплярах.
– Но, может быть, налоги? – не выдержал я.
– Налоги?
– Но вы же занимаетесь и налогами. «Смерть и налоги». Может быть, там имеются какие-то следы?
– Ах эти налоги, – рассмеялась мышь. – Это я пошутил. История уже потом занимается налогами. Неуплаченными налогами. На человеческую память. Не заплатил налоги на память – и все возвращается. Путь-то пройти надо. А без памяти кружим. Грушино, говорите?
– Оно самое! – оживился и Григорий Гаврилович.
– Одну минуточку, посмотрю в летописях.
Мышь так начала взрывать на столе все бумаги, как будто она решила устроить себе гнездо на ночь.
– Грушино? – слышалась она под бумагами.
– Да!
– Вот! Нашел! – Гародий Дожевич выхватил из кучи какую-то бумагу.
«Грушино держалось, – прочел он, – аки лев!»
Потом он надолго замолчал, любуясь бумагой.
– И все? – не выдержали мы.
– А что ж вы еще хотели во времена Бату-хана?
– И что же теперь?
– Я же сказал: вам надо в отдел сказок, гаданий, сказаний. Грушино – это же миф, параллельный мир. В него так просто не попадешь. Я же не занимаюсь мифами. Я занимаюсь вещами реальными. Вы не заметили, что мой департамент все обходят стороной?
– Заметили.
Мышь рассмеялась и всплеснула руками:
– Ага, батенька, заприметили! А почему? Почему так все бояться археологии? А? Археология – это же наша реальность. Это возможность заглянуть отсюда в другую, прошлую реальность. Заглянуть и понять реальность настоящую, нынешнюю. Почему так все бояться заглянуть в прошлое? Ну? Потому что они боятся осознать! Настоящее. А настоящее таково, что не было никакого Ледового побоища в том виде, в котором его описывают. Не было! Если оно было, дайте следы! Где они, эти следы? Все это летописи, голубчик, а они писаны на заказ. Я же, повторяюсь, занимаюсь вещами реальными. Их можно потрогать. Я занимаюсь головорезами. Поймите! Вот они все, светозарные, по стенам развешаны. Они хотели объединить. Миры! А как? Как объединить, не оторвав голову? Никак! Эти коротышки всего лишь объединяли! И они объединили. Отрезая всем головы под собственный размер. Рост Чингисхана сто сорок пять сантиметров. Думаю, китайские летописцы не врали про его рост. А почему они не врали? Потому что Чингисхан был, во-первых, безграмотен, он не мог проверить написанное. Он вызвал китайца и сказал: «Пиши все, что видишь!» – и тот писал. И, во-вторых? И, во-вторых, Чингисхан действительно был велик. Ему было все равно, как на его деяния посмотрят потомки. Он вырезал всех мужчин, что выше колеса. Мудро, не так ли! Девиз Александра Невского знаете? Святого благоверного Александра нашего Невского свет Ярославовича, приемного сына хана Батыя? Нет? «Не в силе Бог, а в правде». Так говорит нам летопись. Думаю, в этом случае она не фантазирует. Вот! В правде Бог! Как все просто! Не так ли? И как все здорово! В правде! И под это дело можно вырывать ноздри. Зачем ноздри тем, кто не чует правды? Можно выкалывать глаза! Зачем они тем, кто не видит правды? Языки можно отрезать, потому что правду они не говорят даже на дыбе! Его именем татарские женщины пугали детей. Правда кровью пахнет. Запах сладкий. До того, что разъедает гортань.После того как регистрация перекочевала к Григорию Гавриловичу, мышь удивительно легко покинула свое место за столом, подхватила нас под руки и прокатилась с нами до двери – мы неслись, почти совсем не касаясь пола.
На Григория Гавриловича во время этой речи я боялся смотреть. Честно говоря, и у меня вдруг затряслись поджилки. Мышь все это заметила. От нее ничего не укрылось.
– Что? Страшно?
Я кивнул.
– Понимаю, – посочувствовал Гародий Дожевич, – понимаю вас очень хорошо. Страшно. Правда страшна. Очень. С ней жить сложно. А вам надо в департамент иллюзий, мифов, сказаний и гаданий. Непременнейшим образом! Там нет правды, но там можно жить.
– А как же Грушино? – задал я идиотский вопрос.
Мышь посмотрела на меня с пониманием:
– Вы привыкнете. Это поначалу всем страшно. А потом привыкают. Среди мифов тепло. Легенды греют. Иллюзии источают приятные фимиамы. А гаданиями можно даже нервишки пощекотать, смелость свою потешить. Грушино, Грушино. Сколько раз говорили небось небожители: «Пропади оно пропадом!» – вот и пропало. А? Ищет ли его кто-нибудь? Печалится ли? Горюет? Кто-нибудь кроме вас?
Мышь рассмеялась тонким детским смехом. От него по коже пошел мороз, захотелось чего-то светлого.
– Только одно я делаю в этой жизни с неизменным удовольствием! – сказала потом мышь. – Не хотите ли полюбопытствовать, что?
Я кивнул.
– С неизменным удовольствием я выдаю всем заходящим сюда бумажку о посещении, что в народе зовется на заграничный манер «регистрацией».
После того как регистрация перекочевала к Григорию Гавриловичу, мышь удивительно легко покинула свое место за столом, подхватила нас под руки и прокатилась с нами до двери – мы неслись, почти совсем не касаясь пола.
– К гадалкам напротив! – крикнула нам вслед мышь, и дверь закрылась.
И мы оказались перед дверьми напротив. За дверью слышалась какая-то подозрительная возня и ощущалась жизнь. Мы с Григорием Гавриловичем еще не отдышались окончательно, когда дверь распахнулась, из нее высунулась старушка, острое лицо которой тотчас же растеклось в улыбке.
– Сказочек захотелось? – спросила старушка.
– Мы… – начали мы с Григорием Гавриловичем от переживаний тонко, почти в один голос свой рассказ, но не успели – нас просто всосало в дверь. Перед нами немедленно раскрылась перспектива зала. То там, то тут сидели какие-то люди старушечьего вида, и отовсюду доносилось: «Долго ли, коротко ли ехал Иван царевич (это справа)… Посадил дед репку (это слева)… Обежала бабуля вокруг Ивана и спрашивает: „Дело пытаешь, али от дела лытаешь?"… По щучьему веленью…» – а кругом летали небольшие единороги.
Кругом нас, повторю, летали единороги, хотя летали ли при этом мы – вот это я уже не очень отчетливо помню.
– Проходите, проходите! – верещала старушка. Она, оказывается, никуда не делась, как это показалось сначала, она просто так быстро металась перед глазами, что глаза должны были сначала привыкнуть к этому метанью, чтоб ее заприметить.
Полет единорогов, признаюсь, несколько стеснял наше перемещение, но они были необычайно милы.
– Брысь! – цыкнула старушка, и единороги пропали.
– Как вам это удается? – не удержался я.
– Что «это»? – спросила старушка.Полет единорогов, признаюсь, несколько стеснял наше перемещение, но они были необычайно милы.
– Единороги.
– Ах это. Это, батенька, каждый свое видит.
После этих слов мы оказались в самой середине зала. Там стоял стол резной, со всякими устремленными во все стороны упырями, дубовый над ним на цепях висел сундук кованный. За столом сидела старушка, похожая на мать игуменью. Она была в дорогой собольей душегрейке, а на маковке у нее была парчовая кичка.
– А жемчуга огрузили шею, – сказала она.
– Что? – сказал я.
– Ничего. Это я так, – пожевала она воздух. – Мне показалось, что сейчас вы это и скажете.
Ну? – спросила игуменья. – Чего вам хочется?
Григорий Гаврилович со старушкой был почти что знаком.
– А вы, наверное, Сказана Толковна Краснобаева? – спросил он.
– Она самая, – был ему ответ.
После этого он изложил нашу историю.
– Ой, чувствую, без Гародия Дожевича тут не обошлось, – кротко вздохнула Сказана Толковна после того как Григорий Гаврилович закончил свой рассказ. – И все-то всем сказочного хочется, неземного. Просторы, просторы российские! Вы, вы одни только в том виноваты, что человек тут ждет чуда гораздо более того, чем в остальных местах.
– Это почему же? – не удержался я, ощутив некоторую даже обиду.
– А все в сказках, пословицах, поговорках и оговорках. Труд-то каторжный был на земле, на землице. С сохой, да в лаптях нагнешься, наломаешься за день-деньской, и в конце дня-то только пословицами и заговоришь. И все-то они кровью писаны. И все-то они о жизни призрачной и о жизни нынешней. А работать щука будет. Или Серый Волк. Он тут умом-то только и отличается. Говорили царевичу: не трогай клетки, а он тронул. Говорили: не рви яблок – он сорвал. А вот улаживать дела с царем Берендеем – это уже к Волку. Грянулся оземь – и в красавца обратился. Не как-нибудь постепенно, а именно чтоб, значит, оземь. Со всего, понимаешь, маху. Или в молочке кипящем искупался – как заново народился. Тут все хотят народиться заново. А в жены – царскую дочь. Так что ежели что не так – сразу же к сказочке-то бегом бежим.
– Нам бы Грушино…
– Понимаю. Сказочное Грушино – где ж ему еще быть? Там русский дух и Русью попахивает. А если по усам течет, то никогда уже в рот не попадает. Фигушки. Все мимо да мимо. Богата земля, да людишки бедны. Грушино, говорите?
– Оно самое.
– А к поворотному камню ходили?
Мне вдруг показалось, что Сказана-то Толковна не совсем в себе.
– Куда? – спросил я на всякий случай.
– Камень есть поворотный. На нем надпись писана.
– Это где «направо пойдешь»?
– Шучу, – коротко бросила игуменья, надела на нос очки и открыла книгу. – Сейчас в книге поглядим.
– Волшебная? – не без усмешки заметил я.
– А как же! – строго она на меня глянула. – Сейчас только слово скажу заветное, и в лесу дремучем окажетесь! А под ногами будут кости человеческие.
Внутри у меня похолодело.
– Сейчас, сейчас! – перелистывала книгу Сказана Толковна.
– Вот! – звучно ткнула она пальцем в книгу. – Есть!
– Неужели нашли?
– А как же! Есть заклятье!
– Какое заклятье? – забеспокоился я.
– Как какое? Сказано же: хочу в Грушино. Ну и вот оно. Заклятье-то! Произносим, потом говорим, что хотим в Грушино, и остается только пальцами щелкнуть. Щелк – и вы на месте.
– Как это?
– Депортация с левитацией. Вы хотели в Грушино попасть или же не хотели? – игуменья смотрела, поджав губы.
– Я хотел, конечно, в Грушино попасть, – начал говорить я, – но вы не сказали, в какое Грушино. Какого периода времени. Может, это Грушино времен нашествия Мамая.– Ага! – обрадовалась чему-то своему Сказана Толковна. – Стали, стало быть, соображать! Верно. Не так все просто. Сказать слово можно, но удержать его потом трудно. Оно же уже не твое. Летает оно. Мечется, а потом прилипнет – не отнять, не отлучить. И дело свое оно сделает. Темное ли, светлое – это уж как ляжется. Действительно, какое оно – это Грушино? Может, там до сих пор Соловей-Разбойник свищет с дуба или Горыныч рыщет? А Илья Муромец-то, возможно, еще не истребил ни самого Соловья, ни все его семя. Вы ведаете, кстати, что сие означает «истребить семя»? А? Поди и не ведаете. Означает сие, что надобно детей вырезать. Вот вам и сказки. «Уйди, бабушка, а то зашибу и на косточках твоих покатаюсь!» – вы знаете, кто это сказал? Нет? Это в одной сказочке сказал бабушке-ведунье Иван-царевич. Так что зашибу и покатаюсь – это совсем и не сказочки. Жизнь это. А вы в Грушино собрались. Вышел за околицу – и в Средневековье вляпался. Огнем жечь и о деле пытать. Поглядим?
– На что? – это сказал, кажется, я.
– На Грушино?
– А можно?
– Отчего-с нельзя-то? В сказках все можно. Это в сказаниях препоны разные.
И сейчас же гаргульи, торчащие из стола, повернули головы и посмотрели на Сказану Толковну.
– Знаю, знаю, – успокоила их она, – но один разочек-то можно. Без заклятья всякого. Без заклятья всякого да без Якова. Одним глазком. Самой интересно, чего уж там.
– Ну, если только глазком… – выдохнул кто-то невидимый.
Хлоп в ладоши – и стена напротив пала, ветер подхватил нас вместе со столом и понес в темноту. Там что-то чавкало, ухало, дребезжало, холодом пахнуло, гарью в рот полезло – лес вокруг был, видимо, да болото горклое, хруст стоял, будто кто в чаще ребра перегрызал, а потом горизонт посветлел – рассвело, показалась деревня – избы заколочены, избы перекошены, на кривых улочках никого, ни одной души.– Чего же нет никого?
– А кого вам надобно? Вы же Грушино хотели. Вот и забирайте. Можно частями, можно полностью. Погост только не забудьте. Другого не имеем, что имеем, тому радуемся. Вас там ждет кто?
– Котовы, – приободрился я. – Я к Котовым собирался.
– А это не те Котовы, что постельничими у Василиса Премудрого служили?
– Постельничими у Василиса?
– Ну да.
– А разве был Василис?
– Был. Его еще Василиском кликали. Лицом дюже пригож был, оттого и в сказках в Василису-то и превратился. Так как? Те ли Котовы?
– Не могу… знать…
– Вот видите? Говорим – в Грушино к Котовым, а там, может, Котовы со времен еще Вещего Олега проживают. Топ – и вы уже перед князем-батюшкой. А он на расправу скор. Представиться не успеете. Так что с желаниями-то аккуратней бы надобно.
– Как же нам теперь быть? – ожил Григорий Гаврилович. Речь к нему в тот же миг вернулась.
– С отделом сказаний надо бы перемолвиться. Где у нас Акулина Тифоновна? А? Акулина Тифоновна, покажись! – Сказана Толковна посмотрела куда-то в сторону.
– Туточки я! – перед нами из окружающего пространства возникла небольшая бабушка. Одета она была в какие-то вериги, пахло от нее серой, а вокруг летал какой-то ветер, если только про ветер можно сказать, что он летает.
– Акулина Тифоновна Верхопрахова – начальник отдела сказаний и верований. Она сейчас свежим взглядом все у нас окинет. Так вы в курсе наших исканий, Акулинушка мил Тифоновна?
– Конечно же в курсе! – в состоянии полного и безостановочного счастья воскликнула старушенция. – Я же все время туточки подслушивала!
– Не сомневаюсь. Не подслушаешь – с мыслями не соберешься. Так то ли нам сейчас привиделось Грушино, не побрезгуйте полюбопытствовать?
– А как скажете, Сказана Толковна. Скажете то, и будет то.
– Знаем мы ваши шашни. Нам тут дело надобно.
– Дело только видится, а как выпашется?
– А как выпашется, так и слюбится.
После того как они обменялись такими словами, бабулечка вдруг погасила улыбочку счастья:
– Ой, глядите, Сказана Толковна.
– Наглядимся еще, Акулина Тифоновна. Дело-то будет? Али как?
Улыбка немедленно вновь расцвела на лице старушенции:
– А если дело, то без гипербореев-то какое может быть дело. По лабиринту бы побродить, так сразу и яснится все.
– Ну поброди, нет удержу!
– Я мигом! – взвизгнула бабушка и сейчас же пропала.
Оторопь, охватившая меня в связи со скоростью ее пропадания, направила мой взгляд вверх – туда, где висел сундук. Мое движение не укрылось от Сказаны Толковны.
– Говорящий, – заметила она.
– Неужели?
– Ужели. И стены у нас говорят, и столы, и заборы. И говорят, и слушают. И услышанное переиначивают, растолмачивают, перетолковывают.
– Для чего же то? – не удержался я от вопроса.
– Все в мире этом есть пригляд. Ничего не пропадет, не сгинет, не сгинет, не порастет быльем, не пойдет окалиной, чертополохом не вскинется. Все имеется. До времени и само времечко-то схоронено. Главное, ключик иметь. С ключом любой сундук отмыкается. Сохраняется все – это главное. Извлекается трудненько, да и больненько. С этим тяготы. А хранить – само хронится. А откроется сердцу беззлобному. Злобное навредит. Чем больше сил дадено, тем больше и спросится. А иначе никак – разорение.
От всего сказанного я только рот открыл – бред какой-то. В этот миг и появилась ниоткуда радостная Акулина Тифоновна, воздух рядом с ней вроде сдвинулся.
– Туточки я! – не могла она не воскликнуть.
– Чем порадуете, Акулина моя Тифоновна? Все ли ладненько у гипербор и ев? Лабиринт не растолкали?
– Не растолкали. И воробушкам есть что клевать.
– А что ворон-то?
– Ворон глаз бережет, да и нам советует.
– Ворон вороненку прошлое покажет, ворон вороненку обо всем расскажет. То ли Грушино нам привиделось?
– И то и не то.
– Как сие выпестовывается?
– Чтоб в то Грушино попасть, надо временем совладать. Иное оно там, стоялое.
– Как же это иное? – вмешался я в разговор. Григорий Гаврилович к этому моменту совсем онемел, потому что уже минут десять как являл собой скалу, о которую в тумане при перелете на юг, на зимовку, разбиваются яйца.
Последняя фраза представилась мне не совсем гладкой, но я взглянул на Григория Гавриловича и подумал оставить ее без исправления.
– Так что же это? – вопросил я снова.
– А то! – усмехнулась Сказана Толковна. – В ногу со временем идут у нас только три города – Москва, Петербург и Пропадино. Они и на картах имеются. А вот во всех остальных времечко-то свое, собственное, особливое. В него еще попасть надо.
– Время-то, – оторопел я в который раз за этот день, – всегда одно и то же!
– Не скажите! – игуменья взглянула с умом. – Вам проводник сказал что? «Ваша станция». Вы вышли, а на часах-то – другое время. И место не то. Не к месту вы, не ко времени.
– И что же теперь?
– Теперь мы отпустим Акулину Тифоновну восвояси, а сами позовем Агату Торфовну из отдела фольклора и поверий всяческих.
Акулина Тифоновна, взвизгнув, пропала, а на ее месте из темноты возникла другая старушка – вся в черном с головы до ног. Строгости ее лика могла позавидовать даже икона Николая Угодника.
Она молча поклонилась игуменье в пояс.
– Агата Торфовна, – вопросила наставница, – вы об наших тут бдениях ежель как наслышаны?
– Мы наслышаны, – поджав губы, ответствовала Агата Торфовна.
– Чем понежите?
Вдруг, ни с того ни с сего, в руках Агаты Торфовны возник посох, она ударила им о землю и запела глухим голосом, пританцовывая да поматываясь: «Что мне темень, если вволю, вволю мнится, что обрушит все мои темницы Грушино мурчанье, Божий гла-ааа-с!»
Она оборвала пение так же внезапно, как и начала, посох из ее рук исчез, а вот пупырышки на моей коже – нет. Пупырышки только множились. И шерсть по всему телу встала дыбом.
Сказана Толковна выслушала свою наперсницу совершенно спокойно.
– Так-то ли? Как вам глянется? – спросила она ее на том самом птичьем языке, который я лично воспринимал как средневековую песню.
– А как глянется, так и торкнется. И как кажется, так и глянется. От тоски-то, печали.
– Чем печалится, лучше дело деловать.
– Как на вечер-то солнце глянется, так и деловать будем.
– Что же Грушино?
– А что Грушино, то порушено. С нашим-то несовпаденьем. Разлад. Можно с воза спихнуть, да волками лес полонится.
– Что же молодцу весьма ласковому?
– Береженье надобно. Смерть в сенях давно топчется.
– Не вспоминай лиха, будет тихо.
– Без лиха не будет тихо.
– Так как же наше Грушино… – перебил я их песни восточных славян.
– Тихо! – вскрикнула Сказана Толковна. – Слово перебивать – судьбы не менять! До конца говорено быть должено.
И я притих, а от Григория Гавриловича и вовсе осталось только редкое мерцание зрачков.
– Грушино было скушано – продолжила Сказана Толковна. Потом она знаком отпустила Агату Торфовну – та немедленно пропала во тьме.
– Надо бы отдел костюма растревожить, – сказала она, задумавшись.
– Костюма? – не удержался я.
– Его самого. Костюм от города до города разнится. Костюм душу сохраняет там, где все давно потеряно. Где у нас начальник отдела костюма Ядвига-швея?
– Здесечки мы! – перед Сказаной Толковной образовалась еще одна бабулечка – вся в каких-то висюльках. У нее был вид потревоженной лисички-сестрички, и быстра она была да порывиста.
– А что, Ядвигушка Бобровна, тот костюм, что мы зрели давеча, не из Грушина ли? – вопросила ее игуменья.
– Знать, с бубенчиками, чтоб чужих примечать?
– Со бубенчиками.
– То из Гнусино. А про Грушино мы и слыхом не слыхивали.
– Так уж и слыхом?
– Нету, нетушки. И помину нет, и обмолву нет. Ни следов и ни звания.
– Мы же видели их тут в один пригляд?
– Тот пригляд, чай, не простенький. Заговоренный. А по заговору тому обещаньице только гляд, не тревоженье.
– Верно. Заговоренный был пригляд.
– Так и наше вам со почтеньицем. Поглядели и ушли с чревом памяти не порушенным да не выскобленным. Молодец-то к нам как не засланный, не с ревизией ли? Больно носятся с торбой писаной. Ежели с пирогами, так уж не с рогами?
Весь этот разговор протекал, точно речка журчала. Если б мне кто сказал, что я услышу такое, никогда бы не поверил. Говорили они так, будто хотели, чтоб услышавшие ничего не поняли. Быстро речь текла. Что ни слово, то и ответ готовый.
– Ой, глядите, Сказана Толковна, – проговорила еще старушка-лисичка, – нюха нюхает да лазутничает, так мне глядится. Как не вынюхал бы в один-то нюх. Может, с виду только ротозейничает. Позовите гаданье-то, не побрезгуйте.
С тем она и пропала – будто и не было вовсе.
– На ваше Грушино, – сказала Сказана Толковна, – осталось одно только гаданье. Тревожить ли гадание?
– Ну, – я обернулся за поддержкой к Григорию Гавриловичу, тот важно кивнул, закрыв при этом глаза, – давайте, – согласился я, – пусть будет и гадание.
– А как скажете! А явись-ка перед нами с разутыми очами краса Помина Поминовна.
Мгновенно нарисовалась еще одна бабушка. Одета она была в одну большую красную шаль с клобуком, а на шали той – всякие украшеньица: тряпочки, узелки, колокольчики.
– Помина Поминовна, – обратилась к ней игуменья, – не заглянете ли нам в Книгу судеб? То ли видится, что представилось? Ой ли ойкнется иль отступится? Как там Марс?
– Марс ко льву в гости просится, Юпитер овцой томится, Плутон – козерогом.
– Можно ли по лицу погадать, по руке или карты раскинутся?
– Можно и по лицу, по руке, можно и карты раскинуть. В – ком нуждание?
После этого Сказана Толковна перевела взгляд ведуньи на меня. Та глянула мельком – будто глазами в глаза вцепилась. Я ощутил внутри, как екнула поджелудочная железа. Екнула и будто слезу пустила. И слеза та опустилась низехонько, призывая к себе мое внимание, а как добилась его, так и вовсе сгинула. Внизу живота стало легко и прохладно.
– Осмотрю все: брови, уши, зубы, нос и губы, – нараспев произнесла Помина Поминовна таким голосом, что дрожание по коже. – Его нос семерым рос, одному достался. Упадет с печи, не найдя свечи. Нос-то не для нюха, да и с виду рюха. Что нюхает, то не ведает. Дедушка не ведает, где внучок обедает. Нос с умом наперегонки бежали, да ум ножку подвернул. Тот нос нам не помеха. Лоб, что лопата, ума не богато. При Фоме пропоем, он и не кинется, а что кинется, то и сгинется. Похожа свинья на быка, только шерсть не така. Пусть идет вперед, где веник живет. Веник молодцем взбрыкнется, вот тогда и поглядим. А пока печаль гонится, сердце хоронится. В радости кудри вьются, а в печали секутся.
Я во всей этой белиберде ничего не понимал, но коже так холодно было, будто кто-то меня в темноте ощупывал. Сказана Толковна слушала очень внимательно. Кажется, она понимала, о чем идет речь.
– …А явись-ка перед нами с разутыми очами краса Помина Поминовна. Мгновенно нарисовалась еще одна бабушка. Одета она была в одну большую красную шаль с клобуком, а на шали той – всякие украшеньица: тряпочки, узелки, колокольчики.
– Что же уши? – напомнила она.
– Уши не слушат, а что слышат, то мимо. На сказанное свое ухо сыщется. У нашего молодца уши часть лица. Не более.
– Губы?
– Губы пропадут – зубам холодно. Губы блином обвисли. Может, карты кинуть?
– Так кидавай, в чем задержка?
Сейчас же раскинулись и карты.
– Дорога, дорога, – бормотала бабушка, – не попал к себе до срока, вот срок-то и схлопнулся.
– Как вернуть?
– Время? Время есть всегда. Туману много, но так и должно. Пустите молодца. Не опасен.
– Полагаешь?
– Ведаю.
В ту же секунду Помина Поминовна попала пропадом, а Сказана Толковна, на которой это пропадание не сказалось никоим образом, устало взглянула на нас.
– Вам в историю надобно, – сказала она, подумав.
– В какую историю? – не понял я.
– В департамент истории, потому что все истории в конце концов оседают там.
– Так нет же у нас никакой истории. В Грушино вот только все никак не попасть.
– Вот там и расскажете о своем Грушине. То-то сердце потешите.
– Сердце? – успел я вымолвить, и в то же мгновение на нас налетели старушки – тени, тени, руки в темноте – и выпихнули за дверь.
Как только дверь захлопнулась, возник ветер, который подхватил нас с Григорием Гавриловичем, потащил по коридору и стих, усталый, оставив у двери с надписью: «Департамент нашей истории», и еще какой-то листок нас догнал и к мундиру Григория Гавриловича тотчас же прилип. То был листок с регистрацией – я в том совершенно был уверен.
– Григорий Гаврилович! – воскликнул я и сам удивился слабости своего голоса. То был писк новорожденной мыши. – Что же это?
– Это? – Григорий Гаврилович, казалось, пребывал все это время в объятиях летаргического сна, лишь механически перебирая ногами. Вся былая лихость его и поучительство куда-то делись. – Это дверь! – закончил он свою мысль, если то, что он только что сказал, почиталась за таковую.
– Дверь! Дверь! – казалось, пробормотали стены.
– Дверь! – проскрипел пол.
– Ды-ве-рь! – провыл потолок.
И тут она открылась, глаз немедленно каким-то непостижимым образом вытянулся, проник в открывшееся пространство, заметив в глубине оного притягательный огонек. Огонек трепетал где-то там, как в пещере, вокруг него что-то возилось, покашливая.
– Ну? – сказало что-то, а быть может, и кто-то. – Чего стоим, не проходим?
И мы прошли. Навстречу нам пошло то, что кашляло. Им оказалось существо неопределенного пола и возраста. Кажется, оно было немного кривовато, но со стороны, той, что вдруг открывалась взору, появлялся его красивейший профиль, который немедленно пропадал, начни оно только передвигаться. Существо было перепоясано шерстяным платком, на голове у него был клобук, колпак или что-то в этом роде, а в руках свеча.
– Вы не знаете, что у нас со светом? – спросило существо. – Вечно ни с того ни с сего исчезает самое нужное. Вот вам и вся история! История, история… Вы ведь за историей сюда явились?
Голос его то приближался, не забывая покашливать, то удалялся и слышался уже где-то в стороне, а потом вдруг возникал сбоку, а потом – с другого боку. В этой темноте его никак нельзя было ухватить, предугадать движение.
– И движения никакого тут нет. Движение им подавай. При чем тут движение-то? Скажите на милость! Приходят! Вваливаются! И сейчас подай им движение! Развитие им подай! Скажите на милость! Движение! Тут такие сквозняки. Я все время простужаюсь. Никого это не волнует. Всем прошлое нужно. Нынешнее никого не интересует.
Мы с Григорием Гавриловичем, обратившимся, по моим наблюдениям, опять в чучело, еще не сказали ни слова, но уже получили в ответ тираду, целое послание, и оно продолжалось:
– Им подай сегодняшнее так, чтоб оно понравилось. А подашь, как оно есть, – ноги не унесешь. Съедят. Эти – съедят обязательно. Всенепременнейше съедят. Гнуснее гнусного, смерднее смердного. Вонь от них стоит такая, что все столетие провоняло. Столетие вперед и столетие назад. Вонь! Вы не согласны? А впрочем, ваше согласие и не требуется.
История не требует ни от кого никакого согласия! И не скрыться! Нет, не скрыться! Все равно наружу вымоет. Река времен.
Мы все шли и шли по этой длиннющей комнате наугад, на ощупь. Шли за огоньком. Огонек при этом нашем движении еще и рассуждал:
– Сумасшедший дом. Я, как только родился, так сейчас же и понял, что я попал в сумасшедший дом. Вокруг одна только тупость. Сначала я пугался, а потом привык. Я понял – от тебя сокрыто все. Показали тебе что-то – радуйся. Чушь – а это только так кажется. Не все видно. Чушь – это на поверхности. История, душа моя, не может подаваться по сто раз на дню. К ней не должны принюхиваться, определяя ее свежесть. Она такая, какая есть. Есть – и слава богу! Радуйтесь. Так нет же! Их не устраивает! Рюрик их не устраивает, Вадим не устраивает! А Сатана вас устраивает? Не встречались еще? Не вели задушевных бесед? А? Дошли наконец.
– До чего дошли? – смог я вставить слово.
– До чего? А вам еще не ведомо, до чего мы дошли? До конца мы дошли. До стола. Это мой кабинет.
В эту минуту огонек свечи остановился и водрузился на стол, и сейчас же свет ударил по глазам, мы зажмурились.
– А вот и свет дали! – сказало существо перед нами.
Мы медленно привыкали к свету. Стояли мы в комнате, все стены которой представляли собой книжные шкафы. И пришли мы сюда по длиннющему коридору, который тоже состоял из таких же шкафов.
– Архивы, – сказало нам существо, заметив, что мы все оглядываем. – Здание архива приглянулось высочайшему уму, так что архивы выбросили к нам. Теперь все мы в одном месте. Назвать вам его настоящее название? А? Нет? Уверены? Никто не хочет настоящего названия! Что ты поделаешь! А ну как кому-то понадобиться здание семян департамента сельского хозяйства? Куда выбросят семена?
Существо смотрело на нас умненько, хитренько, с улыбочкой.
– Востриков! Достин Достинович! Имя мое такое, – представился старичок. – Родители великие были клоуны. В цирке местном выступали. Не слышали? Востриковы. Как же! Династия. Прекрасные были скоморохи, акробаты и шуты. Вот они и придумали мне имечко. Из клоунов – в историки. Такое бывает. Клоуны могут быть историками, историки – клоунами. А выражение «У меня много разных клоунов» – это выражение начальства об историках. Вас, конечно же, заинтересует наше начальство? Пожалуйста! У нас и перепись имеется.
Он пригласил нас сесть. Мы сели. Григорий Гаврилович на самый краешек стула. Это не укрылось от Достина Достиновича.
– Что же вы? – обратился он к Григорию Гавриловичу. – Освободите крестец! Позвольте растечься себе! Это важно! Историю нельзя воспринимать на краешке! Историю надо впитывать, расслабив себе анналы! Слышали про анналы? Вот послушайте!
Он открыл какую-то книжицу и надел на нос очки.
– «В году одна тысяча семьсот седьмом от рождества X. градоначальник Амосов Амовей Эммануилович, будучи перед назначением бухгалтером в Италии, начавший было производство отечественных макарон, был бит кнутом за растрату, клеймен и сослан с вырыванием ноздрей. А все его имущество, найденное в городе Лондоне, востребовали в Отечество любезное, где и поделили по количеству душ, по полушке на каждую».Мы все шли и шли по этой длиннющей комнате наугад, на ощупь. Шли за огоньком.
Или вот: «В году одна тысяча семьсот двадцатом градоначальник Бупий Там Тарарамыч, торговавший оружием, продавший неверным псам пищали англицкие, четырнадцатого века от роду, сохраненные как памяти завет, был растерзан патриотами на двадцать равных частей». А вот это мне тоже нравится: «Тулин Атон Атонович, градоначальник от Бога, радетель и гроза, был переломан пополам бурей, унесен на побережье, где с песком прибрежным смешан до неразделения частей». Или же: «Как нам не ныть и печалится, когда градостроитель и краса Отчизны, Тантонов Тандым Тандымович был пойман за руку на базаре при попытке всучить поддельные динары, а что был брошен проезжавшим мимо Менщиковым Александром Даниловичем в яму, откуда, как сторонник классического образования, он был вынут в день открытия университета в здании Двенадцати коллегий». Хотите еще истории? Пожалуйте: «Назначен был впопыхах. Возведен на безрыбье. Продержался три дня, в которые без сна крал». Желаете продолжения? «„Псы! Лиходеи! Христопродавцы взяли силу в моем храме!" – Так было писано на могильной плите Дородия Домницкого, кавалера и прочая, наук покровителя, задавленного по приказу Петра Великого из-за административной ошибки счисления», – до сих пор не понимаю что это такое. Или: «Воеводой был весьма несдержан, пел и рисовал картины. В свободное же время, пробираясь в церковный хор, щупал девок». А вот как вам это понравится: «Для обретения воинской славы постановил срыть имеемые укрепления, поскольку оные для славы одна помеха».
Достин Достинович бережно закрыл книжицу и посмотрел на нас весело:
– В картишки перекинемся? Или же вам фокус какой показать? Чаю?
Немедленно появился на столе чайник, чашки, и он уже разливал чай.
– Чай – первейшее дело. Как же можно без чая об истории-то говорить? Чай и кухня – самое место для истории Отечества и для душевных разговоров. Мы говорим «кухня», а подразумеваем историю, мы говорим «история», а имеем в виду кухню.
– А вы тут один? – не удержался я.
– Один. А как же! Кто вам еще надобен? Истории не нужна кумпания. Тут, правда, числится на работе множество разного люда. К примеру, начальником архива назначен сын… – и тут он бросил взгляд на напрягшегося было Григория Гавриловича, – …сын одного нашего уважаемого господина. Так он вроде болеет у нас. Все время. А архив – по стенам лежит. А вы к нам за какой надобностью?
– Я… – начал я было.
– Знаю, знаю, – усмехнулся Достин Достинович, – Уже знаю. Потерялись? Не там сошли?
– Откуда…
– Так ведь это ж все знают. Вы не думайте, что они попрятались. Они бдят. Следят то есть. У нас в городе все за всем следят. Мало ли что? Вот сошел человек на станции. А кто он, почему сошел, куда ехал, почему не доехал? И что же он все время про Грушино-то говорит, твердит и долдонит? А ехал он из Москвы. Ехал из Москвы, а попал в Пропадино? Зачем? Ах да, он же не там сошел, ну конечно. Вы часто видите человека, который сошел не на той станции? У вас каждый день кто-то не там сходит?
Вся манера разговора и хитрый взгляд Достин Достиновича наводили меня на мысль, что я где-то все это уже слышал. Вернее, кто-то со мной так уже говорил. И тут меня осенило! Ну конечно! Археолог!
– Гародий Дожевич? Вспомнили? Как не вспомнить. Археология да история – это ж сестры родные. Одна другой питается. А как не выглядеть потом тем, чем ты питаешься? Конечно, мы похожи. Я вам еще почитаю нашей истории, а вы послушайте, может, и придет что на ум. Может, покажется. Вот: «Голштинский выкормыш был сменен за невежество». Видите? Когда-то за невежество тут снимали с должности. Вот еще: «Был найдет в собственной постели ужаленным». Правда, история умалчивает о том, кем он был ужален, за какое место и был ли он при этом в исподнем. То есть тогда, да и теперь, наверное, это большого значения не имело. Или вот: «Уныв духом, сделался певцом». У нас и скоморохи были, и коверные. «При весьма значительном уме славился своим косноязычием. Бывал бит. Спалил тридцать деревень. Насадил всюду березы без корней. Умер, когда горели торфяники». А вот еще: «Обзавелся собственной конституцией, которую блюл» и «Умер от натуги, пытаясь постичь разом все указания свыше» или «Вмещал в себя только очень короткие инструкции». А вот вам: «Охоч был до женского пола. Окружал себя оным полом и пополнял население». Или: «Добывал камень, умел обольстить». Вся-то и запись осталась, что камень добывал, но обольстить не забывал. Видите? Все уже было. Вас еще к экстрасенсам не посылали?
– Только к гадалкам, – успел вымолвить я.
– Обязательно пошлют к экстрасенсам, – сейчас же снова заговорил Достин Достинович, – Без этого никак. Сходит на станции человек и начинает искать Грушино – обязательно пошлют к экстрасенсам. Они теперь всякое преступление раскрывают.
– Какой же я преступник? – удивился я.
– А это у нас только суд решает. В суд вас еще не посылали? А? Послали, но вы еще до него не дошли? Вот суд и решит. Порядок такой. Сперва экстрасенсы, потом – суд. Суд, как явление культуры. В сущности, суд – это и есть культура. Вас не удивило то обстоятельство, что вас не сводили еще в департамент культуры? А есть еще отделы чтения, декламации, кройки и шитья. А потом напишут: «Он не мог без слез смотреть на кормящихся кур». И это станет вашей главной характеристикой. Или вот отдел кулинарии. Отдел яств. Как же вас туда не отправили? Ведь это все тоже культура. Все, что происходит вокруг, – культура. И она требует денег, средств.
– Не понимаю… – начал было я.
– А что вы не понимаете? – Достин Достинович глядел на меня изучающее. – Вот так постепенно мы и доберемся до самого главного. Ради чего все это здесь существует, страдает, живет, плодится, размножается? А? Как полагаете?
– Ради чего?
– Ради денег. Приехал человек из Москвы в Пропадино и не знает, что все движется ради денег? Полноте! Из Москвы ли вы? И зачем человеку из Москвы ехать в какое-то Грушино? Ах ну да! Он же к Котовым собирался! Батюшки светы! Бросил все в Москве, чтобы только увидеть провинцию. И Котовых – это главное. Без них никак. Без них и дух не дух, а так – томление. Словом, «путал инструкцию с конституцией». Видели, знаем. Являлись уже нам опасные мечтатели. А мечтатели – они же всегда опасны. Деньги, деньги! Проклятие и прогресс. Вот дадут нам денег, а их и не хватит. Не хватает. Всегда не хватает. И что делать? Как что делать! Придумывать, вспоминать. На одну только букву «г» столько можно всего вспомнить: Гнусино, Гоблино, Грязево. Это же список. Список населенных пунктов. А там люди. Они заботы требуют. Забота – это деньги. Понятно?
Я замотал головой:
– Пока не очень.– Вы глядите, – историк даже помолодел. – Ему непонятно! Ему про деньги говоришь, а он и понять не может. Мы тут заботой заняты. Чуете? Обеспокоены мы. Местным населением. И сколько вокруг деревень да местных пунктов призрения! Только на одну букву «г»! Подумайте! А если же взять другие буквы? Другие буквы алфавита. Это ж сколько народу можно нарисовать!
– Нарисовать?
– Конечно. Вот мы с вами разговариваем, а народ-то не стоит на месте. Он увеличивается. А на карте ничего нет.
– Нет ничего… – повторял я за ним, не совсем понимая, куда он клонит.
– Да что ж вы такой непонятливый? Иль прикидываетесь? Берете карту и рисуете на ней деревни. Их нет и в помине, но они когда-то тут были. Исторически. И карты сохранились. Старые. По ним деревни есть. А на самом деле?
– А на самом деле?
– Да нет же, конечно! Нет деревень вместе с жителями. Их нет, а мы их сохраняем. Что для этого нужно?
– Что нужно?
– Чтоб была история с археологией. А еще что нужно?
– Что нужно?
– Нужны различные департаменты культуры: департамент быта, песен, плясок, сказок, сказаний. Департамент путей – надо же проложить пути.
– В деревни…
– Конечно.
– А их нет…
– Но на бумаге-то они есть. Уразумели?
– И что теперь?
– И теперь налаживается жизнь. Ты только деньги получаешь и тратишь их.
Достин Достинович весело рассмеялся.
– А вам, батенька, – заметил он с удовольствием, поправив свои очки, – все это можно рассказывать по одной простой причине.
– По какой причине? – промямлил я.
– По причине того, что не опасны вы, – молвил мой собеседник, обкусывая дужку очков.
– А вот начальство, – Достин Достинович кивнул на давно окаменевшего Григория Гавриловича, – в это не верит. Потому и приставило вам провожатого – Григория Гавриловича Бородавку, потомственного городового, стража и грозу нашего города. Но только приставило оно к вам его напрасно. Но его можно понять.
– Начальство?
– Конечно! На станции сходит человек и ищет Грушино! – Достин Достинович зачем-то облизнул свои губы. – А Грушино – оно ж на букву «г»! А на эту самую букву, не говоря уже обо всем остальном алфавите, столько всяких названий! Деревень! Получается, что вы не напрасно тут заблудились? Получается, что вы соглядатай, учетчик.
– Ревизор!
– Ревизор! – Достин Достинович тоненько рассмеялся, счастливый. – Вот именно! Вот видите, батенька, слово-то это вы сами сказали. Не я. Обмолвились. Оговорились. А человек – он же весь в оговорках. На уме одно, на языке – другое. А смутишь ум, и язык развяжется. А вот сопроводитель-то ваш, Григорий свет Гаврилович, давно ли онемел? Небось раньше-то мысли свои на каждом шагу являл, учительствовал, а тут замолчал. К чему бы это?
– И к чему?
Достин Достинович шикнул, оглянулся вокруг, сделал мне знак придвинуть ухо, а когда я придвинул, наклонился сам через стол, растаращил глаза и громко зашептал в ухо:
– Опасается он. Думает, что не тот вы, кого вы здесь представляете. Оттого и смущен.
Григорий Гаврилович неприятно заерзал.
– А я вам и науку могу показать, – не унимался Достин Достинович.
– Какую науку?
– Обыкновенную. Академию наших наук в Пропадино.
С этими словами он встал, открыл дверцы стенного шкафа и сделал мне знак, мол, подходи. За дверцами было пыльное стекло. Достин Достинович провел по нему рукой, и оказалось, что это не просто стекло, а окно в соседнее помещение, где сидели, ходили, вставали и снова садились за столы озабоченные люди.
– Цвет нашей науки! – порадовался Достин Достинович, отчего лицо его расцвело. – Ишь как старается.
– Науки?
– Конечно. Физика, астрономия, астрофизика, теплотехника, лазеры и еще черт знает что у них там – наше с вами будущее. Нобелевские лауреаты. Они давно уже все свои открытия понаделали и под стол себе сложили.
– Что ж они у вас в пыли?
– Наука? А в чем же ей еще быть, как не в пыли? Они же, как клопы ковровые, питаются тем, что на ковер упало. А у нас и кино имеется.
– Кино?
Тут Достин Достинович подошел к другому шкафу и просто в него постучал:
– Эй! Ки-но!
– Чего надо? – послышалось из-за двери.
– Патриотизму хочу.
– А деньги есть?
– Найдутся.
– Как найдутся, так и снимем.
– Вот видите? – обратился Достин Достинович ко мне. – Все же упирается в деньги. Есть деньги – есть патриотизм, а нет денег – чего ж вы от патриотизма хотите? А вот тут у нас глава департамента всей культуры.
С этими словами Достин Достинович нажал на особую кнопку в стене. Стена отъехала в сторону, и перед нами из образовавшегося отверстия выехала на тележке какая-то женщина. Женщина держала в руках коробку с огромным тортом, который она жадно ела. – Видите? Ест! – с удовольствием отметил Достин Достинович.
Я онемел, а Достин Достинович снова начал кнопку, и женщина вместе с тортом и тележкой уехала назад в стену, после чего стена встала на свое место.
– А чего ж она ест? – не удержался я от вопроса.
– Не в своем уме, вот и ест, – сказал мне этот странный старичок.
– Как же так возможно?
– А что вас смущает?
– Выжившая из ума заведует всей культурой?
– А как может человек в своем уме заведовать всей культурой? Вы об этом не подумали? Вот нашли ее. Еле уломали. Кабы не свихнулась загодя, так и не согласилась бы. А тут всего-то расходов, что один в день торт.
Я, признаться, не знал, что и сказать.
– История, – между тем продолжал Достин Достинович, – это такая область человеческого ума, мысли, знания, которая более всего подвержена приспособлению, конформизму. Это вам не археология. Это в археологии не покрутишь хвостом. А в истории можно. Тут важно на все случаи жизни иметь взгляд. А лучше – несколько взглядов. Прямо противоположных. Пришло время – и явил взгляд. Не пришло – не явил, но он у тебя есть, единственный, верный. На всякий случай.
– Какой же он единственный и верный, если он – чего изволите? – не удержался я.Достин Достинович взглянул на меня умненько, улыбнулся и сказал: – А оттого-с он, молодой человек, единственный и верный, что иначе вы его не продадите. История – это то, что на продажу. Тут все должно быть первый сорт. Лежалый товар не купят. Купят новое и задорное. А вы знаете, кто это все придумал?
– Что придумал?
– Кто придумал, как нам деньги получать? А?
– Ну и кто же это все придумал, интересно узнать?
– Я. Ваш покорный слуга. Перепись, перепись – что в ней толку? А вот возроди былые деревни – вот и появился толк. И заметьте, все жители в доле. Тут уж никто не выдаст. Все получают свой небольшой, но очень вкусный кусочек, и все довольны. Мы построили общество, в котором все в доле и все довольны. Вот извольте послушать.
Достин Достинович опять раскрыл книгу:
– «Жители в порыве восторга вспоминали свои вольности», или: «Руководимые не столько разумом, сколько движением испуганного сердца», или: «Космий Горбатович сжег гимназию, сам питался лягушками, признавая их за единственно правильную пищу». Видите? Люди писали все это от недовольства властью. А пишут ли они так теперь? Нет. Наступила-таки эра просвещенного консерватизма. А почему она наступила? А потому, что мы получаем деньги на несуществующие населенные пункты. Вот для чего нужен, очень нам нужен исторический переучет населения! Население от него увеличивается, и, соответственно, растут наши расходы. Растут расходы – растут и приходы. История, таким образом, становится приходом…
– Достин Достинович, – вдруг сказал я, – а вы не боитесь мне все это рассказывать?
Тот в который раз усмехнулся:
– Не боюсь. Я же вам уже говорил. Вы же не ревизор. Отнюдь. Это я понял сразу же, как только увидел вас. Вы заблудились. А заблудших лучше всего выводят на свет денежки. То ли те денежки, что обещаны, то ли те, что возможно тут потерять.
– Как это потерять? – спросил я с некоторой неуверенностью в голосе.
– А так. Вас же еще у нас не судили?
– Не судили.
– Так осудят. В суд вас обязательно поволокут.
– Как это – поволокут?
– Волоком, батенька, волоком, ежели понадобиться. И суд во всем разберется. Даже в том, что на первый взгляд очевидно. Хотя, я полагаю, очевидное доказывать в суде сложнее всего. Так мне все это видится. Обязательно будут судить. Непременно будут.
– А за что ж меня судить?
– «За что», мил человек, не судят. Судят тогда, когда не за что судить. Не убил, не украл – в суд.
– А убил и украл?
– А вот с этими случаями гораздо сложнее. Это годами судится. А в вашем случае – полчаса. Полчаса – и вы уже осужденный. Это нам тьфу. Да вы не расстраивайтесь. Все наладится. А хотите, я вам еще почитаю?
Не дожидаясь моего согласия, Достин Достинович поправил очки, и продолжил чтение.
– «Действительный тайный советник Турмалинов, летающий по ночам во сне, однажды пропал. Утром был обнаружен в саду, дрожа кожей», или: «Вахмистров Тоний Тамбулович был охоч до зрелищ. На очередном был растерзан собственными собаками», и: «Он всегда порол себя сам». «Сосний Гамбитович был сослан, бит кнутом, опять сослан и опять бит. Вернули с дороги, назначили с повышением. Проворовался в дым. Сослали с вырыванием ноздрей. Вернули и назначили главным казначеем государства, а также и Верховным судьей. Умер от обжорства с вывернутыми руками. По свидетельству медиков, таковое положение рук бывает, ежели человек к чему-либо в последний свой миг очень тянется».
Вот оно – тянется. Тянется-потянется. Ведь отчего страдали ранее? От воровства. А отчего страдают ныне? От недостатка населения. Нарисовал население – и нет обычного воровства.
– Есть необычное, – не удержался я.
Достин Достинович снял очки и задумчиво на меня посмотрел:
– А вы не так глупы, юноша, не так глупы. И вполне возможно, что начальство опасается вас не зря. Но не верю я в таких вот посланцев. Незачем. Легче денег дать – и с глаз долой. И каждый занят своим делом. Ведь чуть затор, так и первый вопрос: сколько вам надо денег, а тут и вопросов никаких нет. Так чего ж ворошить? Или жизнь не мила? Всех же все устраивает. И Пропадино не просит более того, что может съесть. А начни разбираться да все тут менять – глядишь, и дороже встанет.
– Так вы, Достин Достинович, с таким подходом в золоте должны бы купаться, – не утерпел я.
– Вовсе нет, душа моя, – улыбнулся Достин Достинович, – вовсе нет. Если б я купался, то это было б от глупости. Я же, как мне кажется, из ума пока не выжил. История учит сдержанности, компромиссу, умеренности. Мне всего лишь и надо, чтоб она была, история наша.
– Во множестве вариантов, – вставил я.
– Совершенно справедливо, друг мой, совершенно справедливо. Конечно. Именно. Во множестве. Вдумайтесь: самодержавие, православие, народность. А под народностью понимается любовь. К начальству, разумеется. К попам еще не ходили? Нет? Сходите как-нибудь. Они первыми мои старания поддержали. Далеко не глупы у нас попы. Далеко не глупы. А и с чего бы им глупыми быть, скажите на милость? Подвижники и святые в земле давно, кто тлеет, кто не тлеет, кого достали, и он теперь миррой сочится – остальным остается только умнеть да языки иностранные штудировать. На всякий случай. Случай – он же обязательно всяким будет. Случай случается. Справедливо и встречное предложение: случается только случай. Однако вам пора.
– Куда пора? – спросил я.
Достин Достинович посмотрел на меня с теплотой и участием:
– В суд, мил человек, в суд! Как выйдете – справа по коридору. Да Григорий Гаврилович все знает. Доведет.
В то же мгновение мы оказались за дверью. Я поймал себя на мысли, что совершенно не заметил, как мы с Григорием Гавриловичем здесь оказались. То ли выкатились, то ли вышиблись. Спутник мой при этом держал в руке очередную нашу регистрацию и смотрел вполне осознанно. Запахло томностью или я даже не знаю чем, но чем-то, что я бы назвал томностью, и сейчас же на нас налетели фурии, гарпии, словом, кто-то нас подхватил – проклятая темнота общественных коридоров – и поволок.
А потом нас впихнули в залу – огромную, со сводчатыми потолками, обещающими скорбь и дым Отечества.
– Войдите! – сказал кто-то в глубине. – Ближе! Ближе!
Мы подошли ближе, и тут я наткнулся на глаза – они смотрели прямо в меня, прямо в душу, забирались вовнутрь, раскладывали там все по косточкам.
– Ну, как там? – спросил кто-то со стороны.
– Пока смотрю, – ответили глаза.
А потом глаза приблизились, выплыли из темноты, и я увидел женщину в платочке и в темных развевающихся одеждах до пола. Она словно принюхивалась.
– Ничего на нем нет, – сказала женщина, перестав меня нюхать.
– Вот и славно, – отозвалась темнота. – Нет – и судить можно.
– А раз нет ничего, так и суд – самое время.
– Милое дело, милое дело, – пролепетал кто-то.
– Встать! Суд идет! – взвизгнул уже кто-то другой, и сейчас же зажегся свет.
Мы с Григорием Гавриловичем даже зажмурились. Перед нами воздвигался огромнейший стол. За столом на стульях с высоченными спинками сидели три старика в черных мантиях. Полоток залы уходил далеко вверх, заканчиваясь сводами, как в католическом храме. По стенам висели скорбные портреты государственных деятелей, из которых я узнал только Безбородко Александра Андреевича и Нессельроде Карпа Васильевича. Остальные напоминали Кощеев Бессмертных во множестве вариантов. Незамедлительно на ум пришла святая инквизиция.
– Сторона обвинения? – спросил старик, сидящий в середине.
– Я! – к моему глубокому удивлению, воскликнул Григорий Гаврилович.
– Представьтесь! – сказал председательствующий скрипучим голосом.
– Здешний городовой, ваша честь, Бородавка Григорий Гаврилович.
– Очень хорошо! – прожевал старик. – Сторона защиты?
– Это снова я! – отозвался Григорий Гаврилович, чем совершенно не удивил старика.
– Защита сегодня дружит с обвинением, – обратился он с улыбкой к своим соседям, те одобрительно хмыкнули. Старик посуровел.
– Представьтесь! – снова вопросил он.
– Бородавка Григорий Гаврилович, здешний городовой, – снова представился мой сопровождающий.
– На чем основывает свои подозрения обвинение? – спросил председательствующий.
– На интуиции. Чую, ваша честь! Чую всеми своими чувствилищами.
– Чуете чувствилищами? Гм! Наверное, так можно обмолвиться. Это хорошо. Обвинение должно чуять. А на чем основывает свои доводы защита?
– На христианском участии, – не растерялся Григорий Гаврилович.
– На участии? Ну что ж, защите не возбраняется участвовать. Участие, участие, а закончится все участью. А нет ли на нем смертоубийства?
– Нет пока, ваша честь! – отозвался Григорий Гаврилович.
– Вы сейчас как обвинение или как защита выступаете? – строго с него спросилось.
– Как оба!
– Оба? Удивительное единодушие защиты и обвинения. Особенно меня устраивает оговорка «пока». То есть в любой момент…
– Найдем неопознанный труп. Третьего дня квартальный преставился, так его до сих пор невозможно опознать. Вот и будет неопознанный.
– Это очень хорошо. За трупами дело не станет. А что у нас с умыслом? Есть ли умысел?
– Похоже, нет, ваша честь!
– Это вы опять как защита или же как обвинение тут нам представление имеете?
– Как защита, ваша честь!
– А что же нам на это скажет наше обвинение?
– Обвинение считает, что умысел всегда имеется, только он не всякий раз бывает разгадан, – нашелся мой обвинитель.
– И какая же наша при сем задача? – допытывался судья.
– Разгадать умысел!
– Совершенно с вами согласен! – старик в середине обратил свои взоры к соседям направо и налево, и они ему важно кивнули. – Итак, умысел есть, но пока он не разгадан. Я полагаю, что позиция обвинения в этом месте особенно крепка. Лет на пятнадцать потянет, хотя и «пожизненное» исключать никак нельзя.
– Послушайте! – не выдержал я. – Что ж это творится? Я в сумасшедшем доме? Ваша честь, или как вас там, я же сошел не на той станции!!! Всего лишь!!!
– Неуважение к суду! – возвестил сейчас же старший из судей. – Пятнадцать суток ареста!
– Я хотел только…
– Тридцать суток ареста!
– Я…
– Сорок пять суток ареста!
Я решил за лучшее помолчать – так и до года можно дойти.
– Вам, – между тем продолжил старик, – милостивый государь, слова не давали. Будет спрошено – ответите. Защита!
– Я! – отозвался Григорий Гаврилович.
– Обвинение считает, что умысел всегда имеется, только он не всякий раз бывает разгадан, – нашелся мой обвинитель.
– Почему ваш подзащитный не подготовлен к ведению суда?
– Христос… – начал было Григорий Гаврилович свою речь в качестве моего защитника, но его тут же прервали:
– При чем тут Христос?
– Христианское участие… – не сдавался Григорий Гаврилович.
– При чем тут участие? Он помолчать может? Он может не мешать ведению суда?
– Может.
– Я напоминаю об этом в первый и последний раз. Что вы можете сказать о сроках заключения в случае обнаружения умысла? Пятнадцать или же пожизненное?
– Я считаю, что пожизненное заключение – это то, что нужно и даже необходимо.
– Вы это говорите как защитник?
– Как защитник.
– А что нам скажет обвинение?
– А обвинение попросит два пожизненных срока, из которых первый поглотит второй.
– Ах вот оно что? То есть дело за малым – надо найти-таки умысел. Есть ли у обвинения на сей счет какие-либо соображения?
– Есть! Ваша честь, он прибыл из Москвы.
– Вы считаете, что покидание Москвы возможно только при наличии преступного умысла? Или же уже само покидание столицы и есть и умысел, и само преступление?
– Нет, ваша честь, но он выехал из Москвы, достигнув провинции.
– Посещение провинции вы полагаете преступлением?
– Ваша честь, посещение провинции я считаю предлогом, скрывающим сам умысел.
– Так в чем же он, этот самый предлог и умысел, на ваш взгляд, состоит?
– Он состоит в том, что под предлогом посещения провинции обвиняемый прибыл к нам с целью наблюдения, сбора информации.
– Сбора информации о чем?
– О нашем естестве. О нашей жизни, о быте.
– Наш быт вам кажется чем-то секретным, сохранение которого в тайне считается делом государственной важности?
– Я полагаю, что обвиняемый собирал информацию тайно.
– А если б он собирал информацию явно, то и умысла бы не было?
– Умысел был бы, но в этом случае он был бы защищен предписанием.
– То есть наличие предписания, задания, посыла служит оправданием для умысла?
– В этом случае, ваша честь, умысел превращается в волю вышестоящего руководства.
– Правильно ли я вас понял, что любой умысел, санкционированный вышестоящим руководством, является не преступлением, а благодеянием?
– Совершенно верно, ваша честь.
– Ну что ж, в этом, по крайней мере, есть своя логика. Итак, умысел – тайный сбор информации. Чем обвинение подтвердит это свое заявление?
– Вот! – и с этими словами Григорий Гаврилович, к моему немалому удивлению, сделал вперед несколько деревянных шагов и положил на стол перед судьей кучу моих «регистрации».
– Ну, – председательствующий внимательно с ними ознакомился, – и что с того-с? Это принятая у нас норма – регистрировать всех прибывших и отмечать их перемещение. В чем тут умысел и тайный сбор?
– Извольте видеть, кого он посещал.
– Он посещал того, к кому его вели, насколько я все это понял. Вы вели – он посещал. Где соглядатайство?
– В том и весь смысл, ваша честь, что умелыми действиями вашего покорного слуги деятельность обвиняемого была направлена по предсказуемому следу и не принесла большого урона государственному укладу.
– Ах вот оно что! Ну, с этим вас можно поздравить. Действительно, если рассматривать дело с этой стороны, то вовремя пресечь – это и есть наше главное предназначение. И все-таки хотелось бы знать – теоретически, разумеется, – к чему же, собственно, стремился обвиняемый, так ловко направленный вами по ложному следу?
– Он стремился в Грушино!
– Грушино? Надо же! У нас есть это место?
– И да и нет, ваша честь!
– Что сие означает?
– Место отыскалось только на старинных картах как временно приданное нашему району, но после – исключенное из него.
– Ах тут мы еще и имеем поддельные карты? Быть может, там отыщутся и искаженные термины?
– Термины?
– Именно. Нет опасней преступления, чем искажение терминов. Например, вы говорите «вода», а в самом-то деле имеете в виду смесь воды с золотом, а потом вы продаете воду под видом воды, а на самом-то деле продаете золото, называя его водой, что приводит к неуплате налогов с золота и уплате их только с воды. Я понятно объяснил?
– Все ясно, ваша честь, но до терминов мы не добрались.
– Можно ли говорить о том, что вы были в опасной близости от них?
– Не думаю, ваша честь.
– А о чем вы думаете? О том, что посещение Грушина есть преступление?
– Нет, но преступление есть под видом посещения Грушина…
– Тут вы повторяетесь, я полагаю, заговариваетесь, а надо жестче, четче: умысел – и точка!
– То есть…
– Я полагаю, что умысел доказан. Предлагаю обсудить такую меру пресечения, как пожизненное заключение, а то мы тут до скончания века будем рядить – было или же не было.
– Совершенно справедливо, ваша честь!
– Итак, было, установлено, пресечено. Мера пресечения – пожизненное заключение под стражу. Защита?
– Защита согласна, ваша честь.
– Последнее слово предоставляется обвиняемому.
И тут до меня доходит, что обвиняемый – это же я! Весь этот, с позволения сказать, суд, я продержался в каком-то небывалом оцепенении и даже в отупении, и теперь выходило так, что мне предоставлялось последнее слово.
– Я даже не знаю, что и сказать… – выдавил я из себя, удивившись вырвавшимся звукам.
– Ну скажите что-нибудь, не сидеть же нам всем тут вечно! – председательствующий и судьи уставились на меня. – Чем быстрее вы сообразите, тем быстрее мы отправимся на совещание для вынесения приговора.
– Мне кажется, что вы совершаете ошибку, – выдохнул я, сердце мое колотилось, пот отовсюду лил.
В этот самый момент двери того помещения, где все это и происходило, широко распахнулись, и в них вошел человек.
– Постойте! – воскликнул он прямо с порога. – Что тут происходит? Что тут творится?
Я немедленно заметил, во что он был одет. Видите ли, я находился в таком полуобморочном состоянии, что почему-то замечал всякую ерунду. На нем был старинный мундир, не знаю, какого полка, вышитый золотом. Все присутствующие отнеслись и к его появлению, и к тому, что он сказал после, с большим почтением.
– Здесь, Ваше Превосходительство, происходит суд – творится независимое судебное производство, коим впоследствии обвиняемый превратится в осужденного, – возвестил ему председательствующий.
– Вы, что с ума все посходили? – воскликнул вновь прибывший голосом старушки-проценщицы.
– Но вы же сами, Ваше Превосходительство… – начал было председатель суда, но ему не дали докончить.
– Вы сошли все с ума! – прибывший был вне себя от ярости. – Господи! Заставь дурака… Вы вконец все обезумели? Я едва успел! Не вмешайся я… трудно даже представить, что бы тут произошло.
– Ну почему же трудно себе даже представить… – начал было председательствующий, но его прервали.
– Молчите!!! – Его Превосходительство (целовать его в плечо некому) просто уже даже вопил. – Молчите!!!
– Но вы же не знаете… – не сдавался председатель.
– Все я знаю! В кои веки к нам из самой Москвы приезжает человек по совершенно невинному поводу – посетить какое-то совершенно ничтожное место…
– Грушино, – вставил один из судей.
– Вот именно! Грушино! Ну сошел человек не на той станции, ну и что? Господи, боже ж ты мой! Ну и что, я вас спрашиваю!!!
– Так было же предписание… – ожил Григорий Гаврилович.
– Вот вы мне еще чего-нибудь вспомните! – яростно зыркнул на него тот, в золоте. – На какой стадии находится теперь судопроизводство?
– На стадии вынесения приговора, – судья смотрел строго.
– Вот и выносите его.
– Но мы же должны удалиться для совещания.
– Ничего, – злорадно заметил Его Превосходительство, – выносите его здесь, а я послушаю.
– Ну что ж! – председательствующий обратил свой взор направо – там он получил кивок, и налево – там он получил еще один кивок. – Вердикт нашего суда: он не виновен и должен быть освобожден в зале суда.
– Ах! – Его Превосходительство немедленно расцвел, подхватил меня, совершенно оторопелого, под ручку и чуть ли не вынес на собственных руках меня из зала.
– Забудьте о них! – сказал он мне сразу же за дверью сладчайшим голосом, растягивая тонкие губы в лучезарнейшей улыбке. – Да! – с жаром произнес он тут же. – Я же вам до сих пор не представился! Гнобий Гонимович Забодай-Шуйский, глава аппарата Его Высокопревосходительства. А вас как звать-величать?
– Иванов Иван Иванович, – зачем-то сказал я, хотя всю свою жизнь звался Павловым Сергеем Петровичем.
– Ах, Сергей Петрович, Сергей Петрович, гневаетесь вы на нас, понимаю, – Гнобий Гонимович заговорил со значением, опуская очи долу, выбрав интонацию сожалительную. – Но полноте! – он взломал себе руки, сделал телом кульбит (точнее, изгиб какой-то совершенно невероятный). – Полноте! – и тут же, успокоившись, продолжил: – Посудите сами, приезжает человек в наш город и сразу же заявляет, что он сошел не на той станции. Согласитесь, все это выглядит не очень убедительно. Но потом, после, после необходимых проверок, предпринятых в нашем аппарате вашим покорным слугой, выясняется и кто вы и зачем вы здесь.
– И зачем же здесь я, Ваше… – я чуть не сказал «преподобие», но вовремя остановился. Язык все еще плохо мне повиновался, ум, видимо, тоже. И потом, они никак не действовали вместе – то ум, то язык.
Гнобий Гонимович посмотрел на меня томно и в то же время проницательно:
– Вы здесь, конечно же, с единственной, но благороднейшей целью, движимы чувствительным сердцем – посетить Грушино, дабы ощутить ликование и надежды, после чего на пустующем месте возникнут науки и искусства, под наблюдением соответствующим, конечно, и надзиранием. Не удержусь от сравнений: Гераклу подобны вы в своем стремлении очистить наши конюшни.
– Я не совсем вас понимаю… – выдавил наконец из себя я.
– Ну конечно же, – продолжал Гнобий Гонимович, почтительно придерживая меня под локоток и увлекая за собой в бесчисленных коридорах, – в том и состоит отданное вам преимущество, что вы прибыли сюда, можно сказать, во все лопатки, с единственной целью: испытать свою восторженность.
– Восторженность?
– Восторженность от увиденного.
– От увиденного…
– От увиденного.
– От увиденного?!!
– Ну разумеется! Нельзя же не заметить в окружающих самое упорное начальстволюбие, подверженное подчас горчайшим испытаниям, но всякий миг с честью из них выходящее. – Гнобий Гонимович мне подмигнул.– Ну что ж! – председательствующий обратил свой взор направо – там он получил кивок, и налево – там он получил еще один кивок. – Вердикт нашего суда: он не виновен и должен быть освобожден в зале суда.
– Я… – кажется, я подмигнул ему в ответ (я иногда ни с того ни с сего теперь мигаю), после чего он стал серьезен и вымолвил:
– Загадочно же в этом непростом…
– Что загадочно? – не утерпел я, почти вскрикнув.
– Загадочно же в этом непростом деле вот что…
– Простите, что перебиваю, но я вас не совсем понима…
– Понимаю и это ваше «не совсем». Еще бы! Труды наши упорны, но незаметны. И, несмотря на необоримую твердость…
– Необоримую?
– Вот именно.
– Твердость?
– Конечно! С вашего разрешения, я продолжу.
– Но, ну…
– И, несмотря на необоримую твердость, вместе с тем мы позволили себе рассчитывать на некоторую мягкость в отношении предложенного мирораспределения.
И тут я решился. Я почти взвился и взвизгнул, прерывая этот непереводимый для меня речевой поток:
– Гнобий Гонимович! Ваше Сиятельство!
– Превосходительство!
– Конечно, конечно!
– Да!
– Вы уж меня простите, но я ничегошеньки не понимаю из того, что вы изволили тут изложить!!!
Гнобий Гонимович посмотрел на меня исподлобья, испытывающе, чуть наклонив голову вбок. Так смотрит ворона, запоминающая номерной шифр домашнего сейфа.
– Сергей Петрович, вы можете мне совершенно открыться, – взгляд его при этом был полон таинственности, а лучше сказать, тайных знаний, сказано все это было полушепотом, – открыться и, не таясь, поведать о тех мероприятиях, кои вы, – тут он, взявши многозначительную паузу, позволил себе осторожно коснуться моей груди пальцем, давление которого я немедленно ощутил, – пусть даже никаких особенных мероприятий и нет, но, согласитесь, не прибыли же вы в наше Пропадино с целью открытия здесь академии искусств!
– Академии?
– Ну, это я позволил себе любезную прибаутку, коя лучше, нежели чем иные загадочные звуки. Цель-то у вас… – он закатил глаза со значением, пыкнул, сложив губы куриной гузкой, и продолжил после некоторого внимательного рассмотрения меня, наклоняясь с придыханием, – цель-то у вас, разумеется, имеется.
– Цель?
– Да!
И тут мною овладело отчаяние, и меня понесло.
– Цель моя, – заявил я, приняв позу Софокла, то есть позу огорченного, глубоко чувствующего эстета, – цель моя – совершенство мира, очищение его от всяческой скверны. Цель моя – пронять этот прогибающийся мир, не обращаясь к нему затылком, но оборотясь, а лучше сказать, поворотившись к нему ликом своим, тьму смущающим. Пригрозить, но не истребить, а пригрозивши, помиловать и лаской обаять. Натиск и быстрота, снисходительность, но строгость, – я думал, что в конце фразы меня возьмет икота, но обошлось.
Гнобий Гонимович даже личностью просиял.
– Ну наконец-то, слава тебе господи! – заявил он, положа руку на сердце, явно ощущая его стук. – А то ведь совсем вы меня загоняли – и то, и это! И то тебе не это, и это тебе не то! Ну нельзя же так, батенька-то вы мой! К чему все эти изыски? К чему трепет волнения? Если и есть у кумпании вашей ядро, так не разумнее ли было бы его обсудить, сесть рядком да и уладить ладком? Чего ж нелепицу-то плодить? Нельзя ли сразу же рассеять все наши даже самые смелые опасения? Ещежды, сызнова, паки и паки съели попа собаки, да кабы не дьячки, разорвали б на клочки!
– Да, но, – в движениях моих само собой наметилась скорбь, и даже я не знаю отчего, – но…
– Ведь не лиходейства для, – немедленно воспользовался Гнобий Гонимович моим замешательством и подхватил: – а разве что токмо для сладчайшего мироустройства. Так же и мы не нехристи какие, готовы войти в положение и пожертвовать. Ведь какая нами в связи с вашим-то появлением проведена неслыханная деятельность вдруг и вокруг! Все же, включая и Его Высокопревосходительство, не спали, не сидели, не лежали, а только и интересовались: ну что он там, ну как он там?
– Я только хотел сказать, – заметил ему в ответ я, справляясь с собственной позой. Позы разные мне давались с трудом, над каждой приходилось трудиться, – я хотел… (вот эта, например, полусогбенная, была необыкновенно хороша, на мой неискушенный взгляд).
– А вы бы нам подали бы хоть какой намек, – лицо моего собеседника скорчилось, обретя досаду, но тут же вернулось на свое место почти неповрежденным, – дабы разуменье… разуменье охватило нас сей же час. А то все всюду поскакали, подхватывая куски на ветру. Пагубная эта привычка, хотел бы вам сказать, хватать куски-то на ветру.
– Я только, – я попытался сложить руки на груди, но никак не мог найти левую, – только я вот…
– Не скрою… – глаза Гнобия Гонимовича, самая подвижная его часть, вдруг наполнились слезами истинной скорби, а после сразу же и осушились. Напоследок он всхлипнул: – были! были и те, кто кинулся все продавать, описывать и опять продавать, а я и говорил всем: погодите, ведь должно же улечься, не длится волнение более чем три дня, а тут и дня не прошло – так чего же скрестись! Так нет же – гул, треск, гвалт, галдеж, сумятица, перебранки всякие. Там тебе и доносы друг на друга, дабы успеть, а то не открестишься потом.
– Но, – я все пытался справиться с руками, которые, казалось, теперь у меня жили сами по себе, – я…
– Поймите же вы! – он прижал мои беспокойные руки к своей груди, отчего образовалась на том месте вдавленность и даже ямка. – Поймите! Не время нам сквалыжничать. А как прошли первые страхи, так и озарила многих мысль, не успевших приуныть, – а не прибегнуть ли нам к истории, не доискаться ли в ней примеров спасительной простоты, что сама по себе не замена строгости, но успокоение чувств, органов и снова чувств? Ведь не упырь, не оборотень! И нашли. Ведь сказал же Господь: делитесь. И сейчас же изнуренные, только что хоронящиеся всюду зловещие лица украсились лучиком надежды, и души их исполнились благодарности.
– Да, но, собственно… – сказал я и сейчас же позабыл то, с чего начал.
– А Его Высокопревосходительство и вовсе даже заметил мне: «Спешите к нему, друг мой, спешите изо всех ваших сил, ибо не вынесет сердце человеческое такового томления», – и я поспешил.
Честно признаться, до меня не все дошло из сказанного здесь Гнобием Гонимовичем, но кое-что начало уже проглядываться. Во всяком случае, я понял то, что говорить надо загадками, а позы при этом принимать самые величественные. И все это надо делать вплоть до той поры, пока я отсюда не уберусь, а то ведь откроется то, что я жульничаю, и посадят меня немедленно ни за что ни про что лет на сто.
Но видит Бог, я не стал бы прикидываться, если б меня отпустили наконец в Грушино. Последняя мысль настолько меня захватила, что я с нее и начал:
– Но видит Бог! – сказал я, и как только я это сказал, я заметил, что говорить-то мне больше вроде как и не о чем, так что лучше повторить. И я повторил:
– Но видит Бог!
А теперь хорошо бы осмотреться. И я осмотрелся, скосив глаза на Гнобия Гонимовича – тот весь, казалось, превратился в слух, ожидая, что я продолжу свою речь. Он-то ждал, а я-то мучительно подыскивал слова, поскольку я совершенно не знал, о чем бы мне таком еще высказаться.
И тут я вспомнил, что начал я со своей цели. Действительно – а какая у нас цель?
– Цель, – сказал я, представив себя древнеримским Петронием, – цель-то наша…
– Цель наша, – пришел мне на помощь Гнобий Гонимович, – не иначе как благодеяние!
Я важно кивнул, а он, ободренный, продолжил:
– Успокоение душ. Ведь страх, зловещий и безотчетный страх порождает отчаяние ни с чем не сравнимое, и на улицах воцаряются только голодные псы и распущенные нравы.
– Блюдение нравов… – начал было я.
– Блюдение нравов… – повторил за мной тотчас Гнобий Гонимович, навострив уши, как хорошая гончая.
– Блюдение нравов, – вернул я инициативу себе.
– Блюдение нравов… – снова вмешался Гонобий Гонимович с совершенно свежими силами.
– Блюдение нравов, – не отступил я, – почитаю за наипервейшую свою обязанность! – Наконец-то я высказался – фух, ну и работа!
– Истину! Истину изволите говорить! Истину глаголить! – сейчас же откликнулся Гнобий Гонимович. – Ведь что такое нравы, как не сохраненные для нас опыты. Опыты человеческого общения, кои привели к устойчивым связям.
– Но они же и обязали нас мыслить о вечности, – вставил я некую лабуду с умнейшим видом.
– Совершенно справедливо! – горячо поддержал меня Гнобий Гонимович. – Совершенно справедливо! Разрешите! Разрешите!
– Разрешаю, – сказал я, приняв позу Овидия, читающего свои вирши Горацию.
– Разрешите пригласить вас на бал!
– Куда? На что? На бал? Зачем? На какой бал? – мне показалось, что я ослышался.
– Его Высокопревосходительство тотчас дает бал в честь получения необходимых указаний свыше, а я имею честь вас на него пригласить.
– Но…
– Его Высокопревосходительство очень просит не побрезговать.
– Я…
– И осчастливить своим присутствием.
– То есть…
Жизнь научила меня осторожности.
– А он знает, кто я? – я понизил голос до проникновенного писка.
– В точности! – Гнобий Гонимович сиял весь, являя собой торжество целокупности. – В точности! Он-то и заметил, что ежели человек так упорно твердит о Грушине, то дело тут пахнет аудитом самой высокой пробы и должно быть подвергнуто зрелому обсуждению…
– Пробы?
– Так точно-с!
– Зрелому?
– Само собой!
– Аудитом?
– Ни малейших затруднений! Такой важный предмет…
– Ну, если пробы, то…
Гнобий Гонимович сиял теперь даже поверх того прошлого, первого сияния.
– А уж как все будут рады! Как все будут рады! Просто именины сердца, увлажнение глаз и падение Ярила в груди. Форма же изъявления чувств…
– Падение Ярила?
– Его самого!
– В груди?
– Так точно-с! Усерднейше благодарю! Нам сюда, сюда! – и Гнобий Гонимович увлек меня в какую-то комнату – там уже стояли портные. Они мгновенно сняли с меня все мерки и сейчас же обернули материей.
Гнобий Гонимович мне кивал, моргал, всхохакивал от душившей его преданности и поддерживал осторожно, чтоб, не приведи господи…
– Прекрасно! Разительно! Степени воодушевления!
Фрак был готов через пятнадцать минут. К нему – белоснежная рубашка, галстук-бабочка, носки из какого-то немыслимого материала – мягкого, как попка младенца, такого же свойства маечка, трусы, туфли – чистый шеврон, чистый… – по ноге, нигде не жмет, и вообще, все удивительно, удивительно подходит, и зеркало.
– Дайте! Да дайте же зеркало! – вскричал он. Дали и зеркало, и в нем – я, молодой, удивительно свежий.
– Парикмахер! Как же вы? А где же парикмахер?И немедленно был найден парикмахер – постриг, завил, причесал – или сначала причесал, а потом завил – это я уже не уследил, не смог. А потом Гнобий Гонимович – торжественный, гордый, светлый лицом – распахнул передо мной тяжелые резные деревянные двери – меня немедленно залил свет. Сотни, тысячи ламп (экономного расходования энергии) освещали огромнейший зал. Старинный штучный дубовый паркет (размером 400 × 70), на который обычно оплавляются свечи, как сказал бы поэт, был заполнен вальсирующими парами. Мужчины во фраках, дамы – это что-то воздушное, неуловимое, запахи всюду французских духов, юные, нежные девы, руки мягкие, обходительные, кожа тонкая, свежая, не испытанная ветрами, невзгодами и завистью.
Фрукты – в вазах невыразимой роскошности, всюду шампанское, веселье, улыбки, краснеющие щечки, перчаточки – белые, легкие, жемчуга, колье бриллиантовые, брошки, кулоны, опять колье – столько всего. И все это кружит, кружит. Меня немедленно подхватили под руку.
– Ах, ну что же вы, Сергей Петрович, полно вам скрываться!
Как моя рука покинула руку Гнобия Гонимовича, я так и не заметил. Словно бы поток подхватил нас и разнес в разные стороны – он успел мне только улыбнуться и кивнуть, а я уже плыл по этому потоку вместе с очаровательным созданием, улыбающимся мне, – мы танцевали вальс, вокруг летали упоительные запахи. Еще пять минут назад я бы голову отдал на отсечение, утверждая, что я не умею и никогда не танцевал вальс, а тут – я плыл, и все было так легко и прекрасно.
– Прекрасно! Браво! Отлично! Великолепно! – неслось отовсюду.
– Истинно! Истинно! От всего сердца! Ш-шшш!
И музыка. Музыка была божественна. Что-то напоминало Глинку, Шуберта, Шопена и снова Глинку. А потом грянул Малер. Грянул и смолк – возникла полька.
– Как же вы? Что же вы прячетесь! – никак не умолкала моя спутница. – Полно вам нести свой крест. Оставьте его в прихожей. Мы уж все обмочились слезами. А вы добрый, добрый, добрый, и не смейте прикидываться злым. Ах! Это было какое-то вдохновение вас увидеть. Такие испытания никогда без цели не посылаются. Вы – наше испытание. Мы вас будем испытывать. Трепет и волнение милого прикосновения. Вы испытываете трепет? Ах! Я уже испытываю.
В этот момент я снова оказался в объятиях Гонобия Гонимовича. И как только, когда только исчезла из рук моих эта шалунья – ума не приложу. Я так и остался с раскрытыми объятьями, в которые сейчас же и втиснулся Гнобий Гонимович, – мы даже сделали с ним пару кругов от оторопения, после чего он вытащил меня из танцующего круга со словами:
– Вы должны его увидеть!
– Кого?
– Кубышку Крадо Крадовича!
– Но кто это?
– Как? Вы не знаете Кубышку? А разве в Первопрестольной о нем неведомо?
– О нем…
– О нем!
– Кажется…
– Это же наш главнейший финансист! Голова от денег и деньги от головы! А вот, кстати, и он!
Передо мной сейчас же возник местами упитанный, но чаще худощавый мужчина. Нетерпение было написано на его лице. Нетерпение и благость, на носу его помещались очки – словно бы они там были с рождения, на руке – часы с бриллиантами, кои, между прочим, он тихонько прятал. От меня это движение не укрылось.
– Сергей Петрович, дорогой! – воскликнул он, ломая и прижимая руки к груди.
– Я… – вырвалось из меня.
– Нет, я! Как я рад! Как я рад! Нет! Не рад! Я просто счастлив видеть вас. Не помните ли вы меня?
От нежной пахло восхитительными цветами, и свежестью просто обдавало, обдавало и еще раз обдавало, и еще, и еще раз, что ни шаг – то свежесть.
– Я… – вырвалось из меня еще раз с таким отчаянием, будто бы и никогда не вырывалось до того.
– Конечно же, – подхватил сам себя мой собеседник, легонько сжал и тут же отпустил, – скромные служащие вашего департамента могут ли запомнить других верных, но скромных?
– Но…
– Понимаю! – глаза его являли собой живейшее участие, неясную мне мольбу и снова участие. – Не время сейчас о делах наших скорбных, но убежит ли кто своей судьбы, судьбинушки! Поверите ли, сперло, сперло в зобу от радости.
– Однако…
– Понимаю, понимаю, бал, но после бала, – тут он позволил себе прикрыть глазки, подхихикнуть и осклабиться, – после бала надо бы нам побезобразничать с цифрами.
– Помилуйте…
– Конечно! Это я вольность сказал. И в мыслях не было! Поверьте! И в мыслях!
И я сейчас же оказался снова в объятьях нежной дивы – до сих пор не понимаю, куда все пропадали и сейчас же возникали, просто сумасшествие какое-то. От нежной пахло восхитительными цветами, и свежестью просто обдавало, обдавало и еще раз обдавало, и еще, и еще раз, что ни шаг – то свежесть.
– Вы – бука! – сказала она мне, капризно скривив свой восхитительный ротик.
– Я?
– Вы, вы, вы, и нечего отпираться! Почему вы до сих пор меня не замечали? Почему? Как вы осмелились!
– Я…
– Послушайте, как бьется мое сердце!
Сейчас же моя рука оказалась в области ее груди.
– Ну? – спросила она строго.
– Что? – я стал пунцовым, как обварившийся рак.
– Бьется?
Я смог только судорожно кивнуть, так я был занят. Я был занят мыслью о ней.
– Куда? – спросил я какую-то глупость.
И вдруг вокруг меня потемнело, наступила мгла удивительной плотности. В ней то и дело различались фигуры, а затем она стала редеть, развеиваться, вернулись танцы, вот только мне стало казаться, что вокруг меня танцуют какие-то мертвецы, упыри и вампиры, свиньи, вдруг вставшие на задние лапы. Они хрюкали, лязгали зубами, чавкали, пыхтели и жеманились. Ближайшая свинья что-то нашептывала мне на ухо, обещая неземные удовольствия, а потом очередь настала вампира. Он рассуждал об устройстве школ и клялся мне в том, что совершенно бескорыстно любит детей. А потом на меня насели лохматые вурдалаки – их была целая куча, от них жутко пахло, просто несло – тлен, гниль, перебродившее пивное сусло. А после этого настала очередь упыря, и он доказывал мне, что существует большая разница между упырями, вампирами и вурдалаками. Вскоре же меня перехватил оборотень. Он несколько минут просил меня не бояться и поведать всю историю моей теперешней жизни, намекая на то, что ему ведомо и мое будущее. Потом он передал меня вепрю – тот рассуждал о клыках.
Несколько маленьких ведьм кружили вокруг в надежде меня перехватить, а когда им это удалось, они с хохотом стаи голодных гиен умчали меня в конец залы – там я попал в объятья к гоблину, тот просил не забывать об инвестициях, передавая меня старому троллю – этот рассказывал об инновациях и ссудах. Печальный грифон размышлял вслух об ипотеке, а гарпии – о культурном наследии. Сирены обещали хранить традиции, химеры – уклад и утварь.
Вдруг на полу образовалась груда мелких и скользких тел, напоминающих пиявок, а потом они взлетели, потому что их окропили шампанским. Шампанское лилось, шампанское попадало в рот и за шиворот, противно липло к ладоням, к спине, грудь невозможно было защитить от шампанского – оно пропитывало ее, казалось, насквозь, а кикиморы ложились на пол и слизывали шампанское с пола. На подносах разносили дымящиеся внутренности, печень всхлипывала, а в вазах лежали живые глаза – они мне подмигивали, тут же скакал нос, рядом с ним зашитый рот. Рот пузырился от чувств и подбадривал меня, мол, не дрейфь.После моль превратилась в крысеныша, который начал рассказывать о будущем России – оно, в его представлении, было прекрасно. Совы ухали…
Прилетел белый аист, сел на паркет рядом со мной и заговорил о борьбе с коррупцией. Его оттеснила выдра, рассуждавшая о речном и земельном кодексе. Бобры пробились ко мне и повели речь о сохранении лесов, а двухголовый питон шепелявил и рассуждал о своих спортивных достижениях в плавании и лазанье по деревьям. Попугай рассказывал мне о национализме, но его перебила крыса – ту интересовал нацизм. А потом прилетела огромная моль, села на шерстяной платок к одной злой колдунье и отложила там яйца.
После моль превратилась в крысеныша, который начал рассказывать о будущем России – оно, в его представлении, было прекрасно. Совы ухали, перепела собирались в стаи, а вороны рассуждали об экономическом климате – он мешал им выращивать птенцов. Гекконов интересовали особенности транспортировки газа, а саламандра рассуждала о дефиците бюджета. В середине зала ковали чем-то тяжелым, а марабу интересовали цены на сбор урожая, и при этом он надеялся сдвинуть инфляционный потолок. Пара микробов занималась нанотехнологиями прямо посреди танцующих. Их можно было разглядеть в лупу, любезно предоставленную мне бородатым червем. Слизень сообщил, что цены выросли, и уполз, оставляя след. Какая-то клыкастая тварь подхватила меня под руку, устремившись под потолок. Там она расположила меня на люстре, сама уселась рядом и начала говорить о налогах, оттоке капитала и несовершенстве лесного кодекса.
Вскоре меня на бреющем сняла с люстры большая скопа. Та усадила меня на пол и спросила, не хочу ли я обложить налогом необложенное. В тот самый момент все разом пропали, а на полу зала закружились вальсирующие пары – все снова были люди – я боялся даже пошевелиться, потому что мне показалось, что шевельнись я, и у них немедленно отрастет хвост и по паркету застучат копыта. В этот момент возник дополнительный свет, сияние восхитительное, почти солнечное – его лучи пронзали тут и там – и чей-то голос возвестил:
– Его… Его… Его Высокопревосходительство губернатор Петр Аркадьевич Всепригляд-Забубеньский!
У меня перехватило дыхание, у всех присутствующих, похоже, тоже. Сейчас же все стихли и благоговейно расступились, и он появился, и он прошел по образовавшемуся коридору. Его Высокопревосходительство был среднего роста, худощав, нос крючком, рот тонкий, скорбный, одет в шитый золотом мундир с картины Ильи Репина «Заседание Государственного совета». Когда он шел, то одно плечо у него казалось выше другого, левая рука при этом была почти прижата к туловищу, а правая бодро махала. Походка, таким образом, получалась такая, будто бы Его Высокопревосходительство или все время ходит иноходью, или приволакивает ногу.
Но как только он остановился напротив меня, так все эти ощущения исчезли – такая от него исходила непомерная сила. Сила духа, разумеется.
– Не вы ли будете Сергей Петрович? – спросил он меня скрипучим голосом.
Надо сказать, что поначалу я даже не смог из себя ничего выдавить от охватившего меня почтения, восторга, полагаю. Он смотрел на меня, все тоже смотрели на меня, а я разевал рот и осознавал, с ужасом, разумеется, что ничего из себя не могу выдавить – ровным счетом ничего – разве что какие-то взбулькивания (все это так тривиально, так тривиально!).
Я разводил руками и всячески показывал, что, мол, так оно и есть, Сергей Петрович – я. Боюсь, это было неубедительно. Очень того боюсь. Очень.
– Виден истинный деятель, – сказал Его Высокопревосходительство, отвернувшись и указывая кому-то на меня, – виден по одному только положительному удостоверению, кое являет собой его вид.
Вернувшись ко мне, он продолжил:
– В деятелях русскому государству никогда недостатка нет и не будет. Отчизна, собственно говоря… – эк его перекашивает-то, эк его перекашивает! Деятель, истинно, истинно так. Ибо деятель и сказать-то о своих деяниях порой не в силах. Иное дело какой-нибудь пустобрех – тот наворотит, наскоморошничает – только держись. А тут… эх, как его разбирает-то. Ликом, ликом как весь скукожился. Загляденье! Да, вот так, господа! Вот у кого вам всем учиться-то надо. Вот! Служению, служению!
Кругом раздался одобрительный шепот. В этот момент в глазах моих выступили слезы, так как речь все еще не появлялась.
Но вот – пух! пух! – что-то стало появляться со всей очевидностью – пух! Вокруг установилась еще одна тишина – все внимали, некоторые приподнялись на носки, чтоб видеть происходящее из задних рядов.
– Пух! На! Мя! Ми! Ни! Ню!
Было заметно, что ближайшие бледнеют, но я, кажется, обретал речь.
– Браво! Прекрасно! – раздались где-то сзади одобрительные возгласы. – Отлично! Великолепно!
– Сергей Петрович, – тут вдруг сказал я совершенно осипшим голосом, – это я.
– От всего… это от души… – заговорили в задних рядах.
– Господи, как хорошо…
– Сердца расторгнуты…
– Что?
– Расторгнуты, говорю…
– И все-таки, – сказал вдруг Его Высокопревосходительство, пресекая эти разговоры, – попрошу вас, Сергей Петрович! Соблаговолите пройти в мой кабинет! – после чего он развернулся и пошел прочь.
Я же, поддерживаемый десятками рук, последовал за ним, движимый чувством вполне понятно каким – чувством долга. И сейчас же возник голос свыше. Он говорил мне: «Иди! Иди! Воздвижь! Воздвижь!» – и на меня в тот же миг снизошло озарение, которое было гораздо озаренистей всех предыдущих сверканий (просто никакого сравнения) – я последовал за ним. В кабинет.
Тяжелая дверь – золоченая с фигурками – возникла передо мной словно бы сама собой во всей своей приглядности. У двери стояла стража в кирасах и киверах с шашками наголо – они отдали честь и чем-то щелкнули – мы оказались внутри, дверь бесшумно затворилась.
Кабинет Его Высокопревосходительства являл собой смесь личного кабинета Людовика Четырнадцатого с кабинетом Людовика Тринадцатого и всех прочих Людовиков. Кое-что было добавлено от Тюдоров и от будуара Екатерины Великой. Все, что там стояло, торчало и нависало, дополнительно утопало в роскоши.
Его Высокопревосходительство был обнаружен мной стоящим у окна – он смотрел вдаль. Я остановился.
– Не кажется ли вам, почтеннейший Сергей Петрович, что людская толпа утомляет именно своей неискренностью? – заметил неторопливо Петр Аркадьевич Всепригляд-Забубеньский (осмелюсь ли я его так называть), все еще глядя в окно. Удивительно, но он уже ничем не напоминал того человека, которого я только что видел в зале.
– Но… – вымолвил я.
– Но… – подхватил за мной он, обернулся молодо, живо и посмотрел на меня со всей той душевной мукой, на которую только был способен человек чувствующий. – Но власть – такая штука, что еще вчера ты был никто, но сегодня тебя уже слушают, как только что сошедшего с небес. Ловят каждое твое слово. А оговорки превращаются в великолепные шутки, а нелепицы – в юмор. Одиночество, – вздохнул он, – вот удел всех правителей (мне думается, эта мысль не нова, но…). Ни одного живого существа вокруг и поодаль. И всем только дай, дай, дай. Только рот свой откроют, как я уже знаю, что им надобно.
– Грушино… – протянул я.
– Да, да, я в курсе… – Петр Аркадьевич откликнулся незамедлительно, устало. – Господин Кубышка обо всем позаботится. Ему уже даны все необходимые в этом деле указания.
– А…
– А если не хватит, то и Гнобий Гонимович подключится и из-под земли сыщет. На то он и взят был в соответствующий департамент, чтоб решать все вопросы. Хоть из-под земли. И он решает, уж можете мне поверить на слово. Самые что ни на есть неразрешимые на первый взгляд вопросы.
– Осмелюсь ли я…
– Осмелитесь. Сейчас, Сергей Петрович, сейчас я закончу мысль, и вы осмелитесь.
– Я только…
– Я только хотел сказать, что людей настоящих мало. Мало порядочных людей, Сергей Петрович. Вот прибыли к нам вы – и будто кто-то двери распахнул во всем доме – такая во всем образовалась небывалая, неодолимая свежесть. Вот так стоял бы и дышал, дышал. И я сейчас же подумал: вот он, человек, не поступившийся принципами. Державник, пекущийся об Отечестве. Государев человек. А сколько в нем достоинства, и как он идет навстречу невзгодам, не ведая страха.
Признаться, от этих слов – особенно начет «невзгод» и «не ведая страха» я вдруг покрылся весьма крупными – сантиметра по полтора пупырышками и ощутил холод. То был холод лезвия, коснувшегося шеи.
Между тем Петр Аркадьевич продолжал:
– И тюрьма его не остановит, и суд не развернет.
«Суд? – подумал я с возрастающим ужасом. – Суд?!! Какой?! Какой суд? О чем это он! Ах да, да! Был же суд – что ж это я, право, – и меня чуть не посадили!»
– Суд, суд. Кстати, о суде. Сколько вам собирались дать-то? Не пожизненное ли? – Петр Григорьевич задал вопрос и теперь стоял, обернувшись ко мне, и ждал ответа, а я от слова «пожизненное» пришел себя только на третий-четвертый вдох.
– Оно… – выдохнул я наконец, а то все выдохи получались какие-то половинчатые, кургузые, куцые, хотя вот опять, господи, – оно… конечно…
– Оно конечно, – подхватил Петр Аркадьевич, – кабы не Гнобий Гонимович. Но каков молодец? А? Согласитесь? В самое что ни на есть время подскочил, подоспел. Так ли?
– А…
– Понимаю. Слышал я, что и дело улажено.
– Дело…
– Аудит. Ваш аудит. Ведь не будете же вы утверждать, упорствуя, как в заученном, что прибыли сюда только ради того, чтоб повидать семейство Котовых в поселке Грушино? Было бы неразумно. Мы бы таки подивились.
– Я… не… будете…
– Вот и хорошо. Вот и славненько, Сергей Петрович, дорогой, и не надо так корневеть, коченеть, деревенеть. Отпустите себя. Внутри. Оставьте свои опасения. Оставьте все эти необдуманности, разуверения. Поверьте, все начинали со смущения. Смущения в душе. А потом уже – как по накатанному. А Крадо Крадович подготовит вам все бумаги.
– Бумаги?
– Само собой. Акты, бумаги – все, что надо при завершении аудита. А у нас и учет, и контроль поднят и почитай что всечасно находится на необычайной высоте. Так что уж не смущайте нашей радости, не брезгуйте.
– Не брезгуйте… – повторял я за ним, не в силах с собой совладать.
– Сергей Петрович! – оборотился ко мне полностью Петр Аркадьевич и даже сделал было навстречу полшага. – Полноте вам юдольствовать! Проводим вас в лучшем виде. Будете довольны. Проводим и на дорожку дадим.
– Дадим…
– Конечно же! А как же! Ведь это работа! Труд! Ваш труд и бденье! Но соразмерно со званием, конечно же, с должностью. Но не обидим. Никто! Вы слышите ли? Никто не посмеет вас обидеть, пока я здесь губернаторствую. Вы ведь провели у нас, почитай, целый день?
– День…
– И все-то на ногах, на ногах. В трудах. Ни в чем не находя разумения. И маковой росинки во рту не было, не случилось, не заблудилось.
– Не…
– Так и пейте, ешьте, веселитесь, а там – и честь пора знать, проводим вас к ночи.
– К ночи?
– Именно. Посадим в поезд, и поедете вы в свою Москву.
– А Грушино?
Петр Аркадьич даже рассмеялся:
– Никакого, друг мой, Грушина. Ни-за-что! Все. Кончилось. Окститесь. В Москву! В нее! В Первопрестольную! И документы вам справим. В полном порядке все будут. И вы будете. В – полном порядке. В полнейшем. Стоит ли по поводу сему роптать? Разумно ли сие? Ведь ежели ж вы упорствуете о Грушино, то не ровен час, что все мы относительно вас ошибались. А что оно означает?
– Что?
– Означает то, что вам раскрылись такие наши бездны, что и не приведи господь! Экстремизм…
– Экстремизм?
– Он самый. И куда ж в таком случае вы поедете, скажите на милость?
– Куда…
– Куда? Как можно отпускать с миром человека, которому известны все обстоятельства и который притом является человеком пришлым, со стороны, без роду и племени, не знающему, что у нас можно, а что ни за что нельзя. Ведь это же разрушитель, возмутитель общественного блага, созданного годами, руками тысяч и тысяч. Экстремист!
– Неужели?
– Ужели! Возможно ли его упустить?
– Упустить?
– Конечно! Упустить можно только своего. Только своего, батенька, дорогой вы наш Сергей Петрович. Того, кто думы думает. Наши думы и по-нашему. А соглядатаи-то, растлители, разрушители, уж поверьте мне на слово, вольные или же невольные, никому не потребны. Да и противны они. Природе. Ведь против нее, кормилицы, они, получается, и идут. Не так ли, Сергей Петрович?
– Так! Истинно так! – вскричал наконец-то я.
– Вот и славненько. Вот и чудненько. Сговорились, кажись. Вот и ладненько.
– А скажите, Ваше Высокопревосходительство, – вдруг пришло мне на ум задать вопрос.
– Да?
– Правильно ли понял я, что противников вашему управлению тут отродясь не случалось?
Я задал этот вопрос, а сам вдруг почувствовал, что какой же я все-таки дурак. Ну отпускают тебя с миром, так чего же ворошить темноту гадючью, беги, стремись отсюда, что есть в тебе сил. Но нет, сорвется с губ словечко несуразное, а потом вслед за ним и холод тебя обнимет. Холод предчувствия.
– Противники, говорите? – голос Петра Аркадьевича вдруг стал старческим и скрипучим, лицо стало подергиваться, заходили на нем желваки, а я уж в которых раз стал казнить себя за несдержанность.
– Отчего ж, – проговорил Петр Аркадьевич, справившись с собой окончательно, самым будничным голосом, – есть и противники делам нашенским. Вам хотелось бы с ними свидеться?
– Нет, но…
– Можно и свидеться, вот только зрелище то неприглядное. Все нечесаны, бороденки торчмя торчат. И взгляды всюду бросают безумные, изголодавшиеся. А пахнет-то как от них! Пахнет-то, прости господи. Зуд, запустение. Народ-то не обмануть. Он сразу чует, за кем идти вослед потребно, чтоб в скелет ходячий через пять шагов не оборотиться. А эти – пусть живут себе. Напоказ. Поколениям в назидание. Блудные сыны Отечества. Так как, Сергей Петрович? Зовем сюда Крадо Крадовича? Бумаги, акты готовим ли? Иль же есть у вас еще дела к оппозиции?
– Нет, нет, нет! – зачастил я, в который раз прижимая руки к собственной груди, – готовим, готовим. Вы только скажите, где подписать.
– Скажем, – совершенно расцвел Петр Аркадьевич, – обязательно скажем, покажем и местечко под роспись птичкой отметим.
Мгновенно образовался рядом не поймешь откуда взявшийся сияющий Крадо Крадович Кубышка – он был изогнут в правильную сторону.
– Позволите ли, Ваше Высокопревосходительство? – обратился он сперва к начальству. – Тот величественно кивнул.Мгновенно образовался рядом не поймешь откуда взявшийся сияющий Крадо Крадович Кубышка – он был изогнут в правильную сторону.
– Уж как я рад, как я рад, Сергей Петрович, ношу вашу облегчить, – Крадо Крадович улыбался и сиял даже там, где никак нельзя было предположить сияние и улыбку.
Мне тотчас же было явлено место, где я должен был расписаться, а потом, после того как я поставил там свою загогулину, Крадо Крадович дополнительно расцвел и подхватил меня под руку, увлекая из кабинета Его Высокопревосходительства.
А я, увлекаемый, все пытался высвободить хотя бы свой локоть, чтоб обернуться к Петру Аркадьевичу и кивнуть ему, мол, благость, благость, но Крадо Крадович нес меня по паркету как вихрь, и я, скользя подошвами, успел все-таки искривиться и в последний миг кинуть взгляд на покидаемого нами сюзерена, после чего я поймал еще один его величественный кивок, из которого безо всяких уловок следовало только то, что все идет так, как и должно, после чего мы стремительно выкатились в залу, а там продолжалось веселье, танцы, танцы, еда, еда – множество разнообразнейших блюд – мелькание лиц, опять танцы, опять блюда и бокалы, что ослепительно полны.
В этот момент перед нами возник Гнобий Гонимович, а Крадо Крадович просто в воздухе истлел, фалды его сюртука еще висели какое-то время непонятно как – так мне казалось, а потом и они истончились и сгинули – так высока была скорость перемен.
– Сергей Петрович, дорогой! – исторгнул из себя Гнобий Гонимович, его крик подхватили многие. Некоторых я сейчас же узнал. Тут был и Григорий Евсеич, начальник следственного департамента, – он делал мне призывные знаки, стараясь, чтоб я его признал. Я его в ту же минуту признал, и он, закружившись с какой-то барышней, отъехал в сторону совершенно счастливый. Тут недалеко порхал и Гавний Томович – начальник департамента путей, сжимавший в объятиях Ольгу Львовну – главу социальной защиты.
А Домна Мотовна Запруда, главная печальница здешних сельских угодий, ухватив за выступающие места одного из тех судей, что чуть не упрятали меня на веки вечные, высоко подпрыгивала, подскакивала. Он же в руках ее, кроме того что подпрыгивал, еще и вздрагивал всякий раз после каждого прыжка.
Геннадий Горгонович, главный тут по части медицины, успевал не только вальсировать, но и крестить всех танцующих правой рукой, в то время как рукой левой он успевал время от времени ухватывать с проплывающего мимо подноса парочку-другую бутербродов с черной икрой и тут же немилосердно запихивать их в рот.
А Сказана Толковна – та, что со стороны сказок и сказаний, отплясывала так лихо, что просто ступа с Бабою-ягой, да и только, как бог есть, ступа – никак иначе.
Вот только не приметил я нигде историю с археологией.
– Чего изволите? – спросил меня Гнобий Гонимович, – видимо, я сказал об этом вслух.
– Не вижу здесь историю с археологией, – проговорил я в перерывах между прыжками в танце.
– Кого, простите? – не понял меня мой собеседник.
– Не вижу здесь Гародия Дожевича Приглядова, – уточнил я, – того самого, от археологии, и Вострикова Достин Достиновича, из департамента нашей истории. Что ж они?
– А зачем нам обслуга на балу? – Гнобий Гонимович даже остановился от удивления.
– Как обслуга?
– Так! Это ж то, что обслуживает! Так зачем же ее звать туда, где мы все хотим праздновать?
– Но, – остановился теперь я. – Как же! Ведь Востриков Достин Достиныч, вас всех тут придумал. Он придумал все это! Он придумал эти деревни, что только на бумаге и существуют. Он придумал, как на них получать деньги…
– Ш-ш-ш! – Гнобий Гонимович вдруг побледнел и увлек меня изо всех сил в сторону.
– Что же вы?!! – сказал он мне, когда мы отошли далеко от танцующих и устроились в уголочке. – Что ж вы так, Сергей Петрович! Как можно?
– А? Что?
– Как что? – шепот Гнобия Гонимовича был почти страстным. – Что ж вы так громко-то!!! Не ровен час все услышат.
– А они, что? Не знают?
Похоже, я опять сморозил какую-то глупость, потому что Гнобий Гонимович посмотрел на меня с укоризной:
– Нельзя же говорить все так, как есть. Сергей Петрович, дорогой! Ужели ж в Москве так все и говорят обо всем запросто?
– Ну…
– Никак нельзя. Надо же соблюдать политес. Ну да, никто не умаляет заслуг Достин Достиныча. И даже Гародию Дожевичу не так давно был вручен орден с мечами третьей степени. И потом – это отработанный уже материал.
– Какой материал? – не понял я.
– Человеческий! (А это не поняли уже меня.) Достин Достиныч и Гародий Дожевич – отработанный материал. До некоторой степени.
– Как это?
– Так. Ни на что другое они уже не пригодны. Они свое дело сделали.
– Но…
– Но все у нас на своих местах. Ну и что, что Достин Достинович нас, до некоторой степени, всех тут выдумал. Ну и что?
– Но как же это?
– А так! Выдумал короля – подчиняйся королю. Иначе не получится выдумки. Кто ж в нее поверит, если ты сам в нее не веришь? Сам должен поверить. Жить в ней должен. Существовать. Выдумал – так живи.
– Но и выдумка-то сама теперь живет. Сама по себе.
– Конечно! Как вы правильно все понимаете! Вот именно – сама живет. Но не становись у нее на пути. Молчок, молчок! Живи и радуйся.
– И…
– И ни о чем не печалься. Выдумал, организовал – вот за это тебе твой участок, кусок – пользуйся. Но!
– Но…
– Но не вспоминай о выдуманном. Ради бога, только ничего не вспоминай. Не пиши мемуаров, слухи не разноси, не звони, не напоминай о себе по-приятельски. Потому что приятельство твое прошло. Кто же прощает тех, кто видел твои первые неуверенные, неуклюжие шаги?
– А…
– А тех, кто видел твое политическое детство, или неприглядные дела твои, или участвовал в них, не приведи господь, и не перестает о том твердить как заведенный, того же уничтожают, Сергей Петрович! Ну что же вы?
И вот тут я поперхнулся глубоко и надолго.
Гнобий Гонимович вежливо дождался, когда я откашляюсь.
– Это же так все просто, – заметил он.
– Просто…
– Конечно. Есть же правила. Исподнее не ворошат.
– Не ворошат…
– Конечно. Кстати, нам пора! – Гнобий Гонимович вдруг засобирался.
– Куда пора нам?
– Как куда? На поезд! Или вы запамятовали? Вас же надо проводить сегодня, усадить в поезд. На Москву!
Немедленно перед нами распахнулись все двери, и, казалось, сам крик Гнобия Гонимовича «На Москву!» вынес нас с ним из залы, проскакал с нами по лестницам и выплеснул нас за ворота.
За воротами уже стоял автомобиль, который в одно мгновение доставил нас на перрон.
А на перроне уже стоял Поликарп Авдеич Брусвер-Буценок, начальник станции, ее смотритель, хранитель, кассир и бухгалтер.
– Сергей Петрович! – воскликнул он. – Дорогой!
И сейчас же он согнулся в почтении перед Гнобием Гонимовичем:
– Ваше Превосходительство!
– Как там скорый на Москву, любезнейший? – Гнобий Гонимович стал вдруг высок и чрезвычайно строг.– Но все у нас на своих местах. Ну и что, что Достин Достинович нас, до некоторой степени, всех тут выдумал. Ну и что?
– Будет через тридцать секунд! Стоянка – двадцать секунд! – Поликарп Авдеич не сказал ни одного лишнего слова.
– Хорошо! – откликнулся Гнобий Гонимович и оборотился ко мне: – Ну-с, дражайший наш Сергей Петрович, однако, пора, – он позволил себе прослезиться, в руках у него оказался портфель.
– Тут, – сказал он, – находится все.
– Что все находится? – переспросил я.
– Тут у нас все, – повторил специально для меня Гнобий Гонимович и многозначительно закрыл глаза. В ту же секунду подошел поезд. Он остановился, и мы оказались ровно у моего вагона – так все рассчитал Поликарп Авдеич.
– Ну, Сергей Петрович, с Богом! – сказал Гнобий Гонимович.
– С Богом! – эхом вторил ему Поликарп Авдеич. Он вручил мне билет.
А Гнобий Гонимович – портфель, после чего он расчувствовался в который раз за этот день и поспешил меня обнять. А я поспешил расчувствоваться и обнять его в ответ. Портфель мешал, я, как мне показалось, в эту минуту должен был испытать какое-то чувство. И я его испытал – то было чувство несказанной радости, из-за него я опустил портфель на землю, после чего и раскрыл свои объятия уже и вовсе основательно – Гнобий Гонимович попал в них весь.
– Поезд! Отправление! Поезд! – заверещал вдруг Поликарп Авдеич, и я вскочил на подножку уходящего поезда.
Когда поезд уже набрал обороты, я вдруг услышал ужасающий крик:
– Портфель! Портфель! – по перрону бежали, стараясь настигнуть уходящий поезд, Гнобий Гонимович и Поликарп Авдеич. В руках у первого был портфель – я забыл его впопыхах на перроне.Я так и не узнал, что там было в этом самом портфеле – что-то, безусловно, нужное, что-то необходимое. До Москвы я добрался без всяких приключений. Я заснул и проснулся уже в столице. Вот так и закончилась эта странная история.
А через несколько лет я снова поехал проведать Котовых в Грушино, и как только я сел в поезд, я сейчас же попросил проводника разбудить меня, когда мы будем проезжать Пропадино.
– Но вам же нужно Грушино, – сказал он.
– Верно, – ответил я, – но хотелось бы увидеть и Пропадино.
– Пропадино? – удивился он, – Это какое же Пропадино?
– А то, что будет до Грушина. В семь часов утра.
– Да нет у нас никакого Пропадина.– Как?
– Так. И никогда не было.
– Как это?
– Так! – И он указал мне на список станций – там действительно не было никакой остановки в Пропадино.
– Но, может быть, мы будем проезжать его без остановки! – воскликнул я с надеждой.
– До самого Грушина никаких станций нет.
– Как это нет?
– Так! Не наблюдается.
– Как это?.. Но я же… – и тут я замолчал.
А поезд все быстрей и быстрей уходил в ночь, и за окнами была теперь одна только темнота, обступившая со всех сторон железнодорожное полотно, – лес, лес, лес несся нам навстречу. Лес – угрюмый, патлатый, косматый, с буреломом, с пролешнями, болотами, выкосами, выгонами, лес.
Неужели же мне все это приснилось, пригрезилось, привиделось?
Быть того не может!
А потом я подумал, что, возможно, оно и к лучшему? И возможно, прав был Гнобий Гонимович, что сказал мне на прощание на том балу: выдумал – не вспоминай.
Но в семь часов утра я все-таки проснулся – будто толкнуло, торкнуло меня что-то – и посмотрел в окно – а за окном нашего поезда летела Россия – громаднейшая, бездоннейшая страна.
Россия, Россия, ты, одна только ты взываешь к своим сынам, ты настаиваешь, надоедаешь, ты рассказываешь о своих горестях, ты говоришь обо всем на свете, о ерунде какой-то, а слышится только что о боли; ты словно бы старушка из той богадельни – поместили ее туда, а теперь-то никто и не навещает – и стыдно и горько…
Что-то похожее на маленькую беленькую станцию промелькнуло, проскользнуло, проскочило ровно в семь часов утра.
Было ли это Пропадино или же действительно не было его тут никогда – теперь уже и не установить это вовсе.
Теперь-то, дорогой мой читатель, это уже не узнать.
Теперь-то уже все едино. ОглавлениеАлександр ПокровскийПропадино. История одного путешествия







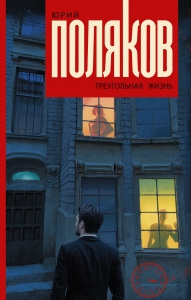


Комментарии к книге «Пропадино. История одного путешествия», Александр Михайлович Покровский
Всего 0 комментариев