Лиане посвящается
ο ούν ό Θεός δυνεζευξεν, άνθρωπος μή χωριζετω[1].
КНИГА 1
ПЕРВОЕ
В те времена способ наказания преступника — а я не раз наблюдал это своими собственными глазами — был приблизительно таким, как я его опишу. Но прежде всего, мне кажется, было бы учтивым представиться читателю, ибо я надеюсь, что он будет сопровождать меня в течение всего долгого пути, какая бы ни была погода, а посему открою свое имя: Азор, сын Садока, Есть у меня и несколько греческих прозвищ: Псилос, сиречь «высокий», поскольку рост мой ниже среднего; Лептос — «тощий», ибо я склонен к полноте; Макариос, что, помимо прочего, означает «счастливый». Я пишу всякие истории и пересказываю их, перевожу документы для правителей, поскольку в совершенстве знаю латинский, греческий и арамейский языки, составляю петиции для просителей. Что же до сферы чисел, то я сверяю и помогаю вести счета Акатартоса, крупного, но не заслуживающего доверия виноторговца. Теперь пора рассказать о том, что такое распятие — в его истинном физическом смысле.
Сначала осужденного подвергали бичеванию, а затем заставляли волочить горизонтальный брус креста, на котором его будут распинать, от крестного двора к месту финальной фазы наказания. Здесь уже был готов вертикальный брус, утвержденный в земле прочно, как дерево. Распростершего руки преступника прибивали гвоздями, сквозь запястья или ладони, к поперечине, которая затем укреплялась на вертикальном брусе на высоте десяти — двенадцати футов[2] от земли. После этого к брусу одним-единственным тонким и длинным рубленым гвоздем прибивались ноги осужденного. Иногда, чтобы создать нечто вроде опоры, в вертикальный брус, там, где должны быть ягодицы распинаемого, вгонялся деревянный клин. Имя преступника и название совершенного им преступления писались крупными буквами на выбеленном куске дерева на трех языках этой провинции, а именно — арамейском, латинском и греческом. Этот кусок дерева прибивался на оконечности вертикального бруса, то есть над головой преступника, но гораздо чаще, поскольку это было удобнее и проще, — у него под ногами, чтобы все, кому интересно, могли прочитать то, что очень быстро становилось единственным некрологом казненного. Смерть наступала в результате истощения и остановки сердечной мышцы. Но если казнимый ожесточенно сопротивлялся смерти, ее ускоряли, с каковой целью преступнику железным прутом перебивали ноги или пронзали бок боевым копьем.
Пожалуй, мне следует добавить, что, прежде чем прибить преступника гвоздями к кресту, его раздевали донага, дабы не оставить неприкрытой ни пяди срама. Это делало наказание не только жестоким, но и непристойным.
И вот настал день, когда в изобретательном мозгу некоего чиновника, осуществлявшего надзор за распятиями в провинции Иудея (она к тому времени находилась уже под прямым управлением Рима, а не вассального монарха, как, к примеру, Галилея), родилась идея усовершенствовать способ предания смерти. На месте казни в земле выкапывались узкие щели значительной глубины — до шести футов и даже более, — в эти щели ставили на попа, с расчетом на длительное использование, нечто вроде ящика из прочного дерева без низа и без верха, с тем чтобы в него можно было вдвинуть нижнюю часть вертикального бруса креста, и тогда все сооружение оказывалось надежным и очень прочным. Сие означало, что теперь злодей, приговоренный к смерти, должен был нести на себе весь крест целиком — столб и поперечина заранее сколачивались гвоздями или соединялись врубкой — от места бичевания до места казни, а усиливавшееся в результате этого изнурение значительно ускоряло гибель осужденного. Новшество означало также, что теперь человека можно было споро и буквально на одном дыхании прибить гвоздями к кресту, пока орудие казни в собранном виде лежало на вершине холма, где, по обыкновению, происходило распятие. Всю процедуру совершали три человека, искушенных в исполнении таковой мистерии: двое занимались запястьями или ладонями преступника, а третий, обыкновенно рослый человек большой физической силы, приколачивал стопы, — впрочем, ему часто придавали в помощники юношу, который должен был удерживать ноги казнимого в неподвижности. Когда это тройственное заколачивание гвоздей заканчивалось, крест вместе с его стенающим грузом подтаскивался к проделанным в земле щелям и вставленному в них ящику, воздвигался под одобрительные крики в вертикальное положение и затем, будучи направлен в углубление, утверждался там прочно и удобно, хотя при сильном ветре он все равно раскачивался и скрипел, словно корабельная мачта.
Я не одобряю этот способ наказания государственных преступников. Я полностью разделяю мнение Цицерона, считавшего распятие самым ужасным видом предания смерти, недостойным развитой цивилизации, и все же мне хотелось бы снять с римлян столь часто предъявляемое им обвинение, будто бы именно они придумали и увековечили этот способ казни. Судя по всему, и персы, и селевкиды, и карфагеняне, и даже сами иудеи применяли распятие для наказания подстрекателей, религиозного или же политического характера, а также воров, пиратов и беглых рабов задолго до того, как Левант[3] стал объектом колонизаторской активности Рима. Говорят, что в Вавилоне персидский царь Дарий предал смерти на кресте около трех тысяч своих врагов; а менее чем за двести лет до событий, о коих пойдет мой рассказ, в самом Иерусалиме, Святом городе, сирийский царь Антиох Четвертый подверг бичеванию и распятию большое число евреев, недовольных его правлением; и еще за восемьдесят и восемь лет до рождения Иисуса Наггара (или Марангоса) иудейский царь и первосвященник Александр Яннай[4] израсходовал три тысячи гвоздей и две тысячи брусьев на одну тысячу фарисеев[5].
Когда видишь, как совершается подобное наказание, слышишь стоны умирающего, видишь позор его окровавленной наготы — заново осознаешь, что в мире действует великий закон неправоты, хотя твоя собственная мораль при этом звучит на два голоса: один подвигает тебя к потрясению, жалости и гневу, второй же требует искать первопричину неправоты в распинаемом, а не в палаче, в преступлении, а не в наказании, которое само по себе целиком и полностью заслужено. Зло ведь коренится в нем, в распятом, в противном случае он, как честный и добропорядочный гражданин, гулял бы сейчас по улицам, веселился бы в тавернах, играл бы со своими детьми или привел бы их сюда, чтобы разобрать надписи на крестах, потакая резонному любопытству. Такой человек конечно же не оказался бы на кресте. С другой стороны, получается, что зло, совершенное распятым, было для него самого некой разновидностью добра, иначе он не следовал бы этим путем до черты собственной смерти, а зло, творимое вершителями казни, предстает в таком случае средством защиты и сбережения общины, позволяющим ее членам пребывать в благополучии и даже счастии.
Я вовсе не ставлю своей целью рассуждать о добре и зле или о правоте и неправоте, поскольку в мудрствованиях подобного рода я не слишком силен. Но все же полагаю, что не услышу возражений, если, с вашего позволения, выскажу следующую мысль: наш мир, по природе своей, — двойственное творение. Мне пока что не довелось встретить человека, который стал бы это отрицать. Судя по всему, стабильность живых существ и тем более вещей, созданных человеком, зависит от конфликта противоположностей, который иные философы, живущие на самых дальних станциях караванных путей, склонны рассматривать вовсе не как конфликт, а скорее как род любви между полами, так что даже Бог, как они его понимают, должен иметь супругу, дабы та сообщала ему уравновешенность, здравомыслие и способность слышать молитвы. В наших собственных телах мы тоже наблюдаем подобную уравновешенность, порождаемую гармонией левого и правого, хотя некоторые возразят, и, вероятно, вполне справедливо, что на самом деле это и есть конфликт противоположностей и что наша стабильность — лишь некая счастливая, однако ненамеренная эманация, источаемая тихой войной, в которой спор между сторонами вовеки неразрешим. Во вселенной духа — так, по крайней мере, это видится нам, жителям средиземноморских стран — двойственная природа проявляет себя в виде неразрешимого конфликта между добром и злом, хотя определить истинные соответственные сущности этих понятий ничуть не легче, чем распознать правое и левое, либо же свет и тьму, поскольку одно может быть постигнуто только через категории другого.
Когда человек пьян, он не отличает левое от правого, его равновесие нарушено, ему постоянно грозит падение, и в конце концов он падает. Некоторые говорят, что бывают времена, когда пьянство обрушивается на вселенную духа, тогда равновесие между добром и злом заметно нарушается, и в то время как одни со страхом ожидают конца всему, другие веселятся, уверенные, что наступает новая эра. Одни предчувствуют падение человека, другие же предвидят, что он, подобно птице или ангелу, воспарит в небеса. Наступает время потрясений и невнятного бормотания. Все ищут знамений, появляются пророки, все говорят о гневе Предвечного и о скором приходе Царства Справедливости. К тому же, поскольку провести строгую границу между политикой и религией весьма затруднительно, объявляется много людей, которые в крушении старых устоев и появлении нового усматривают переход к царству мирской власти. Обнаруживаются фанатичные ревнители веры, бунтовщики и наемные убийцы. А у тех, кто ставит кресты для распятий, прибавляется много работы.
То время, о котором я поведу рассказ, как раз и было таковым. Начало моей истории приходится на год семьсот пятидесятый от основания Рима, место действия — страна по названию Израиль, каковое имя подразумевает одновременно и физическое местообитание, и царство духа (но до чего же странно, что истинное значение названия Израиль должно иметь отношение к борьбе с Богом![6]). Для римлян то был самый отдаленный фланг их империи, и они знали эту страну как Палестину. К началу периода, который я взялся описать, Рим правил ею пока еще не напрямую, а через монарха-клиента, как его тогда называли.
Полагаю, что, назвавшись рассказчиком историй, я должен теперь остановить поток общих рассуждений и вызвать к жизни тела, способные двигаться, и голоса, способные звучать, а посему позволю себе смелость, как бы это сказать, пробежаться пальцами по струнам арфы, изобразив один короткий эпизод, прежде чем взять аккорды куда более существенной и важной сцены. Я отведу вас в одну иерусалимскую таверну, расположенную неподалеку от холма, где совершаются распятия — перекладина двери там обвита виноградной лозой, — и дам возможность послушать речи некоего римского младшего офицера по имени Секст. Он хорошо знает Палестину, поскольку частенько бывал здесь в скромной роли сопровождающего знатных римлян, наезжавших в эти края с визитами. Сейчас он сидит за грубо сколоченным столом, мокрым от пролитого вина. Будучи человеком довольно дружелюбным, при том, что он неотесан, невежествен и презирает всех, кого именует чужеземцами, Секст заплатил за мех вина, чтобы угостить нескольких сидящих вокруг бедных евреев, согласных пить, слушать и молчать. Его лицо и тело испещрены шрамами, полученными как в сражениях, так и в пьяных драках; о том, что перед нами испытанный боями ветеран, свидетельствует и единственный глаз Секста — левый.
— Итак, — говорит он, — наши владения раскинулись от кан до шам[7]. — Мокрым от вина пальцем он малюет на столе некое подобие карты. — То есть вот от этой зловонной жаркой навозной кучи, не то чтобы я был против жары, нет, я ее хорошо переношу, жару-то, запах — вот чего не могу терпеть, не хочу никого обидеть, но уверен, что никто и не обидится, а если кто обидится, я за него и головки крувит[8] не дам, значит, от нашей навозной кучи идем вверх и вон туда, через Испанию и Францию, до самого края этого огромного грязного шатияха[9], а если зайдете слишком далеко, то запросто свалитесь, и край тот называется Британия, мои маленькие йедидим[10]. Я видел все эти земли своими глазами. Римский нешер[11] распростер свои крылья так, что почти трескается посредине, и скоро мы все увидим новую птицу. Жарко здесь, но я ее хорошо переношу, жару-то. А в Британии вы свои маленькие кадурим[12] отморозили бы начисто. Голые ублюдки, и все в синей краске с головы до… Спасибо, дорогой, сколько я тебе должен? Они вроде бы совсем не чувствуют кар, или крио[13], если хотите, как-то у них это получается. Все зависит от воспитания, йелед[14]. По мне, так ваше шильшульное[15] племя куда лучше, вы ребята симпатичные, тихие, не хочу никого обидеть, впрочем, уверен, что никто и не обидится, а кто обидится, я за того и кусочка вонючей илтит[16] не дам… Эй, там, йедид, я вижу, ты плюешься! Я своими глазами видел, как ты плюнул в рицпах[17], а это добрым делом не назовешь, да и полезным тоже. Вон, смотри, для плевков есть специальный горшок. Но если твой плевок, наар[18], означает кое-что другое, а я тебе от души желаю, чтобы это кое-что другое не пришло мне в голову, тогда — шамах[19]. Шамах? — там, на улице — топ, топ, топ — топают сапоги по вонючей пыли. Слышишь? Слышишь рааш[20] старой буцины?[21] Мы здесь для того, чтобы остаться навсегда, йедидим, и никакие ваши плевки не смоют этого факта. Никакие плевки во всем великом царстве мелухлах яхуди[22] не смогут прибить пыль, поднятую одним пальцем римской ноги — топ, топ, топ. Кто ваш царь? Еще раз спрашиваю: кто ваш мелех?[23] Большой Ирод. Араб по обеим линиям, и по ав, и по ем[24], но в то же время и еврей, да еще друг императора Августа, которого я однажды видел, — шамах? — будь он благословен и дай Бог ему здоровья, хотя он и сам бог. Вот так-то, йелед! Посматривай по сторонам и берегись! У вас есть он. У вас есть он, и у вас есть мы, и так будет вовеки! Per omnia saecula saeculorum[25].
А теперь, любезные читатели, когда пальцы мои достаточно размялись и готовы брать аккорды, я возьму на себя смелость перенести вас в общество самого царя Ирода Великого — в прекрасные бани, построенные им над горячими источниками Каллирои.
ВТОРОЕ
Ироду в ту пору шел семьдесят третий год, был он тучен, пузат, склонен к излишествам и подвержен припадкам бешеной жестокости; за ним тянулся длинный шлейф убийств, и среди умерщвленных было немало близких родственников, и даже таких, кого он сильно любил. Временами ступни его ног становились холодными, как камень, но при этом боли в икрах были совершенно непереносимы. В тот момент, который я описываю, у Ирода гостил Луций Метелл Педикул, приехавший с визитом из Рима. После калидария[26] они перешли в судаторий[27], чтобы стригилами[28] удалить с тел масло и пот. Раб принес вина. Метелл заявил, что слова, которые он собирается произнести, будут высказаны со всем должным почтением, но Ирод перебил его:
— Не надо почтения, Метелл. Какая почтительность между голыми людьми? Взгляни на этот живот. Или нет, лучше не стоит. Вот где ведутся войны моей старости, хотя у меня есть и другие поля сражений. — Он выплюнул вино на раба, который им прислуживал, и рявкнул: — Моча! Принеси фалернского![29] С почтением — о чем?
— Император говорит, что великий правитель не должен позволять, чтобы его личная жизнь становилась публичным достоянием. Особенно, извини меня, на территории, где столь многое строится на морали.
— Показуха и лицемерие, — заявил Ирод. — Мытье рук перед едой, содержание в чистоте горшков и сковородок. Фарисеи! Сальная подлая свора… Мораль не имеет ничего общего с правлением. Этому я научился у Рима.
— Думаю, император Август употребил бы в данном случае термин «кинический», — сказал Метелл. — Он верит в добродетель — она важна не только для жены кесаря, но и для самого кесаря.
Целая вереница рабов примчалась с фалернским вином. Выпив, Ирод продолжил:
— За обедом ты должен все рассказать мне про добродетель. Но здесь и сейчас позволь заметить тебе, что одна-единственная задача правителя — это править. А правление начинается в его собственной семье. У императора Августа нет толпы сыновей и дочерей, стремящихся отобрать у него корону. Что до меня, то мне приходилось по необходимости сбивать кое с кого спесь, это я признаю, однако запах крови мне нравится ничуть не больше, чем дорогому Августу. Я хочу тихой, спокойной жизни.
Они перешли в тепидарий[30], а затем — во фригидарий[31]. Метелл немного поплавал кругами в бассейне. Ирод, тяжело отдуваясь, сидел на скамье, охал, что-то бормотал и ел виноград, поплевывая косточками в раба, который стоял рядом, держа в руках серебряное блюдо с гроздьями. Затем Ирод и его гость обсушили себя, натерлись маслом, облачились в одежды и перешли из бань в приемный зал — при этом Ирод прихрамывал и изрыгал проклятья, — где, обнаженные и неподвижные, словно мебель, сидели почти все младшие представительницы его сераля. Рабы принесли еще вина, а также фрукты, маленькие, очень острые колбаски, мелкую птицу на вертелах, маринованные оливки, корнишоны, жареный сыр и всякую другую закуску.
— Палестинцы все еще живут своей историей, не так ли? — молвил Метелл. — Их, похоже, трудно убедить, что история, как и весь известный нам мир, — это римские владения.
— Везет тебе, — с восхищением сказал Ирод, — у тебя так много зубов! И они к тому же крепкие, как я вижу. Ужасно, когда мужчина начинает терять зубы. Эй, девка! — Он покосился на одну из малолеток своего сераля. — У тебя царапина на бедре. Опять дрались. Видит Бог, придется мне завести для вас хороший кнут, сучки вы непослушные!
— Исаак… Авраам… Моисей… — продолжал Метелл. — Я нахожу эти имена довольно трудными. Даже язык не поворачивается…
— Пророки были еще до появления римлян, — сказал Ирод. — Не заблуждайся насчет этого. Царь Соломон, храм которого я перестраиваю, стал преданием задолго до того, как были вскормлены Ромул и Рем.
— Как тебе известно, политика Рима не предполагает уничтожения местных верований, покуда они не вступают в серьезное противоречие с нашей верой в обожествленного императора, — изрек Метелл. — Жрецы местных религий обычно бывают полезны для Рима. Они тоже стремятся к спокойной жизни.
— Обожествленные императоры не имеют ничего общего с истинной религией, — заметил Ирод, щурясь на жареного воробья, которого он разбирал по косточкам своими жирными пальцами.
— Ты упомянул о пророках, — сказал Метелл. — Мы то и дело слышим о них. Расскажи мне о пророках, великий.
— Пророки… — молвил Ирод. — Пророк — это человек, который предсказывает, что близится кара Божья. Он утверждает, что Бог накажет грешников и что грешникам лучше перестать грешить. Пророк напоминает им, что такое грех и что такое грехи, и неистовствует, требуя остановиться.
— А под Богом, — улыбнулся Метелл, — разумеется какой-нибудь маленький бородатый немытый племенной божок?
— Это недостойные речи, о владыка Метелл, и ты сам это знаешь, — сказал Ирод. — Послушай, от пророков нет никакого вреда. В Палестине они всегда были. Святые люди, которые хотят, чтобы и другие были святыми. Прекрати избивать свою жену. Прекрати поедать свинину. Содержи в чистоте свои ногти. Ничего дурного, никакой опасности для Рима, если ты думаешь именно об этом.
— Тогда чем же пророк отличается от того, кого обозначают словом «мессия»? — спросил Метелл.
— Мессия… — Ирод задумался на несколько секунд, снова бросив косой взгляд — на этот раз его внимание привлекла ягодичная мышца двенадцатилетней девочки, привезенной из пригорода Дамаска. — Мессия в корне отличается от пророка. Пророков было много, мессии же не было никогда. И никогда не будет. Это мечта, господин мой, не более того.
Метелл пожелал узнать, в чем суть такой мечты.
— Плохая мечта, — сказал Ирод. — Суть ее вот в чем. Откуда ни возьмись появляется некий человек. Он проповедует, как пророк, — о грехе, покаянии и всем таком прочем. Но у него имеется свидетельство, так сказать, его царского происхождения. Он принадлежит к царскому роду и может это доказать. Как любой другой священник, он потрясает Священным Писанием, но придает ему новый смысл. Искажает его, если угодно. Добавляет немалую толику от себя, чтобы Писание выглядело иначе, но не настолько иначе, чтобы оно стало совсем другим. Где-то замечают, что он ест свинину, а это совершенно противоречит еврейским диетическим предписаниям, но он вытаскивает какой-нибудь темный отрывок из пророка Наассона или еще кого и доказывает, что при нашествии саранчи, когда ветер дует в западном направлении и когда тамариск зацветает раньше обычного, поедание свинины в порядке вещей — вот так, и никаких объяснений. Этот человек говорит, что пришло время создания нового Царства, и люди верят ему и идут за ним, чтобы сокрушить царство старое.
— Как же сокрушается старое царство, великий? — спросил Метелл. — Откуда берутся армии?
— Армии уже там, — ответил Ирод. — Армии идут за ним, вместе с народом. Они забывают, кому подчинялись прежде, и начинают верить в новый порядок. А не пойти ли нам пообедать? Какое развлечение желательно увидеть владыке Метеллу? Полагаю, мы здесь можем все устроить не хуже, чем в Риме. У меня есть женщины-бойцы с очень длинными ногтями. Или, например, петушиные бои — они производят меньше шума. Мы вырываем у птиц гортань, чтобы они не кукарекали.
— Благодарю тебя, — ответствовал Метелл. — Много ли сейчас говорят о мессии?
— Не больше, чем обычно. Но и не меньше. Страстное желание прихода мессии — это часть еврейскою образа жизни. Что-то вроде семейного времяпрепровождения. Каждая беременность может предвещать сына, а этот сын может оказаться мессией. Если рождается дочь — что ж, у нее появляется свой шанс, такой же, как у ее матери. Для стабильности семьи, как ты мог бы сказать, это благо.
— Стабильность семьи означает стабильность государства, — произнес Метелл.
— Возможно, плохие мечты — не такая уж высокая плата за это.
Ирод подал сигнал, воздев свои толстые пальцы, отягощенные массивными кольцами, и оркестр, возглавляемый старшим царским музыкантом, худым бородатым сирийцем, заиграл величественный варварский марш. Среди инструментов были свирели, трубы, медные тарелки и единственная, но очень громкая цевница. Рабы помогли Ироду взобраться на носилки.
— Из-за этих проклятых болей в икрах мне приходится перемещаться в обеденный зал на носилках, — сказал он. — Это как с зубной болью: здесь она не дает о себе знать, но там зубы непременно заноют. Вот что такое старость. Хочешь, чтобы тебя тоже перенесли, или пойдешь сам?
Стараясь перекричать цевницу, Метелл ответил, что пойдет сам, а еще вернее — промарширует.
Итак, они приступили к обеду, как вы можете догадаться, весьма роскошному. Едоков было всего двое, но им помогало около двадцати прислужников, которыми руководил толстый, лоснящийся от масла мажордом, молодой и уже кастрированный. Он негромко хлопал в ладоши всякий раз, когда для знатного гостя из Рима следовало подать свежие салфетки, более прохладную воду, вино или дополнительную порцию заливных телячьих мозгов. Вообразите себе, какие блюда могут подать на грандиозном банкете, и я заверю вас, что они все здесь были, а разносили их, беспрестанно низко кланяясь, нагие мальчики-рабы. Ирод ел очень мало, однако много потел, судорожно дергался, стонал от боли, изрыгал проклятия и своей усеянной кольцами рукой бил подававшего ему прислужника, если дыхание раба становилось слышимым. Метелл украдкой наблюдал за Иродом, поскольку истинной целью его приезда сюда было составление донесения для Рима о здоровье царя и о том, сколько лет он еще может прожить. До сих пор Ирод поддерживал в Палестине порядок, но после его смерти положение вещей грозило сильно измениться, а Рим не мог позволить себе допустить хаос на своем самом восточном фланге.
В тот вечер, за обедом, Ироду Великому вдруг стало мерещиться, будто многие люди, которых давно умертвили по его приказу, а иных умертвили даже очень давно, в том числе его возлюбленную супругу Дориду, чья смерть когда-то представлялась жестокой необходимостью, неожиданно ожили, причем все разом. Ему казалось, что они внезапно возникали в кустарнике за террасой, выглядывали из-за края стола, стояли где-то сбоку, на самом краю зрительного поля, и тотчас растворялись, когда он пытался перевести на них взор, или же так ясно пели в его голове, что он начинал искать владельцев этих голосов, тяжело поворачиваясь, озираясь по сторонам и стеная от боли. Несколько раз он с виноватой улыбкой обращался к Метеллу, говоря, что нынче ему нездоровится, но завтра будет лучше, что все его проклятые лекари круглые дураки, и все такое прочее. Метелл улыбался, кивал и продолжал есть, но говорил очень мало. Ему казалось, что не следовало расспрашивать Ирода о пророках, мессиях и тому подобных вещах.
ТРЕТЬЕ
Говорят, это случилось в десятый день месяца Тишрей[32], в великий праздник Йом Ха-Киппурим, называемый также Шаббат Шаббатон, или Суббота Покоя. Именно тогда с Захарией произошел тот странный случай, после которого он онемел. Это был день искупления и взаимного прощения грехов, когда, чтобы получить прощение от Бога, человек должен прежде всего простить себя сам, и простить от всего сердца. В этот день не едят, не пьют и подавляют в себе плотские желания. Люди надевают обувь из новой кожи, и по всему Израилю растекается сладковатый запах масел для ритуального помазания.
Захария был очень стар годами и состоял на службе Господу, а в этот день, к великой гордости своей жены Елисаветы, которая была так же стара, как и он, Захария должен был исполнять обязанности первосвященника Иерусалимского Храма. И вот, шествуя в своем облачении под музыку по полу Дома Всевышнего, Захария повернулся, посмотрел туда, где вместе с другими дочерьми Израиля стояла его жена Елисавета, и улыбнулся ей, а она улыбнулась ему в ответ. Оба они были очень стары и, к своей великой печали, не имели детей, но они прожили вместе много лет, и это были годы любви, согласия и добра.
Сначала принесли в жертву агнца, а затем Захария, поскольку сегодня был единственный день в году, когда первосвященник мог сделать это, прошел за завесу[33] Храма к Святая святых, чтобы окропить кровью агнца священный очаг и бросить в него щепотку фимиама. Проделывая это и прислушиваясь к доносившемуся из-за завесы пению священников и прихожан, Захария вдруг поразился, увидев, что неподалеку стоит, опираясь на алтарь, некий молодой человек в простой одежде, белизна которой затмевала белизну жреческого одеяния самого Захарии. У него были коротко постриженные золотистые волосы и гладко выбритое лицо. Молодой человек — как сначала показалось Захарии, с совершенно дерзким и небрежным видом — чистил свои ногти небольшой тонкой заостренной палочкой, то и дело поглядывая на них, будто совсем недавно получил эти ногти в пользование и теперь хотел понять, каково же их назначение. Брызгая от возмущения слюной, Захария попытался заговорить, кровь жертвенного агнца в сосуде заколыхалась, и небольшое ее количество даже выплеснулось через край.
— Кто ты? Что это такое? Как ты посмел? Кто тебе позволил? — только и смог проговорить Захария.
Молодой человек отвечал чрезвычайно спокойно, на чистейшем еврейском языке Священного Писания, изъясняясь не просто хорошо, но даже слишком хорошо, как подобало бы очень образованному чужеземцу:
— Захария, священник Храма, не ты ли столь часто желал сына, порожденного твоими чреслами? Ты и твоя жена Елисавета, не вы ли столь часто молили Бога, чтобы дал Он вам сына? Возможно, вы уже перестали желать этого и прекратили возносить молитвы, ибо жена твоя слишком стара, а семя твое иссохло в тебе.
Старик почувствовал, что сердце его вот-вот остановится.
— Это что? — забормотал он. — Это какая-нибудь…
— Шутка? — улыбнулся молодой человек. — О нет, я не шучу, Захария. Не пугайся. Поставь сосуд, который ты держишь в руках, — ты расплескиваешь кровь. Мне не нравится, когда приносят в жертву животных, это грязный варварский обычай, но придет время, и ты изберешь более чистый и достойный способ воздаяния Богу. А теперь слушай, друг мой. Твои молитвы наконец-то услышаны, и твоя жена Елисавета, хотя она слишком стара для родов, все же родит тебе сына. Ты должен назвать его Иоанном — ты слышишь меня? — Иоанном. Его рождение принесет тебе радость, а он станет велик пред Господом. Он будет человеком, не подверженным влечениям плоти, ибо для него довольно будет преисполниться Святым Духом — еще от чрева матери своей. Многих детей Израиля обратит он к их Богу. Он уготовит стезю для прихода Господа. Ты успеваешь за мной? Тебе все понятно?
— Не могу… — простонал Захария, задыхаясь. — Этого не может быть. Ты дьявол. Уйди прочь, сатана! В самый день снятия грехов мне является отец всех грехов, чтобы искушать меня. Прочь с глаз моих! Ты оскверняешь трон Всевышнего!
Молодой человек, казалось, не столько рассердился, сколько слегка обиделся. Он отбросил палочку, которой чистил ногти, и погрозил старику пальцем.
— Послушай, — сказал он. — Меня зовут Гавриил. Я архангел, предстоящий пред Богом. Я был послан, чтобы сообщить тебе все это, и я сообщил что хотел. Тебе не подобает называть меня сатаной и отвергать благую весть от Бога. Здесь, мне кажется, будет уместно некоторое наказание. Ты будешь поражен немотой до того самого дня, когда произойдет то, о чем я тебя предупредил. Ты не поверил моим словам, поэтому своих слов у тебя не будет вовсе. И знай, глупый старик, все сказанное мною обязательно исполнится в свое время.
Захария попытался что-то вымолвить, но все, что вышло из его уст, было — бур-бур-бур. Молодой человек — вернее сказать, архангел — приязненно и совершенно беззлобно кивнул на прощание, а потом стал растворяться в воздухе, причем последнее, что исчезло из вида, были его вычищенные ногти, — так, во всяком случае, впоследствии рассказывал сам Захария. А в тот момент он стоял, задыхаясь и бурбуркая, и сердце его, казалось, почти остановилось, и тогда, ища поддержки, он ухватился за завесу Храма. Пошатываясь, Захария вышел из внутреннего святилища и показался народу. Люди, увидев его, были очень встревожены. А он все продолжал — бур-бур-бур. Другие священники, нахмурившись, окружили его, и Захария, делая патетические жесты, попытался объяснить, что с ним произошло. К своему стыду, он попробовал даже изобразить явление архангела, хлопая обеими дрожащими руками, как крыльями, и воздевая одну руку, чтобы показать великий рост своего собеседника. «Видение? — еще сильнее нахмурился один из священников. — Это действительно было то, что было?» Захария в ответ — бур-бур-бур. Тревожное бормотание собравшихся стало совсем громким. Захарию вывели из Храма, и в портике он увидел ожидавшую его Елисавету. Она поняла, что в его глазах пляшет безумная радость, победившая сильный страх, и с быстротой, присущей всем женщинам, догадалась, что эта радость могла означать. Елисавета была женщиной и, следовательно, находилась в более близких отношениях с миром реальности и истины, чем это доступно большинству мужчин. Ей вовсе не казалось невозможным, что в святом месте, куда в любой другой день года возбранялось входить даже первосвященникам, Господь или Его посланник сказал ее мужу радостные слова, и слова эти могли быть только об одном. Всего остального у них было даже больше, чем нужно. Елисавета прошептала какое-то слово, и Захария принялся кивать и бурбуркать. Она повела его домой, все остальные, обсуждая случившееся, следовали на некотором удалении, а несколько сирийских наемников в римской форме начали издевательски гоготать, изображая пьяных: «Эти евреи прямо там и напились, в той конюшне, что они назвали Храмом! Грязные яхуди!»
Как только они пришли домой, Захария очень спокойно, старательно выводя каждую букву, принялся записывать все, что происходило с ним в тот день за завесой Храма. Елисавета покачала головой и заговорила.
— Мне не следовало в этом сомневаться, — сказала она. — Ведь то, на что все женщины надеются, но во что на самом деле не очень-то верят, когда-нибудь может и сбыться. Разве нельзя сказать, что наш Бог — это Бог, который смеется, и что Он очень любит хорошую шутку? Он выбирает женщину, детородный возраст которой давно уже миновал. Но ведь с таким же успехом Он мог бы выбрать и девственницу. Сдается мне, скоро и впрямь явится Мессия, поскольку, помнится, где-то в священных книгах сказано, будто некая девственница должна затяжелеть. Только получается, что тот, кого дарует нам Господь, это вовсе не Мессия, а его глашатай или провозвестник — не знаю даже, как правильнее сказать. Ах да, и еще я вижу, что ему следует дать имя Иоанн[34]. Это хорошо, что ты все быстро записал, иначе мог бы что-то забыть. Наш сын… да-да, у нас будет сын, и теперь я должна бережно хранить то, что внутри меня, а когда придет время и станут видны кое-какие признаки, мне придется укрыться от людских глаз. Все эти девять месяцев я буду говорить за двоих. Нет-нет, тебе не нужно записывать, что я это уже делаю.
И от любви и радости они бросились друг другу в объятья.
В день праздника Шаббат Шаббатон церемония искупления грехов по традиции заканчивалась тем, что людские грехи возлагались на козла отпущения, которого сбрасывали вниз с высокой скалы, находившейся неподалеку от Иерусалима, и он в мучениях погибал, разбившись об острые камни. Называли этого козла Са’ирла-Аза’зел, что означало «козел для умиротворения демона Аза’зела», обитавшего в пустыне. Вы можете прочитать об этом в шестнадцатой главе Книги Левит. Задолго до описываемых мною событий римляне точно таким же образом использовали невинность для принятия на себя вины, только в те времена это был человек, а не животное, и человек сам выбирал себе подобную участь. Выбор всегда очень важен, животное же выбирать не может.
Случилось так, что в день, когда Захарии явился архангел, козел отпущения, пасшийся на привязи в саду Храма под наблюдением двух служителей, оказался без присмотра, когда эти двое пошли взглянуть, что за суматоха поднялась возле Храма. Козел перегрыз веревку и убежал. И теперь нужно было искать другого козла.
ЧЕТВЕРТОЕ
А сейчас мы отправимся с вами в путешествие в Ха-Галил, или Галилею, что к северу от Иудеи, но не в самую северную ее часть, где высокие горы чередуются с глубокими ущельями, а несколько южнее — в места, которые именуются Нижней Галилеей. Холмы здесь гораздо более пологие, и именно среди них стоит город Назарет.
Жил в этом городе один человек средних лет, еще бодрый и крепкий. Он не обладал ни особенным воображением, ни остроумием, но был, несомненно, добропорядочным человеком. Звали его Иосиф, и занимался он плотницким ремеслом. Помимо прочих вещей, нужных и в хозяйстве, и для украшения жилища, он делал превосходные деревянные плуги, причем говорят, что некоторыми из них люди пользуются и по сей день. Но вообще-то он мог сделать почти все, что его просили изготовить: столы, табуреты, шкафы, хомуты для животных, посохи и даже шкатулки для драгоценных камней и других дорогих предметов, имевшие в крышках специальные секретные запоры в виде передвигавшихся в определенном порядке пластин, чему его научил один персидский мастер.
Во время описываемых мною событий у Иосифа было два юных ученика, Иаков и Иоанн, и вот в один прекрасный день молодой Иаков, устав работать пилой и рубанком, сказал буквально следующее — как бы ему хотелось быть великим царем или еще каким большим человеком, которому ничего не надо делать — ешь себе медовые сласти да пей шербет из драгоценного кубка! На что Иосиф повернулся к нему с такими словами:
— Право же, новые цари, вроде Ирода Великого, как его теперь именуют, подобным образом и проводят жизнь. Они ничего не делают, лишь жиреют себе, пока не станут слишком жирными даже для своего излюбленного развлечения — порки рабов. Но не таковы были истинные цари Израиля. Они занимались ремеслами, работали, как и мы, вернее сказать, как и я, поскольку вы, ребята, сдается мне, пока еще просто играете, но и вы, придет время, научитесь работать как следует. Разве не был царь Давид пастухом? Я, как вы знаете, принадлежу к крови Давидовой, и я горжусь тем, что работаю плотником. Вы, парни, тоже должны обучиться этой гордости. Руки у вас должны быть крепкими — не то что у этих гоев, их руки мягкие, как оконная замазка. И о том, как ведет себя дерево, как придавать ему форму, вы обязаны знать все, да-да. Мальчики мои, не начинайте жизнь с грез о лучшей доле, о том, как было бы хорошо продавать и покупать товары в богатых иерусалимских лавках и чтобы ваши нежные благородные пальцы пахли мягким мылом. Нет запаха лучше, чем запах кедра. В этом будет ваша жизнь, и такая жизнь тоже хороша. Я, например, прошу только одного — чтобы в жизни ничего не менялось, то есть не менялось в моей жизни, вот что я хочу сказать.
Затем Иосиф достал из шкафа образцы деревянных соединений, которые применяются в плотницком деле, — разного рода уголки, служившие для показа, как можно соединять между собой деревянные детали, — и начал экзаменовать своих учеников. Двойной клин. Соединение при помощи шипа и клиновидного паза. Так, хорошо, хорошо. Стык взакрой. Нет, глупый мальчишка, это врубка шипом в гнездо. А это что? Соединение на шипах и шпонках. Хорошо.
Свет в дверном проеме померк, и Иосиф, прищурившись, вгляделся в силуэт человека, пожаловавшего в мастерскую.
— А, госпожа Анна! Ты хорошо выглядишь.
— Хорошо я не выгляжу, да и чувствую себя неважно, — отвечала гостья. — Ты сам увидишь, когда свет не будет бить в глаза. Может быть, мы отойдем ненадолго куда-нибудь, где бы нам не мешал свет?
— Стало быть, ты пришла не как заказчица? — спросил Иосиф.
— Нет, — ответила женщина, — не как заказчица.
Иосиф повернулся к ученикам и сказал:
— Могу я вам доверить, чтобы вы это осторожно, очень осторожно выровняли? Пусть рубанок сам идет по дереву. Не давите на него.
Он провел гостью в небольшое жилое помещение позади мастерской, очень просто обставленное и вполне подходившее для холостяка среднего возраста. Оно состояло из спальни и комнаты для сидения и еды. Кухней служила хибарка во дворе, где хранилась древесина. Иосиф налил Анне вина и вгляделся в ее лицо. Женщина сильно исхудала и выглядела гораздо старше своих лет. Совсем недавно она овдовела.
— Он был хорошим человеком, — сказал Иосиф.
— Иоахим был лучшим из людей, — молвила Анна. — На похоронах про него говорили: «Небольшой, но драгоценный камень дома Давидова» — и это сущая правда.
— Я не желал бы большего, если бы такое сказали обо мне, — произнес Иосиф. — И о тебе, понятно, тоже. Но тебе, конечно, еще жить да жить, — добавил он с учтивостью плотника.
— Думаю, уже недолго осталось, — сказала Анна.
Теперь, когда Иосиф смог лучше разглядеть ее лицо — бледное, с морщинами от пережитого, — он мысленно согласился с нею.
— У меня все продолжаются эти изнуряющие истечения, — продолжала Анна. — Тот же кровавый понос, что свел в могилу бедного Иоахима. Думаю, я скоро последую за ним, вот почему я пришла к тебе сегодня. Я хочу поговорить о моей дочери.
— Ты хочешь, чтобы я стал ее опекуном? — спросил Иосиф.
— Нет, — ответила Анна, — я хочу, чтобы ты стал ее мужем.
— Позволь, я налью тебе еще немного вина, — предложил Иосиф, немного помедлив. Он налил вина ей, а заодно и себе и затем сказал: — Тебе должно быть достаточно хорошо известно, что я не могу быть чьим бы то ни было мужем. Тебе должно быть не менее хорошо известно, что в этой самой мастерской — еще когда она принадлежала моему отцу, упокой Господи его душу, — я получил повреждение. И получил его в том самом месте, которое для мужчины наиболее стыдно повредить. Это значит — если позволительно сказать такое даме, — что я не способен выполнять роль мужчины.
— Я об этом слыхала, но никогда по-настоящему в такое не верила. Я просто замечала, что ты не выказываешь желания быть с женщинами. В том смысле, что ты не хочешь прикасаться к ним.
— И все же ты просишь меня жениться на твоей дочери.
— Да, потому что скоро она останется одна и я опасаюсь за ее будущее, если дочь останется без мужской защиты. А лучшая защита — это защита мужа, как по закону, так и в жизни. Что же касается иной точки зрения, она же единственная, которую ты высказал, будто бы то самое — это главное в женитьбе, то тебе следует знать, что моя дочь дала обет сохранять невинность.
— Сколько ей лет? Тринадцать? Четырнадцать? Девочка в таком возрасте еще сама не знает, чего хочет.
— Она знает это достаточно хорошо. Невинность — хорошее дело, угодное Господу Богу.
— Я видел, как угасали мои желания, — сказал Иосиф. — Огонь страсти может довести до безумия. Я люблю нежаркий свет, только он несет в себе благословение. По крайней мере, так я говорю себе сам. Что касается тринадцатилетней девочки, костер ее желаний еще даже не разложен, а уж до огня и вовсе далеко. Пусть она говорит о невинности, угодной Богу, когда покажется пламя.
— Ей четырнадцать, уже почти пятнадцать, — молвила Анна. — Мы с ней много говорили об этом. Она понимает, что это значит — быть лишенной тех надежд, которые сопровождают плотскую жизнь, надежд еврейских женщин, я хочу сказать. Быть лишенной радости иметь детей, и не важно, избраны они Богом или нет. Она добрая девочка, и к тому же скромная. Хорошо ведет хозяйство, все у нее спорится, и вместе с тем — нигде ни пятнышка. Тебе нужна женщина, я это вижу по твоей одежде.
— На мне старая одежда — для работы в мастерской.
— Да, но не должна же она быть такой драной. Кто тебе готовит?
— Утром я ставлю тушить мясо, — сказал Иосиф, — а к обеду оно бывает готово.
— Моя дочь может готовить блюда и повкуснее тушеного мяса.
— Мне нравится тушенка. Ну, может быть, не все время. — Иосиф посмотрел на Анну, обдумывая сказанное, затем произнес: — Значит, не женщина, а девочка. Ты предлагаешь мне что-то вроде пробной дочери.
— Нет, — твердо сказала Анна, — я предлагаю тебе жену. С приданым, с кое-какой собственностью. С правом на защиту, которую может дать только замужество. Некоторые подумают, что это довольно странный брак. Но в Галилее подобные браки не редкость. И я думаю, их будет гораздо больше, если вспомнить все эти разговоры о конце дней и о приближении Царствия Небесного. Мужчины и женщины соединяются, чтобы рождать детей, но в том, чтобы производить на свет все больше детей, нет никакого смысла — если, разумеется, конец дней действительно грядет.
— Я в это не верю, — сказал Иосиф, почесывая свой заросший бородой подбородок. — Он грядет, он уже близок — мало ли бывает разнотолков. Об этом говорили еще тогда, когда я был ребенком, — и с каким пылом! А пыл этот на пустом месте. Ну да ладно. И все-таки… Жена… — принялся он размышлять вслух. — Жена, которую нужно будет любить без желания. Супружество, освященное не детьми, а целомудрием. Не поговорить ли нам тогда о помолвке? Впрочем, это супружество само по себе будет своего рода помолвкой.
— Приходи к нам сегодня вечером. Она приготовит тебе обед.
— Ты уверена, что она действительно понимает, что ей нужно? Уверена, что она этого хочет?
— Да, она этого хочет, — ответила Анна.
Девочку звали Мария, точнее — Мариам, это же имя носила сестра пророка Моисея. Она была хороша собой — лицо гладкое, движения проворные. Порой может и вспылить, но никакой злобливости в ней не было вовсе. Ее помолвка с Иосифом означала, главным образом, то, что вечерами, после работы, он приходил в дом Анны, присаживался и разговаривал с больной женщиной, которая вскоре уже совсем не могла подниматься, в то время как ее дочь молча шила, штопала что-нибудь или занималась делами на кухню. В доме было двое слуг — старая Елисеба и ворчливый Хецрон, который ухаживал за садом и делал эту грязную мужскую работу тогда, когда у него такое желание появлялось. Были там и старая ослица по кличке Малка, и пес Шахор, который большую часть дня находился на привязи на заднем дворе и громко лаял, а также множество кошек самого разного возраста. Однажды, незадолго до своей смерти, как потом оказалось, Анна сказала Иосифу:
— Этот дом, конечно, и есть ее приданое.
— Ты хочешь сказать, я должен переехать сюда и жить здесь? Я об этом пока не думал.
— Будет не очень-то хорошо, если ты заберешь ее отсюда и поселишь в своей маленькой каморке, набитой стружками.
— Мои мать и отец, да и сам я… — Иосиф вспомнил, что после смерти отца он расширил мастерскую, а жилые комнаты уменьшил. — Да, да, я понимаю. Люди начнут судачить об этом. Нет ли у тебя братьев или двоюродных родственников, я имею в виду, мужского пола, которые захотят претендовать на твой дом?
— Закон Моисеев ясно говорит обо этом. О праве дочерей на собственность.
— Да, я понимаю.
Мария отвлеклась от штопанья старой рубахи Иосифа и улыбнулась ему — вполне дружески, но и не более чем дружески. Иосиф сознавал, что уже приближается к преклонному возрасту, и хотя он был еще достаточно крепок и пока не располнел, но все же охал по утрам от болей в ногах, волосы его стали редеть, а борода поседела. Мария же была очень молода и еще ничего не знала о жизни, в отличие от него, который мог бы обучить ее чему угодно, кроме разве что двойному клину или соединению на шипах и шпонках. Но к этим вещам она, конечно, особого интереса не проявила бы.
Только когда Анна, окруженная слугами и родственниками, стала умирать, Мария — в слезах, что было вполне естественно, — впервые обратилась к Иосифу как к жениху, ища утешение в его присутствии и поддержку в его объятиях. Чувствуя себя несколько неловко, Иосиф бережно обнял Марию, стараясь, насколько возможно, уменьшить ее страдания. Он осторожно отвернул в сторону ее лицо, чтобы Мария не видела картины смерти, хотя не более чем за полгода до этого она стояла у постели умирающего отца.
После похорон она стала хозяйкой дома, и теперь, когда Иосиф заходил к ней вечерами, им приходилось терпеть присутствие старой Елисебы, которая все время сидела поблизости, словно компаньонка. Иосиф приносил Марии подарки собственного изготовления — большей частью это были тонко выделанные шкатулки с секретными замками в крышках, а Мария пекла печенье для него и его учеников. Это было просто дружеское ухаживание, без единого резкого слова, если, конечно, не считать слов, изрекаемых старой Елисебой.
ПЯТОЕ
Однажды погожим днем Мария сидела одна в гостиной и чесала шерсть. Она еще носила траур, но настроение у нее в тот день было хорошее, и она напевала галилейскую песенку о девушках у фонтана и о появлении царя. В саду щебетали птицы, на заднем дворе лаял старый Шахор. У ног Марии мирно спал один из котов — самый старый, с изодранными ушами, носивший кличку Кацаф. Вдруг кот забеспокоился и проснулся. Он увидел что-то, чего не могла видеть Мария. Зашипев, он выскочил в сад и взобрался на дерево.
— Глупый старый Кацаф, — сказала Мария, — тебе опять что-то приснилось.
Но теперь это «что-то» увидела и она.
Глазам Марии явился молодой, гладко выбритый человек в белом одеянии, с коротко постриженными золотистыми волосами. Ноги его были босы. Он стоял, опираясь на шкаф для посуды, который недавно сделал для Марии Иосиф. Молодой человек улыбнулся и заговорил:
— Божий ангел приветствует тебя, Мария.
— Как ты… Кто… — У нее перехватило дыхание. — Что это значит? Откуда ты…
Старый Шахор лаял, как безумный.
— Здесь шумно, — заметил молодой человек, и лай прекратился, а гость между тем продолжил: — Ты исполнена благодати, и Господь благоволит к тебе. Да пребудет Господь с тобою, дитя мое.
— Кто ты? — спросила Мария, чувствуя, как ее бьет дрожь.
— Меня зовут Гавриил. Я архангел, которому дозволено стоять в присутствии Бога. Не пугайся, дитя мое, ты обрела великое благоволение Господне. Поверь теперь в то, что покажется тебе невероятным: ты понесешь во чреве твоем, и произведешь на свет сына, и дашь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего. Господь Бог даст ему престол Давида, ибо, будучи твоей крови, он должен быть и крови Давидовой. Он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Избавься от сомнения, как ты только что избавилась от страха. Я вестник истины Божьей.
— Но… Нет, этого не может быть, — сказала Мария. — Я незамужняя девушка. И я не… не…
— Не знала мужчины и дала обет не знать никогда? — помог ей Гавриил. — Но для Святого Духа нет ничего невозможного. Святой Дух сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Ты должна в это поверить. Веришь ли ты?
— Я не могу… — начала она. — Я не могу даже подумать…
— Послушай, Мария, — сказал Гавриил. — У тебя есть родственница, двоюродная сестра твоего отца — Елисавета, жена священника Захарии. Оба они знают о том, что с ней случилось, хотя только один из них может говорить. И хотя она немолода и давно перешагнула тот возраст, когда можно родить, она все же зачала сына. Сейчас, если считать по вашему календарю, идет уже шестой месяц зачатия. Как видишь, для Господа Бога нет ничего невозможного. Точнее, ты увидишь это собственными глазами. Поезжай к ней. Она может поведать тебе о чуде, так же как ты можешь сказать ей о нашем разговоре, но больше — никому ни слова.
— Но ведь есть еще и… — заколебалась она. — Я должна рассказать об этом…
— Деревянных дел мастеру? — спросил Гавриил. Он резко хлопнул по стенке шкафа, затем попробовал качнуть его, но буфет прочно стоял на каменном. — Всему свое время. Не следует с этим торопиться.
Тут он обернулся в сторону сада, где затаившийся в траве Кацаф, который уже успел слезть с дерева, наблюдал за архангелом широко открытыми глазами. Должно быть, как Мария решила позже, Гавриил распространял вокруг себя сильный запах кошачьего котовника или еще какой-то кошачьей травы, поскольку Кацаф вбежал в дом, правда очень медленной трусцой, и стал обнюхивать незнакомца. Вскоре по комнате разнеслось его мурлыканье, а он, закрыв глаза и подняв хвост трубой, все терся и терся о лодыжки архангела. Гавриил улыбнулся Марии и сказал еще раз:
— Для Бога нет ничего невозможного.
Наконец Мария, которая все это время не осмеливалась подняться со стула, встала и молвила:
— Вот я стою перед тобой. — А затем: — Вот я преклоняю колена…
Но Гавриил остановил ее:
— Ах нет. Если нужно совершить коленопреклонение, то это должен сделать я — твой смиренный вестник.
Теперь Мария остановила его.
— Очень хорошо, — согласился Гавриил, — никто из нас не будет вставать на колени.
Казалось, что Мария должна сказать что-то еще — скорее всего, нечто такое, что архангел унес бы с собой и передал Пославшему его, — поскольку, пока Кацаф продолжал предаваться экстазу, Гавриил молча ждал. Наконец Мария нашла нужные слова и сумела их произнести.
— Вот, я раба Господня, — сказала она. — Пусть со мной будет так, как ты сказал.
Гавриил, улыбнувшись, кивнул, а затем, в знак того, что его посещение закончилось, позволил Шахору залаять снова. Мгновением позже его в доме уже не было, а Кацаф, когда ангельская лодыжка исчезла, едва не свалился на бок и долго еще продолжал мурлыкать. И его мурлыканье помогло Марии поверить, что все случившееся, столь похожее на сон, было наяву.
В тот вечер Иосиф зашел к ней, чтобы отведать зажаренной на вертеле баранины с кольцами лука и завершить обед тушеными фруктами, и Мария сказала ему, что должна навестить свою родственницу Елисавету, проживавшую в Иудее. Она объяснила Иосифу, что ей приснился сон, в котором Елисавета будто бы звала ее к себе (это было правдой, но такой сон привиделся ей несколько лет назад, и тогда она не предприняла в связи со сном никаких действий). Конечно же, сны, может быть, ничего и не предвещают, но, кажется, священные книги утверждают обратное, разве не так? — рассуждала Мария, хотя ее знакомство со священными книгами было весьма отдаленным. Впрочем, этот сон можно было истолковать и как напоминание о том, что она обязана рассказать родственнице о своем предстоящем замужестве и всем таком прочем. А заодно пригласить Елисавету и ее мужа Захарию на свадьбу. И все такое прочее.
— Я должен ехать с тобой, чтобы ты была под моей защитой, — заявил Иосиф. — По сути, я просто настаиваю на том, чтобы ехать с тобой.
Мария напомнила ему, что они пока еще не муж и жена, а потому он не имеет никакого права настаивать. Он должен оставаться в мастерской и продолжать свою работу, потому что он деревянных дел мастер как-никак (при этих словах Мария явственно увидела губы Гавриила и едва не вскрикнула), а она отправится в Иудею, в предместье Иерусалима, в сопровождении ворчуна Хецрона. Она поедет на ослице Малке, а Хецрон будет шагать рядом. Расстояние небольшое, и поедут они с караваном, который отправится из Назарета в следующий Йом Ришон, да-да, почему бы и не в следующий Йом Ришон? Очень хорошо, согласился Иосиф, но пусть тогда Мария не задерживается там слишком долго, а то он будет волноваться.
Итак, Мария отправилась в путешествие на юг, и солнечным весенним днем подъехала к дому Захарии, который не очень изменился с тех пор, как она, тогда совсем еще девочка, гостила здесь, — только деревья стали выше. Мария удивилась, когда навстречу ей вышел жующий слуга и заявил:
— Мой хозяин нездоров. Он никого не принимает.
— Это следует понимать, что я помешала твоей трапезе и ты, стало быть, недоволен, — с необычной для нее резкостью сказала Мария.
— У меня приказ. Хозяин никого не принимает.
— Передай ему, что приехала Мария, дочь Иоахима. Из города Назарета, что в Галилее. Скажи еще, что я приехала повидаться с хозяйкой.
— Она тоже никого не принимает.
— Ну все, довольно, — заявила Мария. — Впусти меня.
И с властной решительностью, которую она с великим удивлением в себе обнаружила, Мария ринулась в дом, а слуга, проглотив то, что у него было во рту, нехотя посторонился.
В гостиной никого не было, но Мария подала голос, и вскоре из-за занавески выглянула ее родственница Елисавета. При виде Марии она обрадовалась, вышла и с улыбкой протянула к ней руки. Мария увидела, что платье на ней весьма просторное.
— Я знаю, что ты носишь под этим просторным платьем, — сказала Мария. — Значит, это правда. Благословен, благословен и еще раз благословен будь Господь!
— Откуда тебе известно? — спросила Елисавета. — Кто сказал тебе?
— Божий ангел, — ответила Мария так, словно с ангелами встречалась чуть ли не ежедневно. — Он мне и о другом еще сказал. О вещи не менее чудесной.
— О вещи более чудесной, — поправила ее Елисавета.
Она сразу же поняла, что это за более чудесная вещь, и ребенок, бывший в ее чреве, казалось, тоже это понял, потому что он резко дернулся. С силой прижав руки к животу, словно опасаясь, что ребенок пробьет кожу и, вдохнув живительного воздуха, запоет аллилуйю, Елисавета сказала:
— Это самое чудесное из всех чудес. Ты будешь благословенна среди женщин. И благословен будет плод от чрева твоего. И благословенна я, потому что матери Господней понадобилось прийти ко мне. И благословенно мое дитя — тот, кто уготовит стезю Господу.
Считается, что именно в то время, когда Мария жила у Елисаветы, она сочинила песню, или молитву, или, может быть, и то и другое. Однажды утром, когда она кормила кур, к ней пришли слова: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный»[35].
На этом песня или молитва заканчивалась, как если бы Марии давалось время, чтобы выучить наизусть то, что на нее снизошло свыше, а затем сообщить этот текст Захарии, который за время своей немоты сделался прилежным писателем, и тот передал бы его нам, записав на дощечке, каковая дощечка, вся в пыли, и была найдена в его доме, когда ни Захарии, ни жены его (бывших в описываемое мною время на закате дней своих) давно уже не было на этом свете.
День или два спустя, когда Мария стояла, поглаживая одного из двух пасшихся за домом осликов, она вдруг неожиданно для самой себя произнесла продолжение тех слов: «Свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем»[36].
И еще несколько дней спустя, когда Мария собирала цветы, она почувствовала, как к ней приходят последние слова этой песни или молитвы: «Воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Аллилуйя! Аллилуйя!»[37]
Захария, хотя и по-прежнему оставался нем, был достаточно крепок и на аппетит не жаловался. Однажды вечером, за обедом, он стал внимательно прислушиваться к тому, о чем говорили его жена и ее родственница, при этом Захария кивал, мычал и присвистывал после каждого их высказывания, требовавшего, как он считал, его священнического подтверждения.
— Так ты думаешь, он поверит? — спросила Елисавета, проглотив кусочек жареной рыбы.
— Божий ангел явится ему.
Здесь Захария забавно изобразил на своем лице весь ужас подобного посещения.
— Всему Господне время, — произнесла Елисавета. — Но сначала он должен выдержать испытание на веру. В том и юмор Бога, что Его сын и пророк Его сына должны быть зачаты там, где это невозможно. Не после крепких объятий плотской любви, но из нетронутого чрева и из чрева давно уже бесплодного. Думаю, Захария, именно так ты и должен это записать.
Захария все кивал и кивал и, похоже, готов был уже заговорить, издав гортаный звук, но оказалось, что он всего лишь поперхнулся рыбьей костью.
Елисавета похлопала Захарию по спине, чтобы кость прошла, и спросила Марию:
— А что, не подшутил ли как-нибудь Бог над твоим Иосифом?
— Он добродетельный муж и святой человек, — ответила Мария. — Но он плотник, а не пророк и не поэт.
— Знает ли он, зачем ты здесь?
— Я сказала, что еду к тебе за благословением по случаю предстоящей свадьбы. Ты ведь все-таки моя кровная родственница. И я обещала ему, что пробуду здесь совсем недолго.
— Да, времени осталось мало, — сказала Елисавета. — Ты должна побыть здесь, пока это не произойдет. А когда ты отправишься домой, новость обгонит тебя. И тогда Иосиф будет более готов поверить в то, что ты ему расскажешь.
— Готов-то он будет, да не до конца, — заметила Мария с необычным для нее спокойствием. — Ему придется пройти через гнев и разочарование, но я молюсь, чтобы ангел Божий…
— Да, дитя мое?
— Сделал так, чтобы это продолжалось недолго.
А Захария все кивал и кивал головой.
На самом деле о том, что Елисавета в тягости, в Назарете уже было известно.
Сидя у входа в мастерскую, Иосиф шлифовал песком деревянное ярмо для быка, которое закончил совсем недавно одним погожим утром, и рассуждал об услышанном. Здесь же, с кислым выражением лица, сидел средних лет человек — пекарь по имени Иофам, всегда скептически смотревший почти на все, что его окружало, и таким же скептическим, разумеется, было его отношение к последней новости.
— Полный вздор рассказывают те, что прибыли с караваном из Аин-Карима, — заявил он. — И ты это знаешь.
— Знаю и то, что там много правды, — возразил Иосиф. — Я тебе другое скажу. Думаю, Марии это стало известно еще до ее отъезда.
— Но каким образом? — спросил еще один человек, сидевший тут же, по имени Измаил. — Ей что, приснилось это?
— А почему бы и нет? Сами знаете, в снах приходит очень многое.
— Просто безумие какое-то! — воскликнул Иофам. — Это ведь та самая Елисавета, которая замужем за… как его там? — за священником, который будто бы онемел? Так или нет?
— Точно так, — подтвердил Иосиф. — Троюродная родственница Марии.
— Господь подходит к нему с левого бока, — съязвил Иофам, — и поражает его немотой. Господь подходит к нему с правого бока — и он уже готовится стать отцом.
— Впрочем, нет никакой гарантии, что это будет именно сын, — заметил Измаил. — Небось раздуваются от гордости, что к ним сам Господь благоволит, а тут вдруг раз — и дочь!
— Господь не стал бы так беспокоиться из-за дочери, — сказал Иофам. — Но что бы там ни было, каким же образом он сообщил ей об этом? Он — я имею в виду священника, а ей — это значит своей жене. Ведь он же немой!
— Она умеет читать, — заметил Иосиф. — Уверен, что умеет. Всего и нужно-то было — взять и написать это. Там связей хватает, я имею в виду ее семью. К тому же люди состоятельные, что тоже неплохо. И еще родство — дальнее, правда, но все же родство — с царским, можно сказать, семейством. С самим царским домом.
— Не надо рекомендаций, — прервал его Иофам, а затем спросил: — Когда же мы получим приглашения на свадьбу?
— Времени еще много, — ответил Иосиф. — Мы только-только подписали договор.
— Иосиф обрученный! — торжественно произнес Иофам. — А его возлюбленная уже покинула его.
— Полегче, Иофам, — предупредил Иосиф, поднимая отполированное ярмо. — Полегче. Есть ведь какие-то пределы.
Здесь Измаил, который был старым и тщедушным, закашлялся. Иофам изрек:
— Напоминание о бренности: «Помни, о человек, когда ты кашляешь, что это скрежет пилы, впивающейся в ствол древа твоей жизни».
— Что-то я не припомню этого текста, — сказал Измаил, закончив кашлять.
— Я только что его придумал. Слово пророка Иофама. — И он направился через улицу к своим печам.
ШЕСТОЕ
Когда Елисавете пришло время рожать, повивальных бабок явилось намного больше, чем было нужно. Все эти бабки, на много миль вокруг, очень хотели помочь или хотя бы просто быть свидетельницами чудесного рождения, о котором весь их прошлый опыт говорил, что такое невозможно, несбыточно или, во всяком случае, маловероятно. Правда, где-нибудь в книгах могло быть написано о чем-либо подобном, случавшемся с другими женщинами спустя много времени после того, как у них в известном возрасте прекращались месячные, но поскольку о книгах повивальным бабкам ничего известно не было, то они по этому поводу и не волновались. Вот священник Захария, человек в книгах сведущий, — тот ожидал прихода чуда, но он был нем и к тому же, как знали все повивальные бабки, недавно впал в детство. А у Елисаветы все признаки уже были налицо: она обливалась по́том, тужилась, и вздувшийся живот конечно же был порожден не силой воли, хотя такое тоже иногда случалось, да и родовые муки выглядели естественно, как у всех прочих рожениц, которых повивальным бабкам довелось видеть прежде.
Затем, довольно легко, Елисавета разрешилась от бремени младенцем. Это оказался мальчик, здоровый и крепкий, и, когда его отделили от пуповины и шлепнули, он закричал на белый свет громко и с великой страстью. Большой младенец! Один из самых больших, каких им доводилось видеть!
Здесь, я полагаю, необходимо все же сказать, что, вопреки легендам, появившимся уже после смерти этого человека, младенец вовсе не был гигантом. Все мы слышали рассказы об отрезанной голове, хранившейся в огромном сосуде для вина, о том, что она была размером с бычью, и всякие прочие байки; говорили также, что она была очень тяжелой (эту сказку распространил некий галл) и что будто бы, дабы поднять ее, требовались усилия двух или трех мужчин, однако никому не известно, где эта голова находится теперь.
Новорожденный был просто большим ребенком, а затем он вырос и стал мужчиной, рост и телосложение которого были необычны для израильтян, народа низкорослого, однако этого мужчину нельзя уподобить ни Голиафу, ни даже Самсону, если уж говорить о людях, в реальном существовании которых можно не сомневаться. О гигантизме Иисуса Наггара (или Марангоса), который конечно же был кровным родственником этого младенца, рассказывают очень похожие истории, и в них, полагаю, есть доля правды, но только тогда, когда речь идет о взрослом человеке. Однако позвольте мне не предвосхищать событий. Пусть о новорожденном будет сказано только то, что был он крепким и громогласным. Когда наступил день его обрезания, он, несчастный, истошно ревел над потерей своей крайней плоти так, будто это была самая драгоценная вещь на свете. Священник, совершавший обряд, произнес:
— Дитя отдает Богу Авраама эту плоть от тела своего, отсутствие которой тело чувствовать не будет, и эту кровь, которая лишь слегка пятнает края чаши, ее принимающей. И будет он наречен именем отца своего — Захария.
При этих словах Захария очень разволновался, но за него сказала его жена:
— Нет. Его имя — Иоанн.
Вся компания, собравшаяся на обряде, была изрядно удивлена, а священник не просто выразил свое удивление — несмотря на то что Захария, старший по сану, стоял рядом, бурбуркая и трясясь всем телом, он был готов сделать Елисавете выговор.
— Иоанн? — переспросил священник. — Никто из твоей семьи или семьи его отца не носил такого имени. Это против обычая.
— В Храме, когда моего мужа посетило видение и он услышал пророчество, младенцу было дано имя, — возразила Елисавета. — И это имя Иоанн.
— Мы должны услышать мнение отца непосредственно из его уст, — сказал священник, — но пока эти уста молчат.
Захария патетически замычал и показал жестами, что ему нужны восковая дощечка и стилус, и тогда сама Елисавета принесла их ему. Однако никак нельзя доверять тому добавлению к этой замечательной истории, что младенец, когда Елисавета несла принадлежности для письма, будто бы начал выкрикивать свое имя. Богу не было никакого смысла заставлять его так кричать, поскольку почти тотчас же, едва начав писать, Захария обнаружил, что после девяти месяцев молчания он снова обрел способность говорить. Твердо и спокойно Захария произнес:
— Его имя — Иоанн.
Все были так изумлены, что некоторые из присутствующих опустились на колени. Захария же, словно чтобы восполнить свое долгое вынужденное молчание, стал многословен и заговорил, как пророк. Сын громко кричал, отцу приходилось кричать еще громче. Захария говорил очень отчетливо, и произносимые им фразы были красиво составлены. Можно не сомневаться, что на разучивание слов, которые теперь лились из Захарии, он потратил много времени, хотя и в молчании.
— Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой, — говорил Захария, — и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего…[38]
Иоанн кричал так оглушительно, что похоже было, будто он дует в какой-то другой рог. Мать, пытаясь успокоить младенца, укачивала его, но он ревел еще громче.
Захария продолжал:
— Как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святый завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей…[39]
Многим казалось, что Захария говорит уже очень долго, но единственным протестующим голосом был громкий голос ребенка, и Захария теперь уже не просто кричал — он почти ревел:
— И ты, младенец мой, чей голос уже силен и будет еще сильнее на службе у Господа… — Многие при этом улыбнулись, но только не Захария. — Ты наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа — приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего…[40]
Некоторые говорят, что последние слова Захарии по поводу этого святого и поистине чудесного события были произнесены красивым священническим голосом, нараспев, и действительно, было что-то от песни в этих словах:
— …Которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира[41].
Закрыв глаза, он склонил голову и стал тихо молиться. Младенец по имени Иоанн сосал материнскую грудь.
Возвращаясь с караваном в Назарет, Мария по дороге все время слышала эти слова — «Восток свыше», которые звенели в ее голове, подобно колокольчикам, что висят на шеях верблюдов. Она была спокойна и уверена в себе, но оставаться такой ей помогали именно эти слова. «Восток свыше». В ней, Марии, как и было обещано, займется заря, но кто в это поверит? Лучше бы уж теперь, во время путешествия, подвергнуться насилию со стороны злодеев, или разбойников с большой дороги, или солдат, шагающих по дороге из Дамаска, а то и откуда-нибудь еще. Вот в это наверняка поверят. И Иосиф поверит. Насилие же со стороны Бога — богохульная выдумка.
Вернувшись домой, она тихо сидела и слушала то, что говорил Иосиф. На коленях у нее сидел Кацаф, Мария поглаживала его шейку двумя пальцами, и кот громко мурлыкал.
— Хитрость, все хитрость! — восклицал Иосиф. — У твоей матери этой хитрости хватало, и она знала, кого можно надуть! Знала, что я самый доверчивый и самый большой дурак во всем Назарете!
Словно отпечатывая каждый свой шаг, он все ходил и ходил вокруг стола, когда-то сделанного им самим, и со стонами потрясал слабыми кулаками. Спокойно, пытаясь склонить его к доверию, Мария сказала:
— То, что случилось с моей родственницей, правда. Ты можешь поехать туда и увидеть все своими глазами.
— Не сомневаюсь, что правда, — выкрикнул Иосиф, — но я говорю не об этом. Я говорю о твоем лукавстве… Рассказываешь мне о втором чуде в твоем семействе, чтобы скрыть свое… свое… свое… Однако я не имею права кричать на тебя. Я просто рад, что вовремя все узнал. Завтра же утром первым делом иду к рабби Гомеру и все отменяю, отменяю, все отменяю, все! Слава Богу, что я узнал об этом.
— Ты ничего не узнал, — сказала Мария. — Пройдет некоторое время, прежде чем ты увидишь истину собственными глазами. А пока ты должен поверить тому, что я тебе говорю, запомнить то, что я тебе говорю, и понять, что ты еще ничего не узнал.
— Почему я должен верить?! — закричал Иосиф. — Если я поверю, тогда любой мужчина должен поверить в какую-нибудь глупую сказку, которую ему расскажет вероломная женщина, чтобы скрыть свое вероломство. Мне жаль тебя. Я только вот что скажу — не очень-то сладко жить одной-одинешенькой на белом свете с ребенком, рожденным в блуде. Но пока еще существует такое понятие, как мужская честь…
— Скоро ты будешь говорить «обманутый муж», — смело сказала Мария.
— Ну нет, слава Богу, — отмахнулся Иосиф. — Такая участь уготована женатым мужчинам. Пелена с моих глаз спала, и я еще раз говорю: слава Богу! А теперь я вернусь в свою одинокую мастерскую, к моим преданным ученикам…
— Преданным? Я знаю, что Иаков за твоей спиной делает детские игрушки — из твоего дерева и твоими инструментами, а потом продает.
— Вот так всегда у женщин — все невпопад! Вероломно и невпопад! Вот что я тебе скажу: Иосиф, конечно, по-прежнему не женат, но Иосиф уже не дурак.
— Когда-то ты говорил о любви, — с горечью произнесла Мария, — и это было еще совсем недавно. Ты так легко можешь отказаться от любви? Любовь должна быть долгой, а рядом с любовью обязательно идет вера. Ты говорил мне, что любишь Бога, а ведь Бога ты никогда не видел, но здесь твоя вера и твоя любовь танцуют один и тот же танец. Почему бы им не сделать то же самое сейчас?
— Потому, — пробормотал Иосиф, — что легче верить в Бога, чем верить…
Мария быстро подхватила:
— Что ты обручен с той, которая станет…
— Не говори так! — Иосиф едва ли не взвыл. — Не богохульствуй! — А затем, уже спокойнее (ведь она была всего лишь девочкой, причем девочкой в беде, да и не знала еще значения слова «богохульство») продолжил: — Для любого мужчины верить — это уж слишком.
— Но ты не любой мужчина, — сказала Мария. — Как и я не любая женщина. Ты тоже избран. И скоро ты это поймешь. Только очень жаль, что Бог должен прилагать усилия, чтобы ты понял.
Иосиф снова что-то пробормотал, развел руками и со скорбным видом еще раз обошел, на этот раз уже не печатая каждый шаг, вокруг стола, который он сделал для нее. Для них обоих.
— Иди с миром, Иосиф. Если ты не можешь избавиться от неверия, постарайся избавиться хотя бы от чувства горечи. Завтра ты вернешься ко мне. И у тебя будут для меня совсем другие слова. Это я обещаю.
— Ты обещаешь?! — воскликнул он. — Ты?!
— У меня есть право обещать.
Он посмотрел на нее, и лицо его исказила гримаса ужасной боли, которая, казалось, скрутила все тело. Затем он вышел. С безмятежным видом, мягко улыбаясь, Мария продолжала гладить кота, который мурлыкал так, будто сердце его готово было разорваться.
Этой ночью Иосиф не мог заснуть. Раздраженный, разбитый, виноватый, он лежал, не смыкая глаз, и тяжело вздыхал. Он живо представил себе, как его неверная невеста Мария будет наказана за свой блуд. С большим животом, рыдая, спасается она от града камней, которые посылает ей вслед злорадно хохочущая толпа. Ставит ли закон предел состраданию? А тут еще его собственное бесплодие, которым он страдал с тех пор, как упавшие на него в далекой юности железные тиски раздробили яички. Правда, в Назарете об этом мало кто знал, а если и находились такие, что слышали эту историю, то они не склонны были в нее верить. Много лет назад — в раннюю пору зрелости — Иосиф начал посещать одну секту, состоявшую из очень чистых и добродетельных людей, которые верили только в дух, считая тело и отдельные его части источником зла. Они ели и пили с тяжкими вздохами, а испражнялись со страхом и отвращением. Иосиф, однако, открыто появлялся на людях с адептами этой секты, давая, таким образом, жителям Назарета достаточно разумное основание принимать его столь продолжительное безразличие к женщинам как должное. Если бы он признал чужого ребенка своим, потворствуя, таким образом, деянию, коего Мария, кажется, ничуть не стыдилась, а скорее даже гордилась им, — это, по крайней мере, позволило бы ему показать себя мужчиной, что хоть как-то приблизило бы его к здравомыслящей части горожан. А члены секты сверхчистых, хотя она и не порицалась синагогой, как видно из всего сказанного, не были по-настоящему здравомыслящими. Тело человеческое — это вовсе не зло. Принятие пищи дарует радость, а отправление естественных надобностей — здоровая утренняя процедура.
Но Боже мой, Боже мой! Предательство, самодовольный нераскаявшийся порок, хитрость, которая, впрочем, не совсем и хитрость. И все же — отвергнуть, бросить ее к тем, кто будет швырять в нее камни… Сможет ли он жить с этим? Иосиф встал и совершил несвойственный ему поступок. Он достал из шкафа кувшин с вином и с мрачным видом выпил. Ему нужно было уснуть. Это было крепкое вино — быстро нагоняло сон. Он надеялся, хотя и не очень в это верил, что вино сделает такую милость — поможет ему погрузиться в сон, достаточно глубокий, чтобы вызвать грезы, которые подскажут, как следует поступить в этом ужасном деле. Итак, он уснул, и сон разрешил его сомнения.
— Иосиф. Иосиф.
— Кто меня зовет? Кто?
— Вестник Бога, Иосиф. Слушай.
— Дай мне увидеть тебя. Покажись. Довольно с меня чепухи про Божьих вестников! Я сыт по горло этими милыми шуточками Бога о делании детей без плотского совокупления. Давай же, покажись!
— Нет, Иосиф. Тебе достаточно будет услышать. И поверить.
— Почему я должен тебе верить? Меня и так уже слишком многому просили верить. А все, во что я должен верить, сводится к тому, что из древодела Иосифа делают дурака. Благодарю покорно, я и без того достаточно большой дурак. Но не настолько большой, чтобы обрести веру только потому, что кто-то там называет себя Божьим ангелом. Или покажись, или оставь меня в покое!
— Я не уйду до тех пор, пока не буду знать, что ты веришь теперь и будешь верить, когда проснешься от крика петуха. Что же до того, чтобы показаться, объясняю: во время этого посещения мне не разрешено принимать плотский облик ради простого плотника. Хотя бы выслушай. Все по порядку.
— Ну что ж, хорошо. Я слушаю.
— Прекрасно. Позволь мне рассказать тебе о твоей невесте, о Марии, дочери Иоахима и Анны, что родилась в этом городе Назарете, в земле Галилейской.
— Я слушаю.
Свадебное торжество было веселым, но благопристойным. В тот день случился необычный для этого времени года дождь, что некоторые восприняли как доброе предзнаменование, поэтому печеньем, вином и жареной бараниной гости угощались в доме. Они перемалывали последние сплетни, одна глупее другой, и все сводились к тому, что Мария могла бы распорядиться собой с большим толком, а не выходить замуж за этого старого слюнявого старика с холодной кровью, ну и дальше в том же духе. И, как бывает на любой свадьбе, кто-то шепотом произнес: «Вынуждена была». Парочка пожилых набожных галилеян — их звали Бен-Они и Халев — с удивлением разглядывала дом и даже постучала по стенам.
— Думаю, деньги тут небольшие. Сколько за ней приданого?
— Да вот этот дом. Остался ей в наследство.
— Ведь это неправильно, верно? Разве не должен он наследоваться кем-то из мужчин в семье?
— Ну же, ну же, я что, должен учить тебя закону Моисея? Наследницей может быть и дочь.
— Девочка, не достигшая совершеннолетия?
— В любом случае это уже дом Иосифа.
— Неприлично как-то. Невеста берет жениха в дом. Что-то есть во всем этом гойское. Знаешь, что-то от матриархата.
— И все же теперь это дом Иосифа.
Среди гостей были и члены той самой секты сверхчистых, учению которых открыто сочувствовал Иосиф, но в своих белых одеждах они выглядели уныло, отказывались от жареного мяса и протестующе махали своими чистыми руками, когда им предлагали вино. Один из них, которого называли Главой Братьев, как будто настоящее его имя было признаком нечистоты, открыто высказал жениху свое недовольство.
— Я всегда говорил, что не смогу идти с вами до конца, — ответил жених, — и всегда заявлял, что со своим представлением о чистоте вы заходите слишком далеко.
— Разве можно с чистотой заходить слишком далеко? — почти издевательски спросил человек, известный среди братьев как Свет Зари.
— Я знаю все ваши доводы наизусть, — сказал Иосиф. — Бог — предельная чистота, чистый дух. Но Бог сотворил плоть человеческую. Вы же не можете отрицать плоть, отрицать ее совсем? Мужчина нуждается в миске с мясом и в кружке вина после рабочего дня.
— Фу, ты уже говоришь, как солдат! Потом ты скажешь, что мужчина… — здесь Свет Зари брезгливо вздрогнул, — после рабочего дня нуждается в женщине.
— Мужчина не обязательно нуждается в женщине в этом смысле. Как и женщина в мужчине. Но между мужчиной и женщиной возможна нужда в другом — нужда в духе.
— Духовная жена и духовный муж! А потом ты заговоришь о духовном отцовстве.
— Извините меня, — сказал Иосиф, — но я должен поговорить с некоторыми из моих… менее почетных гостей.
Он отошел побеседовать с группой бедно одетых людей, бывших уже заметно навеселе. Именно они больше всех прочих налегали на еду и вино. Глава Братьев заметил Свету Зари:
— Ты не должен забывать, кто он такой. Древодел. Довольно грязное занятие.
Эти двое ушли рано, о чем никто из гостей не жалел.
Я знаю, многому из того, о чем я вам поведал, вы не совсем готовы поверить, как не примете на веру и многое из того, о чем еще будет сказано. Но я думаю, вы с готовностью поверите, что Иосиф и Мария были счастливы и что, вне зависимости, верите вы сами в великое чудо или нет, они жили, озаренные светом предстоящего чуда. Однажды вечером, во время обеда, Иосиф сказал:
— Сегодня утром я разговаривал с рабби Гомером. Он толковал все о том же.
— Ты хочешь сказать, об Иоанне? О Елисавете и Захарии?
— Да, все о том же. Объяснял, почему Иоанн не может быть Мессией, и приводил слова из Писания. Странно. Я всегда считал, что Писание — это ну… именно писание. Я никогда не рассматривал его ну… как книгу о том, что происходило в действительности. Или о том, что произойдет. Я имею в виду пророчества.
— Так что же все-таки сказал рабби?
Мария нетерпеливо постучала о стол ножом, который держала в руке. Иосиф в это время неловко раскладывал по тарелкам тушеное мясо.
— Я, конечно, помалкивал, как делаю всегда, когда доходит до пророчества о молодой деве, которая должна понести ребенка. Однако сегодня утром рабби Гомер очень определенно выразился в том смысле, что эта молодая дева должна быть девственницей.
— Ах! — не выдержала Мария.
— Меня, — продолжал Иосиф, — прямо затрясло от этого. Ну, потом поднялся большой крик, Иофам и прочие начали орать, что это чепуха, что подобное просто невозможно, потому что Бог всегда прибегает к обычному ходу вещей. Когда может, конечно. Ну, сама знаешь — мол, вот Божье творение, вот оно теперь здесь, и, сотворив его, Бог оставляет свое создание в покое и больше не трогает. Но тут рабби Гомер спросил — а как быть с Захарией и Елисаветой? Бог-то ведь не оставил их в покое. Женщина, детородный возраст которой давно миновал, вдруг рожает ребенка. Это своего рода предупреждение, есть даже более точное слово — предзнаменование. В следующий раз, когда Богу придет в голову очередная странная мысль о деторождении, это будет девственница. В одном случае — слишком поздно, чтобы иметь детей, в другом — слишком рано, понимаешь? Не молодая дева, заметил рабби Гомер, не все так просто, а дева, которая никогда… Ну, как я уже говорил, я так и не раскрыл рта, но меня слегка трясло, и тут Иофам — иногда он бывает очень находчив! — привел пример, будто бы тоже из Писания, что вот так же трясется дерево, когда ожидает топора. Пошутил, конечно.
— Продолжай, — сказала Мария.
Не наевшись — ведь теперь она кормила и себя, и ребенка, — Мария отрезала себе еще хлеба и обмакнула его в соус из-под тушеного мяса.
— А главное здесь то, что Мессия должен родиться в Вифлееме. Рабби Гомер показал нам то место в Писании, где об этом сказано, и ткнул в него своим пальцем. Палец, между прочим, был весь в рыбьей чешуе, для рыботорговца это простительно. Так вот, рабби сказал, что Мессия должен быть из дома Давидова, а город Давида — Вифлеем. Тут, скажу я тебе, у меня сердце совсем упало. Этот текст я сам видел, и там еще было что-то вроде «Ты, о Вифлеем, мал ли ты между тысячами?»[42]. Это не город, конечно. Так, маленький городишко недалеко от Иерусалима. Но именно в Вифлееме он должен родиться.
Мария прожевала хлеб и проглотила.
— Родиться в Вифлееме или быть из Вифлеема? Должно быть — из Вифлеема. Он родится здесь, в этом доме. В Назарете, что в Галилее. Но будет из Вифлеема.
— Рабби сказал определенно — в Вифлееме. И никто это особенно не оспаривал. Да, судя по всему, большинству это было не очень-то и интересно. А потом мы все вернулись к работе.
— Значит, ты ничего лишнего не говорил? Не выдал себя?
— Конечно, нет. Чтобы Иосифа объявили сумасшедшим? Обманутым? Теперь я всех людей вижу такими, каким сам был до недавнего времени. У большинства из них нет способности к вере. Взять, к примеру, Иофама. Он верит только в то, что все всегда было плохо и все всегда будет плохо, пока не станет еще хуже. Нет, я храню молчание. Точно так же и тебя не должны видеть. Мне нет нужды быть пораженным немотою, как было с Захарией. В Вифлееме — так, по словам рабби Гомера, сказано в Писании. Он так часто ударял пальцем по тому месту в тексте, что там остался след от его ногтя. Кстати, этот нож надо бы наточить. Стало быть, в Вифлееме.
— Из Вифлеема. Он родится в своем собственном доме, там, где мне явился Гавриил. Теперь Бог все оставил на усмотрение природы. Он родится в Назарете.
— Рабби сказал, в Вифлееме.
— Говорю тебе: он будет из Вифлеема. Подай мне хлеб. Почему этот стол так качается? Прежде такого не было.
— Должно быть, ты сдвинула его. Пол кое-где не очень ровный. Стол не качался, когда я его сюда поставил.
— Он не качался до самого последнего времени.
— Ты, наверное, нечаянно его толкнула. Тяжелая. — Иосиф широко улыбнулся. — Ты теперь тяжелая девочка.
СЕДЬМОЕ
В тот самый вечер в Иерусалиме, в огромном дворце Ирода, то место в Писании, которое несло на себе следы пальца рабби Гомера и источало запах его ремесла, готовилось к претворению в жизнь. Ирод, который в этот день выглядел хуже, чем обычно, и казался еще более обрюзгшим, принимал двух высоких гостей из Рима. Одним из них был Луций Метелл Педикул, которого вы уже встречали, а второй, вечно пыхтящий и фыркающий, носил имя Публий Сенций Назон. В Палестине они были по государственным делам. Сенций говорил:
— Несмотря на легалистический довод, что Палестина не является страной, полностью подвластной империи, божественный Август все же считает себя вправе рассматривать ее в качестве таковой в целях сбора податей. И, как я сказал за обедом, прежде чем приступать к сбору податей, следует провести перепись населения.
— Мне это не нравится, — ответил Ирод.
Он пил маленькими глотками какое-то отвратительно пахнущее варево для своего желудка. Газовый пузырь остановился у него за грудиной и никак не хотел выходить наружу. Ирод сделал еще глоток.
— Это независимое царство. Почему Август должен брать с нас подати, когда он не дает нам ничего такого, с чего эти подати можно платить?
— От божественного Августа вы получили уже очень много, — заметил Метелл. — Защиту римского оружия. Отборный кадровый состав — сливки сирийской армии — на постоянных квартирах.
— Защиту от чего? Я не нуждаюсь в защите от кого-то или чего-то, за исключением, конечно, моего собственного семейства. Август злоупотребляет нашей дружбой. Именно я поддерживаю безопасность на его восточном фланге, а для этого мне не нужен сирийский гарнизон. Да и для любой другой цели тоже не нужен.
Теперь газовый пузырь распирал ему грудь еще сильнее. Двое римлян смотрели на Ирода доброжелательно и с сочувствием. Они видели физические страдания царя, а вот реального протеста с его стороны не наблюдали вовсе. Гости хорошо знали, что Ирод прекрасно понимал свое реальное положение по отношению к Риму: царь с большим телом, но с небольшим царством. Они молча ждали. Ирод продолжал:
— Перепись населения. На моих территориях. Которую будут осуществлять римские чиновники. Это непременно породит подозрение и даже враждебность. Августу дали плохой совет, очень плохой.
— Мы здесь лишь для того, чтобы выполнять приказы, — запыхтел Сенций. — Я не уполномочен рассматривать эти приказы как материал для праздных словесных упражнений. — И добавил: — О великий.
Газы из желудка Ирода благополучно устремились наружу. Из его рта подул легкий ароматический ветерок, и пламя ближнего светильника задрожало.
— Вот, теперь легче, — заявил он. — Возможно, мне следует самому съездить в Рим. Надо, чтобы божественный Август услышал о некоторых вещах. Если он требует, чтобы на этих территориях был мир…
— Боюсь, у нас нет времени, — сказал Метелл. — И я не понимаю твоего беспокойства, великий. Ведь, в конце концов, здесь будут наши войска, они защитят тебя.
— Ты еще кое-чего не понимаешь, Метелл. Способ, который предлагается для проведения вашей переписи… Он абсолютно игнорирует здешний обычай.
— Каким образом? — спросил Сенций.
— Да, это правда, — сказал Метелл. — Почтенный консул не очень хорошо осведомлен относительно обычая, о котором упоминает великий. При всем уважении к консулу, он не знает этой страны. Все дело в том, что называть местом проживания. При проведении такого официального мероприятия, как перепись населения, каждый житель Палестины…
— Будем говорить — каждый израильтянин, — поправил его Ирод.
— Каждый человек, живущий в этой стране, считает, что он принадлежит не к тому месту, где живет на самом деле, а к тому, откуда ведет свое происхождение его семейство. Его племя. Могу я употребить слово «племя»?
— Можешь, — согласился Ирод. — Это близко к истине.
— Перепись влечет за собой переезд каждого отдельного жителя этой территории в то место, которое он считает своим родным городом, так сказать, столицей предков, если называть высокими словами то, что обычно представляет собой зловонную кучу навоза…
— Ты превосходно подбираешь слова, господин мой, — заметил Ирод.
— Мне приводили один пример, — продолжал Метелл. — Племя Давида. Предполагается, что все, кто считают себя принадлежащими к данному племени, происходят от этого самого легендарного вождя — царя, как они его называют. Для них столица предков — Вифлеем, такая навозная… такой городишко южнее Иерусалима, по пути сюда мы проезжали его.
— Не сомневаюсь, что вы прикрывали свои утонченные носы платочками.
Сенций фыркнул (могу пояснить, что его фыркание имело, если можно так выразиться, безотносительный характер, то есть оно никак не выражало отношения к услышанному и было связано с доставшейся по наследству неспособностью отделять воздух, выходивший изо рта, от воздуха, выходившего из носа, — явление, чтобы дать ему научное объяснение, скорее по зубам каким-нибудь физиологам, а не мне, простому рассказчику):
— Если бы перепись проводилась в соответствии с… местным обычаем, она была бы приемлема для твоих подданных?
— То есть если бы перепись проводили мы сами? — спросил Ирод, пыхтя. — Это грозит подрывом всей экономики, дороги будут запружены…
— Перепись вашими силами, но с нашими целями, великий, — добавил Метелл.
— Полагаю, мы можем решить эту проблему, — сказал Сенций. — Надо лишь дать временному «подрыву экономики» подходящее название — пусть это будет народный праздник. Все племена возвращаются к…
— К родным навозным кучам? — вставил Ирод.
— Радость воссоединения, — кивнул Метелл. — Распитие напитков, пиры, древние легенды… А что до переписи… она практически пойдет сама собой.
— Автоматически, — изрек Сенций, сильно фыркнув в середине слова. — Автоматическая перепись.
— Ох уж эти греческие слова, господин консул, — заметил Ирод. — Когда я слышу греческий, то сразу чую опасность.
Объявление о переписи населения, которая должна была проводиться между декабрьскими идами и январскими календами[43], имело вид витиевато составленного письма, которое Религиозный Совет Иерусалима неохотно согласился передать главам местных общин как людям, имеющим наибольший вес в городах Палестины. Письмо это надлежало зачитать в синагогах после субботних богослужений — это придало бы ему оттенок Божественной санкции, что было не так уж и неуместно, особенно если принять во внимание происхождение письма. После того как рабби Гомер зачитал его и отпустил прихожан, собравшиеся у синагоги назаряне начали шумно обсуждать эту новость. Возмущенный Иофам кричал:
— Да это обман, вы что, не видите?! Просто чтобы собрать больше податей! Ну почему, скажите, мы должны платить им эти подати? И что римляне нам за это дадут?
Бен-Они обратился к Иосифу:
— Ты из рода Давидова, правильно? И ты должен отправиться в Вифлеем, ведь так? Так что — оставишь свою жену здесь, когда она в таком положении?
Жители Назарета знали о положении Марии и были рады за Иосифа — ведь это опровергало некие недобрые слухи о его неспособности исполнять роль мужчины. Между тем Иосиф, потрясенный до глубины души неминуемым исполнением пророчества, едва воспринимал то, что говорили собравшиеся вокруг люди.
— Это справедливо, ты считаешь? — вопрошал Бен-Они. — Справедливо, да?
Измаил указал на то, что женщины тоже должны ехать, — разве Бен-Они не слушал того, что было объявлено?
— Предположим, мы все скажем «нет»! — выкрикнул Иофам. — Как насчет того, чтобы сказать «нет»?
— Приказы есть приказы, а долг есть долг, — медленно произнес Иосиф. — Нам деваться некуда. Ну, если подати окажутся несправедливыми, тогда другое дело. Вот тогда и надо говорить «нет».
Небольшой скрюченный человек по имени Исаак заметил:
— Знаете старую поговорку? Сделаешь шаг, и придется прыгать через ров.
— Выбора нет, — молвил еще один человек. — Какой смысл в этих разговорах? Я вот что скажу: те, которые громче всех кричат, быстрее всех соглашаются.
— А я не собираюсь никуда ехать, — заявил Иофам, и все обернулись в его сторону. — У меня и тут дел хватает. Работа. Хлеб вот надо печь…
— Здесь его некому будет есть, — заметил Бен-Они.
— А я все равно не собираюсь, — повторил Иофам, но все смотрели на него с сомнением.
Как и ожидалось, когда наступил день отъезда в города, из которых вели свое происхождение разные роды, Иофам едва ли не первым пришел к тому месту у городской стены, откуда должен был отправиться караван, державший путь на юг. Иофан, естественно, объяснял каждому, кто соглашался его выслушать, что истинной целью его отъезда было намерение заявить протест на самом высоком уровне. Был ясный, безоблачный день, не очень жаркий. Сцена отъезда представляла собой картину всеобщей суеты и спешки. Среди уезжавших было заметно некоторое возбуждение, даже воодушевление, поскольку любое изменение, пусть даже поначалу встреченное с негодованием, в итоге всегда в той или иной мере приемлемо для людей, жизнь которых проходит безрадостно и уныло. Верблюды, позванивающие колокольчиками. Ослы. Дорожный скарб. Бегающие друг за другом дети. Хозяин каравана, который размахивает палкой и криками сзывает своих подопечных. Вслед за рабби Гомером все произнесли молитву путешественников: «Благословен будь Предвечный Господь, царь земной и небесный, в чьи руки путники вверяют жизни свои».
Мария, которую бережно поддерживал Иосиф, не без труда вознесла свое тяжелое тело на осла, позаимствованного на время у соседей (старой Малки уже не было в живых, та же участь постигла и старого Хецрона). Елисеба, служанка, которую взяла в дом еще мать Марии, сомневалась относительно своего происхождения, но настаивала, что ее род из Назарета. Здесь она и останется, чтобы присматривать за домом и за животными. А если эти негодяи, что занимаются переписью, захотят ее видеть, то они знают, где ее найти. Женщины, стоявшие неподалеку от Марии, обсуждали ее состояние:
— Когда она вернется из Вифлеема, будет на несколько фунтов легче.
— Судя по ее животу, я сказала бы, что у нее будет девочка. Я в этом разбираюсь. Еще ни разу не ошиблась.
— Всегда бывает первый раз, дорогуша.
Раздался звук рога, отставшие увальни бросились занимать свои места в длинной веренице путников, и караван двинулся в сторону южной границы Галилеи. На исходе дня, когда по левую руку от идущих в Вифлеем людей, к тому времени уже довольно уставших, садилось солнце, они затянули песню, посвященную уходящему дню. Много лет назад ее придумал пастух по имени Нафан, давно уже умерший. Если говорить в общих чертах, то песня была о том, что ноющие ее — потомки Давида, пастуха, ставшего царем, и что они хотят, дабы дух Давида охранял их в пути. Слова ее были приблизительно такие:
Он, пастух простой, Названный царем. Мы, народ его, В Вифлеем идем. Не оставь, Давид, Тех, кто вдаль глядит[44].Они произнесли молитву благодарения за благополучное окончание дневного путешествия и молитву, в которой смиренно просили Бога оберегать свой народ в наступающей ночи, защитить их от грабителей, убийц, диких зверей, от блуждающих злых духов и от холода в животе. По обочине дороги были зажжены костры. Иосиф и Мария отпустили ослика пастись и принялись за свою нехитрую еду — сыр и твердые лепешки, которые они запивали вином, разбавленным водой. За ужином Иосиф спросил:
— Ну как ты, дорогая?
— Хорошо, но чувствую тяжесть.
— Осталось идти недолго. Еще два дня, и будем в Иерусалиме.
— Думаю, до его появления времени осталось ненамного больше. Но ты не беспокойся. Со мной все будет в порядке.
Держа в своей мозолистой руке плотника ее маленькую хрупкую ладонь и прикрыв глаза, чтобы лучше вспомнить фрагмент Писания, который он собирался процитировать, Иосиф произнес:
— «И ты, Вифлеем — Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле». Мы-то думали, что в Писании неверно сказано. А видишь, как все вышло. Всего через пару дней. Еще одна из шуток Господа. Оказывается, то, что сказано в Писании, может исполняться. И родиться в Вифлееме ему велит не Гавриил, не Бог, а римляне!
— Бог может сделать своим орудием кого угодно, — сказала Мария. — Даже императора Августа.
— Ты ложишься спать?
— Ты спи, — сказала она, — а я посижу еще немного, буду глядеть на огонь.
Иосиф нежно поцеловал ее и улегся, плотно укутавшись шерстяным плащом. Мария сидела, глядя на костер, и видела в его пламени образы, вызывавшие у нее неприятные, тревожные чувства. Вдруг перед глазами Марии возникла страшная картина, от которой у нее перехватило дыхание, и она почувствовала такую боль, словно грудь ее пронзил меч.
ВОСЬМОЕ
А теперь я перейду к рассказу о трех мудрецах, или магах, или волхвах, или астрологах, которых большинство считает также и царями небольших стран, еще не входивших в соприкосновение с Римской империей. Я имею в виду тех мудрецов, которые тоже отправились в Вифлеем, определив по изменившимся картам небес, что в этом городе должен появиться или появился уже на свет какой-то спаситель, либо мессия, либо великий духовный правитель. Следует также сказать, что в древние времена не считалось чем-то необычным, если царь был астрологом или астролог был царем. Знание небес, что для непосвященных было равнозначно власти над небесами, являлось даже более значительным свидетельством прав на царствование в небольших государствах того времени, чем простая способность выносить, подобно Соломону, мудрые судебные решения или убивать гигантов, как это делал Давид. Все это, конечно, во многом было связано со знанием тайн времен года, прочитать которые в небесах мог только искушенный в гаданиях человек. А от смены времен года и собранного урожая зависела вся жизнь земледельца.
Царь или маг, которого по традиции называют Валтасаром, был, по-видимому, темнокожим человеком, и правил он какой-то небольшой берберской страной. Если вам угодно, мы можем увидеть и услышать его, перенесясь в лишенный роскоши тронный зал с грубым каменным полом и светильниками, от которых повсюду распространяется запах горящего бараньего жира. Сейчас этот умный, красивый, мускулистый человек в расцвете сил пьет вино и ведет беседу со своими советниками:
— Два слова… Два римских слова, которые противоречат друг другу. Эти слова — «протекция» и «экспансия». Как долго еще смогут просуществовать небольшие царства? Мы уже получаем предложения о защите, хотя в них никогда нет ясности, от чего нам следует защищаться, — лишь намеки на некие туманные призраки на востоке. По сути, это означает не более чем усиление Рима и расширение пределов его влияния. Как долго еще мы сможем держаться на расстоянии от этого железного семейства?
— Новая философия учит, — заговорил первый советник, — что главное содержание имперской идеи — это представление о рациональной империи, где все люди могут быть свободными гражданами, к какой бы народности они ни принадлежали, какого бы цвета ни была их кожа.
— Какого бы цвета ни была их кожа… — повторил Валтасар.
В те времена общепринятым было мнение, что некоторые цвета лучше, чем другие, и что темный цвет кожи человека означает зло или глупость, а порой — хотя это кажется невозможным — и то, и другое одновременно.
— Тогда мы должны воспринимать власть Рима, — продолжал Валтасар, — не как необходимость, согласно которой слабый должен уступить, но как вещь желательную, доводом в пользу чего служит то соображение, что даже сильные государства вынуждены делать такой выбор. А что Рим может нам дать?
— Закон, — ответил второй советник, который изучал законы. — Силу своего оружия. Нечто вроде атлетической философии, или философии физической крепости, — я имею в виду аскетическое самоограничение. Честь. Воинское достоинство. Порядок. Прежде всего — порядок.
— Что-нибудь еще?
— О, еще поэзию, ораторское искусство. У них много книг.
— Но у них мало воображения, — заметил Валтасар. — Ту невеликую литературу, что у них есть, они, как мне говорили, украли у греков. Римляне предлагают нам безопасную жизнь, которая будет защищена их армией и флотом, величайшими из всех, какие когда-либо знал мир. Они построили прекрасные дороги, которые ведут в никуда. Или, если хотите, из Рима в никуда и ниоткуда в Рим. А что есть их вера? Да, наша религия умирает, согласен. Недостаточно поклоняться только солнцу. Но по крайней мере, солнце — это великая огненная тайна и источник всего живого. Римляне же, как я слышал, поклоняются голове человека, изображенной на серебряной монете.
— Не хочу быть невежливым, о высокородный, — снова заговорил первый советник, — но замечу, что, сколько бы ты ни поносил римлян, мы тем не менее рано или поздно все равно должны будем войти в состав их империи — все мы, живущие на этом свете. У нас практически нет выбора.
— Выбор возможен, — возразил царь. — Мертвому металлу римского владычества вполне можно найти альтернативу. Что вы знаете, к примеру, об Израиле? Читали ли вы какие-либо из их книг?
— Народ Израиля находится в худшем положении, чем мы, — стал пояснять второй советник. — Мы ожидаем римского владычества — они от него уже страдают. Их царь Ирод — это вассальный монарх, и они платят подати, как любая другая провинция, в которой бесчинствуют римляне. Когда-то израильтяне были в рабстве у египтян, затем — у вавилонян. Они снова рабы. Они пишут историю рабства и поэму о кандалах.
— И все же они надеются, — сказал Валтасар. — В то время как римляне купаются в воображаемых успехах. Израильтяне пишут и ноют об империи, созданной их фантазией, о справедливости более человечной, нежели та, что известна римлянам. Они толкуют о пришествии нового вождя, чья власть будет властью духа…
— Никакая власть духа не сможет одолеть власть камня и железа, — возразил первый советник.
— А что, если дух зажжет в порабощенном народе стремление к свободе?! — воскликнул Валтасар. — Так случилось с израильтянами в Египте, когда их вывел оттуда человек по имени Моисей. Что, если дух воспламенится в поработителях и выжжет в них грубость и бесчеловечность?
«Этого придется ждать очень долго», — подумал первый советник, а второй высказал то же самое вслух.
— Есть знаки, — молвил Валтасар, — указывающие на то, что прихода их нового царя осталось ждать недолго. Его час скоро пробьет.
— Ты сказал знаки, господин?
— Да, и вы знаете, где находятся эти знаки, хотя предоставили мне заниматься их поиском. Когда-нибудь мы должны будем освободить монарха от этого бремени — следить за звездами, определять время выращивания рассады и посева злаков, вести календарь.
— Таково бремя царя, о великий.
— Звездного царя. Земной же царь должен наблюдать за тем, что происходит вокруг него, а не над ним.
— Ты говорил о знаках, господин мой, — напомнил второй советник.
— Простите меня, я сбился с мысли. Вычисления указывают на место и время. Не буду утомлять вас подробностями. К этим выводам меня привели исследования небесных ритмов. И, надо полагать, не меня одного. Должны быть и другие знатоки, их много. Если, господа, вы посмотрите сегодня ночью на восточную часть небосвода — на тот сегмент неба, который мы называем Логово Рыси, — вы увидите там новую звезду. Впрочем, нет, не имея опыта звездных наблюдений, вы там ничего не разглядите. Для вас все звезды одинаковы, их число может возрастать или уменьшаться с каждым часом ночи, но вы не сумеете это распознать. Тем не менее поверьте мне на слово: к множеству звезд на небосводе добавилась одна новая.
— Несомненно, это представляет значительный интерес для опытного астролога, каковым являешься ты, о великий, — произнес первый советник, — но что касается меня, я с трудом могу представить…
— Звезды, господа, это не холодные бесстрастные тела, оторванные от жизни людей, — громко сказал Валтасар. — Скажем так, звезды — это не римские часовые. Появление новой звезды предполагает огромную работу небес. У этой звезды есть двойник на Земле. Сейчас история рождает чудо. И я отправляюсь искать его.
— А где великий собирается вести свой поиск?
Валтасар улыбнулся и ответил просто:
— Я пойду за этой звездой.
Я склонен предположить, что подобное решение приняли и два других царя, или мага, или волхва, или астролога. Они приняли его приблизительно в то же самое время и после схожего разговора со своими советниками. О том, как их пути сошлись в одном и том же месте, я скажу несколько позднее. Между прочим, мы должны появиться в Вифлееме задолго до их появления там.
Представьте себе картину на исходе дня: всеобщая суета, прибытие все новых и новых караванов, крики потерянных детей и детей непотерянных, которым грозит опасность оказаться под копытами верблюдов, воры за работой, продавцы кебаба и шербета, требующие непомерную плату, перевернутые повозки, отчаянные попытки тех, у кого нет в городе гостеприимных родственников, найти жилье. У Марии начались ложные схватки. Иосиф, как и все, кто не мог найти места для ночлега, был в отчаянии. Он протиснулся между кучками богатых людей, чьи слуги вносили вещи во внутренний двор одиноко стоявшей гостиницы, поискал и наконец нашел ее хозяина. Это был надменного вида человек, однако перед понаехавшими богачами он изображал высшую степень подобострастия, выходя им навстречу со словами: «Дорогой господин, дорогая госпожа, ваши комнаты готовы» или же: «Ужин будет подан, как только вы сочтете себя готовым, ваше сиятельство». Иосиф поведал ему о своих тревогах, о том, что он очень беспокоится за жену, которая вот-вот должна родить и у которой уже начались боли, но хозяин ответил:
— Ничем не могу помочь, приятель. Все занято.
— Если дело в том, — Иосиф порылся в своем кожаном кошеле, — чтобы заплатить немножко больше…
— Нет, приятель, не немножко больше, а намного, намного больше, — сказал хозяин, заглядывая в кошель. И тут же: — О, добрый день, ваше августейшее сиятельство, не сочтите за труд проследовать за слугой вот сюда…
Иосиф, очень обеспокоенный, возвратился к жене, которая сидела у обочины возле их пожитков и осла.
— Ничего нет, — произнес он удрученно, — ничего…
В этот момент мимо проходила одна очень толстая женщина из работавших в гостинице — здоровая, как молодая кобылица, тяжелая поклажа постояльцев была ей что перышки. Увидев Марию, которая прерывисто дышала и корчилась от боли, она сказала с сочувствием:
— Бедняжка! Это всегда так бывает. Ищете жилье? В этом городе вы ничего не найдете, точно могу сказать. Этот, на которого я работаю, берет теперь вчетверо больше, чем в обычное время, когда Вифлеем — просто мусорная куча, куда никто не хочет приезжать. Но если вы пересечете вон то небольшое поле, то увидите хлев. Там содержится старый бык, но вам он ничего плохого не сделает, ей-богу. Да и вашему ослу тоже. Места там, конечно, маловато, зато чисто, сухо и довольно тепло. Много свежей соломы. Если удастся, приду попозже — помогу. У моей замужней сестры шестеро детей, и все живы, а я помогала ей с каждым. Шагайте этой дорогой, мимо вон тех отхожих мест для мужчин — ты, госпожа, можешь отвернуться. Поторапливайтесь, а если кто-нибудь попробует вас оттуда выгнать, скажите, что вас послала Анастасия. Большое имя для большой девушки. Анастасия — запомните?
— Я запомню, — пообещал Иосиф и повел Марию и осла дорогой, которую им указала Анастасия.
Не знаю, насколько можно доверять тому, что много лет спустя рассказывали про хозяина гостиницы и про эту толстую добрую женщину, и уж тем более не знаю, можно ли доверять рассказам о жизни их душ после смерти. Но наша жажда наказания и воздаяния такова, что мы не станем с готовностью отвергать историю о гибели хозяина лет эдак через двадцать пять при пожаре, сожравшем его гостиницу, и легенду о его призраке, который ежегодно в январские календы является на место, где стояла гостиница, и кричит: «Очень просторно! Масса места! Чисто и дешево! От всего сердца — добро пожаловать!»
Анастасия же, говорят, по достижении тридцати семи лет вышла замуж за очень богатого, но слепого человека, и у нее был прекрасный дом и слуги. Говорят еще, что добрым женщинам, которые испытывают родовые муки, она является теперь в образе улыбающегося лунного лика и шепчет им слова утешения. Должно быть, в той части мира, где живу я, добрых женщин очень мало.
А теперь мы отправимся к пастухам, которые пасут свои стада на поле, примыкающем к гостинице и хлеву. Мария со своим бременем, Иосиф и их осел устроились, можно сказать, сносно. По пути к хлеву Иосиф за большую цену купил несколько кусочков холодной жареной баранины, буханку хлеба и ковш сладкого маринада. Мария едва притронулась к ужину и непрерывно стонала. Иосиф от волнения грыз ногти. Была уже глубокая ночь, и единственный свет исходил от небольшого светильника, наполненного бараньим жиром. Иосиф дрожащими пальцами подровнял обуглившийся фитиль и запалил его с помощью лучины, которую выхватил из очага в гостиничной кухне. Там Иосифа как следует отругали за это и велели убираться. А тем временем под необъятным холодным небом пастухи продолжали стеречь овец.
Мы должны их как-то называть, и имена Адам, Авель и Енох (которого арабы называют Идрис) будут вполне подходящими для пастухов — древние имена, соответствующие древнему занятию. Укутавшись в шерстяные плащи, они сидели под звездным небом, охраняя загон для овец.
— И вот тогда он отхаркивает все сразу, — рассказывал Адам, — и говорит: так, мол, ребята, это и происходит. Нипочем не мог проглотить — что-то там, говорят, у него в животе такое, что не пускает внутрь. И все выходит наружу — будто свет падает на пол.
— Заплатил он тогда? — спросил Авель. — Не в тот раз — в другой?
— Это он-то? — вмешался Енох. — Да вы ж его знаете. Таскает свой кошель, будто это пустая рукавица. Было это в тот самый раз — тогда еще ты там был, Адам. Нет, вру — там как раз был я и еще кто-то. Так вот, требует он принести ведро красного для ребят и говорит, что, мол, за все платит, а потом, когда на донышке уже один осадок, делает ноги, и нам только и остается, что раскошеливаться, — вот такой вот шилем[45].
— Подлый негодяй! — возмутился Адам. — А налей ему пригоршню воды, и капли ведь не прольет. Звезды сегодня яркие. Мой старик говаривал, что это книга и, когда сторожишь, ее можно читать. Никогда не устанешь сторожить, говорил он, когда смотришь на старый добрый ракиа[46]. Видите вон ту звезду — большую? Не думаю, чтобы я замечал ее раньше.
Здесь, полагаю, возникает вопрос, на который я должен ответить, если мне позволено будет прервать этот пасторальный коллоквиум, — впрочем, его содержание, согласитесь, не из самых захватывающих. Как может быть, чтобы трое несведущих в астрономии пастухов сумели разглядеть новую звезду, когда, со всей очевидностью, из всех людей ее могли наблюдать только три царя-астролога — и то благодаря постоянным и специальным наблюдениям? Ответ, думаю, в том, что эти пастухи имели обыкновение каждую ночь смотреть на один определенный сегмент небосвода, только на него и ни на какой другой, — вот такая консервативная привычка. А это был тот самый сегмент, на фоне которого торчала труба гостиницы. Пастухи, хотя и не сознавали этого, привыкли к определенному расположению звезд вокруг трубы, и их глаза рано или поздно четко и безошибочно отметили бы новоявленную звезду. Добавьте к этому — пусть даже такое допущение отдает фантазией, — что звезды представляются им неким стадом на небесном поле и что пастухи обладают унаследованной от предков способностью замечать численные изменения в своих шерстистых созвездиях, — и у вас появится достаточно оснований, чтобы поверить: да, пастухи вполне могли бы заметить пророческую звезду, если бы она появилась над трубой гостиницы. А она взошла как раз над трубой.
Авель сказал:
— Звезда слишком большая. — И тут же воскликнул: — Легок дьявол на помине! Смотрите-ка, это он сам, подлый старый ублюдок!
Чуть раньше он заметил, как кто-то, пока еще на некотором отдалении, шел через поле в их сторону.
— Нет, — возразил Енох, — не его походка. По виду — кто-то чужой. Как насчет того, чтобы надавать ему по шеям? Знаете, такой старый добрый шалом. Слишком уж много мамон[47] понаехало. И в городе полным-полно чужих.
Однако незнакомец, несмотря на свою неторопливую походку и значительное до них расстояние, оказался рядом быстрее, чем они ожидали. Это был Гавриил в обличье простого смертного — жизнерадостный, в белом плаще. Усаживаясь рядом с пастухами, он сказал:
— Прекрасная звездная ночь.
— Мы как раз об этом говорили, — осторожно ответил Авель. — А вон та звезда будто лежит сверху на «Винограде».
— На винограде?
— «Виноградная гроздь». Так называется здешний постоялый двор, но ты, видно, пришлый и этого не знаешь.
Адам с интересом разглядывал жизнерадостное гладкое мальчишеское лицо, крепкую шею и широкие плечи незнакомца. «Не хотел бы я встретиться с этим верзилой один на один», — подумал он и спросил:
— Ты издалека?
— Это зависит от того, что ты понимаешь под словом «издалека», — ответил Гавриил. — На расстояния можно смотреть по-разному. — Затем, внимательно окинув всех взглядом, спросил: — А что вы за люди?
— Ничего себе вопросик! Как прикажешь его понимать? — спросил Енох несколько язвительно. — Сам видишь, кто мы такие — пастухи. А эти вон, которые с шерстью, если пнуть их под зад, говорят «бе-е-е». Называются — овцы. Может, слыхал про таких?
— Ну, раз уж пошли вопросы, — вмешался Адам, — тогда ты и отвечай, что ты за человек.
— Вопрос будет потруднее, чем мой, — весело сказал Гавриил. — Называйте меня, ну, например, вестником. Aggelos[48], если понимаете по-гречески.
— Греки? — переспросил Авель. — Ни капли не верю этим ублюдкам. Моя сестра связалась однажды с одним греком.
— Ты, судя по одежде, важная птица, — заметил Енох. — Что это за шерсть такая? Авель, пощупай-ка его плащ.
— Пастухи… — произнес Гавриил. — Говорят, Израиль — это стадо без пастыря, которое разбрелось. Как вы считаете?
— Ты ведь не римлянин, правда? — спросил Енох с великим подозрением.
— Нет, не римлянин. Я один из вас. В некотором роде. А если бы я объяснил вам значение этой звезды… если бы я сказал вам, что этой ночью рождается тот самый пастырь, как бы вы на это посмотрели?
— Значит, вестник, говоришь? — снова заговорил Адам. — А какое у вестников может быть дело к таким, как мы?
— И что у тебя за весть? — добавил Енох.
Тут Гавриил почувствовал какую-то тянущую боль в своем несуществующем животе — он ведь был не более чем видением — и понял, что сам в этот момент получает весть. Гавриил улыбнулся и передал ее пастухам.
Недалеко от этого места весть из плоти и крови уже проталкивалась, спеша появиться на свет, а светом для нее был хлев с ослом и быком, которого Иосиф с рассеянным видом, подчиняясь некоему ритму, ритму, ритму, теребил за уши. Там же толстая Анастасия, благослови ее Господь, делала свою работу, успокаивающе приговаривая:
— Легче, легче, любовь моя. Держись покрепче за этот лоскут. Ну давай, скоро все закончится. — И резко — Иосифу: — Эй, ты! Заварил все это, и дело с концом? Что стоишь как вкопанный? От безделья маешься? Давай чистую воду. Чистую! Вон ведро, колодец сразу за той рябиной. Ну давай же, шагай!
Иосиф зашагал.
Пастухи слушали Гавриила, раскрыв рты.
— Вы будете первыми. Первыми, понимаете? У вас будет что рассказать своим внукам.
— Я не женюсь, — сказал Енох. — Так уж я решил. И внуков у меня не будет.
— Вы скажете им, что были первыми, кто узнал, — продолжал Гавриил.
— Почему именно мы? — спросил Адам.
— А почему бы и не вы? — задал Гавриил встречный вопрос. — Ведь это для вас он приходит в мир.
Затем Гавриил стал на фоне звезд так, что, казалось, от него самого расходится звездный свет: голова вознесена в небо, в волосах сияет Арктур. Пастухи неуклюже поднялись, каким-то образом почувствовав, что это надо сделать, и стали с ним рядом, глазея по сторонам. Гавриил заговорил, и пастухи готовы были поклясться, что услышали в этот момент пение труб: «Слава Господу на небесах и мир на земле добрым людям! Это произошло. Это правда. Идите. Поклонитесь ему. Идите немедленно!»
Пастухи посмотрели в сторону гостиницы — на шпеньке трубы словно бы танцевала звезда, и дым не затмевал ее. Это казалось совершенно невероятным.
— Не надо ли нам прихватить что-нибудь с собой? — спросил Енох. — Подарок там или еще что?
— Ягненка, — предложил Авель. — Мы могли бы подарить ему ягненка.
— У него там достаточно животных, — сказал Гавриил.
В хлеву, завернутый в простую, но теплую ткань, громко кричал новорожденный. Это был крупный и хорошо сложенный ребенок, но, думаю, неправда, будто бы он родился с густыми золотистыми волосами и со всеми молочными зубами. Вытирая руки куском старой ткани, за которую во время родов держалась Мария, Анастасия сказала:
— Ну вот что, у меня на кухне полно немытой посуды. Я еще приду посмотреть, как ты тут. Прелестный пухленький мальчик! Пора задуматься; какое ему дать имя.
— Об этом уже позаботились, — сказал Иосиф.
В дверях Анастасия столкнулась с пастухами, которые робко входили в хлев.
— Тут и без вас тесно, — сказала она. — Уходите, уходите! Не видите разве, что здесь происходит?
— Мы как раз из-за этого и пришли, госпожа, — сказал Адам. — Нам было велено явиться сюда.
Анастасия ничего не поняла и повернулась к Иосифу, который нес ответственность за все происходящее. Тот утвердительно кивнул. Пастухи прошли дальше, шаркая ногами и подталкивая друг друга — каждый старался держаться позади.
— Вам было велено? — удивился Иосиф.
— Точно так, господин, — ответил Енох. — Там, в поле, нам повстречался какой-то торгаш, или кто он там, не знаю. Он и сказал нам прийти сюда. Нам нельзя здесь долго задерживаться, потому как надо сторожить овец, тут много всяких, которые с радостью воспользуются нашим отсутствием. — Затем он обратился к Марии: — Прекрасный малыш, госпожа, и такой пухленький! Хорошо ли ты себя чувствуешь?
Мария молча улыбнулась в ответ.
Надо отдать справедливость — именно Адам первым опустился на колени. Старый Адам, со своим трясущимся адамовым яблоком, не большой любитель адамова вина[49]. Другие неуклюже последовали его примеру. Затем и Иосиф счел должным преклонить колени. Была слышна музыка, уж не знаю, то ли она исходила от небесных ангелов, распевавших «Свят, свят, свят», то ли доносилась из таверны, где веселилась пьяная компания, — но все предания сходятся на том, что музыка все-таки была.
Теперь мы должны поговорить о другом совпадении — совпадении направлений, по которым шли караваны трех наших царей-астрологов. Было бы скучным и утомительным занятием описывать их путешествия во всех подробностях. Это были долгие, изнурительные переходы по песчаной пустыне. Впрочем, шли они бодро, поскольку все путники — все вместе и каждый по отдельности — верили, что придут к радостному открытию или, как это иногда называют, к прозрению. Однако на самом деле все три путешествия закончились разочарованием, которое длилось одну или даже две ночи, что путники провели в караван-сарае. Здесь Валтасар встретился с царями Гаспаром и Мельхиором, людьми более светлокожими, чем он сам, но все же достаточно смуглыми. С ними Валтасару многое предстояло обсудить. Караван-сарай располагался недалеко от восточных ворот Иерусалима, поэтому можете не сомневаться, что появление этих царей во владениях Ирода не осталось незамеченным. О них тотчас же было доложено лично великому монарху. Трем царям-астрологам не давала покоя мысль, что теперь, когда они пришли сюда и когда об этом, несомненно, стало известно Ироду, они обязаны засвидетельствовать ему, царю-брату, свое почтение. Тем более что Ирод был в дружеских отношениях с Римом и обладал неизмеримо большим, чем они, могуществом. Но ведь может случиться и так, что Ирод вовсе не обрадуется, узнав, что в его владениях должен родиться, или уже родился, новый вождь. Валтасар, вероятно, был бы еще более обеспокоен, если бы ему сообщили об одном случае, который произошел поблизости от караван-сарая. Двое его слуг набирали воду из колодца. В глубине его они увидали отражение большой сияющей звезды и подняли головы, чтобы найти ее на небе. В этот момент на них напали четверо вооруженных людей. Слуги закричали, но были избиты дубинками до бессознательного состояния. Один получил слишком тяжелые удары, и тело его сбросили в колодец, после чего вода возмутилась и отражение звезды исчезло. Второго слугу, который был жив и стонал от боли, хотя и был уже без сознания, нападавшие перебросили через спину лошади и крепко связали, а затем ускакали с ним прочь.
В палатке, за ужином, три царя вели беседу. Гаспар сказал:
— Только приблизительное местоположение. Определить точное место очень трудно. Я уже послал двоих хороших гонцов.
— За нами следят, я абсолютно уверен, — заметил Мельхиор. — Границы владений Ирода хорошо охраняются. Может быть, нам следует сообщить о себе?
— А как мы будем отвечать на его вопросы? — спросил Валтасар, нахмурившись. — Что три правителя небольших стран делают здесь, в пределах его царства, по которому они передвигаются крадучись, тайком?
В это время кто-то отодвинул полог шатра.
— К нам гость, — сказал Мельхиор. — Может быть, это все разрешит. Думаю, от нас теперь уже ничего не зависит.
В шатер вошел командир вооруженного отряда — сириец, говоривший на одном из семитских языков, который все трое понимали достаточно хорошо. Улыбаясь, сириец приветствовал их. Рядом с палаткой находился вооруженный эскорт: были ясно различимы звуки шагов и звон оружия. Вошедший офицер сказал:
— Извините меня… Боюсь, не знаю, как к вам обращаться. Высокородные?
— Вам, как я понимаю, известно, кто мы такие, — заметил Мельхиор.
— Да, известно. Прежде всего это известно царю Ироду. Он велел мне приветствовать вас в его владениях. Он счастлив, что вы приехали навестить его. Он приготовил для вас жилье. — Оглядевшись, офицер добавил: — Гораздо более роскошное, чем это.
Три царя сардонически переглянулись, затем поднялись со своего песчаного ковра. Приподняв полог шатра, офицер пропустил их вперед.
ДЕВЯТОЕ
Три царя были еще на пути к дворцу, а Ирод уже обдумывал возможные причины их появления. Под зданием, в котором размещался сераль, был обширный подвал. Именно здесь сейчас и сидел Ирод. Тепло укутавшись, с кубком вина в руке, он наблюдал за ходом пытки. У него было два опытных палача, из берберов, которые никогда не выказывали видимых возражений против выкручивания костей какому-нибудь соотечественнику. На это раз их жертвой был слуга Валтасара, захваченный у того самого звездного колодца. Позади Ирода стоял человек, которого он называл своим советником по теологии — что-то вроде священника, лишенного сана. Ирод терпеть не мог настоящих священников, один только прищур глаз которых уже был проповедью против его образа жизни, и выражение этих глаз ничуть не смягчалось от того, что Ирод взялся перестроить Храм Соломона. Когда несчастная жертва, вся в крови, поту и слезах, издала очередной душераздирающий крик, Ирод скомандовал:
— Теперь сломайте ему пальцы на другой руке.
— Нет, нет, нет-нет-нет-нет-нет-нет!
— Очень хорошо, — произнес Ирод, причмокивая губами после глотка вина, — тогда повтори в точности слова, которые ты слышал.
— Они говорили… они пойдут… за звездой… восходящей над… местом… местом… местом…
— Рождения нового пророка. Пророка. Ты уверен, что они упоминали именно пророка?
— Пророка. Да. Пророка.
— Сломайте сначала большой палец, — приказал Ирод.
— Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Не пророка!
— Ага, значит, не пророка. Мессию? Спасителя народа? Нового правителя Израиля?
— Один из них сказал… сказал… сказал… что-то вроде «Ристос». Другие говорили «Машиах»[50]. О, нет-нет-нет-нет-нет, не могу…
— Христос, — произнес Ирод. — Мессия. Помазанник. Царь. — И, обращаясь к своему советнику по теологии: — Ты нашел в Писании упоминание об этом?
— Да, великий. Прочитать вслух?
— Конечно, дурак!
— Да, великий. «И ты, Вифлеем, земля Иудина…»
— Вифлеем! — прорычал Ирод.
Советник продолжил:
— «…Ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой Израиля…»[51]
— Так, так, так. — Ирод долго качал головой, затем опустошил свой золотой кубок, швырнул его в сторону более дородного из палачей, и кубок со звоном покатился по каменному полу. — Вам лучше всего убить его прямо здесь. Нельзя допустить, чтобы он возвратился к своему темнокожему хозяину изуродованным и передал то, что услышал здесь. Он вообще никому ничего не должен передавать.
— Убить, твоя светлость? Как, твоя светлость?
— Как хотите. Медленно, быстро — как хотите. Мы всегда можем сказать, что он сбежал, ну, что-нибудь в этом роде. Нет, постойте. Убит ножом во время драки в таверне. Итак, Вифлеем… Начинайте! Я хочу это видеть. Но сначала подайте мне кубок. И принесите кувшин с вином. А ты, — обратился он к советнику по теологии, — прочти то же самое еще раз.
Советник снова прочитал отрывок — несколько громче, чем в первый раз. Все это время жертва издавала отчаянные крики. Несчастный был уже на грани жизни и смерти, когда появился вестник, который доложил, что к Ироду пришли гости.
— Накройте стол для ужина. Я пойду прямо туда.
— Будет исполнено, великий.
Когда Ирод вразвалку вошел в обеденный зал, его гости уже расположились за столом, хотя пока еще не ели — лишь задумчиво скатывали шарики из хлеба да вертели в руках кубки, разглядывая их. Они почти не разговаривали и только изредка, как и все, кто здесь бывал, выражали свое восхищение внутренним убранством дворца. Повсюду, благоразумно превратившись в предметы обстановки, стояли стражники. Ирод был пьян больше от своей жестокости, нежели от вина, но старался казаться радушным. Он приветствовал царей, расспросил о том, как прошло их путешествие, о состоянии хозяйства в их царствах и наконец, когда вкатили вертела с нанизанными на них птицами, подошел к своему главному вопросу.
— Э-э, астрономические наблюдения, говорите? В пределах моего царства вам, э-э, лучше видно некое сочетание звезд? Весьма любопытно. Вам бы следовало все это записать. Я мог бы предоставить в ваше распоряжение новейшие — римские! — астрономические приборы. От всей души добро пожаловать! Выбор комнат я оставляю на ваше усмотрение. Астрономия, астрология… Интересно все же, как это вы проводите, э-э, разграничение? Я на то намекаю, что у нас есть свои собственные звездочеты. И эта новая звезда — естественным или сверхъестественным образом — не ускользнула от их, э-э, зоркого ока. У нас имеются и свои знатоки Писания, которые процитируют вам древних еврейских пророков, и они утверждают, что… как это там… если вы ищете нового правителя для народа, то… О, ваши величества, я вижу, вы удивленно смотрите друг на друга. Но ведь не существует ни монополии, ни тем более триполии на соотнесение астрономического феномена с неким земно-божественным, э-э, то есть божественно-земным, э-э, так сказать, явлением, верно? Тогда вам нужно ехать в Вифлеем, это городок чуть южнее Иерусалима. Навозная куча, конечно, как называют его эти римляне, но ведь на рассвете петухи кричат именно с навозных куч. Словом, вот что я вам скажу, ваши величества: идите с моим благословением в Вифлеем, хотя за достоверность сведений я не ручаюсь, за что купил, за то и продаю. Для меня очевидно, что судьба — или, э-э, некая сверхъестественная сила, так? — выбрала именно вас, чтобы вы его нашли. Так найдите его. И принесите его ко мне. Тогда я тоже смогу преклоняться перед ним и поклоняться ему. Но здесь — на моем троне. Ведь мой трон, э-э, станет его троном, правильно?
— Ты говоришь, принести его сюда? — переспросил Валтасар.
— Да. Конечно, усаживать его на трон несколько рановато. По правде говоря, лучше оставить его с матерью, где бы он ни был, но я очень хотел бы его увидеть. Я уже слишком стар, слишком болен, как видите, чтобы ехать туда. Принесите его. Идите же в Вифлеем, о благословенные чужестранцы, которым средь таинств вечных деяний Бога был дан знак! Идите и принесите радость народу Израиля, так долго ожидавшему благую весть!
И тут же, после этого леденящего священного откровения, Ирод резко перешел к суровому практицизму:
— Я пошлю с вами вооруженную охрану.
— У нас есть своя охрана, великий, — сказал Мельхиор. — Но благодарим за предложение. Мы отправимся тотчас же. И без того уже потеряли столько времени. Мы найдем его. И принесем… — Он помедлил. — Мы принесем младенца его народу.
— Я дам вам вооруженную охрану.
— Еще раз благодарим, великий, за предложение, а также за твое гостеприимство, но мы превосходно обойдемся теми тремя отрядами, которые у нас есть, — сказал Гаспар. — Мы не хотели бы выглядеть неблагодарными, но это, несомненно, было бы пустой…
— И все же я дам вам вооруженное сопровождение.
Этот разговор происходил вечером того дня, когда Иосиф и Мария понесли младенца к рабби, чтобы был совершен обряд обрезания[52], так что теперь вы можете видеть, как опаздывали астрологи, добираясь до скромного священного места рождения Мессии. Обряд обрезания происходил не в Иерусалимском Храме, как часто утверждают, а в вифлеемской синагоге. Рабби быстро обрезал крайнюю плоть младенца, и тот громко закричал.
— Через это деяние он входит в семью Израилеву. Он получает имя и будет наречен… — Рабби посмотрел на Иосифа.
— Иисус.
— Иисус. Бар-Иосиф.
«Бар-Иосиф? Мой сын? Так ли это на самом деле?» Иосиф мгновение колебался, затем утвердительно кивнул:
— Бар-Иосиф.
— Благословение Всевышнего. Все. Боль скоро пройдет.
Когда Святое Семейство — теперь их удобнее называть именно так — покидало синагогу, к ним, еле волоча ноги, подошел какой-то ветхий, почти слепой старик. Он словно бы почуял, кто стоял перед ним. Слабо вскрикнув, старик опустился на колени и, хотя от него можно было ожидать нечленораздельного бормотания, заговорил очень отчетливо:
— Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля[53]. — Затем он встал, пристально всматриваясь в их лица, и произнес: — Хвала Господу! Мои глаза действительно видели, и все еще видят, и будут видеть — хотя мне недолго осталось жить, совсем недолго. Вы смотрите на меня так, будто я безумный. Но священное знание от Бога часто называют безумием. Я — Симеон, старый человек, который долго ждал своего спасения. И теперь я вижу дитя, которое лежит на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий[54].
При этих словах Мария вздрогнула, а Симеон, обращаясь к ней, сказал:
— И Тебе Самой оружие пройдет сердце. Твое собственное сердце.
Мария крепче прижала к груди плачущего ребенка и приникла к Иосифу, который обнял ее. Симеон продолжал:
— А теперь я могу умереть с радостью, зная, что видел Его. Пусть Твой раб, о Боже, уйдет с миром, по Твоему слову, по Твоему слову.
Иосиф, несколько стесняясь, произнес краткую молитву от имени своего сына — да, можно сказать, нужно сказать «сына», — а рабби грустно качал головой, глядя на бедного старого Симеона. Затем Святое Семейство отправилось в свой хлев, где они уже начинали чувствовать себя как дома.
Тем временем несколько человек Ирода вели довольно тихий, а может, и шумный разговор с чиновниками, которые занимались переписью населения. Сирийский офицер говорил:
— Мы хотим знать все имена. Даже имена новорожденных.
— Новорожденных?
— Да, если хотите знать, именно новорожденные нас прежде всего и интересуют.
— Любой запрос, какой вы пожелаете сделать относительно всего процесса регистрации… — произнес тощий лысый чиновник. — Что ж, мы, естественно, будем рады сделать все от нас зависящее…
— Мы не занимаемся запросами, — резко оборвал его сириец. — Мы приказываем. И я приказываю вам постоянно сообщать нам все подробности.
— Да-да, конечно, приказ. Вы сказали — дети. И новорожденные в особенности. Я все понял.
Было уже за полночь, когда Иосифа разбудил скрип открывшейся двери хлева. Мария с сыном спали. Пламя светильника, наполненного бараньим жиром, было совсем слабым, но тут в дверях замелькал яркий фонарь, и послышался чей-то извиняющийся голос. За стеной хлева можно было различить звуки шагов и звон металла. Не успел Иосиф встать и быстро одеться, как перед ним появился обладатель голоса. Мария тоже проснулась, но младенец продолжал спать. Вошедший оказался мужчиной высокого роста с очень смуглым лицом. Увидев младенца и его мать и отца, он заговорил:
— Можете представить себе, как мы поражены, святейшая из женщин, благословеннейший из мужчин! Мы не ожидали, что найдем его здесь. Но мы понимаем справедливость этого. Не могло быть другого места. Не во славе, но в бедности и смирении. И бремя всей грязи мира будет возложено на него.
Нерешительно вошли еще два человека. Все трое, как разглядел теперь Иосиф, были людьми знатными, занимавшими высокое положение, и видно было, что прибыли они издалека. Гои, не израильтяне. Странно. Смуглолицый человек посмотрел на Марию и тихо произнес:
— И оружие пройдет твое сердце. Твое сердце тоже.
При этих словах Мария страшно задрожала. Другой человек, доставая из-под плаща небольшие свертки, сказал:
— Мы принесли подарки. Сейчас, в полумраке, вы не сможете разглядеть их как следует, но у вас будет время сделать это, когда вы отправитесь в путь.
— Отправимся в путь? — удивился Иосиф. — Какой еще путь?
— Золото, знак царской власти. Ладан, знак божественного происхождения. Смирна, самая горькая из трав, — знак горечи той чаши, которую ему суждено испить…
— Куда мы должны ехать? — снова спросил Иосиф.
— Так вот, теперь, когда подарки вручены, — предупреждение, — молвил смуглый незнакомец. — Вы должны немедленно покинуть Вифлеем. Покинуть Палестину. Вы должны без промедления покинуть пределы царства Ирода. Ирод знает о рождении нового правителя, нового пастыря народа и не допустит, чтобы он остался в живых…
— Ох, как близка она, эта чаша… — простонала Мария. — Горечь ее…
— Лучше всего Египет. Отправляйтесь в Египет. Поезжайте в юго-западном направлении — в сторону Газы. Держитесь берега моря. Вам нужны деньги?
— Мы всегда немного нуждаемся, — вздохнул Иосиф. — Но вы сказали, что принесли нам золото.
— Дождитесь, когда опустеют улицы. Потом уезжайте. В Египет. Это не навсегда. Дни Ирода сочтены.
Трое чужеземцев в знак преданности спящему младенцу на мгновение преклонили колена, а затем покинули Святое Семейство, унеся с собой свой фонарь. В слабом сиянии светильника глаза оставшихся мужа и жены казались огромными. Около хлева ни один из волхвов не снизошел до того, чтобы заговорить с людьми Ирода. Старший слуга Мельхиора объяснил сирийцу:
— Это не он. Как бы здесь такое могло случиться? Смрадный хлев, полный бычьего навоза. Мой господин говорит, что мы должны продолжать поиск. Он велит сказать вам, что опасается, как бы наши поиски не оказались впустую. Мир долго ждал своего Мессию. Он может подождать еще. Передайте царю Ироду — он говорит… они говорят, что возвращаются в свои царства.
Сириец равнодушно пожал плечами и, устало подняв руку, указал своим подчиненным на темную дорогу, ведущую в Иерусалим.
Той ночью Святое Семейство скрытно выбиралось из Вифлеема по тихой сонной улочке. Мария с тепло укутанным младенцем на руках ехала верхом на ослике, которого, опасливо озираясь, вел Иосиф. Младенец некстати проснулся и надрывно закричал. Мария стала его убаюкивать. Над трубой гостиницы все еще висела новая звезда. Они повернулись к ней спиной и пошли по дороге, ведущей в Хеврон, где со временем они смогут обратить свои спины к еще большей звезде, сияющей днем, и направиться в сторону Газы.
Во дворце Ирода сирийский офицер доложил о неутешительных результатах своих поисков. Ирод не спал и расхаживал по залу и, хотя выпил много вина, был ужасно трезв. Он замахнулся своим тяжелым кубком на сирийца и нанес ему удар в висок. Хлынула кровь, но офицер по-прежнему стоял по стойке «смирно» и дрожал от страха.
— Тебя надули, тупица! Идиот! Ты недостоин носить звание… — Своими острыми ногтями Ирод сорвал с груди сирийца знаки отличия. — Надули! Теперь они уже за границей, вне досягаемости моего правосудия. Умно, ничего не скажешь! Но младенец все еще здесь, я в этом уверен.
— Который младенец, о великий? Нам было приказано осмотреть всех новорожденных.
— А теперь вы можете всех новорожденных убить, — спокойно сказал Ирод. — Слышишь меня? Убейте всех, всех мальчиков. Нет, и девочек тоже — слишком долго разбираться, кто какого пола. Это для большей верности, если, конечно, ты в состоянии отличить верность от неверности, дурак. Убейте всех, кому нет года. Можно и до двух лет. Для верности. Эти проклятые шарлатаны могли ошибиться в своих расчетах. Пусть уж лучше пострадают все невинные, чем уйдет один виновный.
— Виновный, государь? — переспросил советник по теологии. — Ребенок виновен?
— Да. Виновен в том, что ему предопределено занять в этой стране царский трон. Ребенок с врожденной виновностью в узурпации власти. А ты продолжай начатое — бери своих людей, и пусть они вооружатся мечами. Убедитесь, что они остры. В Вифлеем! Рубите! Колите! Крошите! Убивайте!
К этому времени Ирод, без сомнения, был уже безумен. Однако приказы безумного царя тоже должны выполняться. Некоторые воины, узнав о своей миссии, отказались выполнять приказ. Их изрубили первыми. Для практики.
— Ну-ну, парень, не бери в голову, особенно когда будешь иметь дело с этими мягкими маленькими телами, — наставлял добрый сержант одного из своих солдат, который блевал после убийства товарища. — Ничего особенного. Это просто мягкие водянистые штуки. Сделай хороший глоток вина, и пойдем.
Говорят, что это было предсказано пророком Иеремией. Что-то такое про голос, слышанный в Раме, про плач и горькое рыдание, про Рахиль, которая оплакивает своих детей и не может утешиться, ибо детей ее больше нет[55]. В одном рассказе говорится, как маленькие изрубленные кости убитых младенцев взлетели в небо, словно птицы, и очень тихо стучались в небесные врата, но не были услышаны. Подобные истории, полные горечи, должно быть, рассказывали те, кто еще помнил пронзительные крики и свист мечей. Это была первая плата — первая из многих, потребовавшихся для того, чтобы у народа появился новый пастырь.
КНИГА 2
ПЕРВОЕ
Как-то однажды, спустя год или около того, Иосиф с помощью очень легкого молотка подгонял шип к пазу. Человек, на которого он работал, наблюдал, то одобрительно, то не очень, и делал замечания:
— Сколько раз тебе говорить, что это не египетский способ? Красиво сделано, не спорю, но заказчик нам за это спасибо не скажет. Здесь достаточно и пары гвоздиков.
— Так мы делаем в Галилее.
— Так вы делали в Галилее. Забудь про Галилею. Никакой Галилеи больше нет.
— Я не собираюсь отучиваться, — отвечал Иосиф.
— Хорошо, — согласился хозяин, тяжело опускаясь на рабочий табурет. — Сказать по правде, так же делал и мой дед еще там, в Дамаске. Мы ведь иммигранты. В Египте повсюду иммигранты. Египтяне никогда не учились что-то делать своими руками. Сначала были рабы-иммигранты. Потом свободные иммигранты. А что такое Египет теперь? Кусок грязи с памятниками, которые сделали рабы, да куча древнего мусора в пустыне. Римляне, греки, сирийцы… Теперь вот израильтяне, кажется, переселяются, так?
— Если ты имеешь в виду меня, то ко мне это не относится. Сменится власть в Палестине — вернусь домой, в Галилею.
— Сменится власть? Никакой смены власти не будет, парень. И все из-за римлян. Куда ни пойдешь — везде римляне. У меня есть к тебе предложение.
— Никаких предложений.
— Как насчет партнерства? Что скажешь?
— У меня нет денег, чтобы вложить в совместное дело.
— Зато у тебя есть умение, а это дороже денег.
— Нет, я не останусь.
— Останешься. Этот город… знаешь, к нему словно прикипаешь. Здесь хорошо, особенно по вечерам.
Со времени приезда Святого Семейства в Египет это было уже пятое место работы Иосифа. По натуре своей он не был склонен к переездам, и Иосиф не мог бы мечтать о большем, чем просто заниматься своим ремеслом и спокойно жить на одном месте. Но он был вынужден помнить, что у царя Ирода длинные руки, — не случайно в этих местах время от времени появлялись римляне, якобы совершающие деловые поездки (о цели которых, однако, никогда не говорилось определенно), и расспрашивали людей на постоялых дворах: из Палестины последнее время никто не приезжал, а? Иосиф понимал, что ему следует постоянно быть настороже и не мечтать о спокойной жизни. Однако Ирод все не умирал. Путешественники рассказывали об Ироде безумном, деспотичном и безнадежно больном, но не об Ироде умирающем. Говорили, что Ирод и жить-то продолжает только затем, чтобы досадить своим сыновьям. Поэтому Мария, Иосиф и младенец оставались в Египте. Они переезжали из города в город, из деревни в деревню — все дальше от границы с Палестиной, все ближе к Великому Горькому Озеру.
— Я здесь не останусь, — упрямо повторил Иосиф.
— Останешься. А если уразумеешь свою выгоду, то останешься именно у меня. Здесь большие возможности. Город растет.
Однажды, когда Иосиф и Мария сидели у входа в свое убогое жилище, в котором им не принадлежал даже сосуд для воды (пожитки опасны, пожитки удерживают человека при себе), Иосиф сказал:
— Он говорит, что нам лучше остаться. Так мы останемся?
— Останемся ли мы? — переспросила Мария, отвлекшись от своей штопки и взглянув на Иосифа. — Ты говоришь так, будто думаешь, что я могу заглядывать в будущее. Я не могу предвидеть, что нас ждет, но знаю, что здесь мы не останемся.
И все-таки в тот вечер им казалось, что это хорошее место, в котором можно было бы и остаться. По улице разносились запахи горячего масла и чеснока, у колодца играли дети, невидимая женщина пела песню — любовную песню, которая казалась каким-то замысловатым печальным причитанием. Воздух был прохладен, ветер доносил запахи пряностей. У их ног играл маленький Иисус, выстраивая для себя городок из деревянных брусков, которые принес в дом Иосиф. Это был крепкий малыш, обещавший в будущем набрать немалый рост. У него, казалось, не было каких-то особых талантов, положенных сыну Бога. Он не делал птиц из грязи и не приказывал им взлететь. Иногда, правда, он вроде как прислушивался к несуществующим голосам, хотя это могло означать и то, что у него необычайно острый слух и он мог слышать какие-то отдаленные голоса, различить которые другим было не под силу. Он видел египетских чародеев и пристально наблюдал, как они показывали свои чудеса, но ничему особенно не удивлялся. Чародеи часто переезжали из города в город и давали на улицах свои представления, собирая потом монеты со зрителей. Одним из популярных фокусов было превращение палки в змею, чему когда-то обучился еще Моисей. Змее давали какое-то снадобье, которое усыпляло ее и приводило в состояние окоченения, и, когда змею держали за голову, она была почти неотличима от обыкновенного прута. Брошенная же на землю, змея выходила из оцепенения и начинала извиваться. Иисус видел, как египетские врачеватели исцеляли больных и незрячих людей внушением, сопровождая его возложением ладоней или смачиванием больного места своей слюной. Однако эти чудеса не вызывали у него особого интереса. Иисус рано научился говорить и говорил серьезно и рассудительно. Улыбался редко. Иногда он обращал на своих родителей взгляд, который, казалось, вопрошал: «Кто вы и что здесь делаете?» Если у Иисуса и было какое-то особенное знание от Бога, он его никак не обнаруживал — прятал внутри.
— Он знает, что мы уезжаем, — сказала Мария.
Знал он или нет, но, если бы ветер с востока донес до них эту новость, они могли бы выехать из Египта в тот же вечер и, уж конечно, на следующее утро. Я имею в виду новость о шумной и дикой, похожей на театральное представление, смерти Ирода. Ей предшествовала неожиданная даже для самого царя попытка покончить жизнь самоубийством. Лежа на своем ложе, Ирод мучился от боли и депрессии: его живот был переполнен жидкостью, яростное бульканье которой слышалось за десять шагов, ноги теряли чувствительность, а головная боль не отпускала ни на минуту. В какой-то момент он, к своему собственному удивлению, попросил слугу:
— Яблоко. Принеси яблоко. Хочу яблоко.
Слуга убежал и тотчас же вернулся с яблоком, уже очищенным и нарезанным ломтиками.
— Нет, дурак, не то! — завизжал Ирод, вяло ударив слугу. — Дурак! Дурак! Яблоко с красной кожурой и нож, чтобы очистить его!
Слуга снова убежал и тотчас вернулся, неся блестящее красное яблоко на серебряном блюде и стальной нож. Ирод взял нож, попробовал большим пальцем остроту лезвия, а затем, к своему, как я сказал, удивлению, вонзил его себе в живот. Полились кровь и какая-то маслянистая жидкость, распространилось зловоние, как от гниющего мяса, переложенного лекарственными травами. Ирод лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Затем он отвратительно улыбнулся и прорычал: «С этим покончено, покончено!» Однако ни с этим, ни с ним самим покончено еще не было. Бегали слуги, бегали, крича, советники, визжали женщины в гареме. Пришли лекари. Они молча покачали головами. Но жизнь еще не покинула тело Ирода.
Архелай, наследник престола, находился в то время в тюрьме. Его отец много недель, а то и месяцев вопил о предательстве наследника, о том, что тот плетет против него сети заговора, и наконец однажды за обедом — после оскорбительной насмешки со стороны сына и последовавшей за этим шумной и бессильной брани Ирода — царь с пеной на губах проорал приказ, и Архелай был брошен за решетку.
В ту ночь, ночь яблока и ножа, Архелай услышал крики: «Умер, умер! Царь умер!» В великом волнении он спросил начальника караула, правда ли это, и тот сам побежал выяснять, а когда вернулся, сказал, что царь умирает и до утра, несомненно, не доживет.
— Ну, тогда отпусти меня, — потребовал Архелай.
— Кто же даст мне на это разрешение, господин?
— Я дам, дурак! Я — наследник трона, и очень скоро ты должен будешь обращаться ко мне «Ваше величество».
Начальник караула повернул в замке огромный ключ, а пять минут спустя Архелай уже смело входил в спальню отца, где с закрытыми глазами лежал перебинтованный стонущий правитель, окруженный лекарями и советниками. Какой-то инстинкт заставил Ирода открыть глаза в тот самый момент, когда его сын появился в спальне. Он увидел Архелая и заорал так громко, как только мог:
— Кто выпустил тебя?! Кто освободил эту вероломную свинью?! Хорошо, господин мой, теперь ты тоже сможешь присоединиться к тем, кто смолк навеки!
С этими словами Ирод выхватил меч из ножен ближайшего к нему советника и с невероятной для него ловкостью, но, как и следовало ожидать, очень неумело, набросился на сына — лезвие лишь распороло правый рукав одежды Архелая. Затем Ирод повалился на спину. Различные предметы с грохотом полетели со столов, и вся комната сотряслась от падения огромной туши. С ужасными стонами Ирод покатился по полу, его тело два или три раза судорожно дернулось. Он погрозил небесам немощной рукой, сжатой в кулак, ноги его резко выпрямились, и Ирод испустил дух, извергая из своего мочевого пузыря и кишечника зловонные потоки. Сердце, поняли лекари и вскоре громко объявили об этом: «Разрыв сердца. Ирода постигла смерть. Ирод Великий умер».
Архелай, самодовольно улыбаясь и стараясь в то же время держаться как царь, громко сказал:
— Теперь я ваш правитель. Прошу оказывать подобающее почтение, господа мои.
Десять рабов унесли тело бывшего царя.
— Главный советник, объяви народу о восшествии на престол Его величества царя Архелая.
— Не сейчас, господин, — твердо заявил советник. — Сначала нужно посоветоваться с Римом.
— С Римом? С Римом?! Рим не имеет к этому никакого отношения. Немедленно объявляй!
— Разумеется, я должен объявить о кончине великого. Но я не могу объявлять еще о чем-то до тех пор, пока мы не посоветуемся с Римом. Между тем, согласно временному указу покойного государя, я уполномочен передать правление в руки регентского совета, члены которого уже назначены, а ты и твои братья выдвинуты его номинальными главами.
От этих слов Архелай пришел в неописуемую ярость, но то была уже ярость бессилия.
Действительно, с Римом следовало посоветоваться, и я должен переместить вас во времени немного назад, дабы вы заглянули на совет, проходивший в личных покоях императора Августа. На этом совете божественная персона выдвинула план управления Палестиной в случае смерти Ирода, ожидавшейся со дня на день. Советник по делам Леванта, дородный муж по имени Сатурнин, заявил:
— Я согласен с божественным императором в том, что на нынешнем этапе развития мира Палестина имеет чрезвычайно малое стратегическое значение, но я тем не менее с определенностью порекомендовал бы установить в Иерусалиме римское присутствие.
— Пустая трата средств, Сатурнин, — возразил Август. — Толпа ссорящихся из-за пустяков евреев. У наших легионов есть куда более почетные задачи, чем усмирение евреев. Не будем нарушать преемственности. Эти евреи могут поносить семейство Ирода, но они знают, что семейство это, как таковое, происходит из их страны и придерживается их веры. Тирания потомков Ирода будет продолжаться, но евреи скорее смирятся с нею, нежели потерпят чужеземное правление, пусть даже эффективное и справедливое.
— Кого именно из тиранов корня Иродова имеет в виду божественное императорское величество, говоря о правителе? — спросил Сатурнин.
— Никого, — ответил Август. — Для управления всей этой территорией никто не годится. А если бы и был в действительности кто-то, кого можно было бы возвести на палестинский престол, он не удержался бы на троне. Братоубийственная история, дорогой Сатурнин. Нет, у меня другая идея. Принеси-ка карту, Валерий.
У Валерия, нервного юркого секретаря, карта была уже наготове. Он развернул ее на божественном императорском мраморном столе и закрепил по углам тяжелыми мраморными держателями.
— Взгляни сюда, Сатурнин, — сказал Август, указывая на карту. — Предлагаю поделить власть в провинции между четырьмя правителями. Верное обозначение этому будет, полагаю, тетрархия. Четыре тетрарха, и каждый из них потомок Ирода, которого скоро будут, хотя и давно пора, оплакивать.
— Оплакивать, Ваше божественное имперское величество?
— Он поддерживал порядок, любил Рим, понимал евреев. Но слушай дальше. Итурея и Трахонитида — звучит как болезнь, не правда ли? — переходят к Филиппу. Ирод Антипатр[56] правит Галилеей. Лисанию достается вот эта область — Авилинея. А Иудея переходит к Архелаю. Ты знаешь Архелая, Сатурнин?
— К несчастью, да. Вечно ухмыляется. Очень неуравновешенный. Итак, он получает Иудею.
— Временно, Сатурнин, временно! Давай хорошенько запомним это слово.
— Тетрархия в Палестине. Звучит впечатляюще.
Со дня смерти Ирода прошло около двух недель, когда эта новость дошла до Иосифа. Из Иудеи в Египет прибыл небольшой караван, и Иосиф поспешил на постоялый двор поговорить с приезжими. Один из них пересказал ему обстоятельства смерти Ирода с обычными для путешественников преувеличениями:
— Лопнул, как надутая лягушка. Живот его широко раскрылся, и почти весь дворец затопило тем, что у него оттуда вышло. Им пришлось запирать дворец, даже сады, пока они все это убирали и жгли тимьян, майоран и другие пахучие травы. Говорят, из его могилы до сих пор смрад идет.
— А кто теперь правит? — спросил Иосиф, еще не решаясь дать волю бурной радости, по случаю окончания их изгнания вполне уместной.
Он предчувствовал — все это обещает ему боль расставания с тем, что стало уже привычным и обиходным. Он должен будет вернуться к тому, что когда-то было понятным и естественным, но теперь стало почти совсем незнакомым.
— Разломили страну, как лепешку, на четыре части. Один в Иерусалиме, еще один в Трахонитиде — звучит, будто болезнь какая-то, правда? — третий в Галилее…
— А кто правит в Галилее?
— Ирод. Ирод Антипатр[57]. Это означает, думаю, что он своему отцу полная противоположность. Кажется, скромный и тихий паренек. Всего лишь ребенок, окруженный теми, кого называют регентами. Кстати, некоторые из них римляне. Как бы то ни было, он теперь царь Галилеи, еще один Ирод. А тебе, выходит, знакомы эти места?
— Да, знакомы, — ответил Иосиф.
— Место, от которого лучше держаться подальше, — заметил другой путешественник, — это Иерусалим. Правитель там совсем сумасшедший. Скор на поджоги и убийства.
Это была сущая правда. Архелай допустил ошибку — среди многих других ошибок, им допущенных, — когда во всеуслышание заявил, что он более велик, чем сам Бог, поскольку, мол, Бог есть только представление в головах людей, а он, Архелай, здесь во крови и плоти. Архелай настаивал, что его правление должно быть выше таких замшелых обычаев, как Закон Моисея. А что до Храма, который восстанавливал его отец, Ирод, так это пустое дорогостоящее суеверие. За одним небольшим проявлением тирании — слепой старик, ненароком сплюнувший на сандалии начальника царской стражи, был арестован и предан пыткам и казни без суда — последовало другое, когда однажды Архелай из своих носилок разглядел в проходившей мимо свадебной процессии четырнадцатилетнюю невесту и потребовал ее себе в качестве наложницы. В ответ на его воинов посыпались камни, а те пустили в ход мечи и дротики, под ударами которых падали не только мужчины, но и женщины и дети. В то время как Святое Семейство медленно брело по пустыне, в Иерусалиме шли массовые убийства и казни.
Однажды вечером, когда они отдыхали под пальмой, Иосиф сказал:
— Странно устроен человек. Теперь я скучаю по Египту. Особенно вечерами, как сейчас. Помнишь, что говорили израильтяне, когда Моисей вел их к свободе?
— Я не знаю Писания, — ответила Мария. — Я его никогда по-настоящему не читала. Да и не слушала тоже.
— Они говорили тогда: «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок»[58]. Вот о чем они думали — о луке, а не о свободе. А когда я думаю, что нас ждет в Назарете, то чем ближе мы к нему, тем сильнее у меня сжимается сердце. Сплетни. Насмешки. Может быть, страх. К этому времени все уже наслышаны…
— Все наслышаны о безумном царе и об удачном бегстве. — Мария разжевывала очень черствый хлеб, и потому ее речь была несколько невнятной. — Они еще не готовы к тому, чтобы…
— Поверить?
— Да, поверить. О нас будут думать как о семье, которая уехала в Египет, а потом вернулась домой.
По тихий, серьезный ребенок, казалось, прислушивался к тому, что происходило за двести миль отсюда, в Иерусалиме, где конница и пехота двенадцатого римского легиона восстанавливали порядок в провинции, впавшей в хаос из-за бездарного деспотического правления Архелая.
В Риме в это время Сатурнин почтительно говорил божественному Августу, что всегда считал Архелая неуравновешенным и неспособным управлять даже четвертой частью провинции. Август раздраженно с ним согласился и заявил, что есть только одно решение.
— Значит, Иудея переходит под прямое управление Рима, Ваше божественное имперское величество?
— Вопреки моей воле, Сатурнин, абсолютно вопреки моей воле. Это затраты, которых мне не перенести. Двенадцатый легион нам нужен в другом месте. Что касается управления, то пусть лучше наш наместник делает это из Кесарии — город отдаленный, в стороне от событий. Разумеется, время от времени необходима демонстрация силы в Иерусалиме. Вот как сейчас. Архелай глупец. Очень плохой штамм этого семейства. Согласись, я всегда так говорил, именно так.
— Как будет угодно Вашему божественному имперскому величеству, — ответил советник. Затем столь же почтительно: — Ваше величество хорошо знакомо с евреями.
— Я знаю, Сатурнин, что ты хорошо с ними знаком. Ты ожидаешь волнений, восстаний, роста того, что можно назвать националистическим фанатизмом, не так ли?
— Многое зависит от правителя.
— От прокуратора, Сатурнин, от прокуратора. Иудея вряд ли имеет столь важное значение, чтобы быть удостоенной чести иметь своего правителя. Поэтому мы должны выбрать прокуратора. Валерий, — обратился он к секретарю, — принеси тот список с именами кандидатов.
Секретарь принес список.
Возвращение Святого Семейства в Назарет не было неожиданным. Когда мать, отец и сын, смущенные, измученные долгим путешествием, появились в городе, жители встретили их объятиями и громкими приветствиями, а рабби Гомер громким голосом вознес молитву небесам: «Хвала Господу! Ибо те, которые были потеряны, найдены, и те, которые умерли, восстают пред нами вновь!» Иосиф подумал, что рабби заходит уж слишком далеко. Что касается остального, то все могло быть гораздо хуже. Елисеба, сгорбленная и жалующаяся на судьбу, но еще бодрая, оставалась все это время в их доме, поддерживая в нем порядок, так что вид он имел вполне жилой и вовсе не напоминал склеп, покрытый плесенью и пылью. Иаков с Иоанном продолжали работать в мастерской, но Иаков выдумал историю, что мастерская теперь принадлежит ему по праву, поскольку перед отъездом в Вифлеем Иосиф будто бы сказал ему: «Если я умру во время путешествия, все это останется тебе, хотя надеюсь, что ты позаботишься и о моей семье. Если же все мы умрем, то это принадлежит тебе и только тебе». А что такое смерть? — спрашивал Иаков. Это продолжительное отсутствие. Значит, Иосиф, его жена и их сын мертвы. Теперь Иосиф все поставил на свои места. Иаков уехал из Назарета, чтобы открыть собственную мастерскую. Каждый знал, откуда на это взялись деньги, но Иосиф не высказал недовольства по данному поводу. Он собирался пока обходиться помощью одного ученика. Придет время, и появится другой помощник — прямо в их семье, и он будет всегда рядом.
И вот наступает этап, когда перед рассказчиком этой повести встает главная трудность, а именно: как быть с неизвестным нам периодом жизни Иисуса? Периодом к тому же не столь кратким, ибо Иисус вступает в мир, который мы называем великим или публичным, будучи, строго говоря, уже не очень молодым человеком. Но тридцать лет его тихой жизни в Назарете не могут быть полностью оставлены без внимания, несмотря на понятный мне интерес читателя к самим деяниям Иисуса как проповедника и спасителя и на вероятное нетерпение поскорее об этих деяниях узнать. Поэтому я, насколько возможно, буду краток в изложении тех фактов жизни Иисуса в Галилее, которые предшествовали его крещению, скудость же их будет способствовать краткости. Разумеется, передо мной, как я теперь вижу, встает столь же нелегкая задача описать и период жизни Иоанна, когда тот еще не проповедовал. Нет конца мукам рассказчика!
Иисус был здоровым и спокойным ребенком и в возрасте семи лет выглядел уже более рослым и крепким, чем многие десятилетние дети в Назарете. Будучи тихим мальчиком, он в то же время отличался обидчивостью и, даже если обидчик оказывался значительно старше и сильнее его, тотчас давал отпор. У Иисуса были крепкие мускулы, но он совсем не производил впечатления Божьего сына, иначе говоря, этот мальчик ничем особым не выделялся среди тех тщедушных ребятишек, которые считают, что Бог и так обязан за ними присматривать. До четырнадцати лет у него был отменный аппетит, но рыбу он любил особенно. Если бы в их доме почаще бывала тушеная баранина, он бы и на нее налегал, поскольку никогда не стеснялся просить вторую порцию и при этом любил, чтобы соли и острых травок было побольше. Что же касается диеты, то в этих вопросах его можно было, скорее, считать еретиком: он никак не мог уяснить, что в том плохого, если он запьет мясо чашкой козьего молока.
— Это против Закона, сын, — говорил Иосиф, — о чем тебе уже тысячу раз было сказано.
— Я знаю, что это против Закона, но не пойму почему.
— Об этом сказано в Книге Левит, и так было установлено Моисеем. Это имеет отношение к здоровью тела и свидетельствует о святости души, так что хватит об этом.
— Но почему?
— Нельзя все время спрашивать «почему?».
Это был незаслуженный упрек. Иисус редко задавал такой вопрос. В школе он хорошо усваивал доктрину Моисея и успешно отвечал на вопросы учителя — особенно на те, что были связаны с числами.
— Кто знает, что означает «четыре»? Скажи ты, Иисус, что есть «четыре»?
— «Четыре» — это матери: Сара, Ревекка, Лия, Рахиль. «Три» — это патриархи: Авраам, Исаак, Иаков. «Два» — каменные скрижали, на которых начертан Закон. «Один» — Господь наш Бог, сотворивший небо и землю.
— Хороший мальчик!
Наступил день, когда рабби Гомер сказал ученикам в школе:
— Итак, вы уже знаете все буквы. Теперь вам пришло время увидеть, как они выглядят, когда из них замешивают тесто и лепят такие своеобразные лепешки, которые мы называем словами. Смотрите, вот один из священных псалмов благословенного царя Давида.
Рабби Гомер пустил свиток по рядам, предупредив, чтобы ученики бережно с ним обращались. К его удивлению, Иисус смог прочесть свиток сразу же и довольно бегло:
— «Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим»[59].
— Очень хороший мальчик!
Некоторые говорят, хотя мы и не обязаны этому верить, что Иосиф давал своему приемному сыну уроки дома и использовал для этого деревянные предметы, которые изготовлял:
— Я не рабби, но, думаю, у меня есть кое-что, чему я могу научить тебя. Не самому ремеслу, а смыслу ремесла, ремеслу в глазах Бога, если так можно выразиться. Вот смотри, мы пользуемся этой линейкой, чтобы провести прямую линию на дереве, которое нужно распилить, но точно так же мы проводим прямые линии подобающего поведения — мы называем их правилами. Однако, возможно, вести себя правильно — это еще не все. Взгляни на этот новый плуг — я только что его закончил. Он нужен для того, чтобы делать прямые борозды, в которые будут брошены семена. Этот плуг может дать довольно сытую, но все-таки очень скромную жизнь: голова всегда опущена к земле, мускулы напряжены до предела. Однако человек должен научиться и тому, как возвыситься над землей. Посмотри на эту лестницу — о такой вещи наш прапрапрапрапрадед Адам даже и не мечтал. Это то, чему научились, с Божьей помощью, его дети, чтобы можно было подниматься к вершинам деревьев и собирать плоды, которые растут высоко, и видеть яйца, которые укрыты в гнездах; чтобы можно было дотянуться до верхней полки, где пылятся тайные книги. Ступень за ступенью — как в музыке. Ступень за ступенью. Самая низкая ступень — наши ощущения: обоняние, вкус, осязание и другие; потом идет речь, которая возвышает нас над животными; потом — способность думать; потом — фантазия; потом — воображение; потом — видение; а на самой верхней ступени лестницы — истинная сущность, что есть одно из выражений, обозначающих близость к Богу.
В возрасте десяти лет Иисус уже заслужил имя Наггар, что по-еврейски означает «плотник» (на греческом — Марангос). Он любил и тяжелую работу — например, распиливание деревьев, — и более легкую — скажем, выравнивание досок рубанком. Иногда он был небрежен при измерениях и слишком полагался на свой глазомер, а не на линейку, но в четырнадцать лет был уже столь же умел в изготовлении плугов, как и его отчим (которого он, разумеется, называл отцом), и это было весьма кстати, поскольку Иосиф старел и руки его слабели. Однако в четырнадцать лет Иисус стал мужчиной не только в смысле овладения ремеслом — это возраст, Когда совершается обряд бар-мицва, пройдя который мальчик вступает в религиозную и общественную жизнь своего народа на правах взрослого мужчины.
Рабби Гомер, теперь уже постаревший, дрожащим голосом говорил мальчикам, которые только что стали мужчинами, напутственные слова: «Близится Пасха, приготовьтесь к ней, ибо вы впервые проведете этот день в Иерусалиме и своими глазами увидите великую славу Священного Храма Господа Бога нашего…»
Внезапно его голос потонул в раздавшемся снаружи грохоте — в это время мимо синагоги проезжали вооруженные всадники. Рабби тотчас прервал скромную процедуру посвящения в мужчины, поскольку все присутствующие обернулись на этот шум. Благословив мальчиков, рабби вывел их из синагоги. Щурясь от яркого света, кашляя и чихая от поднятой лошадьми пыли, Иисус и его друзья наблюдали, как по главной — и, по правде говоря, единственной — улице галопом проносилась римская конница. Пекарь Иофам тоже увидел воинов, но уже вблизи. Сержант и двое его людей спешились и вошли в лавку Иофама, не сказав, что называется, ни «добрый день», ни «поцелуй меня в задницу».
— Хлеба, парни, еврейского хлеба, и с вами ничего плохого не случится.
— Что? Чего вы хотите? — спросил Иофам.
Сержант заговорил на плохом арамейском:
— Это называется реквизиция. Армию нужно кормить. От Дамаска до Иерусалима долгая-долгая дорога.
— Это Назарет, — ответил Иофам. — Галилея. Здесь не римская территория.
— Неужели? Вот не подумал бы! Мы, конечно, могли бы поспорить об этом за квартой вина, да времени нет. Коль уж я заговорил об этом, нет ли тут у вас приличного вина? Хорошо, хорошо, спасибо за припасы.
Когда они выходили из лавки, молодой назарянин по имени Наум пробормотал им вслед:
— Божье проклятье на ваши головы! Римляне, чтоб вас… Пусть Бог Израиля, Бог поднебесного мира, сразит вас. И Он это сделает. Кости римлян будут гнить на нашей святой земле. Будьте вы прокляты, римские твари.
И он сплюнул.
— Я не все уразумел из сказанного, — добродушно сказал нагруженный хлебом солдат, — но это звучало не очень-то хорошо.
— Плевок я как-то сразу уразумел, — произнес второй воин весьма уродливого вида.
— Оставьте его в покое, не обращайте внимания, — сказал им командир, за плечами которого было двадцать лет службы. — Ты в Иерусалиме еще много таких встретишь. Их называют зелотами. Безумные ублюдки. — И, любезно поклонившись Иофаму, он повел своих людей к лошадям.
— Хочешь подраться, да? — с ядовитой усмешкой обратился к Науму Иофам. — Это тебя до добра не доведет. Они сейчас повсюду, римляне-то. И царство Израильское развеется, как пыль на ветру.
Ветер развеял пыль, оставленную римской конницей, стих стук копыт, войско ушло в сторону Иерусалима. Судя по всему, в Иерусалиме оно теперь было необходимо. Потому что в Риме только что закончилась одна власть и начиналась другая.
Август умирал. Он лежал на своем смертном ложе, окруженный теми, кого называл друзьями. Тут же толпились лекари, сенаторы, консулы, а также друзья Тиверия — человека, который должен был стать преемником Августа. Разумеется, сам Тиверий тоже находился здесь. Да, не забыть бы еще и прокуратора Римской Иудеи, который как раз в эту пору проводил в столице империи свой отпуск. Август произнес свои последние слова, тщательно следя за артикуляцией, — словно призрак актерства пролетел над смертным ложем:
Ei de ti Echoi kalos, to paignio dote kroton Kai pantes emas meta charas propempsate[60].Сатурнин понял смысл фразы и кивнул, затем покачал головой. Тиверий громко прошептал:
— Что он сказал?
— Это по-гречески.
— Я знаю, что по-гречески, но что это значит?
— «Комедия его жизни окончена. Если она доставила нам хоть какое-то удовольствие, мы, когда актер покидает нас, должны проводить его рукоплесканиями».
— Он имеет в виду настоящие рукоплескания? — Тиверий был не из самых сообразительных. — Он шутит напоследок, — произнес он немного погодя, не слишком уверенный в правильности сказанного. По чести говоря, Тиверий был не слишком уверен в правильности чего бы то ни было, что и покажет в дальнейшем вся его карьера. Но в том, что это конец, он не сомневался.
Август слабо вздохнул и затих. Лекарь пристально вгляделся в его лицо, затем осторожно закрыл глаза, которые еще минуту назад были государевыми очами. Божественный император действительно и окончательно превратился в божество. Все присутствующие повернулись к Тиверию. Они пробормотали: «Да здравствует кесарь Тиверий» и разыграли краткую сценку с приветствиями и заверениями в преданности, хотя у многих из них в этот момент душа ушла в пятки. Тиверий глупо улыбался и благодарил всех — сначала слишком тихо, потом слишком громко.
Вскоре после этого Тиверий был коронован, и изображение его самодовольно ухмыляющийся физиономии появилось во всех уголках империи. По распоряжению прокуратора (который всегда лучше ладил с Тиверием, чем с Августом) эти изображения были развешаны и в Иерусалиме. Никто особенно не возражал против того, чтобы Тиверий глупо скалил зубы со стен общественных зданий или таверн (где можно было от души посоревноваться в прицельной стрельбе плевками по императорскому глазу). Но когда наиболее помпезное изображение Тиверия было решено внести в Храм, дабы напомнить евреям, кто на самом деле был их богом, народ в Иерусалиме, естественно, взбунтовался. В то время в Иудее существовала секта или партия наиболее рьяных сторонников освобождения от римского владычества — партия фанатиков, которые, собираясь вместе, читали Писание и напоминали друг другу о том, как в прошлом народ пребывал рабстве и как по указаниям самого Бога цепи рабства были разорваны. Людей этих справедливо называли зелотами[61]. Именно зелоты, ведомые человеком по имени Авва, убрали из Храма изображение Тиверия. Когда портрет императора переносили в Святая святых, они завязали отчаянную, но бессмысленную схватку с римлянами, которые несли изображение. Потом были произведены массовые аресты и казни.
Прокуратор Иудеи, носивший имя Понтий Пилат, с суровым видом сидел на террасе своего дворца (прежде принадлежавшего Ироду), когда перед ним выстроили арестованных злодеев. Двое палачей со сверкавшими на солнце топорами ждали приказаний, глупо скаля зубы, — ни дать ни взять их верховный работодатель, божественный император Тиверий. Строгим тоном Пилат обратился к осужденным:
— Когда же вы, евреи, осознаете, кто вы такие? Когда вы поймете, что личность императора божественна в буквальном смысле и что порча его изображения — это богохульство в грубой форме?
Упрямый Авва, мясник по профессии, подал голос:
— Этого, господин прокуратор, мы не признаем и признать не можем. Вносить изображение простого временного правителя в святилище Всевышнего — это богохульство, от которого содрогаются сами небеса. Что до того, кто мы такие, то мы знаем, кто мы — народ, избранный Богом. И мы знаем, кто такие вы, римляне. Вы — вторгшиеся язычники, осквернители Святого города, гнусная мерзость и бедствие для нашего народа.
— Ты не смеешь так говорить! — выкрикнул Пилат, задрожав от ярости. В то время он был еще неопытным новичком в искусстве обращения с местными диссидентами. — Ты громоздишь одно преступление за другим!
— Невозможно громоздить одну смерть за другой, — усмехнулся Авва. — Человек умирает только единожды.
Пилат был вне себя от ярости.
— Приступайте к работе! — приказал он палачам. — Услышанного мне вполне достаточно.
К его удивлению, евреи, вслед за Аввой, громко запели патриотический гимн, а затем, по его сигналу, все как один опустились на колени и обнажили свои шеи для топора. Пилат был поражен. Он прошел к тому месту, где стоял на коленях Авва, и истерически завопил.
— Ты хочешь умереть?! — вопил он. — Ты, — вопил Пилат, — хочешь умереть?!
— Лучше умереть, — выкрикнул Авва, — чем принять на себя позор принудительного безбожия! Да и еще раз да! Погоди, Понтий Пилат. Может статься, скоро тебе придется править кладбищем.
И он продолжал спокойно ждать, когда опустится топор палача. В голове Пилата невольно прозвучало слово «милосердие». Но единственное, что он смог сделать в ту минуту, это выкрикнуть:
— Казнь откладывается! Всех назад, в тюрьму! — И, обращаясь к своему помощнику Луцию Вителлию Флавикому[62], смуглому человеку с волосами цвета сажи, пробормотал: — В сущности, я должен посоветоваться.
— С кем, господин?
— В этом вся трудность, Вителлий. Я большей частью предоставлен самому себе. И единственное, чего я хочу, — это спокойствия.
— Может быть, предпринять какой-нибудь популистский шаг, господин? — спросил Вителлий, наблюдая, как евреи, все еще певшие о Сионе[63] и о любви Господа, шагали к зданию тюрьмы. — Что, если мы сейчас тихо умертвим человека по имени Авва, а остальных отпустим? Императорское милосердие и так далее?
— Да, конечно. Вели отрубить ему голову. Непременно сделай это.
Таким образом, Авва без лишнего шума был казнен, а остальным позволили вернуться к нормальной жизни, но все они были строго предупреждены. Однако попытки украсить Святая святых ухмыляющимся императорским оскалом больше не предпринимались. Сын Аввы, молодой человек восемнадцати лет, только о перевороте и думал, но решил, что время для выступления против власти империи еще не пришло. Тут требовался какой-нибудь великий поэтический лидер, до отказа заполненный волшебной субстанцией, которая в те времена была известна под названием «харизмы»[64].
В Иерусалиме, куда Иисус и его родители, как и многие другие жители Назарета, отправились на празднование Пасхи, было довольно спокойно, хотя повсюду можно было встретить голоногих римских солдат.
Мальчик впервые увидел Иерусалим с вершины холма: перед ним в долине лежал великий город — умытый солнцем, белый, как кость, и коричневый, как навоз. По примеру рабби Гомера вся процессия паломников из Назарета опустилась на колени и запела псалом, начинавшийся словами: «Возрадовался я, когда сказали мне: „пойдем в дом Господень“. Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим…»[65]
Увидев город, мальчик не преисполнился сыновней любовью, как того можно было ожидать. Город, в конце концов, состоял из людей, и Иисус вовсе не полагал, что жители Иерусалима будут светиться какой-то особенной благодатью. В большинстве своем, думалось ему, это просто дурное сборище, озабоченное тем, как бы побольше заработать на паломниках, приехавших на Пасху. К тому же Иисус пока что имел смутные представления о других, более крупных городах — скажем, о Риме или об Александрии, — он лишь слышал о них, но никогда не видел.
Здесь были подозрительные люди с неискренними улыбками и руками, которые проворно хватали деньги, люди, горевшие желанием показать приезжим могилы пророков. Здесь были пьяные римские солдаты и множество блудниц. При виде похотливых улыбок и зазывно выставляемых грудей его молодая кровь закипала. Он видел откровенные объятия в темных переулках. Ловкие воры, чьи полуголые тела были смазаны жиром, чтобы легче было выскользнуть из рук преследователей, выхватывали кошельки у прохожих. Это был, как казалось Иисусу, город рук — рук, готовых брать деньги, скользить по горячим плечам уличных девок, сжиматься в кулаки во время драк возле таверн. И в Храме — руки священников, которые закалывали визжащую жертву; руки красные от густой козлиной крови и от жидкой крови голубей; руки, испачканные внутренностями ягнят; руки, которые ловко выворачивают кости отбеленного скелета ягненка или козленка и с помощью скрещенных деревянных реек укрепляют их на плоскости, чтобы получилась своего рода патетическая жертвенная хоругвь.
У Храма, на заднем дворе, за которым со сторожевой башни наблюдали вооруженные часовые, чьи-то руки вдруг вцепились в одежду Марии. Это были узловатые, коричневые, высохшие руки, принадлежавшие старухе.
— Елисавета?!
— Она самая! А ты, кажется, ни на день не постарела. Божья благодать расцветает в тебе, благословеннейшая из жен. А это…
— Это — он.
— Что-то Иоанна не видать. Убежал куда-то по своим делам. Ну да ничего, за пасхальным ужином мы соберемся все вместе. Они оба хорошего роста, благослови их Господь. Отец Иоанна мог бы им гордиться. Ах, бедный Захария!
Они сидели за праздничным столом в верхней комнате. Иоанн с Иисусом украдкой разглядывали друг друга, а рабби в это время нараспев произносил древние слова над символической пищей:
— Это хлеб, испеченный в спешке, когда не было времени, чтобы заквасить тесто; хлеб, который ели отцы наши в ночь перед тем, как закончилось пребывание их в Египте. Это горькие травы. Это жареный ягненок, кровью которого были смазаны косяки их дверей, чтобы Ангел Смерти мог увидеть этот знак и прошел бы мимо домов их, не тронув волоска на голове первенца. Жареное мясо ягненка, хлеб, испеченный в спешке, травы, горечь которых должна была напоминать им о горькой жизни в изгнании…
После ужина Иоанн с Иисусом прогуливались по ночному городу. Улицы были залиты светом пасхальных ламп, зажженных во всех домах. Иоанн с Иисусом, оба рослые и крепкие, шли, не опасаясь ни пьяных головорезов, ни сирийских солдат, кричавших вслед евреям оскорбительные слова: «Иегуди! Иегуди!»
— Чем ты занимаешься?
— Работаю в мастерской. В основном пилю дерево. Много читаю.
— Я все время читаю. Я должен стать священником. Как мой отец.
— Ты веришь в отцов?
— Что ты имеешь в виду?
— Отцы, отцы… Множество отцов. А всех у нас один источник жизни, один Отец. Мужчины, которых мы называем отцами, — орудия в Его руках. Откуда берется сила семени? Не от мужчин. Есть только один Создатель.
— Ты странно говоришь.
— Боюсь, что так.
— Боюсь?
— Боюсь, что могу говорить даже более странно. Но пока не буду.
— Ты веришь этим рассказам… ну, про нас с тобой?
— Я не могу ясно видеть будущее. Куда бы мы ни должны прийти, мы должны двигаться медленно.
— Вы уже пришли! — Из темноты дверного проема вынырнула девушка.
— Я говорю слишком громко, — усмехнулся Иисус.
— Нас двое, но комната только одна. Вы не против? — сказала девушка.
Она была большеглазая, в свободном платье, и от нее исходил запах сандалового дерева.
— Прости нас, — учтиво ответил Иисус. — Мы очень тронуты этим любезным приглашением и очарованы твоей молодостью и красотой, но, в качестве оправдания, должны сообщить, что у нас назначена другая встреча и туда мы уже опаздываем.
— Хорошо говоришь, — отозвалась девушка. — Приятно слушать. Ладно уж, дорогой, шагайте дальше, куда вы там направлялись. — И она хлопнула Иисуса по задней части, цокнув языком, будто погоняла коня. Иисус приятственно улыбнулся.
— Ты должен был бы отчитать ее по всей строгости, — заметил Иоанн, когда они двинулись дальше. — То, чем она занимается, греховно.
— Ты мог бы сам отчитать ее, если считаешь, что это было необходимо.
— Я осудил ее взглядом и суровым выражением лица. К сожалению, ты отвлек ее внимание своей небольшой изысканной речью.
— Греховно… Конечно, греховно, — сказал Иисус. — Она сдает внаем свое тело, которое не что иное, как ходячий храм Господа, и побуждает мужчин использовать семя не для увеличения численности воинства Израилева, а всего лишь для их собственного удовольствия. Она зарабатывает на жизнь благодаря греху Онана. Это действительно очень греховно!
— Тем не менее ты улыбаешься.
— Мне понравилась эта девушка. Да, она не благочинна, но как раз благочиние я и ненавижу, а оно тем не менее не числится среди грехов. Перишайа и последователи праведного Садока[66] — люди, конечно, очень благочинные и даже, по их собственному горделивому предположению, святые. Я же считаю, что грешники представляют больший интерес, чем праведники.
— Ты очень, очень странно говоришь.
— Если в будущем нам с тобой придется делать какую-то большую работу, именно к грешникам мы и должны идти. Пора бы нам начинать учиться тому, как впускать грешников в свое сердце. Грешники должны нравиться нам.
— Кому нравятся грешники — тому нравится и грех.
— Нет, вовсе нет! Это то же самое, что сказать: кто заботится о больных — тот заботится о болезнях. Позволь мне отказаться и от слова нравиться. Любить — вот нужное слово.
Как-то раз, гуляя днем поблизости от холма, который своими очертаниями был похож на человеческий череп и на вершине которого происходили казни, Иоанн с Иисусом стали свидетелями сцены, о которой предпочли бы даже не слышать. На их глазах происходило бичевание двух вопящих мужчин, приговоренных к распятию. «Это воры», — поведал друзьям дородный торговец, довольный тем, что мог наблюдать, как вершится правосудие.
Дрожа от ярости, Иисус сказал Иоанну:
— В Законе Моисеевом сказано: «Не кради»[67], но я скорее предпочел бы, чтобы меня обокрали, и сказал бы преступнику «Аминь!», нежели допустил бы, чтобы вора полосовали кнутом и прибивали гвоздями. «Не крадите». А почему, собственно? А потому, что иначе тебя распнут. Взгляни на всех на них, взгляни на их самодовольную благочинность, облаченную в безупречно отстиранные одежды!
Эти громкие слова привлекли внимание многих зевак, которые с любопытством обернулись и увидели высокого мальчика.
— Пойдем отсюда, — сказал Иоанн.
Дрожавшему от гнева Иисусу и самому хотелось поскорее покинуть это страшное место.
Когда пасхальные торжества закончились и пилигримам пришло время покинуть Иерусалим, Мария и Иосиф попытались найти своего сына, но их поиски были безуспешны.
— Он где-то среди молодежи, — сказал хозяин каравана, неопределенно указав на середину готовившейся в путь вереницы верблюдов, ослов и пешего люда. — Они там распевают новые иерусалимские песенки и пиликают на двухструнных скрипках. Ваш сын наверняка среди них.
Но Иисуса там не оказалось.
— Подождите нас, — попросил Иосиф, — нам нужно поискать его.
— Когда солнце коснется верхнего края вон той башни, мы отъезжаем. Никого ждать не будем, — предупредил хозяин каравана.
Мария и Иосиф, очень обеспокоенные, пошли искать Иисуса. Повсюду воры, драчливые сирийские солдаты, разные опасности…
А в это время Иисус в одиночестве отправился в Храм, зная, что тишину его теперь не нарушают ни звон монет, ни хлопание голубиных крыльев, ни блеяние ягнят — все то, что обычно сопровождает возложения даров и жертвоприношения. В переднем дворе он был не один: с башни наблюдали стражники, вооруженные копьями, — так было заведено с того самого дня, когда изображение Тиверия едва не попало в Святая святых. Иисус стер с глаз маячившие на башне фигуры, не пустил в уши грубоватые шутки на плохом арамейском, вроде: «Немного запоздал, йелед, а?» Он стоял посреди переднего двора, ощущая присутствие Бога в невидимом луче, протянувшемся к нему от алтаря, более жарком, чем солнце над головой. Можно было подумать, что он находится в состоянии транса.
Мимо проходил какой-то почтенный служитель Храма, который, увидев Иисуса, мягко спросил:
— Что ты делаешь здесь в одиночестве, сын мой?
— Едва ли я в одиночестве, — ответил мальчик с полуулыбкой. — Здесь Бог.
— «Из уст младенцев и грудных детей…[68]» — начал было священник.
— Я не грудное дитя и не младенец. Впрочем, мне следовало бы подумать — и теперь я говорю это своими устами, — что дитя и младенец одно и то же. По установлению нашей веры, святой отец, я теперь мужчина.
Подошел еще один бородатый служитель и, не обращая внимания на мальчика, сказал, что приходил такой-то и сообщил, что вопрос относительно такого-то решен удовлетворительно.
— Хорошо, хорошо, — сказал первый служитель. — Настоящий муравей этот человек, какую бы работу ни делал. «Пойди к муравью, ленивец…[69]» — процитировал он и, улыбаясь, обратился к Иисусу: — Послушай, мой мальчик, в Священном Писании есть слова на любой случай.
Мальчик улыбнулся в ответ:
— Притчи Соломоновы скорее разумны, чем священны. Мы ведь должны делать различие между краткими мирскими записками царя, который был человеком дела, и теми действительно священными высказываниями, которые возвышаются над обыденной жизнью.
— Кажется, ты не только читаешь, но и думаешь о прочитанном. Но послушай, мой мальчик, добрый совет: не думай слишком много. Думать — это значит расщеплять, делить, распределять по категориям, а этого со словом Божьим делать не следует. Ты не должен говорить, что вот это мирское, а вот это священное, ибо в таком случае придешь к тому, что перестанешь проглатывать текст Писания целиком, а здесь таится опасность ереси.
— Целиком глотают собаки, — возразил Иисус, — а человек разжевывает и выплевывает то, чего глотать не стоит. Разве то же не относится и к Книге притчей Соломоновых?
Ни тот, ни другой священник не могли обижаться на то, что можно было бы истолковать как проявление мальчишеской дерзости, поскольку Иисус говорил с застенчивой улыбкой и сопровождал свою речь почтительными жестами. Кроме того, они, почти вопреки их воле, были очарованы зрелостью этого подростка, рослого, но лишь с намеками на бороду, с абсолютно невинным взглядом прекрасных серых глаз. К двоим священникам присоединился еще один, очень тощий и полностью лишенный юмора, и задал вопрос, прозвучавший в этот момент чрезвычайно глупо:
— Что ты здесь делаешь, мальчик?
— Учусь мудрости, учусь святости, впитываю тепло присутствия Божьего в обиталище Бога на земле, господин.
— Откуда ты, мальчик? Судя по твоему выговору, ты из Галилеи.
— Я, как и все люди, из двух мест. Для тебя этого будет достаточно. Прах мой от земли, дух мой от Бога. Так сказано в Екклесиасте[70].
Первый священник, по-прежнему улыбаясь, произнес:
— «Голос говорит: возвещай! И сказал: что́ мне возвещать?» Можешь продолжить?
Посмотрев на третьего, угрюмо-серьезного, богослова озорными глазами, Иисус тотчас ответил:
— «Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой…»
— Откуда это?
— Исаия, глава одиннадцатая[71]. Время от времени думайте, преподобные господа, о том, что сказано перед этим. О том, что «всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся»[72]. Время грядет!
У трех священников возникло неприятное ощущение, что они оказались в роли учеников, а не учителей. Именно теперь, когда божественное тепло из Святая святых исходило на него, Иисус осознал, какая судьба ему уготована. Но он понял также, что свершению предначертанного будет предшествовать долгое ожидание.
Наконец родители нашли его — в тот самый момент, когда он цитировал восемьдесят девятый псалом Давида группе из четырех или пяти служителей Храма:
— «Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя…»[73]
— Почему ты поступил так с нами, сын мой? — печально, без всякого гнева спросил Иосиф. — Простите нас, преподобные господа. Мы его всюду искали и уже опоздали на караван, который возвращается в Назарет. Нехорошо это, сын, с твоей стороны. Видишь, твоя мать плачет.
Иисус в изумлении поднял брови. Мгновение он глядел на своих родителей так, словно видел их впервые, затем сказал:
— Но вы знали… Вы должны были знать, где я буду. Где я мог бы еще находиться, кроме как в доме отца моего?
То был несправедливый упрек, поскольку во время этого паломничества Иисус не имел обыкновения постоянно бывать в Храме. Но Иосиф сказал только:
— Пойдем, сын. Мы еще можем догнать караван.
Несмотря на то что Святое Семейство и их ослик шагали быстро, им не удалось догнать караван.
В двадцати милях от Иерусалима на них напали грабители, хотя у Иосифа и Марии, кроме ослика, не было ничего, что можно было бы забрать. Однако, увидев странного подростка, обратив внимание на его рост, размер кулаков, напрягшиеся мышцы и загадочную улыбку и не заметив каких-либо признаков страха на его лице, разбойники сказали: «Шагайте своей дорогой, нищие. Будь вы побогаче, плохо бы вам пришлось».
Это, полагаю, можно было считать чем-то вроде чуда.
ВТОРОЕ
Иисусу теперь приходилось работать за двоих, поскольку его приемный отец постарел, стал слаб здоровьем и все больше времени проводил, сидя на табурете у входа в мастерскую, сплетничая, сравнивая боли и недуги с другими признаками старения. Он все чаще оставлял прием и выполнение заказов, да и расчет за работу на усмотрение Иисуса. Их теперь было только двое, поскольку Иоанн, помощник Иосифа, давно последовал примеру Иакова, женился и открыл где-то свою собственную мастерскую. Несмотря на тяжелую работу, вечерами, когда спадала жара, Иисус находил время для занятий тяжелыми физическими упражнениями, какими обычно увлекаются молодые люди, — борьбой, бегом, метанием камней. Однако время также находилось (пусть это никого не шокирует) и для более легких развлечений — Иисус ухаживал за темноглазыми красавицами, вел с ними льстивые разговоры, а иногда даже пел под звуки двухструнной скрипки:
О Боже мой, какал стать, Какая слаженность в движениях! Что я могу еще сказать Для выражения восхищения? Неужто мне до свадьбы ждать?Эти ухаживания, как все понимали, не были чем-то серьезным — всего лишь легкая практика. Но все также понимали, что ухаживания пойдут всерьез тогда только, когда ухажер будет готов покинуть родительский дом и начать самостоятельную семейную жизнь.
Однажды утром Иосиф подозвал к своей постели Иисуса:
— Кажется, не поднимусь сегодня. Думаю, останусь лежать.
— Тебе нездоровится?
— Опять эта боль в животе слева. Она стихает, только когда я лежу.
— Могу я чем-нибудь помочь тебе?
Иосиф знал, что он имеет в виду. В Египте Иосиф обучился разным способам снятия боли — растираниям, массированию пораженных болезнью участков тела, приготовлению успокаивающих желудок отваров из трав — и передал это знание Иисусу. Иисус, со своей стороны, научился успешно лечить не очень тяжелые недуги: тугоподвижность суставов, головную боль, а также боль зубную (на тонкой щепке углем трижды писалось магическое заклинание «Кера, кера, фантолот», затем щепка сжигалась, и пепел от нее накладывался на зуб). Однажды произошел примечательный случай. Один старик истерически закричал, что он ослеп и что это для него страшное горе, поскольку жена его недавно скоропостижно скончалась, а сын, как пишет из Иерусалима двоюродный брат, пошел по плохой дорожке и оказался в тюрьме. Тогда Иисус, используя свою слюну, похлопывания, мягкие, успокаивающие слова, произнесенные, однако, властным тоном, внушил старику, что тот в действительности не ослеп — просто душа его поражена горем. Старик прозрел и, громко восхваляя Бога, всем и всюду рассказывал о некоем молодом человеке, творящем чудеса, что приводило Иисуса в немалое смущение.
— Не думаю, что ты сможешь тут что-нибудь сделать, — сказал Иосиф. — Я стар и должен ожидать подобных вещей. У меня нет особого желания жить. Свою работу на земле я уже сделал. И верю, что был любим Богом, ведь он оказал мне великое доверие. Самое великое, какое только может быть в этом мире. Когда-то жил старик по имени Симеон. Я, возможно, упоминал о нем…
— Несколько раз.
— Видишь, и память моя слабеет. Я довольно хорошо помню свое детство, но не могу вспомнить то время, когда был полон сил и когда начал стареть. Я сделал больше, чем этот Симеон, который был просто свидетелем зари, предвещавшей спасение. Я же наблюдал, как спаситель мужал, и, более того, простирал над ним свое отцовское попечение. Только жаль, мне не суждено увидеть, как начнется искупление грехов человеческих.
— Должно пройти какое-то время. На подготовку уйдут долгие годы. Многие, которые не поверят, станут противодействовать. Но прежде я должен достичь необходимого возраста. Я должен делать мою работу. Мне уже поздно открывать свою мастерскую. — Иисус положил свою прохладную ладонь на горячий лоб Иосифа и сказал: — Отдыхай.
После этого Иосиф прожил еще два месяца. С постели он теперь не вставал, за исключением случаев, когда, поддерживаемый женою или сыном, с трудом ковылял до отхожего места, чтобы опорожниться, и это всегда сопровождалось сильными болями. Однажды утром он сказал:
— Думаю, это случится сегодня.
— Может, позвать рабби?
— Пусть он прочитает надо мной молитвы, когда я умру. Может быть, тебе лучше закрыть мастерскую. Однако есть еще заказ для того человека, у которого три акра земли рядом с… Забыл, где это.
— Заказ давно выполнен. Все давно сделано. Я закрою мастерскую.
В Назарете знали, что означает закрытие мастерской, и весь день сюда шли люди, чтобы проститься с умирающим. Но только вечером, когда в доме остались лишь Иисус и Мария, Иосиф произнес свои последние слова:
— Заботься о своей матери. Она благословеннейшая из женщин.
— Я знаю это. А ты был лучшим из отцов. Среди смертных, мне следует сказать. С тобой была любовь сына, и она будет с тобой всегда, ибо если любовь — это одно из проявлений Отца Небесного и умереть не может, то и любящий и любимый должны жить вечно.
Иосиф мало что понял из этого. Иисус вспомнил слова, что звучали в его душе в тот день, когда он стоял во дворе Храма и заря его миссии посылала к нему свои первые лучи из Святая святых. Он произнес их по памяти:
— «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы; — доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его…[74]»
Иосиф уже почти ничего не услышал из сказанного. Он протянул слабеющую руку в сторону жены, которая, как он знал, стояла справа от него. Мария взяла его руку и зарыдала. Глаза Иисуса оставались сухими. Когда забрезжил рассвет и пропели первые петухи, Иосиф тихо скончался. После бессонной ночи Иисус и Мария выглядели усталыми, но сделали необходимые приготовления к похоронам и, слабо улыбаясь, кивали в ответ на выражения соболезнования.
Итак, некоторое время Иисус и его мать жили вдвоем. Но только некоторое время. Глядя на Марию и видя перед собой женщину, которая была в цвете своей красоты, Иисус не раз спрашивал ее:
— Ты не собираешься снова замуж?
— Настоящее замужество, как у других? С детьми, которые рождаются не от Бога, а после соития мужа и жены?
— Все дети от Бога, мама. Мужчины — это просто орудия Божьего творения. Не выйти ли тебе снова замуж?
— Если меня попросят, я могу подумать об этом. Могу сказать «да», могу сказать «нет» — все зависит от моей прихоти. Легкомысленно звучит, да?
— Женские прихоти тоже от Бога. Некоторые говорят, что лишь по своей прихоти Бог создал и море, и землю, и живущих на ней людей.
В то время он часто повторял слова «некоторые говорят». Помимо сведений о том, как скитался по пустыне Моисей и как устанавливали законы цари и судьи Израиля, он узнавал и многое другое. Мария знала, что Иисус уже мог спорить с чужеземными учениями, изложенными в книгах, написанных на греческом и на латыни, и на равных вел беседы с приезжими греками и людьми из окружения знатных гостей, приезжавших к Ироду Антипатру из Иерусалима и из самого Рима. Он читал римских поэтов и одного великого греческого поэта древности. Иисус придерживался веры своего народа, языческие же верования, предполагавшие многобожие, его не привлекали. Он подробно изучил особенности религии тех странных «чистых» людей, живших у Мертвого моря[75], которые создали учение, отрицавшее плоть. Иисус отрицать плоть не собирался. Плоть, как он говорил, имела для человека важное значение.
Мария продолжала:
— Ты спрашиваешь, не собираюсь ли я замуж. Такой же вопрос я задаю тебе — не собираешься ли ты жениться?
Он покраснел.
— Я давно об этом думаю. Для тебя было бы несчастьем, если бы в доме появилась другая женщина? Я имею в виду — помимо нашей дорогой старой, боюсь, уже очень старой, Елисебы?
— Все будет зависеть от того, кто эта женщина. У тебя есть на примете какая-нибудь определенная девушка?
— Та самая девушка из Каны.
— А, Дикла, финиковая пальма. Высокая девушка, которая мало разговаривает.
— Дикла — это только прозвище. Ее настоящее имя Сара.
— Имя, я бы сказала, с дурным предзнаменованием[76]. По не думаешь ли ты больше об отцовстве, нежели о любви женщины? Ибо… — Мария с трудом подбирала нужные слова. — Ты знаешь, как ты был зачат, и веришь в это… Ты действительно в это веришь?
— Конечно, верю. И еще раз повторяю — есть только один отец. Если у меня будут дети, они не получат какой-то особенной любви. Я должен быть пастырем, стадо которого — весь Израиль.
— Сейчас ты говоришь как еще очень молодой человек, каковым ты на самом деле и являешься. Я сомневаюсь, нужно ли тебе сейчас думать о женитьбе. Твой двоюродный брат Иоанн об этом и не помышляет.
— Мой двоюродный брат идет своим путем. Путем предуготовления. Я же должен проповедовать исполнение, хотя пока не знаю точно, что это означает, и я сам должен исполниться как человек. Я хочу сказать, что должен знать все о жизни мужчины.
— Женитьба как некий долг, не ради совместной жизни или отцовства?
— Когда же ты поймешь, что отцовство — это удел лишь отца нашего небесного? Я уже достаточно говорил тебе об этом.
— Мне не нравится твой тон, сын. Я считаю, что мальчик не должен так разговаривать со своей матерью. Думаю, ты согласишься, что материнство — это нечто относящееся только к женщинам и что отец наш небесный не против того, чтобы оставить этот удел нам — созданиям из женской плоти. Что ж, очень хорошо. Я не взываю к тому, чтобы мой сын оказывал мне какое-то особое уважения, но надеюсь, мой сын достаточно разумен, чтобы понимать — оказывать мне уважение он все-таки должен.
— Прости, мама, — сказал Иисус и поцеловал ее.
— Значит, ты намерен жениться?
Он кивнул несколько раз с самым серьезным видом, словно речь шла о бремени долга, которое он обязался возложить на себя, а не о переходе в состояние, которое может оказаться самым радостным в жизни.
Церемония бракосочетания, как теперь будут знать мои читатели, состоялась в Кане, а свадебное торжество происходило в саду у таверны, владельцем которой был отец невесты, Нафан. Сара, девушка пятнадцати лет — на пять лет моложе своего жениха, была довольно миловидной и высокой, что необычно для дочерей Израиля, которые могут воспеваться как финиковые пальмы разве что в любовных песнях, но гораздо чаще бывают маленькими и коренастыми — кустарник, а не деревья. Но кустарник, если можно так выразиться, никого не обидев, пылающий. Они хорошо подходили друг другу, поскольку Иисус был выше, чем большинство из мужчин Галилеи, рост которых обычно не превышал трех с половиной локтей[77]. У него были широкая грудь и крепкие мускулы. Голос его, когда он того хотел, был громким, как у буйвола (возможно, об этом и нет нужды упоминать особо — ведь именно в голосе таилась природная основа его силы как проповедника), хотя обычно Иисус говорил мягко и тихо, только довольно быстро, словно его переполняли слова. Жених и невеста представляли собой красивую пару. Они стояли теперь в саду, облаченные в простые, но сверкавшие белизной одежды, и выслушивали раздававшиеся в их честь здравицы, в которых иногда звучали добродушные непристойности.
Случилось так, что среди гостей оказался тот старик (хотя никто не помнил, чтобы его приглашали), который однажды ослеп от горя и которого Иисус сумел убедить, что если тот попытается, то сможет прозреть, чему помогли решительность и безвредная магия Иисуса. Будучи навеселе, этот старик говорил теперь группе слушателей, среди которых был и Нафан, что Саре выпало большое счастье, коли она нашла себе такого мужа, поскольку Иисус трудолюбив, аккуратен в денежных делах и имеет замечательный дар целителя, превосходящий обычное умение. Старик рассказывал дальше, что Иисус обладает удивительными способностями и в иных, помимо врачевания, делах и что он якобы наблюдал своими собственными исцеленными глазами, как этот молодой человек разжег костер из деревянной стружки, просто призвав солнце явить свою силу. Более того, старик будто бы слыхал от другого человека, что однажды Иисус прошел под дождем от мастерской до своего дома и при этом остался совершенно сухим.
— Совершенно сухим… — отозвался один и гостей. — Это вполне годится, чтобы описать мое теперешнее состояние. Налей, друг Нафан, ибо у меня жажда, которую я не уступил бы и за десять римских сестерциев, как теперь называют деньги.
Говорят, что у сапожника сын всегда обут хуже, чем у других, поэтому не следует удивляться тому, что запасы вина в этом саду исчерпались скорее, чем в таком случае подобало. Солнце стояло еще высоко, приходили все новые гости (на самом деле некоторые из них гостями вовсе не были: на свадьбах часто бывает, что незваный гость представляется семье невесты как друг семьи жениха, и наоборот), а бочонки Нафана были уже пусты. Дело в том, что новая партия вина должна была поступить только на следующий день. Нафан же посчитал, что остававшихся у него накануне запасов будет вполне достаточно. Человек, опытный в устройстве праздничных застолий, был бы, разумеется, более предусмотрителен. Обнаружив неожиданную засуху, один записной пьяница, который ранее уже слышал эти сказки про волшебника Иисуса, в шутку выкрикнул:
— Пусть он нам покажет что-нибудь из своей египетской магии! Заставьте его превратить воду в вино!
— Он может это сделать, — подхватил бывший слепой. — Клянусь, он сделает это с той же легкостью, с какой мы превращаем вино в воду.
Следует признать, что старик больше стремился показать свое грубоватое остроумие, нежели всерьез намеревался просить новобрачного показать окружающим всю силу тауматургии[78]. Однако в своем опьянении — из зависти к сильному, красивому и умному, которую опьянение часто выносит на поверхность (подобно тому, как выбрасывается на поверхность воды дохлая рыба или тухлое яйцо) у тех, кто обычно бывает застенчив, или у тех, кому в общем-то все равно, что о них думают другие, — некоторые, из числа самых безликих или тех, чьи имена были мало кому известны, стали выкрикивать:
— Эй, Иисус! Счастливый новобрачный! Преврати-ка для нас воду в вино, да побыстрее!
— Чего они хотят? — спросил у матери Иисус.
Мария, которая обычно быстро пьянела, глуповато улыбнулась (губы ее были мокрыми от только что выпитого вина) и произнесла:
— Они просят тебя совершить чудо. Превратить воду в вино.
Услышав это, Иисус сердито нахмурился:
— Кто им такое сказал? Кто распространяет эти дурацкие сплетни?
— О, я думаю, они догадываются. Некоторые из них догадываются, кто ты.
— Отец оставил нас без вина, — сказала Сара. — Говорила ему, что мало будет, но он не захотел слушать.
— Значит, если закончилось вино, то закончился и праздник и мы все можем расходиться по домам, — произнес Иисус.
— Ну попробуй, — попросила его мать, — у тебя получится. Давай же, сделай это для меня.
Иисус пристально посмотрел на нее, не веря тому, что услышал.
— Ты это всерьез? Боже сохрани! Ты пьяна? Ты, единственная из всех?!.
Несколько молодых людей, которым вино давно уже затуманило голову, в шутку наполняли опустевшую бочку водой из колодца — ведро за ведром — и, брызгая ее друг на друга, радостно взвизгивали. Некоторые оборачивались к Иисусу со словами: «Эй! Все готово к египетской магии! Давай, Иисус из Египта, покажи нам свои фокусы!» Здесь мне следует упомянуть, что некоторые называли его Иисус Египтянин, поскольку им было известно, что в раннем детстве он вместе с родителями жил в Египте.
Иисус посмотрел на мать, и его взор смягчился. Для нее это был не самый счастливый день, поскольку она должна была радушно принять в дом женщину, с которой была едва знакома, и уступить ей место хозяйки. Во время застолья Мария не притронулась к еде, и от небольшого количества вина ее щеки раскраснелись. Она гордилась своим сыном, которого передавала теперь другой — нет, не женщине, а просто долговязой девчонке. Мария не хотела его обидеть. И все же Иисус сказал:
— Женщина, ты знаешь, что мой час еще не пришел.
Это отрезвило Марию, ее лицо вспыхнуло — на этот раз не от вина. Кривовато улыбнувшись — лицом, но не глазами, — Иисус подошел к наполнявшейся бочке и возложил на нее ладони. Гуляки притихли. Деревенский фокусник собирался дать представление. Иисус заговорил своим громким, сильным голосом, более подходящим для того, чтобы обращаться к пяти тысячам слушателей, нежели к каким-то пятидесяти:
— Смотрите, друзья, вот пресная вода — свежая, прохладная, прямо из колодца! Смотрите — одно короткое мгновенье, только и можно успеть, что моргнуть или щелкнуть пальцами, — я делаю тайное движение руками, говорю про себя секретное слово, и — ах, что я вижу! — вода превращается в вино! Какой аромат!
Он погрузил свою ладонь в жидкость и, зачерпнув пригоршню, выпил, роняя сверкавшие на солнце серебристые капли.
— Ах, какой вкус! Давайте, все пробуйте! Но, — Иисус предостерегающе поднял палец, — сначала одно предупреждение. Сущность превращения такова, что грешникам — мужчинам, которые задолжали деньги, женщинам, которые сплетничают о своих соседях, развратникам, прелюбодеям и безбожникам — вино покажется водою, на вкус будет тоже как вода, да и на голову подействует, как вода. Для чистых же и благочестивых оно будет выглядеть, как сверкающие на солнце рубины, но вкусу будет сравнимо с тем, что греки называют нектаром, а в голове от него будут позванивать колокольчики и послышится сладкозвучное пение. Смелее же! Кто попробует первым? Ну кто как не ваш сегодняшний хозяин и мой тесть!
Ухмыляющегося Нафана вытолкнули вперед, он наполнил свой сверкающий кубок, сделал несколько больших глотков, а затем воскликнул:
— Никогда не доводилось пробовать такого вина! Подавай я такое в моей таверне, давно бы нажил состояние. Вы только взгляните на этот превосходный кровавый цвет!
Все загорланили, кроме жены Нафана, ибо хорошо было известно, что глаза его не пропускали молодых свежих грудей, а руки были охочи до хорошо обрисованных ягодиц. Итак, будучи в самом хорошем настроении (а некоторые посчитали, что для свадьбы эта замечательная игра в самый раз), все наполнили свои чаши и залпом выпили. Один глупый юнец воскликнул: «Да ведь это же просто вода!» — и ему тотчас надавали оплеух, заклеймив позором, как великого грешника, а он, конечно, гоготал от удовольствия.
Был там один человек, прозывавшийся, как мне говорили, Рихав (но я отказываюсь верить, что его действительно так звали[79]). Нарочито высокопарно он изрек:
— Более чем необычно! На большинстве празднеств — а я, друзья, поверьте мне, бывал на многих — сначала подают лучшее, худшее же — в конце, используя таким образом ту естественную выгоду, которую дает потеря чувствительности нёба. Но в данном случае, о прекраснейший из хозяев, ты сохранил превосходнейшее из вин до самого конца, и это навечно зачтется тебе как благороднейшее из твоих деяний. Какой божественный цвет, какая искрящаяся прохлада! Оно звенит во рту, словно серебряная монета! Оно возвышает, не опьяняя!.. — И он долго еще продолжал говорить в подобной тяжеловесно-шутливой манере.
История с этим так называемым чудом позднее перекочевала в хроники. Получается, что Иисус еще тогда создал прецедент превращения иных жидкостей в вино. Однако некоторые помнят, как все было на самом деле, и называют воду «вином из Каны». Я, конечно, верю, что застолье это закончилось благопристойно.
Теперь Иисус Наггар был женатым человеком, и мы можем предположить, что он предавался телесным удовольствиям так же часто, как и любой из нас, оказавшийся в этом счастливом положении. Впрочем, я не сомневаюсь, что он так же, как и все мы, страдал от женской глупости, капризности и болтливости, а иногда испытывал на себе тяжесть раздоров между матерью и женой. «Мой сын любит, чтобы это делалось так». — «Он может быть твоим сыном, но он еще и мой муж». — «Я бы не сказала, что это хорошо выстирано». — «Коль скоро речь зашла о том, что хорошо, а что плохо, жаль, что ты не научила твоего сына не бросать недавно выстиранную одежду на пол, когда он ее снимает, потому что приходится делать лишнюю работу». — «Разумеется, ведь на полу всегда полно пыли, потому что ты не очень-то любишь подметать…» — и так далее. Но тем не менее все шло достаточно хорошо.
Сара, хотя и названная именем бесплодной жены Авраама, оказалась вовсе не бесплодной, но получалось так, что она носила детей только для того, чтобы их терять. Я имею в виду, что она их только вынашивала, у нее было уже две беременности, и обе закончились выкидышами. Мать Иисуса долго думала о значении этого несчастья, но не высказывала своих соображений. Разумеется, она все время размышляла, должен ли тот, кому предопределено стать Мессией, давать жизнь сыновьям и дочерям, подобно другим мужчинам. Да и сама уместность его женитьбы продолжала вызывать у Марии сомнения, и у нее были странные предчувствия относительно будущего этого брака. Однажды утром, когда кричали петухи, она увидела яркий сон, будто Сара; готовившая на кухне обед, растаяла у нее на глазах, словно воск. Была кухня, была Сара, она держала в руке половник. Вдруг половник выпал из ее руки, быстро превратившись, как и сама Сара, в желтый воск. Лужа воска разлилась по каменном полу, а затем превратилась в прозрачный пар, рассеянный неожиданным порывом ветра. На печке все еще стоял кипящий котелок, но хозяйка исчезла. В дом вошел Иисус и спросил: «Где Сара?» — «Ее больше нет. Ее больше нет…» — «Ах, больше нет, говоришь? Я ожидал этого. Тогда кто же приготовил обед?»
Ужасный сон. Мария проснулась, дрожа от страха. Сара уже поднялась и была вполне здорова. Она готовила мужу на завтрак жидкую похлебку: в утренней тишине Мария слышала их негромкие голоса. Прошло целых пять лет, прежде чем она поняла, что это был вещий сон.
У меня нет желания описывать смерть Сары, которая, хотя у нее и случилось три выкидыша, была все-таки хорошей женой. Однако долг рассказчика обязывает не уклоняться в повествовании от неприятных моментов. Когда Иисус, Сара и Мария по обыкновению, от которого никогда не отходили, приехали в Иерусалим на Пасху, им стало известно о происходивших в городе беспорядках. Незадолго до этого несколько пьяных сирийских солдат демонстративно помочились на стену Храма на виду у находившихся поблизости членов секты зелотов, что привело к столкновению, и сирийцы, тотчас же позвавшие на помощь своих и получившие подкрепление, потом делали уже все, что хотели. Прокуратор, однако, отмахнулся от предупреждений о возможных массовых беспорядках и не издал специальный указ о неприкосновенности Храма, что обязан был сделать. Он не наказал и осквернителей Храма, которые после этого совсем осмелели и теперь гоготали по поводу ими содеянного.
Во время пасхальных празднеств в Иерусалиме (это был шестой год семейной жизни Иисуса и Сары) стражников в городе действительно было гораздо больше, чем обычно, особенно вокруг Храма, но, судя по всему, они находились здесь скорее для того, чтобы защитить имперских легионеров от евреев, возмущенных их наглостью и оскорбительными выходками.
В один из этих дней в портике Храма было устроено собрание еврейских жен и матерей, на котором председательствовал один ученый богослов. Он рассуждал о правилах поведения женщины в семье (боюсь, что главный упор делался скорее на обязанности жены по отношению к мужу, нежели наоборот), а также рассматривал основные священные принципы. Так вот, сей богослов обнаружил, что, вопреки его ожиданиям, было вовсе не просто навязать этим горячим еврейкам (пылающим кустарникам, как я их назвал) представление о подчиненной роли женщины, о ее статусе простого, так сказать, производного от ребра мужчины. Он увидел перед собой немалое количество матрон со смелыми взглядами и уверенными голосами, которые, опираясь на здравый смысл и практический опыт, готовы были опрокинуть все его теоретические наставления и выдвигаемые в качестве доводов надерганные из Писания цитаты. Женщины уходили с собрания крайне возбужденные, а богослов, в ужасе воздев руки к небу, восклицал: «Куда катится мир?! Молодые девицы от такого воспитания становятся дерзкими и непослушными, дочери Евы не верят в свою собственную праматерь! Вы только взгляните на них — никакой веры в эту старую ведьму, которая за огрызок яблока продала нас в рабство! Ах, женщина, женщина!»
Как раз эти женщины, вышедшие с собрания, и оказались вовлеченными в беспорядки. Несколько пьяных сирийцев снова буйствовали, таская за бороду одного старого еврея, который не понимал, чего от него хотят эти люди. Видя это, многие женщины были настолько возмущены, что набросились на солдат, пустив в ход ногти и зубы — их единственное оружие, если не считать плевков и ругательств, сирийцам непонятных. Большинство солдат поначалу приняли это за превосходную шутку и ухмылялись, выкрикивая: «Подари мне поцелуй, крошка!», «А есть у евреек между ног то, что есть у наших женщин?» — и тому подобные непристойности. Но фаланга разъяренных женщин может быть достаточно грозной силой, и, когда один сириец вырвался из этой свалки с окровавленным лицом и в разорванной одежде, да еще с воплями «Убивают!», бывшая поблизости городская стража, размахивая дубинками, бросилась к толпе. Из-за группы мужчин, плотно обступивших место драки и наблюдавших за происходившим, стражники не могли видеть самих участников этой потасовки и поэтому принялись колотить мужчин. Но после того, как толпа людей, стремившихся уйти от дубинок стражников, рассеялась, на земле остались лежать истерзанные тела тех, кто оказался под ногами убегавших. Среди погибших была и Сара. Как я уже говорил, она была высокого роста и крепкого сложения — вовсе не образец хрупкой кротости, и все же Сара оказалась на земле, споткнувшись о подол собственной одежды, а когда она упала, ее пронзительные крики были уже напрасны — молодую женщину в панике затоптали. Кроме Сары, тогда погибли еще четыре еврейских женщины.
По счастью, у Марии, матери Иисуса, собиравшейся пойти на собрание в Храм вместе с Сарой, случились перед этим сильнейшие головные боли: она стонала и почти не могла двигаться (думаю, можно допустить, что вполне обдуманно, как утверждают некоторые). Иисус был отнюдь не в восторге от того, что ему пришлось разрешить Саре пойти в Храм одной, без сопровождения мужчины. Но с постоялого двора, где они остановились, туда направлялась достаточно большая группа женщин, которые могли защитить ее от приставаний язычников, и Иисус остался с матерью, чтобы применить свои способности врачевателя. Оказывается, как раз в момент ужасной смерти Сары головная боль у Марии прошла, хотя принимать эту легенду абсолютно всерьез и делать на столь шаткой основе какие-то опасные выводы, думаю, не стоит. То, что Иисус, узнав о трагедии, сначала почувствовал сердечную боль, а потом испытал сильнейший гнев, можно считать само собой разумеющимся. Утверждают, будто он был в такой ярости, что даже пытался добиться встречи с прокуратором, однако прокуратор ему в этом отказал — он не отказал ему от другой встречи, которая произошла много позднее и совсем по иному поводу, и вот уж в этом факте сомневаться не приходится. Иисус попробовал подать протест начальнику городской стражи, но мелкие чиновники отмахнулись от него, как от назойливой мухи. То, что чья-то несчастная жена, обезумев от ужаса и боли, погибает в нескольких шагах от Храма Всевышнего, в Святом городе, служит наглядным и страшным доказательством того факта, что наш мир — не более чем вонючий котел с грехом. Рассказывают, что Иисус говорил с Богом резко, так резко, как только сын может говорить с отцом, не проявившим отеческой любви. Он обращался к Богу со словами, подобными тем, что приведены ниже, и я могу предположить, какими были ответы, если они вообще были.
— Моя возлюбленная жена вырвана из жизни во цвете юности. Ты, знающий все, с самого начала знал, что это произойдет. Почему ты это допустил? Почему ты, мой проклятый отец, этому не помешал?
— Не кощунствуй, сын, хотя я воспринимаю твои слова только как худшее проявление человеческого горя. Я дал людям свободу воли, что означает право выбирать между добром и злом. Если бы они не могли выбирать зло, они не могли бы выбирать и добро. А если бы они всегда делали добро, они все еще были бы в Раю. Но Рая нет, ибо Адам и Ева, получив от Бога свободу, предпочли, чтобы этот благословенный сад был закрыт для них и, следовательно, для их детей.
— Но тебе, который знает все, известно, что будут делать люди. Ты знаешь, что они будут совершать зло. А если ты знаешь это, то они свободными быть не могут, ибо все их поступки предопределены. Следовательно, ты хочешь, чтобы они совершали зло. Я не могу называть тебя Богом, который любит справедливость.
— Называй меня Богом, который любит человека. Не спрашивай почему. Мои чувства не подлежат объяснению. Чтобы сделать человека действительно свободным — а этот дар свободы есть мера величия Моей любви, — я предпочитаю не знать его действий заранее. Но когда однажды человеческие намерения претворяются в деяния, я словно бы неожиданно вспоминаю о том, что мог это предвидеть. Перед человеком я предстаю отнюдь не совершенным.
— Для человека ты становишься человеком.
— Ты понял самую суть. А теперь, хотя для тебя в твоем горе это едва ли будет достаточным утешением, возьми Писание и прочти Книгу Иова.
В то время в Иерусалиме не было места, отведенного для погребения приезжих, поскольку, как заявляли власти, в казне было слишком мало денег, чтобы город мог позволить себе такую роскошь. Однако некоторые известные жители Иерусалима тотчас предложили на своих семейных кладбищах места для бедных женщин, которые, умерев как мученицы, должны были считаться и в некотором роде свидетельницами — «мартирами»[80]. (Беру на себя смелость вывести это слово от греческого корня martur, которым обозначался «свидетель», привлекавшийся в ходе следствия или выступавший в суде; именительный падеж должен был бы выглядеть как martus, но такая форма, кажется, нигде в греческих источниках не обнаружена.) Жара и большие расстояния не позволяли перевезти тела погибших женщин в те места, откуда они были родом, и там предать их земле. Поэтому, чтобы тела несчастных не были осквернены еще раз — на этот раз уже разложением, — эти женщины, для кого-то родные и горячо любимые, теперь должны были покоиться среди могил чужих людей. Но разве справедливо говорить здесь о чужих людях? Разве не был весь Израиль одной страдающей семьей? Синедрион[81], высший религиозный суд, никак не высказался по поводу вопиющего случая гибели пяти женщин, хотя и прислал одного из младших священников для проведения церемонии погребения (поблизости были хорошо видны копья предусмотрительных римлян). Молитвы на похоронах бормотал тот самый богослов, что созвал женщин на собрание. Теперь он плакал, не стыдясь слез. Глаза мрачно возвышавшегося над толпой Иисуса оставались сухими, лицо — зловеще-спокойным. Стоявшие рядом заметили, что кулаки его были крепко сжаты.
Итак, теперь, когда мы говорим о тех пяти годах, что оставались до начала его миссии, мы подразумеваем Иисуса-вдовца. Он не стремился жениться еще раз. Он много работал в мастерской и столь же преданно служил своему ремеслу или искусству. Вечера он проводил дома, рядом с матерью. Они редко говорили о той, которой уже не было в живых, хотя дух ее время от времени летал по дому, передвигая кухонную посуду, и кот, казалось, чуял этого духа, потому что шерсть его вставала дыбом. Старая служанка Елисеба тоже скончалась, но тихо, во сне, и теперь по дому летали призраки обеих женщин. А затем оба призрака истаяли, и в дальнейшем Иисус не видел Сару даже в снах. Какое-то время он оставался худым, ел мало, много читал, почти не разговаривал, но потом снова стал полнеть и достиг полного расцвета своей мужской силы и красоты. Наступил день, когда он смог говорить о Саре, ничем не выдавая затаенной печали. Он вспоминал о ней с благодарностью.
— Те три рода любви, которые я уже узнал, — говорил Иисус матери, — должны теперь научить меня другой любви. Я имею в виду любовь ко всем Божьим созданиям — к друзьям и врагам в равной мере. Мне кажется, больше всего мне дала любовь мужа к жене. Ибо, хотя любовь родителей — это, можно сказать, основа основ, именно любовь мужа к жене учит человека владеть собой. Человек удерживает себя от ругани и склок, привыкает воздерживаться от резких негодующих слов, учится быть благодарным за доставленное удовольствие, за общение. Человек волен не любить, несмотря на брачный обет, и все же предпочитает любовь. Я должен учить любви, разумея под ней добровольный и сознательный выбор, единственное оружие против зла. Думаю, я должен начать готовить себя к этому.
— Значит, ты покидаешь меня, — сказала Мария. — Но что ты собираешься делать с мастерской?
— Ах да, мастерская. Сегодня ко мне приходил один молодой человек, который ищет работу. Его зовут Ефраим. Он говорит, что приехал из Газы. Не Самсон, конечно, но достаточно крепкий парень — прежде дробил камни на строительстве дорог. Он немного занимался плотницким делом и знаком с инструментом. Ему около двадцати, и мне кажется, он человек честный. Он претендует на дальнее родство с пекарем Иофамом, но тот говорит, что родственников, которые являются за даровым хлебом, у него предостаточно и еще один такой ему не нужен. Тем не менее этот Ефраим поселился у Иофама. Иофам — праведный человек, один из избранников Божьих.
— Неужели? Ты так считаешь?
— О, да. Своим речам Иофам придает чрезвычайную язвительность. Но его желчь следует рассматривать как своего рода мед. Под показной грубостью скрыто золото. Он настолько мягкий, что ему приходится глубоко прятать свою истинную сущность. Так же в свою раковину прячется улитка. Я поработаю с этим его дальним родственником следующие полгода или около того и посмотрю, как он будет справляться с делом. Внешность у Ефраима располагающая, заказчикам он понравится. Впрочем, это означает, мама, что тебе самой придется стать плотником — в номинальном смысле. Я имею в виду счета, расходование денег и прочее.
При этих словах Мария вздохнула:
— Я вот думаю, уж не выйти ли снова замуж, да не вижу никого, кто бы мне пришелся по душе.
— Посмотрим, как у нас пойдут дела. Весьма удобное учение — не слишком заботиться о будущем и довольствоваться тем, что послал день. Но обещаю тебе, что голодать ты не будешь.
— Ты говоришь, полгода. Значит, ты думаешь о будущем. Оно беспокоит тебя?
Сын оставил ее вопрос без ответа.
— Мой двоюродный брат Иоанн уже начал свою работу, — сказал Иисус. — Как он выразился — уготовление стези.
ТРЕТЬЕ
Теперь пришло время сказать несколько слов о самом Иоанне, уготовителе стези. Он стал высоким и сильным, как Иисус, и ум его был полон сухих книжных знаний, которые он оживлял, применяя их в беседах и спорах. Однако вскоре стало очевидным, что на должность священника он не подходит, если принять во внимание тогдашние представления об облике священника, о том, что входило в круг его обязанностей и что этот круг ограничивало. Ритуалы и все внешние стороны религии раздражали Иоанна, и у него не было времени вникать в тонкости разногласий между фарисеями и саддукеями[82]. Он жил один в доме, который сначала принадлежал его отцу, а после смерти отца — матери. Ел мало, вовсе не пил вина и много молился, прося Бога указать ему путь. Когда однажды на него сошел Божественный свет, он, по понятиям того времени, давно уже был зрелым человеком. Как-то во сне Иоанн увидел себя таким, каким ему следовало стать, — лишенным дома и имущества, даже одежды, подобающей жителю города; лишенным знаний, положения. Он увидел дикое существо, не имеющее ничего, кроме длинных волос и бороды, которое бродит по пустыне, размышляет, разговаривает с Богом, а питается лишь тем, что можно добыть в редких для пустыни местах, где сохраняется жизнь, — медом с деревьев, на которых когда-то гнездились пчелы, кузнечиками, сырыми или испеченными на ночном костре, водой из ручья или реки. Воды Иордана явились ему в этом сне как странный символ спасения. Прежде чем люди пойдут за Мессией, они должны очиститься от греха. А внешним знаком того, что они достойны следовать за Мессией, должно было стать их омовение в водах священной реки. Запомнив дрожь от прикосновения прохладной воды, запомнив, как мокрая одежда прилипала к телу, они будут помнить и тот день, когда смыли свои грехи и дали священный обет не совершать их более.
Когда мы одновременно хотим охарактеризовать и погружение тела в воду (или окропление его водой), и священный обет очистить душу в момент совершения этого ритуала, мы используем слово baptise, которое происходит от греческого слова baptein со значением «окунать» или «погружать». А священник, который совершает этот обряд очищения тела и души, называется baptist, то есть «погружающий» или «креститель». Слово sacrament, которым в его исходной латинской форме обозначается торжественная воинская клятва, приобретает абсолютно новое и своеобразное значение, если применяется в отношении обряда крещения водой. Ибо в этой новой вере внешнему ритуалу — омовению или окроплению — отводится главная роль, клятва же, даваемая молча, или только для себя, или даже прилюдно, но лишь в словесной форме, считается недостаточной. Существуют религии (наподобие той, что исповедуют люди, живущие у Мертвого моря), которые с презрением относятся ко всему, что связано с земной и телесной жизнью, как к не заслуживающему внимания в сравнении с душой; есть верования, приписывающие материи дьявольское происхождение и назначение и утверждающие, что душа, сущность которой божественна, должна вести с ней вечную борьбу. Но Иоанн (а вслед за ним Иисус) ясно видел, что душа, с одной стороны, и плоть и земная субстанция, с другой, — все это творения Бога. Священными были и вино, и хлеб, и вода, и слюна, и раз сам Бог не считал зазорным воплощаться в человеческий облик, то и Дух Святой — таинственное звено между божественным началом и словом, ставшим плотию, — был не прочь появляться перед людьми в облике смиренного голубка, который воркует, клюет крошки и стучит лапками по крыше. Но здесь я несколько забегаю вперед.
Иоанн много раз перечитал страницу из Исаии и наконец постиг ее пророческий смысл, отождествив себя с иносказательно очерченным в ней образом. Речь идет о сороковой главе, слова из которой были в душе Иисуса в тот день, когда он встретился с учеными богословами у стен Храма и отстал от каравана, идущего в Назарет: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои.
Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими;
И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо уста Господни изрекли это»[83].
Поначалу Иоанн воспринял эту аллегорию слишком буквально и действительно удалился в пустыню, где кричал в пустой воздух слова: «Покайтесь, ибо Господь грядет!» Тем временем грива на его голове и борода становились длиннее, сам он худел и покрывался грязью, а от грубой нечеловеческой пищи боли в желудке становились все нестерпимее. Однако пришло время, когда чрево его прекратило противиться тому, что в него поступало, и смирилось с тем единственным кормом, который ему, похоже, суждено было получать и впредь. Тело Иоанна, прикрытое лишь парой старых зловонных козлиных шкур, закалилось. Первое время его донимал сильный кашель и нос из-за насморка был постоянно заложен — награда холодных ночей! — но Иоанн не прятался от дождя и, невзирая на непогоду, все шагал и кричал в пустоту: «Покайтесь!» В конце концов он научился приспосабливаться к пустыне. И вот настал день, когда, размахивая сухой веткой, служившей ему одновременно и дорожным посохом, и символом пророческого призвания, Иоанн появился на людях. Он шел мимо небольших поселков, а их жители, видя необычайное истощение и очевидное сумасшествие путника, были рады поглазеть на него — хоть какое-то развлечение! Иоанн призывал их покаяться в своих грехах и условиться о встрече с ним, чтобы совершить омовение в водах Иордана, а смыв грехи, начать новую жизнь. Старики только смеялись, молодые же бросали в него камни. Собаки облаивали его, а иногда пытались укусить. Опечаленный, он уходил, продолжая выкрикивать: «Покайтесь, ибо Господь грядет!»
Но, как мы хорошо знаем, отвергали его не все. Те, кому стало известно, что он был рожден от чудесного зачатия, верили, что Иоанн и есть предсказанный пророками Мессия. Таких находилось не много, но они все же были. Другие, близкие к зелотам, идеи которых незаметно, но быстро распространялись не только в Иерусалиме, но и в других городах и даже деревнях Палестины, считали, что он был судьбоносным харизматическим вождем, который призовет народ к восстанию против римской тирании. Разумеется, к нему стали проявлять интерес — особенно тогда, когда он начал свою деятельность на берегах Иордана в качестве Крестителя. Как же он был изможден, как плохо одет, как огромны были эти сверкающие глаза, какая неистовая вера сквозила в его словах! «Ну и безумец! — сказали бы многие. — Нет, следует решительно и полностью отвергнуть саму возможность мессианства». Но ведь священные книги не говорят нам, в каком обличье должен явиться Мессия. Вы полагаете, это будет кто-то толстый и похожий на фарисея? Тогда слушайте.
— Сие называется крещением водой, — объяснял Иоанн группе людей, сидящих на берегу Иордана. — Этот обряд прост. Вы должны очиститься от греха, и знаком очищения души будет очищение тела — здесь, в водах нашей реки. Вы можете спросить: «Обязательно ли нужна вода?» Да, отвечу я, потому что наш разум будет помнить водный обряд всегда, высказанное же намерение вскоре забудет. А теперь войдите вместе со мной в эти воды.
— И что произойдет после того, как мы совершим омовение? — спросил один человек. — Что будет потом?
— Потом, — ответил Иоанн, — вы будете готовы принять того, кто идет за мной, того, кто будет проповедовать о новом Царстве.
Обратите внимание на это слово — Царство. Как оно должно истолковываться? Метафорически, как в словосочетании царство духа, или буквально — со всеми подразумеваемыми изменениями государственного строя: восстанием против Рима, установлением священной монархии? В самом начале, в предыстории его проповедования, положение Иоанна было несколько двусмысленным, поскольку ему приходилось вводить в заблуждение людей простодушных, среди которых попадались и такие, которых интересовала политика.
— А что это будет за Царство?
— В нем все будет не так, как в царстве кесаря. Любовь, а не страх. Не будет рабства, не будет тирании, не будет стяжательства и накопительства. Будет царство свободных душ под Богом.
Опасные слова. К Иоанну выстроилась целая очередь кающихся грешников, и с каждым днем число их росло.
— Я крещу вас водой именем Всевышнего. Пусть воды духа очистят вас от желания грешить, и пусть прошлые грехи ваши простятся вам.
Кто-то непременно возразит, что очищение от желания грешить означает также и очищение от желания делать добро. Суровые слова, трудная для понимания доктрина. Мы должны ждать прихода толкователя — того, кто это прояснит.
Грехи. «Я обманывал — дал неполную меру, когда торговал в лавке… Я украл у соседа пять талантов и допустил, что обвинили его сына… Я… я… я… почувствовал сильное влечение к женщине, живущей по соседству, но я ничего такого не сделал… Я кричал на свою жену, упокой Господь ее душу, я часто бил ее… Я не соблюдал пасхальный обряд в прошлом году… Я… я… я… я… я… я… совершил грех Онана…»
Долгий день признаний и отпущения грехов. Холодная ночь под деревом или в пещере. Завтрак из печеных акрид, дикого меда и речной иорданской воды. Утром — снова обязанности исповедника, крестителя, призывающего к добродетели, пророка, предсказывающего пришествие того, кто должен явиться.
«Я ненавидела свою сноху и оговорила ее перед сыном, обвинив в неверности… Я ела запрещенное законом мясо и запивала его козьим молоком… Я совершила прелюбодеяние… Я лежу в постели, обдумывая способы и средства, которые помогут мне найти время и возможность снова и снова совершать грех, и ненавижу мужа, который храпит рядом…»
Однажды Иоанн говорил перед большой толпой, почти наполовину состоявшей из придирчивых скептиков и сомневающихся, не считая явных фарисеев и, вероятно, тех оплаченных властями Иерусалима мелких провокаторов, которые должны были подбивать его на крамольные речи.
— Чего вы от меня хотите?! — воскликнул Иоанн. — Начала конца чужеземного правления в наших святых местах? Освобождения Иерусалима из римского плена, как некоторые это называют? Нет, не это обещано. Не это будет проповедовать тот, который должен явиться. Ибо рабство, от которого страдает человек, — это рабство, которое он создает себе сам.
— Зачем ты учишь какой-то новой вере? — спросил один из фарисеев. — Разве тебе недостаточно веры наших отцов?
— Слышу голос фарисея! Вижу среди вас множество фарисеев, которые довольствуются мытьем рук перед едой и пустыми атрибутами веры, лишенными содержания. Вижу среди вас и саддукеев, которые находят Божью благодать в накопленном ими богатстве. И тем и другим, и фарисеям и саддукеям, я говорю: «Порождения ехиднины!»
Эхом отозвалось: «Хиднины… хиднины…» Опасные, очень опасные слова. Верный способ нажить врагов.
— Ехиднины! Если придете ко мне, несите достойные плоды покаяния. Не говорите про себя: «Отец наш — Авраам, и этого будет достаточно для нашего спасения». Говорю вам: Бог мог бы взять, если пожелал бы, эти камни, что у ног моих, и превратить каждый в сына Авраамова. Если же не принесете вы плоды покаяния, бойтесь секиры, которая лежит уже у корней деревьев, плодов не приносящих. Бойтесь секиры! Бойтесь быть срубленными и брошенными в огонь!
Когда Иоанн снова заговорил в подобных выражениях, к нему вежливо обратились двое чиновников из Синедриона и повели в какой-то провинциальный суд, где его ждало нечто вроде синклита местных священников, горевших желанием встретиться с ним и задать кое-какие вопросы. Когда они увидели Иоанна, их глаза широко раскрылись от удивления. Ему же, хотя и явился он достаточно смиренно, явно не терпелось быстрее покончить со всем этим делом, в чем бы оно ни заключалось, и продолжить свои проповеди и крещение водой. Священники увидели перед собой худого ширококостного человека, наготу которого прикрывал кусок верблюжьей шкуры (козлиные покровы давно уже истерлись и распались на куски), очень косматого и неухоженного. Они сидели, пряча улыбки, а председатель этого маленького суда задавал ему вопросы и непрерывно отгонял мух опахалом с ручкой из слоновой кости (подарок одного римлянина, а вообще-то — из Египта).
— Итак, господин, кем же, по вашим словам, вы являетесь?
— Сначала скажу, кем я не являюсь. Я — не Мессия. Приход Мессии еще впереди.
— Утверждаете ли вы, что вы пророк Илия, явившийся снова?
— Нет, не утверждаю.
— Тогда кто же вы?
— Я — глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему[84]. Я не Илия, явившийся снова, но исполняю слова, Илией сказанные.
— По чьему же поручению вы выполняете эту церемонию, которую называете крещением водой?
— По поручению того, кто придет. Того, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Я крещу водою, он же будет крестить огнем Духа Святого. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым[85].
— Вы имеете в виду Мессию?
Иоанн не ответил, но лишь склонил голову.
— Оставьте нас ненадолго. Мы должны относительно вас посоветоваться.
Иоанн, теперь уже с поднятой головой, вышел. Они совещались.
— Довольно безобидный, мне кажется. Сумасшедший, конечно.
— Он выступает против освященных веками основ веры. Рассуждает о лицемерии, умывании рук и прочем. Пользуется такими словами, как «ехидна» и «мерзость запустения пред Богом».
— Нам это известно, но не чувствует ли кто-то из вас во всем этом запаха ереси?
— Ересь, — взмах опахалом, — всегда трудно доказать. Не забывайте, что он священник. Добровольно он не признает за собой ереси. За внешность мы также не можем осудить его. Внешность, можно сказать, пророческая. Перед нами, конечно, источник опасности, но вряд ли эта опасность религиозного характера.
— Тогда, может быть, источник общественной опасности?
— Уместное определение. По крайней мере, обвинение может пойти по этой линии. Он уже вел дерзкие речи, но был достаточно осторожен и ограничивался лишь общими рассуждениями о том, что в Галилее имеют место определенные нарушения, скажем так, норм супружества.
— Ага, значит, ты хочешь сказать…
— Именно это я и хочу сказать. Пусть им займутся гражданские власти.
— Позвать его и сказать, что он может идти?
— Он, кажется, уже ушел.
Случилось так, что мать Иоанна, покойная Елисавета, была в родстве с семейством Ирода, поскольку приходилась троюродной сестрой его возлюбленной супруге Дориде, которую Ирод с великим прискорбием был вынужден отправить на тот свет. Иоанн, будучи ребенком, встречался в Иерусалиме с Иродом Антипатром, сыном Ирода Великого, и юный наследник, будущий тетрарх, до рвоты закормил тогда Иоанна засахаренными фруктами и очень сладким липким шербетом. Теперь оба они уже мужчины. Один — любитель мясных блюд, обладатель большого живота, на четверть (а фактически на треть) царь, другой — невероятно изможденный проповедник, предрекающий Судный день. Но когда до Иоанна дошли слухи о намерении Антипатра жениться на супруге своего собственного брата Филиппа, здравствующего тетрарха Итуреи, у Иоанна, человека очистительной воды и покаяния, от мысли об этом грехе и от воспоминания о той давней тошноте, снова началась рвота. По правде говоря, жена Филиппа Иродиада сама замыслила этот брак, бросив вызов законам Моисея, священникам, воспринявшим это с презрением, да и набожным плебеям тоже. Стать женой Антипатра она хотела потому, что жаждала власти. Филипп же, скупой во всем, в том числе и в постельных утехах, был вовсе не намерен делиться с ней властью. Он простил жене ее бегство и грех и был вполне доволен, что избавился от нее. Филипп знал, что брат, с его слабой натурой и тягой к удовольствиям (действительно, приятный человек, не тиран, но и правитель не мудрый, если не сказать посредственный), в силу своей полной безмятежности наделит Иродиаду тем, чего она жаждала больше всего на свете: государственной властью, беспощадным голосом в зале заседаний совета, возможностью проявить свою природную жестокость, что послужит некоторой компенсацией за ту воздержанность в любви, которой при обычном общении на супружеском ложе Антипатр отличался еще в большей степени, чем Филипп.
Я нахожу несколько стеснительным обсуждать любовные пристрастия не только монархов, но и даже их подданных. В молодости Ирод Антипатр исчерпал все возможности нормального чувственного удовлетворения и в зрелые годы вынужден был использовать такие фантастические вариации на тему соития, какие только способно было подсказать ему его больное воображение. Иродиада, которой Филипп в свое время неожиданно подарил дочь Саломею, с такой страстью предалась удовлетворению своего властолюбия, что поначалу не поняла истинной причины их брака: главным, что влекло Антипатра к этому кровосмесительному с точки зрения Закона супружеству, была его надежда в будущем нагромоздить, так сказать, кровосмешение на крововосмешение, поскольку в своих чувственных странствиях он достиг уже той стадии, когда мог получать удовлетворение только за счет контакта с очень молодым телом (не важно, какого пола), а тело Саломеи было очень молодым. На этой стадии его анабасиса[86] к прогрессирующей импотенции Ироду Антипатру уже не требовалось соития — достаточно было возбуждения от созерцания молодого обнаженного или полуобнаженного тела, которое постепенно и несколько замедленно разоблачается, по возможности сопровождая этот процесс зазывающими непристойными кривляньями, похотливыми взглядами, выпяченными вожделеющими губами, вздохами и жестами, имитирующими возбуждение. Это обеспечивало, по меньшей мере, прилив крови к фаллосу тетрарха, а порой, если боги, не имеющие никакого отношения к Богу Израиля, позволяли себе улыбку, даже непроизвольное семяизвержение. Как я уже сказал, я нахожу для себя очень неприличным выставлять подобные темы на обсуждение и не сомневаюсь, что они неприятны читателю. Но, как я уже говорил прежде, долг рассказчика состоит в том, чтобы представлять жизнь такой, какова она есть, и не уклоняться при этом от показа неприятных эпизодов.
Иродиада была привлекательной женщиной, но никогда она не казалась более привлекательной, чем в тот момент, когда, греховно облаченная в наряд невесты, шествовала под руку со своим мужем-тетрархом после кровосмесительной церемонии. Оба они были облачены в пышные шелковые одеяния, расшитые золотом и усыпанные мириадами переливающихся драгоценных камней. Играли флейты и трубы, глухо били барабаны, звенели медные тарелки, а служанки бросали под ноги этой омерзительной паре живые цветы. Подданные тетрарха, ослепленные блеском церемонии, толпились вокруг, и некоторые — нет, большинство из них — приветствовали новобрачных. Лишь один человек, возвышавшийся над толпой, человек с суровым и решительным взглядом, не выкрикивал приветствий. Он твердым и строгим голосом обратился к тетрарху:
— Ирод! Царь Ирод! Ирод Антипатр!
Стражники попытались оттеснить его в сторону, но человек, казалось, был полон решимости во что бы то ни стало докричаться до тетрарха.
— Это мой довольно дальний родственник, дорогая, — обратился Ирод к своей невесте. — Я слыхал, что Иоанн, сын Захарии, превратился в пророка, но никак не ожидал увидеть его здесь. Ладно, пропустите его, — велел он стражникам. — Иоанн, так ведь? Чудесный плод престарелого чрева? Я так и думал, что не ошибся. Я не одобряю одеяние, в котором ты пришел на свадьбу, но ты можешь говорить.
— Ирод Галилейский, — заговорил Иоанн, — на священных скрижалях Закона начертано, что человек не может жениться на жене своего живого брата. Царица же Иродиада…
— Жена моего брата Филиппа. Знаю, знаю. А тебе не кажется, что у меня уже в ушах гудит от всяких там стыдливых «ай-яй-яй» и прямых обвинений со стороны профессиональных святых? Скажу по секрету, Иоанн: подумай над значением слова «венец».
Он действительно сказал это Иоанну по секрету — шепнул на ухо. И хотя его невеста не слышала того, что Ирод сказал Иоанну, лицо ее было мрачнее тучи, а драгоценности сверкали, словно молнии. Громко, чтобы все слышали, Иоанн выкрикнул:
— Человек, которого вы называете царем, грешник, и грешник мерзкий! Женщина, которую он называет своей женой, прелюбодейка и виновна в кровосмешении! Грех на всех вас, кто содействует греху!
Стражники попытались схватить Иоанна, чтобы как можно быстрее отправить его в тюрьму, но Ирод сказал:
— Интересная речь, только вряд ли она уместна в столь торжественных обстоятельствах, как сегодня. — И, обращаясь к командиру стражников, молвил: — Нет, нет, капитан, отпустите его! В день нашей свадьбы мы склонны быть милосердными.
Итак, Иоанна отпустили, и он, продолжая выкрикивать: «Грех, грех, мерзкий грех», стал протискиваться сквозь толпу зевак, которые, не желая в этот радостный праздничный день (особую пикантность ему придавал пряный запах греха, вместе с дымом факелов поднимавшийся к небу) слышать о таких скучных и малоприятных вещах, как греховность, глумились над Иоанном, осыпая его насмешками и толкая со всех сторон. Но были там и люди, которые не присоединились к всеобщему веселью и смотрели на сверкающую мерзость так же сурово, как сам Иоанн, однако из осторожности вели себя спокойно. Один из них рукой придержал Иоанна и, крепко вцепившись в него, спросил:
— Быстро отвечай: имеет ли монарх власть над своими подданными, если он находится в состоянии греха?
— Если ты хочешь втянуть меня в заговор против власти, то будешь разочарован, — ответил ему Иоанн. — Я обличаю грех там, где его вижу, и призываю грешника покаяться, не более того.
— Разве ты не тот, кто нам обещан? Не тот, кто должен изгнать чужеземцев и объединить народ под властью Бога?
— Я — не он. Я всего лишь недостойный предвестник того, кто придет. Оставь мысли о заговоре. Покайся в грехах своих. Ищи воды жизни новой. Крестись водой во имя грядущего спасителя.
— Ты и есть спаситель. Ты ловко скрываешь, кто ты есть на самом деле. Когда наступит время жатвы?
— Ты говоришь загадками. Дай мне пройти.
Нетрудно было предположить, что толпа на берегу Иордана теперь будет расти. А во дворце тетрарха, что тоже легко вообразить, супруга Ирода Антипатра провела почти всю оставшуюся часть этого свадебного дня, визгливо ругаясь и понося Крестителя:
— Измена! Я считаю это государственной изменой!
Ирод, полулежавший в большом кресле с множеством подушек — он был без обуви, рядом стоял слуга эфиоп, державший наготове поднос с засахаренными фруктами, — произнес:
— Да, моя дорогая. Мы можем называть это неким подобием государственной измены, если, конечно, под изменой будем понимать некое подобие говорения правды. Какое прелестное ожерелье, моя маленькая очаровательная Саломея! Какая прелестная шейка, кстати говоря!
Саломея, хорошо сложенная, не по годам развитая маленькая кокетка двенадцати с половиной лет, была еще в своей праздничной одежде; ее янтарного оттенка кожа казалась теплой под сверкавшими холодным блеском драгоценностями. Она сидела у ног тетрарха (боль в них утихала), находя свою громогласную мать занудой, а своего в некотором роде отчима довольно приятным и забавным: у него всегда был наготове комплимент, заставлявший ее почувствовать себя женщиной.
— Государственная измена! — продолжала визжать Иродиада. — Я требую, чтобы его схватили!
— Требуешь? Сильно сказано, дорогая. Давай рассмотрим это дело спокойно, как подобает правителям. А ты, маленькая наследница, не считаешь ли ты, что дела всегда следует рассматривать спокойно? Разумеется, ты так считаешь, восхитительное создание. Сегодня, дражайшая супруга, мы участвовали в церемонии, на которой торжественно поклялись относительно определенных вещей. Любить и оберегать друг друга и тому подобное. Давать друг другу то, что эвфемистически называют телесным утешением…
— Саломея, — обратилась Иродиада к дочери, — выйди. Пойди покорми павлинов.
— Полагаешь, она слишком молода, чтобы слышать о таких священных понятиях? Чтобы слышать о том, в чем мужья и жены клянутся друг другу? Я бы так не сказал. Наследница престола никогда не бывает слишком молода, чтобы поучиться существенным вещам.
— Саломея, выйди.
— Но, мама…
— Выйди, дитя мое.
Девочка надула губки, медленно — настолько медленно, насколько хватило наглости, — поднялась с подушек и вышла, вызывающе покачивая ягодицами, которые плотно облегал спадавший мягкими складками оранжевый шелк.
— Прелесть, прелесть! — лениво улыбаясь, произнес ей вслед Ирод Антипатр, а затем обратился к жене: — Следует ли мне понимать это так, что ты стремилась к браку со мной не ради телесного утешения?
— Есть обязанности, что же касается удовольствий…
— Удовольствия не следует откладывать на потом, иначе наш брак превращается в простую формальность, в нечто воображаемое, в ничто. Я нахожу довольно приятным выслушивать обвинения в том, что я грешу, когда я прекрасно знаю, что не грешу.
— Ты дурак, — сказала Иродиада. — Ты отмахиваешься от реальности. Вместо того чтобы день и ночь думать о проблемах правления, ты занимаешься какой-то мистической чепухой, подобно этому… этому… смутьяну!
— Наверное, это у меня наследственное, дражайшая. Истинная реальность, которая скрывается за глупым внешним обличьем, — вот что меня всегда занимало.
— Ты занимаешься всякой метафизической чепухой, а в один прекрасный день вдруг окажется, что из-за этого пугала вся Галилея охвачена беспорядками. Они постараются избавиться от меня, они свергнут тебя и вынудят римлян установить здесь прямое правление, как это уже сделано в Иудее. Да, это у тебя по наследству, но не от отца.
— О, мой отец по образу жизни тоже был мистиком! Только мистик, действительно веривший в пришествие Мессии, мог перерезать всех этих несчастных младенцев. Избавиться, ты сказала. От меня они не избавятся, если я покаюсь и отправлю тебя назад — к моему брату Филиппу. Не забывай об этом, дорогая моя. А пока суть да дело, пусть Иоанн шлет проклятия и кричит о грехе и покаянии. Народ будет воспринимать это как бесплатное зрелище, как некое театральное представление. Конечно же, того, к чему он призывает, они не будут делать.
— Я требую, чтобы его схватили! Я требую, чтобы он был наказан за государственную измену!
— «Требую», «требую», все время «требую». Ну хорошо, любимая, я готов удовлетворить твое требование наполовину. Я склоняюсь к тому, чтобы поместить Иоанна здесь, во дворце. Пусть себе свободно разгуливает по залам и садам, но если он попытается найти выход, то наткнется на острые кинжалы, длинные копья и крепкие руки.
— В дворцовую тюрьму, в подземелье! До тех пор, пока толпа о нем не позабудет, а потом — тихо, без шума, как убивают дерзкого раба…
— Тебе нравится убивать, дорогая моя? Ты очень кровожадная дама. Надо же, одета в наряд невесты, а размышляет о казнях без суда и следствия! Теперь послушай меня. — Ирод заговорил с необычной для него резкостью: — Я поступаю так, как считаю нужным, понятно тебе? Одно я усвоил у отца: убийства ничего не решают. Он, величайший в мире убийца, находясь на смертном одре, понял, что убийства не принесли ему блага. Призраки убитых — их были тысячи, отправленных на тот свет по его приказу, а иногда убитых им собственноручно, — эти призраки, я говорю, проходили перед ним длинной-длинной чередой, печально качая головами, когда он умирал. Понимаешь, начав убивать, ты не знаешь, где остановиться. И кончается это тем, что убитыми оказываются все. А у меня нет желания править царством, в котором нет ничего, кроме высохших костей. Поэтому мы не будем торопиться, не так ли, любимая? Я пошлю несколько человек, чтобы они нашли Иоанна и вежливо — так вежливо, как только можно себе представить? — пригласили его во дворец. Он откажется от приглашения, и тогда его — с величайшей, какая только возможна, мягкостью — заставят прийти сюда.
— И бросят в тюрьму!
— Всему свое время. А теперь оставь меня, ты меня утомляешь.
Иродиада кивнула и, порочно улыбаясь, спросила:
— Прислать к тебе дочь? Она, я вижу, никогда тебя не утомляет.
— Возможно, мы оба простодушно-невинны, что ты, несомненно, назвала бы обыкновенной фривольностью. Нет, не присылай ее сюда, никого не присылай. Я хочу побыть один. Мне надо поразмышлять о тех реальностях, что скрываются за мельтешащими вокруг фантасмагорическими призраками этого мира. А позднее, наверное, мы с Саломеей сможем поболтать о разных пустяках.
— Если ты прикоснешься к этому ребенку, — процедила сквозь зубы Иродиада, — если ты хоть пальцем ее тронешь..
— Кровь, кровь, кровь… Ах, оставь меня. Это царский приказ.
Среди примкнувших к Иоанну людей было немало таких, которые, несмотря на его возражения, верили, что он и есть тот, кому предопределено стать вождем народа. Они ждали, что однажды Иоанн сбросит с себя покров таинственности (неуместная метафора по отношению к тому, на ком почти не было одежды) и явится в качестве предводителя зелотов, чтобы изгнать римлян и, взойдя на священный трон, объединить весь Израиль. Но были и другие — те, кто верили каждому сказанному им слову и с нетерпением ждали пришествия Мессии, который будет требовать прежде всего внутренних изменений и только потом — изменений внешних. Эти люди были особенно преданы Иоанну. Один из них, человек по имени Филипп, робко предостерег Крестителя:
— Они этого не забудут. Эта женщина не простит тебе. А это значит, что твое дело поставлено под угрозу. Что будет, если за тобой вдруг придут и схватят тебя?
Иоанн задумчиво кивнул несколько раз. Он сидел у входа в пещеру вместе с Филиппом и другим своим последователем, которого звали Андрей. Рядом горел костер, и на ужин у них были не печеные акриды, а жареная рыба и хлеб — провизия, добытая Филиппом одним из его способов, который нам нет нужды перенимать. Иоанн заговорил:
— В любой день могут произойти два события, которых я жду. Я жду пришествия того, за кем вы должны будете пойти, ибо моего собственного времени, как ты правильно подметил, осталось очень мало. Он тоже должен креститься водой. И он знает об этом. Узнает он и другое. Я думаю… нет, я знаю, что он придет к реке прежде, чем явятся вооруженные люди грешника Ирода. Это может произойти в любой день. Может быть, завтра.
Пророк все предсказал точно. На следующий день — погода была пасмурная — он стоял на берегу Иордана и крестил водой людей. Выстроилась длинная вереница кающихся грешников. Одна женщина бормотала:
— Мне приснилось, что я совершаю прелюбодеяние с мужем моей собственной дочери, и я думаю, что этот сон — такой же грех, как и само прелюбодеяние. Я обругала мою соседку на рынке…
Иоанн мягко улыбнулся и осторожно подвел грешницу к реке. По небу бежали кипучие облака, и река была унылого, серого цвета — словно боевой щит. Иоанн поднял глаза и увидел его. Он увидел на противоположном берегу своего родственника Иисуса. Тот, сняв сандалии, вошел в воду. Лицо его было серьезно. При виде Иоанна он не улыбнулся, не поприветствовал его. В этом месте река была неглубокой. Иисус пересек сверкавший металлическим блеском поток и стал с краю, в ряду кающихся грешников — сложив ладони, опустив глаза. Он ждал своей очереди.
— Я стирала одежду в субботу, — продолжала женщина. — И в тот же день я велела моей дочери набрать хворосту для очага. Ты слушаешь меня?
Иоанн в это время смотрел в другую сторону.
— Да, я слышу тебя. Есть у тебя еще что сказать?
— Только то, что я раскаиваюсь в содеянном.
Иоанн крестил ее водой.
То, что произошло в тот день, нынче, боюсь, затемнено всякими суеверными россказнями, в которых всегда будет больше преувеличений, нежели правды. Иисус, говорят, посмотрел на небо и увидел там белую голубку, которую преследовали ястребы. Голубка замерла над его головой — на высоте около пяти локтей, и ястребы, словно испугавшись, улетели прочь. В этот момент солнце неожиданно пробилось сквозь тучи, и все вокруг озарилось ослепительным светом…
Вот-вот должен был наступить черед Иисуса креститься водой. Перед ним стоял старый беззубый старик, который исповедовался твердо и решительно:
— Я крал, господин. Я лгал. Я развратничал, господин.
— Что-нибудь еще?
— Разве этого недостаточно, господин?
Иоанн крестил его водой. Человек поднял свою окропленную голову, рот его был открыт, и всем показалось, что прозвучали такие слова:
— Сей есть сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение.
— Что ты сказал? — спросил Иоанн.
— Я сказал, что это не заняло много времени, — ответил человек.
Теперь, когда Иоанн с Иисусом стояли друг против друга, они позволили себе приветливо улыбнуться. Иоанн сказал:
— Не я должен крестить тебя водой.
— И тем не менее давай исполним все по справедливости, — ответил Иисус. — Сделай это.
Иоанн крестил его водой, а потом неловко попытался встать перед ним на колени прямо в реке, но Иисус мягко удержал его, обнял на мгновение и затем вернулся на другой берег, где лежали его сандалии.
Одна старуха сказала старику, стоявшему рядом:
— Большой, правда?
— Он не признался в своих грехах, — сказал старик. — Ты заметила?
— Да, — ответила старуха. — Он очень большой.
Иоанн кивком подозвал Филиппа и Андрея. Они подошли, разбрызгивая воду.
— Назарет, — произнес Иоанн. — Это начнется в Назарете.
— Это он?
— Он вернется в Назарет. В Назарете все как раз и начнется.
— Мы должны идти за ним?
— Вы встретитесь с ним в Назарете.
На следующий день Иоанн проповедовал на площади небольшого городка у реки. Он говорил:
— Вы можете спросить: «А нужно ли крещение водой?» Да, отвечу я. Ибо то новое, что происходит в нашем внутреннем мире, то есть в душе, должно найти себе спутника в мире внешнем, поскольку каждый из нас — две вещи, а не одна.
Кто-то из небольшой группы слушателей спросил:
— А крестился ли уже тетрарх Ирод?
— Мое самое искреннее желание, — ответил Иоанн, — чтобы в этом он показал пример своим подданным. Увы! Он совершил тяжкий грех, и кажется, что он радуется этому. Каждый день я молюсь, чтобы Дух Божий наставил его на праведный путь и привел к смиренному покаянию.
— Ты хочешь сказать, — продолжал тот же человек, — что он должен избавиться от своей жены?
— Да, именно это я и хочу сказать. Мы все должны подчиняться законам Моисея.
— Равносильно ли то, о чем ты говоришь, обвинению в тяжком преступлении?
— В мире духа единственным тяжким преступлением будет неповиновение закону Божьему.
— А разве царь не выше закона?
— Ты слышал мои слова. Ни один человек не выше закона.
— Иоанн бар-Захария, — сказал этот человек, — не пройдешь ли ты вместе со мной и моими спутниками к царю? — Он указал на двоих закутанных в плащи мужчин, стоявших рядом. — Мы люди царя, и нам приказано привести тебя во дворец, чтобы царь мог поговорить с тобой.
— Но благословенные воды Иордана не протекают по царскому дворцу, — возразил Иоанн. — Передайте Ироду Антипатру, что Иоанн, предвестник, ждет его и что будет праздник на земле и праздник на небесах, когда он придет покаяться и очиститься водою духа.
— Я не уполномочен передавать подобные послания, — ответил человек.
Он откинул с плеча свой плащ, чтобы видны были кольчуга и меч, какие носят начальники из числа военных или городской стражи. Двое его спутников сделали то же самое. Толпа, большей частью состоявшая из людей, которые не питали к властям особой любви, ахнула и начала расходиться.
— Если ты не пойдешь добровольно, то придется привести тебя силой, хотя нам приказано не наносить тебе вреда. — Человек откашлялся и громко объявил: — В своих речах ты обвинял господина нашего, царя Ирода Антипатра, в разнообразных преступлениях, между тем как по самой сути его титула, происхождения и полномочий он никоим образом не может быть виновен в таковых преступлениях, и…
— Не продолжай, — произнес Иоанн, мрачно усмехнувшись. — Я арестован.
Они увели его.
Увели не к царю, но в дворцовую тюрьму. Иоанна бросили в камеру, напоминавшую бочку для вина, по стенам которой, мокрым и скользким, ползали жабы. Вместо потолка здесь была железная решетка с крышкой — стражники приподняли ее и швырнули Иоанна вниз. Эта решетка составляла часть пола коридора, который вел от комнат дворцовой стражи к выходу из дворца. Свет в коридор проникал через другие, вертикальные, решетки, находившиеся на высоте пяти локтей от каменного пола. День и ночь Иоанн видел у себя над головой ноги стражников, с грохотом проходивших по решетке. Иногда они бросали ему хлеб и кости: трое стражников с трудом чуть приподнимали тяжелую крышку, а четвертый через образовавшуюся щель проталкивал еду. Они имели любезность подавать ему глиняный кувшин с водой, который опускали на веревке, но делали это весьма грубо, и много воды проливалось. Для отправления естественных надобностей Иоанн вынужден был использовать темный угол, а свои испражнения укрывал соломой, которую стражники швырнули ему однажды, вспомнив, что это необходимо сделать. Иоанн не смирился с окончанием своей миссии — его громоподобный голос прорывался сквозь стены и решетки тюрьмы и был слышен далеко за пределами дворца:
— Покайтесь! Стремитесь к крещению души! Христос уже в пути! Тот, у которого никто не достоин развязать ремень обуви! Он очистит вас и дарует вам прощение грехов ваших! Покайтесь, ибо близко Царство Небесное!
Последователи Иоанна, а также подходившие из любопытства горожане стояли у стен дворца и слушали. Хотя стражники ударами и пинками отгоняли их, они все равно возвращались снова и снова. Стражники, бывшие внутри, естественно, издевались над Иоанном и передразнивали его. Стараясь заглушить пророческий голос, они гремели мечами и плясали на прутьях решетки или распевали хором непристойные солдатские песенки, но голос Крестителя возвышался над всем этим шумом и звучал с прежней силой. Обитатели самого дворца не могли слышать Иоанна, но Иродиаду ни днем ни ночью не покидала мысль, что он рядом.
— Его последователи все время стоят здесь. Число их растет. Стража не может их разогнать. Тебе пора уже с ним покончить.
— О, успокойся, душа моего сердца. Пусть он кричит себе до хрипоты. Ради небес, направь свои мысли на что-нибудь полезное. Займись вышиванием или еще чем-нибудь.
— Если ты не отдашь приказ о его казни, я сама это сделаю. Тетрарх! Царь даже не наполовину! Ты ничуть не лучше своего братца!
— Возлюбленная моя, послушай, — заговорил Антипатр ледяным тоном. — Приказы в этом дворце отдаю я и только я. И когда я отдам приказ, это будет приказ о его освобождении. Не сейчас, нет. Позднее. По какому-нибудь особому случаю — когда потребуется мое милосердие. Может быть, в день моего рождения. Иоанна нельзя казнить. Ты можешь это понять, о кровь моего сердца?
— Я понимаю, что ты глупец и тряпка!
— Как же мне все это надоело! — пробормотал Ирод, поднимаясь из-за стола и откладывая в сторону трактат Френозия о теле и духе (на пергаменте остались следы его липких пальцев).
Он подошел к Иродиаде и со страшной силой ударил ее по щеке своей липкой рукой, прибавив: «Вот тебе!»
— Дурак, негодяй и трус! — выкрикнула Иродиада и бросилась прочь.
— Скажи еще, — проронил Ирод ей вслед, — что я нарушаю супружеский долг и что у меня начисто отсутствует мужская сила. Глупая женщина.
Саломея, будучи всего лишь девочкой и находя жизнь во дворце довольно скучной и неинтересной (за исключением лишь тех случаев, когда наказывали слуг), однажды незаметно пробралась в коридор, из которого доносился рокочущий голос Иоанна. С широко открытыми глазами, будто зачарованная, слушала она его крики «Покайтесь!» и угрожающие предупреждения о приходе того, кто «солому сожжет огнем неугасимым». Подошедшие стражники мягко предупредили ее:
— Просим вашего царского прощения, госпожа, но вам лучше держаться отсюда подальше, это место не для вас. Он грязный весь, больной, на нем полно блох. Да и голый он, барышня, то есть Ваше высочество, вам не пристало смотреть на него.
— Голый?
— Олоферн[87], да и только, — произнес стражник и улыбнулся, подумав, что Саломея может и не знать, какой смысл он вкладывает в это слово.
— Олоферн? Это был человек, которому Иудифь отрезала голову. Но что ты имеешь в виду?
— О, мы используем это имя в другом смысле, надеюсь, вы не обиделись.
Перед ними была пухленькая аппетитная штучка в шелестящем шелковом платье с разрезом чуть выше колена, маленького прелестного колена, и среди них не было ни одного мужчины, который не хотел бы… Но она принцесса, и следует быть осторожным, ведь она, как и большинство хорошо развитых девочек в этом возрасте, знает, вероятно, меньше, чем кажется на первый взгляд. Иначе говоря, ее тело знает больше, чем ее ум.
— Наш вам совет, барышня, то есть госпожа: держитесь отсюда подальше.
Несмотря на этот совет, иногда посреди ночи, когда стражники, пренебрегая своими обязанностями, дремали, а сам узник забывался в тяжелом сне, Саломея тайком пробиралась из своей спальни к его яме. Она садилась на решетку и смотрела вниз. При слабом свете коридорной лампы она почти ничего не видела, но испытывала какое-то неясное волнение. Иногда Саломея ложилась лицом вниз на холодные, ржавые железные прутья, и проснувшийся Иоанн видел две маленьких груди, прижатые к решетке, раскинутые руки, девичье тело, неподвижно застывшее в позе пловца. Они смотрели друг на друга и оба молчали. Олоферн… Что они имели в виду?
В Назарете Иисус готовился к первой ступени своей миссии. Как-то раз когда он шел с работы, довольный тем, что мастерская в хороших руках и будет приносить матери достаточно денег, его остановил Иофам:
— Такое хорошее дело, а ты оставляешь его на этого деревенщину. Знаю я эту семейку. Среди них нет стоящих людей.
— Я не сомневаюсь, что ты присмотришь за ним.
— Буду глядеть в оба. Все опилки пересчитаю. Никому из их семейки не доверяю, а твоя мать — не деловая женщина. Я ее годами обсчитывал, она же так ничего и не заметила.
— Ах, Иофам, Иофам! Старый лгун! Но я должен делать то, что мне предназначено.
— Следовать за этим Иоанном Крестителем, как его называют?
— Можно сказать и так. Да, я последую за ним.
— В тюрьму? На смерть?
— Если потребуется.
Иофам тяжело вздохнул:
— Ты безумец, конечно. Ты пополняешь собой мировое безумие. Миру нужны добропорядочные, уважаемые люди, которые занимаются каким-то ремеслом, которые видят, что времена нынче скверные, и держатся от скверны подальше. А ты идешь неизвестно куда. Тьфу! В некотором смысле хорошо, что твоего отца — порядочный был человек! — уже нет в живых. Он, по крайней мере, не видит этого позора. Говорю тебе, все вокруг безумие и скверна!
Иисус улыбнулся. Дома, в разговоре с матерью, он сказал:
— Я ухожу на сорок дней и сорок ночей.
— Почему? Почему? — Немного осерчав, Мария вывалила ему на блюдо еще баранины в пряном соусе и с шумом плюхнула на стол буханку хлеба из пекарни Иофама. — Ешь. Ешь сколько сможешь, сынок. — И снова: — Почему?
— Я должен подвергнуть испытанию свою стойкость против зла. Я должен испытать ее на нижнем пределе моих сил.
— В пустыне? Но в пустыне нет зла. Зло — в том мире, который создал человек. Нет нужды говорить тебе об этом. Ты убьешь себя, и это будет единственное зло, которое ты найдешь в пустыне. Ты потеряешь сознание и высохнешь, тебя съедят стервятники!
— Думаю, этого не произойдет. Я крепкий. Последние тридцать лет ты хорошо кормила меня. Я буду пить воду, когда смогу найти ее.
— Когда сможешь найти!
— Зло… — произнес он. — В тебе, мама, нет зла, но в себе я иногда слышу вой демонов. В мире есть два вида зла: одно происходит по воле самого человека, другое вползает в него вопреки этой воле, при содействии дьявола. Я должен открыться отцу зла и победить его. Он будет искушать меня, чтобы я соединил свою волю с его волей — на свою погибель. Но меня ему не одолеть. Потом, через сорок дней и сорок ночей, я смогу идти дальше и бороться со злом, которое творит человек. И с бесами тоже, ибо от них исходит зло. Невинность поражается злом из вместилища зла, — добавил он, дочиста вытерев блюдо куском хлеба.
Проглотив хлеб, Иисус невнятно произнес:
— Ты не должна тревожиться.
— Не должна что?
— Тревожиться.
Этой ночью он спал крепко и проснулся с первыми петухами. В утренней прохладе, стараясь не разбудить мать, он как следует напился воды из колодца и вышел на пустынную улицу. Небо на горизонте начинало светлеть. Иисус пошел на восток — в сторону пустыни. Петухи кричали так, будто сам дьявол бросал ему вызов.
КНИГА 3
ПЕРВОЕ
Через десять дней Иисус нашел сверкавший на солнце чистый родник. Начав пить, он увидел в воде худое, изможденное лицо, которое приближалось, чтобы коснуться его языка своим. Он улыбнулся, и отражение ответило ему измученной улыбкой.
Образы, лица и голоса, которые наплывали на него во время тяжелого, беспокойного сна, его бредовые видения в полуденное время были — он знал это — плодом его больного воображения. И только один голос — голос матери — возвращал его в то состояние, которое люди вроде Иофама назвали бы здравомыслием.
«Я неважно себя чувствую, сын, а ухаживать за мной некому. Возвращайся немедленно. По милости Божьей я могу говорить с тобой, когда ты так далеко, и знаю, что ты меня слышишь. Возвращайся, сынок. Я чувствую боль в правом боку — словно оружие пронзает его. Я едва могу дышать. Я не перенесу этой муки. Возвращайся скорее».
Был ясный день, и казалось, что голос звучал не в его собственной голове, а шел от скопления небольших скал, усеянных белыми иссушенными костями птиц.
— Нет, мама, я не могу, ты знаешь.
«Оружие проходит мое сердце, сын. Сбывается пророчество, которое я слышала в Вифлееме. Немедленно возвращайся к своей матери. Дай мне исцелиться. Давай будем снова счастливо жить вместе».
— Я должен забыть взятое на себя обязательство и жить, как живут другие?
«Ах, мой дорогой сын, об этом мы поговорим в другой раз — когда мне будет лучше. Ты знаешь, что ты должен делать. Боль нестерпима. Возвращайся ко мне. Я попрошу жену Иофама, чтобы она приготовила для тебя тушеную баранину с травами и свежий хлеб. Ты голоден, ты болен. Я умираю от мысли, что ты погибаешь в пустыне».
Иисус горько усмехнулся:
— Итак, наконец-то ты появляешься. Слышен только голос, но я чувствую твое присутствие по запаху. Прочь, отец зла!
«Сын, сын, ты бормочешь глупости, в твоих словах нет смысла. С тобой говорит твоя любящая мать. О, как я страдаю!»
— Я затыкаю уши, чтобы не слышать тебя. Ты хорошо подражаешь голосу моей матери, но интонация выдает тебя: там, где ее голос падает, твой — повышается. Можешь говорить дальше, если хочешь, но твои старания напрасны.
Затем наступила тишина. Часом позже раздался пронзительный страдальческий крик: «Исцели, исцели меня, сын! Сними мою боль! Я не в силах перенести ее!»
— Нет, я не пойду домой.
«Тебе, разыскивающему зло, нужно заглянуть в свое собственное сердце. Ты злой мальчик! О, боль сжигает меня, как огонь!»
Иисус заколебался. Это был стон его матери, и он заставил его вздрогнуть. Он посмотрел на запад — в сторону дома. Его мать больна, и сам он болен. Здесь он не может сотворить добро. Зло — в мире людей, и он должен немедленно напрячь все свои силы, чтобы сразиться с ним. Высоко в небе кружили стервятники: один, два, три… Они всегда чувствуют, когда их ждет такой подарок, как высохшее мясо. Еще немного, и они жадно сорвут с падали ее отвратительный покров, затем сокрушительный удар клюва, и вот уже выдрана первая большая полоса сухого, но вкусного мяса, а под ней самое лакомое — влажная, мягкая плоть.
«О, хвала Господу! Ты идешь домой! Мне нужны твои утешающие руки, твой умиротворяющий голос!»
— Нет! — Иисус стал громко молиться, а голос извне старался заглушить его молитву. — Отец мой небесный, дай мне силы не слушать нечестивых советов!
«О сын мой, ты слишком болен, ты впадаешь в безумие!»
— Безумие?! Безумие?! — вскричал он. — Это не голос моей матери! Звучание слова похоже, но сходства все же не достаточно. Ты плохо стараешься, отец зла!
Со стороны тех же скал послышался хриплый смех.
— Теперь она от нас никуда не денется! — произнес незнакомый мужской голос. — Только она чуть ослабела, тут мы ее и сцапали! Ты хороший, очень хороший сын!
Иисус улыбнулся с облегчением:
— Наконец-то ты действуешь открыто! Скоро ли я тебя увижу? И в каком облике? В облике светоносного — самого прекрасного из ангелов?
Ответа не последовало. После этого тишина стояла много дней. Так много, что Иисус потерял им счет. Он ушел далеко от того места, хотя знал, что оно не более нечистое, чем любое другое, оскверненное присутствием зла. Но он осознавал, что то место было отмечено еще и позором соблазна, которому он едва не уступил. Однажды, на закате, Иисус отдыхал поблизости от скалы, которая своими очертаниями напоминала гигантский гниющий собачий клык. Вдруг зазубренная вершина скалы начала таять и колыхаться, а затем приняла форму лица с длинным носом и иззубренным ртом. В глазах-трещинах угнездились светлячки. Иисус заговорил первым:
— Почему ты не являешься в твоем собственном облике?
Иззубренный рот заговорил — с той же интонацией и тем же голосом, что и сам Иисус:
— Ага, ты имеешь в виду облик светоносного — самого прекрасного из ангелов. — Затем голос зазвучал с таким лязгом, будто рассыпались сложенные в кучу римские копья: — Но ведь падшего, падшего ангела — так это и было записано! Ты уже знаешь, а если не знаешь, то тебе следует знать, что эту историю перевирают. Падшим-то был как раз Бог, а не я. Как ты воспринимаешь меня — как видение, вышедшее из твоих голодных кишок?
— О нет. Я ждал тебя. В некотором смысле я могу быть доволен — наконец-то я оказался в присутствии первого и последнего зла на земле.
— Последнего, говоришь? Ты признаешь законченность? Ты думаешь, что все это закончится вместе со мной, что старик со стоном растает, уступив тебе победу?
— Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Зло, которое было еще до того, как человек сам познал, что такое зло. Последний враг. Гниль, которая лежит в основе всего остального зла.
— У тебя задатки оратора. Только не говори больше о гнили. Если зло пахнет дурно, то пахнет ли добро лепестками роз? Скоро ты договоришься до того, что станешь утверждать, будто Бог хорош, поскольку гранат очень хорош на вкус. Осторожнее обращайся со словами. В мире есть вещи, которые гораздо больше слов. Невозможно передать словами, что такое любовь, мир, покой.
— Странно слышать от тебя слово «любовь».
— Почему же странно? Совокупление мужчины и женщины, пенис во влагалище, семя подступает, семя извергается, сладкий судорожный рывок, громкий крик… Впрочем, тебе эти вещи знакомы. И все это моя сфера.
— «Любовь» — это слово, которым я воспользовался, чтобы…
— Я воспользовался им первым, малыш. И тогда Адам познал свою жену. Знание, познание… Плод от древа, что может быть слаще? Смотри!
И Иисус увидел. Он увидел себя со своей покойной женой Сарой, снова живой и более чем оживленной в постели. Лежа на ней, он работал, как насос, выражение его лица было бессмысленно, рот полуоткрыт, вот его губы раскрылись шире, он исторг из себя крик, и семя потоком хлынуло в Сару.
— Это освящено Всевышним, — произнес Иисус. — Так зарождаются души человеческие.
— Ты не произвел на свет ни единой человеческой души. Нет, нет, только не говори, что ты плохо старался. И помни, что любовь не интересуют человеческие души, она думает только о себе.
— Таков умысел Божий. Только Бог способен творить, лишь ум Господень занят творением.
— Хорошо, а если ум Господень оставить в покое? Тогда высвобождается место для твоего покорного слуги.
— Слуги, который сказал, что служить не будет?
— Ты, молодой человек, донельзя буквален! И по-моему, напрочь лишен чувства юмора. Что касается меня, то я люблю смех. Смотри и слушай!
Пустыня ожила от ярких огней. Обнаженные девицы, пухлые и стройные, с восторженными стонами отдавались своим блестевшим от пота любовникам, волосатые лапы которых впивались в их дергающиеся бедра.
— Наслаждение! — произнес голос. — И никаких мыслей о добре и зле. Какие же это унылые понятия! А, я вижу, твоя собственная плоть волнуется. Ты ведь человек, в конце концов. О, смотри, и ты среди них — большой и голый. Видишь, то, что ты делаешь, имеет мало общего с заселением Царства Божьего человеческими душами. Это то, чем ты мечтал заниматься с Сарой, но был слишком робким, чтобы пойти дальше мечтаний. А теперь смотри, куда извергается твое семя. Это не создаст новых душ. Но о чем тут беспокоиться? Разве от этого есть какой-то вред? Смотри, как вы оба счастливы — ты и эта женщина, не важно, кто она. Прислушайся, какой восторг! Они смеются, они счастливы. А какие унылые предложения ты собираешься сделать миру?
— Не будешь ли ты столь любезен разогнать это пустое видение? — сказал Иисус. — Ты мог бы придумать и более основательные соблазны. Это все выглядит очень по-детски.
Невидимая сила послушно рассеяла видение, но больше ничего не произошло — вокруг была только холодная ночь. Иисус нашел место для ночлега в каменистой расщелине, однако озноб мешал ему заснуть. Он почувствовал некоторое облегчение, когда увидел сначала колеблющийся свет фонаря, а затем и человека, который нес его, шагая в сторону Иисуса. Человек этот был средних лет, совершенно лыс, одет в белое, лицо гладко выбрито. Подойдя к Иисусу, он сказал:
— Вот встречаются два ночных странника. Благодарение Богу, что я нашел человека, с которым могу скоротать эту ночь, с ее холодом, звуками и отвратительными видениями, порожденными голодом. Далеко направляешься?
Продолжая говорить, человек очень быстро сложил костер, уверенно отыскав при слабом свете фонаря сухие прутья и ветки, затем достал из складок одежды пучок соломы и два кремня, чтобы зажечь огонь.
— Я проделал долгий путь — с самых греческих островов, — сказал человек.
Насторожившись, Иисус молча наблюдал за ним.
— Ты не спрашиваешь, что я ищу здесь, в Палестине?
— Не спрашиваю.
— Ага, по крайней мере, ты умеешь говорить! Как ты считаешь, мой арамейский достаточно понятен?
Костер ярко запылал, и человек подбросил в огонь хвороста.
— Не лучшее средство, чтобы проникать в глубины истины. Я имею в виду арамейский язык. Такие понятия, как «Бог», «закон», в арамейском, да и в еврейском, кстати, обросли условностями, предрассудками и племенными предубеждениями. Ты понимаешь, о чем я? Я не слишком быстро говорю? Или, может быть, ты считаешь, что здесь не место и не время для таких разговоров?
— Ты знаешь, кто я? — спросил Иисус.
— Какая нам нужда называть свои имена? Судя по твоему виду и по тому, что ты избрал местом обитания пустыню, я бы сказал, что ты святой отшельник, который пришел сюда, чтобы размышлять о вечных тайнах Бога, о добре и зле. Я не ошибся?
— Оставь меня, — сказал Иисус. — Затопчи свой костер, если хочешь. Разведи где-нибудь другой. Может быть, ты и выглядишь греком, но все же ты — отец лжи.
Человек усмехнулся:
— Ты делаешь мне большую честь. Я вообще не отец чего бы то ни было. Если бы я знал, что такое ложь, я знал бы, что такое истина. Возможно, истину знаешь ты. Возможно, сам Бог, если Он существует, направил меня к тебе. Подумай только, поговорив с тобой и вооружившись истиной, я поспешу назад на греческие острова и посею там зубы дракона, если тебе известен этот образ. Не уделишь ли ты мне час для беседы?
— В Писании сказано…
— Ах, нет, нет! — молниеносно прервал его грек. — Пожалуйста, не забывай, что я не был воспитан на священных еврейских книгах. Утверждение, подтверждение, опровержение, низвержение… О нет, ваши тексты мне не помогут. Я шел сюда, чтобы просветить свой разум. Вероятно, я не туда попал. Молчишь. Возможно, ты опасаешься обнаженного клинка разума и предпочитаешь вести скучную, утомительную игру цитатами. Даже если я был бы отцом лжи, как ты меня назвал, — нелепость из нелепостей! — разум все-таки остается разумом. Разум стоит отдельно от Бога и дьявола, одинаково равнодушный и к громовым словам одного, и к льстивым речам другого.
— Что ты хочешь знать? — спросил Иисус.
— Вот это уже гораздо лучше! Я хочу знать, необходимо ли миру, да, по сути, и Вселенной, зло. Ты сам, вероятно, иногда используешь выражение «неизбежное зло». Наши обычные высказывания часто содержат в себе глубокие истины. Так ответь мне, неизбежно ли зло?
— Можно сказать, что благодаря существованию зла ярче сияет доброта Бога. И если Божьи создания сотворены таким образом, что они свободны в своем выборе, тогда должно существовать добро и еще что-то другое, чтобы между ними можно было выбирать.
— Следовательно, зло необходимо?
— Нет, оно не необходимо. Зло — следствие свободы воли. А вот свобода воли необходима.
— Какой же у тебя туман в мыслях, когда ты не можешь опереться на глинобитные стены своих текстов!
— Никакого тумана, грек. Да, в сущности, не важно, грек ты, или отец лжи, или кто еще. Бог позволяет человеку выбирать добро или не выбирать добро. Если человек не выбирает добро, он выбирает не добро. Это не обязательно зло. Но из-за того, что под влиянием отца лжи человек лишается воли, он очень часто выбирает именно зло.
— И что же, Бог недостаточно велик, чтобы уничтожить на земле это зло?
— Прежде Богу пришлось бы уничтожить право человека на свободный выбор. Он не сделает этого.
— Ты говоришь так, будто посвящен в мысли Бога.
— Бог — во мне. Я — в Боге.
— Может быть, ты и есть Бог?
— Я — от Бога. Бог — не существо из плоти.
— От Бога? Ты претендуешь на какое-то родство с Богом? Может быть, ты сын Божий?
Иисус промолчал.
— Странная химера, если это слово тебе знакомо. Плоть, происходящая от чистого духа!
Несмотря на тепло, исходившее от костра, Иисуса начала бить дрожь. Грек это сразу же заметил:
— Очень даже человеческая плоть!
— Плоть, рожденная женщиной, — произнес Иисус, дрожа всем телом, — но не мужчиной и женщиной. Дух — от субстанции Бога, который есть Бог Отец. Эта плоть и этот дух — того, кто должен был явиться и кто уже явился и чье присутствие будет явлено миру. Мессии.
— Будет явлено! — улыбнулся грек, начав таять, как свечное сало. — То есть при условии, что ты пройдешь через это испытание в пустыне. А если пройдешь через него, станешь Мессией для небольшого, малозначительного народа. Но ведь мир есть и за пределами Палестины. И каким же образом ты — слово Божье, ставшее плотию, — будешь явлен хотя бы тем немытым и забитым туземцам, чьи туманные диалекты вовсе не приспособлены к высказыванию суждений и доводов? Через все то же слово Божье? А как же этим немытым понять, что явленное им слово — именно Божье? Я знаю — ты будешь проделывать разные штуки, чтобы они рты пораскрывали от удивления. Будешь превращать воду в вино, исцелять истерическую слепоту и паралич. Тебе знакомо слово «истерический»? Ты будешь добиваться своего всяческими фокусами, но не словом Божьим, каким бы оно ни было, это слово. Любите друг друга, дети мои! Любите Бога, которого вы никогда не видели! Прекратите творить зло, иначе огонь поразит вас! Но люди уже множество раз слышали подобные речи. Потому-то ты и должен подавать все это под соусом из чудес, если тебе знакомо слово «соус». Ты вызываешь у меня отвращение!
Сальный рот расплылся вместе с сальным подбородком. Фонарь тоже превратился в сало. Ком сала, который еще совсем недавно был отцом лжи, скатился в костер, тот ярко вспыхнул на мгновенье и затем погас. Со стороны встающей в небе луны донесся смех.
Дни потянулись дальше, посещения прекратились. Затем однажды в голодном бреду Иисус обошел какую-то скалу и наткнулся на стол, заставленный яствами. Наверное, ни о чем другом и не может грезить человек, находящийся в помраченном от голода состоянии: теплый ячменный отвар, сладкий золотистый крем, не вино, но виноградный сок, кусочки цыпленка в кипящем бульоне. Иисус отвернулся от стола и подошел к луже стоячей воды, в которой пританцовывал слабый лунный свет. Лужа заговорила: «Мессия? Царь? И в рубище?» Иисус напился, затем медленно произнес:
— Ты знаешь, что я не ищу земного царства.
«Тогда оставь землю. Умри, — сказал истаивающий в воздухе стол. — Найди другое царство».
— Бог сам отмерит мне срок.
«Голоден, да? Подобно другим существам из плоти? Изнемогаешь, терзаемый голодом? Твой желудок сводит от мук? Сын Божий должен быть выше всего этого. Если ты действительно Сын Божий».
Сын Божий? Что означает эта фраза? Иисус с тоской глядел на растворяющийся в воздухе призрак сладкого крема. Сын Божий? Что происходит? Скрючившись у края лужи, Иисус впал в дремотное состояние, и ему почти хотелось, чтобы это был его последний сон. «Найди другое царство». Тем не менее на рассвете он, как всегда, проснулся, услышав голос — он шел со стороны скалы, окрашенной в удивительно нежный розовый цвет: «Если ты действительно Сын Божий, почему бы тебе не превратить эти камни в хлеб? Пусть не роскошный завтрак, пусть вполне обычный, но ведь завтрак. Давай, сделай это!»
— Ты знаешь Писание, — пробормотал Иисус почти беззвучно. — Там сказано: «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек»[88].
«Не совсем понятно, при чем тут это. Пойдем. Еще одно видение. Рассвет — самое подходящее время для видений».
Иисус с таким трудом повернул свою отяжелевшую голову, что мог слышать скрип сухожилий — будто ветку отрывали от дерева. Неожиданно он оказался на вершине горы, с которой мог обозревать огромные пространства. Теперь голос доносился со стороны восходящего солнца: «Если ты действительно Сын Божий, бросайся вниз. Припоминаю строчки из одного псалма твоего почтенного предка — из девяностого, кажется».
— Ты знаешь Писание, — слабым голосом сказал Иисус. — Мне известно, что ты знаешь Писание.
— «Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею»[89].
— Хорошо цитируешь, отец… отец…
Фраза осталась незаконченной. Слово «лжи» не прозвучало.
«Так давай же — прыгай! А внизу тебя подхватят ангелы, чтобы ты не сломал свою святую шею».
Тщательно выговаривая слова, Иисус произнес:
— В Книге Второзаконие сказано: «Не искушайте Господа, Бога вашего».
«Глава восьмая, стих третий![90] Прекрасно!»
Иисус отвернулся от солнца, но увидел, что единственная тропа ведет на еще более высокую гору. Далеко внизу, залитый лучами восходящего солнца, лежал Иерусалим. Стоявший рядом куст терновника заговорил: «Там Иерусалим. Я ведь обещал тебе видение. Святой город, как его называют. Но это могли бы быть и Рим, и Александрия, и Афины. Или какой-нибудь другой город, еще не построенный. Всем нам известно, чего ты хочешь. Власти».
Иисус попытался отвернуться от сверкающего видения, но в этот момент город начал меняться. Изменялось расположение башен, домов, улиц. Иерусалим превращался в какой-то город, которого он никогда не видел. Тут Иисус обнаружил, что тропа, по которой он шел, загромождена большими камнями. Скала с острыми изломами заговорила с ним щелью, похожей на искривленный рот: «С этим твоим постом в пустыне все ясно. Ты испытываешь на крепость свою плоть, ибо власть твоя должна быть властью плоти и плотью ты должен править. Забудь всю эту чепуху про Сына Божьего! Как месиво из плоти, крови и нервов может быть порождением духа? Ага, я вижу, ты уже колеблешься. Вижу это по твоим глазам. Власть реальна. Она временна, но ощутима. Сначала обрети власть, а потом навязывай свои взгляды. И ведь ты можешь обрести власть. Это дело простое. Очень простое».
Новые силы вливались в Иисуса. Ему казалось, что конец его соблазнам близок и что скоро наступит минута, когда, прекратив свой долгий пост, он отправится домой. Иисус карабкался со скалы на скалу и вдруг вновь оказался среди пустыни. Перед ним встал огромный камень, который произнес: «Встань передо мной на колени. Это не более чем условность. Считай, просто учтивость. И тогда все вокруг — твое, ты обретешь господство над миром людей. Смотри же!»
И Иисус увидел. Он увидел себя — среди огромных мраморных колонн, с золотой короной на голове, в одежде из струящегося пурпурного шелка. Гремят трубы, толпы людей шумно приветствуют его и падают перед ним ниц.
«Давай же! Встань на колени, и все это — твое!»
— Ты мне надоел, — произнес Иисус. — В Книге Второзаконие…
«Глава шестая, стих тринадцатый!»
— …Сказано: «Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи».
Ответа не последовало — только глухой смешок. Иисус устало улыбнулся, повернулся и увидел пасторальный пейзаж с протекавшей впереди речкой. Он подошел к воде и напился. Рядом стоял куст с блестящими черными ягодами. Осторожно нарвав ягод, Иисус начал есть, но обнаружил, что у него нет аппетита. Он увидел пастуха, пасшего овец, услышал звон овечьего колокольчика, журчащие звуки флейты. Иисус набрал еще ягод и почувствовал легкий голод. Вскоре рот его наполнился слюной.
ВТОРОЕ
Говорят, что Иисус возвратился в Назарет в субботу утром и, даже не зайдя домой, чтобы отдохнуть и поесть, сразу направился в синагогу. «Бессердечный сын, бессердечный!» — говорил Иофам, и Мария согласно кивала головой. Слова у Иофама всегда шли впереди разумения.
Иисус сидел в синагоге — тощий, большеглазый, чужой среди прихожан, смотревших на него враждебно или с опаской. Все они знали о его сорокадневном пребывании в пустыне. И это им не нравилось. Рабби тоже был напуган чем-то таким, чего никак не мог ухватить сознанием, и все же он посчитал себя обязанным обратиться к Иисусу.
— Прочтешь что-нибудь из Писания? — спросил он.
Иисус поднялся, и всем стала видна его худоба. Он подошел к грубой подставке для книг и стал к людям лицом — с огромными глазами, изможденный, но очень высокий и мускулистый. Ему недоставало только мяса на костях. Это бросалось в глаза. Среди прихожан Иисус заметил двух молодых людей, лица которых выражали пристальное внимание, но враждебными не казались. Он подумал, что лица эти ему не знакомы. Развернув свиток, Иисус смело окинул взглядом холодные, испуганные, враждебные лица и заговорил:
— Книга пророка Исаии. В ней сказано: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам — открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное»[91].
Он свернул свиток, затем отчетливо произнес:
— Ныне реченное в Писании исполнилось. Говорю вам это по секрету.
Некоторое время стояла тишина, затем послышалось бормотание. Иисус возвратился на свое место. Какой-то старик встал и выкрикнул:
— Он сын плотника Иосифа! Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что реченное в Писании исполнилось?! Кто ты такой, чтобы рассуждать здесь об исцелении сокрушенных сердцем?!
Ободренные этим выступлением, закричали и другие: «Вот именно! Какой-то плотник берется толковать Закон! Что он о себе возомнил?! Какое право он имеет говорить о благовествовании нищим?!» И еще много всего в том же духе. Иисус заметил, что на губах кричавшего человека, который, как он знал, грешил ростовщичеством, появилась пена. Он снова встал и громко сказал:
— Позвольте мне повторить вам старую истину. Никакой пророк не принимается в своем отечестве. И еще одна истина из Писания. Во времена пророка Елисея среди народа Израилева было много прокаженных. И ни один от проказы не очистился, ни один из сыновей и дочерей Израиля. А единственный, кто исцелился от проказы, был Нееман, и был он не израильтянин, а сириец[92].
Негодование присутствующих усилилось. Встревоженный рабби — а это был старик Гомер — подошел к Иисусу и сказал:
— Не говори больше ничего. Это Божий дом. Негоже, когда он становится местом, где шумят и ссорятся. Уходи.
Иисус медленно кивнул и посмотрел в сторону галереи, где сидели женщины. Среди них он увидел свою мать. Он снова кивнул — на этот раз еще медленнее — и больше ничем не показывал, что узнал ее, что сожалеет, раскаивается и любит ее. Он направился к выходу, слыша за спиной: «Недостойный человек. Богохульник. Сын плотника, а ведет себя так, будто пророк! Кем он мнит себя, в конце концов?» — и тому подобное прочее. Выйдя, Иисус остановился в трех шагах от входа в синагогу, обернулся и подождал. Немного погодя вслед за ним вышли те два молодых человека, что внимательно слушали его в синагоге. Один был рослый и смуглый и слегка прихрамывал, другой — более хрупкого телосложения. Первый заговорил:
— Нам посоветовали обратиться к тебе. Я — Андрей, рыбак, но теперь я твой последователь, если ты не будешь против. А это Филипп.
Филипп сказал:
— Я занимаюсь не таким полезным делом. Точнее, занимался. Теперь ты должен дать мне новое ремесло.
— И каков же род твоих занятий? — спросил Иисус.
— Я певец и сочиняю песни.
— Кто посоветовал вам обратиться ко мне?
Рабби Гомер вышел наружу, опередив толпу прихожан, гнев которых все нарастал. Он вмешался в разговор:
— Они готовы изгнать тебя из города. Уезжай сам, и уезжай скорее! — А затем торопливо добавил: — Мне жаль, что все так вышло.
Во взгляде его можно было прочитать, что он извиняется за свою паству, которой не хватило учтивости, воображения и порядочности, и что Иисус, как ему, рабби, кажется, пытается открыть именно ту дверь, которая, возможно, и должна быть открыта, но здесь… сейчас… может быть, все-таки лучше не…
— Нас послал к тебе Иоанн, Иоанн Креститель, пророк, — ответил Иисусу Андрей.
Рабби услышал это, и лицо его приняло горестное выражение. Происходят, начинают происходить какие-то события, когда он уже стар и ему нужен покой! Он повернулся и простер свои немощные руки в сторону прихожан, надеясь сдержать поток разъяренных людей, уже приготовившихся бросать камни. Вот один бросил камень, другой, третий…
— Видите, — сказал Иисус, — здесь, в Назарете, нам больше нечего делать.
Толпа вопила, чтобы он, богохульник, больше здесь не показывался, убирался вон из города и все такое прочее. Острый камень угодил Филиппу в левую щеку, из раны пошла кровь. Он улыбнулся. Иисус сказал:
— Итак, мы отправляемся в путь.
Но он не сразу отвернулся от озлобленных назарян. Он двинулся в их сторону, и некоторые отступили. Но многие все же продолжали швырять камни.
— Пошли к озеру[93], — сказал Андрей. — По-моему, хорошая мысль — идти к озеру, а? В Капернаум, где живет мой брат, Симон. Тебе надо с ним познакомиться.
— Хорошо, сначала в Капернаум, — ответил Иисус. — С твоим братом я встречусь позже.
И они тронулись в путь. Андрей шел прихрамывая, взгляд у него был суровый и решительный. По просьбе Иисуса Филипп спел несколько своих песен. Одна из них начиналась словами:
Когда деревьям О любви кричать? Нет, не весной, А в утро сотворения.В некоторых песнях рассказывалось о девчонках, в некоторых — о вине. Это были простые, непритязательные песенки, и голос у Филиппа был приятный, хотя и не сильный. Когда они пришли в Капернаум, с озера дул прохладный ветер. Иисус сказал:
— Идем в синагогу.
— Конечно, — отозвался Андрей.
В синагоге Иисуса встретили довольно благожелательно. Для здешних прихожан споры и дискуссии не были чем-то необычным. Они выслушивали говорящего и шумно выражали свое мнение. Если они соглашались, то очень громко. Эти люди совсем не были похожи на назарян. Иисус сказал:
— Вы не должны думать, что я пришел сокрушать Закон или опровергать пророков. Не разрушить я пришел, но исполнить. Однако заповеди, данные Господом в давние времена Моисею, не должны оставаться мертвыми камнями, которым поклоняются неповоротливые умы…
— Мертвые камни?! — возмутился небольшого роста жилистый волосатый человек. — Скрижали с Законом, по-твоему, мертвые камни?! Мертвые?!
— Камни, — ответил Иисус, — это то, на чем начертан Закон, сам же Закон жив, как как жива сама плоть — плоть и кровь. Человек создан из плоти и крови, и он изменяется, хотя остается тем же самым человеком. Верно?
Некоторые пожимали плечами, неохотно соглашаясь, другие теребили бороды, как бы показывая, что предпочитают стоять на своем и в ответе «нет, неверно» есть определенный смысл. Иисус продолжал:
— Возьмем теперь одну из заповедей — «Не убивай». Всякому совершившему убийство — так нам заповедано — грозит Божья кара. Я принимаю это, и все мы принимаем это. Но прошу вас задуматься над вопросом: почему человек совершает убийство?
Молодой человек крепкого сложения, с красиво ниспадавшими длинными волосами, тотчас ответил:
— Из ненависти.
— Ты отвечаешь не задумываясь, и ответ твой верен, — сказал Иисус. — Посему к этой старой заповеди нам следует добавить еще одну — новую, которая только кажется новой, поскольку суть ее заложена в старой: не поддавайся ненависти! Ибо ненавидеть — значит убить в душе. Итак, если ненавидишь ближнего своего — бойся кары Божьей…
Пожилой человек со спокойным лицом мягко возразил:
— Это слишком смелое утверждение. Гнев — естественное чувство для человека. Всех нас иногда охватывает гнев.
— Такова человеческая природа! — добавил волосатый жилистый человек.
— Ну что же, раз мы учимся не совершать убийства, то должны учиться и не впадать в гнев, — сказал Иисус. — Мы не скоры на убийство, потому что знаем Закон. И теперь мы должны установить в наших душах закон, который велел бы нам избегать ненависти и гнева, как если бы ненависть и гнев были равносильны убийству. Но я иду дальше. Я утверждаю: если ты называешь ближнего своего глупцом, говоря ему: «Будь ты проклят, дурак!» — тебе так же грозит геенна огненная, как если бы ты занес над ним нож.
Иисус улыбнулся, услышав протестующие возгласы:
— О нет, это уж слишком!
— Выходит, нам вообще ничего не разрешено!
— Я и говорю — такова природа человеческая!
— «Дурак ты эдакий!» — да мы произносим это по десять раз на день!
И тому подобное.
— Хорошо, — согласился Иисус, продолжая улыбаться, — я, кажется, несколько преувеличиваю. Но я хотел лишь сказать, что мы должны любить. Душа без любви несет в себе адский огонь. Разве не так?
— Да, может быть, тут есть некий перебор… может быть, может быть… но, с другой стороны, может быть… может быть, во всем этом что-то есть… — Молодой человек с красиво ниспадающими длинными волосами улыбался все шире и шире.
— В этом что-то есть? Что-то?! — воскликнул Иисус. — В этом есть все! Важно не то, что мир видит, и не то, о чем он судит, важно то, что находится внутри нас. Ад и Божья кара — все это в душе человеческой, так же как само Царство Небесное, ибо в душе человеческой — и ненависть, и любовь! Позвольте мне теперь рассмотреть другую заповедь Моисея — «Не прелюбодействуй». Какой можно сделать вывод из того, что я уже сказал ранее?
Как и следовало ожидать, этот вопрос был встречен смешками и ухмылками, словно речь зашла о вещах, отстаивать которые совершенно невозможно. Даже с губ Андрея улыбка не сходила целые три секунды. Какой-то человек, едва достигший, судя по его виду, среднего возраста, с большими, но красиво очерченными влажными губами, заметил:
— Из твоих рассуждений следует, что если я чувствую противозаконное влечение к чужой жене, то уже совершаю прелюбодеяние. Но если я вижу на улице привлекательную женщину, у меня часто возникает желание, поскольку такими нас сотворил Бог. И я не всегда могу сказать, замужняя эта женщина или нет. Получается, что ты превращаешь совершенно естественное желание в грех. Не спорю, желание может быть пагубным, но только в том случае, если оно влечет за собой действие. Ты говоришь вздор, господин.
Иисус очень добродушно улыбнулся, а ведь в такой ситуации, подумали Филипп и Андрей, их учитель Иоанн непременно стал бы метать громы и молнии.
— Да, мы можем любоваться и восхищаться женщинами, — сказал Иисус, — мы можем допустить возникновение первой вспышки вожделения, но едва ли будет честным по отношению к нашим женам, если мы не попытаемся избавиться от вожделения. Вам, кажется, все еще непонятен мой главный довод, смысл которого в том, что грех — это не деяние, совершаемое физически. Грех — здесь, внутри! — И он гулко ударил себя в грудь своим большим кулаком.
Жилистый волосатый человечек выкрикнул:
— И все же, учитель, деяние, совершаемое из плотской прихоти, доставляет наслаждение, коего нипочем не извлечешь, размышляя о том же самом. И если мысль о деянии столь же плоха, как и само деяние, то я все-таки в любом случае предпочту деяние!
При этих словах кое-кто рассмеялся, а Иисус ответил:
— Не в самом наслаждении кроется грех, хотя предвкушение наслаждения, конечно, ведет к греху.
В это время со стороны входа в синагогу послышался громкий, хотя и немного дрожащий, голос:
— Убирайся отсюда, Иисус! Оставь нас в покое! Ты нам здесь не нужен!
Это был человек лет шестидесяти, почти голый, с обвислой, иссеченной шрамами кожей. Он вполз в синагогу на четвереньках, но теперь, при виде Иисуса, встал на дыбы, как дикий зверь. Многие прихожане, кажется, знали его, некоторые побледнели и постарались незаметно уйти, другие прижались к стенам. Иисус улыбнулся так, словно бы узнал этого человека, но улыбка его не была радостной.
— Мы знаем тебя, Иисус! Все, кто здесь есть, знают тебя. Раккаба голафох! Подлый ублюдок! Сын бога-мясника, возвращайся пилить свое дерево, а нас оставь в покое!
— Успокойся! — сказал Иисус очень громко.
— Бери в руки свой большой жезл божий, оседлай его и скачи отсюда, ублюдок!
— Замолчи! — закричал Иисус. — Я приказываю вам, нечистые из преисподней: оставьте его! Оставьте его!
Изо рта человека вырвались странные, бессмысленные слова:
— Домуз хирос чанзир шасир нгуруве, — будто множество ртов издало единый вой глупой радости.
Тело бесноватого охватила сильная дрожь, он метался и подпрыгивал, а люди, прижимавшиеся к стене, готовы были вдавиться в нее от страха. Затем он забился в конвульсиях, послышалась серия громких неприличных звуков, и в воздухе распространилась отвратительная вонь, будто кто-то испустил чудовищные ветры.
— Там снаружи есть дерево, — почти обыденным тоном сказал Иисус вслед уходящим бесам. — Гнездитесь на нем.
Над телом бесноватого, который уже не дергался, а только страшно храпел, склонились два человека, и Иисус обратился к ним со следующими словами:
— Отведите его домой. Уложите в постель. К заходу солнца он будет здоров.
Когда обмякшего, издающего хрипы человека вынесли из синагоги, Иисус продолжил свои рассуждения так, будто ничего особенного не произошло, хотя заметно было, что распространяться дальше на тему мысленного прелюбодеяния ему уже не очень-то хотелось.
— Вы слышали — так было сказано еще в древние времена, — что за глаз нужно отдавать глаз, а за зуб — зуб. А я говорю вам: не противьтесь злому; если кто ударит вас в правую щеку, обратите к нему и другую. Можете смеяться, если хотите, но все-таки задумайтесь: возможно, то, что я говорю, основано на некотором знании этого мира. Когда вы ударяете человека, удовольствие доставляет не сам удар, а возбуждение, порожденное негодованием и злобой. А что, если не поддаваться этому возбуждению? Тогда ваши насильственные действия потеряют всякий смысл. Я не прошу от вас многого — лишь готовности научиться управлять своими чувствами. Если злу будет противостоять не зло, а любовь, то есть некоторая надежда, что мы построим Царство Небесное.
Дородный, сильно косящий человек неуклюже поднялся на ноги и пророкотал:
— Послушай, учитель, во всем этом я вижу определенную опасность. Поскольку ты обладаешь силой, какой никто из нас прежде не видывал…
— У меня не было намерения демонстрировать силу, о которой ты говоришь, — смиренно произнес Иисус. — Я не хотел поразить ваше воображение. Меня вынудил случай…
— Пусть так, но теперь, должно быть, ты ожидаешь, что мы будем принимать все, тобою сказанное, за истинные слова того, кто… Ну, думаю, здесь все понимают, что я имею в виду…
— Вы не должны принимать ничего такого, — твердо сказал Иисус, — чего не приемлют ваши души. А какая душа, скажите, отвергнет закон любви? Однако любви придется учиться долго. Прежде вы должны изгнать из своих душ демонов, куда более злых, нежели те, что терзали этого несчастного. Прежде всего, демонов привычки. Демонов легкого пути. Демонов того, что вы называете человеческой природой. Любить нелегко, но вы должны учиться жить по любви.
— Должны? Должны?!
— О нет, я никому ничего не приказываю. Бережно храните и лелейте бесценный дар — свободу выбора. Но если вы желаете Царства Небесного, тогда вы должны выбрать путь любви. Если же хотите ада в душах ваших, продолжайте жить с демонами привычек. Человек — создание свободное.
ТРЕТЬЕ
Когда Иисус, Филипп и Андрей направились к озеру, к ним присоединился тот крепкий юноша с красиво ниспадающими волосами, что говорил с Иисусом в синагоге. Он назвался Иоанном. По дороге он сказал:
— В нашей семье все рыбаки. Андрей нас хорошо знает. Но меня послали учиться.
— Наверное, учиться — это все, на что ты способен, — усмехнулся Андрей. — С сетями ты никогда особенно хорошо не управлялся.
— И чему же ты научился? — спросил Иисус.
— О, я узнал, что два и два в сумме дают четыре. Иногда. Что люди живут, главным образом, для того, чтобы их сбивали с ног. Что преуспеяние — отличная штука. Что рождение — начало смерти. Но кажется, слово «любовь» мне ни в одной из книг не попадалось.
Иисус улыбнулся.
Андрей указал рукой и произнес:
— Вон тот — Симон. Сегодня ты переночуешь у него.
На берегу Иисус увидел высокого крепкого человека, который с хмурым видом чинил разорванную сеть. Рядом стоял другой рыбак — молодой, чуть постарше Иоанна, с загорелым, обветренным лицом. Он был очень похож на Иоанна, но в его глазах, в чертах носа и рта таилось что-то такое, что делало лицо несколько грубоватым.
— Это Иаков и Симон, — сказал Андрей. — Иаков — брат Иоанна. Симон, Иаков, вот этот человек. Это о нем говорил Иоанн. Тот, другой Иоанн.
Симон взглянул на Иисуса не очень приветливо:
— Нынче много разных толков про большие перемены. А вот мне нужны только большие уловы.
— Как идет ловля? — спросил Иисус.
— Плохо, плохо и еще раз плохо! Рыба совсем не идет в сети. А тут еще мытарь ходит кругами. Говорю ему — сам лови свои подати. Бери мою сеть, садись в мою лодку и выходи на озеро. Рыба — вот мой заработок. Когда везет. А сейчас мне не везет, говорю ему. Если хочешь, чтобы я платил подати, скажи рыбе, чтобы она шла в сети.
— Все разговоры только о податях, — заговорил Иаков. — Он прав, однако. Что, Иоанн, увидел наконец свет? Бросил свое учение и вернулся на озеро?
— Я пойду с вами на ловлю, — сказал Иоанн.
— Только если хочешь проветриться, — молвил Симон. — Рыба не идет. Вчера был плохой день, и позавчера был плохой день. Завтра будет то же самое.
— Можно я тоже пойду с вами? — спросил Иисус.
— Вот и расскажешь про все рыбам, — проворчал Симон. — Про грядущие великие перемены и все такое прочее. Может, они соберутся вокруг и послушают.
Лодка Симона была достаточно велика, чтобы вместить не только ее хозяина, но также Иисуса, Андрея и Филиппа. Иаков с Иоанном устроились в лодке Иакова, которая была почти вдвое меньше. Когда они отплыли от берега, погода стояла тихая, а солнце уже клонилось к закату. Филипп запел:
Моя любовь за морями, И путь до нее далек, Сотни лиг между нами, Но верю, настанет срок — Меня к ней домчит ветерок.Иаков с Иоанном без труда заглушили эту песенку своей, более практичной:
Рыбка белая, рыбка красная, Чем живот набить — непонятно нам. Рыбка милая, ты нам нужная, Ведь пришло уже время ужина.— У них хорошие громкие голоса, — заметил Иисус.
— Они могут перекричать любую бурю, — согласился Симон. — Жаль только, что ради учебы Иоанн оставил наше ремесло. Хотя нет, пожалуй, не жаль. Это дело ничего ему не даст.
— Я думаю, вы будете ловцами человеков, — тихо сказал Иисус.
— Что? — переспросил Симон. — Я не совсем…
— Иаков и Иоанн, — произнес Иисус. — Сыны Громовы. Придет время, и нам понадобятся их громкие голоса.
«Сыны Громовы» в это время гремели:
Рыбка красная, рыбка белая, Покажи нам, какая ты смелая. Спинка черная и жемчужная, Не пожалуешь ли к нам на ужин ты?Они отплыли на пятьдесят локтей от берега. Иисус молвил:
— Все. Теперь забрасывайте ваши сети!
— Что? — удивился Симон. — А какой в этом прок?
— Забрасывайте! — настаивал Иисус. — Смотрите, как кишит рыба!
— Господи! — воскликнул Симон. — Быть этого не может!
Теперь уже никто не пел. Иисус присоединился к рыбакам и тоже тянул сеть. Их сети оказались до отказа наполнены бьющейся, сверкающей рыбой — серебристой, черной, серой, красной, золотистой.
— Лодка перегрузится! — кричал вечно недовольный Симон. — Рыбы слишком много!
— Бери, сколько сможешь, — сказал Иисус.
— Кто ты?! — укоризненно вопросил Симон. — Кто ты, будь ты неладен?!
— Сейчас не время для таких фундаментальных вопросов, — ответил Иисус. — Делай свою работу.
— Думаю, я знаю, кто ты, — сказал Симон. — Ты — он. Тогда скажу тебе прямо — мы этого не стоим. Мы — никто. Уходи от нас. Мы всего лишь простые рыбаки. Оставь нас.
— Ты просишь оставить вас в самый неподходящий для этого момент, — заметил Иисус, выбирая сеть. Перегруженная лодка осела почти до уключин.
В тот вечер весь Капернаум наполнился запахом жареной рыбы и чеснока. На следующий день плетельщики корзин с раннего утра были за работой, поскольку не хватило корзин, чтобы разнести по домам оставшуюся на берегу рыбу.
Двое корзинщиков, Наум и Малахия, фарисеи по убеждениям, ко всему новому относились с большой подозрительностью. Теперь они были заняты плетением, а одна женщина, ждавшая, когда будет готова ее корзина, заметила:
— Здорово у него с рыбой-то получилось.
— Кто он? Откуда он взялся? — хмуро сказал Наум. — Не нравится мне все это, скажу я вам. Такие дела нарушают установленный порядок. Это попахивает магией или чем-то вроде того.
— Верно, магия, — довольным тоном произнесла женщина. — Весь берег завален рыбой. А что в магии плохого?
— Магия — от дьявола, — сказал Малахия. — Мы слышали об изгнании бесов, которое он устроил в синагоге. Такое только дьяволу под силу.
— Где он теперь? — спросил у женщины Наум.
— В доме Симона. Он ночевал там. Исцелил мать Симона от лихорадки. Он и это умеет.
Тем временем у дверей небольшого дома, принадлежавшего Симону, собралось довольно много народу. Здесь были мужчины, страдающие катарактой, женщины с омертвением матки, хромые дети, паралитики, эпилептики. И все они требовали впустить их в дом. Потом началась неразбериха: группа мужчин и юношей попыталась разобрать крышу дома. Они хотели через верх опустить в дом носилки с парализованным стариком. Симон тоже был там — он тряс лестницу, по которой взбирались эти люди.
— Проклятье! Разве человек не имеет права на крышу над головой?! Эй, негодяи, будьте вы прокляты, сейчас же уносите его отсюда! Боже всемогущий, ну и наглость!
— Имеет он право на исцеление или нет? У всех здесь есть такое право, значит, есть и у него, ведь так?
— Опускайте его вниз, дурачье! Пусть дожидается своей очереди, как другие это делают! Проклятье, это моя крыша, оставьте ее в покое!
В это время в доме Иисус, занимаясь исцелениями, говорил:
— Вы слышали, что было сказано в давние времена: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Я же говорю вам: любите врагов ваших и молитесь за тех, кто преследует вас. Только так вы сможете стать истинными детьми Отца вашего Небесного. Ибо Он посылает дождь и добрым, и злым людям. Он повелевает солнцу светить в равной мере и праведникам, и грешникам.
Мать Симона суетилась вокруг него:
— Принести вина, господин? У тебя в горле пересохнет от всех этих разговоров. Вот, возьми немного пирога — сама испекла сегодня утром, своими собственными руками. Смотри-ка, мои руки неколебимы, как скала! А когда он пришел ко мне, — в который раз рассказывала она окружающим, — я вся тряслась и дрожала от лихорадки. Он пришел вчера вечером, а сегодня — взгляните-ка на меня! Да что же это такое?! Кто-то хочет снести крышу! Эй вы, наверху, сейчас же прекратите это!
Старика, лежавшего на носилках, с помощью веревок осторожно опустили в набитую до отказа комнату. Сверху донесся голос: «Эй там, берегите головы!»
Спустя короткое время Иисус громко произнес, обращаясь к присутствующим:
— Позвольте мне высказать всем вам одну вещь. Я опасаюсь, что некоторые из пришедших ко мне — через дверь или другим, менее ортодоксальным способом — явились вовсе не для того, чтобы услышать мои слова, но в надежде получить исцеление и увидеть чудо. Посмотрите, как эта нога избавляется от язвы и излечивается от хромоты. Как мне удается такое, Иаков?
— В тебе великая сила, — ответил Иаков. — Божья сила.
— Скажем лучше — сила любви. Совершенная любовь изгоняет страх, но она же изгоняет и зло. Зло души, так же как и зло плоти. Любовь, любовь! — неистово воскликнул Иисус. — Вы все слышите это слово?!
Однако внимание многих, в том числе и только что исцелившихся, отвлекло появление какого-то высокого человека, дорогу которому пробивали сквозь толпу двое нахмуренных верзил с палками. Человек этот был облачен в одежду из хорошего полотна, на плечи его был наброшен красивый шерстяной плащ. Толпа расступилась, чтобы Иисус и новоприбывший могли как следует рассмотреть друг друга. Корзинщик Наум заметил:
— Пришел собирать подати, да? Все здесь, словно специально для тебя собрались! Ни один не скроется!
В это время заговорил Иисус:
— Если вы любите тех, кто любит вас, какой еще награды можете ждать? Даже мытари и грешники способны на это. — Он улыбнулся вошедшему человеку, уже догадавшись, кто он, и спросил: — Разве не так?
— Обращаясь ко мне, ты кого имеешь в виду? — спросил высокий человек. — Мытаря или грешника?
— И того, и другого, — проворчал Симон. — Разве не грех притеснять и угнетать бедных? Шагай дальше, убирайся из моего дома, я тебе ничего не должен!
— Я слышал разговоры, о твоем неожиданном успехе, Симон. Говорят, озеро посылает в твои сети всю свою рыбу.
— Убирайся! — закричал Симон. — Не хочу, чтобы ты и твои верзилы оскверняли мои скромные владения!
— Значит, — произнес мытарь, — мне не разрешают увидеть нового учителя, или проповедника, или мага, или как он там называется? Я был бы рад послушать его, как это делают все прочие, но, к сожалению, мытарей не пускают в синагогу.
— Тебя, кажется, везде встречают не особенно приветливо, — заметил Иисус. — Мне не известно твое имя, но известна твоя несчастная должность.
— Меня зовут Леви. Или Матфей. Меня знают под обоими именами.
— Его еще и другими именами называют, — не преминул добавить кто-то.
— Если он, как вы говорите, грешник, — сказал Иисус, — я и его призываю к покаянию. Если же он недруг, он нуждается в вашей любви.
После этих слов послышались смешки, а со стороны тех, кто находился дальше прочих от Иисуса, раздался даже громкий смех. Старик, которого недавно опустили в дом на носилках и который теперь сидел на них цел и невредим, мусоля беззубым ртом пирог, испеченный матерью Симона, прыснул от смеха, разбросав по сторонам крошки.
— Очень хорошо, давайте послушаем ваши мнения по этому вопросу! — гневно воскликнул Иисус. — Послушаем, что вам подскажет ваш коллективный разум. Или ваша коллективная глупость. Если вы ненавидите мытаря, убейте его, и дело с концом!
После этих слов наступила неловкая тишина. Затем заговорил Симон:
— Мы же не знаем, может, он добр к своим детям и слугам. Нам о нем ничего не известно. Все, что мы знаем, — это то, что он собирает подати.
— Значит, вы ненавидите подати?
— Подати платить никто не любит, — ответил Симон, а затем выкрикнул: — Взгляни на него и на этих двух здоровых псов, которые терзают людей! Не проси меня, любить его я все равно не буду!
— Будешь, Симон, — спокойно произнес Иисус. — И скорее, чем ты думаешь.
— Я обратился к тебе, — сказал Матфей Леви Иисусу, — и, кажется, вызвал взрыв нехороших чувств там, где должно преобладать — пусть никто не считает мои слова странными — чувство благодарности. Учитель, или… не знаю, как мне тебя называть… я прошу от тебя невозможного. Войди в мой дом. Ступи, осквернив себя, в дом мытаря.
Снова послышались смешки и неодобрительное цоканье. Иисус сказал:
— Не может человек осквернить себя иначе, нежели осквернив душу свою. Я вижу среди нас двух фарисеев, которые мрачным видом своим выказывают несогласие. Я войду в твой дом, Матфей. Ты пригласишь меня на ужин?
— Сегодня же, — обрадовался Матфей.
— Ну, теперь-то уж мы видим, что ты за человек, — проговорил корзинщик Малахия. — Сохранять чистоту — сущность веры.
— Да, — ответил Иисус, — но не так, как это делаете вы, фарисеи. Ибо вы — великие ревнители чистоты ваших рук и того, что поступает в ваши желудки. О человеке же судят не по тому, что входит в него, но по тому, что из него выходит.
Кто-то в углу пробормотал слово «уместность». Симон, Иаков и Филипп молчали, но, похоже было, чувствовали себя крайне неловко. Иоанн же улыбнулся и спросил у Матфея Леви:
— Не пригласишь ли ты к себе в дом и друга того, кого ты верно назвал учителем?
— Друга или друзей — буду рад всем, кто придет! А его друзья познакомятся с моими.
В доме Симона между тем становилось свободнее. Слепые выходили зрячими, хромые — твердой походкой. Человек, которого доставили на носилках, сказал, что на днях пришлет за ними. Иисус попросил Филиппа:
— Послушай, ты должен придумать для нас песню.
— Песню? Какую песню?
— Пусть это будет рассказ в виде песни. Ты споешь ее сегодня вечером.
— В доме… — Лицо Филиппа выражало сильное сомнение.
— Нет, нет, тебе не придется осквернять себя. Пока. Ты должен учиться постепенно и непринужденно. Самоосквернение — искусство гораздо более трудное, чем искусство сочинять песни. Боюсь, что эта песня в доме мытаря исполняться не будет.
— Я бы тоже пошел, — пожаловался Симон, — да ведь соседи, и… и… От меня рыбой пахнет, да мне и надеть-то нечего.
— Уже лучше, — воскликнул Иисус, — гораздо лучше! Уверенность в своей правоте начинает убывать! Ты всему научишься в свое время.
Как и следовало ожидать, весь Капернаум в тот вечер пришел посмотреть на Иисуса с Иоанном, когда те шли, оба умытые и причесанные, к дому мытаря. Толпа была довольно сдержанна, но не слишком громкие крики, среди которых можно было различить слова «неуместность» и «осквернение», все же спугнули дремавших птиц. Камней не бросали, если не считать тех, что полетели в сторону известных всему городу двух блудниц да в печально знаменитого содомита с парой его всегдашних спутников — все были приятелями Матфея Леви. Войдя в прекрасный большой дом, Иисус был поражен вкусом и красотой его внутреннего убранства, но все же почувствовал некоторую досаду при виде этого вызывающего, чрезмерного великолепия, которое порицалось служителями веры. Блюда подавали превосходные, вино, полученное благодаря связям с римлянами, было лучшим из того, что могли дать виноградники Кампаньи. Иоанн чувствовал некоторую скованность, не мог заставить себя попробовать что-нибудь из множества мясных блюд, поскольку они не были освящены рабби, и не брал даже зеленые бобы и черный виноград. К тому же знаменитый содомит, к величайшему неудовольствию своих дружков, говорил, поглаживая руку Иоанна: «Прелестная кожа, а волосы — само совершенство!» Иисус держался абсолютно непринужденно, гораздо свободней, чем хозяин дома, который испытывал чувство гордости и в то же время проявлял нервозность.
— Подати собирать необходимо, — заметил Матфей Леви, когда они неспешно потягивали вино после ужина. — Вы согласны с этим?
— Все зависит от того, — ответил Иисус, — на какие цели идут подати. Государство не может облагать народ податями, а деньги расходовать так, как ему вздумается. Оно может требовать их выплаты, чтобы использовать на благо всего народа — на дома призрения, на дома для прокаженных, но оно не может сказать: «Я вами управляю и требую от вас деньги по праву». Тогда люди могут зашить свои карманы, спрятать свои кошельки и справедливо сказать «нет».
— И ждать шумного появления вооруженных людей, следящих за исполнением закона? — спросил Матфей Леви. — Подати налагает Ирод Галилейский. Он стоит во главе государства, и он имеет исконное право поступать с деньгами так, как считает нужным. Разве мы противимся этому и обрекаем наших жен и детей на судебную расправу? Нет, подати — это факт нашей жизни, а из этого следует, что должны быть и люди, которые их собирают.
— Если бы не было мытарей, не было бы и податей. Тогда царь Ирод был бы вынужден есть хлеб и овечий сыр вместо павлиньих мозгов. Но ты прав, Матфей, — мытари будут существовать всегда. Никто не принуждал тебя браться за это дело. И ты, сдается мне, за счет своих сборов живешь совсем даже неплохо.
— Да, конечно, работа не слишком уважаемая. Не из тех, за которую кто-то возьмется с охотой. Поэтому она и вознаграждаться должна хорошо.
— Сокровище на земле, где его съедает моль, разрушает ржавчина и отнимают грабители. Хорошо ли это?
— Сокровище на земле — единственное, которое существует.
— Нет, — твердо сказал Иисус. — Лучше сокровище на небесах, где нет моли и ржавчины, где в твой дом не врываются грабители. Ты не можешь одновременно служить богатству и Богу.
— На небесах, говоришь? — усмехнулся Матфей. — А что такое небеса?
— Мир и свобода под властью Бога, — быстро ответил Иисус. — С Богом, в Боге, у Бога. Покой любви, свобода любить. Имущество — это помеха. — Он допил вино и встал. — Можем мы выйти подышать свежим воздухом, Матфей? Только вдвоем, без твоих вооруженных людей? Прогулка в вечерней прохладе — что может быть лучше этого небесного сокровища, которое нельзя украсть?
— Я предпочел бы, чтобы мы оставались здесь, — ответил Матфей.
— Вечерний воздух открыт для любого, кроме тебя, Матфей. Вечерний ветерок — так ты думаешь — шепотом посылает тебе проклятья. И все же радуйся, ибо у тебя есть сокровища на земле.
— Хорошо, мы пойдем, — сказал Матфей, которого мы можем теперь, по примеру Иисуса, так называть.
Матфей подал своим людям знак, что им не нужно идти за ним и что они могут остаться в доме и поесть. Итак, Иисус, Иоанн и Матфей вышли из дома и постояли некоторое время на огороженной лужайке, наблюдая, как у ограды собирается почти весь город. Иисус предложил:
— Давай пройдем вместе среди любопытствующих. Если отважишься, обнимемся у всех на виду в знак того, что мы стали друзьями.
— A у тебя смелости хватит? Ты на это отважишься? — спросил Матфей.
Толпа гудела. Иисус громко и весело сказал:
— Мы ужинали вместе — мой друг Матфей и я. Ужин, возможно, был для меня излишне обильным и изысканным, но страдать будет мой желудок, а не душа.
— Это осквернение! Ты осквернил себя и теперь не отмоешься! — выкрикнул корзинщик Малахия.
— Если Матфей — грешник, как вы считаете, то мое место рядом с ним, — ответил Иисус. — Я не могу помогать праведникам, не так ли? Ведь они в моей помощи уже не нуждаются. Пусть они этим гордятся, а я оставлю их в покое. Но я могу помочь грешникам, и моя главная цель — призвать их к покаянию.
— Он позвал тебя, и ты пошел! — выкрикнул Наум.
— Он пригласил меня к себе по моей же просьбе, и довольно об этом. Сегодня за ужином я рассказал Матфею небольшую историю. Он еще не размышлял над ней, то есть над ее смыслом, однако ночью, мучаясь от бессонницы, он, возможно, задумается. Мой друг Филипп сочинил на этот сюжет песню. Пусть он нам теперь ее споет.
— Песни, песни! — прорычал Малахия. — Одно богохульство и грех!
— Послушай, прежде чем говорить, — улыбнулся Иисус. — Спой нам, Филипп.
И Филипп запел своим чистым голосом:
Он сыновей имел двоих И, как предание глаголет, Всю жизнь для каждого из них Откладывал — по равной доле. О блудный сын! «Отец, — однажды младший сын Ему сказал, — черед пришел, Отдай мне то, что накопил». Сказал: «Спасибо», — и ушел. О блудный сын! Он жил безбедно первый год, В грехе купаясь и в вине, Но деньги кончились. И вот Один в далекой стороне — О блудный сын! — Остался он и затужил, Живя, как бедный свинопас, И дом, который позабыл, Он вспомнил в тот ужасный час. О блудный сын! «Мне неуютно одному, Терплю я голод и нужду, А между тем в родном дому…» И он решил: «К отцу пойду — (О блудный сын!) Ему скажу, скрывая боль: „Я недостоин твоего Благословения. Позволь Остаться в доме — пусть слугой…“» О блудный сын! И он, свой жалкий бросив скарб, Домой пришел на склоне дня. Отец, его издалека Завидев, поспешил обнять. О блудный сын! «Я был холодным подлецом», — Сын молвил, отводя глаза. Отец же подарил кольцо Ему на счастье и сказал: (О блудный сын!) «Несите сыр, вино и мед, Барана целого сюда Ведите — ведь нашелся тот, Кто был потерян навсегда!» О блудный сын! Был старший сын ужасно зол И удалился от стола — Ведь жизнь он праведную вел И никому не делал зла… (О блудный сын!) А между тем отец его Ни разу за десятки лет Ягненка даже для него Не заколол. Ища ответ, (О блудный сын!) Пошел к отцу он и спросил: «Ужель тебе милее он?» Отец ответил: «О мой сын, Со мною ты прошел всю жизнь. (О блудный сын!) Ты дорог мне, но понял я, Что мне из вас дороже тот, Кто был спасен — мой младший сын, Мой блудный сын!»— Матфей, — тихо сказал Иисус, — я обещаю, что покажу тебе небеса. Может быть, тебя будут ненавидеть еще больше, но ты, по крайней мере, будешь достоин человеческой любви. Ты был потерян, а сейчас ты спасен.
ЧЕТВЕРТОЕ
Теперь у Иисуса было шестеро учеников. Симон и остальные с удивлением обнаружили, что Матфей — уже не с гладким лицом, выбритым на римский манер, а обрастающий реденькой бородкой, уже не в дорогом платье, а в простой накидке, представляющей собой кусок материи, перехваченный в талии поясом, уже без богатства и без должности — больше не вызывает у них неприязни. И в самом деле, о своих брошенных сетях, лодке и доме (который в действительности принадлежал его матери) Симон сокрушался гораздо больше, нежели Матфей — об утрате всех своих картин, статуй и сундуков с деньгами. Бедняки Капернаума хорошенько поработали над распределением собственности Матфея, а его слуги только порадели им в этом. Бедноты в городе сейчас было больше, чем когда бы то ни было, и ничуть не меньше было больных, слепых и умирающих.
Однажды на рассвете Иисус стоял на берегу озера и наблюдал за пробуждением огромного количества людей, постепенно освобождавшихся от своих ночных грез. Их грезы были полны надеждами, которым, как эти люди надеялись, вот-вот суждено было исполниться. Иисус грустно покачал головой и сказал ученикам:
— Нет, не могу. Вы знаете, что это не в моих силах. Их слишком много. И я пришел не для того, чтобы просто исцелять больных. Мы должны переправиться на другой берег озера.
Неподалеку стояла лодка для переправы. Иисус и его ученики побежали было к ней, но тут неизвестно откуда появился какой-то молодой человек. Он тоже принялся бежать, причем еще быстрее, чем они. Догнав Иисуса, этот красивый юноша почти бросился на него:
— Позволь мне идти с тобой! Я хочу стать одним из твоих последователей! Куда ты сейчас направляешься? Где тебя искать?
— Ты уже нашел меня, — ответил Иисус, — в тот самый момент, когда я спешу к лодке. Отныне ты будешь следовать за мной.
— Но сейчас это невозможно, — горестно сказал молодой человек. — Вчера умер мой отец. Прежде всего я должен похоронить его. Это сыновний долг, более важный, чем всё остальные.
— Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, — несколько резко ответил Иисус. — Иди за мной.
Он сказал это, уже войдя в воду и приблизившись к лодке. Приподняв одежду, чтобы не замочить ее, Иисус обернулся и увидел, что юноша стоит с выражением отчаяния На лице и даже словно бы пританцовывает от этого отчаяния. Его руки стали похожи на бессильно трясущиеся клешни, рот открылся в беззвучном крике. Потом молодой человек исчез в толпе больных и увечных людей, входивших в воду. Увидев, что лодка направилась к другому берегу, увозя от них кудесника и спасителя, эти люди громко, по-звериному завыли.
Хозяин лодки был старым человеком с весьма скверным характером.
— Платите вперед, — прорычал он. — Деньги мне нужны сейчас. Уносите ноги, да? Эта толпа гонится за вами, я знаю. Вы мытари. Один из вас точно мытарь. Я узнал тебя, ублюдок. Оделся просто и скромно, чтобы входить в дома людей и просить чашу холодной воды, притворившись, будто умираешь от жажды. А не успеют люди оглянуться, как сразу же — подати, подати! Дайте-ка мне взглянуть, какого цвета ваши денежки. Плохая вы компания, кто бы вы ни были.
— Вот все, что у меня есть, — сказал Матфей, передавая ему пару истертых монет.
— Не верю я вам, ни один из вас мне не нравится.
— Помолчи! — воззвал к нему Иисус. — Молчи и делай свою работу.
— Хорошо ли, плохо ли, но я работаю. Делаю полезное дело. Не то что иные, которых я мог бы назвать вслух.
— Кислый ты человек! — прямо заявил Симон. — От тебя даже небо скисает. — Действительно, все небо уже затянули клубящиеся, грязного цвета тучи. Ветер отбрасывал волосы людей назад, и они развевались горизонтально. — Судя по его виду, надвигается мерзкая буря.
— Молитва, — вдруг сказал Иисус. — Позвольте мне молвить слово о молитве.
— Ты хочешь сказать, нам следует начать молиться? — удивился Иаков. — Прямо сейчас?
— Итак, молитва, — сказал Иисус. — Не молитесь громко, как это делают лицемеры в синагогах и на углах улиц. Молитесь тихо и незаметно, ибо Отец ваш Небесный слышит хорошо.
— Какие слова мы должны говорить? — спросил Иоанн.
— Слова, которыми вы просто просите о том, в чем нуждаетесь.
Иисус должен был теперь говорить громче, чтобы перекричать ветер.
— Послушай, давай я сяду за второе весло, — предложил Симон лодочнику.
Иисус продолжал:
— Молитесь так. Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого; и не испытывай нас слишком сурово, ибо мы слабы и ничтожны… Приблизительно так. И с этими словами, согревшими, я надеюсь, ваши холодные уши, я немного вздремну.
— Вздремнешь, учитель? — переспросил Андрей. — Когда разыгралась такая буря?
Иисус растянулся на корме лодки во весь свой огромный рост, улыбнулся и сказал:
— Вы должны научиться спать в любом месте и в любое время.
— Тогда отдыхай, — согласился Иоанн. — Мы тебя разбудим.
— Я знаю, — сказал Иисус и тотчас погрузился в сон, в который, как ни старались, не могли проникнуть ни ветер, ни ярившиеся волны.
— Ну что же, все это очень и очень странно, — сказал Иаков, возвысив голос над ветром. Обеими руками он крепко держался за планшир. — Вот мы, а вот он, и мы не знаем, во что мы ввязываемся.
— Всему свое время, — заметил Матфей. — В данный момент мы, кажется, ввязались в нешуточный спор с отцом и матерью этих волн.
Лодка, словно игрушка, плясала на озере. Молнии чертили на облаках краткие письмена, а гром их произносил. Дождь перешел в ливень.
— Я чувствовал, что делаю что-то не то, — пробормотал лодочник, задыхаясь. — Иона[94] в лодке, вот в чем все дело!
— Отойди! — прорычал Симон. — Мой брат возьмет весло. Иди и поспи вон вместе с ним. Не берись за работу, если не можешь делать ее как следует.
— Отец наш на небесах… — пробормотал Иаков. — Как там дальше?
— Да святится имя Твое, — продолжил Матфей. — Дай нам увидеть Царство Твое, но не сейчас, о Господи!
— Не испытывай нас слишком сурово… сурово… сурово…
— И избавь нас от лукавого… тьфу! — не договорил Симон, глотнув кварту озерной воды.
— Нам лучше разбудить его, — сказал Иоанн. — Мы просто должны это сделать. — Он принялся расталкивать Иисуса. Тот медленно, очень медленно высвобождался из-под покровов сна. — Учитель, мы утонем! Хозяин! Господин! Проснись, пожалуйста! Спаси нас!
Иисус спокойно встал, потянулся, зевнул, оглядел кипящие волны и бушующее озеро, кивнул молнии, как брату, и спросил:
— Чего вы боитесь? Или настолько слаба ваша вера?
— Бояться — в природе человека, — сказал Филипп, не слишком большой любитель воды. — Особенно когда лодка наполняется и… — Он вычерпывал воду ведром. По крайней мере, пытался делать это. Лицо Филиппа позеленело, в уголке рта виднелись следы рвоты.
— Я уже предостерегал вас от частого употребления таких понятий, как «природа человека», — прервал его Иисус. — Я бы сказал, что сила этой бури вот-вот иссякнет.
— А я бы назвал это хорошей шуткой, — вмешался съежившийся лодочник. — Ха-ха-ха-ха! Вот-вот иссякнет! Прекрасно!
Внезапно среди туч появился голубой просвет. Лодочник, раскрыв рот, уставился на него, как на оскорбление.
— Ты хорошо предсказываешь погоду, — судорожно сглотнув, заметил Матфей.
Ветер стих. Озеро успокоилось. Его поверхность стала гладкой, словно кто-то вылил на волны несколько бочек масла. В рассеивающейся мгле показались мрачные и прекрасные берега страны Гадаринской.
— Никогда ранее не видел ничего подобного, — пробормотал лодочник. — Кто он такой? Влияние, какое-то влияние, вот что это такое.
Филиппа, не обладавшего крепким желудком, все еще тошнило, и он уже предал водам озера свой утренний хлеб.
— Итак, мы все же прошли, — сказал Матфей.
— Никогда ранее не видел ничего подобного, — повторил лодочник…
На берегу было прохладно. Семь человек брели по хлюпающей мокрой земле вдоль зарослей осоки. Неподалеку виднелись надгробные камни.
— Так вот где они хоронят своих мертвецов, — заметил Симон. — Веселенькое местечко, нечего сказать!
— Есть вопрос, над которым никто из нас еще не задумывался, — произнес Матфей. — Где мы остановимся сегодня на ночь? Сырая земля, сырой хворост. И что мы будем есть?
— Ты-то голодать не будешь, — усмехнулся хромавший рядом Андрей. — За долгие годы ты накопил в своем брюхе достаточно еды. Не хуже верблюда обойдешься.
— Лисы имеют норы, а птицы небесные — гнезда, — сказал Иисус. — Что же до меня… До нас… Идемте вон туда. Там, под деревьями, довольно сухо. У кого есть кремень? А еда… У Иоанна есть хлеб, его хватит на сегодня.
— Он промок, — ответил Иоанн.
— Высохнет. Мы можем обжечь его на огне, и он станет вдвое вкуснее. В том лесу, думаю, водятся кабаны. И уж конечно среди нас есть охотник.
— Кабаны? — удивился Симон. — Свиньи? Но мы не можем есть свинину.
— Это так, — согласился Иисус. — Человек может умирать с голоду, однако Закон остается Законом. Подождите немного. Вы увидите, что новый закон удовлетворит как сытых, так и умирающих с голоду. Значит, пока никакой охоты. Но в озере есть рыба.
— Я захватил с собой крючки и лески, — сказал Иаков.
Не прошло и получаса, как они уже грелись у ярко пылавшего костра. Все разделись и сушили одежду, стыдливо глядя друг на друга. Иисус все еще выглядел тощим, однако прежняя стать уже возвращалась к нему. У Матфея было брюшко мытаря. Белая кожа Иоанна походила на бархат. Филипп был очень худ — все ребра можно пересчитать. Симон выглядел крепким и жилистым. Иаков не отличался большим ростом, но имел хорошо развитые мышцы. Левая нога Андрея была короче правой на целый палец — это стало видно, когда он лег, подставив ступни к огню.
Уже через час они ели испеченные на огне рыбу и хлеб, запивая их озерной водой из меха, который Симон носил на ремне.
— Теперь вы видите, какую жизнь следует вести, — сказал Иисус. — Были ли вы когда-нибудь более счастливы, чем теперь?
Вдруг Филипп, задрожав всем телом, пронзительно завизжал, указывая на обнаженного, густо заросшего волосами человека, который выпрыгнул из-за надгробного камня, гремя цепями, прикрепленными к металлическому поясу. Конечные звенья цепей были разомкнуты. Человек рычал, как дикий зверь. Голоса, несколько голосов вырывалось из него всякий раз, когда он открывал рот, чтобы издать рык.
— Мы знаем тебя знаем тебя Иисус Иисус Ииисусус сын самого самого низкого из всех, — вопили голоса. — У тебя говорят плохая сила они знают знают что говорят мы знаем что у тебя у тебя у тебя…
Филипп, Иоанн и Матфей сидели, словно оцепенев. Другие, спотыкаясь и падая, искали спасения за деревьями. Филипп, несмотря на оцепенение, продолжал визжать.
— Пусть говорит один из вас, — молвил Иисус. — Один за всех. Если у вас есть что сказать мне, это должно быть сказано ясно. — Он спокойно помешивал палкой угли.
— У нас ничего нет, кроме этого тела, — ответил низкий и в то же время какой-то приторный голос. — Мы просим только оставить нас в покое. Говорят, ты прошел сквозь бурю, чтобы отыскать нас. Не мучай нас. Мы должны где-то жить.
— Назови себя.
— Нас много, очень много, целый легион. Многомногомногомного…
Один голос недолго преобладал над другими.
— Изгоооонишь наснаснас и мымы найдемдемдем пойдемпойдем и найдемдемдем другдругдругие дома. Ты мучаешь многих. Оставь нас нас нас оставь…
Иисус спокойно оглядел своих спутников, оцепеневших у костра или выглядывавших в страхе из-за деревьев, и сказал:
— Меня сильно удручает то, что я должен сделать. Даже звери имеют право на невиновность, которую даровал им Отец мой Небесный. Но мне лучше сделать то, что я должен сделать, чем допустить осквернение душ человеческих.
Вдруг он возвысил голос и пронзительно закричал: «Вон, нечистые! Прочь! Я приказываю вам!»
Обнаженный, заросший волосами бесноватый, извиваясь и гремя цепью, упал в костер, но тут же выпрыгнул оттуда, продолжая рычать. Голоса рвались из его широко раскрытого рта, вопя бессмыслицу — верверикандаракрофемадамдамдаму… Словно сильный ветер, они так раздули костер, что полы одежды Филиппа вспыхнули, и он, вскочив на ноги, начал сбивать пламя руками, что-то невнятно бормоча. Бесноватый, в изнеможении упав на землю, затих. Пламя костра осветило ужасные рваные раны и рубцы на его теле. И тут остолбеневшие ученики Иисуса увидели поразительную картину: дикие свиньи с визгом и уханьем, с пылающими, словно освещенными изнутри, клыками во весь опор неслись по склону холма и бросались в озеро, взметая фонтаны брызг.
— Я делаю это с тяжелым сердцем, — повторил Иисус.
Матфей укрыл обнаженного человека своим плащом. Тот спал долго и кричал во сне. Проснулся он уже здоровым человеком, несмотря на шрамы, раны и потертости от цепей. Судя по всему, из города или деревни, где он жил прежде, его выгнали соседи. Может быть, они выгоняли его много раз, пока наконец не заказали у кузнеца крепкую цепь, на которую и посадили бесноватого, приковав к дереву, стоявшему среди могил. Иисус и ученики догадались об этом по наитию. Сам человек не мог подтвердить их догадку, поскольку мало что помнил. Очнувшись и увидев себя среди незнакомых людей, он устыдился своей наготы, и первыми его словами были: «Откуда у меня эти раны и синяки? Для чего эти цепи?» Он не знал, что стал вместилищем демонов, но хорошо помнил, что у него были верная жена и трое прекрасных детей. Как долго он скитался, словно бездомный, и почему?
— Поскольку ты говоришь о семье, — сказал Иисус, — нам следовало бы доставить тебя домой. Однако, если ты вернешься в родной город и будешь плакаться, что был болен какой-то неведомой болезнью, которая заставила тебя уйти в бродяжничество, а теперь благополучно исцелился, — есть вероятность, что никто не пожелает тебя слушать. Ты взял на себя грехи своей общины, и, пока ты был обиталищем демонов, все остальные, несомненно, чувствовали себя в безопасности — никому не грозило стать таким же вместилищем греха. В сущности, тебе лучше присоединиться к нашей компании. Это будет более безопасно для тебя.
— Что у вас за компания? Кто ты, господин? Кто вы все?
— Мы целители больных душ и проповедники новой веры, — ответил Иисус. — Это очень простая вера — вера любви. Уже поздно, но нам, возможно, удастся остановиться на ночь в твоем городе. Завтра мне нужно будет кое-что сказать людям, если, конечно, они станут меня слушать.
— Мой дом невелик, но я без труда найду место для семерых. — Мужчина смотрел на Иисуса с благоговением. — Это ты, господин, исцелил меня? Ты изгнал — Боже, прости меня — демонов?
— Пошли! — решительно сказал Иисус, и они направились к городу, находившемуся примерно в двух милях от озера.
Звеня цепями, человек, которому от кузнеца теперь были нужны услуги иного рода, нежели те, что тот оказал ему когда-то, шел за Иисусом, как верный пес. Вечер пока не перешел в ночь, и; когда Иисус и семь его спутников вошли в город, по главной улице еще прогуливались люди, решившие подышать перед сном свежим воздухом. Какой-то старец, в расшитой узорами шапке, с посохом — уважаемый, должно быть, человек, — пил у таверны вино в обществе других, тоже важных людей. Кажется, никто не был рад видеть человека, исцеленного Иисусом, никто его не приветствовал.
— Разве вы не узнаете меня?! — крикнул мужчина. — Я знаю теперь, что был одержим бесами, но, хвала Господу, нечистые оставили меня! Хвала и тому, кто изгнал зло!
— Мы не часто видим здесь чужих, — сказал старец Иисусу. — Не скажешь ли, кто ты?
— Думаю, я знаю, кто он, — сказал человек, бывший недавно одержимым. — Я думаю, что он — Сын Всевышнего. Хвала ему! Хвала!
Старец только отмахнулся от этих слов, настолько нелепо они звучали.
— Тебя исцелили, верно? — спросил он. — Но как именно это было сделано? Вот что хотелось бы знать.
Иисус тотчас разразился неистовой речью:
— Мне ясно, к чему ты клонишь, но ты — глупец! Может ли человек с помощью демонов изгнать демонов? Будет ли веельзевул, повелитель мух, изгонять то, что ему принадлежит? Но я вижу, что там, где нет понимания, не будет и веры! — И он сплюнул на землю.
Другой, более сдержанный и разумный старец, сказал:
— Извини. Ты видишь, как у нас тут… Мы не привыкли к появлению чужих в нашем городе. Мы предпочитаем, чтобы все шло так, как было всегда. Если ты ищешь, где остановиться на ночь… ну что же, повторю то, что я уже сказал: мы не привыкли к появлению чужих.
— Ты остановишься в моем доме, — сказал исцелившийся. — Это самое малое, что я могу для тебя сделать.
— Нет, — твердо сказал Иисус. — Сегодня тебе ни к чему чужие в доме. Ты должен быть с теми, кого любишь. А завтра приступай к служению Царству Небесному. Расскажи всем о том великом благе, которое оказал тебе Бог. Старайся любить ближних своих. — И он холодно посмотрел на этих ближних.
Иисус и его ученики провели ночь за городом, под открытым небом. Иоанн развел еще один костер, чтобы можно было согреться в холодные предрассветные часы. На этот раз Иисус благоразумно, что с ним бывало не всегда, лег спать чуть раньше остальных и поодаль от костра, сказав, что там ему будет достаточно тепло. Он понимал, что шестеро учеников должны узнать друг друга в непринужденной обстановке, без его стесняющего присутствия, а знакомясь друг с другом, они обязательно заведут разговор о нем, и разговор этот будет более откровенным.
Симон предложил Матфею:
— Я думаю, ты должен взять на себя денежные дела.
— Денежные дела? — удивился Матфей. — Какие еще денежные дела? Я думал, мы уже отказались от денег.
— Нам приходится иногда попрошайничать, — сказал Симон. — Мы ведь должны что-то есть. Нельзя же питаться только рыбой да ягодами, это хороший способ заработать понос. Нам нужен хлеб — хлеб насущный, как сказано в молитве. Найдутся такие, помяни мое слово, которые будут идти за нами, не отходя ни на шаг. А их надо будет кормить. В сущности, подаяние бедным — вот что я имею в виду, говоря о деньгах.
— Мы сами и есть бедные, — вмешался Иаков.
— Но всегда найдутся еще беднее, — возразил Симон. — Ты должен стать тем, кого называют казначеем, Матфей. Ты человек образованный и сможешь вести счет деньгам.
— Юный Иоанн тоже получил образование, — заметил Матфей.
— Иоанн глуповат по части денег, — сказал Иаков.
— О ужас, геенна огненная! — ухмыльнулся Иоанн. — Ты назвал меня глупцом!
— Не нравится мне это, — сказал Матфей. — Мне больше не хочется иметь дело с деньгами. Однако я возьму это на себя, попробую еще разок.
— Хорошо, — сказал Симон. — Ну вот, ребята, были мы когда-то мастерами в разных ремеслах, а теперь стали нищими, и иного будущего у нас нет.
— Я иногда думаю о будущем, — заговорил Филипп. — Когда, как сейчас, Иисуса нет рядом. Думаю — не глупец ли я. И считаю, что нет ничего страшного, если иногда назовешь себя глупцом. Так же было и с Иоанном — с тем Иоанном, настоящим, ты уж прости меня, Иоанн. Я был готов верить любым его словам, пока он не бросил нас. Я хочу сказать, неужели мы так теперь и будем жить? Еще лет тридцать — сорок?
— От тебя никто не ждет, чтобы ты думал о будущем, — произнес Андрей. — Слышал, как он говорил? Довольно для каждого дня своей заботы. Следует признать, что здравый смысл в этом есть.
— Да, — согласился Филипп, — но каждый человек строит какие-то планы. Насчет женитьбы, скажем, детей или собственного дома. И здесь возникает один важный вопрос. Все мы неженатые, а он как бы предполагает, что ни один из нас никогда и не будет помышлять о женитьбе. Или вообще о женщинах, если уж на то пошло. Во всем этом есть что-то противоестественное.
— Я вдовец, — сказал Симон. — Единственный по-настоящему одинокий мужчина среди вас. Но о женитьбе я и не думаю.
— Он тоже вдовец, — заметил Андрей. — Вам это известно?
— А я и не знал, — удивился Матфей. — Он сам тебе рассказал об этом?
— Иоанн нам рассказывал, — сказал Филипп. — Большой Иоанн, Креститель.
— Никогда бы не подумал. Я считал, что он… ну, как бы сторонник целибата.
— Сторонник чего? — переспросил Симон. — Не понимаю я этих мудреных словечек.
— Сторонник того, чтобы наилучшим образом использовать свои природные инстинкты, — ответил Матфей. — Слово «любовь» имеет два смысла, но нас, похоже, заботит только один из них.
Симон хмыкнул:
— Сказать вам, что я думаю, парни? Я думаю, все эти дела продлятся недолго. Год, самое большее — два. Почему недолго? Да потому, что он почти стремится наживать врагов. Я имею в виду фарисеев, любителей умывать руки. Фарисеи — люди важные, с большим влиянием. Вы только вообразите, что было бы, если бы он приехал в Иерусалим и стал распространяться, будто фарисеи — плохие ребята. Да они бы его живьем съели, друзья мои. И нас в придачу.
— А мы что, разве в Иерусалим собираемся? — удивился Иаков. — Я даже и не помышлял о таком. Надо же — Иерусалим!
— Придет пора, услышим и об этом, — сказал Андрей. — Всему свое время.
Наступила тишина, достаточно продолжительная, чтобы сидевшая где-то рядом сова успела несколько раз ухнуть. Затем Иоанн смущенно спросил, ни к кому конкретно не обращаясь:
— А что вы на самом деле о нем думаете?
— О, он особенный, — отозвался Симон. — Я хочу сказать, мы ведь все видели, на что он способен. Он из тех особенных людей, которых называют Сыны Божьи. Вроде Моисея, царя Давида или Самсона. Надо быть круглым дураком, чтобы не захотеть следовать за ним. Я хочу сказать, что, помимо того, что он делает, имеет смысл и то, что он говорит. А вообще, если хотите знать, все это — настоящее приключение, — сказал он, потягиваясь. — И вам, молодым, никакого вреда от него не будет. Иоанн, подложи-ка хвороста в костер, а то становится прохладно. Мы с Матфеем посторожим часа два, а потом нас сменят Андрей с Филиппом. Нужно, чтобы было немного по-военному. Вокруг враги, как я говорил. Мне раньше приходилось бывать в этих местах. Веселые типы здесь бродят.
На рассвете, когда Иаков и Иоанн сидели у догорающего костра и размышляли, как бы поделикатнее разбудить своих товарищей, они заметили какого-то человека, который шел в их сторону. Это был мужчина средних лет, с озабоченным и печальным лицом. По причине утренней прохлады он тщательно кутался в плащ из крашеной ткани. Увидев Иакова с Иоанном, мужчина поприветствовал их взмахом руки, споткнулся, но удержал равновесие. Подойдя, он заговорил, переводя взгляд с одного на другого:
— Это ты, господин? Ты и есть тот самый? Или, может быть, это ты?
— Тот, который тебе, скорее всего, нужен, еще спит, — ответил Иаков, показывая большим пальцем назад. — Но ты можешь сказать нам, зачем он тебе.
— Меня зовут Иаир. Я начальник здешней синагоги. Правду ли говорят, что он исцеляет больных и изгоняет демонов? И правда ли, что он может воскрешать мертвых?
Иоанн и Иаков невольно вздрогнули, пораженные подобным предположением. Прежде им и в голову не могло прийти, что кто-то может воскрешать мертвых. Их с детства приучили верить, что если человек умер, то это навсегда, да и здравый смысл подсказывал то же самое. Тут они увидели, что Иисус, уже проснувшийся, опрятный и причесанный, сидит рядом, грея руки у почти погасшего костра. Иисус заговорил так, будто был знаком с этим человеком и давно поджидал его:
— Что случилось, Иаир?
— Это ведь ты, господин, правда? Ох, учитель, я слышал, что ты…
— О чем ты, Иаир?
— У меня есть дочь, ей всего двенадцать… Она тяжело больна. Она умирает! Я даже думаю, что она, быть может, уже… — Иаир зарыдал.
— Далеко твой дом? — спросил Иисус.
— Меньше мили. К югу отсюда, по главной дороге. Ох, учитель, если бы ты смог… Если бы ты смог хотя бы…
— Посмотреть, есть ли какая-нибудь надежда? Конечно, конечно. Иоанн, Иаков, позовите остальных.
Казалось, Иисус горел желанием взяться за дело. Возможно, Симон был прав, и времени у него действительно оставалось мало.
Когда они подошли к великолепному саду рядом с красивым домом Иаира, Матфей сказал Симону:
— Они наверняка накормят нас завтраком. Я готов позавтракать чем угодно, но только не рыбой. Хорошо бы съесть кусок жареного мяса со свежим, еще дымящимся хлебом.
— Здесь, кажется, нет таких, кто был бы в настроении готовить завтрак, — заметил Симон. — Ты взгляни на них.
Сад был наполнен рыданиями: у дверей дома рыдала семья, поодаль рыдали слуги. Громкие причитания перекрывали похоронную музыку барабана и флейты. К Иаиру подошел домоуправитель. По его пухлым щекам струились слезы. Заламывая руки, он простонал:
— Она угасает, господин. Ей уже ничем не поможешь.
Иисус очень решительно поднял руку и крикнул:
— Прекратите этот шум! Девочка не умерла. Она просто спит.
Седобородый насупленный слуга в зеленом халате — вероятно, садовник — столь же решительно подошел к Иисусу и сказал:
— Ты кто такой, чтобы являться сюда со своими дурацкими шутками? Мы то ее видели, а ты нет. Уходи прочь!
— Как тебя зовут? — спросил Иисус, улыбнувшись.
— Тебе-то какое дело? Прочь отсюда, наглец, со своими улыбочками!
— Это Фома, — пояснил Иаир. — Пожалуйста, проходи сюда, уважаемый господин! Если то, что ты сказал… Может ли быть такое! Я едва способен…
— Рад видеть тебя, Фома! — произнес Иисус все с той же улыбкой и учтиво поклонился сердитому бородачу в зеленом халате.
Затем, не спеша, он вместе с Иаиром вошел в дом. Два человека в черных одеяниях лекарей, стоявшие у распахнутой двери в спальню, скорбно покачали головами. Иисус прошел в полутемную комнату, наполненную пряными ароматами притираний, к которым примешивался горький запах лекарств. На кровати неподвижно лежала девочка — хорошенькая, но очень бледная. Стоявшая рядом женщина — очевидно, ее мать — с рыданиями бросилась к мужу. Иисус взял руку девочки и произнес:
— Талифа-куми. Девица, тебе говорю, встань.
Девочка не встала, по крайней мере, встала не сразу.
Но она открыла глаза, огляделась вокруг и нахмурилась, словно не понимая, где находится.
— Вставай же! Эти глупые люди думали, что ты умерла. Покажи им, как ты можешь стоять и ходить.
Она встала, но, когда попыталась сделать шаг, упала. И тут же рассмеялась над своей неловкостью. Девочка попробовала что-то сказать, но из ее рта вылетели какие-то нечленораздельные звуки, и она снова рассмеялась — специально, поскольку смех уж никак не назовешь нечленораздельным или бессмысленным звуком. Ее родители не знали, что делать — то ли благодарить Иисуса и упасть перед ним на колени, то ли броситься обнимать свою пробудившуюся дочь. Они так и остались стоять с выражением крайнего изумления на лицах. Потом мать обняла дочь, а отец попытался поцеловать край одежды Иисуса. Иисус сказал:
— Она, вероятно, голодна. Полагаю, что все голодны. Я-то уж — наверняка.
— Хорошо, очень хорошо, — тихо проговорил Матфей.
Среди всеобщего шумного ликования можно было ясно различить голос Фомы:
— Вы должны признать — именно так я и полагал с самого начала. Существовала явная вероятность того, что это не более чем транс, да-да! Что-то вроде глубокого сна, целебного по своей природе. А теперь, как видите, сон закончился!
Теперь все с радостью сели за стол и принялись за холодную еду, которую поглощали с большим аппетитом. Здесь были куски зажаренной накануне баранины и говядины, вчерашний хлеб, фруктовое печенье, варенье и засахаренные фрукты, белое и красное вино. Фома, даром что садовник, прислуживал гостям с явной неохотой. Хозяин, впрочем, и не приказывал ему этого делать. Подходя к Иисусу, Фома продолжал угрюмо хмуриться — взгляд оставался враждебно-недоверчивым, но все же в нем сквозило восхищение. Флейтист, хрупкий юноша с мечтательными, как у Филиппа, глазами, наигрывал веселую мелодию. Пробудившаяся девочка взяла немного хлеба, варенья и козьего молока. Ее родители полагали, кажется, что она теперь беспомощна, и вовсю старались накормить дочь. Руки отца и матери — в каждой по большому куску хлеба с толстым слоем варенья — одновременно тянулись к ее рту, но девочка твердо и решительно продолжала все делать сама, спрашивая при этом: «Что случилось? Где я была? Что происходило?»
Филипп спросил у юноши-флейтиста:
— Извини, ты называл свое имя, а его уже забыл.
— Фаддей.
— Да, да, конечно. Скажи, Фаддей, а не знаешь ли ты одну песню, которая, как мне кажется, появилась именно в этих местах? Она называется «Кареглазая девушка у колодца».
— Думаю, знаю. — Он сыграл один такт. — Это она?
— Да, да, эта самая!
Фаддей заиграл. Иисус поманил пальцем Фому. Тот нехотя подошел, продолжая хмуриться.
— Ну, чего тебе еще? Все, что есть, давно на столе. По вашей милости кладовая уже пуста.
— Фома, — сказал Иисус, — ты должен пойти со мной. Думаю, тебе это известно.
— Я ничего такого не знаю. Надо же, я должен идти с тобой! А куда идти-то? У меня ведь здесь есть свои обязательства, разве не так? Но даже если бы я и захотел, не могу же я вот так просто взять и уйти. Раскинь умом, приятель!
— Твой хозяин охотно отдал бы мне тебя в качестве подарка, — сказал Иисус. — Я это точно знаю, да и ты, должно быть, знаешь об этом.
— Ой, как смешно! Я не таков, чтобы меня можно было отдать, как какую-нибудь козу. Я свободный человек! Человек, который ведет независимый образ жизни и мыслит тоже независимо. Да будет тебе известно, я человек, который прямо говорит то, что у него на уме. Знай — я ни перед кем спину не прогибаю и поклонов не отвешиваю.
— Ты мне нужен не как слуга, Фома. Ты мне нужен как друг.
— Неужели? Что же, я должен над этим как следует подумать. И не надейся меня провести, не советую. Я человек, который знает, что к чему. У тебя ко мне все? Как я уже сказал, вся еда, что есть в доме, — на столе.
Итак, Иисус покинул дом Иаира уже с восемью учениками, поскольку флейтист Фаддей (к особенному удовольствию Филиппа) и Фома пошли за Иисусом. По дороге Фома сказал:
— Одной из главных причин, почему мне хотелось уйти, были плач и смертный ужас, которые эта деревянная дудка исторгала каждый день с утра до вечера. А теперь все могут убедиться, что у Господа Бога есть нечто такое, что он сам, несомненно, называет чувством юмора. Правильно, правильно — смейся! По крайней мере, когда ты смеешься, ты не дуешь в эту свою штуковину.
Матфей, ставший казначеем, получил в подарок от Иаира кожаный кошель с несколькими серебряными монетами. Иаир был готов наполнить его золотом, но Матфей сказал:
— Умеренность, умеренность, господин. На сегодня этого будет достаточно.
Они задумали снова взять лодку, чтобы переправиться на другой берег, но сначала Иисус решил поговорить перед большой толпой, собравшейся на окраине города. Слава о нем разошлась уже повсюду, и толпа слушала с большим вниманием. Иисус говорил громким голосом, простыми и ясными словами:
— Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что нить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то подумайте: насколько больше своих забот посвящает Он нуждам вашим! Итак, не заботьтесь о пище и питье, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.
У Фомы были особые соображения насчет этой философии. Он сказал своим новым друзьям, что в словах Иисуса, возможно, немало правды, но при этом добавил:
— Это еще под очень большим вопросом, что Бог, мол, кормит голодных и все такое прочее. За свою жизнь я много раз видел, как люди умирали от голода. И где же был при этом Бог?
ПЯТОЕ
Перед рассветом Иисус и восемь его учеников снова пришли на берег озера близ Капернаума. Лодочник на этот раз был не столь кислым и сказал им при встрече: «Народу у вас, кажется, прибавилось? По моим подсчетам, в тот раз вдвое меньше было».
На берегу их ожидали два человека. Филипп и Андрей, которым они были знакомы, приветствовали этих людей, назвав по именам — Иаков и Варфоломей. Они были учениками Иоанна Крестителя. Иаков сразу же узнал Иисуса и обратился к нему:
— Господин, ты знаешь, откуда мы пришли.
— Он по-прежнему в тюрьме, разве не так? — спросил Иисус. — Узник, но жив?
— А также полон сил и огня, — добавил Варфоломей.
Варфоломей, которому шел уже четвертый десяток, имел озабоченный вид и сильно сутулился, как бывает свойственно людям, склонным к занятиям наукой. Иаков же выглядел лет на двадцать. Он был очень мускулист и всего лишь на дюйм или около того ниже Иисуса. Речь его отличалась чрезвычайным напором — даже в тех случаях, когда содержание разговора того не требовало. Он сказал:
— Иоанн боится, что ему недолго осталось жить. Он сказал, что мы должны присоединиться к вам.
— Значит, тебя зовут Иаков… — задумался Иисус. — Но у нас уже есть один Иаков — вот этот наш невысокий друг. Как же мне обращаться к тебе?
— Иногда меня называют Иаковом-меньшим, — глядя с вызовом, ответил тот, — но ваш-то Иаков уж точно меньше меня.
— И все же ты будешь Иаковом-меньшим, — улыбнулся Иисус. — А чем ты занимался прежде?
— Перед тем как пойти за Иоанном? Выступал в соревнованиях борцов на деревенских ярмарках. Какое-то время, и к своему стыду, работал охранником при мытаре. — Матфей улыбнулся и кивнул, подтверждая сказанное. — Вот Варфоломей, он во всех смыслах на голову выше меня — умный, образованный.
Варфоломей пожал своими худыми плечами:
— Ни то и ни другое. Я не очень умен и не очень образован. Но в травах и снадобьях разбираюсь. Считайте меня скромным сельским лекарем. В этом деле я имел кое-какой успех. Правда, небольшой. Прежде чем мы присоединимся к вам, если вы нас, конечно, примете, мы обязаны вернуться к Иоанну и принести ему какую-нибудь весть от тебя.
— Ты имеешь в виду весть о Царстве? — сказал Иисус. — Хорошо, скажите ему, что слепые прозревают, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. И еще передайте: что бы с ним ни происходило, имя его гремит, и гремит уже по всему царству. Среди рожденных от женщины не было ни одного, кто был бы более велик, чем Иоанн Креститель. Пусть он знает это. А потом возвращайтесь ко мне. Вам будет нетрудно найти меня.
— Учитель, — нахмурился Иаков-меньший, — есть одно дело… — Он колебался и в смущении чертил что-то ногой на песке. — Учитель, если проделана такая великая работа… Ну, в общем, когда древних пророков бросали в темницы, им являлись ангелы — ты знаешь, что я имею в виду, — и уносили их. Нельзя ли сделать так… Ты понимаешь, о чем я хочу просить, господин. И не только я. Мы с Варфоломеем уже обсуждали это.
Иисус покачал головой:
— Нет. Он так же несет свое бремя, как я буду должен нести свое, когда придет мой час. Так уж отмерено его величие на небесах, что чаша сия да не минует его. Чаша, до краев наполненная горчайшей горечью. А теперь идите и расскажите ему. Потом возвращайтесь ко мне.
— Я надеюсь, ты не… То есть мы, надо полагать… — бормотал Варфоломей.
— Кажется, он имеет в виду как раз то, чего мы и опасались, — произнес Иаков-меньший, глядя на Иисуса так, будто готов был сбить его с ног.
— Вы его любите, — сказал Иисус. — Давайте больше не будем говорить о возможных исходах. Идите же, и да поможет вам Бог.
В один из дней — еще до того, как Варфоломей и Иаков-меньший смогли передать Иоанну весть от Иисуса, — Крестителя, с которым в тюрьме обращались хуже, чем с диким зверем, истощенного, больного и грязного, извлекли из его ямы. Для этой цели сквозь решетку в полу коридора, под которой Иоанну пришлось провести столько дней, опустили лестницу. «Вылезай наверх!» — скомандовал стражник. Когда Креститель карабкался наверх, ему едва удавалось перебирать по ступенькам иссохшими руками и ногами. Наконец Иоанн достиг последней ступеньки, грубые руки подхватили его, и он оказался на полу коридора, который вел к комнате стражников. Крестителя бесцеремонно окатили водой из ведра, затем положили на старую мешковину, чтобы он обсох, после чего стражники накинули на него плащ из тонкой ткани и, наряженного таким образом — никакой другой одежды на Иоанне не было, — повели к сверкавшему золотом и источавшему ароматы дворцу, по пути толкая в спину и подгоняя остриями копий. У входа их встретил какой-то офицер высокого ранга, который и препроводил Иоанна в личные покои Ирода Антипатра. Тот, сидя в глубоком кресле, уже ждал Крестителя. Перед Иродом на медном столе были разложены лакомства и стояли два серебряных кувшина — с вином и со свежей родниковой водой. Несмотря на сильную боль, Иоанн стоял в полный рост, давая Ироду возможность разглядеть своего пленника — избитого, подавленного, истощенного, неприлично измаранного.
Ирод заговорил:
— Они, то есть мы, как я могу видеть, обращались с тобой не лучшим образом. Ну что же, все это может измениться. Садись, поешь немного, выпей вина. Расслабься, если можешь. Прогони страх, не думай, что тебя немедленно казнят. Это не причастие перед смертью. Проклятье, да расслабься же, Иоанн! Мы ведь знаем друг друга. Когда-то мы были друзьями.
Иоанн стоял, не произнося ни слова, не беря ничего со стола, глаза его сверкали.
— Чего ты хочешь, Иоанн? — нетерпеливо-раздраженно спросил Ирод. — Может быть, все дело в том, что я нарушаю брачные законы? Но ведь я намерен раскаяться в содеянном и исправить положение. Это удовлетворит тебя?
— Но можешь ли ты очиститься от греха, взяв на себя еще больший грех? — сказал Иоанн. — Ведь ум твой заражен мыслью о новом грехе. Я знаю тебя, Ирод.
— Да, я знаю, что ты знаешь меня, — надул губы Ирод. — А вот насчет того, знаю ли я тебя… Было время, когда мы действительно знали друг друга. Тогда мы были всего лишь детьми. Мы одной крови, Иоанн, мы из одной и той же семьи. Как ты думаешь, что я должен чувствовать, когда ты гниешь в тюрьме, а по ту сторону решеток воет вся эта свора? Почему ты идешь против здравого смысла, Иоанн? Почему забываешь, кто ты?
— Так кто же я, Ирод?
— Человек, которого я мог бы использовать. — Ирод наполнил кубок и осушил его тремя жадными глотками. — В этом несчастном царстве для тебя есть работа. Если ты хочешь власти, ты получишь ее. Власть созидать, но не разрушать…
— Созидать на продажности еще большую продажность.
— Я понимаю, — сказал Ирод. — Делегированных полномочий тебе было бы недостаточно. Послушай, Иоанн. Мне известно, что ты проповедуешь. Ты проповедуешь новое Царство. Но в твоих жилах течет царская кровь, и толпа знает об этом. Так что же, ты хочешь царской короны?
— Моей задачей было подготовить путь тому, кто будет носить царскую корону, — ответил Иоанн. — Но это не та корона, которую изготовляют золотых дел мастера, а священники освящают.
— О, эта твоя дешевая риторика, рассчитанная на толпу! Эти тщательно сбалансированные фразы, напыщенный негативизм. Ты имеешь в виду того нового проповедника, что бродит где-то поблизости? А добропорядочный ли он человек? Стоит ли он того, чтобы о нем беспокоиться? Не послать ли мне за ним, чтобы он прочитал маленькую проповедь нашему двору? Мы хотим чего-нибудь новенького, Иоанн. Нам так наскучили пиры, танцы, все эти игры в бирюльки… Где он теперь?
— Ты хитрая лиса, Ирод. Но тебе не удастся заманить его в ловушку и уничтожить, обвинив в государственной измене. Можешь не бояться, что твой трон будет сокрушен. Никто не собирается свергать тебя, никто не будет срывать с твоей головы это драгоценное украшение. Прежде чем сменятся царства, должны измениться люди.
Некоторое время Ирод молчал, задумчиво пощипывая свою недавно выкрашенную мурексом[95] бороду, затем сказал:
— Если бы я освободил тебя, как бы ты распорядился своей свободой?
— Я последовал бы за ним, — сказал Иоанн. — За тем, чью стезю я уготовил. Но ты не освободишь меня.
— А ты в этом уверен? Ты всегда слишком уж во всем уверен, Иоанн, — вот твоя вечная беда. Это было твоей бедой еще в ту пору, когда мы вместе играли в детские игры. Названия цветов, имена царей Вавилона, вся эта ерунда… Ты ведь всегда все знал, не так ли? Ну что же, хорошо, возвращайся в свою грязь. Окажи мне услугу, ударь, пожалуйста, в тот гонг. Мне нужна стража.
— Когда ты собираешься меня казнить? — спросил Иоанн.
— Никогда, никогда, никогда! — воскликнул Ирод. — Хотя бы ради того, чтобы досадить этой суке, моей жене. Ты будешь и дальше гнить в своей дыре. Ударь же в тот гонг. Тебе до него ближе. Очень хорошо, не хочешь — не надо. Не думаю, что могу надеяться на благосклонность того, кому суждено гнить в тюрьме.
Ирод подошел к медному гонгу, нетерпеливо ударил по нему железной колотушкой, затем переместился к столу, взял кончиками пальцев одну из сладостей и предложил Иоанну:
— Ты уверен, что не хочешь чего-нибудь съесть, перед тем как вернешься к хлебу и воде? Попробуй-ка вот это. Изысканное кушанье! Акриды в диком меде!
Вошли стражники во главе с капитаном. Иоанна увели. Широко раскрыв рот и глаза, за происходившим тайком наблюдала маленькая Саломея.
Когда Ирод с женой и приемной дочерью (одновременно и племянницей) сели обедать, его аппетит был испорчен громкими причитаниями Иродиады:
— …Не могу и шагу ступить за пределы дворца — моего дворца! — чтобы не услышать эти вопли толпы: «Прелюбодейка! Прелюбодейка!» Почему я, царица, должна жить здесь, как в тюрьме?! Я, между прочим, царица Галилеи, если ты помнишь. Говорю тебе: немедленно останови это!
— Толпа все равно будет кричать: «Прелюбодейка! Прелюбодейка!», — проговорил Ирод, сосредоточенно вырезая из куска телятины нечто, своими очертаниями напоминающее его тетрархию. — А еще будет выкрикивать: «Убийца! Убийца!»
Саломея, на вид — совсем невинное дитя, выглядела в должной степени испуганной.
— Милое дитя, — улыбнулся Ирод, — ты совсем ничего не ешь.
— Когда он умрет, о нем быстро забудут, — не унималась Иродиада. — Толпа всегда так ведет себя.
— Я далек от того, чтобы поддерживать твои кровожадные устремления, моя дорогая, и намерен его отпустить. В свой день рождения, знаешь ли. Этого ждут — ждут, что я проявлю неожиданное милосердие. Саломея, сладкая моя, тебе нравится такой ход мысли? Это и есть то, что называется парадоксом. Или аномалией. В общем, как-то так…
— И позволишь ему перебраться в Иудею, где он сможет кричать «Прелюбодейка! Прелюбодейка!» в самые уши Понтия Пилата? Ты добьешься того, что Пилат поедет к императору Тиверию и посоветует ему ввести в Галилею римские войска, поскольку Ирод Антипатр не может поддерживать у себя порядок. Убей Иоанна!
Ирод встал.
— Я поем это мясо в холодном виде перед сном, — сказал он. — Сейчас нет аппетита, и это неудивительно. Сегодня меня еще ждет заседание совета.
— Тогда вышли его в Египет, — настаивала Иродиада. — Там он для нас будет не опасен. Освободи его и отправь в Египет. При этом условии я согласна на его освобождение.
— Ты странная женщина. Но это, конечно, то же самое, как если бы я просто сказал, что ты — женщина. Слишком быстро меняешь планы. Но я вижу тебя насквозь. Как только Иоанн шагнет за пределы тюрьмы, с ним может произойти — а может и не произойти — какой-нибудь несчастный случай. Это, конечно, лучше, чем казнь. Очень умно! Но недостаточно умно, не так ли, дорогая Саломея?
— Женский ум как раз у тебя, мой дорогой господин, — сказала Иродиада. — Я имею в виду женский ум, как его понимают мужчины. Ни о каких несчастных случаях — это твои слова — я не думала, а говорила лишь о том, как отделаться от этого человека с наименьшими хлопотами. Ты убедил меня, что убийство Иоанна было бы для тебя опасным. Так вышли его в Египет, и он для меня будет все равно как мертв.
— Когда Иоанн выйдет из темницы, чтобы покинуть мое царство, — произнес Ирод, — имей в виду, я не сказал «если», я сказал «когда», — он получит вооруженное сопровождение до самой границы. У меня ведь нет твоих одноглазых головорезов с характерным прищуром, у которых просто руки чешутся пустить в ход свои кинжалы. И еще одну вещь скажу тебе, любовь моя. Если, несмотря на все принятые мною меры предосторожности, Иоанну будет причинен какой-то вред — с этого момента и до моего дня рождения, — всю вину за это я возложу только на одного человека и, смертельно тоскуя, с великой скорбью в душе повелю, чтобы опустился топор палача. Сильно сказано, не правда ли, прелестная маленькая Саломея? А что ты подаришь мне на мой день рождения? Нет, нет, не говори, пусть это будет для меня приятной неожиданностью! Теперь же, мои дорогие женщины, я должен вас покинуть.
Варфоломей с Иаковом-меньшим (Иаковом Иоанна, которому вскоре суждено было стать Иаковом Иисуса) смогли донести свою весть до учителя только тогда, когда барабаны и трубы уже возвестили о дне рождения Ирода. Пророк, вымытый и одетый против воли (хотя иначе ему пришлось бы остаться абсолютно голым) в прекрасную тунику и плащ, из гардероба самого тетрарха, стоял, щурясь от света, у своей бывшей тюрьмы в плотном окружении стражников. В это время остальные стражники, раздавая пинки и удары, отгоняли возбужденную толпу. Иаков не оставался в долгу. Мало обращая внимание на уколы копий и удары мечей, наносимые плашмя, он крикнул:
— Иоанн! Учитель! Посмотри сюда! Мы здесь — Иаков и Варфоломей! — Иоанн обернулся в их сторону. — Послушай, учитель! Мы с ним виделись и говорили. Работа идет хорошо, твои пророчества начинают сбываться. Это известие и его благословение мы получили из его собственных уст.
— Скажите всем моим друзьям и последователям, — ответил Иоанн, — что теперь они могут идти к нему. Здесь моя работа закончена. Меня изгоняют из царства. Я ожидал смерти, но изгнание — та же смерть. Благослови вас Бог. — И стражники увели его.
Последователи Иисуса составляли уже децемвират[96] — организацию, которая была слишком велика, чтобы обладать прежними свойствами свободной группы случайно собравшихся людей, и теперь с необходимостью должна была приобрести качества манипула[97], преданного своему командиру. Ученики, даже когда их было восемь, редко произносили слово «мессия» и не особенно задумывались над той настоятельной задачей, предсказанной Писанием и громогласно подтвержденной Иоанном, которая состояла в спасении Израиля от греха и создании святого Царства. Воодушевленные учением своего наставника, в котором главное внимание уделялось достаточности хлеба насущного и обличению зла, они тем не менее имели весьма смутное представление о своей будущей жизни. Им виделось, что отныне они будут скитаться по Галилее и помогать Иисусу проповедовать его новую философию тем толпам, которые они смогут собирать, а их собственная убежденность в истине понадобится лишь там, где еще не слыхали о способностях Иисуса как целителя. Нынешняя работа учеников сводилась скорее к сдерживанию толп людей, которые жаждали чудес и не очень-то заботились о том, чтобы платить Иисусу вниманием и прислушиваться к смыслу его учения. Но теперь, с приходом Варфоломея и Иакова-меньшего, ученики стали привыкать к мысли о более высокой цели. Иаков отличался грубоватой прямотой деревенского борца. Варфоломей был более тонким человеком и обладал высокой точностью мысли. Тем не менее существо их речей сводилось к одному и тому же: Израиль должен быть спасен, Иерусалим, хотя и крепкий орешек, поскольку его держат две железные руки — римские оккупанты и синедрион, рано или поздно будет занят, а Царство — не поэтическое словечко, подходящее для песенок Филиппа, но надвигающаяся реальность. Иисус был для них Мессия, Избранный, Помазанник, или Христос, если называть по-гречески, и все, что было сказано в книгах Исаии и других древних пророков, им будет исполнено, причем не через сорок или пятьдесят лет, а в течение ближайших месяцев — десяти, двадцати или тридцати. Симон, который однажды заявил, что все эти скитания, исцеления и проповеди не могут продолжаться долго, в своих предчувствиях оказался прав, хотя он и полагал тогда, что конец их деятельности положат фарисеи. Теперь же Симон знал, что фарисеи непременно будут сломлены, и победит их общественное мнение, которое выковывалось под воздействием нового учения. Римляне? В Писании о римлянах ничего не было сказано. Римляне, как говорил Варфоломей, это временное оккупационное войско — водоросли и обломки деревьев, проплывающие по великой реке жизни Израиля. Иудейская вера их не заботит. Работа Мессии прежде всего должна происходить в мире духа. Мир, где идет купля и продажа, где строятся дороги, ремонтируются улицы и охраняются переулки, где собираются подати, а людей судят за преступления, — это не мир Мессии.
Десять человек были группой посвященных, которых объединяла великая преданность друг другу. Но в этой группе оставалось место и для более частных проявлений дружбы. Так, Филиппа и Фаддея, наслаждавшихся соединением звуков голоса и флейты в приятную, тонкую гармонию, сближала любовь к музыке. Оба они, натуры мечтательные и деликатные, были склонны к искусству, но вовсе не к забою скота. Матфея и Симона, из которых один был когда-то жестоким мытарем, а другой жестоко страдал от поборов, роднило флегматичное смирение перед неизбежными несправедливостями жизни — эта сомнительная благодать часто нисходит на людей среднего возраста. Фому тянуло к Матфею и Симону, но, будучи человеком сварливым и придирчивым, он не стал настоящим другом ни тому, ни другому. Фоме было трудно угодить, и он отличался таким пессимизмом, что непременно остался бы недоволен, если бы дождь, который он, по цвету зари, предсказал на рассвете, к концу дня не пошел бы и не вымочил бы их насквозь. Может быть, это походило на шутку, но оба Иакова быстро стали друзьями. Обычно они находились рядом, что облегчало задачу обращаться к тому и другому по именам: фразы вроде «Я не тебя имел в виду, Иаков, а другого Иакова» почти не произносились. Варфоломей, несколько меланхоличный и задумчивый человек, в свободное время любил собирать травы, а затем проверять, не оказывают ли их случайно подобранные сочетания успокаивающего действия на его желудок, не отличавшийся крепостью, и (по просьбе Фомы) не снимают ли они боли в суставах, возникающие от сна под открытым небом и воздействия резкого, колючего ветерка в предрассветные часы. Варфоломей не был мастером разжигать костры, тогда как Андрей, более или менее добровольно взявший на себя заботы по приготовлению еды для своих товарищей, мог развести костер в мгновение ока (Иоанн помогал тем, что добывал кремни и щепки для растопки). Свои нехитрые блюда Варфоломей просто доводил до кипения, Андрею же, чтобы приготовить рыбу на вертеле или рыбу, запеченную в листьях, нужен был хороший огонь. Бывало, они ссорились, но продолжалось это недолго и случалось нечасто. Обедали они после захода солнца и ели обычно рыбу, зелень, маслины, смоквы и хлеб, запивая все это водой. На рассвете — кусок черствого хлеба и та же вода. Проводя почти весь день в пути, они для поддержания сил жевали плоды деревьев и кустарников, колосья, мясистые листья, и это отвлекало их от мыслей о еде. Иногда семья исцеленного мужчины, женщины или ребенка с радостью подносила им куски холодной баранины, хлеб, кувшины с вином. Гораздо реже их приглашали к столу, где еду подавали слуги.
Иоанн, громогласный (когда громкая речь не обижала ничьего слуха), но имевший довольно хрупкое телосложение и тонкие черты лица, был если и не ближайшим другом Иисуса, то, по крайней мере, его ближайшим спутником. В дороге он всегда держался к нему ближе, чем другие, стирал его одежду, преданно заботился о нем, когда тот бывал в унынии, успокаивал его в минуты гнева. Но Иисус, проявляя холодную беспристрастность, не выказывал к Иоанну какого-то особо благосклонного отношения. И все-таки однажды он несколько раз назвал во сне его имя — громко, словно терзаясь в муках. Его возглас разбудил спавшего рядом Иоанна и других, но только не Иакова-меньшего, который спал как убитый. Варфоломей в это время еще потягивал охлажденное варево для своего желудка, никак не желавшего примириться со съеденной на ужин ильной рыбой. Иоанн подошел к Иисусу и спросил:
— Учитель, что случилось? Иоанн рядом с тобой, учитель.
Иисус посмотрел на него так, словно никогда раньше не видел, потом глубоко вздохнул и произнес:
— Другой, другой Иоанн, не ты. Ложись спать. Я должен молиться.
ШЕСТОЕ
Пиршество по случаю дня рождения тетрарха Ирода, как и подобало такому событию, было роскошным. Здесь угощали языками жаворонков в кассиевом[98] меду, сырыми павлиньими мозгами, приправленными шафраном и мятой, голубями, сваренными в сиропе с яичным желтком, испеченными на раскаленных камнях барашками, которые были настолько мягкими, что кусочки мяса легко отделялись двумя пальцами, и подавали их на блюдах, выложенных финиками, айвой и изюмом. Были здесь ватрушки, пироги с фруктами, фруктовые супы и вино, вино, вино…
Ирод сидел, непрерывно поглощая еду и вино, и глуповато улыбался, наблюдая за выступлениями огнеглотателей, исполнителей акробатических танцев и египетской борьбой. Иродиада, сидевшая слева от тетрарха, имела весьма царственный вид. Маленькая Саломея подошла к Ироду и, устроившись рядом, прильнула к нему. Ирода это тронуло, и он почувствовал нечто вроде воспоминания о шевелении в чреслах. Девочка была наряжена в шелка и вся пропахла арабскими духами своей матери.
— Какой приятно пугающий приступ любви, моя милая девочка, — сказал Ирод. — Жаль, что день рождения у меня не каждый день.
— А что, если я исполню для тебя тот танец, о котором ты всегда меня просишь? — поинтересовалась Саломея.
— Должен сказать, что ни один царь не мог бы просить о подарке, вызывающем, позволю себе сказать, большее беспамятство. Но ты, конечно, не собираешься делать это сейчас, моя прелесть?
— А что ты мне дашь, если я станцую? — спросила девочка.
Некоторые из гостей захохотали, а один заметил:
— Женщины, твоя светлость, женщины! От них ничего даром не получишь! — Вино стекало с его синей бороды.
— Все что угодно в обмен за кое-что, — ответил Ирод и задумался, что бы эта фраза могла значить. — Все, что пожелаешь, дитя мое. В пределах разумного, конечно.
Другой гость сказал:
— Ты сказал «что пожелаешь», великий. Мы настаиваем, чтобы ты выполнил свое обещание, ха-ха!
— Музыку! — крикнул Ирод. — Принцесса будет танцевать!
Заиграли три флейты разных размеров, низко загудела волынка, вступил шалмей[99], зазвенели шесть по-разному настроенных колокольчиков, послышались удары большого и маленького гонгов, мягко и глухо загудел большой барабан, запела двенадцатиструнная арфа, защелкали две пары кастаньет. Пьеса звучала превосходно, как если бы прежде ее тщательно отрепетировали. Она представляла собой двухчастное произведение: первый период объявила флейта, затем, во втором периоде, включились шалмей и гонги, дальше последовало семь вариаций этой мелодии, когда инструменты выступали в разных сочетаниях, причем каждая игралась быстрее предыдущей, и, наконец, все завершила еще одна вариация, очень быстрая и несколько даже фантастическая, исполненная оркестром в полном составе. Пока тихо звучал первый период, Саломея просто стояла и слегка покачивалась, словно деревце на сильном ветру, ее тонкие обнаженные руки грациозно извивались. Затем, с началом первой вариации, она принялась томно переступать ногами, а в конце очередной музыкальной фразы сбросила с себя верхнюю шелковую одежду.
— О, я думаю, можно сказать заранее, что будет дальше, — сказал синебородый гость.
— Я видел подобное в Александрии, — отозвался другой гость.
— Замолчите! — приказал Ирод. — Все замолчите!
Было видно и слышно — по крайней мере, это заметила внимательная Иродиада, — как участилось его дыхание. В конце второй вариации Саломея сняла остатки верхней одежды, обнажив живот с выпуклым пупком и ноги ниже колен. После третьей, завершившейся грохотом гонгов и барабанной дробью, которая длилась все время, пока Саломея готовилась к четвертой вариации, она оголила бедра. Теперь за царем наблюдала не только Иродиада, но и другие. Почти в такт мелодии гости переводили взгляды с танцовщицы на царственного зрителя, пораженные бледностью его потного лица, безумным взглядом широко открытых глаз, свистящим астматическим дыханием и оскалом влажных зубов. В конце четвертой вариации Саломея отбросила тонкое шелковое покрывало, под ним обнаружилось еще несколько, но уж они-то явно обещали обнажить грудь девочки и ее срам — соски первой и темная гривка второго уже начали, так сказать, подниматься к поверхности сквозь волны шелка, остававшиеся на танцовщице. В конце пятой вариации Ирод судорожно дергался в своем царском кресле, а в конце шестой был близок к редкостной смерти от экстаза. Саломея прервала свой танец и, часто дыша, уставилась на царя своими большими черными глазами. Ее нижняя губа была похожа на сгусток крови. Она произнесла:
— Ты сказал: «Что угодно».
— Да, да, дитя…
— Мама скажет тебе, что мне нужно.
И она снова начала танцевать. Последняя вариация была долгой, со множеством фиоритур, издаваемых флейтой и шалмеем, а девочка, на которой оставалось лишь одно покрывало, тончайшей туманной дымкой реявшее между глазами зрителей и откровением обнаженного тела, исполняла пантомиму бесстыдной, неудержимой похоти. Иродиада что-то шепнула Ироду на ухо, и тот простонал:
— Нет, нет! — Но, находясь уже на пороге семяизвержения, тут же закричал: — Да, да!
Саломея сбросила последний покров. По телу Ирода пробежала дрожь, и он затих, часто и тяжело дыша. Гости хлопали в ладоши и выкрикивали имя танцовщицы. Ирод тоже выкрикивал. Мать девочки вышла вперед, поцеловала дочь и закутала ее потную наготу в пурпурный плащ. Тогда Ирод сказал:
— Я должен как-то определить это свое «да».
Послышалось приглушенное бормотание гостей.
— Вам, должно быть, известно, что я освободил Иоанна, — объявил Ирод. — Своего рода акт милосердия в мой день рождения. Нам до него уже не дотянуться, он свободен.
Иродиада с горящими глазами подошла к нему.
— Умно, ловко, моя дорогая! — язвительно сказал Ирод. — Я должен был бы сказать — тебе до него уже не дотянуться…
— Но ты обещал, господин мой! — воскликнула Иродиада. — Слово царя! Пусть воют трубы и грохочут барабаны, пусть все знают, что царь не выполняет своих обещаний!
— Это было теоретическое «да», — спокойно и холодно сказал Ирод. — Здесь я стою на своем. Практическая реализация моего «да» зависит от… Очень хорошо, сделай это, если сможешь. Я предоставляю тебе такое право. Полагаю, это должно удовлетворить тебя.
— У меня есть царский приказ, он уже начертан. Недостает лишь твоей подписи и царской печати.
— И я полагаю, — сказал Ирод, дрожа, только эта дрожь не была вызвана экстазом, — что где-то поблизости, вне всякого сомнения, стоят наготове всадники, ожидающие твоего слова, а у одного из них в сумке острый топор. Но как бы резво они ни мчались, ты все равно опоздала.
Однако продвижение Иоанна к границе Галилеи сильно замедлилось — повсюду его встречали толпы радостных последователей. Одни, наиболее преданные, настаивали, чтобы он говорил перед ними, другие просто требовали крещения водой из его рук.
Иоанн и сопровождавшие его вооруженные люди брели под палящим солнцем по каменистой равнине, когда капитан стражников — человек, восхищавшийся Иоанном больше, чем отваживался это показать, — заметил облако пыли, приближавшееся к ним с той стороны, откуда они пришли, а затем из этого облака выскочил всадник на взмыленной лошади. Он достал перевязанный лентой свиток и вручил его капитану. Тот развернул его, прочитал и не поверил своим глазам.
— Этого не может быть! — воскликнул капитан, в недоумении глядя на всадника. — Здесь какая-то ошибка.
— Никакой ошибки, — ответил всадник. — Подпись, несомненно, царская. Так же как и печать.
Всадник вынул из седельной сумки какой-то черный сверток и стал его разворачивать. А затем продемонстрировал окружающим чистый, новый топор, ярко блеснувший на солнце.
Иоанн сказал:
— Вы, господа, я вижу, потрясены даже больше моего. Так как же будет проходить казнь? Вон я вижу подходящий гладкий камень, который вполне может сойти за плаху. — И он большими шагами направился к этому камню.
Голова Иоанна была отделена от тела тремя ударами топора. Когда она скатилась в пыль, было видно, как губы шевельнулись, но никто не мог сказать, прозвучало последнее слово или нет.
— Я специально захватил с собой мешок, — сказал всадник. — Будь добр, помоги положить ее туда. Подними осторожно за волосы… так… порядок. Да, она тяжелее, чем можно было подумать. Не хочу являться для доклада с руками в крови. Хорошо, теперь дело сделано. Благодарю тебя.
И он во весь опор помчался во дворец, а стражники молча глядели на безголовое тело и на блестящее роение мух, облепивших кровавые отверстия шейных сосудов. Было ясно, что тело придется оставить здесь. Им займутся прожорливые обитатели неба и равнин. Стражники медленно побрели в обратном направлении, и у них уже были готовы лживые объяснения для тех последователей Иоанна, которые, вероятно, снова повстречаются им на пути. Стражники молчали — меж собой им не о чем было говорить.
Когда в пиршественный зал Ирода двое слуг внесли огромное серебряное блюдо, накрытое крышкой, кто-то из гостей пошутил:
— Ага, снова начинаем! Увы, для принятия рвотного слишком поздно. Я уже на стадии переваривания.
Иродиада проследила, чтобы двое слуг сняли крышку. Саломея пронзительно завизжала, завизжала, завизжала, а Ирод как-то странно и очень нерешительно произнес:
— Уберите. Уберите отсюда эту штуку.
Он поискал взглядом виночерпия.
— Ты, — приказал Ирод, — возьми это и выбрось куда-нибудь. — И виночерпий вывалил содержимое блюда в один из очагов.
После этого праздничный пир продолжался недолго.
КНИГА 4
ПЕРВОЕ
В ту пору среди сынов Израилевых водились некие люди, и было их немало, которые считали себя последователями Иоанна, но самим Иоанном за таковых никогда не признавались, поскольку упорствовали в неверном истолковании как его учения, так и его замыслов. За фанатичную приверженность идее освобождения Израиля от иноземного владычества людей этих называли зелотами, что значит «ревнители». По какой-то причине они полагали, что яростная деятельность Иоанна в качестве крестителя и его крики о том, что он расчищает путь для Того, Кто Грядет, — не более чем демонстрация неповиновения государству. Поскольку тетрарх Ирод как раз и воплощал в себе Галилейское государство, а Иоанн яростно обличал его кровосмесительное прелюбодеяние, то попыткам зелотов поставить знак равенства между миссией Иоанна и политическим движением можно найти известное оправдание, хотя, конечно, и с большой натяжкой. Как и все люди, увлеченные политикой, они слишком упрощали дело, имея, по сути, очень отдаленное представление об истинных человеческих приоритетах, да и в самой природе человека, если уж на то пошло, разбирались очень слабо.
Когда в том месте, где был обезглавлен Креститель, предавали земле то, что осталось от его тела, рядом с самыми верными последователями Иоанна стояли и пятеро зелотов. Их звали Симон, Иоиль, Амос, Даниил и Саул. Это были люди, беззаветно преданные делу, однако если бы они потрудились заглянуть в себя, то могли бы обнаружить, что в их ревностном отношении к священному и свободному Израилю было что-то от фарисейства.
Используя пророческие обороты, Иоиль гремел:
— Ему отстригли голову, как кролику. Завернули в мешковину, и та насквозь пропиталась его кровью! А затем, словно игрушку, подарили девчонке-танцовщице! Именно теперь мы должны выступить, мы должны действовать именно теперь!
Логика этого заключения была несколько туманной.
Амос заметил:
— Мы жаждем отмщения за смерть нашего вождя. Но нам не хватает вождя, который повел бы нас к отмщению.
— Месть — негодное средство в политике, — возразил Даниил. — Да и сам Иоанн никогда не говорил, что он наш вождь. Он говорил, что должен лишь подготовить путь для вождя.
— Убить Ирода Галилейского! — снова загремел Иоиль. — Нет нужды устраивать военный совет. Мы можем пойти туда прямо сейчас, пока в ноздрях народа галилейского, да и других народов тоже, стоит запах Иоанновой крови. Даже люди самого Ирода моются по десяти раз на дню, чтобы избавиться от запаха крови на своей шкуре.
— Допустим, мы убьем тетрарха Ирода, — рассуждал Даниил. — Но если нет настоящего вождя, кто вступит во дворец? Я вам скажу, кто это будет. Какой-нибудь безликий, ничтожный человек, назначенный кесарем Тиверием. И это будет точным повторением судьбы Иудеи. У нас появится прокуратор, как их теперь называют.
— Что бы вы ни предприняли, — сказал Симон, — это будет означать объявление войны самому Риму.
— Нет! — завопил Иоиль. — Это будет вызов кучке легионеров, изнывающих от скуки в мелкой, захолустной римской провинции! Но Симон отчасти прав. Не одна только Галилея и даже не она первая должна быть освобождена от тирании. Свободным должен стать весь Израиль. Весь смысл в том, чтобы весь народ поднялся на борьбу, чтобы поднялись все вместе.
— Это значит — военные советы, — сказал Саул. — Арсеналы. Разработка стратегии. Руководство. Великое царство. Свободный Израиль. Единение народа, сбросившего оковы. Под водительством Мессии.
Каждый из них сделал что-то вроде неуклюжего поклона погребенному телу, и они направились в сторону Мелаха, ближайшего от этого места городка. После искупительного свидания с мухами, разлагающимся трупом и засохшей кровью они с наслаждением вдыхали прохладный утренний воздух.
— Верите ли вы, что тот, другой, — Мессия? — спросил Иоиль. — Он проповедует доброту, любовь и прочее, но ни слова не говорит о том, что нужно сбросить оковы.
— Значит, ты допускаешь, — предположил Саул, — что Иоанн… Мир праху твоему, Иоанн, — вдруг скорбно произнес он, оборачиваясь, чтобы бросить последний взгляд на безымянный могильный холм. — Хотя кровь твоя взывает к мщению, да упокоится душа твоя. — И, обращаясь к своим спутникам, продолжил: — Так что же, вы допускаете, что Иоанн мог ошибаться?
— Скорее, он был невнятен, — ответил Иоиль. — Невнятен, и имел на это право. Иоанн хотел уберечь его — я имею в виду, Того, Кто Грядет, — от лисьего коварства Ирода и от мстительности этой прелюбодейки, этой сукиной царицы, его жены.
В разговоре наступила пауза. Они долго шли молча. Потом Симон предложил:
— Надо спросить его самого. Пусть кто-нибудь пойдет к нему и задаст прямой вопрос. Спросит: ты ли это?
— Он насторожится, — заметил Саул. — Да и можно ли упрекать его за это? Он вынужден хранить свою тайну, если она у него есть, до того дня, когда созреет плод. А Пока он будет продолжать проповедовать любовь и доброту.
— Надо спросить у него самого, — настаивал Симон. — В этом нет ничего плохого.
— Покойся же ты в мире, Иоанн, над шумом битвы! — воскликнул Саул с болью в голосе.
— Битвы нет, — отозвался Иоиль. — Пока нет.
В это время Иисус проповедовал доброту и любовь таким тоном, какой обычно не ассоциируется с этими понятиями. На площади городка Нахаш он пытался угомонить кучку насмехавшихся над ним фарисеев такими словами:
— Вы, любители чистоты, постоянно оттираете и моете руки, однако забываете о своих ушах! Разве не ушная сера, грязь и лицемерие мешают вам прислушаться к голосу разума? Хорошо же, очень хорошо. Иаков-меньший, перестань хмуриться и сжимать кулаки. Их не убедят ни здравый смысл, ни сила. Но здесь, слава Богу, есть и другие — не столь одеревенелые в приверженности букве Закона и более открытые его духу! Именно их я снова и снова прошу прислушаться. Какая из всех заповедей самая великая? Ответ хорошо известен. Даже фарисеям. Вы должны возлюбить Господа всем сердцем вашим, всей душой вашей, всем разумом вашим, всеми силами вашими. А теперь — слушайте внимательно! К этой заповеди мы должны добавить нечто новое — и вместе с тем нечто такое, что вытекает из природы и смысла этого старого закона, ибо, любя творца, вы должны также любить и его творение. Поэтому говорю вам: любите ближнего своего, как самого себя!
Среди насмешников и придир был один молодой фарисей, которому не очень-то хотелось отмахиваться от этого высокого, могучего проповедника как от глупца. В его проповедях он находил здравый смысл и то, что греки называют логикой. Вопросы, которые задавал этот фарисей, не выглядели пустыми придирками:
— Но кто в таком случае мой ближний? Царь Ирод Галилейский? Римский император Тиверий? Те сирийцы, которые нас ненавидят? Или жители Самарии, которые ненавидят нас не меньше?
Звали этого молодого человека Иуда Искариот.
Иисус улыбнулся:
— Хорошие вопросы. И вроде бы напрашивается ответ: мой ближний — это тот, кто одной со мной крови, одного со мной происхождения и одной веры, кто говорит на том же языке, что и я, и придерживается тех же обычаев. Но лучше будет, если вы услышите одну историю, она и даст вам правильный ответ. А еще лучше, если эта история будет пропета, тогда вашим достопочтенным прекислостям она покажется более сладкой. Ты упомянул о самарянах[100], которые нас ненавидят. Твои слова как нельзя кстати.
Он кивнул Филиппу. Пока Фаддей проигрывал несколько тактов, Филипп настроился на верный тон и запел:
Жил-был на свете иудей, Он так же, как и мы с тобой, Спокойно жил среди людей, Своей довольствуясь судьбой. Он торговал и по делам Однажды шел в Иерихон, Но по пути, да будет вам Известно, был ограблен он. Избитый, раненый, без сил Он на обочине лежал; Священник мимо проходил, Но помогать ему не стал. И правоверный иудей, Левит[101], проехал, но и он, Спеша дорогою своей, Оставил без вниманья стон. Последним самарянин шел Презренный — в дальний свой предел, И он лежащего нашел И всей душою пожалел. Его он бережно омыл, Протер целительным вином И раны страшные зашил Все до единой, а потом Он усадил его в седло, Отвез на постоялый двор, Где было сухо и тепло, И к жизни возвратил его. И, уходя, погожим днем Сказал трактирщику: «Хочу, Чтоб вы заботились о нем, — Я сколько надо заплачу». Так кто же помнится сильней Спасенному от смерти рьяной — Священник с черствостью своей, Хранитель веры — праведный левит, Или презренный самарянин?— Что мне добавить к этому? — продолжал Иисус. — Не так мелодично, конечно, как мой друг Филипп, но скажу вам: мы судим о людях не по их рождению, вере или положению, но по их душам. И если люди настроены против нас, мы должны стремиться смягчить их силой своей любви. Да, вы можете смеяться, — хотя захихикали только двое молодых глупцов, — но я говорю снова и снова: любите врагов ваших. Тем, кто делает вам зло, делайте добро. Это нелегко, однако мы должны изо всех сил учиться поступать именно так. А любовь начинается — запомните это! — с прощения.
— Значит, — сказал Иуда Искариот, — если человек украдет все, что у меня есть, я должен буду его простить? И если человек перережет горло моему младшему сыну, я тоже должен буду его простить? И когда я буду лежать на земле, а он занесет надо мной кинжал, мне снова придется простить его?
— Ты убедительно излагаешь мое учение, — заметил Иисус. — Но я иду дальше. Я задаю вопрос: сколько раз я должен прощать? Вы слыхали ответ: до семи раз. А я говорю вам: до седмижды семидесяти раз. И если вы не научитесь прощать душою, Отец ваш Небесный отдаст вас истязателям и извергнет вас во тьму внешнюю.
Иисус говорил с мягкостью, которую его ученики считали здесь неуместной. Иуда Искариот заметил:
— Когда тебе удобно, ты говоришь словами древнего Закона.
Иисус едва заметно улыбнулся и ответил:
— Я пользуюсь словами, понятными большинству из вас. Но эти суровые слова означают только одно: тот, кто не любит, не будет любим и Отцом нашим Небесным. Недостаток его любви — не худшее ли из мучений и не самая ли темная из ночей?
В настроениях большинства бывших там фарисеев каких-либо видимых изменений не произошло. Но один человек, который слышал часть речей Иисуса — собственно говоря, не фарисей, не кто-то еще в этом роде, а, скорее, самодовольный мелкий торговец, — принялся говорить о самом Иисусе, и говорить одобрительно, причем в доме, который пользовался дурной славой, — Иисус был бы рад узнать, что именно там о нем говорят с приязнью. Это был небольшой дом в том же самом городке — Нахаше. Человека звали Елиуй. Какое-то время он тряс своим жирным животом, удовлетворяя похоть, над девицей по имени Мария, родом из Магдалы, а потом, лежа рядом и приходя в себя, сказал:
— Сегодня в городе у тебя появился друг.
— Не знаю я никаких друзей.
— В наших местах проповедует некий Иисус, который говорит о прощении грехов. Кто-то спросил у него — а как быть с блудом? Да, ответил он, надо прощать и это. Тут один из фарисеев заявил, что грехи плоти, мол, ужасны. А Иисус ему в ответ: «Грехи плоти ничто в сравнении с грехами души». Ты не находишь это обнадеживающим, киска?
— Мужчина мужчину всегда простит, — сказала Мария. — Плотские грехи женщины совсем другое дело.
— О нет, только не для него. Он говорит: «Прелюбодеяние? Ничего особенного! Прощайте его!» Не нужно изгонять жен, все это глупости, говорит он. Муж и жена пребывают вместе. Муж и жена — одна плоть. Фарисеям такие речи не понравились, и они, ворча, разошлись. У него всегда хватало разных сюрпризов.
— Всегда? — спросила Мария. — Так ты и раньше встречал его?
— Мудрено не встретить, — сказал Елиуй, одеваясь, — если дело, вроде моего, вынуждает ездить по городам и деревням. Он ест и пьет под открытым небом вместе с ворами, бродягами, даже, извини, с блудницами и мытарями. А если кто приходит и начинает нудить по этому поводу, на таких он обрушивается беспощадно. Говорит, что праведникам он без пользы, а вот грешники в нем действительно нуждаются. Так что видишь, дорогая, тебе следует несколько приободриться.
— Приободриться — и что? Покончить со всем этим?
— А, я понимаю, что ты хочешь сказать, — молвил Елиуй.
Он поправил на себе одежду, огляделся, не забыл ли чего, и заявил:
— Ну, я должен идти. Жена ждет. Муж и жена — одна плоть. Гм. Не сказал бы я, что мне это нравится.
— А у него есть жена? — спросила Мария.
— У него? Он отверг плоть ради Царства Небесного. Как я говорил, у него хватает сюрпризов. Так на следующей неделе в то же время?
Елиуй громко чмокнул ее на прощание и ушел, веселый и беззаботный. Мария лежала усталая и подавленная. Суббота уже наступила. В этот день она будет соблюдать Закон Моисея. Что бы там ни говорила толстая хозяйка внизу, а работать в субботу она не станет.
В субботний полдень Иисус и его ученики шли по полю. Зерно было спелым, Иисус срывал колосья и с удовольствием жевал их, ученики с таким же удовольствием следовали его примеру. Пройдя поле и оказавшись на грязной дороге, которая вела к городу Мараду, они встретили двух фарисеев, одетых по случаю субботы во все лучшее. Увидев Иисуса и его учеников, фарисеи нахмурились. Один из них, по имени Иезекииль, резко заметил:
— Вы забыли порядок дней недели? Сегодня суббота. Вы собираете зерна, как грешники во времена Моисея собирали в пустыне манну небесную. За осквернение субботы он забросал их камнями. Читай Писание, ты… Вы все должны читать Писание.
— Сами читайте! — столь же резко ответил Иисус. — Вы никогда не слыхали о том, что сделал Давид, когда был голоден? Он вошел в храм и съел лежавший на алтаре хлеб, который могли есть только священники. И все же Бог не поразил его. Запомните, змеи подколодные: суббота для человека, а не человек для субботы.
И он пошел дальше, насмешливо поклонившись. То же сделали и его ученики, а некоторые не могли удержаться, чтобы не скорчить гримасу замолчавшим фарисеям.
— Попробуйте-ка что-нибудь возразить на это, болтуны! — сказал Фома. — Ведь не можете, а?
Иезекииль, провожая угрюмым взглядом компанию, которая, как он понял, направлялась в синагогу, произнес:
— Как раз там-то он и провалится. Сплошное богохульство! Если он когда-нибудь окажется в Иерусалиме, его там живьем съедят.
— Он собирается в Иерусалим?
— Так говорят люди. Конечно, мы могли бы расправиться с ним прямо здесь. Например, забросать камнями как богохульника. Такое уже бывало раньше.
— Но всегда недостает свидетелей. Его люди будут ложно клясться, пока их души не почернеют. Погодите, а как насчет Нафана?
— Какого еще Нафана?
— Ну, Нафана, Нафана. — Собеседник Иезекииля изобразил согнувшегося вдвое калеку.
— Ах, Нафан! Кажется, я понимаю, к чему ты клонишь.
В этот же день девица Мария Магдалина, узнавшая, что Иисус будет проповедовать в Мараде, пришла в этот город. Закрыв лицо покрывалом, она явилась в здешнюю синагогу и, расположившись в галерее для женщин, стала внимательно вслушиваться в каждое слово Иисуса. Среди прочего он сказал:
— Не судите да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. Мера за меру. Некоторые из вас тотчас видят соринку мельчайших опилок в глазу ближнего, но в своем глазу вы не замечаете и большой доски.
Иуда Искариот, который тоже был там, одобрительно улыбался.
— Пусть эти лицемеры прежде вынут большие щепки из своих глаз, тогда только они смогут видеть достаточно хорошо, чтобы из чужого глаза вынуть опилковую соринку. Теперь же говорю вам: просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам. Если же вы спросите: когда будет такое? — отвечаю: теперь.
В этот момент, очень точно угаданный, согбенный калека Нафан, которого те двое хитрых фарисеев вытолкнули вперед, крикнул:
— Вот именно теперь, учитель. Этого я и прошу — теперь!
Все обернулись в его сторону. Он стоял в самом центре собравшейся толпы, и все его многочисленные уродства были хорошо видны. Спина Нафана была согнута вдвое, правая нога торчала под таким углом, что передвижение становилось почти невозможным, одна рука была постоянно вскинута, словно в римском приветствии, нос покрыт огромными бородавками, а на левой щеке красовался отвратительный жировик. Иисус посмотрел на него без особенного сожаления, поскольку видно было, что человек этот так и не усвоил добродетелей, которые уравновешивали бы его уродство. Глазки Нафана смотрели очень хитро, а говорил он с завываниями.
Иисус сказал:
— Сегодня, как мне напомнили, суббота, когда ни один человек не должен работать. Когда даже лекарь запирает свои лекарства и искусство врачевания вынуждено ждать до начала следующей рабочей недели. Но я спрашиваю вас: если делать добро в субботу, по Закону это или против Закона? Я вижу, что ни один из вас, фарисеев, не желает отвечать. Тогда слушайте. Допустим, что у одного из вас есть осел или бык и этот осел или бык упал в колодец в субботу. Что же, вы допустите, чтобы он утонул? Ни в коем случае. Среди вас нет ни одного, кто не поспешил бы вытащить его, пусть даже на дворе суббота. Но жизнь человека намного дороже, чем жизнь животного. Если вы не позволите страдать животному, то не позволите страдать и человеку. Поэтому говорю тебе: в присутствии Бога и человека стань прямо! Будь чистым! Исцелись!
И калека Нафан вдруг обнаружил, что руки и ноги его стали подвижными и гибкими, тело выпрямилось, жировик на лице рассосался и даже бородавки исчезли. Но Иисус знал, что он не был полностью счастлив, поскольку уже привык жалеть себя. Фарисеи выглядели мрачными и разочарованными. Иисус встал во весь свой огромный рост и заговорил громоподобным голосом:
— Я вижу вас насквозь, ехидны! Вы уже обдумываете, как наилучшим образом обставить мою гибель. Вы слышите слово, но цепляетесь за букву. Иоанн Креститель не ел и не пил, а вы твердили, что в него вселился дьявол. Я ем и пью, а вы говорите: «Смотрите! Вот обжора и пьяница!» Вы увидели работу Бога, а скулите о мытье рук перед едой и о соблюдении субботы. Кто вы, все из вас, как не окрашенные гробы — красивые и чистые снаружи, а внутри полные грязи, всякой нечистоты и костей мертвых? Змии, порождения ехиднины! Как убежите вы от осуждения в геенну? Бог посылает к вам пророков, а вы готовы бить их в синагогах ваших, убивать и распинать за городскими стенами. Вы были рады, когда Иоанну Крестителю, как кролику, отстригли голову! Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля, убитого Каином, до крови сына Захарии!
Сказав это, Иисус большими шагами вышел из синагоги, за ним — его ученики, а люди, бывшие там, встали в ожидании в четырех или пяти шагах от входа, готовые выплеснуть всю накопившуюся злобу, кричать, швырять камни. Когда был брошен первый камень, Иаков-меньший тотчас бросил камень в ответ. К несчастью или наоборот, камень угодил в грудь только что исцеленного Нафана, дав тому повод снова заскулить. Иисус остановил Иакова-меньшего:
— Не трудись сражаться с ними. Расплата придет в свой срок. Во время жатвы пшеница будет отделена от сорняков.
Фарисей Иезекииль расслышал эти слова. Он выкрикнул:
— А что, только мы, которые соблюдают Закон, должны быть брошены в огонь? Неужели воры и блудницы будут собраны вместе с пшеницей?
И он указал на блудницу Марию, которую, кажется, знал лучше, чем должен был бы знать столь праведный и богобоязненный фарисей. Другой человек, улыбаясь, сорвал с девушки покрывало.
— Такие, как она? — спросил Иезекииль. — Такие, как эта грязная девка?
Мария была пристыжена и напугана. Эти люди, враждебные Иисусу, но слишком боявшиеся проповедника, чтобы посметь на него напасть, были рады найти более легкую добычу — несчастную девушку. Стоявшие там женщины вели себя ничуть не лучше мужчин, даже хуже. Но Иисус молча кивнул, и Филипп с Фаддеем увели Марию под сень его огромной фигуры. Громко, так, чтобы слышала толпа, он сказал Марии:
— Не бойся, дочь моя. Очиститься от грехов плоти можно очень быстро. Но для того чтобы выжечь грех в душе, требуется очень сильный огонь.
Иисус повернулся спиной к толпе с ее камнями и зашагал прочь. Мария шла, словно прилипнув к нему. За ними следовали ученики (не слишком уверенные, особенно Фома, в правильности того, что в их компании оказалась блудница: «Сделали все, что могли, по совести, пути назад нет, а всякий мусор собираем…»), оба Иакова составили готовый к драке арьергард. Симон согласился с Фомой, что пути назад нет. Приличия надо отставить в сторону. Это очень опасное сборище. Вроде зелотов. Вот кто такие теперь фарисеи.
ВТОРОЕ
В тот вечер они разбили свой лагерь у небольшого ручья. Мария Магдалина захотела остаться с ними. Иисус говорил с ней очень мягко. Проходя мимо с охапкой хвороста для костра, Андрей услышал слова Иисуса:
— Теперь ты видишь, дочь моя, — недостаточно лить слезы из-за того, что фарисеи плюют тебе вслед…
— А с наступлением темноты они готовы приходить ко мне со своими деньгами, — сказала Мария, — и даже со словом «любовь» на устах.
— То, что нашептывают голоса предрассудков, то, что говорят лицемеры, даже завистливые взгляды — а ты, выражаясь поэтически, одна из прекраснейших дочерей Евы, — все это, скажу тебе, не имеет никакого значения. Но если тебе хочется рыдать — рыдай, ибо ты продаешь то, что священно. Это все равно что наполнять сосуды священного храма отбросами, которыми кормятся собаки. Бог улыбается, когда видит объятия любви, но при этом все же скромно отводит глаза, ибо даже он не может нарушать покоя влюбленных. Однако Отец наш Небесный плачет, когда объятия превращаются в насмешку. А теперь ты тоже можешь поплакать.
Мария не стала плакать, по крайней мере, в этот момент.
— Говорят, тебе вовсе не знакомы объятия женщины, — сказала она.
— Значит, люди говорят неправду, — ответил Иисус, улыбнувшись. — А что до теперешнего моего положения, то какал жена согласилась бы терпеть жизнь, которая проходит в скитаниях и проповедях?
— Я могу назвать одну, — смело сказала Мария, — которой эта жизнь не показалась бы тягостной. К тому же все твои ученики ходят в лохмотьях и едят рыбу, которую считают приготовленной, а на самом деле она совсем сырая. И даже твоя одежда грязна и нуждается в штопке.
— Благослови тебя Господь, дочь моя, но ты сама знаешь, что это невозможно. Что скажет мир? Мы знаем, что мир глуп, однако вынуждены мириться с некоторыми его глупостями, лишь бы посеять семена Царства.
— Значит, я не могу пойти с тобой?
— Ты можешь пойти той же дорогой. Но ты не можешь идти с нами. Мои ученики — мужчины, в конце концов. И каждый день они молятся о том, — он улыбнулся, — чтобы не впасть в соблазн.
Соблазн. Приблизившись, Иуда Искариот расслышал это слово, затем увидел Иисуса и Марию. Он не решался обнаружить себя и, прислушиваясь, ждал за деревом.
— А эти деньги, они тоже грязные? — спросила Мария. — Деньги, которые я скопила?
— Деньги не бывают ни грязными, ни чистыми, — ответил Иисус. — Золото и серебро не имеют разума. Если ты хочешь отдать их беднякам, отдай без колебаний.
— Но я не думала о том, чтобы отдать их. У меня в мыслях было совсем другое… — Мария заметила мелькнувшее за деревом белое одеяние и испуганно вскрикнула: — Кто-то нас подслушивает! — А когда с виноватым видом появился Иуда Искариот, она закричала: — Это один из фарисеев! Он из тех, которые проклинают меня днем…
— И благословляет ночью, — продолжил Иуда Искариот. — Тебе не стоит так говорить. Думаю, больше ты не должна называть меня фарисеем.
— Теперь иди, дочь моя, — сказал Иисус. — Скоро мы встретимся вновь.
Мария поцеловала его руки и ушла, бросив на Искариота недобрый взгляд. Иисус спросил:
— Кажется, я не впервые слышу твой голос?
— Можно мне присесть?
Иуда сел. Это был хорошо сложенный, мускулистый человек лет тридцати, с внимательным взглядом. Судя по его выговору, он воспитывался в Иерусалиме.
— Голос, который звучит сейчас, ты слышишь, безусловно, впервые. Я здесь не для того, чтобы задавать вопросы. Всю свою жизнь я был тем, кем ты назвал меня и моих лицемерных собратьев, — окрашенным гробом (хорошее выражение, с позволения сказать), любителем мыть руки перед едой…
— В этом нет ничего дурного, — ответил Иисус. — Прошу тебя, не бросай этой привычки, но помни, что на Бога вода и полотенце не производят особенного впечатления.
— Я говорю в переносном смысле, и, полагаю, ты понимаешь это, но изо всех сил стараешься поддразнить меня. Я имею в виду человека, который следит за внешней формой, так сказать, тщательно драит свой сосуд. Человека, который громко произносит молитвы в синагоге, но к слову и действию остается равнодушным. Прошу мне поверить, что я… больше не доволен собой. Ты веришь мне?
— Верю. Но бойся быть довольным собой только потому, что ты больше собой не доволен. Чем ты занимаешься, сын мой?
— Считай меня образованным человеком, в котором государство находит пользу. Я читаю и пишу на еврейском, греческом, латыни. Перевожу документы. Эта страна стала многоязычной. Видишь — у меня женские руки. Я никогда не работал по дереву и не ловил рыбу, чем, как мне известно, занимались твои люди. Мой отец был преуспевающим строителем, и однажды он сказал: «У моего сына никогда не должно быть мозолей на руках и кирпичной пыли в волосах. Мои деньги должны пойти на то, чтобы сделать из него ученого человека». И вот — перед тобой ученый человек. Может он быть полезен тебе? Но прежде… я хочу смыть с себя прошлое. Я должен быть прощен…
— Прощать не по моей части, — ответил Иисус. — Проси прощения у Отца своего Небесного. Хотя могу спросить: ты просишь прощения — за что?
— Я хочу быть чистым. Совсем чистым. — И он брезгливо повел плечами, словно на нем была грязная одежда.
— Если ты намерен очиститься от прошлого лицемерия, от того, что в прошлом тебе недоставало милосердия, от прошлых грехов плоти или духа, тогда можешь считать, что прощение ты уже получил. Если, конечно, ты действительно сожалеешь о прошлом. А будущее само позаботится о себе.
— Я ощущаю еще и прошлое, которое было до… до моего собственного прошлого. Ощущаю себя частью всеобщей нечистоты…
— Ты имеешь в виду грех Адама. Ты хочешь сказать, что сознаешь себя рожденным в грехе, поскольку родился человеком. Каждому человеку суждено нести в себе эту вину. Но человек способен уменьшить ее, если его жизнь будет полна любви и справедливости.
— Однако, будучи человеком и родившись грешным, я чувствую вину и за будущее.
— Ты слишком совестливый человек, — покачал головой Иисус. — Ты словно несешь на себе бремя грехов всех нераскаявшихся фарисеев. Послушай, кажется, ужин уже готов. Хлеб, принятый в качестве подаяния, и рыба, пойманная… Словом, ты должен пойти и поесть. Заодно представишься своим новым братьям.
ТРЕТЬЕ
Возмущенные смертью Иоанна Крестителя, некоторые зелоты решили нанести удар по Галилейскому государству, а в качестве объекта своей атаки выбрали слуг этого государства — безобидных чиновников, бедных солдат, поваров из царской кухни. Крики зелотов, когда их арестовывали, всегда сводились к одному: «Долой тиранию, долой угнетение! Убивайте убийц посланца свободы! Ирод — тиран и прислужник Рима! Восстань, о Израиль!»
Более зрелые зелоты это осуждали. На собрании, проходившем в его доме, Иоиль говорил:
— Кто приказал пойти на такую глупость? — Он имел в виду недавнюю неуклюжую попытку отравить вино, предназначавшееся для низших слуг царского дворца.
— Никто не приказывал, — отвечал Саул. — Поскольку отдавать приказы просто некому. Все, что нам остается, — это стихийные выступления. Кинжалы в ночи, так сказать.
— А получается большей частью — кинжалы средь бела дня, — сказал Иоиль. — Этих дурачков под палящим солнцем тащат в тюрьму, а они орут на весь свет свои глупости!
— Терроризм, — пробуя это слово на вкус, проговорил Саул. — Медленное изматывание противника. — Потом его лицо приобрело кислое выражение. — Да, все это глупость, в конце концов.
— Значит, идем прямо к нему и спрашиваем, — заявил Иоиль.
— Я всегда советовал это сделать, как вам известно, — заметил Симон.
— Если мы сможем пробиться сквозь толпы народа, — сказал Саул.
— Да, толпы… — пробормотал Амос. — Это уже не одинокий глас вопиющего в пустыне. Он собирает огромные толпы, очаровывает их.
— Добавьте сюда его чудеса, — сказал Даниил. — Чудеса привлекают толпу. На самом-то деле все это египетские фокусы, конечно. Как известно, он жил в Египте. Его чудеса нам очень помогут.
— Я поверю в чудеса, когда увижу их своими глазами, — сказал Иоиль. — Во всяком случае, нам не чудеса нужны, а кропотливая работа, руководство, управление из единого центра. Мы не можем ждать вечно. К нему пойдешь ты, Амос. И ты, Симон, пойдешь тоже.
— А где он теперь? — спросил Симон.
— Да практически везде, — ответил Иоиль. — Где увидите толпу, там его и найдете. Словом, время пришло. Спросите его.
В долине, или впадине, называвшейся Некев, которую окружали пологие холмы, собралась толпа, чтобы послушать Иисуса. Он должен был говорить со склона холма, своей формой походившего на зуб и потому носившего название Шен (или Син). О численности той толпы сообщают по-разному: одни утверждают, что там было едва ли больше тысячи человек, другие говорят о десяти тысячах. Но несомненно то, что для Иисуса никакая толпа не была слишком велика. Его могучий голос, питаемый из огромных воздушных сосудов, каковыми были его необъятные легкие, говорят, доносился до всего народа без всяких усилий со стороны Иисуса и был хорошо слышен на большом отдалении. Даже глухие слышали его. Когда он всходил на холм Шен (или Син), за ним следовало множество просителей. Ученики расталкивали их, хотя Иисус, пожелай он того, мог бы сам рассеять надоед, дав им сокрушительную отповедь своим громовым голосом. Тем не менее он сносил жужжание этих слепней, как называл их Фома, иногда останавливался, вслушивался — в глазах мелькали насмешка или сострадание — и то давал резкий совет, то ругал, то благословлял. Когда он дошел уже до середины холма Шен (или Син), его сильно толкнул какой-то молодой человек, довольно богато одетый. Безуспешно пытаясь преодолеть сдерживающую силу мускулов Иакова-меньшего, он крикнул:
— Учитель! Одно слово, учитель!
— Ты не из здешних, — произнес Иисус. — Ты говоришь не как житель Палестины. Откуда ты, сын мой?
— Я грек, — ответил молодой человек. — Сын греческого торговца.
Иисус с улыбкой обернулся к ученикам:
— Вот видите, дети мои, молва дошла уже и до язычников. Что ты хочешь услышать от меня, сын мой?
— Учитель, что я должен сделать, чтобы попасть в Царство?
Иисус тотчас ответил, с оттенком усталости в голосе:
— Ты должен любить Господа Бога всеми силами разума и души. Ты должен любить ближнего, как самого себя.
— Все это я стараюсь выполнять, но что я должен сделать еще?
— Ты должен продать все, что имеешь. Землю, дома, лошадей, золотые и серебряные украшения, дорогие одежды. А потом ты должен отдать деньги бедным.
Богатые одежды молодого человека сверкали в лучах полуденного солнца. На его лице отразилось сильное сомнение. Он произнес, запинаясь:
— Это легко сказать, очень легко. Но… Тебе не понять… Бедному человеку слишком легко говорить такие вещи, это…
— Сын мой, — прервал его Иисус, — поскольку ты грек, скажу тебе кое-что на твоем родном языке. Слушай же. — И он произнес по гречески: — Eukopoteron estin kam?lon dia trupematos rhaphidos eiselthein i plousion eis tin basileian tou Theou.
Молодой человек пошатнулся, словно его сильно ударили по лицу. Все ученики, кроме Иуды Искариота, были в недоумении. Симон сказал:
— Мы не понимаем эти чужеземные языки. Что ты сказал ему, учитель?
— Объясни им, сын мой, — обратился Иисус к Иуде Искариоту. — Объясни им все.
Иуда начал переводить со всей точностью, на которую был способен:
— Удобнее… Я не понял, учитель, какое слово ты произнес — kamilon или же kamiilon. Веревке удобнее пройти или верблюду?
Иисус улыбнулся и пожал своими огромными плечами.
— Удобнее чему бы то ни было пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
И они пошли дальше, к вершине холма. При этом Матфей — со словами «Пожертвуй монетку-другую для бедных, мой господин» — беззастенчиво потряс своим кошельком перед глазами молодого человека, чьи слезы сверкали теперь даже ярче, чем его пышные одежды. Слов Матфея он, кажется, не слышал. На склоне холма росло несколько финиковых пальм, в тени которых стояли, поджидая процессию, три женщины. Одна из них была Мария Магдалина, двух других — незамужних женщин, державшихся чопорно и строго, — она представила как Рахиль и Елисебу. Женщины приготовили для Иисуса подарок — одеяние священника. Судя по всему, очень дорогое. Первой заговорила Рахиль:
— Господин, мы соткали это для тебя. Мы опасались, что ты уйдешь в Иерусалим, прежде чем мы закончим…
— Откуда вам известно, что я собираюсь в Иерусалим? — мягко спросил Иисус.
— Этому суждено случиться, — ответила Елисеба. — Ты должен привести весь Иерусалим к славе Царства. А вот это — одеяние, которое тебе подобает носить. Погляди — оно без швов.
— Это то, что называют цельнотканым одеянием, — произнес Фома. — Такие стоят хороших денег — конечно, для тех, у кого эти деньги есть. В него вложено немало труда, женщины, скажу я вам!
— Да, немало, — сказала Елисеба. — Пусть он надевает его, когда будет проповедовать Царство Небесное.
— Не одеяние делает священника, — сказал Иисус. — И все же я благодарю вас за любовь и доброту. Это, должно быть, дорогостоящее занятие. И такая тонкая работа… — Он осторожно ощупал подарок кончиками пальцев.
— Чтобы соткать его, нам пришлось потратить… — начала Рахиль, но Мария бросила на нее строгий предупреждающий взгляд. — Мы были рады деньгам, — пробормотала Рахиль. — Ведь мы бедные женщины, господин.
Все посмотрели друг на друга. Облачение священника, изготовленное на деньги блудницы! Это же конец всякому уважению! Вот до чего они дошли. Теперь последует обвинение в богохульстве или еще в чем-нибудь подобном. Ну что же, этого следовало ожидать.
— Там, внизу, очень много народу, учитель, — сказал Симон. — Перед ними тебе желательно выглядеть получше. Твоя нынешняя одежда смотрится не совсем прилично. Тут большая прореха и рядом тоже. Неудобно будет, если они разойдутся дальше. Стань за то дерево и переоденься.
Иисус, улыбнувшись, согласился, и вскоре их взорам предстал образец добропорядочности.
— Пожалуй что, чересчур чистое, — заметил Симон. — Дня два поносишь — будет в самый раз. И в плечах узковато. Но все же ничего.
Перед тем как обратиться к толпе, Иисус сказал ученикам несколько слов, которые были им не совсем понятны:
— Священные числа Бога. Что это за великие сокровенные числа? Кто называет число три, кто — семь, кто — десять. Но никто никогда не называл число восемь. Однако восьмерка вплетена в Божье творение более глубоко, нежели люди могут представить. В чуде сотворения земных вод соединились и стали новым существом два воздушных духа, которые охвачены вечным танцем восьми…
Все смотрели на него с преданным недоумением, даже ученые Иуда Искариот и Иоанн.
— Ничего, — вздохнул Иисус. — Вы можете это не запоминать. Но именно о числе восемь[102], как таковом, пойдет речь в моей проповеди. — И он начал говорить, обращаясь к огромному множеству людей.
При первых раскатах его голоса Амос и Симон, которого для ясности нам придется называть Симон Зелот, одобрительно кивнули друг другу. В голосе Иисуса чувствовалась сила и властность.
— Я хочу говорить с вами о тех, кого называют блаженными, то есть о тех, кто принадлежит к Царству. Блаженные, как великая армия, состоят из восьми легионов или, скорее, дружин. Дружина — более подходящее слово, поскольку содержит намек на дружбу. Итак, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны и вы, вы все, каждый из вас, когда люди, имеющие большую власть, будут поносить вас и гнать и всячески злословить о вас и против вас — неправедно, неправедно злословить, ибо если вы от Царства Небесного, то злые слова непременно должны быть лживы. Так радуйтесь и веселитесь! Ведь пророков, бывших прежде вас, так же поносили и гнали и так же клеветали на них…
По долине Некев разносился громкий гул множества голосов, и бывшие там зелоты, переглядываясь, удовлетворенно кивали головами. Они считали, что Иисус говорил об одном и только об одном пророке, которого совсем недавно гнали, поносили и, оклеветав, подло убили. Кто-то выкрикнул из толпы: «И убивали! Помните это — убивали! Ему, как кролику, отстригли голову!»
— Снова говорю вам: радуйтесь! — продолжал Иисус. — Велика награда ваша в Царстве Небесном!
Он говорил еще, но не слишком долго, поскольку всегда есть предел тому, что может воспринять непривычное ухо; не раз громкий голос его ослабевал, и не раз слова выходили из-под его контроля, но все же, когда он говорил о воздаянии, которое ожидает кротких и терпеливых, никто не смог бы заявить, что он пытается превратить свою слабость в добродетель, ибо никогда еще эти холмы не сотрясал голос более громкий, никогда еще не вздымались руки, сколь могучие, столь же и любящие, над телом более мощным. Перед ними был человек, который мог съесть целую овцу и бороться со львами! Настоящий Самсон[103], но без глупости Самсона! И говорил он о любви и смирении. Одно место его проповеди звучало так:
— Я не жду, что любовь начнет непрошеным образом исторгаться из ваших сердец и окутывать тех, кто и впрямь менее всего достоин любви. Я говорю, что любовь — это скорее ремесло, которому мужчина или женщина должны учиться, как я в юности учился ремеслу плотника. Можно сказать, что любовь — это инструмент, который обрабатывает твердую, грубую, неподдающуюся, узловатую, волокнистую древесину сердец наших врагов и придает ей гладкость дружбы. Гнев всегда питается гневом. Если человек пребывает в гневе и, гневаясь, ударяет тебя, не бей его в ответ. Обрати к нему другую щеку — пусть ему будет стыдно. Так мы распространяем любовь и раздвигаем границы Царства Небесного.
Иисус рассказывал истории, говорил притчами, предлагал трудные загадки, он был резким, он был вкрадчивым. В конце его речи ученики обступили своего наставника, чтобы защитить от тех, кто, переполнившись любовью, хотел бы сорвать с него цельнотканое одеяние. Среди обожателей Иисуса, которые кричали и пытались схватить его за края одежды, зелотов не было. Они ждали.
Амос и Симон ждали целый день. Им хотелось узнать, где Иисус и его ученики разобьют лагерь. В конце концов им удалось выяснить, что лагерь Иисуса находится на поросшей кустарником поляне рядом с речкой Бимхирут, неподалеку от деревни, которую все называли Мелухлах[104], хотя, впрочем, настоящее ее название было другим. Амос и Симон пришли туда с наступлением сумерек, когда вся компания ела рыбу и хлеб с оливками.
Симон обратился к ним:
— Нас называют зелотами. Мы объясним, что означает это слово. Расскажем и о том, что мы пытаемся делать.
— Должны делать, — добавил Амос.
— Хорошо. — Иисус дочиста обглодал рыбий хребет, вытер пальцы о свое дорогое цельнотканое одеяние и сказал: — Вы торите желанием положить конец порабощению народа, избавить Израиль от продажных правителей, изгнать чужеземцев и снова создать сильное, свободное государство под властью царя небесного.
— Ты хорошо все изложил, — согласился Симон Зелот, — что мы от тебя и ожидали. Однако тебе следовало бы добавить: под властью Мессии. Теперь пора задать наш вопрос: ты — Мессия?
— Я проповедую о Царстве Небесном, — ответил Иисус, — но я знаю, что это не то царство, которого алчете вы и ваши товарищи. Ибо вы хотели бы сокрушить своих врагов несколькими быстрыми ударами топора. Вы хотите, чтобы сейчас была осень, но в то же время и весна. Однако человеку не дано ускорить смену периодов сева и жатвы.
— Твои слова не очень понятны, — сказал Амос.
— Я бы сказал, что они более чем понятны, — возразил Симон Зелот. — Но ты ошибаешься, господин, если полагаешь, будто мы хотим, чтобы силы Израиля поднялись на борьбу за справедливость прямо сейчас, немедленно, сию же минуту. Мы понимаем, что должно быть время на подготовку.
— Послушайте меня, — сказал Иисус. — Допустим, я восхожу на трон Израиля. Я могу сделать это лишь после того, как сокрушу своих врагов, правильно? — Двое зелотов живо закивали в знак согласия. — Но я учу, что мы должны любить наших врагов. Я не могу любить и убивать одновременно. Вы можете сказать: «Очень хорошо, одолей своих врагов любовью». Однако, глядя на ваши лица, я не подумал бы, что вы когда-либо склонялись произнести такие слова…
— Мы так поняли, — сказал Симон Зелот, — что во все эти слова насчет любви ты не вкладываешь абсолютно буквальный смысл.
— О, абсолютно буквальный. В высшей степени буквальный. И скажу вам еще одну неутешительную вещь: одолеть врага посредством любви — это такое же долгое дело, как из одного зернышка вырастить дерево. Возможно, я еще скажу об этом позднее, если, конечно, вы пожелаете слушать. А сейчас давайте поговорим о земном правлении. Земное правление — это всего лишь земное правление, не более, а кто конкретно будет править на земле — это людей мало заботит. Вы уничтожите тирана и поставите на его место хорошего человека, но тот наверняка сам превратится в тирана. Причина того, что так происходит, лежит в самой сущности земной власти. Люди меняются не потому, что меняется власть. Изменение должно идти изнутри.
— Люди не изменяются, — твердо сказал Симон Зелот. — Люди остаются людьми, верблюды — верблюдами, собаки — собаками. И если верблюды и собаки могут быть рабами людей, то люди не должны быть рабами друг друга. Люди должны быть свободными.
— Да, — согласился Иисус. — Свободными. Но свободными от внутренних тиранов — ненависти, вожделения, своекорыстия. Люди изменяются. Люди должны изменяться. Я проповедую именно это внутреннее царство свободы, имя которому — Царство Небесное. Позволь мне вернуться к моему иносказанию о зернышке и дереве. Возьмем, скажем, зернышко горчичного дерева, мельчайшее из всех. Посеем его. Придет время, и из него вырастет дерево, на ветвях которого станут гнездиться птицы. Зерна, которые разбрасываю я, — это мои слова. Весьма часто их будут склевывать птицы. Может случиться, что каменистая земля откажется питать их. Но кое-где они все же дадут всходы, и появятся ростки. Однако за ночь дерево не вырастает.
Здесь Симон — не Симон Зелот, а Симон Иисуса — с некоторой горечью в голосе произнес:
— Послушай, учитель, так вот что ты имеешь в виду! Что до меня, я как-то не думал… Я хочу сказать, мне казалось… То есть мы привыкли верить… В общем, очень уж это долгий срок — пока из зернышка вырастет дерево. Иногда это целая человеческая жизнь.
— Значит, и ты, Симон, мечтаешь о весне и о времени сбора урожая как о единой вещи, — сказал Иисус. — Говорил ли я когда-нибудь о земном царстве?
— Но все же ты говорил о царстве, а у царства должен быть царь. Я знаю, я простой человек. Может, я что-то не расслышал или не так понял, но мне думалось, мы несем новое учение, чтобы оно распространилось по всему Израилю и чтобы установилось… как оно там называется, Андрей?
— Царство праведников, — ответил Андрей.
— Мой прежний учитель, Иоанн, обличал грехи Ирода Галилейского, — заговорил Иаков-меньший. — За что этот Ирод посадил его в тюрьму, а потом убил. Но мы продолжали верить в царство праведников, которое должно прийти на смену царству Ирода и царству кесаря, правильнее сказать — империи. И послал он нас именно к тебе.
— Послал вас ко мне, — сказал Иисус, — чтобы создать воинство борцов за праведность, которое будет стучать во врата царского разложения и разврата и кричать: «Прочь! Мы коронуем праведность и возведем ее на твой трон!» Так было сказано?
— Что-то вроде этого, — медленно и неуверенно произнес Варфоломей. — Мы, разумеется, понимали, что крещение водой, проповеди и… ну, что ли, великое упорство Иоанна были направлены на… В общем, я не стал бы говорить о стуке в ворота и выкрикивании именно этих слов…
— Послушайте, глухие! — начал Иисус неистово. — Вы даже более глухи, чем фарисеи! Прежде всего мы должны научиться праведности в нас самих, научиться любить и прощать. А это обучение — очень медленный процесс. Такой же медленный, как рост дерева из зернышка. Вот Филипп, когда он не поет песни, он мечтает. Скажи, Филипп, о чем ты мечтаешь?
— Я мечтаю… — нерешительно начал Филипп. — Я мечтаю о том, чему нас учит мечтать древний закон, — о Мессии, который выжигает зло, подобно огню, выжигающему лес, а еще об установлении Царства Небесного.
— Царь небесный в Иерусалиме, сверкающие на солнце мечи и панцири народа Израиля! — воскликнул Иисус. — Нет, дети мои, это ложная мечта. Ложная!
— В Писании сказано, что власть будет в его руках, — заявил Амос. — Но кажется, подразумевались не твои руки, хотя они у тебя большие и сильные, и, видно, придется мне возвращаться с плохой вестью.
— Тебя зовут Амос, не так ли? — спросил Иисус. — Возвращайся же с благой вестью, Амос. Вестью о Царстве Небесном. — Увидев, как вытянулись лица учеников, сидевших вокруг него, Иисус сначала рассмеялся, а потом сказал с величайшей серьезностью: — Постарайтесь понять то, что я говорю. Я здесь для того, чтобы начать проповедовать о Царстве Небесном. Заметьте — чтобы начать! Кто знает, когда наступит Царство Небесное? Если бы я сказал, что выращивать это дерево нужно десять тысяч лет, я, возможно, был бы очень далек от истины. Но в глазах Бога десять тысяч лет — ничто. Он может подождать, и я могу подождать вместе с ним. Что касается именно этой нашей жизни и моей миссии, то скоро она приведет нас в Иерусалим — город, где на троне сидит узурпатор, а властители душ человеческих проповедуют фарисейское извращение Божьей истины. В Иерусалиме — не заблуждайтесь насчет этого — далеко не все будут слушать нас, и если там нас и ждет триумф, то ничего общего с развевающимися знаменами и ревущими трубами он иметь не будет. В Иерусалиме нам уготованы унижения, несчастья и страдания. Приготовьтесь к этому. Теперь вам известно худшее. — Кроме Иоанна и Иуды, все смущенно отвели глаза. — Впрочем, нет, худшего вы еще не знаете. Все вы слишком простодушны, чтобы представить себе, каким может быть это самое худшее.
Амос заговорил первым, но все, что он смог произнести, было лишь разочарованное: «Так, так, так…»
Затем он спросил:
— Ты идешь, Симон?
— Почему я? Почему я должен куда-то идти? — отозвался Симон-рыбак. — Ах да! Здесь же есть еще один Симон.
Симон Зелот сказал:
— Весть может доставить один из нас. Я последую за тобой, учитель. У меня еще много чего на уме.
— В таком случае у меня — тоже, — произнес Амос, поднимаясь с земли. Видно было, что все происходящее доставляет ему боль. — Досадно, очень досадно.
И, неуверенно поклонившись Иисусу, он ушел — опустив голову, один, в свете неполной луны.
— Итак, — заговорил Иисус почти весело, — вон там вы видите дорогу, кстати освещенную послушной луной, и ведет она в мир благоразумия и благополучия. Возвращайтесь к своим прежним занятиям, начинайте заводить семьи, мечтайте о приходе человека, который сбросит царей с их тронов и зарежет императора Тиверия в его бане. Идите же! Человек, как сказал другой Симон, должен быть свободен.
— Я не другой Симон, — сказал другой Симон. — Я — Симон.
— Человек действительно свободен, — продолжал Иисус, — ибо таким его сотворил Бог. Он волен идти той дорогой, которой пожелает.
— У меня всегда были сомнения, и вы все об этом знаете, — заговорил Фома. — Я всегда говорю открыто. Да, сомнения насчет всего этого предприятия — стоит ли вообще овчинка выделки. Ну, без злобы скажу, это была мне наука. Но, как я это понимаю и как я не раз уже говорил, человек имеет право видеть… ну, в общем, видеть что-то вроде плодов своего труда еще при жизни, так можете это назвать. У меня никогда не было желания сидеть у дерева и ждать, когда оно вырастет. У меня и без того есть чем заняться.
— Хорошо сказано, Фома, — заметил Иисус. — Обещаю тебе — что-то вроде плодов своего труда ты увидишь. Теперь люди, занятые политикой, будут ненавидеть меня так же, как люди синагоги. Видишь ли, «любовь» — опасное слово. Поначалу и в течение долгого времени оно вызывает ненависть. Эта ненависть непременно даст плоды. Очень интересно будет посмотреть, останешься ли ты со мной. Но оставаться ты не обязан.
— Я вот думаю, у тебя ведь тысячи последователей, тысячи, — сказал Симон, не Зелот. — И я не перестаю ломать голову — неужели все это впустую?
Фаддей, который обычно больше молчал, теперь заговорил в совсем нехарактерном для него духе:
— Мы могли бы войти в Иерусалим… все эти тысячи, как он сказал, могли бы войти… и заставить их признать царство праведности силой.
— Заставить их признать праведность силой, — повторил Иисус. — Я должен запомнить эту мысль, Фаддей. Может быть, теперь ты сыграешь нам какую-нибудь мелодию на своей флейте?
Флейта лежала у Фаддея на коленях, но он спрятал ее глубже в складки своей одежды и посмотрел на Филиппа. Тот вглядывался в тлеющие угли. Пламя костра становилось все слабее, однако хворост никто не подкладывал. Варфоломей слегка морщился от боли, потирая живот. Матфей тяжело вздохнул, затем начал покачивать рукой, в которой держал кошель, словно взвешивая его.
— Здесь немного осталось — несколько серебряных монет, — сказал он. — Возвращаю это вам.
— Я остаюсь, — сказал Иуда Искариот. — Я буду казначеем тех, кто останется со мной. То есть с ним.
— Матфей, — произнес Иисус. — Блудный сын.
Матфей выглядел донельзя несчастным. Симон Зелот посмотрел на них и закричал:
— О живой Бог Израиля! Таких людей, как вы, я в свою компанию не взял бы! Как могут построить какое-то царство люди, так легко поддающиеся унынию?! Как может не развалиться организация, если люди ее готовы в любую минуту покинуть своего вождя?!
— Мы не покидаем его, — сказал другой Симон. — Мы просто…
— Именно так, вы собираетесь покинуть его! Тебя ведь зовут Симон? Мне стыдно, что я ношу одно имя с тобой. Вот что я вам скажу. Я и прежде видел вождей, и немало видел. Все они выкрикивали пустые, трескучие фразы, извергали потоки обещаний. Но никогда еще я не встречал вождя, чьим делом была бы честность, не встречал до сего дня. Те кричат: «Изберите меня своим вождем, и тотчас вырастет древо справедливости!» А он говорит о зернышке и медленном, постепенном взращивании дерева. Кто мы такие, чтобы говорить о взращивании справедливости в мире, когда в самих нас нет ни капли справедливости? Его слова разумны, в них — Божья истина. Если вы не идете за ним, то я — иду!
— Мое второе имя Петр, — сказал другой Симом. — Милости просим, называйся Симоном. А я буду Петром. Мой бедный отец иногда называл меня так. — И он заплакал, как ребенок.
— Хорошо, — сказал Иисус. — Полагаю, наш разговор закончен.
— Я беру кошель назад, — сказал Матфей. — Не знаю, что на меня такое нашло.
— Нет, — возразил Иуда Искариот. — Казначеем буду я. — Потом добавил: — То есть если вы мне позволите.
— Ладно, — сказал Матфей. — Наверное, и впрямь было бы лучше, если бы ты… Мне ведь не нравится обращаться с деньгами. Хорошо, казначеем будешь ты.
— Я виноват, виноват! Простите меня! — громко простонал Симон, ставший теперь Симоном Петром.
Симон Зелот произнес:
— Да будет тебе, ну, виноват, ничего страшного. Послушайте, если у вас найдется кусок холодной рыбы и ломоть хлеба, я бы от этого не отказался. С утра крошки во рту не было.
— Значит, так, — начал Фома, — когда я тут говорил, понимаете, про другие дела, я хотел сказать, что мне не терпится самому начать действовать, чтобы проповедовать эту самую любовь и прочее. Нас, по моим подсчетам, теперь двенадцать, и настало время подумать… а вы меня поправьте, если мои предположения ошибочны, что иногда случается. Так о чем это я? Ах да, пора подумать о том, чтобы каждый из нас пошел своей дорогой — по одному, по двое, — распространяя весть. Я-то хочу сказать, учитель, что мы слишком долго простояли за твоей спиной, как цветочные горшки, позволяя тебе — уж прости мне это слово — ораторствовать. Пора нам самим делать какую-то работу, а не стоять, наблюдая, так сказать, как взращивается дерево. Вот что я имел в виду.
— Ты лжец, Фома! — зарычал Иаков-меньший. — Пытаешься увильнуть — вот как это называется! Я тебя насквозь вижу! И все видят!
— Это кого ты называешь лжецом? Будь я такой же здоровый — двоих бы таких, как ты, съел на завтрак!
— Я прошу всего лишь кусок холодной рыбы, — произнес Симон Зелот, — если вам, конечно, не жалко.
— Лжец он или нет, но Фома сказал именно то, что я сам хотел предложить вам, — произнес Иисус. — Пришло время вам ходить по Галилее и за ее пределами и разносить благую весть. — Он улыбнулся, глядя, как Симон поглощает рыбу. — Пойдете группами по четыре, потом разделитесь на двойки, а затем каждая двойка станет двумя единичками. Привыкайте быть в одиночестве, но не торопитесь. Отправляйтесь завтра же — почему бы и нет? — И Иисус объяснил им, что они должны делать и чего им делать не следует: — Особо не распространяйтесь о чудесах, исцелениях, о возвращении зрения слепым, ибо чудеса, как и все события человеческой истории, подвергаются сомнению людьми, которые их сами не наблюдали. Но истина высказанная остается истиной на все времена.
Опустив глаза, Симон Петр невнятно пробормотал:
— Я думаю, нам нужно знать, что у тебя на уме, учитель. Ты так торопишь нас уйти — верно, думаешь, что некоторые из нас уже не вернутся. Но мы вернемся.
— Если и когда будете возвращаться, — ответил Иисус, — вы узнаете, где меня найти. Я сам должен нести свое учение и сам должен сдерживать нетерпеливых. — Помедлив, он продолжил: — Если любовь — это та сила, которая сможет вас поддержать, а потом снова приведет вас ко мне, знайте, что такая любовь у вас есть. Завтра нам рано вставать, поэтому не буду говорить много. Учите просто, ибо слушать вас будут простые люди. Рассказывайте притчи, которые слышали от меня. И самое главное — пусть они учатся любви на примерах.
Большинству учеников тревоги и страхи мешали заснуть, и они лежали, слушая уханье сов. Только Симон, бывший Симон Зелот, тут же уснул как убитый, и храп его напоминал звуки пилы.
ЧЕТВЕРТОЕ
Нет нужды подробно описывать, как ученики Иисуса проповедовали, но все же приведу несколько примеров, насколько успешно они это делали. Например, Петр, как нам лучше теперь его называть, говорил в городе Мататехе следующее:
— Я так понимаю: это дело касается не только евреев и римлян. Или там сирийцев, самарян либо же синезадых варваров, которые в Британии, где бы она ни находилась. Это дело касается всех людей. Вы не наведете порядок в этой стране или еще какой другой до тех нор, пока не наведете порядок внутри себя — вот здесь, здесь, именно здесь, доходит? Для начала вы должны перестать ненавидеть. Нет никакого толку в том, чтобы ненавидеть римлян, или свою тещу, или свекровь, или каких-то дальних родственников своей жены. Вы должны научиться терпению. Вы должны научиться любви.
Один крикливый человек из небольшой кучки людей, которые слушали Петра у рыбного рынка, возмутился:
— Любить ублюдка, который бьет тебя по морде или, ухмыляясь, отбирает у тебя деньги, заработанные тяжким трудом?! Очень хорошо, нечего сказать! А как же насчет справедливости, любезный? Нет больше в мире справедливости! Не ее ли ты ищешь?
— Слушайте, — сказал Петр. — Я расскажу вам одну историю. Жил человек, который засеял все поле пшеницей. Как-то раз приходит один из его врагов — он стал врагом, поскольку задолжал этому человеку деньги и не хотел возвращать, — так вот, приходит он на поле и засевает его сорными травами — щавелем, плевелами и всякими другими прочими. Ну, через некоторое время слуга человека, того, у которого поле, приходит к нему и говорит: «Что нам делать? Все поле испорчено сорняками, и хорошо бы нам что-либо предпринять». А хозяин отвечает: «Не беспокойся. Подожди до жатвы, и тогда ты сможешь отличить пшеницу от остального. Ты сможешь собрать пшеницу и сложить ее в амбар, а остальное сжечь». Вот и все. Все дело в умении ждать. Вы поняли смысл этой истории? Когда-нибудь наступит особенный день справедливости. Возможно, вам придется долго дожидаться его, но это обязательно произойдет, и никого не минует ни его награда, ни его наказание. Судный день — вот как будет он называться. Кто такой человек, чтобы думать, будто он — носитель справедливости? Почему мы должны доверять этим негодяям, которые называют себя судьями? Почему мы должны доверять самим себе? Оставим же справедливость Богу, ибо только Он знает о ней все. Ни единой лживой свинье он не позволит уйти от наказания, а справедливых ждет награда. Продолжайте любить, справедливость же оставьте Богу.
Варфоломей, имевший задатки целителя, собрал порядочную свиту в городах Тапуах, Тахрим, Тамара, Шум и Эшколит. В последнем из названных городов, например, человек, страдавший от падучей, во время речи Варфоломея упал на землю и начал корчиться, и тот сразу же сказал:
— Вложите ему меж зубов кусок дерева — так он не прикусит язык. Хорошо. Теперь немного подождите. Скоро ему станет легче. Сами увидите — он встанет.
И больной пришел в себя. Тогда Варфоломей сказал:
— Насколько легко разглядеть болезни тела — язвы, нарывы, хромоту, корчи, — и насколько трудно распознать внутренние недуги — то, что мы можем назвать болезнями души. Но все-таки они существуют, и против них есть только одно средство. Оно называется любовью. Смейтесь, если угодно. Мне известно так много человеческих болезней, на которые не действуют ни мази, ни настои, что теперь я очень неохотно отвечаю на подобные насмешки. Я знаю — а те, кто смеется, этого не знают, — что вся премудрость именно в любви. Любовь! Это лекарство весьма сложное в приготовлении, но мы все равно должны пытаться получить его. Например, любить наших врагов — а ведь мы все должны учиться этому, — как можно добиться такого? Представьте себе, что ваша левая рука изуродована, на ней раны и нарывы, которые вызывают пульсирующую боль. Вы ненавидите ее. Вы ненавидите свою руку! Но действительно ли вы ненавидите ее? Конечно нет. Как вы можете ее ненавидеть, если она ваша часть? Вы хотите, чтобы ее вылечили, хотите, чтобы она не беспокоила вас больше, но вы не желаете, чтобы ее отрезали. Весь род человеческий — это одно большое тело, а ваш враг — тот, кто оскорбляет вас, кто терзает вас, кто питает вашу ненависть, — он часть этого тела, как и вы. Он — часть вашей плоти, крови и души. Он причиняет вам боль, но как вы можете ненавидеть его? Он — это вы!
У Иуды Искариота не очень-то получалось учительствовать. Он был человеком, склонным к наукам, и проявлял свою образованность — одновременно пытаясь скрыть ее по мере сил — в проницательных суждениях, оценках, употреблении трудных слов. В городе Моах его все же оценила одна группа людей. Это были достойные мужи, знакомые с философией, озабоченные будущим Израиля и недовольные иноземным правлением. Они, однако, не были зелотами. Иуду пригласили в дом Иоаса, ученого человека, у которого было большое, полученное им в наследство поместье, вполне окупавшее себя. Там Иуда познакомился с другими людьми этого круга — Иорамом, который занимался ввозом вина из Италии и Греции, и Охозией, строителем, знавшим еще отца Иуды.
Солнце скрылось за вершинами холмов, застрекотали сверчки. Потягивая превосходное вино, подававшееся в красивых сосудах, Иуда говорил:
— Это он. У меня нет никаких сомнений. Я сам был свидетелем и слышал от других.
— О чудесах? — спросил Охозия, теребя свою пегую бороду.
— Чудеса — всего лишь часть общей картины. Но это более чем чудеса. Как он сам говорит, чудеса не могут быть основой веры, которой суждено стать вечной, потому что они принадлежат истории и таким образом свидетельства о них могут быть искажены историками. Вылечи одного человека от лихорадки, и твой восторженный биограф превратит это в воскрешение из мертвых. Идеи, догматы — вот в чем заложена или не заложена сила. Есть вещи более чудесные, чем чудеса. Авторитет, спокойствие, терпение. Очень высокий интеллект. Но истинное свидетельство — то, что он рожден править и вместе с тем отвергает правление.
— Ты имеешь в виду правление, как его понимают зелоты? — заговорил Иоас, костлявый человек с острым взглядом, почти безбородый. — Кровавый вождь, неистовствующий во дворце с цитатами из Писания на устах?
— Да, именно это, — ответил Иуда. — Зелоты достаточно глупы, чтобы верить, будто они могут бросить вызов империи.
— Я бы даже сказал, что они не имеют ни малейшего представления об империи, — с интонацией жителя Северной Галилеи, медленно растягивая слова (что вовсе не казалось неприятным), произнес Иорам. — Как они считают, бросить вызов — это значит зарезать одного-двух чиновников и перебить несколько сотен наемников.
— Ну, мы это лучше понимаем, — сказал Иуда. — Когда падет власть Рима, причиной ее падения будет не Израиль. Крах наступит изнутри. Это, однако, произойдет еще не скоро. А мы должны признать факт существования Рима и его империи, которая пока остается нетронутой разложением. В Иудее нам нужен царь, который станет и царем Израиля. Он — как раз такой человек.
— Но ты же сказал, что он отвергает правление, — заметил Иоас.
— Я слышал, как он возражает против правления в истолковании зелотов, — пояснил Иуда. — Но он не будет отвергать правление, предложенное Верховным Священным Советом Израиля. А вскоре, когда Совет подробнее познакомится с его учением…
— И с его чудесами?
— И с ними тоже… Совет сможет сказать Риму: «Оставьте нас в покое, как вы оставили нас в покое во время царствования всеми проклинаемого Ирода. Ибо у нас есть царь с безупречными правами на престол — сын дома Давидова. Он царь, который учит любви, он не знает слова „враг“, и он дружелюбно настроен по отношению к кесарю». Тогда римляне, только дайте срок, будут рады вывести свои легионы.
— И своих мытарей тоже? — криво усмехнулся Иорам.
— Римлянам необходимы гарнизоны в Израиле, — грустно покачал головой Охозия. — Это восточный фланг их империи.
— Я читал кое-каких римских авторов, — возразил Иуда Искариот. — Римляне опасаются Севера больше, чем Востока. Все постепенно меняется. Государство, построенное на любви и терпимости! Они будут называть его «умиротворенным». Римляне могут держать свои войска в Сирии. Израиль, или Палестина, как они его называют, не будет для них источником неприятностей. Израиль просто дождется крушения империи, созданной на ложном фундаменте. Израиль выстоит. Разве не может быть такого? Суть учения Иисуса может быть выражена так: объединение Израиля под властью нового Закона, который не заменяет старый Закон, но исполняет его, одновременно устраняя в нем непродуманные места, различные запреты, страх перед женщиной, всякие глупости касательно субботы…
— Ты уже продемонстрировал всем, кто тебя слушал, что когда-то ты был фарисеем, — сказал Охозия. — Это ясно из твоих слов. То, чем ты сам был когда-то, ты ненавидишь… как бы это лучше выразить… преувеличенной ненавистью, вот как. Но если ты, подобно всем здесь присутствующим, свободен от стойкого лицемерия фарисеев, то… Да, и не забывай, что в Верховном Священном Совете достаточно много фарисеев.
— А также саддукеев, которые очень тверды в своих воззрениях, — добавил Иорам.
— Но все они ожидают прихода Мессии, — сказал Иуда. — И вот теперь Мессия придет к ним, придет скоро! Мессия со знамениями от Бога, как когда-то Моисей при дворе фараона. Перед знамениями они не устоят. Да и как они смогут устоять перед учением, которое целиком состоит из любви и терпимости?
— А также из того, что самарян, как ты сам сказал, следует признать в качестве сынов Израилевых, — заметил Иоас. — Израильтяне к этому пока не готовы.
— Есть тысячи, которые готовы, — горячо возразил Иуда. — Трон для него уже стоит. Трон для того, кому суждено стать царем среди священников и священником среди царей! И все же это не будет правитель по старому Закону. Ведь при всеобщей любви нужда в правлении отпадет.
Со снисходительной, но доброй улыбкой Порам покачал головой:
— Меня восхищает этот юношеский идеализм, мой мальчик, восхищает твоя наивность. Если ты последуешь моему совету и еще раз прочтешь твои исторические книги, то увидишь, как тяжело приходится наивности в этом огромном мире. Из того, что ягненок говорит, как он любит волка, и предлагает ему, как другу, посидеть рядышком, никогда ничего хорошего не выйдет.
— Но у нас есть Писание! — запальчиво воскликнул Иуда. — А в Писании абсолютно ясно сказано, что мы должны ожидать прихода князя мира, который возьмет на себя управление народом. Разве нам следует отворачиваться от Священного Писания и отвергать слово Господне?
Охозия кашлянул, затем произнес:
— Если бы Писание исполнилось, в нем больше не было бы нужды, поскольку оно выполнило бы свою задачу. В некотором смысле оно перестало бы быть Священным Писанием. Но Израиль обречен на преданность Писанию. Ты понимаешь мою мысль? Исполнение пророчества всегда должно быть где-то в будущем, всегда завтра. А завтра, как мы знаем, не наступает никогда.
— Мы ждем Мессию всегда, — сказал Иорам, — но наши ожидания никогда не сбываются. Это почти официальная точка зрения. Могу тебе сказать, что к идее реального Мессии синедрион отнесется без всякой благожелательности. Они имеют власть над народом в духовной сфере, что им благосклонно позволяет Рим, и они эту власть из рук не выпустят. Простодушие, простодушие! Качество прекрасное, но едва ли оно приносит иные плоды, кроме разочарований. Мы, конечно, не хотим тебя обескураживать.
— Когда вы должны приступить к этой затее с царским правлением? — спросил Иоас.
— Когда вернемся к нему, — ответил Иуда. — Когда закончится срок нашего проповедования.
— Надеюсь, для простых людей ты более убедителен, — сказал Охозия. — Разумеется, меня ты не убедил вовсе.
Иуда Искариот холодно посмотрел на него, пожал плечами и улыбнулся, но улыбка получилась довольно кислая. Он допил вино, затем сказал:
— Он вас убедит. Он.
У Иоанна в Назарете дела шли достаточно хорошо. Он был скромным, вежливым, даже застенчивым, имел привлекательную внешность. Его громкий голос странно сочетался с нерешительной и неясной манерой высказываться. Так, он говорил:
— Я знаю, что у вас есть работа, которую нужно делать, овцы и скот, за которым нужно ухаживать, корзины, которые нужно плести, пища, которую нужно готовить, и с моей стороны было бы бесцеремонно отнимать у вас хотя бы минуту времени. Но позвольте мне вкратце изложить весть моего учителя — назарянина, как и все вы. Дело в том, что мы должны стараться любить, и это предписание любить — любить даже ваших врагов, и врагов, быть может, прежде всего — исходит не от какого-то сумасшедшего проповедника, которого не признает синагога, но от самих небес. Я вижу, что некоторые из вас уже готовы высказать свое недовольство. Некоторые ил вас хорошо помнят Иисуса. Да, Иисуса из Назарета. Этот самый город — позвольте я все-таки скажу — был благословен его зачатием здесь, и все же именно Назарет отверг Иисуса и забрасывал камнями в начале его проповедования. Я был здесь тогда. И меня забрасывали камнями. Но сейчас все прочие города Галилеи уже приняли его, как приняли и его благую весть…
Мария, мать Иисуса, теперь уже одинокая женщина в возрасте зрелой красоты, получала немало предложений о замужестве, но все их отклонила. Она сидела, греясь на солнце, у порога дома и пряла, когда пришел пекарь Иофам и сказал, что в городе проповедует Иоанн.
— Сам он не пришел, нет. Иисус то есть. Не очень-то он уверен, что его здесь хорошо встретят, вот и послал сюда проповедовать этого тронутого. Но не в синагоге, нет, не там.
Мария отвлеклась от работы и, вставая, спросила:
— Где?
— На окраине города.
Придя туда, Мария услышала, как Иоанн говорил:
— Я не думаю, что вы, назаряне, стали бы теперь забрасывать его камнями, если бы он возвратился к вам. Вы немало слышали о чудесах, которые он совершил. Зернышко дало росток, дерево становится все выше и выше, и благая весть о Царстве Небесном многие сердца переполняет радостью. Любите Бога! Хотя мне нет нужды говорить вам об этом. Но также любите и друг друга, делайте добро тем, кто ненавидит вас, — вот каково это новое учение, трудное учение, не спорю, но в нем — единственный путь к радости.
Увидев Марию, люди расступились и с необычной для назарян учтивостью жестами дали понять Иоанну, что они ценят сказанное, но считают, что теперь им лучше уйти, поскольку ему и матери его учителя, несомненно, есть о чем поговорить. А мать его — вот она.
Когда они остались вдвоем, Мария спросила:
— Как он сейчас?
— В порядке. Здоров, но похудел. Очень загорел на солнце. Думаю, тебе известно, что его очень любят.
— А также сильно ненавидят. Я боюсь за него. Мы увидимся в Иерусалиме?
— Да, на Пасху. Не бойся за него. С ним двенадцать крепких друзей.
— А против — несчетное число врагов. Не зайдешь ли ко мне перекусить.
Я отказываюсь признавать правдивым рассказ, который до сих пор передается некоторыми и в котором утверждается, будто Иоанн, молодой и здоровый человек, был очень тронут красотой матери своего учителя и оказывал ей робкие знаки внимания. Рассказ этот носит абсолютно клеветнический характер и совершенно неправдоподобен. Связанные с этим мотивом ассоциации вынуждают меня перенестись во дворец тетрарха Ирода, где в это время, лежа в большой постели, царь и царица вели разговор об Иисусе. Лежать-то они лежали, но не касались друг друга. Фигурально выражаясь, между ними на ложе покоился меч, и мечом этим было упорное нежелание (или неспособность) Ирода вступать с женой в интимные отношения. Впрочем, Иродиада уже почти перестала обращать на это внимание. Все помыслы ее были о власти.
— Это абсурд, когда человек должен заботиться об охране, чтобы обезопасить себя от нападения собственной охраны. Этот Иисус и его так называемые зелоты…
— Нет, моя дорогая, ты не совсем верно это понимаешь. Зелоты — одно, а Иисус — совсем другое. Хотя они и объединились в обличении нашего прелюбодейного образа жизни — ах, как мало им известно! — который эта публика называет еще и кровосмесительным. Нет, я действительно должен отослать тебя назад к моему брату Филиппу, хотя сомневаюсь, узнает ли он тебя сейчас. Не думаю, чтобы он узнавал кого бы то ни было, — слишком много пьет. Совсем погряз в пьянстве. Жаль. Он, несомненно, проявлял определенные, хотя и не очень большие, способности к управлению государством.
— Опять возвращаемся к старому, да?! Ты знаешь, каков будет мой ответ. Он идет следом за Иоанном, но после него уже не придет никто! На сей раз это действительно будет конец!
— Еще одна окровавленная голова в мешке? Нет. Я никогда тебе этого не прощу, никогда. Хотя должен признать, что в определенных кругах это создало мне репутацию сильного правителя. Жизнь полна неожиданностей. Нет, моя дорогая. Что касается Иисуса, достаточно будет выдворить его из Галилеи в Иудею. А там о нем сможет позаботиться римский прокуратор. Хотя зачем? Он как раз проповедует справедливость и любовь к врагам. А тебя, моя дорогая, которая понятия не имеет о справедливости и не любит даже своих ближайших родственников…
— Да, мой господин?
— Не обращай внимания. Я думаю, нам следует вызвать его сюда. Эта опухоль у меня в паху… Прости, что я снова говорю о чем-то, что тебе неприятно, но, видя ее, лекари просто качают головами. Этот Иисус лечит людей, ты знаешь об этом? Делает слепых зрячими и все такое прочее. Давай пригласим его к нам. Пусть он хотя бы взглянет на опухоль. Может быть, даже разрешим ему проповедовать маленькой группе… хорошо, хорошо, если хочешь, маленькой группе, составленной из таких людей, на которых его учение вряд ли подействует. Подобных, к примеру, тебе, моя дорогая. Заставим его совершить чудо. Ну так что, ты не против?
Ирод и Иродиада не знали еще, что в это самое утро маленькая Саломея, не замеченная стражей, тихо покинула дворец и примкнула к группе женщин, которые, как она слыхала, жили в Цемере, небольшом торговом городке неподалеку от Назарета. Эти женщины следовали за Иисусом, и среди них была Мария Магдалина, бывшая блудница.
Пережив страшное потрясение, Саломея терзалась сознанием вины за недавно содеянное, и чувства ее сплелись в мучительный, запутанный клубок. Тот ее танец был, конечно, последним.
ПЯТОЕ
После проповедования ученики Иисуса возвращались усталые, но настроение их было далеко от прежнего уныния. Найти Иисуса было просто — достаточно было спросить у людей, где собираются большие толпы. Когда вернулся последний из его учеников, Симон, бывший Зелот, — говоривший, что ему нужно больше времени на подготовку, но сделавший, с Божьей помощью, свою работу лучше, чем сам того ожидал, — учитель и друзья (в городке Йедид, не то чтобы это название имело какое-то значение) встретили его объятиями. По сему случаю Матфей предложил, чтобы все собрались на ужин. Решено было приготовить жареное мясо, хлеб, маслины, вино и, возможно, овощи и фрукты. Празднество такого рода им не повредит, а их желудки заслужили небольшую награду. Ужин устроили на постоялом дворе.
Все много говорили, а Иисус слушал их очень внимательно. Он не расспросил Иоанна о Назарете и о своей матери, чему Иоанн был несколько удивлен. У Иисуса был только один вопрос, который он задал, обращаясь ко всем ученикам:
— Проповедуя слово, вы обошли всю страну, и я хочу спросить: говорили ли обо мне какие-нибудь мужчины или женщины?
— Твое имя у всех на устах, — ответил Иаков.
— И за кого люди почитают меня?
— Некоторые полагают, что ты — Иоанн Креститель, — сказал Варфоломей. — Они не хотят верить, что Иоанн погиб.
— Некоторые знают, что он погиб, — вступил Андрей, — но думают, что Иоанн воскрес и что ты — это он. Конечно, я вынужден был поправлять их и старался объяснить, что ты — тот, кто ты есть.
— Я тот, кто я есть, — повторил Иисус. — Хорошо.
— Называли Иеремию, Иезекииля… — продолжал Андрей. — В воскресших пророках недостатка не было.
— А за кого почитаете меня вы, мои последователи?
У Иуды уже был готов ответ на этот вопрос, но какой-то инстинкт подсказал ему, что нужно выждать — пусть ответит кто-то другой. Очень стесняясь, Симон Петр все же сказал решительно:
— Я говорю, что ты — Мессия, Помазанник Божий, Христос. Я говорю, что ты — Сын Бога Живого.
Иуда Искариот улыбнулся, довольный тем, что эти слова были произнесены, и Иисус тотчас обратился к нему:
— Иуда, сын мой, что это значит, если вообще что-то значит, — Сын Бога Живого?
— У нас еще нет слов, учитель, чтобы объяснить это, — отвечал Иуда. — И едва ли у нас есть средства для осмысления такого понятия, но, если ты не осудишь мое неумение, я все же попробую объяснить. Бог — это Дух, и он не может зачинать детей, как их зачинают мужчины. Но, посредством некоего чуда зачатия, он послал в мир свою собственную субстанцию — субстанцию, которая целиком и полностью человек, но в то же время целиком и полностью Бог. Мы можем говорить о Боге Отце, но мы должны теперь говорить и Боге Сыне. Еще раз, прости меня за мое…
— Здесь нечего прощать, сын мой. Ты хорошо сказал. Ты действительно веришь. Но позволь мне теперь поговорить с Симоном, которого мы называем Петром, поскольку он, хотя и не обладая твоей способностью к рассуждениям, тоже дошел до истины и, не обладая твоим красноречием, также нашел верные слова. Сын Живого Бога. Говоря так, Симон Бар-Иона, Симон Петр, ты обнаруживаешь себя блаженным среди людей. Не кровь и плоть открыли тебе истину: она снизошла на тебя от Отца моего, сущего на небесах. И отныне имя твое не Симон, не Симон Петр, но просто Петр — имя, под которым тебя должен знать мир. Петр означает «камень». И на сем камне я должен создать то, что я называю церковью моей, и врата ада не одолеют ее. Говорю вам: Петр сказал истину, и теперь вы знаете ее. Но вы не должны говорить об этом ни одному человеку. Еще не пришло время. Должен ли я теперь объяснить вам что-то?
У Петра не было вопросов, поскольку в этот момент он совсем лишился дара речи. Но Фома спросил:
— Что это такое — церковь? Что ты подразумеваешь под словом «церковь»? Я думаю — хотя ты, может быть, и Сын Божий, — что ты должен говорить попроще — без этих слов о вратах ада, ключах и всем таком прочем — и объяснить нам все. Не сочти за грубость, конечно. Но я думаю, мы имеем право знать, что за человек теперь этот Петр, бывший Симон. Со всем почтением, конечно, всегда с почтением.
— Ты прав, Фома, — сказал Иисус и съел виноградину, разгрызая и проглатывая зернышки. — Я могу быть Сыном Божьим, но я еще и человек и должен когда-то, подобно всем людям, покинуть этот мир. Проповедование же должно продолжаться. Оно должно продолжаться всегда. Поэтому должна быть община мужчин и женщин, которая обладает истиной и учит истине, и эта община должна иметь главу или вождя. Этот вождь должен перед смертью передать главенство другому вождю. И так это должно продолжаться. Со временем слова легко могут быть искажены по невежеству, глупости или злому умыслу. Но глава должен препятствовать этому и должен сказать: «Это слово означает то-то». Как все священники старого Закона идут от Аарона, так все священники нового Закона пойдут от этого блаженного Петра. Главенство в общине будет не только для того, чтобы весть передавалась неискаженной, но и для того, чтобы благословлять и порицать. Есть опасность — в отдаленном будущем, а может быть, и не столь отдаленном, — что люди, не избранные самим Петром, уверуют, будто они и только они знают истинный смысл вести. Делая это от чистого сердца, они начнут основывать церкви, претендующие на то, что только они учат истине. Но такие люди, если они не будут избраны Петром или теми, кто придет после него, достойны осуждения. Церковь, как видите, не более чем община, которая придерживается одной веры. Однако неправильно говорить о какой-то церкви, а равно и о каком-то Боге, ибо есть только один Бог и только одна церковь. И церковь эта начинается с нас и с тех, которые верят в то, чему мы учили. Скоро эта церковь станет церковью Петра.
— Скоро, учитель? — переспросил Петр. — Когда?
— Мы должны покинуть Галилею. Эта лиса, Ирод, замышляет против меня недоброе. Мое предназначение не в том, чтобы гнить в грязной тюрьме и ждать, когда мне снесут голову. Мы должны отправиться в Иерусалим незадолго до наступления Пасхи, а вернее — уже этой ночью. В Иерусалиме я должен пострадать несколько иначе, нежели может придумать Ирод Галилейский. Я должен быть отвергнут священниками и старейшинами Храма. А теперь слушайте очень внимательно. Поскольку вы верите, что я Сын Бога Живого, вы должны принять то, что я вам сейчас скажу, без удивления и потрясения. И без неверия, Фома. Я должен быть убит. На третий день после моей смерти я воскресну. Но прежде я должен быть убит.
Петр, с преждевременной, может быть, властностью, воскликнул:
— Такого не должно произойти, учитель! Ты дал мне полномочия, и теперь я, пользуясь ими, говорю: этого не будет! Мы этого не допустим! — И Петр, в поисках поддержки, окинул взглядом своих товарищей.
Но Иисус был взбешен. Он встал из-за стола, отвернулся, потом снова посмотрел на них и закричал:
— Неужели нечистый управляет тобой?! Отойди от меня, сатана! Не камень ты больше, но булыжник на моем пути, чтобы я споткнулся. Ибо думаешь ты о том, что человеческое, а я говорю о том, что Божье! И тому, о чем говорю, надлежит быть, и быть скоро! Ни один человек не помешает этому!
Больше Иисус не сказал ничего и снова отвернулся. Казалось, он дышит с трудом. Петр открыл было рот, но, встретив предупреждающий взгляд Иуды, не решился заговорить. У всех учеников был пришибленный вид. Варфоломей морщился, как от боли в желудке. Они с благодарностью посмотрели на женщину, которая в этот момент вошла в комнату — как они сразу подумали, убрать посуду, — однако в руке ее был кувшин. Что же, еще порция вина? Потом они узнали эту женщину, и у них появилась надежда, что гнев учителя изменит направление. Однако Иисус был очень мягок с вошедшей женщиной (скорее, девушкой, но девушкой плохого поведения). Он поцеловал ее в щеку и сказал:
— Благослови тебя Господь, дитя! Я счастлив видеть тебя. Ты, кажется, чувствуешь себя неловко, Петр? Возможно, твоя мать не одобрила бы пребывание своего сына в такой компании… Нет, дитя мое, мы не будем подшучивать. Что же ты принесла мне?
— Вот что. — Девушка заговорила так тихо, что только Иисус мог слышать ее. — Я видела сон, будто мою твои ноги своими слезами, а потом вытираю их своими волосами. И тут в мой сон вошло слово. Я услышала слово «помазанный». А к чему все это, я не знаю.
Иоанн расслышал слово и произнес:
— Ho basileus christos[105].
— Ученость находит себе применение, — улыбнулся Иисус, взглянув на Иоанна, а затем сказал, обращаясь к Марии: — Итак, деньги, которые ты получила от продажи своего тела, идут на помазание. Это очень ценная мазь.
И действительно, в алебастровом сосуде оказалось не вино, а мазь. Мария сняла крышку с сосуда, и по комнате распространился приятный аромат.
— Можешь полить мне немного на голову, — сказал Иисус. — Хорошо, достаточно. Но сохрани остальное. Будет и другой раз.
Иуда Искариот улыбался как-то уныло. Иисус заметил это и кивнул, будто знал, что тот скажет. Иуда же произнес:
— Извини, тут у меня промелькнула одна мысль. Я подумал о деньгах, которые могли бы пойти бедным…
— В тебе заговорил скрытый фарисей, — отметил Иисус. — Бедные всегда будут при тебе, а Сын Человеческий пришел на короткое мгновение. — Он замолчал, вслушиваясь. Казалось, Иисус слышал что-то, чего не могли слышать другие. — Теперь нам нужно уходить. Мы отправляемся в Иудею.
Было почти полнолуние, ночь выдалась теплая. Двенадцать человек — парами и тройками, а Иоанн, как всегда, рядом с Иисусом — двинулись в южном направлении. За ними, на некотором отдалении, следовала группа женщин, среди которых была и Саломея. Мне, кстати, следует пояснить, что имя Петр правильнее было бы произносить как Петрос, и вы можете удивиться, с чего бы это простой галилейский рыбак, который говорит только на галилейском диалекте арамейского языка, обладает таким интересным вторым именем — ощутимо греческим. В действительности же второе имя у Симона было Кефла, вполне арамейское, однако Иона, его отец, предпочел греческий вариант имени, который он услыхал как-то у приезжавшего из Иудеи торговца рыболовными снастями. Так или иначе, этот факт может оказаться полезным.
Другой случай, о котором я хочу поведать, произошел уже после ухода Иисуса, помазанного главы церкви, и его последователей в Иудею. Утром следующего дня на том постоялом дворе, где Иисус с учениками был накануне, появились царские стражники с намерением схватить его.
— К этому времени они уже по ту сторону границы, господин, — сказал хозяин постоялого двора капитану стражников.
В комнате, где накануне проходил ужин, капитан принюхался:
— Тот же самый запах. Как в спальне блудницы.
Один из его людей возразил:
— Ты ошибаешься, господин. Это могильный запах. Так пахнет материал, в который заворачивают трупы, чтобы они дольше сохранялись.
Это было незадолго до прихода Иисуса с учениками в Вифанию, и именно там, по общему мнению, он совершил самое великое из своих чудес, если, конечно, мы исключим более позднее, а в нашей истории — последнее. Нам следует удивиться, почему Иисус, приказав своим ученикам хранить тайну о его Божьем происхождении, должен был теперь представить доказательство этого происхождения столь большому числу людей и в такой близости от Иерусалима. Эту кажущуюся несообразность можно объяснить с точки зрения готовности и даже стремления Иисуса к тем событиям, которые повлекли за собой его смерть и в которых Иуда Искариот сыграл столь роковую роль. Можно сказать совершенно определенно, что, как раз наблюдая это чудо, Искариот и принял то решение, понять которое мог бы лишь человек, столь же утонченный и наивный, как сам Иуда.
В тех местах жили тогда две сестры, благочестивые незамужние женщины (одна даже несколько более благочестивая, чем другая), и звали их Марфа и Мария. Прежде с ними жил их возлюбленный брат Лазарь, но в возрасте двадцати четырех лет он умер от лихорадки, с которой не смогли справиться местные лекари. После смерти Лазаря похоронили в семейном склепе, который находился в большой скале и был закрыт тяжелой каменной плитой. Чтобы установить ее на место, потребовались усилия по меньшей мере пятнадцати человек. Когда рыдающие Марфа и Мария пришли к Иисусу с просьбой вернуть к жизни их брата, он никоим образом не объяснил, почему решил оказать столь великую милость только им одним и никому другому. Очевидно, Иисус находил в Марии что-то фарисейское — она действительно слишком добросовестно соблюдала все предписания, громко молилась в общественных местах, отчего ее нельзя было назвать женщиной большого ума. Марфу Иисус, кажется, считал угрюмой женщиной, обиженной тем, что исполнение скучных обязанностей по ведению домашнего хозяйства Мария оставила за собой. Благочестие Марфы было каким-то безрадостным, на благотворительность она скупилась. Подойдя к склепу, Марфа, казалось, была довольна тем, что собралась такая огромная толпа — весть о приходе Иисуса и слезной просьбе сестер облетела всю округу, и люди пришли понаблюдать, как он будет выполнять свое невыполнимое обещание.
Несколько торопливо Мария заговорила:
— Если бы ты пришел в Иудею чуть раньше, учитель, я знаю — наш брат был бы жив. Но даже теперь, я уверена, Бог дарует тебе все, что бы ты у него ни попросил.
— Запомните эти слова! — сказал Иисус громко, чтобы каждый мог услышать. — Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. — Затем он велел старшему слуге и его людям: — Отодвиньте камень.
— Послушай, — сказал этот человек, — я не хочу делать ничего подобного. Там, кроме тела, ничего нет. Оно лежит там уже неделю. Зловоние. Это вредно. Мне это не нравится.
— И все же уберите камень, — настаивал Иисус.
Проворчав что-то, слуга со вздохом посмотрел на своих подчиненных, и они, охая и обливаясь потом, отодвинули камень в сторону. Иисус подошел к входу в склеп и позвал:
— Лазарь! Лазарь!
Большинство слуг готовы были убежать и спрятаться за кипарисы, как вдруг увидели, что белый сверток, едва различимый в полумраке склепа, зашевелился. Какая-то женщина, а скорее девушка — это была потрясенная дочь Иродиады, — пронзительно вскрикнула. Иисус снова громко позвал:
— Лазарь, выйди! Лазарь! Лазарь!
Но тело, завернутое в погребальные одежды, только извивалось и корчилось.
— Снимите с него повязки. Освободите его.
Марфа опомнилась первой, подбежала к шевелящейся куче погребальных одежд и размотала повязки на голове покойника. Когда она открыла лицо молодого человека, тот лишь моргал, ничего не понимая. Потом подошли слуги и освободили от повязок его руки и ноги, делая это без особого желания. Марфа, рыдая, поцеловала Лазаря.
Фома, наблюдавший эту сцену с пристальным вниманием, сказал Иуде:
— Второй раз вижу, как он это делает. Первый раз была девочка из той семьи, на которую я работал. Я помню его слова: «Талифа-куми. Девица, тебе говорю, встань». Как я всегда предполагал, она, должно быть, находилась в сонном трансе. Однако не думаю, что этот тоже спал.
— Мне нужна лошадь на время, — сказал Иуда. — Я должен быть в Иерусалиме раньше остальных — сообщить благую весть.
— Думаю, ты можешь не беспокоиться. Эти люди теперь готовы отдать тебе целую конюшню.
Разумеется, для Иисуса и его последователей устроили большое застолье, правда, все закуски были холодными. Женщины, которые шли за ним — блудница Мария, царственная танцовщица Саломея (уже в серой одежде, с грязным лицом), дамы, соткавшие для него одеяние, и остальные, — тоже получили все самое лучшее, хотя и за другим столом — отдельно от мужчин. Марфа наблюдала за тем, как и что им подают, а Мария не переставала говорить слова благодарности Богу и этому новоявленному святому, не забывая, однако, о еде. Лазарь, уже в чистой свежей одежде, ел мало, но пил много воды — будто смерть была испытанием жаждой. Фома подробно его расспрашивал:
— Ты умер, так? Ты ушел в мир иной. Можешь ты вспомнить что-нибудь?
— Это было похоже на очень глубокий сон. Потом я услышал голос, звавший меня по имени, будто над самым ухом. Я тогда подумал: «Пора вставать, но почему же среди ночи? Посплю-ка я еще». Потом у меня в ушах раздался грохот, и я попытался встать.
— Никаких воспоминаний о рае, преисподней или еще о чем-то, что с тобой происходило, пока ты был мертв?
— Ничего не помню.
— Бог, ты знаешь, ничего не выдает, — произнес Фома. — Он хранит тайны.
— Будто сон. Потом голос, который звал меня по имени…
— Да-а…
Иуда Искариот долго перебирал в памяти разные имена, безуспешно пытаясь вспомнить имя человека, вместе с которым он обучался когда-то в Иерусалиме греческому языку у одного превосходного наставника. Это было имя человека, которому предназначено было стать священником и который, Иуда это знал, в конце концов им стал. Человек его лет, с острым умом, склонный к странным проявлениям ереси, — таких теперь модно называть «прогрессивными». Возможно, в пути ему вспомнится это имя. Он должен уезжать в Иерусалим немедленно, отказавшись от очередной чаши вина. Иуда без затруднений получил на время лошадь — красивую, серой масти, с дорогим роскошным седлом, когда-то самую любимую лошадь Лазаря, которую тот теперь будет любить, как прежде. Прежде чем закончить свой рассказ о Лазаре, мне следовало бы сказать о нем то, что говорят другие. Этому, однако, нет никаких документальных подтверждений. Его вторая жизнь (которую можно было бы назвать жизнью после смерти) была полностью порочной, и продолжалась она недолго, закончившись, так сказать, на острие ножа во время пьяной драки в таверне. Но это, возможно, и не имеет отношения к нашему повествованию, поскольку с фактом (если считать это фактом) воскрешения Лазаря Иисусом никоим образом не связано. Воля человека абсолютно свободна, а свобода дарована Всевышним.
Подъезжая к Иерусалиму и завидев Елеонскую (или Масличную) гору, Иуда с удивлением обнаружил, что в ушах его звучит имя, которое ему никак не удавалось вспомнить, — имя его однокашника. Оно начиналось с фырканья лошади — зззаррр — и заканчивалось овечьим блеянием — аааа. Ну конечно же — Зара! Человек возвышенного ума и из хорошей семьи. Священник, который поднялся высоко и, хотя был он еще молод, должен взойти еще выше. Человек с широким кругозором, который, конечно же, внимательно выслушает его. Миновав городские ворота, Иуда с трудом продвигался к Храму, поскольку улицы были заполнены горожанами и воинами. Ему повстречались двое молодых священников, которые прогуливались поблизости от Храма. Род их деятельности был легко узнаваем по строгой, но дорогой одежде и широкополым шляпам, которые служители церкви из-за сильного ветра — надо же сохранять священническое достоинство! — придерживали руками. Иуда обратился к ним, и они с готовностью объяснили, где проживает преподобный отец Зара — южнее Храма, но севернее старого рынка. Искариот поехал в том направлении.
Ему велели подождать на террасе — среди пения птиц и благоухания цветущего кустарника, который был еще влажным после утреннего ливня. Наконец вышел Зара — красивый, улыбающийся, опрятный, каким был всегда. Он хорошо помнил своего товарища по учению. Приветствуя Искариота, Зара протянул ему обе руки:
— Иуда, Иуда, давно же мы с тобой не виделись!
— Думаю, слишком давно. Теперь мне следует быть с тобой почтительным и называть тебя отец Зара, не так ли?
— Как бы ты ни называл меня, но прежде позволь пригласить тебя выпить вина.
О прошлом они говорили недолго. Иуда быстро перешел к цели своего приезда. Зара серьезно и с большим вниманием выслушал ясный, подробный рассказ о пастырской деятельности Иисуса и заговорил:
— Итак, Тот, Кто Грядет. Тот, кто должен явиться. Но когда?
— В любой день. В любую минуту. Когда я уезжал, он с учениками оставался в доме этого самого Лазаря, в Вифании. Этому последнему его деянию я не придал бы особого значения, если бы оно не было знаком для тех, кто не спешит верить. Некоторым из нас уже не нужны такие знаки. Учение — вот что самое важное.
— Значит, ты полагаешь, что это он, — заключил Зара без вопросительной интонации.
— Я знаю, что это он.
— Чудеса. Воскрешение мертвых. Это не так трудно. Смерть — лишь сон. У нас, в Иерусалиме, нет недостатка в чудесах. Исцеление больных? Скажи больному человеку достаточно громко, что он здоров, и он выздоровеет. Так говорят скептики. Пребывание на этой должности научило меня некоторому скептицизму. Ну а что касается учения, то, разумеется, нам о нем известно все. Действительно, его доктрину внимательно изучили несколько посланных нами людей, которые наблюдали за ним и слушали, что он говорит. Кое-что из этого учения они записали. Оно, конечно, новое. Даже революционное. И все-таки оно твердо и полностью основывается на старом Законе. Кажется, этот твой человек — как бы поточнее выразиться — педантично… нет, почти фанатично придерживается старого Закона. Человек, которого трудно опровергнуть, — так мне передавали. Фарисеи не привыкли, чтобы их разбивали с помощью их же собственных текстов.
— Ты еще не слышал его? О, скоро услышишь, надеюсь. И увидишь. Гигант с громоподобным голосом и огромными глазами. Вот где надежда Израиля. Священник среди царей и царь среди священников. Синедрион должен признать его, синедрион должен…
— Должен?!
— Послушай, Зара, отец Зара, ты знаешь меня как… Я не глупец…
— Ты никогда им не был, Иуда, — улыбнулся Зара. — И никогда не был особенно легковерным. Но ты, возможно, несколько более простодушен, чем следовало бы.
— Если, говоря «простодушен», ты подразумеваешь склонность воспринимать иудейскую веру всерьез… Отец Зара, мы оба знаем Писание, но ты, конечно, знаешь его лучше. Писание предсказывает пришествие Мессии. Тот злодей, что некогда правил Иудеей, так безусловно верил в его пришествие, что однажды учинил поголовное истребление новорожденных в Вифлееме…
— Уничтожив в их числе и Мессию, насколько нам известно.
— Мне понятно, что ты подразумеваешь под скептицизмом, — продолжал Иуда несколько нервно. — Я не облечен полномочиями священника, и, скажу как старый друг, я даже рад, что не обладаю ими, если эти полномочия влекут за собой появление скептицизма.
— Ты хочешь сказать, что желаешь верить.
— Что я должен верить! — Иуда посмотрел на Зару почти свирепо, но потом взгляд его смягчился. — Моим мнением можно пренебречь. Что о нем думает Священный Совет — вот что важно. И что потом Священный Совет сможет сказать оккупационным властям.
Зара свел вместе кончики пальцев рук — очень медленно, один за другим, — образовав нечто вроде хрупкой воздушной клетки, в которую он вглядывался так, будто там находились его слова. Затем проговорил, словно читая:
— Итак, у нас есть новый правитель — некий человек из дома Давидова, царского дома Израиля, о чем станет известно римским сановникам. Мы полностью доверяем этому правителю. Он проповедует ненасилие, любовь, терпимость. Даже по отношению к Риму. Пусть кесарь отзовет своих представителей. Мы больше не нуждаемся в его умиротворяющих легионах.
— Ты очень хорошо все излагаешь.
— Чтобы убедить римлян вывести их легионы, их прокуратора и их, мытарей, мне пришлось бы изложить им все это действительно очень хорошо.
Иуда глубоко вздохнул:
— Зара, отец Зара, ты веришь в неизбежность прихода Мессии?
— Конечно. В противном случае я был бы еретиком. Израиль всегда верил и будет верить в его пришествие.
— Понимаю. Грядущий, который не приходит никогда. И все же есть многие, которые говорят, что Мессия нужен именно сейчас и что Бог отвечает на нашу нужду. Ты услышишь такое в любом уголке Галилеи. Говорю тебе, он — Помазанник Божий. Пусть он хотя бы появится перед святыми отцами Израиля.
— Обещаю тебе, что скоро он перед ними предстанет.
Иуда облегченно вздохнул. А Зара продолжал:
— Я тем временем за ним понаблюдаю. Очень внимательно. Мы не можем рисковать. За пределами Иудеи есть лжепророки.
— Ты говоришь его словами.
— Не может быть! — улыбнулся Зара. — Передо мной человек, пылающий надеждой! В наши дни таких нечасто встретишь.
— Скорее, пылающий верой. Есть, правда, одно… — Лицо Иуды помрачнело. — Позволь мне высказаться откровенно.
— Ты и пришел сюда, чтобы говорить откровенно.
— Есть один неприятный момент. Последнее время он слишком много говорит о неудаче. О врагах. О своей смерти. Надо сделать как-то так, чтобы он избавился от подобных настроений. Это, скажу со всем моим почтением, задача Совета. Ибо Иисусу суждено совершить многое.
— Синедрион начнет действовать, — ответил Зара. — Об этом не беспокойся.
В это время Иисус и его ученики находились в Виффагии. Иисус стоял, ласково поглаживая уши смирной серой ослицы, рядом с которой щипал траву маленький ослик. Взгляд Иисуса остановился на горе Елеонской. С яростью в голосе Фома произнес:
— Мечи и копья, копья и мечи! Они нас будут ждать, это точно.
— Нет, ни римляне, ни старейшины Израиля не отважатся на арест невиновного человека. Пока. Они хотят, чтобы я был в пределах их досягаемости, и намерены пока выжидать, наблюдая. Нет. Сказанное в Писании должно исполниться. Въезд в Иерусалим должен быть чем-то вроде вступления царя. В шестьдесят второй главе Книги Исаии сказано: «Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной»[106]. Заметьте, не на взрослом осле, а на осленке, на котором еще никто не ездил верхом.
— От тебя ожидают многого, — с сомнением произнес Матфей.
— Они не получат того, что ожидают. Не будет ни срывания римской символики, ни царя, который правит самостоятельно, ни изгнания чужеземцев. Нет. Те, кто сегодня кричит «Слава!», завтра будут швырять камни. Пойдемте, однако.
— Позволь заметить, — обратился к нему Симон Петр, — но этот ослик едва ли выдержит кого-то из нас, не говоря уж о тебе.
— Вот слова моего практичного друга! Это делается исключительно ради того, чтобы исполнилось сказанное в Писании, Петр. Только символическая пара шагов, а там можете вернуть ослика вместе с его матерью хозяину. Но, думаю, вы увидите, что мой вес он выдержать сможет.
— Да, да, конечно. Совсем забыл об этом, — ответил Петр.
КНИГА 5
ПЕРВОЕ
Власти никак не противодействовали въезду Иисуса в Иерусалим. Легионеры, находившиеся среди встречавшей его толпы, не очень, кстати, многочисленной, ожидали яростного выступления группы еврейских бунтовщиков, которые, конечно, успели бы раскроить несколько римских голов, прежде чем были бы разбиты их собственные. К тому времени Иуда Искариот уже повсюду разнес весть о пришествии Мессии, но подал ее упрощенно — как неизбежное появление в их среде учителя, целителя или того, кто воскрешал умерших и был уже хорошо известен в Галилее. И римляне, и евреи были разочарованы, когда увидели, как в город, неловко сидя на маленьком ослике, смиренно въехал высокого роста человек, сопровождаемый одиннадцатью людьми в лохмотьях. Вскоре он спешился, и один из его спутников (это был Иаков-меньший) увел ослика и ослицу назад через городские ворота, чтобы вернуть их хозяину. Иуда Искариот восклицал:
— Это он! Устелите путь его цветами, пальмовыми листьями, вашими одеждами! Повторяйте за мной: осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!
Толпа отвечала нерешительно — очевидно, из-за ослика и этих оборванцев. Иуда пронзительно выкрикнул:
— Разве вы не видите?! Пророчество исполняется! В Книге Исаии сказано: «Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной».
Теперь некоторые воодушевились и стали выкрикивать: «Осанна!» Какие-то дети, взобравшись на пальмы, срывали ветви, которые с шелестом падали вниз. Толпа росла. Фарисеи, услышав крики «Осанна!», спрашивали, что происходит.
— Это пророк — Иисус из Назарета.
Четверо фарисеев, Елифаз, Иона, Ездра и Самуил, с угрюмо-презрительными улыбками проталкивались вперед. Под звуки флейты Фаддея ученики Иисуса подпевали Филиппу:
— Благословен Грядущий во имя Господне! Мир и слава на небесах! Пойте, пойте!
Елифаз и его спутники пытались было помешать движению этой маленькой процессии. Когда они расслышали слова песни, Елифаз сказал:
— Богохульство! Они не должны произносить таких слов.
Услыхав это, Иисус произнес:
— Если бы они молчали, закричали бы сами камни.
Всегда готовые к развлечениям, жители Иерусалима бросали пальмовые ветви и кричали «Осанна!». Иуда Искариот продолжал выкрикивать свои призывы, и все новые и новые люди присоединялись к толпе. Какой-то человек обратился к фарисеям:
— Я мог бы спеть другую песню.
— Что? Нас это не интересует, — отозвался Самуил.
— Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним.
— Едва ли весь, — огрызнулся Ездра.
— Ждите. Просто ждите, — успокаивал фарисеев Елифаз.
В тот день Иисус и ученики свою работу не делали. Отбиваться от увечных, слепых и парализованных было и без того достаточно трудным делом. В какой-то момент Иисус остановился и воскликнул, обращаясь к городу:
— О Иерусалим, если бы в сей день узнал ты, что служит миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придет день, когда враги твои окружат тебя, и бросят на землю тебя и детей твоих, и не оставят камня на камне за то, что не узнал ты дня посещения своего!
Пророчество это, как хорошо известно, вскоре сбылось[107].
Иуда Искариот устроил так, что Иисус с учениками остановились на постоялом дворе (он находился на горе Елеонской), где было шесть или семь комнат, там давали одеяла и были чистые полы. Им подали скромный ужин на открытом воздухе. Когда они молча смотрели на лежавший внизу город, освещенный последними лучами заходящего солнца, Иисус сказал:
— Великий город, как видите, и вы должны испытывать трепет при мысли о всех великих городах, которые услышат вас, когда придет время и меня не будет рядом с вами. Но вера — великое слово. Если есть в вас хоть крупица веры, скажите горе: «Сдвинься! Упади в море!» И гора упадет.
Ученики чувствовали усталость, даже некоторое раздражение. Фома заявил:
— Ага, ты хочешь сказать — если мы поверим, что гора упадет в море, то такое обязательно произойдет. Но я в это не верю. И никто из находящихся здесь не верит… Да и ты тоже, скажу я, при всем к тебе уважении.
— Фома, ты выпил уже три чаши вина, — заметил Петр. — Оставь немного и другим.
— Очень хочется пить. Слишком жарко.
— Выпей воды, — проворчал Петр.
— Масличная гора… — задумчиво произнес Иуда Искариот. — Помните, что оливковые ветви означают мир.
— Итак, — снова заговорил Иисус, — здесь, на исходе дня, мы должны обрести покой. Его в этом городе у нас будет довольно мало.
— Возможно, я сказал, не подумав, — начал оправдываться Фома. — Я забыл, что ты выражаешься этими самыми аллегориями, как ты их называешь.
— Завтра, Фома, никаких притч и аллегорий. И меньше слов. Сам все увидишь.
Первую свою работу в Иерусалиме Иисус выполнил рано утром, и было это у стен Храма. Он и его ученики стояли там, наблюдая бойкую торговлю жертвенными голубями: ряды лотков, увешанных плетеными клетками; насесты, к которым привязаны стонущие и воркующие птицы; испачканные голубиным пометом одежды торговцев. Иисус спросил:
— Скажи, Иуда, достаточно ли у нас денег, чтобы купить плеть?
— Плеть, учитель?
— Да, плеть, которую ты пустил бы в ход против норовистой лошади или строптивого пса. Купи одну. Сейчас же. Быстрее.
— Он напрашивается на неприятности, — пробормотал Иаков-меньший, обращаясь к другому Иакову. — Он явно стремится к этому. Почему?
Когда Иуда вернулся, держа в руке красивую плеть с крепкой деревянной ручкой, Иисус, не сказав ни слова, взял ее и начал что есть силы хлестать торговцев. Он жестом приказал ученикам открыть клетки и разрезать веревки, которыми были привязаны птицы. Поначалу торговцы громко протестовали: «Должны же мы продавать голубей! Надо же приносить жертвы, так? Да кто ты такой, будь ты проклят?!» Потом сил у них хватало уже только на то, чтобы выть от боли. Со свистом рассекая крыльями воздух, голуби делали круги над двором Храма, садились на стены, невозмутимо ворковали, глядя на происходивший внизу беспорядок. Перед тем как прогнать плетью одного упрямого рослого торговца, который отбивался палкой, Иисус остановился, чтобы перевести дыхание. Прибежавший служитель Храма спросил:
— Ты тот самый Иисус из Назарета, про которого все говорят?
— А какое значение имеет мое имя? — спросил Иисус.
Когда появились другие священники, он, отогнав торговца с палкой, который посылал ему страшные угрозы и проклятия, закричал:
— Разве не имеет права сделать это любой человек, который боится Бога и поклоняется ему в Храме?! Храм — для служения Богу, а не для торговли голубями!
Один из священников громко запротестовал:
— Голуби нужны для жертвоприношений! Ты должен прекратить это!
То был довольно слабый протест, исходивший, должно быть, от человека, который всегда сомневался, уместно ли превращать двор Храма в место торговли животными. Иисус ответил:
— Я едва только начал.
Он повел своих учеников в другое место у Храма. Там продавались Божьи твари, предназначенные для более существенной жертвы. Он теперь безжалостно избивал не только торговцев, но и тех, кто покупал. В это время ученики его отвязывали быков и овец и выталкивали их на главную улицу, где те продолжали громко мычать и блеять. Какой-то фарисей на свою беду закричал: «Это богохульство, богохульство! Ты слышишь?!» — и получил в ответ от Иисуса:
— Ты говоришь истину, сын мой.
Далее он перешел к трудной работе с менялами. В городе имели хождение римские монеты, на которых был выбит профиль и указаны все титулы Тиверия. Эти деньги в качестве подношения Господу не принимались в Храме, так как они считались не просто светскими, но и языческими, и потому их следовало обменивать на деньги Храма. Менялы от такого обмена получали немалые барыши. Иисус и ученики услыхали, как один меняла, с присущими людям его круга завываниями, говорил:
— Я и мои товарищи имеем здесь исключительное право на выдачу денег Храма. Меня не интересует, что они тебе говорят. Ты, друг, свои императорские деньги больше нигде обменять не сможешь.
Другой человек, который ссужал святые деньги под большой процент, говорил:
— Ты должен выплатить тридцать процентов до Пасхи в деньгах императора Тиверия. Ты меня понял?
Пока ученики опрокидывали столы, со звоном разбрасывая золото и серебро, Иисус хлестал плетью менял и ростовщиков и кричал:
— «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов»[108], вы же сделали его вертепом разбойников! Вы исполняете пророчество! Я же его нарушаю!
Иисус оставил работу по выдворению изрыгавших проклятия менял и ростовщиков своим ученикам. Особенно постарался Иаков-меньший, который применил теперь всю свою грубую силу ярмарочного борца. Часто и тяжело дыша, Иисус спросил у Иуды:
— Что по этому поводу сказано в псалмах Давида?
— «Ревность по доме Твоем снедает меня»[109], — тотчас процитировал Иуда.
Иисус несколько раз кивнул. Затем они оба поймали на себе взгляд молодого священника, стоявшего у главных ворот Храма. То был Зара. Он не подал виду, что узнал Иуду, но долго и пристально разглядывал Иисуса, потом быстро исчез. Иуда сказал:
— При моем глубочайшем уважении к тебе, учитель, хочу сказать, что нам, по-моему, не следует… слишком противодействовать авторитетам. Нам понадобится их…
Он не смог выговорить слово «поддержка». Полный отвращения взгляд, который бросил на него Иисус, ошеломил его. Иуда подался назад и натолкнулся на Филиппа и Фаддея, которые возвращались после того, как слегка поколотили менял.
— Учитель, я вижу, что был не прав, учитель… — только и смог пробормотать Иуда. И тут же побежал выполнять задание по выпрашиванию милостыни, досадуя на свою глупость, злясь на самого себя.
За то, что Иисус очистил территорию вокруг Храма, власти не могли принять против него какие-то меры официального характера. Особое право совершать свои сделки у Храма торговцам и менялам предоставлялось, но под защитой Храма они не находились. Новость об их изгнании обеспечила Иисусу многолюдное собрание прихожан во время его первой попытки проповедовать у главного входа в Храм. Явившаяся толпа, несомненно, ожидала нового бичевания. А на деле бездельники и любопытствующие получили свою порцию чудес, поскольку, перед тем как начать говорить, Иисус многих исцелял. Его ученики в это время доброжелательно, но решительно отделяли людей с тяжелыми недугами от тех, у кого были незначительные недомогания, и сдерживали напиравшую толпу. Иисус уже был готов обратиться к ней, когда несколько матерей гордо привели своих малолетних детей, чтобы те получили благословение и сами благословили его.
— Скажи, скажи это!
— Ошшшана.
— Сыну Давидову.
— Шину Вавивово.
Елифаз и его приятели фарисеи были тут как тут.
— Как далеко ты собираешься зайти?! — закричал Елифаз. — Теперь даже дети говорят богохульные слова!
Иисус, как всегда, отвечал быстро, но говорил скорее с сожалением, чем победным тоном:
— Жаль, что вы, очевидно, не знаете Писания. «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу»[110]. — И затем: — Будьте благословенны, дети мои!
— Скажи, дорогая, скажи!
— Осанна Сыну Давидову, — равнодушно произнесла девочка лет шести, и мать радостно обняла ее.
Теперь Иисус говорил решительно и строго:
— Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные: по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. А что вы делаете с деревом, не приносящим добрых плодов? Всякое такое дерево срубают и бросают в огонь. Обещаниям лжепророков — будь то люди веры или те, что занимаются политикой, — верить нельзя, помните это. По плодам их узнаете их!
Елифаз выкрикнул:
— Скажи нам одно, о красноречивый обвинитель. По какому праву ты делаешь то, что делаешь, и говоришь то, что говоришь?
— О, это слово — «право»! — мрачно улыбнулся Иисус. — Вы знаете Иоанна Крестителя. Откуда получил он право крестить? С небес? Или от людей?
— От л… — начал было Ездра, но Елифаз, прежде чем Ездра успел произнести последнее слово, прикрыл ему рот рукой, сказав:
— Глупец! Ты хочешь, чтобы народ разорвал тебя на куски?
— Мне показалось, кто-то произнес: «От людей», — или я ослышался? Ага, таких, конечно, нет! А тогда, если вы, как и следует, говорите: «С небес», — то я спрашиваю: почему же вы не поверили в него?
Елифаз что-то пробормотал, но это не было ответом. Ответил Ездра:
— Мы не знаем.
— Очень хорошо. Вы мне не отвечаете. И я вам не отвечаю, по какому праву я так делаю и говорю. Но позвольте мне рассказать вам одну историю. Жил человек, у которого было двое сыновей, и как-то раз он сказал одному из них: «Сын, пойди и поработай на винограднике». Сын ответил: «Нет, не пойду», — но вскоре одумался и пошел. Тогда отец сказал другому сыну: «Сын, пойди поработай на винограднике». И тот согласился: «Хорошо, пойду, и с радостью», — но не пошел. А теперь скажите — кто сделал работу отца?
— Ответ довольно очевиден, — скучающим тоном произнес один из священников.
— Очень хорошо. Так что же подразумевается в этой истории? А подразумевается в ней следующее. Вы, люди, считающие себя такими святыми, говорите Богу «да», но не выполняете Его воли. Воры, блудницы, мытари — они могут сказать Богу «нет», но кто знает, что они не выполняют Его волю? Говорю вам, фарисеи и священники: есть много воров и блудниц, которые попадут в Царство Божье раньше вас. Ибо Иоанн Креститель пришел к вам путем праведным, но вы не поверили ему, а многие, бывшие грешниками, поверили. И даже когда вы видели, что они верят, вы не помышляли о раскаянии. Вы делали по-своему. И продолжаете делать. По плодам их узнаете их!
На этом собрание закончилось. Иисусу не понадобилось немедленной защиты от святых отцов, которые теперь либо злобно ворчали, либо изображали удовлетворенное равнодушие. Многие простые люди встречали его слова одобрительными возгласами, а некоторые взывали: «Учитель! Учитель!» — и выставляли свои парализованные руки, обнажали покрытые опухолями груди и указывали на свои неподвижные глаза. Сейчас Иисус больше нуждался в защите от друзей, нежели от врагов. Когда он, следуя зову, полностью отвечавшему его человеческой природе, пошел к комнатам для омовений, ему встретились трое людей, которые, судя по их виду, были друг другу более чем друзья, скорее — братья. Увидев этих людей, Иисус почувствовал тревогу. Все они были хорошо сложены, имели длинные бороды и казались слишком оживленными. Самый высокий и крепкий из них сказал ему:
— Позволь представить тебе моих товарищей — Иовав и Арам. А с тобой, господин, у нас одно имя.
— Имя не столь уж редкое. Иисус… и как дальше?
— Бар-Авва — «сын своего отца». Можешь называть меня Варавва. А я буду называть тебя «учитель».
— Бар-Авва. Сын нашего отца. Это имя могло бы стать общим для всех.
— Мы узнали о твоем приходе. Этот твой человек, который прискакал на лошади, — он разнес благую весть.
— Хороший человек, — произнес Иисус с некоторым сожалением.
— «Рожден править, — сказал он про тебя, — но не желает принимать правление на себя». Мы это понимаем. Все сначала должно быть подготовлено. Близится Пасха, учитель. Каковы будут твои приказания?
— Любить Бога и любить человека. Вы слышали мои слова.
— Да, да, конечно, мы пойдем вперед в этом деле вместе, все мы. Ты зажигаешь огонь в сердцах сынов Израиля, чтобы они вспомнили своего Бога и объединились в братство любви. И ты успокаиваешь врага, дабы враг поверил, что и его любят или, но крайней мере, относятся к нему терпимо. Но когда начнется работа?
— Да, — грубовато вмешался Арам (или, может быть, Иовав). — Когда она начнется?
Иисус вздохнул:
— Боюсь, что до вас еще не дошла настоящая весть от ваших братьев из Галилеи. Я проповедую Царство Небесное.
— Которое мы готовы установить вместо империи кесаря, — сказал Иовав (или Арам). — Разве ты не тот, кто нам послан?
— Я тот, — пояснил Иисус, — о ком пророчествовал Иоанн Креститель.
— В которого мы верили, когда фарисеи и саддукеи плевали в него, — сказал Варавва. — А теперь, как он предсказывал, высшие должны лишиться престола, а низшие возвыситься.
— По его слову, — продолжал Иовав (или Арам). — То есть по твоему. Ты должен поднять знамя Мессии.
— Вы неверно поняли его пророчество. И вы неверно поняли значение моей миссии. Я должен вас покинуть. Моя миссия не завершена, а времени осталось мало.
— Мы тебя не понимаем, — удивился Варавва. — Ты говоришь загадками. Если ты считаешь, что мы вражеские шпионы, подумай как следует. Мы говорили просто и открыто. Мы требуем, чтобы и ты говорил так же. Мы вправе требовать.
Но Иисус, не ответив, свернул к галерее, где его ждали ученики, и вместе с ними покинул двор Храма. Из-за сомкнувшихся вокруг Иисуса учеников Варавва и двое его товарищей не смогли снова приблизиться к нему. Но, разочарованные и сбитые с толку, они старались держаться так близко, как только возможно. Хм, загадки какие-то…
В это время к Иисусу подошел римский центурион — в полной форме и с мечом.
— Ну-ну, теперь-то вы видите? Неправильно, значит, поняли его миссию, да? — произнес Варавва, уже нисколько не озадаченный.
Группа учеников, защищая Иисуса, сомкнулась плотнее, но центурион вежливо произнес:
— Учитель, я хотел бы попросить тебя кое о чем…
— Учитель? — удивился Иисус. — Ты называешь меня «учитель»?
— Как еще я могу называть того, кто явился свыше? — просто сказал центурион. — Не хочу тебя беспокоить, учитель, ибо у тебя и без того много дел, но у меня в доме есть слуга, уже много лет. Очень хороший, преданный, он мне почти как сын. Но сейчас он очень болен и, думаю, уже умирает. Обращаюсь к тебе с нижайшей просьбой, учитель…
— Вы видите? — крикнул Иисус окружавшей его толпе. — Друзья, ученики, все, кто сейчас слушает меня, вы видите? Я нужен не ради того, чему я учу, а чтобы быть носителем знамений и чудес, или еще — знаменосцем Израиля. — Он бросил недобрый взгляд в сторону Вараввы и его друзей, затем обернулся к центуриону: — То, что я делал для неблагодарных евреев, я должен делать и для неблагодарных римлян, дабы люди не говорили, что я проявляю благосклонность к одним и отвергаю других. Я иду к тебе.
— Но, учитель! — в отчаяний воскликнул центурион. — Я вовсе не стремлюсь быть свидетелем знамений и чудес! Я недостоин того, чтобы ты вошел в мой дом. Однако я знаю: если ты скажешь слово — большего и не надо! — слуга мой будет снова здоров. Ты видишь, господин, — перед тобой человек, который подчиняется власти, но и сам обладает властью: под моим началом сто легионеров. Если я говорю кому-то: «Сделай это!» — знаю, он это сделает. Или приказываю другому: «Иди туда!» — знаю, он пойдет. Мне не нужно видеть. Достаточно будет данного тобою слова.
Центурион, который, очевидно, уже давно пребывал в этих местах, говорил по-арамейски хорошо, хотя и с италийской резкостью. Иисус, однако, ответил ему на латыни — его же последними словами, как бы смакуя их значение: «Satis est ut verbum detur»[111]. Затем, обращаясь к толпе, он громко произнес:
— Слышите вы этого человека, командира римского гарнизона? Говорю вам: нигде в Израиле — в Израиле! — не встречал я такой веры. Это будет неприятной неожиданностью для тех, которые полагают, что они избранные только потому, что принадлежат к этой крови и этому племени. Да, они увидят Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков Божьих, сидящих в Царстве Небесном, — одной с ними крови и одного племени. Но они увидят и многих других, сидящих рядом с ними — иной крови и иного племени, — со всех концов света. И те, которые думают, что находятся в Царстве Небесном из-за принадлежности к своему племени, будут извергнуты во тьму внешнюю. Могу обещать, что будет великий плач и скрежет зубов. И бывшие последними станут первыми. А первые — есть ли необходимость мне это говорить? — последними. — Взглянув на центуриона глазами, полными любви, он отвернулся и сказал: — Иди домой. Твоя вера исцелила твоего слугу.
Ни на мгновение не сомневаясь, что это так, римлянин попытался преклонить перед ним колена, но Иисус поднял его. Благодарность, написанная на лице римлянина, как заметили наблюдавшие, более чем уравновешивалась ненавидящими взглядами фарисеев и разочарованно-злыми лицами Вараввы и других зелотов.
ВТОРОЕ
Как и следовало ожидать, уязвленные фарисеи поспешили созвать собрание, чтобы официально выразить свое возмущение и обсудить план, как заставить Иисуса замолчать. Елифаз, Иона, Самуил и Ездра — все, будучи старейшинами, входили в Великий Религиозный Совет и, следовательно, могли говорить со священниками (хотя, возможно, и не с самыми высшими) как с равными. Елифаз, пригласивший двух старейшин на это собрание возмущенных к себе домой, мог даже позволить себе, не рискуя заслужить упреки, несколько покровительственный тон. Двоих приглашенных звали Аввакум и Аггей — хорошие пророческие имена, данные хорошим едокам, которые теперь добросовестно поглощали предложенный Елифазом ужин (печеная форель, тушеные коренья, жареная телятина, фрукты, греческое вино, отдававшее смолой и дегтем). После ужина Елифаз сказал:
— Совет должен собраться. Должен. Наша медлительность ободряет этого насмешника, этого зубоскала и его неотесанных оборванцев. Мое мнение: надо немедленно нанести удар. — И он пристально посмотрел на Аввакума и Аггея, которые раскраснелись от угощений и были в благодушном настроении.
Первым высказался Аввакум:
— Созывать Совет в полном составе, чтобы решить судьбу какого-то бродячего проповедника… — это доказывает нашу неспособность разобраться с ним здесь и сейчас.
— Первым делом я попросил бы вас всех отбросить чувство личной обиды, — пропел Аггей. — Нашими основаниями должны быть… э-э… мораль и общественный порядок.
— Любой человек имеет право выразить возмущение, когда умаляется его авторитет, — с обидой в голосе произнес Ездра. — Был у меня в лавке один ученик, который отпускал шутки насчет овец в волчьих шкурах, так я от него быстро избавился — единственно справедливое решение. А теперь, увидев меня на улице, этот юнец насмехается. «Окрашенный гроб!» — кричит…
— А-а-а-х, — начал Елифаз, пытаясь скрыть приступ невольного смеха (ибо в Ездре, следует признать, действительно было что-то от «окрашенного гроба»). — Это все мелочи. Вера наших отцов — вот что подвергается насмешкам. Итак, преподобные отцы, что вы предлагаете?
— Как далеко вы хотите пойти в этом деле? — спросил Аггей.
— До конца! — прорычал Ездра.
— Выдворить его из Иерусалима, — более сдержанно произнес Самуил. — Его и толпу этих здоровенных попрошаек, что находятся при нем. Запугать его. Поймать на богохульстве. Напомнить о наказании, которое ждет его за это.
— Богохульных высказываний он старательно избегает, — заметил Аввакум.
— Да, — согласился Ездра. — Все, к чему он стремится, — это оскорбить уважаемых людей.
— Разве не богохульство говорить, что блудница попадет в Царство Небесное раньше священника Храма?! — воскликнул Елифаз.
— К сожалению, нет, — вздохнул Аггей. — Очень жаль, но это так. Я вот подумал о его отношениях с властями…
— Он и здесь проявляет осторожность, — возразил Аввакум.
— Этот центурион, — включился в разговор Иона, — будет теперь всюду ходить и рассказывать, что есть по крайней мере один еврей — друг Рима.
— Пусть тогда он попробует сделать выбор между Богом и императором, — задумчиво произнес Аввакум. — Вилка с двумя зубьями.
— Я не совсем понимаю, — сказал Елифаз.
— Позднее, позднее об этом, — нетерпеливо прервал его Аггей. — Для начала попробуем что-нибудь попроще…
Все это в конце концов свелось к замечательной демонстрации праведности, в ходе которой Ездра (он занимался ввозом пшеничной муки) наконец-то нашел применение неким, полученным им ранее, сведениям о жене одного из своих работников. Имя работника нас не интересует, жену же его звали Фирца. Она находилась в преступной связи с одним человеком довольно приятной наружности — он торговал лампами из кованого железа, причем довольно успешно, поскольку ремесленникам, их изготовлявшим, платил позорно мало. Выкрикивая поношения, Ездра выволок бедную женщину из ее маленького домика (муж несчастной в это время был на работе), а помогали ему — и в поношениях, и в выволакивании — Иона и Елифаз. Моральную поддержку всему предприятию обеспечили отцы Аггей и Аввакум, в молчании устремившие свои взоры к небу. На Фирце разодрали одежду, отчего несчастная стала казаться еще более бесстыдной, чем была на самом деле, затем женщину схватили за волосы и потащили к двору Храма. Когда это происходило, ученики Иисуса ели в таверне, а сам он писал или чертил какие-то таинственные знаки на земле, покрытой толстым слоем пыли (дождя не было уже более десяти дней). Некоторые говорят, что он рисовал рыбу и писал на ней по-гречески свое имя. Это, однако, к делу не относится. Ездра, держа визжавшую Фирцу за волосы, крикнул так, чтобы слышал Иисус:
— Братья израильтяне! В заповедях, данных Господом Моисею, сказано: «Не прелюбодействуй». Прелюбодеяние — грязный грех! Перед вами грязная грешница — прелюбодейка, которую застали в момент совершения этого отвратительного греха!
— В тот самый момент? — угодливо-льстивым тоном переспросил кто-то.
— Почти. Сразу после этого. Тот, кто был соучастником греха, должен считаться менее виновным, поскольку, как говорит нам Писание, именно из-за хитростей женщины случается грех. Так было в Раю. Так происходит и здесь. Забросайте ее камнями!
Он отпустил волосы Фирцы, но она, окруженная людьми, которые были готовы швырять в нее камни, не могла убежать. Иисус, как все и ожидали, встал и закричал: «Остановитесь!» Толпа охотно остановилась, надеясь увидеть забавное представление. Иисус громко спросил:
— Есть здесь кто-нибудь, кто безгрешен? Хотя бы один? Пусть тогда он первым бросит в нее камень! Чего же вы ждете, святые фарисеи? — И, осторожно подняв женщину, он сказал ей: — Иди с миром. Но впредь не греши.
Фирца убежала. Однако не навсегда. Вскоре ей суждено было примкнуть к той группе женщин, в которой были блудница, дочь царицы Иродиады, двое благочестивых белошвеек и несколько других поклонявшихся Иисусу женщин — дочерей Иисуса, как они стали себя называть.
Теперь закричал Елифаз:
— Кто ты такой, чтобы насмехаться над Законом Моисея?!
Его сообщники подхватили:
— Да, как ты смеешь, нарушитель заповедей, богохульник?!
— В Писании сказано, — продолжал Елифаз, — что прелюбодеяние — преступление, причем отвратительное преступление, что прелюбодейка — это грязь, которую следует бросить в мусорную кучу, а муж может развестись с ней и заставить ее держать ответ перед гневом праведников. Следовательно, это правда, что ты поносишь Закон. Значит, ты — грешник, грешник в одежде проповедника, окрашенный гроб!
— Моисей, — довольно мягко начал Иисус, — ради сохранения мира и порядка вынужден был уступать жестокосердности израильтян, и он страдал от мысли, что ваши предки, как и вы теперь, будут разводиться со своими женами. Но это никогда не входило в намерения Господа. Ибо, как сказано в Писании, Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Посему то, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
Иисус оставался спокойным и тогда, когда священник Аггей говорил слова, которые они вместе с Аввакумом подготовили заранее:
— Иисус из Назарета, все мы знаем, что ты говоришь истину и учишь ей. И для тебя не имеет значения, кому ты говоришь, поскольку, по твоему мнению, как и по мнению Бога, если один человек может говорить так, не богохульствуя, то это относится и ко всем остальным людям. Но одно приводит меня в смущение, и я надеюсь, что ты скажешь нам истину. Мы, сыны веры, считаем, что все принадлежит нашему Богу. По закону ли тогда платить подать кесарю?
Иисус мягко посмотрел на улыбающихся священников, на прищурившихся фарисеев, на римских стражников на сторожевой башне у Храма, на Варавву и его друзей, затем, уже без прежней мягкости, закричал:
— Лицемеры и глупцы! Почему вы так стремитесь заставить меня говорить изменнические речи? Покажите мне какую-нибудь римскую монету! Давайте, покажите, и вы получите ответ!
Какой-то римский легионер бросил монету в сторону Иакова-меньшего. Тот ловко поймал ее своими огромными ладонями и передал Иисусу. Иисус мгновение подержал монету, повернув так, чтобы на нее падал солнечный свет, затем громко спросил:
— Чье здесь изображение и чье имя?
— Кесаря. Императора Тиверия. Здесь имя кесаря. Да, кесаря.
— Очень хорошо! — сказал Иисус. — Кесарю вы должны отдавать то, что принадлежит ему, а Богу — то, что принадлежит Богу!
И он передал монету Иуде Искариоту, казначею. Всякая мелочь может сгодиться.
Принято считать, что фарисей Елифаз и зелот Иисус Варавва выкрикивали свои обвинения одновременно.
— Хватайте его! — кричал Елифаз. — Чего вы ждете?! Он поносит правила приличия, закон и порядок! Он водит дружбу с грешниками, ворами и блудницами! Вы слышали это из его собственных уст! Забросайте его камнями! Вышвырните его из святого города!
— Сам себя вышвыривай, гроб окрашенный! — выкрикнул из толпы какой-то человек, неизвестно кто.
Подобное настроение было у многих. Само это выражение — «окрашенные гробы» — входило в оборот, и даже появилась песенка (написанная, говорят, Филиппом, хотя этому нет подтверждения), в которой были такие слова:
Я — гроб, окрашенный снаружи. Ты загляни в меня и в ту же Минуту испытаешь страх, Увидев прах.Как я говорил, Варавва тоже кричал, и сообщают, что слова его были следующими: «Убейте его! Чего вы ждете?! Он друг кесаря, он лижет римлянам пятки, он показывает им египетские фокусы! Враг свободы, искажающий израильскую истину! Забросайте ублюдка камнями!» И он и его друзья начали швырять булыжники. Оба Иакова уже готовы были ответить, но Иисус их остановил, сказав:
— Не делайте ничего. Учитесь у фарисеев.
Елифаз и его сообщники поспешно удалились. Римский стражник, стоявший у края толпы, двинулся в сторону того, кто бросил первый камень. Камень, который бросил Иовав (или Арам), рассек одному из стражников левую щеку. Сирийские наемники начали избивать ни в чем не повинных евреев, наблюдавших за происходящим, а Варавва в это время пытался душить невысокого, но жилистого сирийца. Было видно, как на помощь стражникам со стороны соседних казарм спешит подкрепление, поднятое по сигналу рога. Впереди, высоко подняв знамя, символизировавшее римский мир, шагал знаменосец. Камень задел его. Выставив древко, он сделал выпад. Знамя вырвали у него из рук, и оно упало на землю. Древко сломали. Троих зелотов схватили без особого труда. Тяжело дышавший Варавва не поносил арестовавших его людей. Он приберег всю свою злобу для Иисуса:
— Предатель! Ты предал меня… Передал прямо в руки…
Здесь он получил удар в лицо от декуриона[112]. Щурясь от солнца, декурион посмотрел на Иисуса и его учеников, которые стояли очень спокойно, сложив руки на груди, и спросил у одного из своих людей:
— Это он?
— Да, он. Любите, говорит, своих врагов. Легче сказать, чем сделать.
ТРЕТЬЕ
— Тебе еще следовало бы спать, — произнес Иисус, увидев Петра.
Это было на горе Елеонской, перед самым рассветом, и снова день обещал быть сухим и жарким. Иисус наперед знал, когда погода будет портиться.
— Мы услышали, как ты встал, учитель, — ответил Петр. — Некоторым из нас нынче тоже не спалось.
С Петром был Андрей. Со стороны постоялого двора подходили Матфей и Фома. Своей привычкой быстро просыпаться они стали походить на зверей. Только Иакова-меньшего, чтобы заставить подняться, нужно было пинать и расталкивать.
— Кроме того, мы хотели у тебя кое-что спросить, но все как-то не хватало времени.
— О чем же вы хотели спросить?
— Ты говорил, что тебя заберут от нас, — сказал Андрей. — Когда? Кто это сделает?
— Скоро, — ответил Иисус. — В сущности, в этом примет участие каждый. Некоторые будут с копьями и мечами, некоторые — без оружия. Это не имеет особого значения.
Послышался бычий голос Иоанна, странно сочетавшийся с его изяществом и хрупкостью:
— Вставайте! Выходите! Свежее козье молоко, свежий хлеб!
Петр продолжал:
— Ты говорил еще, что придешь снова. Значит ли это, что тебя заберут, а потом освободят?
— Нет, Петр. Не освободят. Освободит меня только Отец мой Небесный. Заберут, будут судить, убьют. Но я приду снова.
Все это Петр и Андрей пережевывали вместе с утренним хлебом. Вскоре, когда над городом уже вставало солнце, все пили молоко, передавая друг другу кувшин. Предстоял еще один знойный день.
— Каков же будет знак? — наконец спросил Петр.
— Через три дня, — продолжал Иисус, — я снова буду жив. Меня похоронят, как Лазаря, и я, подобно Лазарю, выйду из склепа. Живой. Короткое время я буду с вами. Потом я буду потерян для вас. Для одних я стану воспоминанием, для других — детской сказкой; для истинно благословенных, истинно верующих я буду реальной сущностью. Но я вернусь в мир, ко всему миру, когда мир приблизится к своему концу.
— Когда это будет? — спросил Варфоломей.
— Через тысячу лет, через миллион. Какое это имеет значение? Время — не римский марш, время — это танец ребенка. Люди есть люди. Время — ничто в глазах Отца вашего Небесного, который сотворил его, чтобы мир, Им созданный, танцевал во времени. Но будут знамения конца, и многим может показаться, что эти знамения есть всегда: войны и слухи о войнах, народ, восстающий против народа, голод и землетрясения. Многие будут колебаться, будут ненавидеть друг друга и предавать. Единое будет множиться, и многие станут охладевать в своей любви.
— Такое могло бы происходить и теперь, — произнес Иуда Искариот.
Иисус на это ничего не ответил и продолжил:
— Ничего такого не может произойти до тех пор, пока слово Божье о Царстве Небесном не сказано всему миру. Под каким угодно названием, в какой угодно форме, но весь мир должен услышать его, принять и отвергнуть. И тогда конец придет. И покажется, что солнце померкло и луна не дает больше света, что звезды начали падать с неба и силы небесные поколеблены. И явится тогда Сын Человеческий, грядущий на облаках небесных с силою и славою великою.
Доносившийся из долины высокий звук пастушьего рожка, казалось, смеялся над этой ужасной картиной. Наблюдая, как пастух сзывает свое стадо, Иисус сказал:
— Он отделит овец от козлов. И скажет тем из народов мира, что сидят справа от него: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от сотворения мира, ибо так же, как возлюбили вы братьев ваших, возлюбили вы и Меня. Тогда скажет Он и тем из народов мира, которых усадил слева от себя: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, ибо алкал Я… Вы знаете, как там дальше. Петр?
— «…И вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня».
— «Был наг, — добавил Иоанн, — и не одели Меня».
— И скажут они такие слова: «Когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или нагим, и не послужили Тебе?» И ответит Он им: «Вы не сделали этого Моим братьям, вашим братьям, значит, не сделали и Мне, и…» — Иисус обернулся к Иуде Искариоту: — Закончи, сын мой возлюбленный.
— «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную», — произнес Иуда. — В жизнь вечную…
Наступила долгая тишина. Фома, нарушив ее, вздохнул, взял кусок хлеба и начал с шумом жевать. Проглотив хлеб, он, в своей обычной грубоватой манере, заключил:
— Стало быть, между смертью грешника и судом пройдет много времени. Может быть, миллион лет.
— Миллион лет — ничто. Вступая в дом смерти, ты оставляешь время позади. А потом Суд. Ни грешной душе, ни праведной не придется ждать долго. Можно даже сказать, что Царство Небесное есть сейчас, сейчас есть Ад и Рай.
По склону холма поднималась группа детей, и с ними шли их матери. Петр проворчал:
— Чтобы видеть тебя, им надо идти в Храм. Они мешают отдыхать. Я отошлю их.
— Нет, Петр, пусть идут. Их есть Царство Небесное. Истинно говорю вам: если не станете как дети и не будете снова учиться вере и чистоте души, не войдете в Царство Небесное.
И он встал и пошел навстречу детям. Варфоломей сказал Иуде:
— Снова учиться чистоте души. Ты способен на такое?
— Я должен стараться. Это трудно, но я должен стараться.
В городе истинно чистые душой — те, кто верил, что мир можно изменить в лучшую сторону, сменив правителей, — бурно выражали свой протест, столпившись у стен тюрьмы, в которой на грязной соломе лежали Арам, Иовав и Варавва. Зелоты выкрикивали: «Варавва! Иисус, сын Аввы! Выпустите его! Свободу Израилю! Долой тиранию и оккупантов!» Кричали они громко, но никакой опасности не представляли. Оружия у них не было. Несколько стражников, охранявших тюрьму, оттеснили их без особого труда. Поскольку большинству из зелотов было нечем больше заняться, они возвращались снова и снова, чтобы выкрикнуть в очередной раз: «Свободу Варавве! Свободу Израилю!»
Тюремный надзиратель Квинт принес для Вараввы и его друзей черствого хлеба и воды.
— Настоящий герой, да? Они хотят, чтобы тебя освободили. Чтобы ты снова мог убивать.
— Мы никого не убиваем.
— Ну-ну, только не потому, что мало стараетесь. Патриотический зуд, да? Что же, для вас все это быстро закончится.
— Справедливого суда не будет, — проворчал Иовав (или Арам). — Его никогда не бывает. Да вы и без него можете обойтись.
— Суд? А я про суд ничего не говорил. Вина, не требующая доказательств, — так мне объяснили. Казнь я имел в виду.
— Когда? — спросил Варавва.
— Как только из Кесарии приедет господин прокуратор. К вашей Писхе, или Пасхе, или как вы там ее называете, приятели. Потом вас подвесят — ноги вместе, руки врозь, и — бах-бах! — прибьют ржавыми гвоздями. Хороший же тогда перед вами сверху откроется вид! Но он вам быстро наскучит.
Снаружи послышались громкие шикания, свист и крики: «Убейте его!»
— Ох и переменчивый же вы народ, евреи! — произнес Квинт, подойдя к оконной решетке. — Теперь вот свистите и шикаете. Но нет, погодите, они все в другую сторону повернулись. Там еще кто-то есть.
Там был Иисус, которого осыпали бранью самые оборванные из зелотов. Римская стража, однако, легко отгоняла их дубинками.
— Предатель! Ты бросил нас! Перекинулся к римлянам!
— Люби врагов своих! Давай, ублюдок, меня люби!
В сторону Иисуса полетел камень.
— Добрые римляне и добрые самаряне! Беги, целуй им зады!
Иисус и ученики спокойно, не спеша шли по направлению к Храму. Фома, так, чтобы не слышали другие, сказал Матфею:
— Ему ни в коем случае не следовало этого делать. Лечить этого римлянина.
— Это был слуга центуриона.
— Да кто бы он ни был. Теперь эта история уже всем известна. Все только и повторяют: «Дружок римлян». Господи, как много еще нужно проповедовать!
В тот день, когда благовествовал Иисус, состоялось собрание группы избранных — людей, которые входили в Религиозный Совет. Они расположились в простой, но отделанной дорогим мрамором палате, находившейся в задней части Храма. Стол, за которым они сидели, был сделан из превосходно отполированного ливанского кедра и имел форму подковы. Стулья напоминали небольшие троны, не совсем, впрочем, удобные. Здесь были и миряне (Елифаз в их числе), и священники. На десять минут позднее назначенного времени вошел привратник и громко объявил: «Господин Каиафа, Первосвященник Храма!»
Все встали. Каиафа имел внушительную внешность. Он был облачен в белоснежное одеяние. Его отличали длинный, выдающийся вперед нос и проницательные глаза. Было известно, что он прочел множество книг на трех языках. Говорил Каиафа тихо и вежливо. Войдя в палату, он произнес с улыбкой:
— Садитесь. Пожалуйста, садитесь. Извиняюсь за опоздание. Много дел в это время года, как вы знаете. Вот-вот наступит Пасха. Это, как я понимаю, собрание, вызванное чрезвычайными обстоятельствами, — сказал он, усаживаясь во главе стола. — Сожалею, но я не смогу присутствовать на нем долго — опять же по причине наступающей Пасхи. Много дел, почтенные, чрезвычайно много. Мы, насколько мне известно, собрались здесь, чтобы рассмотреть так называемое пастырство этого так называемого… Кто он, этот так называемый? Пророк? Учитель?
— Его называют по-разному, преподобный, — отвечал Аггей. — Нас меньше всего заботит то, как его называют. Гораздо важнее — что он делает.
— Оказывается — по крайней мере, судя по тому, что о нем говорят, — он делает много полезного. Он очистил двор Храма от этих крикливых торговцев голубями и скотом. Было сделано доброе дело. Мы сами всегда намеревались сделать нечто подобное, но всякий раз что-то мешало — то ли апатия, то ли еще что-то. — Каиафа пристально посмотрел на священника, который, как предполагали, извлекал немалую выгоду, предоставляя желающим право на торговлю у Храма. — Он проповедует доброту, я слышал, и говорит о добродетели нищеты…
Священник, к которому это относилось, не покраснел.
— А еще, — смело вмешался Ездра, — о пороках богатых. И о лицемерии уважаемых людей. Он находит больше добродетели в блудницах и головорезах, чем в служителях Храма.
— Понимаю, — сказал Каиафа. — То, что называют радикальными речами.
— Именно радикальными, — подтвердил Никодим, мирянин очень преклонного возраста, всеми уважаемый. — Он проникает в сущность вещей. Лично я не против его радикальных[113] речей.
— Я не придавал этому слову отрицательного смысла, Никодим. Моя душа открыта. Но я должен узнать о нем больше.
— Он не признает справедливость некоторых аспектов Закона Моисея, — начал объяснять Аввакум. — Например, он берет на себя смелость осуждать развод и, таким образом, прощает прелюбодеяние. Единственный грех — так получается по его словам — это не любить. Он — апостол любви. — Аввакум улыбнулся.
Каиафа оставался серьезным.
— Я называю все это перевернутой моралью, высказался Аггей.
— Как бы ты это ни называл, у нас такое уже было. Мы слышали это от человека по имени Иоанн, которого Ирод Галилейский, поступив очень недальновидно, казнил. Мы слышали это от многих до него и еще от многих услышим. Возврат к простоте, призыв к справедливости.
— А это означает призыв против установленного порядка, — высказался Самуил.
— Ах, установленный порядок всегда может сам о себе позаботиться! — с раздражением воскликнул Каиафа.
— Но ведь мы должны рассуждать в категориях двух видов установленного порядка, не так ли? — заметил Елифаз. — Мы живем в Иудее, которая оккупирована Римом. Римляне не мешают нам отправлять нашу религию, но разве она им нравится?
— Римляне народ не религиозный, — сказал Каиафа. — Они люди чрезвычайно мирские. Но это, конечно, делает их достаточно терпимыми. Наша религия забавляет их.
— Со всем моим почтением, преподобный, — снова заговорил Аггей, — но ты, боюсь, пропустил неявный аргумент почтенного Елифаза, смысл которого в следующем. Наша религия — религия одного народа. Израиль — это народ и религия одновременно. Зелоты, которые так досаждают нам всем, черпают всю свою аргументацию в пользу освобождения Израиля из Священного Писания. Бог Израиля руководит, так сказать, всем народом Израиля. Проще говоря, римляне могли бы поощрить в Палестине и какую-то другую религию.
— Это так, — согласился Каиафа, — но не какую-то другую, а только одну — поклонение императору и богам их языческого пантеона — Юпитеру, Марсу, Венере и прочим. Это даже не вера. Это просто, можно сказать, набор удобных мифов — удобных для использования римскими поэтами.
— Если мне позволено будет высказать мысль, которую отец Аввакум не более чем подразумевает, — продолжал Аггей, — замечу, что вера, которую проповедует этот Иисус, — не вера одного народа. Есть сирийцы, есть даже римляне, которые его слушают. Он, кажется, проделал какой-то шарлатанский фокус с исцелением в одном римском доме. Чудо, как называют это легковерные. Суть в следующем: это не та религия, которая могла бы стать оружием в руках зелотов. Он проповедует не веру народа Израиля. Он постоянно подчеркивает, что вера эта для всех людей. Для всех.
— Позвольте мне дополнить, — заговорил Иона. — По его словам, императору должно принадлежать то, что император рассматривает как подать, причитающуюся ему по праву. Иисус слишком ясно выразился по этому поводу. Вера его — это вера, в которой нет того, что мы можем назвать политическим содержанием. Она не представляет для римлян никакой опасности. Скорее наоборот.
— Но из этого следует, — вклинился Елифаз, — что для нашей официально установленной религии опасность здесь очень велика.
— Странно, — сказал Каиафа. — Вы все говорите об этой вере так, словно бы это была какая-то новая вера. И все же, как я понимаю, Писание все время у него на устах. В чем же она новая, эта вера? Мы лишь тогда сможем утверждать, что она богохульна, когда сможем доказать, что она новая.
— Когда вещь становится новой? — рассуждал Никодим. — Минуту назад мы употребили слово «радикальный». Корни нашей веры древние, а он возвращается к корням. Наша вера не совсем та, что была во времена Моисея, и все же мы не называем ее новой. Может быть, мы не называем ее новой только по одной причине — мы опасаемся, что тогда нам, возможно, придется назвать ее богохульной.
— Послушайте, — сказал Аввакум. — Этот Иисус берет Святое Писание и, так сказать, толкает его в сторону фанатической крайности. Я называю подобные действия еретическими. Для чего у нас священники? Для чего у нас существует Высший Совет, составленный из старейшин? Для того, чтобы можно было предотвратить фанатизм и чтобы образованные и разумные люди могли толковать Святое Писание так, как его следует толковать — с точки зрения возможного и вероятного.
— С точки зрения удобного, целесообразного и приемлемого, — добавил Никодим.
— Вот именно, — подытожил Аггей. — Жизнь должна продолжаться.
— Послушайте, почтенные, — снова заговорил Елифаз. — Он представляет угрозу нашей вере. Можем ли мы пойти дальше в этом деле?
— Угроза нашей вере, — рассуждал Каиафа. — Свидетельство против нашего самодовольства. Очень опасный человек. Итак, как же вы намерены с ним поступить?
— Избавиться от него, — отрезал Иона. — Разделаться с ним. Уничтожить.
— Смерть, — заметил Никодим, — слишком радикальное понятие.
— Итак, — продолжал Елифаз, — все это без преувеличения дело жизни и смерти официально принятой религии. Если сие учение получит широкое распространение — не забывайте, что оно укрепляется с помощью надувательств, которые люди готовы тут же называть чудесами, — то римляне будут только рады признать его в качестве главной религии провинции.
— А может ли оно когда-либо стать главной религией провинции? — спросил Каиафа.
— Это религия для бедняков, больных, порабощенных, — ответил Аввакум. — Разве этого недостаточно? Зелоты ненавидят это учение, но зелоты — крикливое меньшинство. Кроме того, скоро они будут подавлены, все они. Я думаю, если такая возможность представится, оккупационные власти запретят нашу истинную веру как подрывную и антиримскую. Он — хотя я с содроганием говорю об этом — должен умереть. Задумаемся — есть ли у нас выбор? Сделать так, чтобы он проповедовал в изгнании? Посадить его в тюрьму? Все подходы к тюрьме заполонят его последователи, как это было в случае с Иоанном. Больше бунтов, больше войск — и в конечном итоге полное порабощение Иудеи римлянами.
— Вам, любому из вас, очень мало известно об истинном мотиве, который пробивается на поверхность нашего разговора, — уныло произнес Каиафа. — «Требуется, чтобы один человек погиб за народ»[114]. Известно вам это выражение? Вижу, что неизвестно. Такое случается раз в тысячу лет — когда приходит человек, которому суждено стать искупительной жертвой. Праведный, невинный, как агнец. Человек, который может принять на себя грехи народа. Добродетельный, как ангел, но отягощенный грехами народа. Жертва ради народа. Понимаете меня?
Теперь заговорил тот, кто до этого молчал, опустив глаза, сомкнув ладони, думая, очевидно, о чем-то своем. Он сказал:
— Люди могут предать смерти козла, но не человека.
— Отец Зара, — улыбнулся Каиафа. — А я все ждал, когда же мы узнаем твое мнение. Ты понимаешь меня достаточно хорошо. И ты напомнил нам всем о том, о чем мы предпочли бы не вспоминать, — о пределах, которыми ограничиваются наши возможности в мирских делах. Только римляне могут отдать приказ о смертной казни. Как бы то ни было, их следует убедить в том, что именно они должны стать той рукой, которая занесет над ним жертвенный нож.
— Прошу вас извинить меня, святые отцы, — начал Никодим, поднимаясь со стула. — Не думаю, что смогу как-то содействовать…
— Мы всегда очень признательны тебе за то, что ты приходишь на наши собрания, — ровным голосом произнес Каиафа. — Твоя помощь неоценима — мудрость, сострадание, зрелые плоды большого жизненного опыта…
— Благодарю вас, — начал, уже стоя, прощаться Никодим. — Итак, если вы…
— О, мы все сейчас уходим, — сказал Каиафа. — Я должен объявить, что на этом наше обсуждение заканчивается. Временно. Так много еще нужно сделать, и так мало мы с вами можем. Пределы, ограничивающие наши возможности в мирских делах, — повторю эту фразу. Возможно, будем и дальше за ним наблюдать. Встретимся снова после Пасхи. — Каиафа встал.
— Но, святой отец, — тоже вставая, обратился к нему Елифаз, — мы должны начать действовать до Пасхи, до того, как в городе появятся массы паломников. Никто не знает, какое развращение, богохульство… И бесчинства… — пробормотал он. — Нарушение общественного порядка… Я настаиваю…
— О нет, не нужно. Благодарю всех за то, что пришли. Отец Зара, будь добр, задержись на минуту. Несколько слов по другому делу…
Речь шла не о другом деле. Зара и Каиафа медленно прохаживались по залу. Зара излагал свою точку зрения:
— Есть одна сфера, где богохульство и государственная измена становятся синонимами. Римляне, как мы знаем, постоянно смешивают понятия богохульства и государственной измены. Выскажись против императора, и ты уже высказываешься против Бога. Для нас весь вопрос состоит в том, как наше богохульство сделать их государственной изменой. Святой отец понимает мою мысль?
— Да, да, конечно.
— В чем может заключаться крайнее богохульство? Мне даже страшно это выговорить. — Но ему вовсе не было страшно. — Можно поймать его на словах «Я есмь Сущий»[115], которые были произнесены когда-то устами самого Бога…
— Если он и говорил что-то подобное, то пока не делал этого прилюдно.
— А своим ближайшим последователям? На днях один из них приходил ко мне. Чрезвычайно восторженный молодой человек. Собственно говоря, мы знакомы еще со школьных лет. Вместе изучали греческий. Он, кажется, внушил себе, что я… один из прогрессивных элементов в духовной иерархии.
— Наивный человек, — печально улыбнулся Каиафа.
— Он говорил о чудесах, о царе Иудеи, о вере, которая изменит весь Израиль. Воодушевленный человек, добрый…
— Наивный.
— Я не думаю, что этому Иисусу, если быть справедливым, следует ставить в вину восторженность его учеников.
— А если бы… — рассуждал Каиафа, — если бы именно этот его последователь мог… перед свидетелями… поклясться, что этот Иисус сделал крайне богохульное заявление, самое богохульное из богохульных?.. — И затем, несколько брезгливо: — Мы придумываем разные ловушки, хитрости. Не подобает нам творить такое. Возможно, мы придаем слишком большое значение этому делу, Зара. Может быть, все решится само собой. Вероятно, какие-то другие репрессивные органы могли бы… я не знаю… Как я понимаю, камни швыряют и фарисеи, и зелоты.
— Камни — это пустяк. У него двенадцать крепких людей, способных ответить тем же. И если вдруг какой-то зелот поднимет на него нож…
— Понимаю. У него надежные защитники. — Каиафа помедлил, затем спросил: — Ты согласен с моей идеей насчет козла отпущения?
— Это разумная мысль. Однако, — вздохнул Зара, — я должен идти работать. Очень мало времени.
Действительно, времени до Пасхи оставалось совсем немного, и благочестивые жители провинции уже заполняли город. Оба Иакова, Иоанн, Иуда и Петр пришли встречать караван, прибывавший из Назарета. Мария, мать Иисуса, после путешествия была покрыта дорожной пылью и выглядела уставшей, но ее красота и полная достоинства осанка ни в малейшей степени от этого не пострадали. Вместе с нею был старый рабби Гомер. Иофам, как всегда мрачный и недовольный, фыркнул при виде Иисуса.
— Проведем ли мы эти дни вместе?
— Дорогая мама, думаю, ты понимаешь, что мы не сможем быть вместе. Ты, кажется, думаешь обо мне, как о курице со своим выводком, за которыми нужен глаз да глаз. Да я и не могу долго оставаться в городе. У меня есть враги.
—. Прекрасно! — рявкнул Иофам. — Ты знал, что у тебя будут враги. Разве не говорил я тебе много раз, что ты наживешь врагов? Оставил неплохое ремесло и бросил вызов всем нормам и приличиям.
— Тебе не следует так говорить, Иофам, мягко произнес Гомер. — Закон должен изменяться, а изменять его дано очень немногим — богоизбранным. Но кому нужны изменения? Того, кто приносит изменения, ненавидят более всего.
— Запиши это золотыми буквами, — усмехнулся Иофам. — Ну, Иисус, ты уже приобрел известность. И немалую, скажу я тебе. Но это не та известность, которую должен стараться приобрести приличный, богобоязненный человек…
Иисус грустно улыбнулся, когда к ним подошли двое незнакомцев — оба атлетического сложения, явно люди, занимающиеся тяжелым трудом, на лицах — разочарование. Один из них сказал:
— Вся наша работа пошла насмарку. Ты отбросил нас на десять лет назад. Ты предал наше дело. Ты предал пророка Иоанна. Не будь здесь этой женщины, я плюнул бы тебе в лицо. Но довольно будет тебе и Божьего проклятия. Будь ты проклят, предатель!
Иисус сказал им несколько кротких слов благословения, а оба Иакова со свирепыми лицами двинулись в сторону незнакомцев.
— Нет, нет, оставьте их, — сказал Иисус.
Затем, с безмятежным спокойствием, взвалив на плени узлы с пожитками троих назарян, он пошел вместе с Марией, Иофамом и Гомером подыскивать место, где они могли бы остановиться. Эту сцену наблюдал Никодим. Он подошел к Иуде и тихо сказал:
— Извини, что беспокою тебя. Никто из ваших меня не знает, но мне известно о том, что вы делаете, и я благословляю вас. Не решаюсь говорить это во всеуслышание, помоги мне Господь. Думаю, что вам лучше перебраться в безопасное место. Ваш постоялый двор на Елеонской горе не защищен от появления… врагов.
— Понимаю. Значит, тебе известно, где мы остановились.
— Многим известно. У вас уже были… посетители?
— Женщины с детьми. Недругов пока не было. Но нам велели завтра съезжать оттуда. Такую плату, какую требует за постой в пасхальные дни хозяин, мы не можем себе позволить. Это настоящий беззастенчивый грабеж…
— Кстати, меня зовут Никодим. Впрочем, это не имеет значения. Буду рад предложить вам жилье без всякой платы. За Кедронским потоком у меня есть небольшой дом с садом. В Гефсимании.
— В Гефсимании?
— Не говори так громко. Об этом никто не должен знать. Там высокие стены. Большие ворота с крепким замком. Ключ у меня с собой, возьми его. Спрячь понадежней. Вокруг много воров.
— Ключ бесполезен для вора, если ему неизвестно…
— Так, конечно, но вы должны отнестись к своим врагам серьезно. Очень серьезно.
— Я очень, очень рад. Не знаю, как тебя…
— Достаточной благодарностью мне будет его безопасность. Забудь мое имя. Помнить его необязательно. Благослови тебя Бог.
— Тебе воздастся сторицей.
ЧЕТВЕРТОЕ
Мария, мать Иисуса, остановилась в доме, где была всего одна комната с земляным полом, а вместо тюфяков — мешки, набитые соломой. Колодец был во дворе. В этом же доме еще раньше поселились Мария Магдалина, маленькая Саломея и двое благочестивых белошвеек. Так встретились две Марии, и младшая тогда много узнала о первых днях жизни Иисуса. Она услышала также и о великом чуде его появления на свет от непорочного зачатия. Саломея была не слишком поражена рассказом о том, что мы с вами могли бы определить как партеногенез[116], поскольку прежде она жила под опекой матери и мало что в своей жизни видела. Она была ограниченна и неразвита и с трудом могла отличить обычное от сверхъестественного. Ее тяготили вынужденное безделье и скука здешней жизни: в Иерусалиме все ее впечатления ограничивались тем, что происходило во дворе Храма, да проповедями о Новом Законе. К тому же остававшиеся у Марии Магдалины деньги были на исходе, а достойных способов заработать они не видели. Саломея, по своей детской наивности, как-то заикнулась о танцах в тавернах, но Мария Магдалина сразу же отвергла этот замысел. Она была так же наивна, как и Саломея, присутствие которой более всего встревожило мать Иисуса, поскольку случай, когда принцесса Галилеи, без разрешения и не сказав никому ни слова, покидает дворец, оставив свою мать и своего царственного приемного отца, наверняка имел важное государственное значение. Было удивительно, что слуги тетрарха Ирода или же люди из окружения самой царицы не разыскивали Саломею в Иерусалиме и что прокуратору Иудеи не были отправлены письма с просьбой помочь найти исчезнувшую принцессу. Но Мария Магдалина говорила:
— Не имеет особого значения, что думают ее родители. Бедное дитя вовлекли в постыдное и грешное дело и сделали ее причиной смерти великого пророка. Она правильно сделала, что оставила свою порочную мать и приемного отца, безумного и развратного, судя по тому, что я о нем слышала. Теперь она моя сестра, а поскольку ей нужна мать, ты, благословенная, поступила бы правильно, если бы отнеслась к ней, как к дочери.
Услышав это, мать Иисуса сказала со вздохом:
— С радостью. Но есть закон, и есть права настоящих матерей, пусть и порочных. И есть военная сила и сила людей, имеющих власть. Я предвижу большие неприятности.
— Неприятности будут всегда, — просто ответили Мария Магдалина. — И правда то, что женщинам, следующим за Иисусом, пора объединиться перед лицом грядущей беды и самим стать армией. Именно этому делу мы, те немногие, кто здесь находится, себя посвящаем, и наша первая обязанность — сделать так, чтобы эта армия росла. Может быть, у нас и будут неприятности, но разве мы не дочери Того, Кто Явился, и не храним в себе силу его духа?
Мать Иисуса согласно, но с печалью в глазах кивнула. Ее тревожили нехорошие предчувствия. Ей казалось, что проповедническая деятельность ее благословенного сына непременно приведет к судебными неприятностям. И она еще более утвердилась в своих опасениях, когда узнала, что Иисус пошел на ужин в дом какого-то римского центуриона по имени Секст и по дороге подвергался осмеянию и угрозам со стороны зелотов, которые провожали его криками: «Подхалим! Дружок врага! Римский еврей!» — и швыряли в него камни. Но на ужин Иисус все же явился, ел там римские блюда и цитировал римских поэтов. Назад он возвращался в сопровождении всех своих двенадцати учеников, которые ворчали по поводу его безрассудной смелости и его явного стремления довести дело до суда, хотя и были довольны тем, что он наконец отказался от проповедования в Храме. Иисус намеревался оставаться в Гефсиманском саду или в летнем домике со своими учениками, проповедуя им, молясь, ожидая какого-то таинственного события, которое он не называл, обронив однажды по этому поводу всего несколько слов — что-то вроде «когда меня заберут» или «когда меня убьют».
Это произошло незадолго до наступления Пасхи. В тот день во дворе Храма Иуда просил милостыню для бедных. К нему подошел Зара, который начал с того, что дал ему серебряную монету, и сказал:
— Ты должен пойти со мной. Грядут важные события. Твой человек сейчас вне опасности?
— Благодарение Богу, мой учитель в надежном месте. До Пасхи он проведет время в уединении. После Пасхи будут новые планы.
— Я разделяю твое чувство благодарности к Богу. А теперь пойдем ко мне. Там будет один очень важный человек, с которым тебе необходимо встретиться.
В доме Зары их ждал человек незаурядной внешности, одетый в серый плащ с откинутым назад капюшоном. Услыхав его имя, Иуда тотчас же опустился на колени и попросил благословения.
— Встань, сын мой. Ты не нуждаешься в моем благословении. Я слышал, ты живешь праведной жизнью. Полагаю, Зара, сначала мы могли бы выпить вина.
Принесли вино. В комнате, где отсутствовали какие-либо украшения, но было множество свитков, написанных на трех языках, Иуда, Каиафа и Зара расселись вокруг простого стола и начали беседу. Каиафа сказал:
— Я хотел бы больше узнать о его опасениях по поводу смерти. Расскажи нам об этом подробнее, сын мой.
— О сих вещах он говорит постоянно. О том, что будет отвергнут священниками Храма, фарисеями и саддукеями, зелотами, даже простыми людьми, которых он исцелил. — Иуда сделал небольшой глоток сухого фалернского и повторил: — О том, что будет отвергнут. О собственной смерти. Он все время говорит об этом.
— Свет в Израиле, — пробормотал Каиафа, — и свет этот погаснет. Разве он не знает, как в нем нуждаются?
— Я думаю, вы должны рассматривать все это с точки зрения того, что я назвал бы его одержимостью. Он говорит, что пророчества Писания должны быть исполнены. Что Сын Человеческий должен быть убит во искупление людских грехов.
Каиафа и Зара посмотрели друг на друга, и Зара кивнул.
— Козел отпущения, — произнес Каиафа. — Последний козел отпущения. Называет ли он себя Сыном Человеческим? Или, может быть, Сыном Бога?
— И тем и другим, — ответил Иуда. — Однако он говорит только о своем Небесном Отце и никогда о земном. К тому же, святой отец, есть пророчество о зачатии Девы.
— Так. То, что я скажу сейчас, ужасно, — заговорил Зара, обращаясь к Иуде. — И я надеюсь, что ты не станешь повторять мои слова за пределами этого дома. Ибо я говорю, что он должен быть избавлен от исполнения пророчеств. Пророчества исполниться не должны. Ибо, — Зара развел руками, — можем ли мы сомневаться, что он тот самый, кто послан, чтобы нести свет?
— Он говорит, что его скоро заберут, — произнес Каиафа, — что его… слово это застревает у меня в горле…
— Он то и дело говорит о врагах, — продолжал Иуда. — Говорит, что скоро произойдет что-то ужасное.
— Как мне представляется, есть только один выход, — сказал Каиафа. — Его необходимо передать в руки друзей. Я имею в виду тех, кто сможет надежно его защитить. Прости меня за мой намек на то, что ты и твои товарищи здесь бессильны. Может быть, вы сильны благодатью, но благодать не в состоянии бороться с камнями, мечами и виселицами.
— Скажи мне, святой отец, какой ты видишь выход? Как его передать? Что будут делать его… прости меня, новые друзья?
— Он должен быть переведен в место по-настоящему уединенное, — пояснил Зара. — Святой отец, я полагаю, имеет в виду его собственное поместье, расположенное в очень отдаленном безлюдном месте на севере Палестины. Там твоего учителя можно будет убедить, чтобы он оставил мысли о своей неминуемой близкой смерти и при содействии хранителей веры делал свою работу, а мы могли бы мягко и плавно придать Новому Закону официальный характер и заменить им Старый Закон. Израиль так долго этого ждал, так долго…
— Его надо переправить отсюда даже вопреки его воле, — добавил Каиафа. — Неприятно это звучит, неприятно, но можем ли мы думать сейчас о какой-то иной возможности, сын мой?
— Я не возражаю, но могу вас заверить, что многие из его учеников будут против, — предупредил Иуда.
— У нас есть своя собственная вооруженная охрана, — пояснил Зара. — Тебе, может быть, известно, что римские власти поначалу возражали против этого, но потом все же поняли обоснованность подобных мер. Храм должен быть защищен, а равно должны быть защищены и его служители, но мы не можем допустить, чтобы в эту священную охрану были включены мирские силы. Вооруженное сопровождение будет предназначено исключительно для обеспечения его безопасности, и я сам займусь этим делом. У него слишком много врагов.
— Возможно, злейший его враг — это он сам, — заметил Иуда.
Его собеседники сдержанно кивнули в знак согласия. Зара спросил:
— Где его можно найти?
— Мы остановились в Гефсимании. Дом огорожен высокими стенами, железные ворота. Предлагаю сделать это поздно ночью. Ворота я могу открыть.
— Прими нашу благодарность, — произнес Каиафа. — То есть благодарность всего Израиля от нашего имени.
— И я благодарен вам, — ответил Иуда. — Когда вы намерены прийти?
— Следовало бы… — и это действительно чрезвычайно важно — следовало бы сделать эту… э-э… спасительную работу после того, как все мы исполним священный обряд благодарения Господа за освобождение нашего народа из египетского рабства, — произнес Каиафа. — В ночь Юпитера, если пользоваться навязанным нам языческим календарем. И еще раз — будь благословен, сын мой.
Иисус и двенадцать его учеников устроили свою пасхальную трапезу в верхней комнате постоялого двора, находившегося в нескольких сотнях шагов от Гефсимании. Все необходимые приготовления к ужину заранее сделал Матфей, который, кроме того, был вынужден заплатить вперед. Пасхальный ужин состоял из зажаренного целиком ягненка, листьев цикория, неподнявшегося хлеба без закваски и кувшина вина — пищи, которую ели евреи, когда ангел смерти проходил по Египту: простая еда, приготовленная в спешке и приправленная горькими травами. Все ученики, кроме Иуды, ели с аппетитом, а Иисус к еде едва притронулся. Сидевший рядом Иоанн обратил на это внимание. Иисус ответил:
— Меня многое тревожит, Иоанн. Если выразиться точнее — нет спокойствия духа. — Затем, откашлявшись, он обратился ко всем присутствующим: — Слушайте меня все. На каждой ступени нашей миссии, всю жизнь каждым поступком своим я стремился исполнить пророчества Писания. Но пророчества должны иногда исполняться сами, независимо от моей воли. Теперь — и это более горько, чем горечь любой из трав этого пасхального ужина, — мы стоим перед исполнением пророчества, которое никоим образом не может быть отдалено. Ибо сказано: тот, «который ел хлеб мой, поднял на меня пяту»[117]. А потому говорю вам, что я должен быть предан, продан врагу. И сделает это один из вас.
Все сразу же перестали жевать и сидели, открыв рты, набитые хлебом. Кто-то, вздрогнув, расплескал вино. Кто-то поперхнулся, пораженный услышанным. Матфей так закашлялся, что Фома был вынужден похлопать его по спине.
— Я говорю вам: один и только один.
Ученики смущенно переглядывались. Петр сбивчиво заговорил:
— Я говорю за всех нас, учитель, когда говорю… ни один из нас не мог бы даже помыслить о том, чтобы, как ты сказал, предать тебя. Был однажды случай — уже много времени прошло, — когда был тот разговор. Это я начал его тогда, но все уже в прошлом, и с этим покончено. Ты хочешь сказать… что одного из нас должна обуять злоба… вопреки его собственной воле? Хочешь сказать, что дьявол вселится в кого-то из нас для того, чтобы пророчество Писания могло исполниться? Мне, если можно так сказать, уже начинает несколько надоедать все это дело с исполнением пророчеств, честное слово!
— Вы должны ожидать того, чему быть суждено, — ответил Иисус. — Ждать вам придется недолго.
Все начали бурно обсуждать сказанное. О еде уже никто не думал. Иоанн тихо сказал Иисусу:
— Я должен знать, кто это, я должен. Скажи мне, учитель, если любишь меня.
— Я не называю имени, — ответил Иисус. — Только ты будешь знать то, что я скажу сейчас, и я запрещаю тебе что-то предпринимать. Тот, кто опустит свой хлеб в блюдо с соусом одновременно со мной, тот и предаст меня.
Затем, перекрывая шум, он громко сказал:
— Ибо грядет Сын Человеческий — именно так сказано в Писании, — и горе тому, кто предаст Сына Человеческого. Но давайте подумаем о другом. Хотя это, в некотором смысле, продолжение разговора, ибо смерть Сына Человеческого должна быть последней из жертв, и принесена она будет ради искупления всех людских грехов. Теперь вы должны полностью понять смысл этой жертвы. Она необходима. Отец Небесный желает смерти Своего сына, который есть часть Его собственной сущности, чтобы заплатить этой божественной чистотой, которой грех противостоит. И не будет меньшей платы за грех. Так вы поймете истинную тяжесть греха, который оценивает Предвечный. И теперь об этой жертве будут помнить до скончания времен, как помнят о Пасхе. Но о ней следует не только помнить — она должна возобновляться, она должна ежедневно совершаться вновь, чтобы искупление людских грехов продолжалось. Ибо совершаемый человеком грех, телесный и духовный, грех, унаследованный им от Адама, ни в коем случае нельзя полностью искупите только через собственное покаяние человека. Как человек каждый день совершает грех, так же каждый день человека нужно спасать. А теперь я научу вас тому, как должна эта жертва возобновляться. Ее следует не просто помнить, но действительно совершать вновь. — Он взял оставшийся хлеб и сказал: — Я беру его и возношу благодарение Отцу нашему за этот благословенный дар. Я разламываю его и каждому даю часть его.
Он разломил хлеб на куски и передал хлебницу по кругу. Когда очередь дошла до Иакова-меньшего, тот, не удержав кусок в своих больших неловких руках, уронил его на пол. Он поднял хлеб и обтер его рукавом. Ученики озадаченно глядели на свой хлеб. Последующие слова Иисуса поразили их.
— Ешьте. Сие есть Тело Мое. Ешьте. — Некоторые замерли, не донеся хлеб до раскрытых ртов («Всегда у него разные неожиданности!»). — Ешьте! — приказал Иисус, и они начали есть. — Сие есть Тело Мое. А вы — те, кто получает силу, которую я оставляю вам. Те же, кому вы эту силу передадите, должны будут делать то, что сейчас сделал я, и так должно быть каждый день, до скончания времен, чтобы искупились грехи человеческие. По вкусу и по виду это хлеб, но на самом деле, когда произносятся слова, это и мое тело, мое присутствие.
Последовала напряженная тишина. Было слышно, как в кувшине булькало вино, которое Иисус наливал в чашу.
— А теперь я беру эту чашу — благословенный дар Отца нашего — и передаю ее вам, чтобы каждый отпил из нее. Это имеет запах и вкус вина, оно такое же прозрачное и жидкое, как вино, но на самом деле сие есть Кровь Моя — Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Пейте!
И они пили, передавая чашу по кругу. Они пили робко, скорее, отпивали из нее, и, когда чаша дошла до последнего, вина в ней оставалось еще много.
— Допивай, Иоанн, — сказал Иисус, — ты последний. — Затем он продолжал: — Когда вы останетесь одни и будете исполнять свой долг, проповедуя учение, вы должны повелеть всем, кто верит в меня, принимать эту еду из Плоти и Крови Моей. Я сказал «одни», но вы никогда не останетесь в одиночестве, ибо я буду с вами. И буду не только в духе, но и в Плоти Моей и Крови — в двух этих освященных формах — до скончания времен. Каждый день меня будут приносить в жертву, и каждый день я буду возрождаться.
Затем Иисус устало откинулся на спинку стула. Фома заговорил в своей обычной грубоватой манере:
— Есть вещи во всем этом деле с плотью и кровью, если мне позволено будет так выразиться, которые я никак не пойму. Я не принимаю это смертельное дело всерьез, потому что ты не погибнешь, когда мы с тобой…
— Фома, Фома! — остановил его Петр.
— Ну хорошо, хорошо, «отойди от меня, сатана» и все такое. Забудем на минуту о смерти. Ты говоришь, что нужно есть твою плоть и пить твою кровь, а так делает только зверь, который убивает и съедает то, что убивает. Но мы ведь люди, а не звери, и мне не нравится то, что ты говоришь.
— Ты выказываешь свою обычную смелость, Фома. Позволь мне изложить это следующим образом. Жертва — это уничтожение. Когда ты ешь хлеб и пьешь вино, ты уничтожаешь их. Но, уничтожая их, ты приносишь пользу своему телу. Однако кусочек хлеба и капля вина — жертва за грехи рода человеческого недостаточная. Поэтому хлеб и вино должны быть превращены во что-то — в какое-то тело, которое не будет жертвой слишком малой. И еще одно. В такой форме — в виде хлеба и вина — я буду вместе с вами. Но буду не как парящий или всепроникающий дух, а как нечто твердое и текучее. Вы можете использовать хлеб и вино, только принимая их внутрь. — Он заговорил громче: — Достаточно легко, слишком легко — и вы поймете это — говорить о хлебе и вине как о простом напоминании, о знаке или символе. Но я действительно должен быть с людьми в этой форме. Простые вещи из нашей повседневной жизни — что может быть лучше?
Снова все замолчали, уже более спокойные, удовлетворенные сказанным. Фома повторял про себя: «Да, да, да». Иисус быстро спросил у Иуды:
— Ты доволен тем, как я это изложил, сын мой?
Иуда улыбнулся, а некоторые засмеялись, и все принялись за недоеденного жареного ягненка, который успел уже остыть. Здесь возник шутливый спор из-за того, кто должен обглодать кость. Петр любезно обратился к Иуде:
— Ты не доел свой хлеб. Когда он такой черствый, он, понятно, плохо идет. Вот так! — Выхватив у Иуды кусок хлеба, который тот держал кончиками пальцев, Петр опустил хлеб в соус в тот самый момент, когда то же сделал Иисус.
От неожиданности Иоанн громко вздохнул. Иисус взглядом предупредил его, чтобы он не подавал виду. А Петр добрыми глазами смотрел на Иуду, который доедал свой кусок.
— Вот так-то лучше, дружище, — сказал Петр. — Нам всем надо подкрепиться. А ты совсем отощал.
Иисус сказал Иоанну:
— Ты видишь? Видишь, Иоанн? Я становлюсь хлебом и вином — плодами земли, которая принадлежит Богу. Я становлюсь жертвой Нового Закона. Но не думай, что они — другие — убьют меня. Вы все причастны к убийству Сына Человеческого.
Снова наступила тишина. Теперь уже никто не жевал.
— И хотя я говорил только об одном, но все вы причастны к его предательству.
— Со мной такого не случится, — решительно заявил Петр. — Я пойду с тобой до конца. Если ты должен умереть, я…
— Нет! — закричал Иисус. — Ты — живой камень церкви. Ты — сообщества тех, которые следуют слову. И все же ты — человек, Петр. Ты грешен, как любой человек, и дух твой по-человечески немощен. Ты отречешься от меня, и сделаешь это с готовностью. Сам увидишь.
— Нет, нет! Этого не будет! Не будет страданий, про которые ты говоришь, не будет убийства! Нет, им не удастся сделать то, что они задумали! Клянусь, я не поступлю так! Я не отрекусь…
— Трижды, Петр. Ты отречешься трижды — прежде чем прокричит на рассвете первый петух. Запомни мои слова.
— Никогда! Никогда! Никогда… — Петр был потрясен.
Когда они покидали постоялый двор, на столе среди хлебных крошек и пролитого вина Иуда оставил мелкую монету для служанки. Они шли в сторону ручья, и Петр держался позади остальных. Перейдя по небольшому мосту на другой берег Кедрона, они направились к огороженному высоким каменным забором Гефсиманскому саду. Петр молчал, когда остальные запели пасхальный гимн:
Благословен пусть будет тот, Кто, Божьей силы не тая, Из рабства вывел свой народ В благословенные края. Аллилуйя! Аллилуйя! Святое имя не умрет!Суровость лиц ноющих совсем не вязалась с радостным настроением гимна. Когда они подошли к воротам сада, Иуда достал большой ключ, который хранил на груди, и, вставив его в замок, повернул. Послышался громкий скрежет. Иуда посторонился, пропуская остальных, но Петр не захотел проходить.
— Мне тревожно, Иуда. Я болен, я не могу войти…
Однако Иуда, мягко положив руку на широкое плечо рыбака, заставил его пройти в сад. На поляне, залитой лунным светом, они расселись вокруг Иисуса. Он заговорил:
— Близится час, когда вы оставите меня и разбредетесь, каждый сам по себе. Ибо сказано: «Порази пастыря, и рассеются овцы!»[118] Но когда я воскресну, я встречу вас там, где встретил вас впервые, — в Галилее. Ждите, и я приду. Мы будем сидеть все вместе, как сидим теперь, и будем есть и пить.
— Я умру с тобой, учитель, умру с тобой! — восклицал Петр и исступленно бил кулаком по земле.
— Трижды, Петр. До крика петухов, — повторил Иисус, затем обратился к Иуде: — Тебе, сын мой, надо кое-что выполнить.
— Кроме охраны ворот, учитель, делать нечего, хотя ворота и так достаточно надежны.
— Душа моя скорбит, — сказал Иисус так тихо, что, несмотря на душную ночь, все почувствовали озноб. — Скорбит смертельно. Побудьте со мной. Будьте рядом, пока я молюсь.
И он прошел к небольшому, уже давно высохшему фонтану. Опустившись на колени и сложив ладони, Иисус оперся локтями о низкую каменную ограду, окружавшую фонтан. Произнося про себя молитву, он, казалось, испытывал мучительную боль. Но молитва его была не совсем безмолвна, ибо Иоанну, который был к нему ближе других, послышались слова: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия. Моя плоть — это плоть человека, и она страшится боли. Моя человеческая немощь велит мне уступить и просить у них прощения за то, что я взял на себя эту обязанность — прощать. Но всегда, всегда не моя воля будет исполняться, а Твоя». Фаддею, который находился лишь чуть дальше от него, чем Иоанн, показалось, что на лбу Иисуса выступил пот и что пот этот был цвета вина.
Но молитва была долгой, луна медленно плыла по небу, а эти люди устали от томительного ожидания и тревожных дум. Теплая ночь, тишину которой нарушали только шорохи ночных существ, нагоняла сон. Не спал только Иуда, который лежал у ворот и настороженно прислушивался. И только он слышал слова Иисуса — скорее слова горечи, нежели раздражения: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Дух бодр, плоть же немощна»[119]. И когда он скорбно повторил: «Плоть немощна», Иуда подумал, что Иисус говорит о себе. Иисус слегка подтолкнул ногой большое, тяжелое тело Петра, и тот быстро и с шумом вскочил. Потрясенный, он стоял, сжав кулаки. Потом, увидев, что все его товарищи спят, он принялся грубо их расталкивать. Иисус произнес:
— Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников!
Иуда не успел понять смысла этих слов, так как в этот момент он, со смешанным чувством радости и вины, прислушивался к звукам шагов: кто-то шел по тропинке, ведущей от моста через Кедрон к воротам сада. В свете фонаря Иуда увидал Зару. Тот улыбался как-то печально и в то же время покорно: есть задача, и эта задача, да поможет им Бог, должна быть выполнена. Иуда с трудом повернул ключ в ржавом замке, и ворота со скрипом отворились. Проходя в сад, Зара что-то подал Иуде. Кошелек? Кошелек из телячьей кожи?
— Сначала это, — сказал Зара, ведя за собой восьмерых людей, в руках которых были обнаженные мечи.
— Это? — переспросил озадаченный Иуда.
В кошельке, кажется, были деньги.
— Так, значит, это он, он! — закричал Петр.
Он уже готов был броситься на Иуду, но Иисус громко сказал:
— Вы ничего не должны делать. Ни один из вас. Я приказываю.
— Итак, вот оно, безопасное место… — произнес Зара, затем обернулся к Иуде: — Говори, если у тебя есть что сказать.
Иуда подошел к Иисусу и очень печально произнес:
— Пророчества не всегда должны исполняться, учитель. У тебя еще много работы, которую необходимо сделать. Это будет просто поездка, учитель. Помоги тебе Бог. — Он поцеловал Иисуса в щеку. — Это спасение, учитель. Я сделал то, что необходимо было сделать.
В тот момент, когда стража сомкнулась вокруг Иисуса, Иуда успел лишь подумать: «Они свое дело знают. Он будет в безопасности с самого начала путешествия». Но Зара жестким, резким тоном человека, облеченного властью, объявил:
— Иисус из Назарета, ты арестован по обвинению в богохульстве. Обвинение исходит из уст твоего собственного ученика. Он продал тебя.
— Продал? Продал?! — переспросил изумленный Иуда и посмотрел на кошелек, который держал в руке.
Рука его дрогнула, зазвенели монеты.
— И ему за это заплатили, — добавил Зара.
— Заплатили, заплатили… — забормотал Иуда, — заплатили за… это не… учитель, я не… не…
Он закричал и отшвырнул кошелек, будто обжегся. Кошелек упал на каменную ограду фонтана и раскрылся, монеты рассыпались. Склонившись над ними, Иуда застонал.
— Прекраснейший способ предательства! — произнес Зара. — Как я слышал, Иисус из Назарета, ты учил чистоте. В моем бывшем однокашнике ты нашел способного ученика — учиться он готов всегда. Когда-то преуспевал в греческом, теперь преуспел в наивности. Наивность того, кто хотел увидеть спасение мира. — Он резко бросил Иуде: — Давай, приятель, беги отсюда! Беги!
Никто и не помышлял о том, чтобы тронуть превратившегося в дикого зверя Иуду, когда тот с воем обегал по кругу сад. Потом он упал, поднялся, продолжая выть, повернулся к Иисусу и, пробормотав какую-то бессмысленную фразу, бросился к воротам. С грохотом ударился о что-то железное. Опомнившись и взвыв от боли, побежал по тропе, ведущей к мосту, и все слышали его удаляющиеся крики и вой.
— Скорее! — сказал Петр.
Иаков-меньший выхватил меч у одного из стражников, но Петр тут же отнял этот меч у Иакова и нанес обезоруженному стражнику удар по голове. У того отвалилось ухо, из раны хлынула кровь. Когда Петр попытался снова нанести удар, меч выскользнул из его руки, поскольку Иисус приказал:
— Брось оружие! Все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?
— Твои собственные слова, — заметил Зара. — Твой ученик сказал нам правду.
— Итак, вы пришли, чтобы арестовать меня, как если бы я замышлял государственную измену. Пусть будет так. Пойдемте.
— Государственная измена будет позднее, — сказал Зара. — Это будет следующий этап. Что же касается тех, кто следовал за тобой и был соучастником твоего преступления или преступлений… — Он посмотрел на учеников, которые, в свою очередь, смотрели то на него, то на Иисуса, осознавая близость острых мечей и ожидая, что же скажет учитель.
— Пусть пророчество исполнится, — сказал Иисус. — Уходите. Оставьте меня.
Все тотчас убежали. Все, кроме Иоанна.
— Уходи, Иоанн. Я приказываю.
— Я думаю, мы заберем и его, — сказал Зара и кивнул человеку, который, по всей видимости, был командиром стражников.
Тот подошел к Иоанну и схватил его за одежду. Одежда была свободного покроя, и, когда Иоанн в панике бросился прочь, она осталась в руках стражника. Иоанн голый выбежал из сада, крича истошно, как недавно кричал Иуда.
— Ну, что же, пойдем, — сказал Зара. — В дом первосвященника.
Жестом он велел Иисусу идти, потом, вспомнив про разбросанные у фонтана деньги, обернулся, посмотрел на них и сказал одному из стражников:
— Собери их. Сложи обратно в кошелек. Пересчитай. Должно быть ровно тридцать монет.
До дома Каиафы путь был долгим, и звуки их шагов многократным эхом разносились по улицам спящего города. Потом было долгое ожидание на заднем дворе дома Каиафы. Наконец Зара провел Иисуса в дом и отпустил охрану.
Небо на востоке светлело, дул холодный ветер. Посреди двора старик, рано принявшийся за свою работу, начал разводить огонь в большой металлической корзине. Один из стражников помог ему принести хворост и щепки для растопки. Вскоре разгорелось яркое пламя. Старик, у которого было косоглазие, сказал:
— Вот, теперь это похоже на костер. Что за дело у вас нынче было?
— Арест. Этого Иисуса. Того, что проповедует.
— А что случилось? Какие-то беспорядки?
— Небольшая стычка. Одного из наших полоснули. Так, по крайней мере, это выглядело. Но вообще-то пустяк. Ничего особенного. Больше шума.
— Какого шума?
— Вопли и вой. Потом привели его сюда. Другие разбежались. В общем, ничего страшного.
— Вот, теперь что-то похожее на костер.
Начали появляться зевающие слуги. К костру, хихикая, подошли две девушки-служанки. Одна со смехом повернулась к костру задом и на мгновение высоко задрала подол.
— Эй! Поосторожней! — сказал стражник, ухмыляясь. — Не забывай, где находишься.
— Держу пари, даже у него зад холодный. Я имею в виду святого отца. Он у него такой же, как у любого другого.
— Стало быть, ты его зад видела, так?
— Гадкий, гадкий!
— Что-то похожее на костер. Но если вы хотите, чтоб было жарче, придется вам сходить за хворостом.
Во двор вошел какой-то человек, с головой укрытый плащом. Он потер замерзшие руки и огляделся, будто искал кого-то, кого во дворе не было, но кто вот-вот должен был появиться.
— Эй, иди сюда, погрейся немножко, — позвал старик, который разводил костер. — Хороший костер, пока горит. Если кто хочет, чтоб горело сильнее, пусть принесет дров.
— Мне достаточно тепло.
— Дело твое.
— Должны уже подавать завтрак, — сказал стражник. — Ну что же, будьте здоровы все. И не забудьте: если вам еще понадобятся дрова… — Он не закончил фразы и ушел со двора.
— Ты весь дрожишь, — сказала одна из девушек. — Иди погрейся, это ничего не будет стоить.
Незнакомец подошел и протянул к огню дрожащие ладони. Другая девушка заметила:
— Я, кажется, видела тебя раньше. Погоди, да ты был с ним. С этим Иисусом. В Храме, не иначе.
— С кем? Не знаю его. Видел его, конечно, но не знаком с ним.
— Откуда ты? — спросил косоглазый старик. — Судя по выговору, ты не из этих мест.
— Так, хожу туда-сюда. Сегодня — здесь, завтра — в другом месте. Хорошо горит. Я уже согрелся.
— Постой, — не унималась девушка, — это был ты. Ты был с ним. Я тебя видела в тот раз, когда в него камни швыряли.
— Нет, говорю тебе, нет.
— Иисус из Назарета, — произнес старик. — Назарет — это в Галилее.
— Разве?
— Не прикидывайся. Ты ведь тоже из Галилеи. Мне галилейский выговор знаком. Родители моей жены оттуда родом.
— Нет, нет, я там никогда не бывал.
— Ну, если ты, как она говорит, был с ним раньше, то и теперь должен быть с ним. Знаешь, что его забрали? Ну конечно, знаешь.
— Я пришел сюда, чтобы встретиться с одним человеком. Он должен принести мне деньги, которые… Впрочем, не думаю, что он придет.
— Тебе дым ест глаза, правда? У некоторых глаза не терпят дыма.
Но человек, не дослушав, побежал прочь. Они видели, как он на мгновение остановился, будто споткнулся обо что-то, потом снова побежал и исчез. Старик сказал:
— Плачет, вы заметили? Сказал, что пришел получить деньги. Вы ведь поняли — за что? Вот про таких-то и говорят: мать родную продаст.
ПЯТОЕ
О том, что после это было с Иудой Искариотом, я не могу сказать ничего определенного. Могу лишь собрать вместе обрывки преданий, связанных с его смертью, а они, скорее всего, больше подходят для какой-нибудь великой фантасмагорической поэмы, пока еще не написанной, нежели для строго придерживающейся фактов хроники, на что претендует данный труд. Так, говорят, что он в ранние утренние часы с диким видом бегал по городу, пытаясь найти какую-нибудь открытую лавку, где продавались бы веревки. Но когда он не обнаружил в своем кошельке денег, то взвыл, будто пес. В этот момент в дверях одного из домов появился мальчик, который, размахивая своими маленькими руками, как крыльями, прокукарекал. Иуда убежал, чтобы не видеть этого, но в узкой, освещенной фонарем улице столкнулся с другим видением. Девочка, которую ласково приободряли родители, срыгнула клубок извивающихся червей, и те принялись разговаривать. «Я тоже могу говорить по-гречески!» — дико закричал Иуда и бросился бежать. Он оказался в каком-то проулке, где старик, смеявшийся беззубым ртом, продавал грубо нарисованные картинки, на которых он, Иуда, корчился в огне. Иуда с воплями побежал прочь, а старик хохотал ему вслед. Потом ему встретился молодой человек, который продавал связки веревок, монотонно зазывая покупателей: «Веревки, веревки! Прекрасные веревки! Веревки из лучшей пеньки!»
— Я бы взял, но, кажется, не смогу заплатить, — сказал ему Иуда.
— Тогда отдай мне этот пустой кошелек, отдай все, что на тебе надето, и твою обувь вдобавок. Там, куда ты собрался, тебе это не понадобится. Ты похож на человека, который знает, что попадет в райский сад. Давай, раздевайся.
С веревкой на плече, голый Иуда побежал за город. Вдруг он увидел на дороге котенка, совсем крошечного, который лежал с перебитой лапкой и жалобно мяукал. Иуда поднял бедное создание и, ласково поглаживая его, произнес:
— Чем я могу помочь тебе, чем? Полижи лапку, и скоро тебе станет легче.
Оставив мяукающего котенка на дороге, Иуда побежал дальше. В конце концов он оказался в лесу, где нашел дерево, которое с тех нор люди стали называть «иудино дерево». Карабкаясь по нему, чтобы добраться до подходящей ветки, он заметил гнездо с пятью птенцами, которые повернули к нему, словно трубы, свои широко раскрытые клювы. Иуда осторожно перенес гнездо повыше — на соседнюю ветку, потом к крепкой, находившейся чуть ниже ветке привязал один конец веревки. Делая на другом конце петлю, он разговаривал сам с собой:
— Да, силен я в греческом! Kai elabon ta triakonta arguria, teen timeen tou tetimemenon, hon etimeesanto apo huion Israel, kai edokan auta eis ton agron tou kerameos, katha sunetazen moi Kurios[120]. Чтобы реченное в Писании могло исполниться.
Потом, под оглушительный гомон петухов, он повесился.
КНИГА 6
ПЕРВОЕ
Иисуса оставили одного в передней дома Каиафы. Это была комната с мраморным полом, в которой не было никакой иной мебели, кроме двух стульев с изогнутыми ножками — в римском стиле, но Иисусу сесть не предложили, и он ждал стоя. В одиночестве он оставался недолго. В переднюю вошли Елифаз и еще два фарисея (кто их пригласил — неизвестно), которые сразу же начали издеваться над Иисусом и осыпать его бранью. Елифаз сказал ему:
— Теперь ты не очень-то расположен насмехаться и бросать оскорбления, не так ли? Уже не торопишься проклинать старших. Давай, расскажи нам, а мы послушаем — и про окрашенные гробы, и про порождения ехиднины, и про то, как плохо мыть руки перед едой. Подонок!
Он плюнул Иисусу в лицо. Но оно было на значительно большей высоте, чем его собственное, и слюна долетела лишь до груди Иисуса, попав на его дорогое одеяние, которое было очень чистым, поскольку за день до того, когда они готовились к пасхальной трапезе, Иоанн его выстирал. Иисус взглянул на плевок, но не снизошел до того, чтобы стереть его, потом с улыбкой оглядел Елифаза и его сообщников. Елифаз подпрыгивал от ярости:
— Зубоскал! Хитрая лиса! Скоро ты перестанешь скалить зубы и хитрить! Не смотри на меня с таким превосходством, мерзавец!
Он пнул Иисуса в правую голень, причинив значительно больший ущерб своей собственной ноге, нежели жестким мускулам Иисуса, и продолжал вопить:
— Завязать глаза этой свинье! Дайте кусок ткани! Быстрее!
Ездра вынул из рукава тряпку, которую носил с собой, чтобы вытирать пот (ибо отличался сильной потливостью), и, будучи достаточно высоким, завязал этой тряпкой Иисусу глаза. Иисус рассмеялся и сказал:
— Я вижу, вы полагаете, что я должен включиться в вашу детскую игру. Никогда не думал, что такие люди, как вы, дойдут до того, что будут меня развлекать. Ну давайте, делайте то, что хотели.
Чтобы слабо ударить Иисуса по щеке, Елифазу пришлось подпрыгнуть. Он прошипел, задыхаясь:
— Теперь посмотрим, какой ты умный со своим великим ясновидящим оком духа!
Он снова ударил Иисуса, после него ударил Ездра. Иона их примеру не последовал, лишь пробормотал нерешительно:
— Есть определенное… унижение…
— Давай, пророк! — задыхался Елифаз. — Пророчествуй, негодяй, кто следующий тебя ударит!
Иисус сорвал повязку с головы и швырнул ее на пол. Затем, без всяких усилий, поднял Елифаза, словно ребенка, и, держа его на вытянутой руке, сказал:
— Теперь плюй, если хочешь. Вниз плевать легче, чем вверх.
Елифаз извивался, задыхаясь от ярости. Иисус уронил его на пол. Тотчас же Иисуса начали бить другие фарисеи. Он спокойно стоял и улыбался, не сопротивляясь. Тут открылась дверь, и вошел Зара. Он холодно посмотрел на Елифаза и его сообщников и сказал:
— Вы ведете себя недостойно.
— Ты прав, — произнес Иисус. — Прошу прощения. Это, я полагаю, торжественный момент.
Елифаз зарычал.
— Все собрались наконец, — объявил Зара. — Тебе придется пройти со мной.
Он жестом велел Иисусу следовать за ним через сводчатый проход, который вел в пустой гулкий коридор, хранивший застойный запах плесневелого хлеба. Мимо них, зевая, прошел какой-то человек, похожий на секретаря, который нес дощечки для записей. При виде мощной фигуры Иисуса дремотное выражение его лица перешло в изумленное, и он глядел на Иисуса, не закрывая рта, хотя уже не зевал.
— Сюда, — указал Зара, открывая дверь. — Проходи.
— Перед ничтожным преступником священник Храма должен иметь преимущество, — заметил Иисус.
Зара, с каменным лицом, мгновение помедлил, затем вошел. Пройдя вслед за ним, Иисус увидел около десятка хранителей веры — священников и мирян, сидевших за длинным столом. Один из священников только что справился с длительной зевотой.
— Да, рановато, — заговорил Иисус. — Очень сожалею, что из-за меня вас вытащили из ваших постелей.
— С этого момента, — объявил Зара, усаживаясь на свое место, — арестованный говорит только тогда, когда к нему обращаются.
Слуга открыл находившуюся слева дверь, и в комнату вошел Каиафа. Присутствующие встали. На Каиафе было надето старое, изорванное и не очень чистое одеяние. Иисус заметил:
— Предвижу ритуальное разрывание одежд.
— Арестованный говорит только тогда, когда к нему обращаются, — повторил Зара и посмотрел на Каиафу, который уже занял свое место во главе собрания — среди сидевших в ряд священников и фарисеев.
Каиафа кивнул и сказал:
— Полагаю, теперь мы можем начать. — Он посмотрел на Иисуса и спросил: — Ты Иисус из Назарета? Так тебя зовут?
Иисус не ответил. Каиафа повторил вопрос. Иисус продолжал молчать.
— Арестованный демонстративно упорствует, — заявил Зара.
— Ты не отрицаешь, что именно так тебя зовут, — утвердительно произнес Каиафа. — Ты также и Мессия? Если ты считаешь себя Мессией, то должен сказать нам об этом.
— Если я тебе скажу, ты все равно не поверишь. Какой смысл говорить?
— К первосвященнику следует обращаться «святейший», — вмешался Зара.
— Какой смысл говорить об этом, святейший?
— Это не ответ, — сказал Каиафа. — Но времени для ответа достаточно. Объясни нам, какова сущность того учения, которое ты со своими учениками проповедуешь здесь, в Иудее?
— Святейшему нет нужды спрашивать об этом. Я говорил открыто всем, кто желал слушать. Я проповедовал в синагогах, на улицах, в самом Храме. Я ничему не учил тайно. Если святейший хочет знать, чему я учил, пусть спросит у тех, кого я учил.
Каиафа и Зара молча посмотрели друг на друга. Священник Аггей жестом попросил у Каиафы слова. Тот кивнул. Аггей заговорил:
— Арестованному следует знать, что у нас есть свидетельские показания, данные под присягой и должным образом подписанные. Вот пример. Утверждают, будто ты сказал: «Я могу разрушить Храм Бога и вновь построить его за три дня». Ты это говорил?
Иисус посмотрел на него, но не ответил. Аггей пожал плечами. Снова заговорил Каиафа:
— Я возвращаюсь к своему предыдущему вопросу. Ты, по-твоему, Мессия? Ты действительно считаешь себя — богохульство, богохульство! — сыном Всевышнего?
— Моим ответом, святейший, будет работа, которую я сделал во имя Отца моего, — отчетливо, тщательно подбирая слова, произнес Иисус.
— Во имя отца, — повторил Каиафа. Затем, обращаясь к присутствующим: — Вы слышали? Он говорил достаточно богохульные вещи.
Иисус произнес:
— Теперь ты должен совершить ритуальное разрывание своих одежд, святейший.
Каиафа, ничуть не смутившись, встал и символически разорвал на себе одежду, обнажив часть тощей груди с заросшим волосами соском. Он спросил у присутствующих:
— Каким будет решение?
— Решением будет смерть, — сказал Зара, — но это не может быть нашим решением. Не при данной процедуре. Если будет угодно святейшему, подследственный признается виновным на основании его собственных богохульных высказываний. Однако наше собрание — не суд, рассматривающий дело по существу, а следственная комиссия. Выводы следственной комиссии состоят в том, что обвиняемый, на основании сделанных им богохульных высказываний, должен быть признан виновным в государственной измене. Имеются ли какие-то иные мнения?
Зара оглядел членов комиссии. Возражавших не было. Тогда Иисус сказал:
— Уважая мнение присутствующих, скажу все же, что делать подобный вывод комиссия не имеет полномочий. В Израиле, где светское и религиозное — одно и то же, преступление против закона является преступлением против Всевышнего. Преступление же против Всевышнего, согласно обычаю, идущему от Моисея, должно наказываться смертью. В настоящее время, однако, закон подразделяется на религиозный и светский. В отношении нерелигиозного преступления выдвигать обвинения и требовать наказания за него должен светский орган власти. Вы можете наказать меня отлучением от паствы верующих, но не в вашей власти превратить преступление против веры в преступление нерелигиозного характера. Я говорю это только для того, чтобы вы были лучше осведомлены, и уступаю вашим недостойным интригам, которые я разоблачу, если хотите, перед теми из вас, кто не столь искушен в подобных делах. Просто…
Зара не дал ему договорить:
— Комиссия была снисходительна к подсудимому. Комиссия теперь лишь спрашивает: каково мнение подсудимого относительно обвинения? Хотя это всего-навсего простая формула вежливости, и ответ теперь не более обязателен, чем сам вопрос.
— Я скажу ужасные слова, — произнес Иисус. — Очень скоро вы увидите, как откроются небеса и Божьи Ангелы сойдут на воскресшего Сына Человеческого. Воскресшего, чтобы вершить суд — не человеческий, но Божий.
— Комиссия принимает решение, — начал Каиафа, поднимаясь, — суть которого в том, что ты должен быть препровожден к представителю оккупационных властей — прокуратору Иудеи. Он обладает полномочиями проводить судебные разбирательства, выносить приговоры и приводить их в исполнение. Отец Аггей, будь любезен вызвать стражу Храма.
Аггей кивнул и встал. Идя к двери, он посмотрел на Иисуса снизу вверх и прошипел: «Дерзость. Никогда мы прежде не выслушивали подобной дерзости». Он поднял руку для удара, но Иисус быстро перехватил ее и опустил вниз. Удерживая ее с такой легкостью, будто это была рука девочки, он обратился к комиссии, которая комиссией уже не была — просто группа встающих со своих мест людей, многие из которых намеревались снова пойти спать.
— Уважаемое собрание, процесс, который вы начинаете, будет не столь простым, как вам представляется. Вот достаточно простое рассуждение. Человек, который претендует на то, чтобы быть Мессией, претендует и на то, чтобы быть царем Израиля. Но царь Израиля, который происходит из народа Израилева, ставит себя в положение противника власти кесаря. Мессия — Помазанник — царь. Вот ваш довод. Но я никогда не претендовал на царство. Я говорил о Царстве Небесном, которое не является ни царством Израиля, ни царством кесаря. Мне больше нечего сказать, но прошу вас, ради спокойствия ваших душ, помнить мои слова.
Все время, пока Иисус говорил, Аггей безуспешно пытался высвободить свою руку. Иисус посмотрел на разозленного священника, будто вспомнив о нем, и позволил ему уйти. Потом он и Зара ждали прихода стражи. Иисус был погружен в себя, а Зара молча читал какой-то свиток. Аггей вернулся с четырьмя вооруженными людьми.
— Вот теперь ты увидишь, как Понтий Пилат обращается с наглецами, — произнес со злорадством Аггей, держась при этом от Иисуса на некотором отдалении.
Рано утром представитель римских властей (Понтий Пилат был в то время еще на пути из Кесарии) официально объявил, что в этот день в Иерусалиме произойдет три распятия. Он объявил также, что казни и погребение тел должны быть проведены непременно до начала субботы, поскольку оккупационные власти уважают религиозные чувства местного населения, придающего столь священное значение следующей за Пасхой субботе. Преступниками, которых ожидала казнь, были Иисус Бар-Аббас, обычно именуемый Вараввой, и двое его сообщников — Иовав и Арам. Когда на рассвете, а затем еще несколько раз рано утром делалось это объявление, зелоты громко выражали свое недовольство. При виде Иисуса, шедшего в окружении стражников в сторону дворца прокуратора (принадлежавшего некогда Ироду Великому), толпа закричала: «Предатель! Ты отдал его в руки врагов!» — и кто-то швырнул камень, который задел шею Аггея. Тот, от ярости совсем потерявший сходство со священником, позвал на защиту римлян. Повсюду хватало римских легионеров, которые были очень рады пройтись своими мечами — плашмя, конечно же плашмя — но спинам немытых евреев.
В то утро у властей было очень много дел. Деньги, отвергнутые Иудой, решено было возвратить казначею Храма, но тот заявил о неприемлемости и возможной незаконности их принятия Храмом, назвав эти монеты кровавыми. Один толковый молодой чиновник городского казначейства заявил, что наконец-то появилась ниспосланная небом (его начальник возражал против этого определения) возможность реализовать давний замысел — об этом всегда много говорилось, особенно во время Пасхи, когда в городе был наплыв приезжих, но никогда не делалось по причине отсутствия денег, — а именно: откупить участок земли и превратить его в общественное кладбище, где хоронили бы чужеземцев. Этот толковый молодой чиновник знал одного человека, который владел горшечной мастерской, располагавшейся на участке земли площадью около акра. Горшечник не раз говорил, что бросил бы свое дело, если бы смог найти покупателя на землю. Чиновника послали договориться о покупке, внести задаток и оформить документ о передаче прав на имущество. Он пришел к горшечнику и сказал:
— Большое Иерусалимское Кладбище для Чужеземцев! Превосходно звучит, не правда ли?
— Ладно, согласен. Тридцать монет. Но до меня дошли нехорошие слухи про эти деньги. Кровавые деньги. Их Храм не принимает.
— Деньги — это деньги. Они не кровавые и не чистые. На них покупается место для богоугодного дела. И не будет никаких вопросов, кто где умер и как. Ладно, поставь вот здесь крестик.
Поскольку на этих деньгах была кровь, участок земли, на них купленный, в народе вскоре стали называть Акелдамб, то есть «Земля крови». Полагаю, вы можете взять на себя смелость предположить, кто там был погребен первым. Никто не задавал никаких вопросов. Благое дело. У его безымянной могилы резвились кошки.
В то утро произошло много событий. Прокуратор Понтий Пилат прибыл в свою резиденцию. Крики зелотов раздражали его. Прокуратор был голоден и принялся за завтрак из хлеба, меда и легкого сладкого вина, а его помощник Квинтилий быстро и кратко перечислил то, что в этот день предстояло сделать. Пилату было за сорок, и выглядел он сурово, но в действительности имел довольно мягкий нрав. Он начинал тяготиться своим теперешним положением и мечтал оставить должность прокуратора Иудеи. Квинтилий отличался умом, хитростью и честолюбием. Теперь он высказывал Пилату свои соображения:
— Смерть будет слишком суровым наказанием за столь мелкие нарушения. Они не заслуживают такой участи. Я говорю о тех троих, которых должны казнить сегодня, — о евреях, арестованных за публичное выражение недовольства…
— Кто они такие? Этот Иисус Бар-Аббас один из них? Его проклятое имя звенело у меня в ушах все время, пока я шел сюда. Один из так называемых еврейских «патриотов». Так что там с ним? Или с ними?
— Именно о нем, главным образом, я и думаю, сиятельный. Некоторые граждане мне посоветовали, что было бы выгодно совершить акт милосердия, освободив его. Казнить тех двоих, а Варавву отпустить.
— Выгодно? Я не ищу никакой выгоды от этих евреев, Квинтилий. Да и в Риме милосердие не в цене. Избавиться от всех троих, будь они прокляты, — вот что будет хорошим примером для остальных «патриотов».
— Сейчас время Пасхи, сиятельный. Город на грани бунта. А Иисус Бар-Аббас личность популярная. Его освобождение обойдется нам дешевле, чем хлопоты, связанные с поддержанием здесь порядка в то время, когда обстановка так накалена. Патриотические настроения среди местного населения, кажется, усиливаются. В этот праздник каждый, видимо, вспоминает, что было время, когда евреи находились в рабстве у египтян. Они ведь когда-то вышли из Египта. Тогда они и сложились как народ. Это было давно, но все они помнят об этом.
— Да, национальная религия и маленькое местное божество, — произнес Пилат и сделал глоток. — Когда же они поумнеют?
— Хороший вопрос, сиятельный.
— В чем суть преступления этого типа? Я имею в виду Варавву.
— Он сломал римское знамя. Находился в состоянии крайнего возбуждения, что, очевидно, было вызвано речами известного проповедника, которого именуют Иисус из Назарета. Совпадение, как видишь, — одно и то же имя. Правда, довольно распространенное. Одна из форм имени Йешуа. И еще одно совпадение. Этот Иисус из Назарета сам оказался под арестом… некоторым образом. Он арестован не нами.
— Если арестован не нами, то он вообще не арестован.
— Не следует забывать, сиятельный, что мы поощряем… действия представителей местного населения, направленные на поддержание римского порядка. На этого Иисуса из Назарета легло очень тяжелое обвинение. Есть высокопоставленные свидетели, утверждающие, что он произносил изменнические речи.
— Призывал к свержению власти кесаря, ты хочешь сказать?
— Говорил, что он сам является законным правителем этой территории, сиятельный.
Двое римлян посмотрели друг на друга, затем Пилат отломил немного хлеба, обмакнул его в сицилийский мед и, чавкая, произнес:
— Тогда он сумасшедший.
— Сумасшедший или нет, сиятельный, но их Религиозный Совет воспринимает его заявления очень серьезно и настаивает на том, чтобы свершилось правосудие.
— Неужели настаивает? Для меня это звучит так, как если бы у них были причины от него избавиться. Причины, которые не имеют ничего общего с тем, что они называют государственной изменой. Гнусный народ эти евреи. В общем, никакого суда не будет. По крайней мере, в течение ближайшего месяца или около того.
— Прошу прощения, сиятельный, но сам первосвященник считает, что суд и казнь — дело чрезвычайной срочности.
— Первосвя… Каиафа? Каиафа просит о римском правосудии?
— Он просит, чтобы оно свершилось сегодня. Сейчас. Он, кажется, надеется, что ты уже сегодня утром подпишешь распоряжение о приведении смертного приговора в исполнение. То есть когда тебе будут предъявлены неопровержимые доказательства.
— Неужели они все сумасшедшие?
— Сейчас во внутреннем дворе находятся два священника — ждут, когда ты их примешь. С ними тот человек. Они связали ему руки. Кажется, они боятся, что он ускользнет, — усмехнулся Квинтилий.
Пилат вздохнул, затем сказал:
— Приведи их. Посмотрим, в чем тут дело.
— О, об этом не может быть и речи, сиятельный. По-видимому, ты забыл, что ты, согласно их религии, нечистый и что дворец твой нечистый. Они говорят, что отказываются входить в дома язычников и осквернять себя. — Квинтилий снова улыбнулся.
— Ох уж эти евреи! Передай им, что сейчас выйду. Это значит, приблизительно через час. Мне нужно сходить в баню. Нечистый, говоришь? О боги!
Известие о том, что связанный Иисус, под присмотром двух священников, находится во дворе резиденции прокуратора, привлекло к этой ощетинившейся копьями и украшенной орлами[121] цитадели римского порядка разношерстную толпу. Внутренний двор с трех сторон ограждали низкие стены и деревья, за которыми стоял плотный строй многочисленной и хорошо вооруженной охраны. Разъяренная толпа, угрожающе потрясая кулаками, вплотную приблизилась к дворцу. Для стражников она не представляла особой опасности, поскольку евреи были готовы, скорее, сцепиться друг с другом, нежели предпринять попытку напасть на охрану Пилата. Последователей Иисуса, которых в толпе было довольно мало, жестоко избивали зелоты, а поскольку наиболее громогласными среди сторонников Мессии были женщины, то физическая действенность этих стычек имела весьма односторонний характер. Большинство римских стражников с удовольствием наблюдали за драками между евреями. Один из римлян сказал своему товарищу:
— Видишь вон ту бабенку?
— Которую? Молодую?
— Нет, ту, что постарше. Однажды я имел с ней дело, но это было в другом городе. Свою работу знает туго. Хорошую же компанию собрал вокруг себя этот Иисус! Шлюхи, воры и прочий сброд. Отвратительный народ эти евреи, с какой стороны ни посмотри. Эй, крошка, как насчет того, чтобы поразвлечься?
Но Мария, Саломея, Мария Магдалина и другие последовательницы Того, Кто Явился и кому вскоре суждено было уйти, уже поняли безнадежность сложившейся ситуации и проталкивались сквозь толпу, выбираясь наружу. Никого из его учеников здесь не было. То ли по соображениям собственной безопасности, то ли смирившись с происходящим, а может, из-за охватившей их трусости или апатии они разбрелись куда глаза глядят, и никто не знал, где они теперь.
Наконец Понтий Пилат вышел к ожидавшим его священникам. С ним был Квинтилий. Иисусу и священникам (ненужных теперь стражников Храма Зара отпустил) приказали пройти в небольшую беседку позади дворца. Пилат уселся на каменную скамью и заговорил:
— Меня, уважаемые, как вам известно, не интересуют нарушения законов вашей веры. Сфера моей деятельности чисто светская. Вы же священники, но привели ко мне связанного человека в сопровождении вооруженной охраны, про которую мы едва ли можем говорить, что ей отводится светская роль. Полагаю, первое, что следовало бы сделать, — это отослать вас прочь и, таким образом, не примешивать религию к данному делу, каким бы оно ни было. Далее. Я и мой помощник можем допросить этого вашего арестованного, придерживаясь светской процедуры. А теперь окажите мне любезность и развяжите ему руки, поскольку, вероятно, это вы связали его. Может быть, вы его и боитесь, но только не я.
Оба священника пожали плечами, и Аггей развязал веревку, стягивавшую запястья Иисуса. Зара сказал:
— Нам хорошо известна степень или, точнее, сфера твоих полномочий, сиятельный, и мы пришли сюда с обвинением чисто светского характера. Мы сочли, что этот человек извращает представления нашего народа о связи между Богом и государством…
— Оставьте бога — вашего бога, я имею в виду — в стороне от этого дела. Меня ваш бог не интересует.
— Следует ли мне тогда уведомить тебя, сиятельный, что этот человек провоцировал общественное недовольство? На сей случай у нас имеются письменные показания свидетелей, скрепленные печатью и надлежащим образом подписанные.
— Ничуть не сомневаюсь, что имеются. Что еще?
— Он утверждает, сиятельный, — заговорил Аггей, — что он Христос. Это значит Помазанник.
— Я тоже немного знаю греческий, — ответил Пилат.
— Но положение помазанника, сиятельный, определенно указывает на царствование. Этот Иисус въехал в Иерусалим как самозваный, сам себя помазавший и сам себя короновавший царь Израиля.
— А мой помощник передал мне, что он въехал в Иерусалим на осле.
— Это, сиятельный, было задумано им как богохульное исполнение одного из пророчеств Писания.
— Говорю вам, меня не интересует ваша религия. Меня не интересует то, что вы называете богохульством.
— Даже богохульство, направленное против римской веры? — спросил Зара.
— Все вы, евреи, богохульствуете против римской веры. Вы не желаете признать божественность императора. Возможно, мы ведем себя глупо, проявляя терпимость в отношении вашего богохульства.
— Но когда он явился как самозваный царь Израиля, разве не было это явным вызовом власти Рима? — спросил Зара.
Пилат вздохнул, усмехнулся, потом нахмурился.
— Как почтительно ты произносишь эти слова — «власть Рима». Вы ненавидите Рим ничуть не меньше, чем любой из этих немытых так называемых патриотов, которые орут там сейчас. Но вы хотите мира, а это следует понимать так, что действия, расцениваемые как подрыв общественных устоев, для вас нежелательны. Каждый из вас хочет иметь определенное положение, состояние и небольшую уютную виллу на побережье. Давайте, святые отцы, или как вас там, не будем лицемерить. Насколько мне известно, этот мужчина не подстрекал народ к ниспровержению назначенного кесарем наместника и к передаче власти человеку на осле. У меня нет оснований для того, чтобы приводить из Кесарии новые легионы или увеличивать численность вооруженной охраны вокруг общественных зданий. Нет, почтенные, у меня и без этой суеверной чепухи, которую вы называете богохульством, достаточно забот.
Все это время Иисус молчал. Он стоял, медленно и осторожно растирая затекшие руки. Казалось, будто он прислушивается к музыке, которая звучит внутри него. Пилат посмотрел на Иисуса и увидел в нем силу, но не безумие.
— Я буду говорить откровенно, сиятельный, — продолжал настаивать Зара. — Если бы мы были народом, имеющим самоуправление, у нас было бы право требовать за богохульство такое наказание, которое предусмотрено Законом Моисея. Этот Иисус называет себя Сыном Божьим. Для оккупационных властей данный факт, может, и не имеет никакого значения, однако для нас, детей Израиля, это — самое страшное оскорбление Бога. Совершивший подобный грех заслуживает смерти. Но, как подвластный народ, мы более не имеем права предавать грешника смерти. Поэтому мы и пришли к тебе.
— Это, по крайней мере, честно. Стало быть, судебного решения вам от меня не нужно. Вы просто хотите использовать меня в качестве орудия смерти.
— Мы не хотели бы, — заговорил Аггей, — выражать это такими… приземленными словами.
— Уж конечно, нет, — сказал Пилат. — А если я отклоню ваше требование казнить этого человека, то рано или поздно меня могут обвинить в нарушении порядка и спокойствия в Иудее. Полагаю, теперь я поговорю с этим человеком. Ты будешь говорить со мной? — спросил он у Иисуса.
Иисус не ответил. Зара указал на кожаный футляр для свитков, который держал в руке, и сказал:
— Нет нужды продолжать дальше, сиятельный. У нас уже приготовлено распоряжение о казни — на латыни и на арамейском. От тебя требуется только…
— Поставить подпись, — договорил Пилат. — Относительного этого я сам приму решение. — Затем он заговорил с Иисусом, как с равным: — Есть ли у тебя предубеждения, господин, против того, чтобы войти в дом язычника?
Пилат поразился, что, обращаясь к Иисусу, невольно употребил формулу вежливости. Затем, уже более резко, он сказал:
— Мой помощник проведет тебя в мои комнаты.
После этого Пилат удалился.
ВТОРОЕ
Как всегда в это время года, небо было безоблачным и пронзительно-голубым, и только на севере — над самой линией горизонта — едва виднелась узкая полоска облаков. Ослепительное беспощадное солнце заливало комнату своими палящими лучами. С выражением усталости и скуки на лице Пилат полулежал на жестком фулкруме[122]. Иисус неподвижно стоял. Пилат заговорил:
— Ты высок ростом, и мне приходится смотреть на тебя снизу вверх, даже когда я стою. Это, конечно, нехорошо. Не присядешь ли и ты?
— Это было бы невежливо с моей стороны, не так ли?
— Царь иудеев… Ты и в самом деле считаешь себя царем Иудейским?
— Если у меня и есть царство, то царство это не от мира сего. Будь оно от мира сего, у меня были бы звенящие мечи, которые защитили бы меня от суда.
— Не от мира сего… — повторил Пилат. — Это может означать что угодно. И все-таки, даже если твое царство, как ты говоришь, не от мира сего, недруги твои правы, когда утверждают, что ты претендуешь на царский титул, не так ли?
— Это не относится к делу, — возразил Иисус. — Я пришел в мир с единственной целью — свидетельствовать об истине. Моему голосу будет внимать всякий, кого заботит истина.
— Но что есть истина? Впрочем, это к делу тоже не относится. Тебе известно, что священники хотят твоей смерти? А известно тебе, что только в моей власти отпустить тебя или подвергнуть распятию?
— Эту твою власть ограничивают те самые люди, которые склоняются перед ней, — возразил Иисус, и в его голосе Пилату послышалось что-то вроде сочувствия, даже жалости. — Пойдут разговоры о враге иудейской веры, который недружественно настроен по отношению к кесарю. Тебе об этом следует знать.
— Это мне хорошо известно.
Они начали свою беседу на арамейском, на котором Пилат говорил довольно бегло, хотя и не улавливал всех оттенков смысла. Однако на слове «царь» он невольно перешел на латынь: «Credis te esse regem verum Iudaeorum?»[123] и так далее. Иисус без труда заговорил на том же языке.
— Это мне известно, — повторил Пилат, затем продолжал: — Что же мне с тобой делать? Ты, как мне кажется, никакого преступления против Рима не совершил. Как ты вообще относишься к Риму?
Пожав плечами, Иисус ответил:
— Людьми нужно управлять. Полагаю, это справедливо, когда существуют царство кесаря, кто бы он ни был и каков бы он ни был, и царство духа. И встречаться эти царства должны изредка, ибо, если будет единое царство, душа станет притягиваться к миру телесному, но тело до мира духа отнюдь не возвысится. Кроме того, моя проповедь обращена не к одному, но ко всем народам. Римляне слушали меня в той же степени, что и евреи.
— От всей этой твоей — как ты ее называешь? — миссии исходит некий имперский душок. Некая универсальность. Теперь мне понятно, почему иудейские священники видят в тебе опасность. Вижу также, что — руководствуясь понятием справедливости и здравым смыслом — не могу выполнить их просьбу, которая похожа скорее на предложение сделки. Поэтому отпускаю тебя. Ты свободен идти куда тебе вздумается.
— Ты не можешь отпустить меня. И ты знаешь это. Hoc scis[124].
— Я должен совершить несправедливость?
— Ты должен управлять.
Пилат тяжело вздохнул:
— Ладно, давай выйдем наружу к этим священникам. — Он встал. — Ты очень высокий, — повторил Пилат. — И сильный. Божественный сын, как когда-то выразился поэт Цинна[125]. Или Сын Божий, как предпочли бы сказать некоторые из дерзких монотеистов. Думаю, они получили бы удовольствие, наблюдая, как истекает кровью и умирает такое тело. Извини меня — очень дурной вкус! Давай пойдем вместе.
Двум священникам, ожидавшим во внутреннем дворе — к ним теперь присоединилось несколько фарисеев и других священников, — чрезвычайно не понравилось, когда они увидели, как Иисус и Пилат выходят вместе, бок о бок, без всякой охраны: правитель и возвышающийся над ним подданный. И они были уже крайне раздражены, когда Пилат сказал:
— Вы мне представили его как человека, развращающего народ. Обвинить его в этом я не могу. Скорее, наоборот. Говорит он весьма разумно. И кстати, на очень хорошей латыни. Заявлять, что он заслуживает смерти, — вопиющая несправедливость.
В этот момент к ним подошел Квинтилий. У него был очень озабоченный вид. Квинтилий только что дал какие-то указания секретарю, и тот теперь глубокомысленно почесывал ухо.
— Квинтилий, ты говорил о милосердии, — сказал Пилат. — Следует ли мне продемонстрировать его?
— Это был бы знак истинного правителя, сиятельный.
— А каково мнение святых отцов? — обратился Пилат к священникам.
Зара задумчиво пожевал нижнюю губу и ответил:
— Милосердие — это, конечно, превосходно. Я считаю, что было бы замечательно — освободить узника, который принадлежит к нашему племени, в эти священные для нас и… э-э… особо памятные дни. Но у тебя есть выбор среди узников, сиятельный.
— У меня нет выбора, — резко ответил Пилат. — Один обвиняется в публичном изъявлении неуважения к властям. А другого даже еще не судили.
— О, его уже судили, сиятельный, уверяю тебя. Выбор, как я сказал, у тебя есть. Ты должен доверить его народу. Пусть народ сделает выбор. Decet audire vocem populi[126].
— Если ты имеешь в виду это сборище крикливых «патриотов», то едва ли я назову их представителями народа. Я отказываюсь от выбора. Вы одобряете мое милосердие. Прекрасно. Тогда двойное милосердие вы должны одобрить вдвойне.
Пилат прошел к краю внутреннего двора и громко, чтобы слышала толпа, объявил:
— Вы неоднократно просили меня освободить одного из ваших соплеменников — некоего Иисуса Варавву, который приговорен к распятию по обвинению в публичном изъявлении недовольства властью.
При нервом упоминании о Варавве толпа взвыла, непрерывно повторяя его имя. Пилат поднял руку, призывая к спокойствию:
— В день, подобный этому, в день, который вы считаете святым, милосердие должно быть выше закона. Поэтому я приказываю освободить этого человека.
Пытаясь перекрыть вопли радости, которыми разразилась толпа, Пилат выкрикнул:
— Погодите! Свой акт милосердия я еще не выполнил до конца. Есть другой Иисус, известный как Иисус из Назарета, его привели сегодня ко мне для судебного разбирательства. Я выслушал этого человека и нахожу его невиновным. Хотите ли вы, чтобы и он был освобожден? Напоминаю, этот человек невиновен. Римское правосудие не находит в нем вины.
Пилат поступил опрометчиво, упомянув в качестве довода римское правосудие. В ответ раздались звериные вопли тех, кто жаждал крови, а редкие возгласы: «Освободить его! Иисус невиновен!» — потонули в криках зелотов. У них и у оказавшихся в толпе фарисеев сложился временный союз — и те и другие желали отомстить.
Пилат резко и бесцеремонно повернулся к толпе спиной и мрачно осмотрел чопорную группу, ожидавшую во внутреннем дворе. Рядом с ними, кротко сложив ладони, неподвижно стоял Иисус. Пилат прошел к самодовольно улыбавшимся святошам и сказал:
— За время моего пребывания в должности прокуратора подобное решение я принимаю впервые. Рассматривайте его как решение вовсе не принимать никакого решения. Я объявляю себя невиновным в крови невиновного. Пусть вина за его кровь ляжет на вас.
— Таким образом, сиятельный, ты официально самоустраняешься, — несколько развязно молвил Квинтилий.
Как отметил про себя Пилат, Квинтилий стоял значительно ближе к евреям, чем представлялось необходимым, а помощнику наместника следует держаться на достаточном отдалении от местной черни. И Пилата внезапно осенило: Квинтилий всегда вел несколько более роскошную жизнь, чем позволяло его официальное жалованье. «Якшается с местной чернью» — обычно говорили в провинциях в таких случаях, и это звучало как оскорбительная насмешка или даже как обвинение.
— Следовательно, господин прокуратор, — продолжал Квинтилий, — полномочия подписать смертный приговор передаются мне.
Пилат промолчал. В эту минуту он заметил мальчика-слугу, который быстро шел вдоль ближней колоннады, держа в руках наполненный водой металлический кувшин.
— Эй, ты! — громко позвал его Пилат. — Мальчик! Неси это сюда.
Вздрогнув при звуках сердитого голоса и открыв рот от страха, мальчик торопливо подошел, расплескивая воду.
— Полей мне на руки, — громко приказал Пилат. — Скорее же, мальчик. И закрой рот.
Мальчик сделал, как ему было велено, и Пилат движением руки отпустил его. Со злобно-язвительным выражением на лице Пилат оглядел священников и фарисеев и, стряхнув с рук капли воды на их одежды, сказал:
— Крови нет. Чистые, как видите.
Уходя с поспешностью, неподобающей полномочному представителю Римской империи, он едва удостоил взглядом группу священников и фарисеев, а на Иисуса, разумеется, не взглянул вовсе. Те молча наблюдали, как он уходил. Квинтилий улыбнулся и сказал:
— Если вас беспокоит формальная сторона дела, то распоряжение о приведении в исполнение трех смертных приговоров уже подписано. Имя Иисус в него внесено заранее. К счастью, без этого… как его там?
— Понимаю, без патронима, — ответил Зара. — Без родового имени. Отец наш Небесный все устраивает к лучшему, господин помощник прокуратора. Мы знаем, кто наши друзья.
Когда в замке заскрежетал ключ, в тюремной камере, где на грязной соломе рядом с Иовавом и Арамом лежал другой Иисус, известный как Варавва, произошло некоторое замешательство. В камеру вошел охранник Квинт. Он оглядел узников и широко улыбнулся. Иовав сказал:
— Еще рано. Время еще не подошло, я знаю. По солнцу могу сказать.
— И мы к тому же не обедали! — выкрикнул Арам. — Нам обещали хороший обед. Так принято, таковы правила! Проклятые лживые римляне!
Квинт усмехнулся, глядя на Варраву, и скомандовал:
— Ты. Выходи!
— Я первый? Полагаю, это правильно. Что такое лишний час жизни в этой вонючей крысиной норе? Но ты должен дать мне вина.
— Ну уж нет, ничего ты от меня не получишь. Покупай сам, если хочешь, подонок. Тут вот у меня приказ о твоем освобождении. А что до этих двоих, то с ними все остается по-прежнему. Никогда ничего не смогу понять в этом мире. Евреи! Где евреи, там всегда неразбериха. Ты, свинья, вон отсюда! Вон, пока я не надавал тебе пинков!
Варавва лениво поднялся, старательно делая вид, что его вовсе не волнует это невообразимое освобождение и что ему абсолютно все равно, останется он жив или умрет. Тут Иовав, выйдя из себя, завопил:
— Это какая-то ошибка! Мы ничего такого не сделали, просто пошли за ним сюда. Главный он, а не мы! Мы делали, как он нам говорил. Дай мне посмотреть на этот приказ. Я требую показать его мне! Здесь наверняка какая-то ошибка!
— Никакой ошибки, ребята, — отвечал Квинт. — Вы выйдете отсюда немного позже. Только для вас все будет иначе. Вы дадите, — он принялся издевательски имитировать патрицианский выговор, — праздничное представление для граждан. Дневной спектакль. Соберется прекрасное общество. Сами увидите.
Арам плюнул в сторону Вараввы:
— Вот тебе! Продался им, да?
— Скорее, нас продал, — прорычал Иовав.
Они оба набросились на Варавву. Квинт позвал еще одного стражника. Они с трудом удерживали двоих крикунов, которые плевались и царапались. Варавва изрек:
— Божья справедливость — вот что это такое, друзья мои, хотя римлянам сие понятие и неведомо. Бог может сделать своим орудием кого угодно, даже римлян. Помните об этом. Не беспокойтесь, я продолжу начатое дело.
Вошли еще два стражника. Иовав и Арам не унимались:
— Грязный предатель! Хитрая свинья! Римский прихвостень! Ублюдок!
Варавва весело помахал им на прощанье рукой, старательно скрывая при этом свое удивление. Двоих его сообщников, друзей, борцов за общее дело, без труда удерживали ухмыляющиеся римляне.
Теперь события быстро шли к развязке. Квинтилий договорился со служившим у римлян мастером по изготовлению вывесок, чтобы тот сделал титул — табличку с кратким изложением на трех языках сути преступления, которое совершил приговоренный к распятию. Титул прибивался к кресту.
Когда Квинтилий увидел побеленный кусок дерева с еще не высохшими строчками, нанесенными черной краской, его очень обеспокоило содержание надписи. «IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM»[127], гласила строка на латыни. По-гречески было написано: «IESOUS НО BASILEUS TON IOUDAION»[128]. Фраза, написанная на арамейском, который Квинтилий понимал с трудом, означала, как он предположил, то же самое.
— Это не то, что я заказывал! — воскликнул Квинтилий. — Его преступление состоит в том, что он выдает себя за царя иудеев. Эта же надпись гласит, что он и на самом деле царь. Унеси и переделай. Если мы повесим табличку в таком виде, евреи обрушат на нас всю свою ярость.
— Со всем моим уважением, господин, — сказал мастер по вывескам, кривоногий человек, от которого исходил довольно приятный запах дорогих ароматических масел. — По ведь его сиятельство видели, как мы делали эту табличку. Они спросили, что мы на ней собираемся написать, и мы объяснили. Тогда они велели написать именно то, что мы и написали. Они даже немного помогли нам с арамейским — ужасный все-таки язык!
— Его сиятельство? Господин прокуратор? Не может быть!
— Они сказали, господин, что знают, как это оскорбит некоторых, но, мол, самое время, чтобы кое-кто оскорбился. И еще они сказали: «Если кто-то будет недоволен, передай им, что я написал то, что написал». Потом они ушли, не дав больше никаких указаний.
— Пусть кровь падет на его собственную голову, — процедил сквозь зубы Квинтилий.
— Прости, господин?
— Забери это и отдай командиру того отряда, что совершает распятия.
— Будет сделано, господин.
Теперь Иисус оказался полностью в руках римлян. Обычно распятию предшествовала процедура бичевания, которую, если приговоренный оказывался евреем, с большим удовольствием исполняли сирийские наемники из оккупационной армии. В грязном дворе своей казармы они уже сорвали с Иисуса всю одежду. Он стоял, плотно прижавшись грудью к массивному каменному столбу и обхватив его руками, — запястья приговоренного были связаны, все тело в крови.
— Здоровый ублюдок, совсем не похож на еврея. Вон там немного кривовато. Ударь-ка его по другой щеке. Я имею в виду другую щеку его задницы.
— Есть, господин!
— Вон там свисает кусок кожи. Делай свою работу как следует. Отсеки его одним ударом, и дело с концом. Давай, Фидон, побольше свежего мяса!
Избиение продолжалось.
— Заставь же наконец этого ублюдка кричать. Откуда нам знать, что им больно, если они не кричат?
— Этот не закричит. Большой ублюдок, как ты сказал, господин.
— Достаточно, — сказал командир, отвечавший за экзекуцию. Он был очень молод. — Накиньте на него одежду.
— Мы ведь только начали, господин. Люди еще хотят. На его шкуре много мест, господин, к которым мы еще и не прикасались.
— Это приказ.
К командиру подошел улыбающийся сириец, который осторожно держал в руках что-то вроде усеянного колючками кольца.
— Что это?
— Он говорит, что он царь, господин, ведь так? Но это оскорбительно для императора. Мы должны его короновать.
— Давайте заканчивайте. Мы опаздываем.
Сирийцы туго натянули на голову Иисуса кольцо, сделанное из веток колючего кустарника. Для этого им пришлось приподниматься на носках, настолько был высок пленник.
— Ему недостает в руке этой штуки. Как вы там ее называете?
— Скипетр, господин?
— Дайте ему подержать эту плеть. Не думаю, что посмеет ударить. Евреям недостает мужества.
Они накинули на плечи Иисуса красный плащ легионера и вложили ему в руку плеть. Кровь из-под «короны» струйками стекала по лицу приговоренного. Затем сирийцы разыграли короткую сценку с неуклюжими поклонами, которые сопровождались фразами вроде: «Радуйся, царь иудеев! Выше свой царственный зад, божественное иудейское величество!»
— Не выношу этих ублюдков, господин, — сообщил старшему офицеру младший командир.
— Ну, довольно. Нам пора идти.
— Хорошо, господин.
Они снова раздели жертву (при этом младший командир напоследок нанес символический удар ногой в неприкрытую промежность), затем накинули на Иисуса его цельнотканое одеяние, все еще достаточно чистое, — на нем сразу же начали проступать пятна крови. Плеть у Иисуса они забрали.
— Разрешите оставить корону, господин?
— Да, да. Пошли уже, мы опаздываем.
Теперь Иисуса привели на располагавшийся недалеко от казармы сирийцев дровяной склад, где старик и мальчик изготовляли кресты для распятий. Старик посмотрел на Иисуса так, словно прикидывал, подойдет ли тому новое одеяние. Обращаясь к командиру, старик произнес:
— Он очень большого роста, господин. Это тот, для которого приготовлен новый крест?
— Цельный крест, ты хочешь сказать?
— Я уже говорил, что это не очень хорошая идея, господин. Я, конечно, не думал, что будет кто-нибудь такого роста, как он. Уж очень он велик, да.
На складе хранились перекладины, которые должны были прикрепляться на месте казни к врытому в землю вертикальному столбу. Но среди перекладин лежал и один новый, очень красивый крест, уже собранный с помощью хитроумных пазов и шипов. Однако в месте крепления перекладины к столбу один-два хитрых гвоздя все-таки вышли наружу.
— Хорошее дерево. Мне пришлось много над ним потрудиться. Жалко, что будет весь залит кровью. Да уж так устроена жизнь, да. Надеюсь, донесешь его? — с сочувствием обратился он к Иисусу. — Здорово же они тебя обработали. Что это у тебя на голове-то?
Иисус оставил вопрос старика без ответа. Поглаживая дерево и вдыхая его запах, он задумчиво произнес:
— Кедр… Ты был плотником?
— Был?! Да я по сию пору и есть плотник, дружище! Ты только взгляни! Ровно, прямо, хорошо опилено, хорошо остругано! Грех и позор пускать эту прелесть на такое дело. На саму-то работу никто и не посмотрит, это уж точно. Да еще эти мерзкие огромные гвозди. И ты спрашиваешь, плотник ли я? Ну, это последнее оскорбление, скажу я тебе. Каждый занимается своим делом, а других это не должно касаться.
— Я тоже был плотником. Хороший плотник не должен так забивать гвозди в месте крепления. Пазы и шипы сделаны на скорую руку.
— Ну… — Старик почесал подбородок. — Как я уже сказал, едва ли кто это заметит.
— Бог заметит. Бог хорошую работу ценит, дурную же порицает.
— Ну, довольно, — оборвал его командир отряда. — Кончай проповедовать. Бери эту штуку и трогай. Совсем неблизкий переход нам предстоит.
Когда Иисус нагнулся, чтобы поднять крест, капли крови упали на чистую, свежеоструганную поверхность. Старик, будто смирившись с этим, тяжело вздохнул и сказал:
— Да, вес. Даже для такого, как ты. Тебе нужно найти эту самую точку равновесия — так ее, кажется, называют.
— Центр тяжести. Я знаю, — ответил Иисус и поморщился от боли, когда крест лег на его плечо в том месте, где была содрана кожа и кровоточила рана.
Он нашел центр тяжести, и крест, слегка качнувшись, замер — равновесие было установлено. Он знал, что сильнее всего будет страдать от боли в руках, поддерживающих крест, а не от раздражающих ссадин, которые вскоре натрет на коже громадный кусок дерева.
— И все-таки хорошая работа, — произнес старик, обращаясь к командиру. — Теперь, когда он поднят, можешь рассмотреть его получше, господин. Ну что, все? — Обернувшись к мальчику, он заявил: — Можем теперь закрывать мастерскую, малыш. Как говорится, vale, schalom, andio и все прочее в этом духе.
Место, где совершались казни, было на вершине горы, которую из-за ее очертаний называли Голгофой, что означает «лобное место». Гора эта находилась и, разумеется, до сих пор находится к юго-западу от Иерусалима — сразу же за городской стеной.
Молодой командир сказал:
— Да, нелегкий будет путь. Больно тебе? Ничего, скоро все закончится. Ну, не так скоро, конечно…
Итак, переход начался. Чтобы поддерживать темп движения, один из солдат бил в небольшой барабан восточной работы. Другой нес под мышкой табличку с богохульной надписью на трех языках. Иисус, шедший впереди, чтобы его можно было поднять ударами плети, если он упадет, или подгонять, если он начнет отставать, старался идти быстрее и держать свою окровавленную голову прямо. Однако крест был слишком тяжел. Приближаясь к главной улице города, проходившей с востока на запад, они могли уже слышать, как шумит огромная толпа, звенят мечи и младшие командиры из оцепления отдают приказы. Эта толпа собралась вовсе не для того, чтобы увидеть идущего на казнь Иисуса, — людям хотелось выразить свое отношение к предстоящей гибели двух зелотов, которые не более чем за четверть часа до того прошли этой же дорогой, неся на плечах перекладины для крестов.
Толпа — странное животное. Она, несомненно, имеет свою собственную душу, абсолютно непохожую на души людей, ее составляющих. В это время, благодаря освобождению Вараввы, ярость толпы, вызванная осуждением на казнь Иовава и Арама, приобрела несколько иной характер. Варавва шел во главе большой группы людей и был хорошо виден. Толпа громко приветствовала его и поздравляла с освобождением. Когда появился Иисус, многие прочли надписи на табличке и были крайне раздражены его притязанием на царскую власть. Но они не могли знать, было ли это притязание самого Иисуса, или здесь таилось что-то иное — может быть, просто наглая издевка римлян. Иисус казался более огромным, чем когда-либо, — человек, похожий на спокойного, невозмутимого буйвола, весь в крови, с неимоверно тяжелой ношей на спине. Тот факт, что люди никогда прежде не видели подобного креста (обычная процедура, как я уже говорил, предполагала наличие съемной перекладины), вызвал в них благоговейный страх и замешательство. Мгновение стояла полная тишина, затем над толпой вдруг послышались рыдания женщин. Некоторые шепотом говорили, что одна из этих женщин — статная, державшаяся с благородным достоинством — мать преступника. Поднялся гул сочувствующих голосов, и командир отряда, совершавшего распятия, почувствовал, как его охватывает озноб. Несмотря на свой сравнительно небольшой опыт, он хорошо знал, что подобный сдержанный ропот таил в себе угрозу бо́льшую, нежели любые выкрики, проклятия и камни, летящие из толпы. Именно это нервозное состояние заставило его слегка задеть Иисуса сбоку плетью. Тот повернулся всем телом (крест описал в воздухе огромную дугу) и с сожалением посмотрел на командира отряда.
— Ну иди же, — произнес командир почти умоляюще. — Мне это нравится ничуть не больше, чем тебе.
Иисус обернулся к толпе и заговорил своим громким, звенящим голосом, обращаясь к женщинам Иерусалима:
— Дщери иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших; ибо приходят дни, в которые скажут: «Блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие!» Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас!» и холмам: «Покройте нас!» Ибо, если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?[129]
Слова очень загадочные и, по-видимому, относившиеся не к событиям происходящим, но к событиям грядущим, а потому внушавшие еще больший страх. Страх этот усиливался неосознанным, каким-то почти животным чувством беспокойства, которое в это время многие начали испытывать, заметив, что ветер изменил направление и небо затягивали тяжелые серые тучи.
Нервным движением командир подтолкнул Иисуса рукояткой плети. Как раз в этот момент — не из-за слабости и головокружения, но споткнувшись о большой камень, оказавшийся у него под ногами, — Иисус едва не свалился вместе с крестом на землю. И тогда над толпой зазвенел прерывающийся голос какого-то человека:
— Римское правление?! Римское правосудие?! Я плюю на ваше римское правосудие!
У командира отряда начали сдавать нервы:
— Кто это сказал? Кто? Где он?
— Там, господин. Вон тот.
Двое солдат из оцепления схватили этого человека. Он оказался тщедушным и уже немолодым, но все же держался бесстрашно и плевался по-настоящему. Один из легионеров сказал ему:
— Хочешь попробовать, что это такое, да? Ну, давай, возьми у него крест, попробуй!
Нелепая сцена, когда этот человек пытался принять крест у Иисуса и тут же терял равновесие от непосильной ноши и падал на землю, только усилила то непонятное, противоречивое чувство, охватившее толпу, которое никоим образом не могли бы выразить ни камни, летящие в римлян, ни крики протеста против их произвола. Каким бы ни было совершавшееся теперь зло, оно было слишком велико и всеобъемлюще, чтобы мятеж зелотов мог остановить его.
Когда человек этот в третий раз не смог удержать крест, рухнув вместе с ним на землю, Иисус осторожно поднял несчастного и спросил:
— Как тебя зовут?
— Симон. Только что из Киринеи… на Пасху… Никогда не думал, что мне… придется это делать.
— Прими же мое благословение, Симон, если пожелаешь. Не давай волю гневу. Прощай врагов своих.
Эти слова Иисуса придали новые оттенки и новую силу бушевавшим в толпе эмоциям, настолько сильным и противоречивым, что они уже готовы были выплеснуться наружу. Толпа издала такой низкий и угрожающий рокот, какого никто из ветеранов римской оккупационной армии прежде не слышал. В этот момент солдат, бивший в барабан, швырнул его на землю и выкрикнул на латыни с сильным иберийским акцентом:
— Больше не буду! Бейте меня, повесьте меня, но больше никогда не буду в этом участвовать!
Потом он истошно взвыл и, когда его уводили, продолжал истерически выкрикивать что-то нечленораздельное. Властным голосом Иисус обратился к толпе:
— Пусть события идут к своему концу. Ничего не предпринимайте. И прежде всего прощайте, как прощает Отец ваш Небесный.
Итак, по пути к Голгофе за Иисусом и встревоженными легионерами следовала почти безмолвная толпа. Туда уже было стянуто большое число вооруженных отрядов, так как до гарнизона быстро дошли известия о том, что народ ведет себя слишком неспокойно. Поэтому никому не было разрешено проходить за оцепление далее чем на четверть расстояния до места казни. Исключение, конечно, составляли главные участники последнего акта этой трагедии.
Друзей Вараввы, которые издавали громкие жалобные крики, в это время уже закрепляли на перекладинах. Способ же, которым это проделывалось, заключался в следующем. Их повалили на землю и, пока пара рослых солдат удерживала несчастных в непристойной позе статуи Марса Наблюдаемого, привязали руки к перекладинам. Затем сквозь запястья обеих их рук вогнали по гвоздю, что сопровождалось легким похрустыванием костей и обильным кровотечением, после чего оба могли считаться вполне и хорошо полураспятыми. Потом их заставили подняться на ноги, и они с пронзительными криками, пошатываясь, ослепшие от боли, подгоняемые плетьми, проковыляли к столбам, которые были похожи на торчавшие из земли голые деревья. Там им пришлось по очереди взбираться вверх по лестнице (лестница была только одна), которую попеременно приставили к каждому из столбов. Затем, при содействии специализировавшихся на распятиях палачей, казнимые должны были повернуться к столбам спиной. Им пришлось еще выдержать и тот момент, когда перекладина вставлялась в глубокий паз, пропиленный в верхней части столба, — в это время преступники оставались висеть с распростертыми руками. Кровь стекала с каждого их пальца. Потом лестницу убрали.
Теперь наступал последний этап этой процедуры, который требовал от палачей большего мастерства и был более трудным, чем могут представить себе люди несведущие. Одна нога преступника укладывалась на другую, и обе они прибивались одним гвоздем (один палач удерживал ноги, другой вколачивал гвоздь) к специальному клиновидному выступу, который был частью столба. Гвоздь, как вы понимаете, был необычайной длины. Для настоящего мастера двух уверенных ударов молотка было бы вполне достаточно. Но человек, удерживавший ноги преступника в положении одна над другой и, естественно, опасавшийся, что гвоздь может пройти только сквозь одну ногу или сквозь его собственные руки, иногда непосредственно перед ударом невольно отпускал ноги, и тогда они раздвигались и повисали, судорожно дергаясь. С Иовавом и Арамом все прошло гладко. Крики их были душераздирающими, но палачи свое дело знали.
Нет необходимости напоминать читателю, что оба преступника были полностью обнажены. Из бревна под промежностью каждого торчал колышек (он вбивался в столб, чтобы удержать тело от провисания), и это создавало иллюзию того, что у Иовава с Арамом по два фаллоса. Подобная картина обычно вызывала у палачей усмешку, но на сей раз эта небольшая непристойность их не забавляла. Им не нравилось, какая стояла погода. Судя по сгустившимся тучам, вот-вот должен был начаться ливень, а при дожде процедура распятия была не из приятных.
Поднимаясь в гору, Иисус ускорил шаг, как это иногда делает путник с тяжелой поклажей, завидев свой дом. Чтобы не отстать от Иисуса, сопровождавшим его легионерам пришлось сделать то же самое. Они запыхались сильнее, чем он. А Иисус на вершине горы сбросил крест и с жалостью посмотрел на двоих людей, которые уже висели на крестах и стонали от боли.
Иногда смерть наступала совсем быстро, иногда несколько медленнее. Часто причиной смерти была не столько потеря крови или изнурение, сколько недостаточное поступление воздуха в легкие, поскольку напряженная, неестественная поза делала нормальное дыхание невозможным.
Уже были видны мухи, с жужжанием слетавшиеся на раны умиравших людей, — счастливые Божьи создания, занятые своей обычной работой, которым не было никакого дела ни до людской злобы, ни до мучительных попыток человека найти путь к какому-то приемлемому общественному и нравственному устройству.
Между крестами, на которых висели двое несчастных, Иисус увидел в земле глубокую, выложенную кирпичами щель, в которую должно было быть вставлено основание его собственного креста. Он посмотрел вниз: у подножия горы стояла большая безмолвная толпа — в ней Иисус ясно различил свою мать и стоявшего рядом с нею старого пекаря Иофама. Казалось, что тот качает головой, словно порицая Иисуса за его упрямое стремление до самого конца показывать себя на людях не с лучшей стороны.
Иисус устало улыбнулся. Старший палач заметил:
— Это новый способ. Чья-то блестящая выдумка. Только я не уверен, что этот способ хорош. И все же мы должны попробовать.
— Итак, начнем, — сказал Иисус:
— Хорошо. Что-то погода мне не нравится.
Иисус начал с того, что сбросил свое цельнотканое одеяние, которое начальник отряда подобрал и повесил себе на плечо. Римляне смотрели на огромное тело с благоговейным страхом, пораженные ростом Иисуса, шириной его плеч, превосходно развитой мускулатурой, прекрасной кожей, оскверненной многочисленными свежими рубцами — следами тяжелого бича. Один из них невольно покачал головой, словно сожалея: «Напрасно, напрасно».
— Так? — спросил Иисус и лег на крест, как на кровать, — ноги вместе, руки распростерты.
— Это поможет, — сказал старший палач на плохом арамейском (он выглядел измотанным — возможно, из-за давно просроченного отпуска на родину). — Если сумеешь сохранить это положение, мы можем закрепить опору для ног прямо сейчас. Вообще-то слишком много возни. Но это действительно поможет.
Опору прибили быстро, и старший палач, глядя на Иисуса и словно ожидая его одобрения, произнес:
— Теперь мы могли бы приступить к ногам.
Сквозь обе ноги в подставку был вбит огромный гвоздь. Почувствовав мучительную боль, Иисус пронзительно вскрикнул. Невольно опустив глаза, он увидел, как из раны хлынула кровь, и сказал:
— Я не хотел кричать. Я хотел…
Здесь он потерял сознание, но почти тотчас же пришел в себя.
— О, все так кричат, — сказал старший палач. — Говорят, такова человеческая природа. И я бы закричал, если бы со мной такое проделали. Теперь, если ты сможешь удержать руки там, где они находятся, и постараешься их не сдвигать, веревка нам не понадобится. Гвозди-то мы забьем быстренько, это точно. Скоро все это закончится, обещаю тебе.
Распрямленные запястья были прибиты, пальцы судорожно дернулись и, словно стремясь к покою, потянулись к гвоздям.
— Деревянного колышка нет, — заметил помощник палача. — Мне совсем не нравится этот новый способ.
— Ну провиснет так провиснет, — ответил его начальник. — Теперь начинается самое трудное.
Он подождал, пока к подставке для ног прибивали титул, потом скомандовал:
— Веревки!
Чтобы установить крест в приготовленное в земле углубление, потребовалось десять человек. Подножие креста придвинули к углублению, над которым оно теперь нависало, чтобы потом, когда всему сооружению будут придавать вертикальное положение, крест соскользнул бы в щель, упершись в кирпичное дно, и после некоторого дрожания установился бы вертикально, колеблемый только ветром (а в это время и в самом деле дул сильный ветер). Вся трудность состояла в том, что кресту нужно было придать вертикальное положение, поднимая его с помощью веревок. На концы перекладины были накинуты петли — по одной веревке на один конец, а каждую веревку, обливаясь потом и бормоча проклятия, тянули пять человек. И как только подножие креста вошло в углубление, работу можно было считать выполненной.
Большое исхлестанное тело Иисуса (на его голове так и осталась эта корона из терновника, которую никто не догадался снять) обвисло, истекая кровью. Мастера своего дела, потирая руки, с гордостью посмотрели вверх. Но старший палач сказал:
— Нехороший это способ. Старый лучше.
ТРЕТЬЕ
Арам умер быстро. Возможно, смерть наступила в результате сердечного приступа. Иовав же оставался в живых достаточно долго, и у него успело пропасть желание принадлежать к партии зелотов.
— Ты… ты виноват в том, что мы оказались здесь, ублюдок, — выдохнул перед смертью Арам. — Царь, да? Сын Божий? Себя спаси. И спаси нас в то же время.
— Вы спасены, — ответил Иисус, — но не так, как это происходит в мире.
Иовав сказал:
— Что ты сделал плохого? Я не могу сказать, что ты делал что-то неправильно. Не забывай про меня, позаботься обо мне. Я не такой плохой. Я работал для Царства. Некоторым образом.
— Ты будешь со мной, — ответил Иисус.
Арам издал хриплый горловой звук, и голова его безжизненно поникла.
— Скончался, — произнес Иовав. — Бедняга! Сделал все, что было в его силах.
У легионеров, которые составляли внутреннее оцепление вокруг крестов, смерть Арама особого интереса не вызвала.
— Одним стало меньше, — заметил Кварт.
Они играли в кости на цельнотканое одеяние Иисуса, которое презрительно швырнул им командир, — он ушел, чтобы приискать какую-нибудь винную лавку и подходящее место для отдыха.
— Дорогие мои детки, — заговорил Кварт нарочито дрожащим, старческим голосом, — я получил это одеяние, когда служил императору в Палестине. Оно принадлежало еврейскому царю. Очень был большой человек. Очень высокий.
Они посмотрели вверх, задрав головы. Им показалось, что Иисус глухо произнес какое-то слово.
— Ничего не понимаю, — сказал Руфон. — Бормочет что-то по-гречески. Говорит, пить хочет, или что?
— Дай ему того вина, — сказал Метелл.
— Да оно уже почти превратилось в уксус.
— Он ничего не чувствует. Обмакни что-нибудь в вино и подай ему на острие копья.
— Смочи это цельнотканое одеяние, или как там его называют.
— Ну уж нет, — не согласился Кварт. — Оно особенное. Их жрецы такие носят. Несколько монет стоит. Вещь дорогая.
— У меня есть подозрение насчет этих твоих костей, — произнес Метелл. — Я бы сказал, что они у тебя утяжеленные.
Кварт пожал плечами. Руфон вздохнул, смочил окровавленную одежду, опустив ее в кувшин с вином, затем свернул, нанизал на копье и, привстав на носки, попытался поднести сверток, с которого падали капли, ко рту Иисуса, но тот отвернулся.
— Ты уж прости, приятель, но это все, что у нас есть, — сказал Руфон.
Иисус снова что-то произнес.
— Что он говорит-то?
— Все бормочет: «Или, Или»[130]. А может, еще что. Сперва вроде на одном языке, потом на другом. Ну почему они не могут говорить на нормальной латыни, как мы?
Зара, Аггей и Аввакум, чье положение давало им доступ к месту казни, стояли рядом, поскольку умирающему еврею теоретически предоставлялось право отойти в мир иной под звуки молитвы. Они услышали слова Иисуса, но Аггей истолковал их неверно:
— Он звал Илию. Просил Илию спасти его.
— Нет, — не согласился Зара. — Он цитировал псалом. Спрашивал Бога, почему он покинул его. — Затем уже более мягко: — Писание у него всегда на устах.
— И всегда богохульство, — добавил Аввакум. Затем спросил у Иисуса: — Если ты тот, за кого себя выдаешь, да простит тебя Бог, почему ты не сойдешь с креста?
— Это неуместный вопрос, — упрекнул его Зара, потом задумчиво произнес: — Он спасал других. Сам он спастись не может.
— Так гибнут все богохульники, — подытожил Аггей.
Они услышали, как Иисус говорил что-то о своем Отце Небесном, который прощает невинных.
— Думаю, теперь это недолго продлится, — заметил Зара. — Ему тяжело дышать. Он надеется, что Бог простит его. Увы, одной надежды всегда мало. Пойдемте отсюда.
Когда Мария, мать Иисуса, с Марией Магдалиной и Саломеей попытались пройти через внутреннее оцепление, им это не удалось. Их остановил декурион:
— Прости, госпожа, вам придется посторониться. Женщины сюда не допускаются.
— Я его мать. Пропустите меня.
— Может ли это кто-нибудь подтвердить?
Именно теперь Саломея, хотя и облаченная в грязно-серую одежду, представила доказательство часто отвергаемой теории, что царская кровь обязательно себя проявит и что властность имеет природный и врожденный характер. Вспыхнув и глядя так, как может глядеть только та, в чьих жилах течет кровь Ирода Великого, она произнесла:
— Прекрати говорить чепуху! Я — дочь тетрарха Филиппа и приемная дочь царя Галилеи. Немедленно пропусти нас!
— Хорошо, госпожа…
— Принцесса, ты хотел сказать. Посторонись!
Однако другой младший командир заметил издали Марию Магдалину и, подойдя, закричал на нее:
— Эй, ты, прочь отсюда! Я тебя знаю. Ты она из этих еврейских продажных девок, которые приезжают сюда на Писху. Проваливай отсюда!
— Как ты смеешь?! — вскипела принцесса. — Как ты смеешь?! Она моя сестра!
— Оставь, Деций, — сказал другой легионер. — К чему нам лишние неприятности? Это принцесса из, из…
— Прости нас, госпожа! Бывает, случаются ошибки… Сейчас я вижу, что она не… Проходите, пожалуйста!
Три женщины, беспомощные и рыдающие, подошли к подножию креста. Иисус посмотрел на них, но сказать ничего не смог. Он задыхался.
Только два его ученика рискнули выйти из какого-то тайного убежища. Это были Иаков-меньший с Иоанном. По счастью, у подножия холма они встретили того самого центуриона, слугу которого когда-то исцелил Иисус. Поначалу центурион не узнал их, но, когда они, сдвинув капюшоны, открыли свои лица, офицер сразу вспомнил могучего борца. Он стал оправдываться:
— Поверьте, я не имею никакого отношения к… Мне очень стыдно. Я человек подневольный. Думаю, завтра моя служба закончится.
— Можно нам подойти к нему? — спросил Иоанн.
Теперь у креста находился человек, достаточно смелый, чтобы обнять рыдающую мать Иисуса и утешить ее. Иисус, задыхаясь, произнес:
— Мама… твой сын…
Потом, будто внутри у него что-то оборвалось, он издал мучительный крик. Это, казалось, был знак, которого ждали небеса. Пошел дождь, и над отдаленными холмами загрохотал гром.
— Итак, начинается, — пробормотал Иовав и умер.
Дождь лил сплошным потоком. В агонии Иисус напряг свои прибитые запястья, и послышался легкий скрип отщепляемого дерева. Он не смог полностью освободить руки и с трудом произнес:
— Отец, в Твои руки… передаю свою душу. Все кончено.
Затем голова его безжизненно опустилась, и стало ясно, что он мертв.
Среди множества преданий, относящихся к этому моменту, немного найдется таких, в которые разумный человек захотел бы поверить. Как бы то ни было, дождь, раскаты грома и сверкание молний усиливались, окончание долгой засухи наступило в должное время, и это было всего лишь неким драматичным совпадением, на которое, к сожалению, способна природа: смерть человека и омовение благодарной земли слились воедино, став пустяковым примером причинно-следственной связи. Не было ни землетрясений, ни крушения построек, но завеса в Храме разорвалась — это несомненно. Как утверждают, один старый священник, пораженный явлением ангела, лишился дара речи и, почувствовав неизбежную слабость и пытаясь найти опору, ухватился за завесу, отделявшую место для прихожан от Святая святых. Падая, он разорвал ее. Позднее, когда священник был в состоянии говорить, он рассказал, будто ему явился архангел Гавриил, передавший, что престарелая жена священника родит сына, который должен стать светильником Израиля. Свидетельств того, что это пророчество исполнилось, не обнаружено.
Предание, которое я стесняюсь записывать (хотя в некотором смысле я уже предвосхитил его содержание), касается Марии, матери Иисуса, и его любимого ученика, Иоанна. Говорят, горе матери было столь велико, что Иоанн настоял на том, чтобы отвести ее в безлюдный Гефсиманский сад, где утешал Марию всю ночь (которая была душной, несмотря на прошедший ливень) в летнем домике под журчание фонтана, в котором тогда снова появилась вода. Историю эту распространили ненавистники веры, но все же горько сознавать, что правдивость ее не подвергают сомнению и многие верующие.
И наконец, в этом отчете о том, что было после смерти Иисуса, я должен истолковать, принимая ее за вероятную, странную легенду о том, как во время распятия ему будто бы пронзили копьем грудную клетку и из раны потекли кровь и вода. Я полагаю, что это был туманный и робкий — неявный, так сказать, — способ через символ копья описать эрекцию фаллоса того, кто только что испустил дух, и в двух истекавших жидкостях таилась загадка третьей. Он был не только Сыном Бога, но и Сыном Человеческим, как сам часто повторял.
ЧЕТВЕРТОЕ
Пилат смотрел на дождь, когда вошедший секретарь сказал, что с ним хочет встретиться первосвященник Каиафа, дожидающийся его в приемной.
— Он не побоялся осквернить себя?
— Наоборот, господин. Он, кажется, горит желанием поговорить с тобой.
— Проводи его ко мне.
Кивком головы секретарь пригласил Каиафу. Пилат небрежно кивнул ему. Каиафа поклонился подчеркнуто почтительно.
— О великий, — начал Каиафа, усаживаясь на предложенный стул, — я пришел, чтобы передать тебе благодарность от Синедриона. Благодарность за твое… сотрудничество.
— Я не сотрудничал, святой отец. Я смыл, в буквальном смысле, все это дело со своих рук. Теперь мне жаль, что я не проявил меньшей рассудительности и большего мужества.
Каиафа с пристальным вниманием выслушал слова Пилата, сказанные на невыразительном арамейском, затем ответил на какой-то изощренной латыни, уснащая свою речь излишествами вроде «несколько», «понемножку», «чуть-чуть», «слегка» и тому подобными оборотами.
— Ты говоришь с прямотой, достойной одобрения, — сказал Каиафа. — Но тебе, как и мне, известно, что обязанности мирского правителя несколько отличны от обязанностей первосвященника. Мы не допущены в ту сферу, где требуется препятствовать скрытым и незаметным или внезапным и потрясающим попыткам подрыва существующего порядка. Вся моя жизнь — благоразумие и осторожность. Мужество? Это поощрение хаоса. Я оставляю мужество людям, подобным этому распятому.
— Скажи мне, — спросил Пилат, — этого человека ты осудил или это было всего лишь проявлением твоего благоразумия, когда ты столкнулся с ненавистью и фанатизмом?
— Этот вопрос кажется мне несколько прямолинейным. Другие священники признали — и, полагаю, абсолютно справедливо, — что существует угроза общепринятой вере. Мое мнение всегда в той или иной степени заключалось в том, что, если ортодоксальная вера достаточно крепка, не нужно опасаться еретика, который пытается оказать влияние на народ. Но… мирская сторона существующего положения, которая…
— Ты имеешь в виду, что Рим мог бы устранить тебя и других священников и оказать покровительство религии, которая не кричит все время: «Услышь, о Израиль!»?
— Это можно и так истолковать, — согласился Каиафа. — Что касается осуждения его, то здесь я признаю свою ответственность. Но у меня был иной мотив, нежели у других священников.
— Каким бы ни был мотив, царь Израиля мертв.
— Относительно его царского происхождения — это правда. Он был из дома Давидова и по отцовской, и по материнской линиям. Мы можем теперь впасть в легкое преувеличение и говорить о жертвенном царе. Достойно, чтобы какой-то человек был принесен в жертву за грехи народа. И чем выше он по своему происхождению, тем более жертва угодна Богу.
Два-три раза вздохнув, Пилат произнес:
— Я принадлежу к грубой расе. Мы можем хорошо строить дороги и организовывать армии, но наши духовные достижения не столь велики. Философию мы оставляем рабам-грекам. Мы должны признать, что в религиозной сфере находимся далеко позади вас, евреев. Поэтому объясни мне кое-что, святой отец. Каково точное значение этого словосочетания — «Сын Божий»?
— Сын Божий, сыны Божьи… — начал Каиафа. — Поскольку всемогущий Бог — наш отец, то все мы — сыны Божьи. Но один-единственный Сын Божий… Это означало бы, что Бог — дух, абсолютный дух, породил дитя мужского пола. Это чрезвычайно искаженное представление.
— Однако вы учите, что для вашего бога нет ничего невозможного. Разве абсолютно немыслимо, что божество, которое есть дух, являет себя миру в телесной форме?
— Сиятельный, — слабо улыбнулся Каиафа, — вы, римляне, воспитаны на представлении о богах, которые спускаются на землю, принимая временные физические формы — быка, лебедя, павлина, золотого дождя…
— Ну, это уже принижение моих умственных способностей…
— Позволь мне сказать только, что если бы Бог действительно решил принять новый облик, заключив всю свою духовную сущность в теле человеческого существа, то это было бы сделано с единственной целью: чтобы Он мог принести себя в жертву самому себе, достигая таким образом абсолютного искупления человеческих грехов. Но тогда в глазах Бога человеческий грех должен быть чем-то гораздо более страшным, нежели грешник способен себе представить.
— Но что есть человеческий грех?
— О, это вовсе не нарушение законов в отношении еды или прелюбодеяние и воровство, — произнес Каиафа с некоторой горячностью. — Это некое невыразимое, возможно, даже абсолютно невольное затмение человеком блеска и великолепия Создателя. Если попытаться здесь провести слабую и несколько нелепую аналогию, это подобно тому, как если бы человек срыгнул на только что выпавший, сияющий чистотой снег, и снег бы закричал от невыносимой боли. Это, я знаю, кажется нелепым, но нелепость всегда бывает одной из сторон тайны. И здесь следует упомянуть еще об одной тайне. Если то, что я сказал, правда, тогда Бог должен любить человека любовью столь невыносимой, столь мучительной для самого Бога…
— Я всего лишь простой римлянин, — остановил его Пилат, почти зарычав.
Пока он слушал, его всего коробило от того, как Каиафа перегружал и деформировал простой и ясный язык римлян, что едва ли было бы терпимо, даже если бы исходило из уст какого-нибудь александрийского поэта из новых, — действительно, quasi nix clamet[131]. Будучи человеком Запада, он испытывал чувство разумного недоверия к витиеватой восточной манере выражать мысли.
— Если все это так или, возможно, было так, мы можем сказать, что жертва эта принесена, а о тебе можно говорить как о посреднике при ее принесении.
— Это не так, — возразил Каиафа, — и Писание не дает мне права строить догадки относительно того, что я представил тебе как умозрительное, всего лишь умозрительное понятие. Мессия еврейского народа… Это совсем иное понятие. И время Мессии еще не пришло.
— Но идолопоклонник, не еврей, или…
— Язычник?
— Но вправе ли язычник считать, что это понятие немыслимое?
— Язычник может считать так, как пожелает. Я уже отнял у тебя слишком много времени, сиятельный. Я пришел с простой просьбой. Сегодня у нас Пятница, или dies Veneris[132], — день любви, волнующий день, а после захода солнца начинается день отдохновения. В праздник Пасхи Суббота считается особо знаменательным и святым днем. Членам Совета кажется несколько неуместным и непристойным то, что тела этих трех евреев на холме будут продолжать омрачать святые для нас дни. Мы просим разрешения убрать тела.
— Ты можешь поговорить с моим помощником, когда будешь уходить. Он уладит это дело. А как поступят с телами?
— Зелотов похоронят зелоты. А что касается третьего, то имеется новый участок для захоронения чужеземцев. Там уже лежит какой-то безымянный самоубийца. К нему присоединится самоубийца, имя которого известно.
— Самоубийца? Ты считаешь Иисуса самоубийцей?
— Может быть, я употребил это слово с некоей легкомысленной безответственностью. Но он ведь сам выбрал смерть, не так ли?
Пилат оставил вопрос без ответа, потом сказал:
— Для другого могила уже приготовлена. Ко мне приходил один выдающийся представитель вашей расы и веры — приходил не к тебе, заметь, — который был очень озабочен тем, чтобы телом царя иудеев распорядились подобающим образом. Он приходил ко мне. И тем показал свое мужество… или проницательность.
— Кто это был?
— О, он пожелал, чтобы имя его осталось неизвестным. Я, римлянин, защищаю еврея от его единоверцев! Это трещина, обещание раскола! Если бы я был на твоем месте, я бы несколько опасался за свое будущее.
— Я просто хотел узнать место, где находится могила. Были разговоры, сиятельный, будто бы этот Иисус восстанет из могилы. Он утверждал, что разрушит Храм, а затем восстановит его за три дня. Некоторые подумали, что это может оказаться лишь простой аллегорией. Теперь предсказание подобного рода для людей суеверных может стать весьма убедительным. Существует общее опасение, что его последователи могут тайно перенести и спрятать тело, утверждая затем, что видели, как он воскрес. Можно ли сделать так, чтобы могила охранялась?
— Нет ничего, что мешало бы вам охранять ее.
— Нам нужна незаинтересованная охрана. Если охрана будет состоять из наших людей, ученики этого Иисуса будут утверждать, что он действительно воскрес и что враги его отрицают это. Поэтому я был бы очень признателен…
— Хорошо. Будет выставлена римская охрана. — Голос Пилата стал хриплым. — При всем к тебе уважении, святой отец, позволь спросить: что вы за народ такой? Сначала, перед его смертью, вы потираете от удовольствия руки, а теперь свидетельство его смерти оскорбляет вашу болезненную чувств…
За несколько минут до этого вошел секретарь с донесением, написанным на восковой табличке. Во время разговора Пилат прочел его. Теперь он посмотрел на Каиафу с мрачной усмешкой.
— Иисус Варавва, преступник, освобожденный мною из милосердия. Он не замедлил возобновить свою преступную деятельность и уже успел убить римского центуриона. Теперь его ожидает распятие. Прощай, святой отец.
Каиафа несколько неловко поклонился и вышел.
ПЯТОЕ
— Меня зовут Иосиф, — сказал человек. — Имя, которое тебе хорошо знакомо, уважаемая госпожа, благослови тебя Господь. Моя семья происходит из Аримафеи, но мы всегда хотели быть похоронены в святом городе. У нас здесь большой склеп, и он в твоем распоряжении. Печальное время. Но мы не должны рыдать, нет, мы должны делать то, что необходимо. Надежный склеп, очень вместительный, вырублен в скале. Нам нужно найти носилки или повозку, чтобы перенести его туда. Я принесу повязки, масла и мази. Он будет набальзамирован так, как приличествует его, его…
— У меня с собой миро, — сказала Мария Магдалина, показывая на бывший при ней сосуд. — Я использовала часть его для…
— Ты его родственница? — спросил Иосиф из Аримафеи.
— Я женщина, чьим занятием была продажа собственного тела, — сдержанно ответила Мария. — Драгоценное миро я купила на полученные за это деньги. Ты не оскорблен?
— Я абсолютно уверен, что это не оскорбляет его, — ответил Иосиф, слегка усмехнувшись.
Дождь прекратился, и от земли и трав, даже на Голгофе, исходил приятный запах. На исходе дня небо было голубым, но по нему плыли большие белые, как снег, облака. Истерзанные, исхлестанные тела представляли собой ужасающее зрелище. Хотя всегда возникали некоторые затруднения с гвоздем, которым были прибиты ноги распятого, товарищей Иисуса по несчастью сняли с крестов без особых хлопот. Практика разрезания ног ножом, чтобы легче было вынуть гвоздь, осуждалась как дело недостойное. Тела двух несчастных были унесены, сопровождаемые рыданиями их родственниц и патриотов. Чтобы снять с креста Иисуса, потребовалось много времени, и некоторые из представителей традиционной веры опасались, что до захода солнца[133] эта процедура не будет закончена. То, что он, даже умирая, прилагал отчаянные усилия, чтобы освободить руки, впоследствии сравнительно упростило задачу людей, снимавших его с креста. Но для этого они, стоя на лестнице, должны были с помощью прочной веревки удерживать тело в вертикальном положении. Три человека поочередно пытались выдернуть гвоздь, которым были прибиты ноги Иисуса. Выполняя свою работу, эти люди сильно устали и даже сломали несколько железных инструментов. Мария, мать Иисуса, отвернулась, стараясь не видеть эту сопровождавшуюся ручьями пота и проклятиями процедуру. Услышав негромкий, но отчетливый звук упавшего на землю тела, она вскрикнула. Опустить тело, даже используя силу мускулов Иакова-меньшего (римляне, хотя и неохотно, начинали относиться с уважением к этим сильным евреям), в отсутствие подмостков и блоков, оказалось задачей не из легких. И когда огромному, испещренному полосами запекшейся крови телу позволили свалиться на землю, Иаков с Иоанном согласились, что это не было проявлением неуважения к покойному. Затем уложенное на подстилку тело перенесли к подножию холма, где их ждала повозка с запряженным в нее быком. Ее предоставил Иосиф из Аримафеи, чтобы тело можно было доставить к усыпальнице, где покоились члены его семьи.
У вырубленного в скале склепа двое учеников Иисуса и женщины с удивлением обнаружили уже ожидавших там троих священников. Здесь же находился взвод римской пехоты со старшим и младшим командирами — очевидно, чтобы проследить за процедурой погребения. В тот момент, когда уводили быка с повозкой, Иосиф из Аримафеи благоразумно исчез, но прислал вместо себя слугу, который принес бинты и масла. Тело Иисуса, обернутое пеленами, от которых исходил запах благовоний, теперь готово было к погребению. Однако камень, установленный у входа в склеп вместо двери, был огромного размера, и римляне ворчали, что двигать камни — не их обязанность. Но Зара, который, конечно, оказался в числе бывших там священников, заплатил римлянам из своих денег, и громадный камень с большим трудом, при содействии римлян, отодвинули в сторону. Тело Иисуса внесли в склеп, после чего камень с не меньшими трудностями был возвращен на прежнее место. Зара сказал:
— Ну вот, теперь, я думаю, мы можем сказать, что все кончено.
— Вы можете сказать, — язвительно отозвался Иаков-меньший.
— А у вас на уме, наверное, какое-нибудь глупое надувательство. Знайте же, что склеп будет охраняться некоторое время этими людьми, так что возможность обмана исключена, а я и другие священники этой и завтрашней ночью будем находиться здесь. Повторяю еще раз: все кончено.
После этого женщины возвратились в ночлежный дом, а Иаков-меньший с Иоанном отправились в долгий путь к тому месту (сразу за Иерусалимом, у дороги на Вифлеем), где затаились, выжидая, остальные ученики Иисуса — позорно, как говорили многие, или с подобающим благоразумием, как считали другие. Гефсиманский сад все еще был в их распоряжении, но ни один из них (припомните, что я говорил несколькими страницами ранее) не имел желания туда возвращаться. Добрый Никодим сознавал, что место доброты и отдохновения стало теперь для них мрачным и опасным, каким оно стало и для него самого — местом предательства и насилия. Он предложил им взамен, в качестве неплохого временного жилья, свою обветшалую ферму, которую ранее пытался продать.
Когда наступила суббота, девять учеников сидели за ужином, с мрачным видом глодая бараньи кости. Они были обеспокоены тем, что Иаков-меньший и Иоанн до сих пор не появились; и теперь все сидевшие за столом, казалось, едва переносили само присутствие друг друга. Фаддей рассеянно наигрывал на флейте какую-то мелодию. Матфей проворчал:
— Перестань, пожалуйста.
— Извини, — отозвался Фаддей, вытряхивая из флейты слюну. — Это была мелодия, которую я играл на похоронах девочки, когда он… ну, ты сам знаешь. Кстати, игра на флейте в субботу не запрещена. Игра — не работа.
— Вопрос в том, что нам делать, — ответил Матфей.
— Только один день, — сказал Варфоломей. — Мы не должны ничего делать до окончания субботы.
— Он имеет в виду, — заговорил Иаков, — что нам делать, если это окажется неправдой. Если он не…
— Он воскреснет, воскреснет! — прорычал Петр. — Разве вы позабыли, как следует верить?
— Мы все должны были пойти туда, — сказал Симон. — Мы не должны были оставлять это дело на Иоанна с Иаковом. Меня удивляет другой Иаков. Я думал, что вы станете… ведь два Иакова были почти одно целое. От тебя же многого не требовалось. А когда дело дошло до того… чтобы совершить что-то серьезное…
— Я был болен, — угрюмо ответил Иаков. — Вы меня видели. Все произошло в одно и то же время. У меня в желудке язвы. Проклятье! Вы же сами видели, в каком я был состоянии! Совсем не мог передвигаться.
— Им уже пора возвратиться, — заметил Фома. — Судя по всему, их, должно быть…
— Нам бы уже стало известно, — сказал Петр. — Даже здесь. Возможно, одна из женщин…
— Женщины не прятались, правда? — произнес Филипп. — Женщины остались.
— Так сочини об этом песню, — грубо бросил Матфей. — Нашим главным словом было «благоразумие». Сохранение благой вести. Всегда можно найти оправдание трусости. Я иду в город сейчас же. Кто со мной?
— В субботу путешествия возбраняются, — заметил Фаддей.
— Прежде нас это не беспокоило, — возразил ему Андрей.
— Это достаточно справедливо, однако, — размышлял Матфей. — Что нас подобрал один из стражей веры. Принял нас… за что-то.
— Теперь он уже погребен, — сказал Петр. — Обязательно должен быть погребен. Где-то. Бог знает где.
Андрей откашлялся и произнес:
— Мы поступили плохо.
— Я поступил плохо, — простонал Петр. — Помоги мне, Господи! Прости меня за…
— О, довольно об этом! — резко оборвал его Фома. — Сколько можно об одном и том же?!
— Мы все виноваты, — сказал Варфоломей, — но он знал, как мы себя поведем, знал, с самого начала знал.
— Я думаю, все, что мы должны делать, это ждать указаний, — предложил Филипп. — То есть ждать до воскресенья. В субботу ничего предпринимать не следует.
— Ну где же эти двое?! — воскликнул Петр. — Что там с ними могло случиться?
Иоанн и Иаков-меньший, очень усталые, вернулись незадолго до полуночи. Были объятия, слезы, благодарственные молитвы, а потом они рассказали, как все происходило. Остальные слушали с пристальным вниманием. Иоанн спросил:
— Что у нас на ужин? Мы умираем с голоду.
— Вода. Немного черствого хлеба, — ответил другой Иаков.
— Поблизости бродят две тощих курицы, — сказал Иаков-меньший. — Я вижу, тут есть старый ржавый котелок. Почему бы нам не приготовить тушеную курятину?
— Суббота. Закон Моисея, — остановил его Петр.
Здесь Иоанн заговорил своим громовым голосом, который всегда так плохо сочетался с его крепкой, но казавшейся хрупкой фигурой:
— Проклятье! Вы что, так скоро все забыли?! Суббота для человека, а не человек для субботы! Неужели среди вас нет ни одного мужественного человека?! Какими христианами вы станете — теперь, когда его больше не будет рядом с вами?!
— Что это за слово ты сейчас произнес? — спросил Варфоломей. — По звучанию похоже на латинское.
— Само собой вырвалось, — ответил Иоанн. — Должны же мы как-то называться. Так кто свернет этим курицам шеи?
— С этим делом хорошо справляется Матфей, а я сварю их, — предложил другой Иаков.
Теперь они начали осознавать, что обстоятельства действительно изменились. Фома, разгрызая мягкий конец косточки, сказал:
— Выходит, придется нам привыкать, друзья. Действовать без подсказки. Смешно, но этот ужин можно было бы назвать началом нового пути, которым мы пойдем.
— Пока мы не можем считать, что он нас покинул, — заметил Иаков-меньший. — Сами увидите.
— Да, сперва я должен увидеть, — сказал Фома. — Пока не увижу — не поверю.
ШЕСТОЕ
Петухи громко возвестили начало воскресенья, или дня Йом Ришон. Петр их криков будто не слышал. Казалось, что после субботы, греховно проведенной ими за сбором хвороста, стиркой одежды и приготовлением ужина из тощей курицы, все были готовы бросить вызов прошлому. Как заявил Фаддей (которого они вообще-то не считали выдающимся мыслителем), глупо было говорить, что новый день начинается на закате. День в это время заканчивается. Начинается день на рассвете. Петухи громко прокричали о наступлении воскресенья. Кто должен пойти к гробнице в скале? Никто не горел желанием идти туда, никто не хотел оказаться разочарованным. В конце концов в Иерусалим снова отправились Иоанн и Иаков-меньший. Придя к склепу, они увидели там мать Иисуса и Марию Магдалину. Здесь же был Зара с двумя другими священниками (которых, как мы знаем, звали Аггей и Аввакум). У входа в склеп стояли римские стражники. Мария Магдалина, надеясь на помощь двоих последователей Иисуса, христиан, сказала:
— Мы просили их, умоляли, но они говорят «нет».
— Кто это здесь говорит «нет»? — язвительно спросил Иаков. Затем, обращаясь к Заре: — Уж не обмана ли вы боитесь?
— Когда человек погребен, его больше не тревожат, — отвечал Зара. — После смерти его оставляют покоиться с миром. Таков обычай.
— Разве это также и закон? — громко спросил Иоанн. — Разве мать умершего не имеет права сказать последнее «прощай»?
— Да здесь и оставить нужно кое-что — пряности, душистые травы, — сказала Мария Магдалина. — Видите, они у меня с собой.
— Послушайте, — сказал командир стражи, — у вас было достаточно времени сделать все это раньше.
— Тогда было то, что известно как Суббота — день отдохновения, — сказал Иаков-меньший. — Вы ведь слышали об этом? Суббота. Когда людям запрещается покупать и продавать или делать что бы то ни было, что может считаться работой.
— Однако это не дает вам никаких оснований для дерзости.
— Хорошо, постараемся быть вежливыми. Дело в том, что мы родственники покоящегося в этом склепе. Его передали римлянам для распятия эти трое господ в нарядных шапках…
— Думаю, — с угрожающим спокойствием начал Аввакум, — мы не потерпим такую…
— Ну продолжайте! — выкрикнул Иаков-меньший. — Давайте устроим еще одну видимость суда и пару распятий. Я хочу открыть склеп.
— Ты этого не сделаешь, — предупредил младший командир. — Ты знаешь, что не имеешь права этого делать.
— Вы собираетесь меня остановить?
Младший командир вопросительно посмотрел на старшего, затем оба посмотрели на Зару. Тот пожал плечами.
— Мы вам поможем, приятель, — вызвался один из стражников.
— Вы будете ждать приказа, — остановил его младший командир.
— О, давайте откроем его, — сказал старший командир. — Мы уже так много слышали об обмане. Посмотрим же, какой обман вы имели в виду.
Он снова взглянул на Зару, и тот опять пожал плечами. Огромный камень откатили в сторону с некоторыми усилиями, но уже без проклятий. Зара сказал Иакову-меньшему:
— Есть кое-что, на что вы надеетесь, не так ли? Даже верите в это. Но теперь этому конец. Внутри вы найдете труп.
Он хотел войти в склеп первым — по праву священника. Однако Иаков-меньший преградил ему путь:
— Это не для тебя, приятель.
Он показал жестом, чтобы Мария, мать Иисуса, прошла первой, затем вошел сам. На мгновенье они зажмурились, потом снова открыли глаза, стараясь привыкнуть к темноте. Там было пусто. Не было обернутого в погребальные пелена тела. Действительно, в склепе стоял запах масла и миро, но тела не было. Пораженная Мария стояла с открытым ртом, прислушиваясь. Иаков жестами позвал Марию Магдалину с Иоанном:
— Ну, если вы сможете здесь что-то обнаружить…
— Тише! — остановила его Мария. — Голос. Мне знаком этот голос.
Она прислушалась. Иоанн покачал головой.
— Мне знаком этот голос. Послушайте. Вот что он сказал: «Глупая, почему ты ищешь живых в том месте, где покоятся мертвые? Иисус воскрес. Иди и скажи его ученикам, что он уже отправился в Галилею. Они увидят его там».
Иаков-меньший удовлетворенно кивнул, затем с улыбкой обратился к троим священникам и римлянам:
— Можете войти, если хотите. Всем добро пожаловать. Потом у нас будет неспешная беседа о надувательстве.
Некоторое время трое священников, с мертвенно-бледными лицами, не могли вымолвить ни слова. В склепе не было никого. В склепе было пусто. Ничего, кроме пряного запаха. Римляне ненадолго зашли внутрь и вышли мрачные, озадаченные и несколько напуганные. Командир произнес:
— Вы уверены? Вы абсолютно уверены? Это, должно быть, произошло в те два часа, когда меня здесь не было.
— Здесь ничего не происходило, господин, клянусь. Клянусь Геркулесом, клянусь Кастором и Поллуксом, что…
— Да, да… Что вы, конечно, всю ночь не спали и не сходили с этого места.
— Так точно, господин. Мы ведь получили строгие указания. Здесь никого не было. Клянусь Минервой, Венерой и всеми богами, господин.
— Тогда кто отодвинул камень? Должен же был кто-то его передвигать. Причем — дважды.
Все молчали.
— Мне это совсем не нравится. — Командир оглядел стражников. — А вы уверены, что кому-то из вас не вздумалось заняться игрой, чтобы скоротать время?
— Да разве мы посмели бы, господин? — сказал покрытый шрамами ветеран. — Мы ведь, как он сказал, получили указания. И эти трое еврейских жрецов все время были здесь, вместе с нами. Они-то не похожи на тех, кто стал бы играть.
— Это то, что я назвал бы необъяснимым случаем, — заключил старший командир.
— Можно тебя на два слова? — спросил Зара, жестом приглашая его отойти в сторону.
— У тебя, кажется, есть объяснение этому, господин? Хорошо, пойдем.
Зара и римлянин отошли к стоявшей поблизости смоковнице, которая была разбита молнией или еще чем-то и потому почти не давала тени.
— Полагаю, ты согласишься, — начал Зара, — что нам не нужны сплетни и слухи, которые пойдут по городу.
— Я сам не прочь немножко посудачить, господин. Но я тебя понимаю. Не дело поощрять суеверных людей.
— Вот именно. Поэтому объяснение будет только одно. Ночью пришли его последователи, отодвинули камень, унесли тело, а камень поставили на прежнее место.
— Но почему они решили вернуть на место камень, господин? Я хочу сказать, это вроде того, как будто лошадь украли, а дверь конюшни…
— Чтобы не было подозрений. Чтобы у них было время скрыться — без криков «держи!» за спиной. Ты понимаешь меня?
— Дай подумать, однако, — сказал командир, который не отличался особой сообразительностью. — Никто не приходил. Я всегда выставляю часовых с двух сторон. Нет, не пойму я что-то, ты уж прости меня, господин.
— На часовых ночью напали. В темноте. Люди, которые бесшумно к ним подкрались. Их было двенадцать, нет — одиннадцать. И люди очень сильные. Напали и оглушили.
— Ага, теперь понимаю, — задумчиво произнес командир, потирая свой подбородок, за ночь покрывшийся щетиной. — Это, однако, будет кое-чего стоить.
— Это будет много стоить. Очень, очень много. Но, полагаю, казначей Храма сможет заплатить, сколько бы это ни стоило. Конечно, показания должны быть даны под присягой и заверены подписью. Это не какая-нибудь болтовня. Должно быть и предупреждение о наказании за лжесвидетельство, и некоторые подлинные…
— Следы нападения? Ну что ж… — Командир повернулся кругом и, улыбаясь, посмотрел на учеников Иисуса. — Мы могли бы начать сразу. Небольшая драка — двое наших против тех двоих. И нам, конечно, следует их арестовать, не так ли? За нарушение римского закона и порядка. Скажем, что остальные скрылись, а этих двоих…
— Не надо слишком усложнять. Все равно они сейчас уходят. Не думаю, что у нас из-за них будут какие-то неприятности.
Римлянин и Зара наблюдали за уходом четверых человек. Они шли смущенные, в изумлении, которое совсем скоро должно было смениться радостью и весельем.
— Мы все обязаны выполнять свой долг, господин. И я считаю, что защита народа от ужасных последствий разнузданного суеверия — это чрезвычайно важная и почетная обязанность, господин, — изрек римлянин, стоя по стойке «смирно».
— Прекрасно. Итак, следует ли нам поговорить с твоими людьми?
СЕДЬМОЕ
— Всадники? — спросил Петр. — Ну вот, наконец-то они и добрались до нас. Что будем делать? Сдадимся или будем драться? Ах, да что тратить силы попусту!
— На одной из лошадей — женщина, — приглядываясь, произнес Фаддей. — Нет, это девочка. Погодите, да не та ли это девочка, что…
Подъехало восемь мужчин и восемь женщин. Четверо мужчин помогли девочке спешиться. На ней был красный плащ, волосы распущены. Все, кроме нее, равнодушно взирали на беспорядок деревенского двора — на неубранный навоз, на одинокого петуха, хриплые крики которого были не более чем пародией на петушиное пение (Петр теперь его словно не замечал), на гниющие доски, когда-то приготовленные для ограды, так и не построенной, на сорную траву и разбросанные повсюду кости, мусор.
— Думаю, вы меня знаете, — сказала девочка, войдя в дом. — Я была среди женщин, которые следовали за ним. Теперь меня забирают обратно. Но и я беру с собой его слово, его благую весть.
— Мы никогда не были хорошо знакомы с тобой, — сказал Петр. — Вы все держались на расстоянии. Женщины отдельно от мужчин — так это было.
— Перед вами принцесса Саломея, дочь тетрарха Филиппа, приемная дочь тетрарха Ирода. Теперь по приказу прокуратора Иудеи я должна возвратиться во дворец и занять подобающее мне место. В Галилее. Но и он будет в Галилее.
— Поверю, когда увижу, — устало произнес Фома. — Стало быть, эти явились не затем, чтобы нас арестовать?
— Нет, но вам лучше покинуть Иудею. Он сказал, что вы должны уезжать немедля.
— Он? — нахмурился Иаков-меньший. — Что ты имеешь в виду, говоря «он»?
— Я видела его.
Мужчины из ее свиты учтиво согнулись в поклонах, с сомнением разводя руками, пожимая плечами и восклицая: «Ах!» Женские видения, грезы, фантазии, женская восторженность…
— Можете не верить, если не хотите. Он явился мне там, где мы останавливались. На рассвете, этим утром. За час до того, как меня забрали. Я единственная не спала. Знаете, у меня было чувство…
— Предчувствие? — произнес Варфоломей, устало прикрыв глаза.
— Не знаю, как правильно сказать. Но это был он — его лицо, его голос. И еще… его руки и ноги, какими они были во время… когда его снимали с…
— Ты не ошибаешься? — спросил Петр.
Саломея кивнула:
— Кажется, я понимаю, что вы хотите сказать. Его мать должна была сообщить вам об этом, но сейчас она уже на пути в Назарет. Или же моя сестра, как я ее теперь называю. Та, что раньше была обычной блудницей, а потом венчала его на царство. Но только не девчонка, вы думаете, которая танцевала для своего приемного отца, чтобы получить от него награду для своей матери. Не та, что закончила свой танец обнаженной и видела, как бросили в огонь окровавленную голову.
— Значит… — произнес Симон. — Значит, это была ты. Так, так… — Он сокрушенно кивал и кивал головой.
— Если вы не верите, то есть не хотите верить… Вам все-таки придется вернуться в Галилею. Чтобы снова ловить рыбу, или чем вы там занимались.
— Не все мы из Галилеи, — сказал Фома. — Я пришел из-за Галилейского моря — из Гадаринской страны. Фаддей из тех же мест.
— Я не могу сказать больше того, что сказала. Он явился мне еще до рассвета и сказал, что кто-то должен пойти к вам и…
— Передать, чтобы мы шли в Галилею? Он не сказал, в какое точно место?
— Нет, но где вы в Галилее ни окажетесь, он тоже будет там.
— Значит, тогда нам лучше отправиться в Галилею, — несколько удрученно сказал Филипп.
— Я тоже должна ехать туда. Что мне было велено передать, я передала. И желаю вам… что мы должны говорить в таких случаях? Да хранит вас Иисус? Идите с Богом?
— Все эти вещи нужно продумать, — сказал Матфей очень серьезно. — То, как мы должны есть, что говорить… Спасибо тебе. Мы все благодарим тебя, сестра. Думаю, теперь мы можем так тебя называть.
— Это вполне подходящее обращение.
Она улыбнулась, сделала короткий жест — жест девочки, обращенный к друзьям, — затем повернулась и вышла. Четверо слуг помогли ей сесть на лошадь, и она кивком головы дала всадникам знак отправляться. Ее одиннадцать братьев молчали, пока не стихли последние звуки удаляющейся кавалькады. Петр вздохнул и сказал:
— Ну что ж, в Галилею.
— Все вместе? — удивился Фома. — По дороге нас могут задержать представители властей. Одиннадцать мужчин, большинство из которых можно узнать по гнусавому галилейскому выговору!
— Каких властей? — спросил Андрей.
— Одной из них или обеих. Я ни той, ни другой не доверяю, — ответил Фома. — Схватят не за проповедь ложного учения, а за то, что шли за лжепророком. — И затем: — Так, так. Выходит, это та самая девочка. Бедное дитя. Впрочем, нет, она уже со всем этим покончила. Один пророк за другим, однако. Преданы невинными. Все убиты. Всех зарубили, разделали и сожрали.
— Но один восстал из мертвых, — произнес Иаков-меньший, с усилием повышая голос. — Сколько раз мне говорить вам о том, что мы с Иоанном видели? А теперь вот и она говорит, что видела его, видела живым, видела его раны и прочее. Когда же вы поверите?
— Я скажу тебе когда, — сдерживая ярость, произнес Фома. — Будут еще и другие предательства. Скоро вокруг появится много лже-Иисусов, попомните мои слова. Вы еще будете довольны моими сомнениями, как это назвал один из вас, — думаю, это был ты, Варфоломей. А по-моему, я ему нужен был. Он ведь понимал, что это хорошо, когда есть хоть один человек, который не верит сразу же всему, что говорят. Как бы то ни было, а я поверю только тогда, когда смогу разглядеть раны на его руках и ногах. И разглядеть хорошенько, а не издалека и не в темноте. Тогда поверю, когда смогу засунуть мои пальцы в эти проклятые дыры. Говорю вам еще раз: сейчас такое время, когда надо соблюдать осторожность.
Все молчали, задумавшись. Фаддей даже кивал головой. Затем Петр сказал:
— Хорошо, давайте по порядку, друзья. О том, чему верить, поговорим после. А пока обсудим поездку. Фома в одном прав. Двигаться надо небольшими группами. По двое и по трое. А встретимся все в Капернауме. В том доме, Андрей, так? Первыми, Матфей и Фома, пойдете вы. Нет нужды напоминать вам об осторожности. Надвиньте на лица капюшоны, с чужими не разговаривайте.
— Теперь все чужие. Каждый встречный — чужой, — заметил Матфей.
— Уж постараемся быть осторожными. Хотелось бы взять с собой немного денег, если у нас еще осталось что-то.
— Немного найдется, — ответил Иоанн, который теперь стал в некотором роде казначеем.
Петр неловко изобразил своей правой рукой благословение. Жест у него получился несознательно — сверху вниз, поперек, снова поперек — фигура с четырьмя углами, построенная тремя движениями. Что-то таинственное.
— С вами Бог и Его благословенный Сын. И душа, принадлежащая им обоим.
Шестьдесят фарлонгов[134] от Иерусалима, если им повезет… Трижды по двадцать, как снова стали говорить многие, приходя в приподнятое состояние духа, когда заново открыли, что у них, оказывается, двадцать цифр[135]. Усталый Фома ковылял, опираясь на посох, сделанный из ветки оливкового дерева. Обращаясь к Матфею, лицо которого сильно раскраснелось (поскольку некоторая полнота его, еще сохранявшаяся, давала о себе знать), Фома заметил:
— Едва ли кто будет нас теперь преследовать. Думаю, мы в безопасности.
— Ты уверен в этом?
— Я этого не говорил. Я сказал — «думаю». Глупо в чем-то быть уверенным.
Еле волоча ноги, они прошли еще шагов двадцать. Птицы насвистывали то, чему они научились в первой части книги Бытия и что не могли изменить ни грехопадение, ни пророки, ни искупление грехов. Солнце, огромный сгусток огня, удаленный от Земли на многие-многие десятки и сотни фарлонгов, двигалось с покорностью, которая, казалось, находилась в полном противоречии с беспощадным жаром его палящих лучей.
— Вера — хорошее слово, да. И надеюсь, что у меня ее ничуть не меньше, чем у моего спутника. Но Бог дал нам глаза и уши. Да и пальцы тоже. Скажи ты мне, что это луна над нами, думаешь, я тебе поверю?
— Ты веришь, что за нами никто не гонится?
— Да, пожалуй, ты мог бы сказать, что я в это верю.
— Надеюсь, вы позволите мне составить вам компанию, — вдруг произнес незнакомый голос. — Нам по пути.
— Быть этого не может! — в страхе оборачиваясь, крикнул Фома. — Откуда ты взялся?! Отойди, сатана, или кто бы ты ни был!
Лицо незнакомца скрывал глубоко надвинутый капюшон. Ладони его из-за длинных рукавов видны не были, но на ногах можно было разглядеть новую обувь. Матфей спросил:
— Идешь из Иерусалима?
— Да, оттуда. Можем мы поговорить? Когда я к вам присоединился, вы что-то обсуждали. Могу я узнать, о чем шел разговор?
— Да, присоединился. Лучше объясни-ка нам, откуда ты явился. — Фома несколько смущенно перекрестил его. — Ага, был за тем деревом. Отдыхал там, да?
Незнакомец доброжелательно усмехнулся. Матфей сказал:
— Если идешь из Иерусалима, разговор может быть только об одном.
— Осторожней, осторожней, Матфей! — прорычал Фома.
— Ну ясно, что об Иисусе из Назарета, о его распятии, о том, как он…
— Ради Христа, будь осторожен! — выкрикнул Фома и готов был теперь откусить себе за это язык.
— Ради Христа, — повторил незнакомец. — Вы изъясняетесь, как некоторые из римлян. Мне приходилось слышать, как они говорят, когда играют в кости, — клянутся Юпитером, Юноной, Меркурием. А некоторые клянутся Христом и находят это остроумным и свежим. Кто этот Христос — новый бог?
— Этот Христос — Иисус из Назарета, — ответил Матфей.
— Ага, а кто же он такой или кем был?
— Да где ты был все эти годы?! — прорычал Фома, уже забыв об осторожности. — Это, как говорят, человек, посланный от Бога. — Но осторожность быстро возвращалась к нему: — Обрати внимание, я не говорю, что это я так утверждаю…
— Умер и погребен, — произнес Матфей. — Он еще говорил, что на третий день восстанет из мертвых. И что-то подобное, говорят, произошло, но никто в этом не может быть уверен.
— Послан от Бога? Если он послан от Бога, почему кто-то должен сомневаться? Если он сказал, что может воскреснуть… Ну ясно же, что он воскрес! Вы мне кажетесь неумными людьми, которые плохо знают Писание.
— Послушай, ты! — сказал Фома, потрясая кулаком. — Может быть, мы люди и не очень грамотные, но мы и не дураки и не собираемся терпеть, когда нас называет дураками какой-то неизвестный, который шагает рядом, но боится показать свое лицо. Дурак-то ты как раз и есть, поскольку не имеешь никакого понятия о том, что греки называют логикой. Слова «человек был послан от Бога» и знание о том, что он был послан Богом, — это вовсе не одно и то же.
— Мы знаем Писание и верим тому, что там сказано, — произнес Матфей.
— Вы верите, что исполнятся пророчества? Пророчества о пришествии Сына Божьего?
— Конечно же верим.
— Вы верите, что пророчества уже исполнились?
— Послушай! — произнес Фома и остановился, чтобы стать перед незнакомцем, который был вынужден тоже остановиться. — Кто бы ты ни был, приятель, но то, чего я хочу, очень просто. Чтобы я мог видеть его перед собой, ибо видеть значит верить. И прикоснуться к его ранам этими пятью пальцами и этими, и…
— Если ты хочешь прикоснуться к ним десятью пальцами, Фома, тебе лучше отбросить свою палку.
— Откуда тебе известно мое имя?! Кто назвал тебе мое…
И тут он увидел и упал на колени.
— Встань, Фома. Встань, Матфей. Благословенны те, кто верит, не видя. Теперь можешь прикоснуться, Фома.
ВОСЬМОЕ
Несколькими неделями позже, вечером, одиннадцать учеников сидели за столом в верхней комнате постоялого двора, находившегося недалеко от Галилейского моря. Слуга, развязный молодой человек с маленькой щепочкой, вставленной между зубами и служившей чем-то вроде игрушки для его языка, войдя, спросил:
— Мне сейчас подавать?
— Еда горячая или холодная? — спросил Симон.
— Когда принесу, будет горячая. А станете ли вы есть ее горячей — дело ваше.
— Тогда неси, — сказал Петр. — А нам понадобятся еще одно блюдо и одна чаша.
— Значит, будет еще кто-то?
— Пока мы не знаем, но думаем, что так, — ответил Фома.
— Тогда вам лучше было бы оставить для него немного места, не так ли? сказал слуга и вышел, чтобы принести хлеба и кувшин вина.
Ученики, сидевшие на скамье, близко придвинутой к стене, начали неловко сдвигаться, не зная, где оставить свободное место.
— Он может сесть рядом с тобой, как прежде, — сказал Иоанну Фома.
— Последний раз нам вместе было совсем неплохо, — произнес Андрей. — Месяц назад или около того. А кажется, годы прошли.
— Теперь нас одиннадцать, — сказал Петр. — Нам следует ожидать еще кого-то.
— Может быть, он найдет кого-то и приведет с собой, — предположил Матфей.
— Нет, — возразил Петр. — Думаю, теперь это уже зависит от нас самих.
— От тебя, — поправил Варфоломей. — Должны ли мы теперь называть тебя «учитель»?
— Нет, лучше «Петр». Просто «Петр». Насчет этого твоего сна, Филипп. Я уже становлюсь немного похож на Фому и перестаю доверять. В старые времена мы были более доверчивыми. Он не говорил, в какой день придет, в какое время?
— Я уже рассказывал тебе, — отвечал Филипп с некоторым раздражением, — и мне это смертельно надоело. Он тогда песенку спел.
— Спой нам ее еще раз, — попросил Фаддей.
— Да, пусть споет, но нам не надо никаких завываний на этой дудке, — сказал Фома.
Филипп просто прочитал ровным голосом коротенькое четверостишие:
В последний час, В последний час Сядь и поешь В последний раз.— «Последний» — вот что непонятно, — заметил Матфей. — Как раз такие же сны бывали в прошлом — у Иосифа[136] и у других. Но сны никогда не бывают ясными и понятными.
— Последний ужин, — предположил Симон. — По-моему, это очевидно. Но тот ужин не был последним.
— Если мы не увидим его снова, — рассуждал Андрей, — значит, был последним.
— Вы уверены, что это был он? — спросил Петр, посмотрев сначала на Фому, потом в другую сторону — на Матфея.
— Да, он, — подтвердил Матфей, а Фома при этом фыркнул.
— И он просто исчез?
— Как птица. Повернулся, пошел и исчез. Ведь так было, Фома?
— Но это он был? — повторил Петр.
— Послушай, — отвечал Фома, — ты ведь меня знаешь. Я всегда был… как это называется?
— Скептик, — подсказал Варфоломей.
— Я прикоснулся к нему, а он мне потом и сказал эти слова насчет того, что лучше верить, не видя. И все же у меня по данному вопросу имеются свои соображения, но это не так важно. В общем, здесь нет никаких сомнений. Ведь так, Матфей?
— Все же я одно не могу понять. Если он добирался до Галилеи, то почему тогда не пошел с нами дальше?
— Ему, вероятно, нужно было кого-то повидать, — предположил Симон. — Мы ведь не одни на свете.
Наступило долгое молчание. Было слышно, как внизу гремят посудой, как ругается повар. Фаддей сказал:
— Говорят, что приходила его мать и искала тело. Но было уже слишком поздно. Не смогли сдвинуть камень. Но на нем теперь есть что-то вроде надписи. Его имя.
— Чье? — спросил Андрей.
— Ты прекрасно знаешь чье, — ответил Симон. — Он теперь с нами — в некотором смысле, — хотя его самого здесь и нет, если ты понимаешь, что я имею в виду. Бедняга. А ведь никакой подлости в нем заметно не было. И он верил. Никогда мне этого не понять.
— Наивность может быть разновидностью предательства, — заметил Петр.
Он впервые сделал афористическое высказывание, и все посмотрели на него с уважением.
— Кто-то должен был это сделать. Нам всем повезло, я полагаю.
Случай своего собственного отречения он абсолютно стер из памяти, главным образом благодаря размышлениям над притчей о сыновьях, один из которых говорил «нет», но делал, а другой говорил «да», но не делал.
Пришел слуга с дымящимся блюдом в руках:
— Превосходная жареная рыба. Только сегодня из озера.
— Мы разве не мясо просили? — удивился Симон.
— Это общее наименование, — заметил Варфоломей. — Понятие «мясо» подразумевает и мясо рыбы.
— Там пришел какой-то человек, — сказал слуга, ставя блюдо на стол. — Не тот ли это гость, которого вы ждете? Высокий, в плаще. Если это он, вам не придется есть остывшую рыбу.
Слуга ушел, и было слышно, как он быстро спускается по лестнице. В то же время можно было различить тяжелые, неспешные шаги поднимающегося человека. Они переглянулись. Матфей с шумом откашлялся. Они начали неуклюже вставать, что нелегко было сделать тем, кто сидел у стены, поскольку стол был придвинут к ней слишком близко. На пороге появился высокий, дородный человек, укутанный плащом, с надвинутым на глаза капюшоном. Он быстро сбросил одежду на пол и улыбнулся. Иисус! Было видно, что раны на его руках почти зажили. Иоанн все сделал правильно. Оттолкнув стол и уронив при этом металлическое блюдо, которое со звоном покатилось по полу, закружилось на месте и улеглось, он бросился к Иисусу и обнял его, а тот, улыбаясь, все хлопал и хлопал его по спине.
— Рыба из озера. Хорошо. Попробуем.
Они поели, и он не оставил после себя ни крошки. Этот человек умер, был в могиле. Где был он, его сущность, его душа в день его телесной смерти? Спрашивать никому не хотелось. Иисус был весел и говорил охотно:
— Абсолютно все исполнилось. Вплоть до игры в кости на мое одеяние. Оно мне нравилось.
Теперь на нем была другая одежда — обычная. Где он нашел или купил ее? Они припомнили, что из его знакомых только у вставшей на праведный путь блудницы имелись какие-то деньги. Кстати, где она теперь? Виделся ли уже Иисус со своей матерью? Если нет, то намерен ли увидеться? Было много вопросов, которые им хотелось задать ему, но они не решались.
— «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жеребий»[137]. Среди нас больше нет никого, кто мог бы тотчас же сказать: «Это из двадцать первого псалма Давидова, учитель».
Теперь все, за исключением, разумеется, самого Иисуса, чувствовали себя очень неловко.
— И все, что будет происходить теперь, — с того момента, когда я покину вас, — тоже предсказано. Проповедование покаяния и прощения грехов моим именем среди всех народов. И начнется это в Иерусалиме.
— Когда ты покидаешь нас, учитель? — спросил Петр. — И куда пойдешь?
— Куда? — переспросил Иисус, разжевывая хлеб. — В конце концов я пойду туда, откуда пришел. Когда? Пока не спрашивайте. Я покидаю вас — воскресший человек, который счастлив снова быть во плоти и жить во плоти. Вы хотите знать — где. Не спрашивайте и об этом, ибо я не знаю сам. Моя миссия подошла к концу, теперь должна начаться ваша. То, что народы должны узнавать, говорить им должны люди невоскресшие. Скажу, однако, что я буду на земле, но будет это только так, как говорил вам перед смертью.
— Перед смертью… — задумчиво произнес Петр, ошеломленный смыслом этих слов. — Ты умер, и ты вернулся. В этом трудно разобраться. — Он задрожал.
Иисус похлопал Петра по спине, как если бы тот подавился рыбьей костью.
— Трудно разобраться, — повторил Иисус. — Умирать мучительно, но сама смерть — ничто. Запомните — есть умирание, но смерти нет. Запомните то, что я говорил и делал перед тем, как умирать. Хлеб и вино — Божьи дары, и слово, столь же осязаемое. Теперь слово — ваше, и вашими будут триумф и власть, а еще — страдания. Стезя, как вы теперь знаете, будет нелегкой.
В этот момент природа шумно напомнила о себе пронзительными криками какого-то дикого существа, оказавшегося в чьих-то когтях неподалеку от дома.
— Вы начнете в Иерусалиме. Но помните — слово не только для Израиля. Как осенние ветры подхватывают и разбрасывают семена, так и вы будете разбросаны по городам и странам. Вы окажетесь на греческих островах, в Эфиопии, на островах того моря, которое римляне называют своим, окажетесь и в самом Риме, ибо слово — для всех народов.
— Когда мы должны начать? — спросил Петр.
— Завтра, — быстро ответил Иисус. — Или, если хотите, сегодня. И вот еще что скажу. Любите людей, но остерегайтесь их, ибо они будут избивать и предавать вас властям и поведут вас к царям и правителям, чтобы судить за имя мое, чтобы наказать за проповедь любви. Но в час, когда вы будете призваны свидетельствовать о Сыне Человеческом, не бойтесь. Ибо это не вы будете говорить, но дух Отца вашего Небесного, который будет говорить внутри вас. Вас будут ненавидеть за имя мое. Но тот, кто будет терпеть до конца, будет спасен. И слово восторжествует. Теперь идите — учите все народы и крестите их именем Отца нашего, Сына Его и Святого Духа, который связывает нас воедино. И помните, что я всегда с вами — до самого конца света.
Все молчали. Было слышно, как по лестнице поднимается слуга. Он стал у входа. Деревянная щепочка, игрушка для языка, все болталась у него между зубами.
— Все в порядке? Еще вина? Кто будет рассчитываться?
— Я, — ответил Иисус.
ДЕВЯТОЕ
Итак, повествование мое подходит к концу. Люди и характеры, которые я попытался обрисовать, а также связанные с ними и изложенные мною факты и события теперь уже принадлежат прошлому и, скорее всего, постепенно превратятся в миф, так что Иисус может стать выше на локоть и превратится в настоящего гиганта, а Иуда Искариот окажется низведенным до уровня человека, которому были нужны тридцать кусочков серебра. Не сомневаюсь, что вскоре появится официальная, так сказать, версия жизни Иисуса и его благой вести, составленная людьми с претензиями на авторитет и в каждой своей детали верующим навязанная. Моя повесть не претендует на роль священного текста, но о ней нельзя сказать и то, что она нисходит до уровня чтения чисто развлекательного. Хотя я не христианин, но верю, что Иисус из Назарета был великим человеком и жизнь его достойна беспристрастного изложения, сделать которое способен лишь человек неверующий. Когда я говорю «неверующий» или «не христианин», я хочу сказать этим, что меня вовсе не интересуют предполагаемое свидетельство божественного происхождения Иисуса, его рождение от Девы, его Воскресение и его так называемые чудеса. Он говорил: «По плодам их узнаете их». И интересуют меня как раз плоды, им оставленные, — но не яркие, красочные предметы на деревянном блюде, а нечто съедобное, наполненное терпким и живительным соком.
Некоторые утверждают, что Творец создал Вселенную шутки ради и сохраняет ее в качестве забавы. Если так, а я склонен этому верить, тогда жизнь человека может быть чем-то чуть-чуть более значительным, нежели игра, — в том смысле, что сам человек не может быть ответственным за ее поддержание и сохранение, поскольку это во власти природы, а посему все отведенное ему время должно быть заполнено пустяками, которые он должен считать крайне важными и значительными, чтобы не умереть от скуки. Он украшает свой дом и свое тело, заготавливает впрок земные плоды, слушает музыку и читает повести. Иногда его забавы бывают кровавыми и тираническими и именуются политикой и искусством правления, а иногда даже долгом и необходимостью имперской экспансии. Человек — общественное животное, охотно занимающееся построением свободных человеческих обществ, которым дурные люди любят придавать жесткую устойчивость с помощью законов и основанных на предрассудках предписаний, именуя эти общества Государством. Полагаю, никто не станет отрицать, что люди вынуждаются к тому, чтобы иметь какие-то обязательства по отношению друг к другу.
Иисус из Назарета в своем учении придавал большое значение долгу и разъяснял его сущность словом «любовь» — «ahavah» или «agape», но, строго говоря, не словом «amor»[138]. Во всех языках это понятие расплывчато и с трудом поддается определению, но Иисус на примере своей жизни показал, какой смысл он вкладывал в данное слово. Он предлагал нам невозможное — любить врагов. Но это кажется не столь невозможным, когда рассматривается в тех обозначениях, которые я должен назвать нелепыми и которые я только что применил в отношении сотворения и сохранения мира. Долг — это тоже игра. Игра чрезвычайно трудная, но все-таки возможная. Игра в терпение, игра в подставление другой щеки, игра в преодоление нашего естественного отвращения к обезображенной оспой или проказой коже, когда эту кожу целуют с любовью. Выигрываешь игру и получаешь награду, а награда известна как Царство Небесное. Царство мужчин и женщин, которые играют в эту игру хорошо и хотят играть еще лучше. Вы всегда можете узнать людей, принадлежащих этому Царству, — «по плодам их узнаете их». Такая игра делает жизнь необычайно интересной. Почему же тоща столь многие не просто не хотят играть в эту игру, но и преследуют тех, кто это делает, с жестокостью, которая кажется столь несоразмерной?
А происходит это потому, что они воспринимают жизнь слишком серьезно. Иисус и его последователи вовсе не воспринимали ее всерьез. Как мы видели, от серьезного восприятия жизни пришлось спасать Матфея, но остальные ученики прежде ничего не имели, и, следовательно, всерьез им воспринимать было нечего. Обладание вещами опасно; рискованное стремление владеть империей — результат крайнего безрассудства, связанного с восприятием вещей всерьез. Когда вы обладаете какой-то вещью, вы всегда станете за нее бороться и, возможно, обнаружите, что борьба — прекрасное средство от скуки. Но борьба предполагает не только уничтожение врага, но и самоуничтожение; она необычайно утомляет и слишком часто заканчивается потерей вещи, за которую ведется. Гораздо лучше игра в Царство.
Я мог бы и далее рассуждать об этом, но я не философ, занимающийся нравоучениями (то есть не судья в игре, именуемой «общественное поведение»), и могу говорить лишь о собственной жизни и о том удовлетворении, которое получил от развития в себе умения терпеть, воздерживаться и испытывать к кому-то привязанность. Разумеется, прежде чем любить других, необходимо любить себя (иначе что это за смехотворная добродетель — любить своего ближнего, как самого себя?), но фарисеям или саддукеям природу этой любви понять трудно. Это не любовь действия, но любовь сущности: люби себя как существо, удивительным образом созданное и отчасти сверхъестественным (я мог бы опустить это слово, но вижу, что не могу) образом сохраняемое. Если это было достаточно хорошо для Творца (так скажут христиане), то это хорошо и для тебя.
Несмотря на появление на земле Иисуса с его проповедью учения о любви, которое упорно продолжали нести народам его ученики (все они были умерщвлены серьезными людьми на удивление нелепыми способами), пока что никак нельзя сказать, что Царство Небесное, обещанное в качестве награды за любовь, овладеет царством серьезных людей, которое мы можем назвать и царством кесаря. Рассмотрите события, которые произошли с тех пор, как умер Иисус (я имею в виду засвидетельствованную смерть его на кресте, но не смерть, последовавшую за воскресением, которое я все же едва ли могу признать за достоверный факт). Римляне под командованием Авла Плавтия заняли Британию. Карактак[139], закованный в цепи, как раб, был отправлен в Рим. Затем подняла восстание Боудикка[140], и это восстание тоже было подавлено. За проповедь любви был казнен человек по имени Саул, известный впоследствии под именем Павла. Был подожжен Рим, и в этом обвинили христиан. Против римского владычества восстали, наконец, евреи Палестины, но император Тит подавил их выступления с величайшей жестокостью. Затем произошло восстание, которое возглавил Бар-Кохба[141] (говорят, первое имя его было Иисус) и результатом которого стало окончательное рассеяние евреев. Иисус из Назарета ясно видел, что должно произойти, и умолял людей быть легкомысленными, как полевые цветы, и попробовать играть в снисходительность и милосердие (чего цветы, конечно, делать не могут).
Когда-нибудь все люди, возможно, придумают, как объединиться в царство, так что начало Царства Небесного одновременно станет и концом царства кесаря, и тогда само имя кесаря и его лавровый венок станут лишь предметами детских игр. Но я все же в такой возможности сомневаюсь, как сомневался, кажется, и сам Иисус, иначе почему тогда он так много говорил о сборе урожая и сжигании сорняков? Однако, поскольку Иисус настаивал на том, что Бога не очень заботит время, можно предположить также, что Бога не особенно интересуют и любого рода количественные измерения и что Царство не должно гордиться лишь своими пространствами.
Теперь, когда я покидаю вас, прошу придирчивых читателей не быть слишком строгими к литературным огрехам того, кто претендовал на небольшой, но занимательный пересказ простой истории. Людей, недружелюбно настроенных по отношению ко мне, прошу любить меня так же, как я стараюсь любить их. Того же, кто в будущем, быть может, возьмется за перевод этой хроники на какой-нибудь другой язык, прошу прислушаться к требованиям ее духа и не проявлять мелочного педантизма в отношении каждой буквы. Говорю всем: упорно трудитесь над игрой любви, чтобы вы могли присоединиться ко мне и к Нему в Царстве Небесном. Schalom. Ila al-laqaa. Andi’o. Kwaheri. Прощайте.
Примечания
1
Итак, что́ Бог сочетал, того человек да не разлучает (греч.). Мат. 19, 6. (Здесь и далее, если не указано особо, примечания редактора.)
(обратно)2
Римский фут составлял 29,57 см.
(обратно)3
Левант — общее название стран, прилегающих к восточной части Средиземного моря.
(обратно)4
Александр Яннай — царь Иудеи из династии Хасмонеев, правил с 103 по 76 гг. до н. э.
(обратно)5
Фарисеи (греч. pharisaioi, от др. евр. перушим — отделившиеся) — представители общественно-религиозного течения в Иудее во II в. до н. э. — II в. н. э. Фарисеи — создатели Устного учения (закона), зафиксированного в Мишне. В Евангелиях фарисеев называют лицемерами, отсюда переносное значение слова — лицемер, ханжа.
(обратно)6
«Израиль» означает «Богоборец» — имя, данное Иакову, когда он боролся с Богом в лице ангела Божия.
(обратно)7
Кан — на иврите «здесь», шам — «там».
(обратно)8
Крувит — цветная капуста (евр.).
(обратно)9
Шатиях — фундамент, основа (евр.). Здесь — континент.
(обратно)10
Йедидим (мн. ч.), йедид — друзья, друг (евр.).
(обратно)11
Нешер — орел (евр.).
(обратно)12
Кадурим — шары, мячи (евр.).
(обратно)13
Кар — на иврите «холод», крио — то же самое на греческом.
(обратно)14
Йелед — малыш (евр.).
(обратно)15
От шильшуль — понос (евр.).
(обратно)16
Илтит — лосось, семга (евр.).
(обратно)17
Рицпах — потолок (евр.).
(обратно)18
Наар — юный, молодой (иврит), дурак (идиш).
(обратно)19
Шамах — он слышал (евр.). Здесь — прислушайся, слышишь.
(обратно)20
Рааш — шум, треск (евр.).
(обратно)21
Буцина — светильник (арам.).
(обратно)22
Мелухлах яхуди — зд.: грязных евреев (евр.).
(обратно)23
Мелех — царь (евр.).
(обратно)24
Ав — отец, ем — мать (евр.).
(обратно)25
Некорректная латинская фраза, в которой контаминированы несколько выражений, в том числе и in saecula saeculorum — «во веки веков».
(обратно)26
Калидарий — теплая ванная комната или горячая баня (лат.).
(обратно)27
Судаторий — потогонная баня (лат.).
(обратно)28
Стригил — банный скребок (лат.).
(обратно)29
Популярное в античную эпоху италийское вино, производившееся в провинции Кампанья. (Примеч. перев.).
(обратно)30
Тепидарий — теплая (прохладная) баня (лат.).
(обратно)31
Фригидарий — прохладная комната в бане (лат.).
(обратно)32
В библейские времена — седьмой месяц еврейского календаря, приходившийся на сентябрь — октябрь. В современном еврейском календаре первый месяц года.
(обратно)33
Покрывало, закрывавшее вход в Святая святых — центральную часть Иерусалимского Храма, где хранились скрижали завета.
(обратно)34
Имя Иоанн происходит от древнееврейского «Йехоханан» — «Бог явил милосердие».
(обратно)35
Лук., 1, 46–49. Перевод этой и всех последующих библейских цитат дается по Синодальному изданию Ветхого и Нового Заветов.
(обратно)36
Лук., 1, 49–53.
(обратно)37
Лук., 1, 54–55.
(обратно)38
Лук., 1, 68–69.
(обратно)39
Лук., 1, 70–75.
(обратно)40
Лук., 1, 76–78.
(обратно)41
Лук., 1, 78–79.
(обратно)42
Имеется в виду место из Книги пророка Михея: «И ты, Вифлеем — Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих., 5, 2).
(обратно)43
То есть между 13 декабря и началом января.
(обратно)44
Этот и последующие стихотворные фрагменты, если не указано особо, даны в переводе И. В. Маркова. (Примеч. перев.).
(обратно)45
Шилем — плата, воздаяние (евр.).
(обратно)46
Ракиа — небосвод (евр.).
(обратно)47
Мамона — богатый человек (арам.).
(обратно)48
Aggelos — вестник, ангел (греч.). (Примеч. перев.).
(обратно)49
Адамово вино (иносказ.) — вода. (Примеч. перев.).
(обратно)50
Машиах — помазанник (евр.). В латинской и греческой транскрипциях — «мессиас». В переводе на греческий — «Христос».
(обратно)51
Мат., 2, 6. Этот прием часто встречается у автора: советник цитирует не собственно книгу Ветхого Завета (в данном случае Книгу пророка Михея), что было бы естественно, а то место в Новом Завете — еще не существующем, — где встречается ссылка на эту книгу.
(обратно)52
По еврейской традиции, обряд обрезания совершается на восьмой день после рождения ребенка. (Примеч. перев.).
(обратно)53
Лук., 2, 28–32.
(обратно)54
Лук., 2, 34.
(обратно)55
Иер., 31, 15.
(обратно)56
Здесь и далее автор называет Ирода Антипу (сына Ирода Великого) Антипатром, что неверно. Антипатрами были сам Ирод Великий и его отец. Ирод Антипа иначе назывался Сосипатром (греческое имя, обозначающее «спасающий отца»).
(обратно)57
Антипатр — в переводе с греческого «противник отца». (Примеч. перев.).
(обратно)58
Числ., 11, 5.
(обратно)59
Пс., 22, 1.
(обратно)60
Коль хорошо сыграли мы, похлопайте И проводите напутствием нас добрым.(Пер. М. Л. Гаспарова.)
(обратно)61
Зелот — в буквальном переводе с греческого «ревнитель». Зелоты — религиозно-политическое течение В Иудее; выступали против римского владычества и местной знати. (Примеч. перев.).
(обратно)62
Flavicomus — златокудрый (лат.).
(обратно)63
Сион — одна из гор, на которых стоит Иерусалим; согласно Библии, здесь была резиденция царя Давида, а также храм Яхве. Дочь Сиона — Иерусалим.
(обратно)64
Харизма — милость, благодать (Божья) (греч.).
(обратно)65
Пс., 121, 1–2.
(обратно)66
Садок — первосвященник во времена царей Давида и Соломона. 2 Цар., 8, 17; 15, 24–36; 3 Цар., 1, 8–45.
(обратно)67
Исх., 20, 15.
(обратно)68
Пс., 8, 3.
(обратно)69
Пс., 6, 6.
(обратно)70
«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его». Еккл., 12, 7.
(обратно)71
Ошибка автора. На самом деле это 6-й стих 40-й главы Книги пророка Исаии.
(обратно)72
Ис., 40, 4.
(обратно)73
Пс., 89, 16.
(обратно)74
Еккл., 12, 5–7.
(обратно)75
Очевидно, имеются в виду ессеи — одно из общественно-политических религиозных течений в Иудее во 2-й пол. II в. до н. э. — I в. н. э. Проповедовали общность имущества, коллективность труда и быта, аскетизм, чрезвычайно заботились о сохранении чистоты и строгости нравов и о благочестии.
(обратно)76
Намек на жену Авраама Сарру, которая до 90 лет оставалась бесплодной. (Примеч. перев.).
(обратно)77
Около 160 см.
(обратно)78
Тауматургия (греч.) — способность творить чудеса.
(обратно)79
Рихав — заговорщик и убийца, наказанный царем Давидом. Его история описана в 4-й главе Второй книги Царств.
(обратно)80
Латинское martyr, «мученик», давшее русское «мартиролог» (перечень пострадавших, замученных), действительно происходит от греческого marturos — «свидетель».
(обратно)81
Синедрион — верховый суд в Иерусалиме, занимавшийся преимущественно делами, связанными с нарушениями религиозных норм — богохульством, вероотступничеством, проповедью лжеучений и т. п.; имел право выносить смертные приговоры. (Примеч. перев.).
(обратно)82
Саддукеи — религиозно-политическая группировка в Иудее, объединявшая высшее жречество, землевладельческую и служилую знать. (Примеч. перев.).
(обратно)83
Ис., 40, 1–5.
(обратно)84
Мат., 3, 3.
(обратно)85
Лук., 3, 17.
(обратно)86
Анабасис (греч.) — букв. «путь вверх», здесь — военная экспедиция (по названию книги древнегреческого историка Ксенофонта «Анабасис» о походе Кира Младшего против Артаксеркса Мнемона в 401 г. до н. э.).
(обратно)87
Олоферн — вавилонский полководец, убитый Иудифью, после чего вавилонское войско, осаждавшее ее родной город, было вынуждено отступить. (О нем см. в Книге Иудифь, 2, 1.) (Примеч. перев.).
(обратно)88
Втор., 8, 3.
(обратно)89
Пс., 90, 11–12.
(обратно)90
Так у автора. На самом деле это цитата из 6-й главы Второзакония, стих 16-й.
(обратно)91
Ис., 61, 1–2.
(обратно)92
См. об этом в Четвертой книге Царств, гл. 5.
(обратно)93
Имеется в виду море Киннереф, или Галилейское море (ныне — Тивериадское озеро).
(обратно)94
Иона — пророк, живший в конце IX — нач. VIII вв. до н. э. (см. Книгу пророка Ионы); имя его стало синонимом человека, приносящего несчастье. (Примеч. перев.).
(обратно)95
Мурекс — пурпурная краска, выделение желез пурпурной улитки, употреблявшейся также в пищу.
(обратно)96
Децемвират (лат.) — союз десяти. (Примеч. перев.).
(обратно)97
Манипул — воинское подразделение численностью от 60 до 120 человек. (Примеч. перев.).
(обратно)98
Кассия — род многолетних трав, кустарников или небольших деревьев семейства бобовых. (Примеч. перев.).
(обратно)99
Шалмей — деревянный духовой инструмент с двойной тростью, предшественник гобоя.
(обратно)100
Самаряне (самаритяне) — потомки вавилонских колонистов, переселенных в 722 г. до н. э. ассирийским царем в иудейскую провинцию Самарию (4 Цар., 17) и смешавшихся с местным населением.
(обратно)101
Левиты — в широком смысле — все потомки Левия (Исх. 6, 25); в узком смысле — представители колена Левия, не происходившего от Аарона (Числ., 3, 6 и далее); обычно помогали священникам при богослужении и выполняли различные обязанности при Храме. (Примеч. перев.).
(обратно)102
Очевидно, намек на представления пифагорейцев, согласно которым 8 — число любви, дружбы и творчества. (Примеч. перев.).
(обратно)103
Самсон — библейский персонаж, обладал необыкновенной силой, которая таилась в его волосах; после того как филистимлянка Далила остригла у спящего Самсона волосы, враги ослепили его и заковали в цепи (Суд., 13, 14). (Примеч. перев.).
(обратно)104
Мелухлах (евр.) — грязная. (Примеч. перев.).
(обратно)105
Сей есть царь помазанный (греч.). (Примеч. перев.).
(обратно)106
Это слова не из Книги пророка Исаии, а из Евангелия от Матфея (Мат., 21, 5).
(обратно)107
В 70 г. римляне после пятимесячной осады захватили и разрушили Иерусалим, в том числе и Храм. (Примеч. перев.).
(обратно)108
Исх., 56, 7.
(обратно)109
Пс., 68, 10.
(обратно)110
Пс., 8, 3.
(обратно)111
Достаточно и данного слова (лат.). (Примеч. перев.).
(обратно)112
Декурион — командир декурии, подразделения из десяти всадников в римской кавалерии.
(обратно)113
Никодим вкладывает в это понятие иной, нежели Каиафа, смысл, имея в виду, что слово «радикальный» происходит от латинского radix (корень). (Примеч. перев.).
(обратно)114
Ср.: «И не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Иоан., 11, 50.
(обратно)115
Исх., 3, 14.
(обратно)116
Партеногенез — девственное размножение.
(обратно)117
Пс., 40, 10.
(обратно)118
Зах., 13, 7.
(обратно)119
Мат., 26, 40, 41.
(обратно)120
И взяли тридцать сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь (греч.). (Примеч. перев.).
(обратно)121
Орел с расправленными крыльями — государственный символ Римской империи. (Примеч. перев.).
(обратно)122
фулкрум (лат.) — у римлян ложе для отдыха и пиров. (Примеч. перев.).
(обратно)123
Ты действительно считаешь себя царем Иудейским? (лат.) (Примеч. перев.).
(обратно)124
Ты знаешь это (лат.).
(обратно)125
Гельвий Цинна — римский поэт; растерзан толпой, будучи ошибочно принят за Луция Корнелия Цинну, одного из убийц Юлия Цезаря. (Примеч. перев.).
(обратно)126
Нужно выслушать мнение народа (лат.). (Примеч. перев.).
(обратно)127
Иисус Назарянин, царь Иудейский. (Примеч. перев.).
(обратно)128
Сей есть Иисус, царь Иудейский. (Примеч. перев.).
(обратно)129
Лук., 23, 28–31.
(обратно)130
Или, Или (евр.) — Боже мой, Боже мой. (Примеч. перев.).
(обратно)131
Как будто снег кричал (лат.). (Примеч. перев.).
(обратно)132
Dies Veneris (лат.) — день Венеры. (Примеч. перев.).
(обратно)133
По представлениям евреев следующий день начинался после захода солнца. (Примеч. перев.).
(обратно)134
Фарлонг — мера длины, равная приблизительно 201 м. (Примеч. перев.).
(обратно)135
Имеется в виду принятая в Древней Иудее двадцатеричная система счисления. (Примеч. перев.).
(обратно)136
См.: Быт., 37, 39–48, 50. (Примеч. перев.).
(обратно)137
Пс., 21, 19.
(обратно)138
Ahavah (евр.), agape (греч.), amor (лат.) — любовь. (Примеч. перев.).
(обратно)139
Карактак — в период правления Нерона возглавил сопротивление британских племен на территории современного Уэльса. (Примеч. перев.).
(обратно)140
Боудикка — правительница бриттов; в 61 г. возглавила восстание в Юго-Восточной Британии. (Примеч. перев.).
(обратно)141
Бар-Кохба (букв. — сын звезды) — предводитель восстания в Иудее в 132–135 гг. (Примеч. перев.).
(обратно)






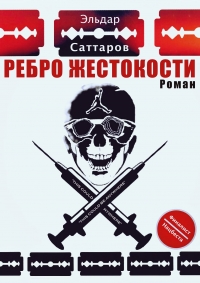



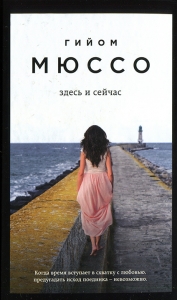

Комментарии к книге «Человек из Назарета», Энтони Берджесс
Всего 0 комментариев