Часть первая. Жилец мансарды
1
Анжела любила однотонные, необычайно яркие ткани, их удивительное звучание овладевало пальцами, когда за больно страдающим цветом она видела четкие тени своей ладони. Анжела доставала из коричневой резной шкатулки свои банты и ленты, свои великолепные лоскутки, сжимала в горсти, удивляясь их отдельным существованиям, нежеланию сливаться в полутона, и длинным жестом бросала в комнату. Они медленно тонули в полумраке, не освещая, но возделывая его, ложились в новом порядке на предметы, создавали складки, симфонию, пир.
Бирюзовой она называла ослепительную ленту белого шелка, выделанную каким-то способом из молодой березовой коры, индиго крепко связывалось с Индией, ее темнозеленым цветом: все эти редкие заморские слова заключали в себе неразрешимое счастье цветения, и все, кроме явно себя выдающего аквамарина, понимались неверно.
Однажды Анжела сшила просторную светлоголубую юбку гораздо ниже колен, создание этого шедевра отняло не более часа, бордовая блузка в новом сочетании неожиданно закричала, в волосы девушка вплела алый бант и мгновенно превратилась в пятнадцатилетнюю. Белые носки, босоножки и коричневый пояс обманули зеркало еще года на полтора, Анжела схватила коробку театрального грима, раскрасила щеки розовым, но, посмотрев себе в зрачки, увидев их непоправимую седину, успокоилась: годы были на месте, далеко за двадцать, может быть даже под пятьдесят, и никого уже не обманут ни черные, длинные, слегка волнистые волосы, ни большие, кошачьи, совершенно вишневые глаза…
Некоторое время она сидела на веранде и думала о дыме, о его мутной дымности, уничтожающей цветные стекла, потом выбежала из дома и быстро прошлась из конца в конец по набережной, видя взгляды удивления, восторга, жалости, под платанами встретила учительницу математики (Анжела, ты с ума сошла — Здравствуйте!) и вдруг подумала, что от брошенного окурка дом объят пламенем… Но все было в порядке, так же блестела капля солнца на стенных давно мертвых часах отца.
Утром одна девчонка передала ей записку, выразив солидарность с новой идеей, и в тот же день они обе допоздна сидели за машинкой, строчили, тихо смеясь, а в воскресенье медленно, вальяжно прогулялись по городу — широко волновались платья, два раскачивающихся колокола, готовые зазвенеть, мелко тряслись от смеха банты… Через неделю в городе появилось уже несколько сильно раскрашенных девчонок, а через месяц все девчонки города (кроме явных консерванток, рано готовивших себя в матроны) стали похожими на Анжелу, первооткрывательницу, но настоящее счастье пришло весной, когда Анжеле принесли французский журнал мод: каким образом идея дошла до Парижа, ее не волновало, но факт оставался фактом: Анжела, советская школьница, восторжествовала по всему миру, и главная прелесть была в ее анонимности, нынешней затерянности среди прочих лялек — и слово новое для этого нашлось.
Яркорозовые, яркосиние разрумяненные ляльки шагали теперь по улицам и набережным всех городов мира, появились и соответствующие кавалеры под них, с длинными, гладко блестящими чубами, в светлых свободных брюках о больших карманах, чтобы можно было, глубоко засунув в них руки, посвистывая, небрежно войти, скажем, в кафе. Человечество вдруг помолодело, развеселилось особой жгучей улыбкой, красной, с ямочками на щеках, с чуть загнутыми вверх уголками губ…
Приятнее всего было делать фейерверки наверху, в солнечной мансарде, где ленты цеплялись за пыльные золотые лучи, властно ложились на чужие вещи: очень корректный футляр электрической бритвы уничтожен нежностью алого лепестка, а кокетливое махровое полотенце, нестерпимо синее, зачеркнуто пунцовой строкой и превращено во флаг Французской республики. Анжела стоит неподвижно, воображая себя размышляющей статуей без рук, вдруг в мысли врывается будущее — удивительное, феерическое, реальное и уже совсем близкое…
— Вон из Массандры! Шлюха! Во-он отсюда! — это кричит мать, спьяну перевирая слово, что Анжелу не смешит, она сходит по лестнице, пряча обожженную руку, внизу стоит высокая, давно ненавистная женщина, указательный палец она вбивает в ближайшее пространство, палец дрожит, она концертно выкрикивает:
— На панель! — словно немедленно предлагая идти, хочет что-то добавить, но в калитке появляется владелец черного футляра, виновник оскорбительного слова, хозяйка расплывается ему навстречу: Ну как? Теплая водичка? Я переменила белье (это ложь, что оно чистое, просто другое, знает Анжела) мать подходит вплотную к жильцу и просит денег, немного вперед, надо кой-чего по хозяйству, он поднимается к себе с неприятной улыбкой, искоса смотрит на девушку, осторожно прикрывает дверь.
Анжела запирается в своем сарае, ставит на пол свою шкатулку (и когда успела собрать?) вдруг громко и страстно хохочет, выбрасывает руку с указующим перстом на восток, топает ногой:
— В Массандру!
Спустя минуту она летит вниз, чувствуя тянущую инерцию поворотов, по бывшей Гимназической улице, мимо бывшей гимназии, ее школы, которая через месяц станет также бывшей, там недолго едет в рогатом до рынка, потом долго пешком; она знает, что мать сейчас движется поверху, в массандровский магазин (кой-чего по хозяйству) где ждут ее друзья в очереди за самым дешевым вином города; Анжела привычно целует в шею невысокую веерную пальму с желтыми мучнистыми цветами, чихает от пыльцы, забирается в уютную щель в бамбуковой рощице и там действительно плачет.
Вчера вечером кто-то осторожно поскребся о доски сарая, Анжела отложила книгу, вопросительно посмотрев на дверь, потом встала, сделала прыжок к порогу и, заложив руки за спину, продекламировала басом:
— Входи, таинственный незнакомец!
Но ее улыбка так и застыла внутри, не распустившись: это был не Лешка, а жилец, его глаза слабо фосфоресцировали, он медленно протянул руку и тронул ее обнаженное плечо. Анжела взглянула на длинные пальцы, меж ними выступила ее побелевшая кожа… Он осторожной щепотью взял Анжелу за подбородок и вернул ее голову на место, вынудив смотреть ему точно в желтые глаза; его мягко улыбнувшиеся губы плавно приблизились, тонкая поцелуйная трубочка в конце острого лица коснулась ее брезгливо сжатых губ, она услышала: моя нежная, моя хорошая, безумно люблю тебя! — откинулась: не смей говорить так! — твердое уперлось ей в живот, какая-то немыслимая третья рука забралась сзади под платье, сдавила ягодицу (тише моя звездочка, тише) и Анжела отчетливо крикнула: Мама, иди же сюда! — удивившись запретному слову…
— Чего тебе? — недовольно спросила мать так близко, словно присутствовала тут же, что было акустическим эффектом сарая. Насильник отпрянул, сделав руками смутное движение, как бы накидывая на Анжелу сеть.
— Пошел вон, — спокойно сказала Анжела, и он повиновался с молчаливым поклоном.
— Добрый вечер, — донеслось уже с улицы.
— Вы очень любезны, — видимо, он протянул в окошко розу, которую тут же в саду и сорвал. Вероятно, у матери был посетитель.
2
Все это произошло потому, что позавчера жилец, этот стареющий, но молодой гражданин с бритвой — Анжела не могла определить его возраста, что-то между двадцатью пятью и пятидесятью — предложил ей (как они это почти всегда делали) показать ему город.
Он подстерег ее на лестнице за калиткой, красивый, седой, когда Анжела, в изумительной своей синей юбке шла проверять розы (Прекрасная погода, сударыня, не правда ли? — О да, сэр! В здешних местах солнечные дни столь редки. — Не будете ли вы столь любезны…)
Он шел выше по склону, почтительно отставая на шаг, провоцируя Анжелу запрокидывать голову и выворачивать глаза: она видела перевернутый торс, они спускались садом, листья хлопали их по щекам.
— Милая девушка, покажите мне что-нибудь вам дорогое, знакомое с детства, особенно радующее.
Она было возмутилась, но вдруг ей пришло на ум нечто: сейчас я ему покажу, злорадно сказала она сама себе.
— Вот это, — спустя два поворота махнув на свою школу, объявила она, — есть бывшая синагога. Весь наш квартал, ваще, еврейский. До революции здесь жили одни менялы и лавочники. Их выселили вместе с татарами, по ошибке, но потом они хитрым образом вернулись, и что же? Увидели, что в их домах живут уже другие, злые люди и не хотят их пускать… Что вы — тут были даже уличные бои, баррикады!
Жилец внимательно слушал, кивая головой в такт ее пассажам. Голубые глаза были добры и пристальны, они немного смеяшничали, казалось, он и вправду верит ей.
— А знаете, что это за дерево?
— Нет, — улыбнулся жилец.
— Это (Анжела сымпровизировала и тут же забыла трехэтажное латинское имя, и жилец медленно сощурился на нее) Зимой у него созревают большие острые стручки, они лопаются и летают туда-сюда, как бешеные огурцы. Иногда прохожим вышибает глаза.
Они быстро спустились вниз, вместе заваливаясь на поворотах, как два велосипедиста, на углу Кирова Анжела, подпрыгнув, шлепнула обеими сандалиями по брусчатке.
— На этом самом месте, — возмущенно воскликнула она, — большевики расстреляли из наганов моего родного дедушку.
— Кем же был ваш дедушка?
— Офицером. В прошлом году мы с братом ездили во Францию за наследством, но таможенники немедленно заставили передать его в фонд мира.
— А кто ваш брат?
— Офицер. Лейтенант старший — и брат и лейтенант. Видите этого парня в клетчатых кальсонах? Неделю назад он признался мне в любви.
(Лешка, насвистывая, прошел мимо, гордо не заметив, он мило держал кулаки в карманах, его свободные ноги выделывали замысловатые кренделя…)
— В вас можно влюбиться, сударыня, — серьезно сказал жилец, подождав, пока Лешкин топот уйдет. — Будь я помоложе да получше…
— Ах, разве возраст имеет какое-то значение… — Анжела потупилась, внутренне смеясь, и жилец стал молча разминать папиросу.
Анжела рассказала о том, что в часовой башне давно уже нет механизма и его работу выполняет специальный человек, постоянно и медленно двигая стрелки. Она рассказала о том, что с крыши розового дома на Партизанской в марте бросился отчаянный кот-самоубийца, но, к несчастью, зацепился за ветки и остался жив… Ее фантазия иссякла и феерического конца не находилось, к тому же ей стало скучно, ее единственный зритель с любопытством наблюдал за нею, выпуская клубы дыма, разноцветного, в зависимости от того, с чем они взаимодействовали — с гладью желтого столба или с кустами лавровишни.
— Однако, — сказал жилец, чем-то удивленный. — Вам же просто необходимо учиться, хотя ваша мама… Впрочем… Вы знаете, — вдруг горячо заговорил он, — нас, москвичей, обвиняют в том, что мы не знаем своего города, а ведь это решить можно просто, например, ввести в школах курсы истории и географии данных городов. Это моя старая идея, и сейчас я пишу об этом статью.
— Вы писатель?
— Журналист. Возьмите в воскресенье местную газету и посмотрите мой очерк. Но дело не в этом. Вам надо учиться (Анжела зевнула) В Москве много хороших вузов. Выберете себе по вкусу и приезжайте через месяц, а?
Анжела молчала, глядя на свои идущие ступни…
— Кстати, я забыл вам представиться, Анжелика, меня зовут… (Он произнес имя-отчество, сразу вылетевшее из головы, что-то вроде Борис Николаевич — скучно — он так и остался как был «жильцом»…) Вот мой телефон, — и он торопливо записал в блокнот, вырвал, словно они сейчас же расстанутся, Анжела взяла бумажку и не глядя засунула за лиф, причем жилец замолчал и сглотнул — вверх-вниз, как поплавок, качнулся его кадык.
— Мой сын учится в блестящем вузе, в замечательном, он называется МИРЕУ, и если у вас есть склонности к рисованию, то…
— Я не умею рисовать.
— Но я видел…
— Это картины брата.
— У вас правда есть брат?
— Я же сказала: старший лейтенант.
Они вдруг пошли молча. Она заметила, что идут они не как курортники, по набережной, а как местные — по Чехова.
— В этом доме, — тихо и убедительно сказал жилец, — помещалась лютеранская кирка, вон та улица называлась Лютеранский тупик, и жили здесь сплошные лютеране.
Анжела с любопытством посмотрела в ласковые глаза.
— Вон то дерево называется альбиция, — сказал жилец, как будто какой-то автор, хитро заморочивший голову ложными ходами, вдруг высунул свой шершавый язык между строк.
— Да неужели? — удивилась Анжела. — По-моему, это акация, ленкоранская акация (ее тончайшие нежнозеленые листочки цвета одного из ее бантов — она называла его ленкоранским — сейчас уже начали медленно сворачиваться на ночь, повисая слабыми жгутиками)
— Правильно, — назидательно подтвердил жилец. — Но второе название — латинское.
— Альбиция… — задумчиво произнесла Анжела.
— А это шикарное дерево называется айлант, причем, данный экземпляр — самый крупный на побережье.
— Вот уж нет, — засмеялась Анжела, — теперь уж вы меня мудрите! Это самая обыкновенная вонючка, зеленус воньюс вульгарис.
— Моя дорогая, это в просторечии. На самом деле — айлант. Нравится?
— Не очень. Альбиция лучше. Смотрите как… — она повернула к жильцу лицо и медленно, с нежной лабиализацией губ повторила это слово, причем жилец снова неприятно сглотнул, будто съел что-то не то.
— А вот, — продолжал он сладко, — Трахикарпус Форчуна…
Анжела нахмурилась.
— Больше не нужно, — сказала она. — Это веерная пальма. Она уже отцветает.
— Но это Трахикарпус Фор…
— Замолчите!
— Что с вами?
— Не называйте больше деревьев. И ваще, откуда вы все это знаете?
— Но радость моя! — воскликнул жилец, — разве это плохо, знать, наконец, мир, в котором живешь, вдыхать его краски, его слова, чтобы все это рассказать там, куда мы все уйдем? — он поднял глаза к небу и превратился в пастора.
Анжела тоже посмотрела вверх и увидела очень далеко птицу, которая с позиции своего парения следила за нею.
— А звезды вы знаете? — спросила она.
— Конечно, — ответил жилец. — Я даже могу вам кое-что подарить, — он порылся в кармане и протянул небольшую карту звездного неба. Анжела заглянула в нее, но неба не увидела, и накрыла карту ладонью.
— А вы можете их просто показать? — спросила она.
Жилец явно смутился и громко кашлянул. Звук был похож на откровенный выход дурного ветра.
— Для этого надо ночью пойти на открытое место, а ваша мать…
— Что вы все заладили — мать, мать! Мать вашу мать! — Анжела выругалась и жилец уставился на нее. — Я одна живу, на вилле Елена, в сарае, я свободна, вы понимаете?
— Очень даже понимаю, — почему-то опять заволновался жилец и, взорвав папиросу, стал пускать теперь уже вечерние дымы.
— Смотрите! — радостно воскликнула Анжела, схватив его за рукав, — Вон тот старичок у киоска.
— Старичок? — улыбнулся жилец. — Вовсе он никакой не старичок.
— Старичок, — твердо сказал Анжела. — Еще какой старичок, мне-то лучше знать.
Старичок Будякин в это время радушно беседовал с практиканткой киоскершей, та рделась, видимо, он говорил ей комплименты или делал гнусные предложения.
— Это, — объяснила Анжела, — одна из многочисленных живых достопримечательностей Южного берега, о них пока не пишут книжек.
— Чем же он знаменит?
— А вот этим и знаменит, — сказала Анжела, нарисовав в воздухе овальную раму, заключившую в себя старика и девочку. — Он сделал предложение руки и сердца каждой первой ялтинской ляльке.
— И вам, конечно, тоже?
— Раз десять. (Анжелу эта участь, к счастью, миновала) Это самый главный в городе жених, старичок Будякин.
— И много у вас таких старичков, то есть, тьфу… Я хотел сказать — достопримечательностей?
Анжела подумала, посчитала (София Ротару, Старуха-графиня, Вова-чалма, почтальонка Лариса, Петя-патефон и т. д.) прибавила, наконец, и себя, получилось восемь.
— Я думаю, вас все-таки девять, — сказал жилец, весело потрепав Анжелу по плечу.
— Знаете что, — сказала она, — сейчас мы с вами расстанемся, а в десять выходите к бассейну, когда будет совсем темно, ладно?
— Слушаю и повинуюсь, — с улыбкой ответил жилец и двумя пальцами коснулся на прощание ее руки.
Пока еще не стемнело, Анжела должна была проверить розы. Она знала все места в городе, где росли эти странные цветы, и сейчас, в разгар цветения, ежедневно совершала обход. Порой по ночам она выходила, крадучись, из дома и возвращалась вся исцарапанная, победно посвечивая фонариком, неся в руках охапку украденных роз, которые чаще всего росли за металлическими решетками, сторожились бешеными собаками… Хозяева надежно хранили свои цветы, словно гирлянды каких-то полных золота растительных кошельков.
Стоя в воде, цветы медленно, по часам распускались, разворачивали лепестки и горели все ярче с каждым взглядом, Анжела подолгу наблюдала градацию цвета, потом, когда они умирали и сохли, градация продолжалась, лепестки опадали, Анжела растирала их между пальцами и вновь готовила чудесные розовые краски, и рисовала ими розы, опять же розы, еще более прекрасные, невыведенных и неназванных сортов, которые в свою очередь распускались, разворачивали лепестки, сохли, питая ее новыми красками… Разумеется, наряду с некоторыми оттенками, Анжела неверно понимала и некоторые слова…
Давно ожидаемый куст у летнего почтамта наконец разразился темнопурпурными цветами, крупная, как кочан капусты, роза у купоросного фонтана — мучительно отцветала: эти огромные уроды живут недолго… Все остальные кусты молчали.
По пути Анжела встретила двух знакомых, по нескольку минут, как требовал этикет, поговорила. Старичок Будякин был уже на новом месте, продолжая свой вечерний обход: он ел пирожок напротив Клуба моряков, и светловолосая пирожочница упорно не отвечала на его льстивые шутки.
В девять Анжела была дома и, воспользовавшись отсутствием Хозяйки и здоровым храповитым сном жильца (высыпался, готовясь к ночным астрономическим наблюдениям) проверила цветы натюрмортов.
Сидя на веранде, она долго следила за полетом жука, пока ласточка, спикировав, не склевала его. Смерть ничего не изменила в этом сумеречном мире…
Был теплый лиловый вечер, тонированный полной луной. Там, над Турецким берегом, некто строил лиловый облачный город, а тут, на обратной стороне Луны, Анжела, свесив ноги, сидела на подоконнике (лиловые глаза) и, вальяжно перебирая гитарные струны, пела последний ялтинский романс, столь же сентиментальный, сколь и смешной.
Жил на свете один старичок,
у него была серая шляпа…
(Сначала проникновенно и тихо, как бы сдувая одуванчик… Но затем все устойчивее, тяжелее заскользили куда-то под парапет его невидимые парашютики…)
Вечерами он липовый чай
в одиночестве пил на веранде…
И быстро, внезапно, со скоростью дождевой воды в период дождей, полилась мелодия вниз, и на улице Кирова, на Партизанской и ниже, на Набережной — подняли головы праздные горожане, внимая все растущей, все более лиственной песне.
Я спросил у него: для чего
старичок, тебе серая шляпа?
Почему ты все пьешь при свечах
с наслаждением чай на веранде?
И, болтая ногами, Анжела трубочкой губ обращалась к луне, и все драматичней, все экспрессивней звучали слова, и вот уже кто-то, облокотившись на кожух шестидесятисильного двигателя канатной дороги, хорошим голосом подхватил (вытирая машинным маслом испачканный рот, роняя гаечный ключ в неизвестность…) и дальше, в порту, на борту «Гремучего», громче, обняв друг друга за плечи, раскачиваясь на фоне отраженных звезд, закончили пьяные матросы великолепный крымский романс:
Я просил его, я умолял,
я рыдал и заламывал руки,
но на это в ответ старичок
лишь беззлобно и тихо смеялся.
И, уже обезумев, его
Я ударил в живот головою,
но на это в ответ старичок
лишь тихонько и тоненько пукнул…
3
Выйдя к бассейну, Анжела плеснула в лицо жильцу быстрым светом фонарика, тот комически заслонил ладонями глаза. Анжеле стало жаль этого человека, и она вдруг решила сегодня, после астрономических наблюдений, прощаясь, плавно протянуть ему руку для поцелуя…
Жильцу не терпелось отправиться в путь, он мазурочно предложил ей локоть, но она задержалась у бассейна, высвечивая рыб. Это был круг в пять шагов диаметром, глубиной по колено, с облупившимся дном, с остатками погибшего еще до первой мировой войны фонтана. Когда-то давно Анжела мечтала починить его, фонтан в собственном саду, но таинственная труба молча уходила в землю, неизвестно где было второе отверстие, связующее ее с миром, и раскопки привели только к тому, что десятилетняя девочка была до крови бита матерью.
За рыбами так или иначе следили все жители их большого разветвленного дома, скорее, даже, сочувствовали им, точнее — смотрели на них. Обязанности кормить, гонять их, чистить водоем добровольно поделили между собой Анжела и почтальонка Лариса, живущая в башне.
Анжела повозила световым столбом в заискрившейся и вдруг принявшей вещественность воде. Рыбы спали стоя, все шесть, крупные, темнокрасные «золотые» рыбки, они не знали, что сейчас будет, Анжела знала: насладившись ожиданием, она хлопнула ладонью по воде — рыбы взбесились, заметавшись над своими тенями… Анжела увидела, что одна из них все еще спит, Анжела перегнулась через край и осторожно почесала рыбе брюхо, рыба демонстративно всплыла: она была мертва.
Уберу завтра, подумала Анжела, и внезапно ей стало так больно, так горько — невыносимо — не от самой гибели рыбы, а от того, что она подумала о ней так: уберу завтра…
Они наконец отправились. Жилец держал ее под руку, старательно светил фонарем, оба молчали. Анжеле с каждой минутой становилось все хуже.
— Куда мы идем? — спросили ее.
— В парк Эрлангера, — буркнула она.
Они прошли мимо спящей машины под чехлом, мимо взвывшей вдруг собаки (Анжела знала ее, внимательно изучила ее цепную стационарность, но иногда по ночам ей казалось, что собака воет все ближе) они спустились и поднялись, минуя бездарную детскую площадку с уродливой ракетой, страшной в темноте, и, лишь забравшись на скалу, нетерпеливым движением погасив в руке спутника фонарь, Анжела подняла голову к небу.
Звезды были на месте. Она осмотрела их и успокоилась.
— Показывайте.
Глаза жильца заблестели — наступил его час, здесь, на скале Шаляпина, в зарослях небесных и городских огней, он был единственным владельцем и директором Планетария.
— С чего же начать?
— С Медведицы, разумеется, я только ее и знаю.
— Да, обычно начинают именно с нее. Соедините мысленно две крайние звезды ковша, отложите это расстояние — и т. д.
По мере путешествия, во время которого жилец однажды был вынужден заглянуть в путеводитель (включив фонарь, сузив рамки Вселенной, неприятно осветив свой острый профиль) Анжела все больше мрачнела и хмурилась, наконец, опустила голову, пробормотав:
— Хватит.
— Но почему?
Она легко сбежала со скалы и, стоя у ее подножия, простерла руки к удивленному силуэту.
— Да потому что это никакой не Лебедь, а Крест, слышите? А это не два разных созвездия, а одно, и называется оно… Впрочем, не важно. Пошли.
— Ты чудо! Ты удивительная девочка! — крикнул жилец со скалы и заволновался к ней навстречу, как бы в порыве, бросил руку ей на плечо, но поцеловать промахнулся, потому что Анжела удачно отклонилась, как боксер от удара.
— Потрудитесь называть меня на вы, — бесцветно сказала она, отвергла руку и хмуро пошла по гравийной дорожке.
— Смотрите! — вдруг крикнул жилец. — Звезда упала.
— Куда, в болото?
— Ах, какая вы несправедливая!
— Давайте помолчим, а? — Анжела обернулась и посмотрела на жильца так, что он тихонько икнул.
(В это время Лешка, который несколько минут назад пришел в гости и недоуменно ждал Анжелу у двери сарая, глядя сверху, как кто-то возится с фонарем подле бассейна, уже шел домой, тихо ругаясь вслух… Анжела прошла тем местом, где он только что стоял, вдруг увидев в темном воздухе узкий стеклистый туннель — след ушедшего человека.)
На подходе к дому она все-таки смягчилась: протянула руку для поцелуя, и жилец страстно приник к ней, щелкнув каблуками. Анжела посветила фонарем на его снежное темя.
— Не сердитесь, примиренчески сказала она, — просто у меня сегодня плохое настроение.
— А! Понимаю… Конечно-конечно. Но поцеловать-то вас хоть можно?
— Что? Зачем целовать?
— Да-да, понимаю… — он вдруг развеселился. — А завтра будет хорошее?
— Что — хорошее?
— Настроение.
— Надеюсь.
— Понимаю, понимаю… — как-то даже пропел или промурлыкал жилец и сгинул.
Анжела вошла к себе (ничего не изменилось — ведро с водой, полное и потому казавшееся пустым, акация в горшке, уже намертво сжавшаяся, лампа…) и тихо сказала, может быть, даже подумала сквозь зубы:
— Дурак.
Лежа навзничь, она играла в спящую статую, для нее не существовало ничего здешнего, только бездна, которая простиралась сразу над крышей, она думала о ней, о ее черноте и беззвучии, о чем-то просила ее. Анжеле вспомнились поднятые к небу глаза и орел в зените, ультрамарин и аквамарин…
Вдруг на дворе остро, ужасно зашумело, она никогда в жизни не слышала подобного звука, он тянулся, слишком быстро расширяясь, на мгновенье сравнялся с гулом летящего самолета, но тут же перешагнул эту грань, заполнил собою все сущее, превращаясь в странный нарастающий свет — как длительная фантастическая молния, — и разрешился ударом, от которого содрогнулся весь мир. Чашка на столе совершила короткий звенящий прыжок.
Захлопали ставни, все зашевелилось, закудахтало, пролился желтый оконный свет, активные голоса: Что? Что это было? Ты жив? Где бомба?
Клацнула дверца машины…
Анжела вышла. Прямо перед ее дверью, в том месте, где недавно она стояла, было некое изменение почвы, зияла небольшая лунка, от нее шел пар… Сердце забилось, Анжела присела на корточки и дотронулась до того, что лежало в лунке, вскрикнула, кинулась домой, вернулась с ковшом воды, полила лунку, глядя на исчезающее шипение, потом осторожно взяла чуть теплый кусок метеорного железа, ощутила его невозможно сладкую тяжесть и едва успела затоптать лунку, как кто-то подошел, кажется, почтальонка Лариса — кутаясь в одеяло, зевая в кулак, подозрительно оглядываясь.
— В чем дело?
— Не знаю.
— А что у тебя в руке?
— Так, деревяшка… Ты знаешь, рыба умерла.
— Ну? Принеси-ка фонарь.
— Сейчас.
На протяжении разговора камень в руке раскалялся, стал невыносимым, хотелось закричать, она прыгнула к себе, шепотом застонала, бросила его в ведро, он слабо шипнул в последний раз и со сладким стуком коснулся дна, потом они с Ларисой смотрели рыбу, и Анжела украдкой держала руку в воде…
Ночь все еще волновалась, окна слепли с мучительной медлительностью, тени ходили по двору, внизу развернулась машина, послышался раздраженный голос:
— Должен же он куда-то упасть!
Фоном всего был невыносимо комический храп жильца мансарды, тонкий храп матери и незнакомый третий храп рядом с нею (А, вспомнила, уже был один раз…) и хлопотливость Ларисы с ловлей мертвой рыбы…
Вернувшись домой, Анжела заглянула в ведро. Вода успокоилась. Он лежал на дне и цвет его был чернее черного.
4
На следующий день была консультация в школе, Анжела старательно срисовывала с доски химические формулы, таинственные бензольные кольца, отрадой взгляда были, конечно, стеллажи с различными веществами в склянках — гладкопурпурный купорос, снежнобирюзовая соль, кубовый натрий.
Разговоры вращались вокруг грядущего выпускного бала, ночного небесного шума, нового фильма с Ришаром… Лешка мрачно подошел после всего, предложил проводить, она не возражала. Сказать друг другу было принципиально нечего. За поворотом, где начинался подъем мимо смелой высокой стены серого камня, он признался (в 111-й раз) — Я вас люблю…
— Я вас тоже, Лешка, — спокойно ответила Анжела.
Он насупился и тупо повторил с той же интонацией, делая невозможно огромное Ю, потом извлек из портфеля микрокалькулятор, пошлепал по кнопкам и выразительно показал табло, где пылали огненные цифры — 112.
Они добрели до белого столбика, где обычно прощались, если Лешка не напрашивался на чашку чая, он помялся и еще более твердо сделал 113-е официальное уведомление. Анжела взяла Лешку за пуговицу и повернула ее, как бы выключая что-то.
— Слушай, — сказала она, — меня, наверно, скоро здесь не будет.
— Я поеду с тобой, — спокойно ответил он.
— Нет, милорд. Я уеду очень далеко. Одна.
— Куда?
— Не знаю, но меня, кажется, вызывают… — она вдруг рассмеялась, глянув сквозь ветки на небо, как бы проверяя, не собирается ли дождь. Кедровая лапка махнула светлозеленой шишкой.
— Впрочем, глупости, Лешка. Целуй.
Она плавно потянула здоровую руку и Лешка чмокнул ее в одну из синих жилок, щелкнув каблуками сандалий.
— Что у тебя с рукой? — спросил он, оглянувшись после нескольких прощальных шагов.
— Звезда упала на ладонь, — честно призналась Анжела и поправила бинт.
— А знаешь, куда тебя надо послать?
— Конечно.
— Ну и оставайся там, поняла?
Анжела повернулась и полезла садом наверх, сделав толстенькую обиженную спину. Лешка не окликнул ее.
Вечером произошла отвратительная сцена с жильцом (Безумно люблю тебя!) через день — очередная ссора с матерью (Вон из Массандры!) той же ночью — жуткая оргия: был гитарист, тускло пел романсы, потом мать кричала на весь дом с ним в постели, Анжела затыкала уши, а наутро она увидела, что мать изменила свое отношение и к ней, и к жильцу, как бы перемножив обоих. Анжелу она весело и страстно приветствовала, а жильца, немного погодя с поклоном сошедшего вниз, проигнорировала утробным бурчанием. Анжела задумалась, но коротко…
Весь следующий день ее как бы не существовало, вечером кто-то долго скребся в дверь, наутро было воскресенье, она сбежала к киоску, купила газету, просмотрела, запоздало сообразив, что не знает фамилии жильца-журналиста. Все ей показалось совершенно серым: рекламы кинотеатров, Пьер Ришар, проблемы сезона, метеостанция Ай-Петри, заметка сотрудника Симеизской обсерватории («Поиски продолжаются») наконец что-то очень веселое, но легко забывшееся, вроде сказки, подписано именем Сверчок. Анжела решила, что это и есть очерк Бориса Николаевича.
Она извлекала из тайника бумажку с телефоном и долго рассматривала большой семизначный номер. Кто он такой, думала она, есть ли у него жена, дети? Большая ли квартира? Из всего разговора она помнила лишь это жуткое слово МИРЕУ. Никогда прежде никто не называл ее на Вы, кроме, разве что, Лешки, никто не говорил так смешно и умно. Ведь не Лешка же станет тем человеком, который… В жизни у каждой девушки есть момент, когда надо наконец… Надо, чтобы это не было случайностью, чтобы это было моим собственным поступком, а не какого-нибудь «его» (Она как бы заполняла страницы воображаемого дневника, ясно видя эту никогда не существовавшую книгу: монотонная коричневая обложка, строгий титульный лист — «Дневник Женщины», вверху наискось ее инициалы — А.М . Жук ползет по странице, будто читая ее тайны. Этой книги никогда не будет на свете…)
Если бы он не был так смешон, жалок… А впрочем, может, именно таким и должен быть первый Он. Интересно, сколько их будет вообще и поддается ли это учету? Сто десять — это много или мало? Сколько их было у матери? Еще говорят, что существует тяга к первому, вот поэтому первый и должен быть каким-нибудь таким — чтоб не тянуло. Да. куча причин… Итак, моя дорогая графиня, ваш выбор сделан. Рыцарь вашего сердца летит к вам на крыльях Эзопа. Так кажется…
(Она лежала немо, недвижно, вспоминая, как много лет назад впервые ощутила себя голой и начала счет своим родинкам: они открывались внезапно, как бы рождаясь — родинка на бедре, крупная, а на левой груди снизу, поменьше, фамильное родимое пятно на икре, доставшееся от отца… И самая главная, предмет гордости, Божественная отметина — изумительная, коричневая, чуть ниже левого уха, огромная, величиной с трехкопеечную монету, поросшая золотистым пушком… Внезапно все ушло в сон: повторилось падение звезды, уже беззвучное, в красках, со стороны, как будто чей-то немыслимый взгляд отыскивает именно ее дверь, виллу Елена… Отец прошел и коротко оглянулся, он строил дом, ему было некогда… Нет, никогда… Там далеко она будет совсем другой, новорожденной женщиной, у нее будет много боли, много любви…)
Ровно в полдень в дверь постучались, потом тяжело и грузно вошли, она сдвинула с глаз ладонь — это был Борис Николаевич.
Он сел без приглашения боком к столику, снял соломенную шляпу, сощурился на свою газету и кисло улыбнулся, накрыл газету шляпой и разинул рот, дабы что-то сказать, но так и не сказал и рта не закрыл.
— Знаете, что у меня в руках, — сказала Анжела, садясь на постели, жестом дарующей яблоко протягивая камень, с которым только что спала.
— Ну? — вяло спросил старик.
— Он упал с неба, прямо в наш двор. Я стояла рядом, еще немного, и меня бы разнесло на куски.
— Я вам верю, девушка, — сказал Борис Николаевич и вдруг сорвался на быстрый шепот: — Анжела, я умоляю вас, не делайте этого, я не знаю, как буду вам благодарен, всем святым, небом заклинаю вас, ладно?
— Будьте покойны, мой нежный друг, я этого не сделаю.
— Правда?
— Слово офицера.
— Ну вот и хорошо, вот и договорились, а то я чуть было с ума не сошел.
Большой коричневый жук слепо ткнулся снаружи в стекло и канул вниз.
— А что вы имели в виду? — поинтересовалась Анжела.
Лицо Бориса Николаевича сделалось длинным, отчаянно тупым.
— Вы прекрасно знаете — что.
— Честно говоря, я понятия не имею.
— Вы притворяетесь, и это нехорошо. Негоже так издеваться над старым больным человеком. У меня сердце, почки, печень и многое другое.
— Ну и что? У меня тоже почки, печень, может быть и сердце, — Анжела охлопала себя по торсу, внутри которого, наверно, и вправду были какие-то органы.
— Но Анжелика! То, что вы предлагаете, немыслимо, у меня нет такой суммы…
Анжела вдруг напряглась и уставилась на говорящего:
— Продолжайте.
— Я понимаю, что вашей матушке нужно… Но если у меня нет и негде взять, не могу же я только из-за этого…
— Так, — Анжела мазнула указательным пальцем в воздухе, поверх его лица.
— Ведь между нами ничего не было, вы ведь подтвердите, где угодно. Ну, вошел, ну, дотронулся, хотел поцеловать, и то неудачно, хе-хе.
Он нервически рассмеялся.
— Понятно, а я думала… Уф! Вы меня играете, — Анжела весело посмотрела на жильца. — Сколько она просит?
— Четыре.
— Рубля?
— Боже мой, тысячи!
— Давайте двести.
— У меня только сто свободных и сейчас же съеду.
— Деньги с собой?
Жилец поспешно полез в карман, внезапно став многоруким, на свет появились последовательно: книжечка о природе Крыма, футляр от очков, бумажник… Анжела встала, выпрямилась, нацелив груди прямо жильцу в лицо. Он колебался с невиданной серой бумажкой меж пальцев.
— Руки грязные, — подсказала Анжела, и жилец, поморщась, сунул ей бумажку за лиф. Рот его скривился от отвращения.
— А теперь вон отсюда. Насовсем.
Он поклонился и вышел.
— Это прямо-таки андж какой-то … — загадочно пробурчал он.
— Что? — удивилась Анжела, застыв в дверях.
— Андж, андж! — бросил жилец через левое плечо, уходя, надеюсь, навсегда.
Анжела легла навзничь и расхохоталась. Немного погодя вошла мать, как некое явление, словно тут разыгрывается какая-то пьеса.
— Анжелочка!
— Да, мамочка!
— Вот и хорошо, хорошо. Ты ведь уже не сердишься?
— Что ты, родная!
— Скажи моя доченька, с тобой ничего недавно не случилось?
— Ты хочешь спросить, не изнасиловал ли он меня?
— Ну да, ну да.
Анжела села на кровати.
— А если я скажу да?
— Ты умница у меня. И не будем ссориться. А этому, — мать прикрикнула на закрытую дверь, — борзость его дорого встанет… Кобель! — заорала она, подмигнув дочери.
Анжела смотрела на мать с нарастающим любопытством.
— У меня его паспорт в закладе, никуда не денется, хе-хе… Да, доченька, скажи мне пожалуйста, только не сердись… Ведь будут проводить экспертизу, ты… Ну, в общем, твой Лешка, он…
Анжела рассмеялась матери, что называется, в лицо.
— С этим у меня все в порядке, дорогая, я, знаешь ли, с тринадцати лет… (Мать брезгливо поморщилась) А впрочем, хватит! — Анжела встала. — Аудиенция окончена. Отдай этому господину ксиву и пусть катится (Мать заморгала, казалось, она сейчас заплачет) Я скоро уеду. Ты больше не приставай ко мне с этим, ладно?
— Ах вот как! — зашипела мать, опять переменившись. — Значит, я тебя поила-кормила, а теперь…
— Допустим, поила ты вовсе не меня…
— Тварь!
Мать замахнулась. Анжела увидела бесконечно медленное движение, сминающиеся в кулак пальцы. Казалось, прошли долгие минуты. Дочь позволила кулачку окончательно созреть, приблизиться, затем отклонила голову, чтобы удар прошел мимо, крепко схватила женщину за воротник, выставила на двор и накинула крючок. После паузы осознания мать заколотила в дверь, заголосила, но встретив молчание (дочь сидела на кровати, скрестив руки на груди и раскачиваясь) ретировалась к себе. Анжела стала собираться.
В цветочном горшке на подоконнике росла крохотная акация, месяц назад вылупившаяся из семечка, присутствующем тут же, у самой земли, в виде двух мясистых семядолей. Миллиметровые перистые листья набрали сочнозеленый блеск, и она, эта грудная девочка, уже стыдливо сжималась на ночь, как взрослая — именно это и удивляло Анжелу, именно в этом Анжела видела некую трагическую прелесть…
На той неделе Анжела обманула ее, заперев ясным солнечным днем в черный чулан. Через час, как миленькая, она покорно сложила листья. Радуясь, Анжела мгновенно устроила ей новое утро, подарив девочке еще один день жизни.
Анжела не могла вспомнить, как он назвал ее по латыни, это имя связывалось по цвету с ее собственным… Ах да! Гельвеция… О, моя бедная Гельвеция, посаженная мною, возросшая из семечка за месяц! Ты станешь большим деревом, у тебя будет много детей, ветром их разнесет по всему берегу, а я к тебе приеду, нет, я приду — пешком, по оползням с Караголя, моя Гольдония, неужели никогда? Я буду знать, что ты растешь вдали от меня, и каждый вечер сжимаешь свои ветви, ты, женщина, и цветешь чудесными розовыми метелками, удивительно розово пахнущими, а потом стреляешь по улицам семечками, вышибая прохожим мозги, о, ценнейшая Альбиция моя!
Анжела увидела, как мельчайшие лепестки сомкнулись, словно поймав что-то в воздухе: пьеса, конечно, длилась более получаса, но произошла счастливая остановка времени — листья сжались мгновенно — в три крепких кулачка…
В черной кожаной сумке лишними оказались: цветное содержимое шкатулки (которая, расколотая со второй попытки о край металлической кровати, параболой полетела в угол) алой лентой перевязанная пачка писем (в фирменных крымских конвертах, написанные одной и той же рукой) и камень.
Сумка была тяжела, но выглядела неполной. Одеяло Анжела скатала отдельно в загадочный сверток (яркоголубая лента) колючий козий свитер накинула на плечи, как шаль. Проснувшись утром в бамбуковой постели, она не сразу сообразила, где она и зачем… Анжела села, обняв колени, глянула исподлобья на веерную пальму, раскрытую в необычайно золотых солнечных лучах, и сказала ей строго:
– Трахикарпус ты. Форчуна.
5
Ночи были еще не пригодными для вольной жизни, розовый цвет бамбука, вопреки своей природе, становился непереносимо холодным на утреннем солнце, по соседству, на плоской крыше ливанского кедра, жила большая коричневая птица-кукух, Анжела заговаривала с иностранными туристами, высохшими, гладкокожими стариками, мать караулила Анжелу у школы, плакала, трезвая (С кем ты живешь? — С кем попало) Анжела вернулась домой побежденная, глотала лошадиные дозы аскорбинки, улицы шумели уже летним разноцветием, золото медали было матово серым, Лешка танцевал во фраке и белых перчатках, альбиция выкинула еще два крохотных стыдливых листа, наметив крону, Анжела высадила ее чуть выше Трахикарпуса, в последний раз полила водой из ручья, Лешка сделал последнее официальное предложение руки и сердца, нарисовав в воздухе остроконечную крышу будущего дома, с треугольником моря за кормой, с высоченной юккой на горизонте, перед самым отъездом Ялту потрясло страшное событие: под выставочным залом, в зарослях у речки, нашли старичка Будякина с шестью огнестрельными ранениями в паху (Ему и пятидесяти не было, говорила соседка — Значит, за дело, отвечала другая) Анжела оставила матери записку, чтобы она снова не лазила по всему городу, а лучше спокойно сидела дома и пила с горя, в мансарде сменилось два жильца, некоммуникабельных, Анжела спустилась по Гимназической с заплечным мешком, полупустым, но тяжелым, маятниково отклоняясь на правых поворотах, показала язык милой, гладковыписанной иконе над дверью церкви, на автовокзале плакала девочка-кузнечик с ободранными коленками, прохожие косились на нее, Анжела присела на корточки, не снимая мешка, строго посмотрела, спросила, ткнув пальцем в оранжевый бархатный животик:
— Как зовут?
Бедняжка перестала реветь и тоном глубокой тайны доверила:
— Алиска.
— А меня Анжелка, — сказала Анжела. — Слышишь, какие у нас обеих редкие имена? Мужчины нас очень будут любить за это (Алиска совсем успокоилась, улыбнулась) Ты, видно, потерялась, милая, где ты живешь, куда тебя отвести? (Алиска опять выразила страдание…)
— Москб.
— Что? — изумилась Анжела. — Москва?
— Не Москб, а Москб! — Алиска снова заревела, Анжела вдруг дала себе слово не плакать больше никогда в жизни, по крайней мере, ближайший год (Что за Москб такая, может быть, Мексика? — за десяток лет мучений ни одной четверки по географии, равно как и по другим ненавистным дисциплинам…)
Мимо проходил беспечный милиционер, покачивая плечами, Анжела схватила его за кобуру и сверху вниз энергично указала пальцем:
— Разберитесь! — и уже уходя, спеша, услышала стальное милицейское: что? Морская? — Ах, ну конечно! Морская, милая желтая улица в центре, почти золотая, да и говорила Алиска совсем по-ялтински, какая может быть Москва?
Анжела вскочила в троллейбус, двери сразу закрылись, машина сразу поехала, повернула и набрала высоту, Ялта была далеко внизу, взгляд, кинематографически падая на зеленый мохнатый бок Дарсана, отметил белый квадратик виллы Елена, ее щелистого сарая, за новым виражом Ялта ушла в дымку, словно долину Дерикойки заполнила морская вода, конец света, за третьим — Ялта исчезла навсегда: кивнула Козел-гора, спиной развернулась Медведь-гора, привстали Лешка-гора, Анжелка-гора, меж ними выгнул китовую спину перевал, высота 752 метра, но это неправда, катимся все быстрее, воздух все мрачнее, жестче, садимся в самолет, опять взлетаем, летим, машина закладывает вираж, закладывает уши…
Внизу страдания множества ослепительных цветов, мгновенные радуги, стеклистые червячки, в колодцах между туч мерцают цепями улиц города, мерцают реки, небо металлически спокойно…
Здравствуй, дорогой мой брат, — написала Анжела, — прости, что лечу не к тебе.
Так же, как некогда ты, я навсегда покидаю наш дом… Нет, слишком слезно — вымарать. Я не хочу больше жить у этой твари… Грубо — туда же. Милый мой как тяжело бросать все такое привычное такое затасканное затертое до дыр конечно бросать потому что есть на свете множество других не менее чудесных городов (вымарать!
Ее письма всегда были трудночитаемыми, словно черновики великих писателей, она никак не могла выдержать тон, а ей именно и хотелось держать ровный тон, хотя бы на одном листе)
Брат мой, короче, я еду, надоело все к черту, девки достали, Ялта опостылела, жара, скука, мамочка, родная моя мамочка, прощай!
6
Зима была снежной, тяжелой, яркое солнце, искристые брызги его казались какой-то шуткой в двадцатиградусный мороз, таяние должно было неминуемо привести к всемирному потопу, птицы как ни странно существовали, плоскость улиц, почти чертежная, не располагала к прогулкам, вечерами возвышалась над горизонтом стройная гряда облаков, город с высоты не поддавался пониманию: иногда где-нибудь вырастала неожиданная башня, снег, пролетая мимо окна, еще несколько минут падал до земли, глаз издали различал в толпе зеленый цвет, Анжела не расставалась с зеленым свитером, словно это был подарок друга в разлуке, и тоска ее тоже была весьма зеленой…
На зимние каникулы общага опустела, погремев день и ночь; Анжела днями сидела в кресле, протягивая ноги к обогревателю, который розово и монотонно горел, изредка вспыхивая пойманными пылинками, претендуя на роль домашнего животного; Анжела рисовала в альбом из головы, читала или писала письмо, как-то под вечер в дверь корректно и нежно постучали три раза, она отозвалась, вошел высокий темноволосый человек, он показался ей странно знакомым, после предисловия спросил, обращаясь на вы, причем, с большой буквы, не видела ли она Мэлора?
— Посмотри у Марино, — сказала Анжела (она наконец его узнала: это был пятикурсник, недавно она заметила его, выделила из череды незнакомых лиц — он сидел на подоконнике в таинственной зоне старшекурсных лабораторий, ел сникерс, болтал ногами…)
Через несколько минут он вернулся и сказал, что Марино вообще не знает никакого Мэлора.
— Я тоже, — сказала Анжела.
— Почему же вы посылаете меня к ней?
— Потому что она с Кавказа и знает здесь всех грузин.
Он странно посмотрел на Анжелу, затем спросил разрешения оставить у нее свою сумку и отправился на поиски. В двадцатипятиэтажном доме, именуемым «Солнышкой», обитало две тысячи человек. Через полчаса гость вернулся (его отчетливый тройственный стук был неотделим от его внешности) объявив, что Мэлора нигде нет, наверно, уехал, хотя странно, они договорились, к ней он зашел, потому что услышал за дверью ее кашель, так долго ехал, больше часа от дома, как быть с вином?
— Между прочим, он никакой не грузин, просто такое имя…
Анжела мельком глянула на этикетку и сказала, что не пьет сухого. Гость проворно заменил бутылку, на столе появился марочный портвейн, темное массандровское вино.
После первого полстакана разговор пошел. Его звали Андрюша, видимо, он очень любил этого самого Мэлора, души в нем не чаял, вот, например, в прошлом стройотряде они с Мэлором… Анжела поняла, что Андрюша не может соскочить с этой темы и помогла ему. Второй полстакан был уже вполне пьянящим, собеседник не был Анжеле неприятен, они хорошо и без пауз говорили, даже беседовали: от смешных случаев из жизни (впрочем, ни разу не сорвавшись на анекдоты) до сложностей учебного процесса на втором и последующих курсах… Бутылка почему-то очень быстро опустела, внезапно Анжеле захотелось Андрюшу накормить.
Вернувшись из кухни, она увидела, что он внимательно изучает содержание ее угла: книги, картинки, взял в руки и осмотрел метеорный камень, двумя пальцами проверил подлинность черной шелковой ленты.
После ужина они сидели рядом на кровати, смотрели альбом Ван-Гога, который был извлечен из той же бездонной коричневой сумки. Анжела визжала от радости. Гость невзначай обнял ее за плечо, Анжела посмотрела на его обнимающую руку и снова вернулась в долину Ля-Кро.
(За восемь месяцев московской жизни к ней несколько раз пьяно приставали, трезво дели предложения, устно, без обиняков (кто они такие, эти обиняки?) в новогоднюю ночь профгрупорг решительно пытался ее изнасиловать, но получил по темени темнокрасной вазой толстого стекла, лежал в больнице, Анжела его навещала…)
Андрюша брал нежные аккорды на ее плече, Анжела спокойно ждала следующего шага. Месяц назад она поклялась себе: тот, кто ее поцелует, и будет ее мужем, сейчас эта идея показалась ей странной… Он перевернул страницу, Анжела в очередной раз взвизгнула, что уже стало у них некой игрой, он накрыл растопыренной ладонью желтое пшеничное поле и долго поцеловал ее в губы. Вдруг она обнаружила, что крепко сжимает его руку, над тем же солнечным пшеничным полем.
Поцелуй не был таким приятным, как ожидалось, но странное ощущение входящего в рот чужого языка хотелось задержать как можно дольше, и Анжела поняла: она будет делать это часто, особенно теперь, когда первая преграда (некая предварительная невинность, такой в принципе пустяк) сломлена.
Поцелуй имел вкус — черная Изабелла, поближе к сердцевине, к косточке. Поцелуй имел запах — не очень приятный, но желанный своей новизной. Поцелуй был длиннее всех разумных понятий о времени — оказывается, вообще можно было никогда не разъединять губ…
Количество их рук изрядно возросло, пшеничное поле глянцево скользнуло на пол, тонкие пальцы немыслимо касались самых тайных ее мест и, не задерживаясь, неслись дальше (хотя куда — дальше?) будто надеясь ощупать каждый квадратный сантиметр кожи. Она заметила, что и ее руки делают то же самое… Вдруг что-то нарушилось, некое равновесие обрело новый центр, и все стало медленно клониться навзничь. Ее покрыло большое дрожащее тело, поцелуй исчез, перейдя в дыхание. Подняв глаза, она увидела над собою не сразу вставшие на место черты чужого лица.
— Ты великолепна, Анжелика, кто научил тебя так целовать? — ласково сказали губы. Им не следовало этого говорить.
Анжела почувствовала, как все кончилось, будто вторая девушка вышла из нее прежней, двойной. Она высвободилась и встала. Андрюша сел на кровати, движением изобразив ваньку-встаньку. Анжела подошла к двери, настежь распахнула ее — молча. Андрюша сунул свой альбом в сумку и вышел не глядя, в дверях зачем-то хлопнул Анжелу по руке, той, что держала дверную скобу.
— Эта реальность никуда не годится, — загадочно произнес он. — Все это надо переписать…
Анжеле стало стыдно, она смотрела на его уходящую спину и чуть было не позвала его. Нет, она не позвала его…
Несколько оставшихся безмятежных дней Анжела провела в кресле, как и несколько предыдущих.
Каникулы закончились и общага была снова заселена. День приезда отметился несчастьем: второкурсник выпал из окна и сломал себе пятки…
В институтском коридоре третьего этажа, напротив деканата, Анжела увидела обновленную доску почета, вернее, одно лицо, чернобелое его воспроизведение, оно выделялось среди прочих угрюмоторжественных лиц хотя бы тем, что владело легкой улыбкой. Гладкопричесанный чуб поймал блик фотографической лампы, подробно запечатлел ламповый силуэт, казавшийся электрически желтым, несмотря на двойную сущность бромистого серебра.
Этого человека Анжела выделила еще в сентябре, он ходил по коридорам всегда не один — с друзьями или с какой-нибудь лялькой. Анжела видела его примерно раз в неделю, два раза встречала в холле общежития, последнее время стало вполне ясно, что и он заметил ее — при встречах их взгляды соединялись. Анжела обрадовалась фотографии — теперь она сможет видеть это лицо, когда захочет… В конце дня ей встретился Андрюша, он сдержанно и серьезно приветствовал ее.
— Кто такой Мэлор? — спросила она у Мыши, соседке по комнате, когда та приехала, опоздав на день, из своего Харькова.
Мышь вскинула глаза. Мэлор оказался другом Стаканского.
— Кто такой Стаканский? — терпеливо спросила Анжела.
— Хо! — удивилась Мышь. — Все Солнышко знает, что на той неделе ты выставила его за дверь. Глупенькая, скажу я тебе…
Мышь, курсом и годом старше Анжелы, мягко отчитала ее за незнание элементарных в институтской программе вещей. Мэлор и Стаканский были двое едва ли не самых известных в МИРЕУ, причем, первый славился светлой головой, победами на олимпиадах и т. п., а второй — разгильдяйством. Почему-то они дружили…
— Кто такой Мэлор? — спросила Анжела у Лизы, с которой сидела вместе на лекциях и, можно сказать, дружила.
— Бабник, — строго сказала Лиза. — Неужели он к тебе не приставал?
— Нет еще, — сказала Анжела, досадуя на собственное «еще». Больше она никому не задавала вопросов…
Раз утром, в первое воскресенье семестра, Анжела наблюдала с высоты футбольный матч: один игрок в яркокрасном трико был ловчее других, он летал в снежном вихре, неотделимый от столь же красной точки мяча, казалось, на него играет не только своя, но и вражеская команда.
— Мэлор, — иногда, если никого не было рядом, тихо произносила Анжела, радуясь заморскому звучанию имени, его произвольно управляемой длительности:
— Мэ-лтр-р…
Случайно, из проходящего по коридору чужого разговора, она узнала, что Мэлор бывает у Леры, ее сокурсницы, и стала чаще заходить к ней, взялась консультировать Леру по начертательной геометрии. События развивались по какому-то желанному сценарию: уже в ближайшую субботу у Леры были гости, дым стоял столбом, таинственно горели свечи, человек, сидевший в самом темном углу, бархатным голосом представился: Мэлтр…
Вскоре он удалился, Анжела так и не успела разглядеть его лица, оно было темным выразительным пятном, еще оставались сомнения, но на другой день Анжела курила одна в коридоре, увидела в конце коридора того, с фотографии, он шел, весело глядя на нее издали, шел именно к ней, приблизился и бархатным голосом вчерашнего Мэлора заговорил.
7
Мэлор Плетнев был человеком удачи. Предметы мира любили его: манекенно льнули к его торсу серый галстук, серые жилет и пиджак; темно рыжий портфель искусственного крокодила был весел в его бледных сильных руках, несколько уменьшаясь в размерах, когда хозяин бодро хватал его за подставленную ручку.
Мэлор был у всех на виду, как бы обладая таинственным свойством существовать одновременно в нескольких местах, его зычное имя, попадая в чьи-нибудь уста, звучало в них долго, значительно. Все, за что бы ни брался Мэлор, великолепно ему удавалось — будь то экстренный выпуск стенгазеты со смелыми, удивительными сочетаниями разноцветных гуашевых букв, или спортивная игра, скажем, футбол, где, казалось, на всем поле играет один Мэлор, ловко обводя противников, поднимая радужные снежные вихри, точно, в левый верхний угол вбивая с чьей-то услужливой подачи алый мяч… Никто не сомневался в том, что Мэлор пишет стихи, играет на фортепиано, владеет каратэ, то есть, даже если и нет, то вполне способен всему научиться.
Мэлора любили девушки и женщины, да, чаще именно женщины, девушки семидесятых; они оставляли свои паспорта на вахте Солнышки и поднимались к нему с подарками, старухи-дежурные глядели им вслед, потом показывали друг дружке страничку девять — «семейное положение», улыбались. Институтские ляльки кружились вокруг Мэлора наподобие ночных бабочек, он брал их нехотя, редко сам ходил к ним, но, по обыкновению, принимал в своей комнате на семнадцатом этаже — с видом на серую Останкинскую башню, с запахом мужского дезодоранта «Мустанг», с бледным пятном на потолке, отдаленно напоминавшим индюка, с красивыми заграничными картинками на стенах, с тихой темносиней музыкой…
Четыре года назад Мэлор шутя поступил в МИРЕУ, точно угадав проходной балл, не перебирая лишних очков. На первом же собрании группы его выбрали комсоргом. Первую сессию он сдал с одной случайной четверкой, которая до сих пор оставалась единственным темным пятном его биографии. Теперь, на пятом курсе, Мэлор был законным и бессменным комсомольским боссом, жизнь прочила ему блестящее будущее…
Вот все самое лучшее, самое главное, что Анжеле удалось о Мэлоре узнать и в Мэлоре увидеть.
Прошла неделя с тех пор, как тройственный образ соединился в один. Анжела не торопилась. Приглашение зайти между прочим, она, разумеется, игнорировала…
Лера Лемурова, как это часто случается с жертвами, выбрала Анжелу в свои наперсницы. Анжела приходила в комнату 24–31 каждый вечер, девочки гадали друг другу на картах, на кофейной гуще, довольно скоро исчерпав статичную хиромантию, жгли толстые желтые свечи и говорили о Мэлоре.
Мэлор не приходил. Вечер встречи был, очевидно, последним для Леры. Она не то чтобы вздрагивала при каждом стуке, но уже монотонно смотрела на дверь через плечо подруги, Анжела надеялась, что этот упорный зеленый взгляд все-таки рано или поздно сотворит естественный астральный призыв.
Соседка Леры, таинственная Татьяна, снимала где-то комнату, в Солнышке почти не появлялась, ее вещи и книги были безликими, кровать использовалась как склад одежды и чертежей, Анжела была уверена, что одна в комнате, Лера долго не останется без какого-нибудь друга.
Мэлор также жил один, но совершенно законно — как член институтского бюро. Прийти к нему Лера считала немыслимым, исход поединка был заранее ясен даже ей самой, но надежда все-таки оставалась: было бы несправедливо, если острый зеленый взгляд уходил в заснеженное пространство вотще…
Лера была ланью, ее нормальным выражением считалась укоризна. Лера была загадкой в жизни Мэлора и очевидной случайностью.
Седьмого марта в танцзале была дискотека, Лера, прежде не танцевавшая, встретила Анжелу разодетая, раскрашенная.
— Хороша? — киношно закружилась она по комнате, показав ноги под шатром взлетевшей юбки, и куриная их белизна возбуждала жалость.
В лифте они молчали, неловко поймали глаза друг друга и одновременно кашлянули, а там, в энергичных порывах света, в глубокой бархатной тьме — разделились. Лера металась лялькой по всему залу, громко хохотала, не глядя по сторонам. Ее игра была понятна: она не хотела знать наверняка, что Мэлора в зале нет. Анжела представляла ее мысли в виде световых образов: Лера танцует — мультипликационная, неотразимая — Мэлор входит, светлый в дверном проеме, он видит ее, понимает… Анжела плясала в знакомом кругу, легко вскидывая длинные ноги, весело встречая чужие глаза. Мэлора действительно не было.
Этот вечер был объявлен маскарадным (мелким шрифтом внизу объявление) но никто из присутствующих не надел костюма, и только Анжела была в маске, делающей ее неузнаваемой. У этого лица были круглые дырчатые глаза, щербатый хохочущий рот… В сущности, это была не маска, а белая тыква, выдолбленная и высушенная на солнце, с прорезями для рта, носа, глаз и ушей («Ух» — как говорили в Ялте) такая тыква, которой ялтинцы пугают курортников, выпархивая ночью из черных кустов тамариска.
Вскоре Леру зацепил развязный молодой человек, усатый и длинноволосый, из породы Стаканских. Лера кокетничала, запрокидывая смеющуюся голову, бедный кавалер двигался в радостном ожидании, выделывая ногами волновые модуляции в общем слаженном танце (Лера, истекая медленным серебряным светом, плавно танцует с другим, входит Мэлор, от него к Лере тянется вопрошающий синий луч…)
Анжела танцевала с невысоким, темносиним, из-за его плеча она осматривала зал, читала лица. Вошел Мэлор, остановился в дверях, поискал глазами кого-то. Лера в медленном вальсе явно предъявляла своего пританцовывающего кавалера. Мэлор повернулся и ушел, кажется, не заметив ее. Лера бросила руки и пошла через зал, кавалер двинулся за нею, стыдливо пожимая плечами.
Музыка стихла, Анжела взяла их обоих за плечи и потащила наверх: Здесь жарко. Анжелин коротышка попытался проследовать за ними, но она строго шепнула ему сквозь ползущие двери лифта: Сгинь!
Втроем они пили чай и слушали музыку.
— А я с Макаревичем знаком, — сказал кавалер.
Лера была воплощением ненависти. Досчитаю до десяти и оставлю их, подумала Анжела. На седьмом раздался стук в дверь, по глазам Леры стало видно, чей. Мэлор вошел бодро, на ходу снимая свой серый пиджак и вешая его на спинку стула. Анжела встала:
— Мне пора.
— Сиди! — зашипела Лера, и Анжела сжалилась над ней.
Вчетвером опять пили чай, мужчины неторопливо развлекали дам, Анжела спокойно разглядывала Мэлора, все больше убеждаясь, как он красив и изящен: чего стоило плавное подводное движение длинной руки за кусочком сахара, свободная непринужденная поза корпуса на стуле… Анжела наконец встала и, поклонившись, вышла.
— Мне тоже, — сказал Мэлор и в коридоре догнал ее.
— Почему не зайдешь?
— Некогда как-то.
— А кто этот тип?
— Леркин любовник.
До лифта уже дошли, ему вниз, ей вверх, что скажете?
— Есть немного вина, — сказал Мэлор, — Спустимся?
— Нет. У меня и так башка трещит от этой дурацкой тыквы.
Мэлор пожал плечами и они расстались. Никогда прежде Анжеле так не хотелось выпить немного холодного белого вина.
Внезапно, как бы предчувствуя свое близкое преображение, Анжела увидела будущее, будто заглянула в какую-то книгу о себе, но это был иной вариант, еще более глупый, и она вспомнила недавние слова этого неудачного Стаканского о том, что рельность никуда не годится и надо бы ее переписать…
(Основным содержанием ее души в те далекие дни была нежность — неосознанная, бледнорозовая, цвета незрелого арбуза нежность, однажды, еще давно, еще в домашней, она разрезала бутон розы и увидела именно ее — ей показалось, как поцелуем потянулись из цветка бледные естественные губы… У Анжелы на все был цвет, преимущественно искаженный, но нежность ее случилась действительно алой…)
8
Это началось на следующий день. Всю ночь ей казалось, что где-то жужжит издыхающая муха. Анжела вставала, пытаясь по слуху найти насекомое, но звук, доселе живший в комнате, пройдя сквозь стену, оказывался на улице, и вдруг Анжела поняла, что это лает собака, здесь немыслимая… Анжела стонала, прижавшись лбом к стеклу, чувствуя его холод, потом вдруг увидела себя спящей, тут же проснулась, шагнула к окну и т. д. — все это повторялось несколько раз за ночь, причем, Мышь иногда исчезала из своей постели, вероятно, выходила, или же просто жила не во всех фазах сна; утром в таящей темноте Анжела увидела ее окончательно: девушка лежала навзничь, одеяло сползло до пупка, рубашка до того же места задралась. Мышь светилась.
Анжела протерла глаза и посмотрела на Мышь протертыми. Ее тело было опушено бледноголубым сиянием, будто поросло плесенью, под одеялом были видны ее лунные ноги. Анжела нашарила на столе стакан и выплеснула в рот остатки чая; общага в этот час еще спала, Анжела сидела за столом, подперев голову рукою, спиной к светящейся деве. Убедившись, что прошло довольно много времени (хотя в настоящем сне проверки бы не потребовалось) Анжела оглянулась. Мышь сгорала бледным светом луны. Анжела подошла к ней, толкнула в плечо, светящаяся дева мгновенно проснулась, мгновенно погаснув.
В лифте Анжела случайно оказалась с Мэлором — его голова была окружена легким серебряным нимбом. В зеркале она увидела свою корону, также серебряную, и охнула. Мэлор поддержал ее под локоть. Его пальцы отчетливо дрожали.
По улице она шла не подымая глаз, почти не слушая Мэлора, в аудитории на лекции она чуть не закричала, когда сощурившись подняла глаза к доске. Некоторые головы светились, их ауры (Анжела вспомнила это слово) слегка заострялись кверху, что делало их похожими на разноцветные новогодние свечи.
Со второй пары Анжела ушла и, осторожно двигаясь по улицам, во все глаза смотрела на людей. Светились все до единого, многие выпускали длинные столбы пламени, которые двигались вместе с людьми, легко, как лучи фонарика в тумане. Иногда тела выбрасывали мерцающие огненные шары, стрелы, собственные огненные повторения, и те отлетали, размахивая руками, превращаясь в чистое пламя.
Анжела прибежала домой, кинулась на кровать, свернулась калачиком и закусила кулак.
Днем влетела синим пламенем полыхающая Мышь, бросилась на Анжелу, потрясая ее будительными движениями. Оказалось, что Мэлор (Твой Мэлор… — Почему мой?) свалился у доски, потерял сознание, увезся скорой помощью.
Впрочем, через несколько часов Мэлор зашел, все трое пили кофе, Мышь попискивала, Анжела с интересом наблюдала за ними обоими.
Голова Мэлора была окружена большой, вполне подстать окладу иконы серебряной аурой, в которую удивительно вписывались острые синие лучи. Мышь стала желтой, выдавая сетку вечернего солнца.
Мэлор волновался, его руки бегали по столу, как два отдельных подвижных паука, делая вид, что барабанят какую-то мелодию, впрочем, невозможную. Анжела с улыбкой сжигала извивающиеся спички, до предела сгоравшие меж пальцев, Мэлор провожал глазами огонь, улыбаясь странно, после его ухода спичечный коробок куда-то пропал, Мышь пошутила, что это Мэлор стащил его… Ночью снились объятые пламенем люди, живым, настоящим, они бегали, корчась от боли, вертикально валил жирный дым из голов.
Наутро люди источали нормальный ровный свет. Несколько дней Анжела училась своему новому состоянию. Выйти на улицу было страшно, почти невозможно, общежитский врач придирчиво осмотрел ее, Анжела испугалась, что он может выкупить ее, пользуясь специальными приборами, ей нехотя выдали справку на три дня — девушка была совершенно здорова.
Анжела наблюдала за Мышью, за Мэлором, который приходил, дрожа, еще дважды, за другими людьми… Мышь медленно угасала, очевидно, теряя силы, она бледнела, иногда совсем исчезая в темноте, вспышки становились все реже, потом успокоился примерно двухчасовой период ее появления. Как-то раз, войдя в комнату Леры, Анжела увидела ее лежащей в полной темноте, полностью черной, свернувшейся. На полу было намусорено. Мэлор был по-прежнему светел.
Утром по общаге пронесся страшный вопль: Лера Лемурова умерла, покончила с собой, наглотавшись снотворного. Тело девушки увезли. На полу, на столе, на кровати, валялись пустые лекарственные обертки. Комната была свободна для обозрения, многие заходили туда. Анжеле показалось, будто в углу на своем обычном месте быстро мелькнула голая бледнокожая Лера…
К вечеру выяснилось, что девушка вполне жива: более того, прошел слух, что она выпила всего лишь две-три таблетки радедорма, чтобы уснуть, а остальные транки распотрошила в унитаз, демонстративно разбросав упаковки.
Примчалась ее соседка Татьяна и яростно ругала Леру, поскольку вещества были ее. На вопрос Мыши, зачем ей было надо столько веществ, она вообще пришла в бешенство и перекинулась непосредственно на Мышь. Обе пылали двумя разными, но интонационно сходными цветами. Анжела поняла, что с Лерой не совсем так, как думают, ведь когда она видела Леру в последний раз, та действительно была мертвой.
Вечером Лера вернулась из больницы, Анжела зашла к ней.
— Оплевана, опозорена! — говорила Лера. — Но я же взаправду хотела умереть, взаправду приняла все таблетки. Может, они были старые? — спросила она, жалобно глядя на подругу.
— Нет, — Анжела немного подумала. — Просто ты еще не была готова к смерти, и организм не принял яда.
Она сощурилась на Лерин живот, сделав это незаметно, в то время как Лера по своей нервной привычке проворно терла указательным пальцем по столу. Множество голубых, желтых и белых таблеток лежали в желудке Леры нерастворившимися.
— Я потому сказала так врачам, чтобы не делали это промывание… А девчонки слышали. Так противно: засовывают в тебя резиновую трубу и продувают, как лягушку! Вспомнить тошно.
Разговор был у них чисто технический, без психологии, мотивы Анжелу не интересовали — она их видела. Заметны были также отложения каких-то солей в предстательной железе, странное отвердение печени, словно ее хозяйка была матерой алкоголичкой.
— Не уходи, — попросила Лера, когда Анжела наконец прицельно посмотрела на дверь. — Выпьешь немного со мной?
Лера достала флакончик технического спирта, припасенный для притираний, заперла дверь на ключ и прикрутила лампу. Через некоторое время она рыдала, расплескав свои волосы у Анжелы на коленях, Анжела гладила ее, как гладят животное, длинно, по голове и спине.
— Я изменю ему с первым встречным, — сказала Лера. Я изменю ему с самым грязным, вонючим стариком.
Анжела почувствовала скверную, унижающую жалость, она развела руками над головой плакальщицы и щелкнула языком в пространство, как бы невидимому зрителю. В этот момент Лера сдвинула край ее платья и поцеловала ее бедро. Анжела легонько стукнула девушку по затылку, Лера подняла умоляющее лицо.
— Я прошу тебя, — прошептала она. — Маленечко…
Анжела знала, что за Лерой водится этот грешок.
— А почему бы и нет? — подумала она и чуть приподнялась, позволив стянуть с себя трусики. Глядя, как между колен, до прозрачности натягивая материю платья, катается небольшой твердый шар (будто бы у нее только что родился ребенок) Анжела наконец дала волю собственным слезам. В этот момент Лера навсегда ушла из ее жизни, тем более, что она выполнила свою эпизодическую роль связной.
Наутро Анжела отважилась пойти в институт: люди горели ровно, не было такого феерического цветения, такого ядерного полыхания тел, как в первые дни. Опасение, что дар внезапно пропадет, исчезло: свет был ровный и продолжительный, ей уже трудно было представить жизнь до преображения, в мире лишь внешних красок…
Раз вечером, придя домой, Анжела бросилась, не раздеваясь, на кровать и долго, восхищенно, взасос целовала небесный камень.
9
Как-то ночью Мыши долго не было дома, Анжела испытывала странное беспокойство, легкие боли внизу живота, внезапно все кончилось — как отпустило… Вернулась Мышь, сияющая, грязная, чуть пьяная.
— Представить не можешь, где я была, — блаженно сказала она, вытягиваясь под одеялом.
Анжела не стала спрашивать, она увидела внутри Мыши, в паху от губ до матки — серебристый треугольник. Анжела лежала, приподнявшись на локтях, и пристально изучала девушку. Анжела представила, как Мышь стучится в дверь Мэлора, и Мэлор, ласково светясь, встречает ее, потому что она званна. Мышь разбегается и прыгает к нему на колени, маленькая, уютная, кротко свернувшаяся в клубок мышь. Анжела не знала, как это происходит, но хорошо представляла себе, уяснив основной принцип.
Мэлор заводит руку ей под платье и чувствительно касается самого горячего места девушки. Она полыхает чисто алым, струя темносинего света проходит сквозь ее тело, от одной его ладони до другой. Она выгибает спину, кокетливо открывает рот, округляет губы. Мэлор розовеет, одновременно внизу живота появляется желтое, разливается, в брюшной полости подпирает легкие. Двое торопливо ласкают друг друга, раздевают, опускаются на ковер, на великолепный зеленый ковер, синтетический, с колючей спиной… Желтое разлилось уже и в ней, два цвета отождествлены, при каждом движении они перекачивают это друг в друга, туда и обратно, словно живую подвижную жидкость. Взрыв — оба огненножелтые, озаряют комнату, замерли в дрожащем желании остановить момент. Потом опять тьма, ритмическое мерцание, мелко кивает с потолка тактичный индюк… И теперь в ней живет этот серебряный остывающий треугольник, вернее даже конус, медленно вращающийся конус.
В институте это встретилось еще у двух девушек — бледный, почти исчезнувший конус Мэлора. Анжела внимательно всматривалась в них, погрызывая ноготь большого пальца. Все трое были разные, совсем не подходящие под понятие какого-то определенного женского типа, по которому можно было установить вкус автора.
Через день на улице Анжела увидела незнакомую девушку с ярким, быстро вращающимся конусом Мэлора. Она шла плавно, чуть больше чем надо покачивая бедрами. Складка ее темнокрасного плаща шельмовала туда-сюда.
Анжела обогнала ее, затем стала у дерева, спереди глядя на идущую. У нее были светлые длинные волосы, во рту остро блеснул серебряный зубок, она запрокинула голову, приветливо улыбнулась и потрясла волосами, рукой сжав их у основания в пучок.
Анжела подумала, что сейчас происходит очень важное событие, роковое. Она могла окликнуть девушку, сказать: ведь мы встречались, кажется, у Мэлора? — это и был бы момент выбора… Анжела выбрала молчание, вечером Мышь уговорила ее погадать, Анжела разложила на себя, делая вид, что гадает подруге: трефовая дама, встреча с которой состоится, займет в ее жизни важное место, с ней связаны приятные хлопоты в казенном доме, венец… Трефовая дама ушла вверх по Ленинградскому проспекту, оглянувшись на Анжелу, потрясая пучком волос, прежде чем исчезнуть навсегда. А было бы вот что: это знакомство, если бы оно состоялось, вернуло через Анжелу брошенную трефовую даму Мэлору, впрочем, ненадолго, ровно настолько, чтобы Анжела (в частном доме) сошлась с трефовым королем, родным братом дамы, который вскоре и повел бы ее под венец, то есть, в ЗАГС, — все это другая жизнь, Анжеле уже недоступная… Мышь беспокойно осматривала Анжелу: не она ли трефовая? В середину третьего круга гадания вошел Мэлор. Анжела видела, к кому…
Мышь пыталась ее немо выгнать, посылая языки фиолетового пламени в ее сторону, Мышьи мысли предлагали такую мультипликацию: Анжела торопливо берет сумочку и отправляется в кино, на лучший из лучших сеансов, Мышь запирает дверь и бросается Мэлору на руки, тот ее целует на весу и бережно опускает в кровать, почему-то в Анжелину кровать… В то же время ясное доброе истечение исходило от Мэлора, и она видела, что он думает иначе: вот Мышь выходит в уборную, Мэлор наклоняется к Анжеле и шепотом просит зайти, официально прощается, движется по зданию светящейся палочкой, замирает в кубике своей комнаты наверху, Анжела, выждав, небрежно выходит, взяв для отвода глаз сумочку, немо стоит в лифте, прижав сумочку к груди, стучится в его дверь… Дальше представление обрывалось (что Анжелу особенно радовало) и шло с начала, с вариантами.
Все трое были сильно напряжены: конус Мэлора внутри Мыши горел ярко, он космато вращался, уже начиная пульсировать, Мэлор был похож на чудного среброволосого дикобраза, собственные пальцы Анжелы посылали в пространство белые лучи, такие длинные и тонкие, что ими можно было ощупывать комнату. Сознание Мыши зациклилось на картине ухода Анжелы (все торопливее хватает свою жалкую желтенькую сумочку) Анжела не двигалась с места, Мышь, инстинктивно все почуяв, угрюмо сидела, хотя было заметно настойчивое требование ее мочевого пузыря… Вдруг Мэлор испустил несколько радужных оболочек внезапной идеи… На дискотеку, немедленно!
И обе стали собираться, краситься, зло поглядывая друг на друга и опасливо — на смирную спину Мэлора. Вихрем слетели вниз, там, в бледных ламповых лучах, метались огненные люди, они разбрызгивали горячие всплески, клочья пламени, смерчи и протуберанцы, Анжела бросилась в круг и мигом запылала серебром: это был настоящий праздник серебра, оно заполняло промежутки меж пляшущими фигурами, и фигуры двигались на чистом серебряном поле и поглощались им, и ничего больше не оставалось, кроме этого ровного, жутко слепящего серебра…
Однажды Анжела оказалась в танце Мэлора, они сблизились, тепло протекло; ни слова друг другу не говоря они вышли в коридор, Мэлор вызвал лифт, в кабине остро пахло лавандой, в комнате Мэлора — сырая ночь, Останкинская башня, озаренная разноцветными огнями, старческая голова внимательного индюка на потолке…
Анжела стала посередине, Мэлор сел на край кровати. Сквозь стены и мебель снизу поднималось настигающее серебро, она весело и снисходительно посмотрела на Мэлора, прямо в его берилловые глаза, и рванула через голову свитер, так что электрические искры полетели в разные стороны, скомкала, бросила в угол (не разбился) и, расправив плечи, шагнула на ступеньку вниз, в чистый поток серебра, и Мэлор принял ее, дрожащую, в свои руки, и наутро ее уже не было с ним.
— Разминируй меня… — прошептал он сквозь сон, без толку ощупывая влажную постель. Ему снилась война, полевая форма, какие-то саперы… Он открыл глаза, сбросив с век их микроскопические фигурки, нагнулся, подвинул баночку, пописал.
Пахло тем, что делалось здесь всю ночь. Сползя с кровати, Мэлор подошел к белому, лежавшему под столом: это был носовой платок, он бережно взял его и вывел за окно. В грудь дохнуло свежим весенним утром, талым снегом, облаком, смогом, сладостью гниения, каплями… Мэлор свесился из окна, посмотрел, не лежит ли Анжела внизу, и окончательно проснулся. Девушки действительно не было.
В подобные моменты жизни Мэлор обычно испытывал короткое, ничем не мотивированное счастье.
10
Завтракая, Мэлор (или Мэл, как несколько по-американски звали его с детства) вспоминал подробности, и настроение его падало. Он видел сваренную руку, которую в обиходе Анжела искусно прятала, но спящая, хорошо показала нежные пятна новой кожи на ладони и подушечках пальцев… Девушка безбожно врала, утверждая, что ожог этот был получен вследствие падения метеорита, в доказательство она предъявляла какой-то кусок угля, хрупкий на ощупь, пахнувший несвежей нефтью… Все это, в сочетании с особой, сладковатогнилой вонью ее гениталий, мешало Мэлу вполне насладиться ясным весенним утром, портило аппетит… Впрочем, вскоре, сразу же за порогом Солнышка, ему стало не до Анжелы.
Когда Мэл бодро, на длинных пружинистых ногах, словно юный Пушкин, на лету прикуривая (как бы играя на воображаемой дудочке) сбегал по ступенькам, он отметил, что тоже (по контрасту) стоит прикуривающий человек, но согнувшись, по птичьи расставив локти. Мэл с ходу посмотрел на него, будто сделав мгновенную фотографию со спины. Затем, пройдя несколько шагов, Мэл оглянулся, чтобы убедиться, кончил ли прикуривать прикуривающий человек, заодно посмотреть, как будет выходить та девушка, что ехала с ним в лифте. Лифт был битком, как всегда, и Мэл постеснялся начать…
Молодой человек, завершая жест выбрасываемой в урну спички, с благополучными клубами дыма во рту шел позади, а первокурсницы еще не было: по-видимому, задержалась у почтового стола. Перед метро Мэл остановился, чтобы старательно докурить, на самом деле — подождать светловолосую. У нее были хорошо развитые груди и щелкающая походка на высоких каблуках. Когда пахнуло ее духами, соблазнительным коктейлем жасмина и резеды, резкая боль в паху лишила Мэла дара речи, и девушка проплыла мимо нетронутой.
В вагоне метро, ухмыляясь, она читала письмо, она уже заметила Мэла, привалившегося к металлическим перилам, напротив, по диагонали скучающе стоял молодой человек в массовой куртке с капюшоном, над головами вились, как дымы, запахи недавно съеденных завтраков… Мэл вдруг вообразил всю пятидесятиминутную, сильно изломанную дорогу в институт, с пересадкой и троллейбусом, вдоль которой, с одинаковой скоростью, будто связанные друг с другом нитью, движутся его друзья и враги, его бывшие и будущие любовницы, и ему стало не по себе — тоскливое, щемящее чувство жизни, ее нелепого скольжения сквозь тысячи человеческих пальцев…
Неожиданно (на станции «Тверская») девушка вышла и Мэл, не успев даже подумать, рванулся за нею. На эскалаторе снизу он наблюдал икры в темных колготках и думал, как было бы глупо это упустить, тем более что стало ясно: никакая она не первокурсница, а гостья.
Поглазев на книги у лотка, она двинулась по переходу. Мэл шел в ногу с нею, раздувая ноздри, как Кинг-Конг, обдумывая план нападения. «Наташа» — выйдя из-под земли, прочел он рекламу дамского магазина и вспомнил другой магазин, в Киеве, с похожим сочетанием букв — «Каштан», — и тут же память выбросила каскад образов прошлогодней Тани Шаталовой, ее черные курчавые волосы, ее полные губы, те и другие… Прекрасная незнакомка направилась по Большой Бронной. Мэл двигался уверенно, наигрывая что-то на дудочке «Явы», апрельское солнце утренне попыхивало в окнах, стрелку метронома имитировали складки идущего впереди плаща.
Она свернула налево, миновала театр, перешла бульвар и села на одну из лавочек у Тимирязева. Мэл почувствовал биение в груди — теперь надо было лишь подсесть рядом, но тут высокий седой старик в светлом пальто, появившись невесть откуда, подошел, присел и сжал ее руку. Мэл плюхнулся на лавочку напротив, мгновенно убитый, с мыслью о зря пропущенном строймехе.
(Старик говорил, жестикулируя, девушка коротко отвечала, пытаясь всунуть ему небольшой черный пакет, который старик отвергал обеими руками. Вдруг девушка вскочила, бросила пакет мужчине на колени и крепко, наотмашь шлепнула его по лицу, два раза, правой и левой, после чего поправила сумочку на плече и зашагала прочь. Мэл должен был встать и кинуться за ней, он уже двинул соответствующие мышцы, как вдруг в нескольких метрах от себя, справа на соседней лавочке, невозмутимо курящего увидел молодого человека в куртке с капюшоном, и все понял.
Мысль, что этот парень тоже шел за девушкой (теперь удалявшейся по бульвару) и был как бы его коллегой, лишь на мгновенье мелькнула в голове, где вдруг стало рушиться огромное, с большими зеркальными окнами здание, непоколебимый небоскреб Мэла Плетнева, трескались крупные блоки, вываливалась мебель, работающие телевизоры… Старик напротив, белые волосы и белое лицо, доставал из пакета глянцевые фотографии, аккуратно рвал на четыре части и выбрасывал в урну на расстоянии жеста.
Мэл встал и медленно пошел по диагонали площади, пересек улицу Герцена, принялся внимательно изучать афишу кинотеатра и в стекле витрины увидел идущего за ним молодого человека.
«Профессия репортер». «Семейный портрет в интерьере». Этот кинотеатр посещают умные, серьезно беседующие люди, с бородами, в длинных шарфах, в очках, некрасивые остроносые девицы, и пахнет от них, преимущественно, чесноком, перегаром… Мэл подумал, что и вся его прежняя жизнь теперь от нынешней отделена стеклом.
Итак, думал он, медленно двигаясь к центру по правой стороне. Итак. Подойти и простодушно спросить. Итак, что же он сделал. Что и кому говорил. Только Стаканскому… Стаканский! Глупо. Или ошибка. Ошибки быть не может — если берут, то уже не ошибаются. Оторваться как-нибудь через двери метро или в толпе, затем завалиться к какой-нибудь бабе, записная книжка при себе, жить у нее — сколько? — годы, пока не найдут. Читать книги. В общаге, в столе — завернутая в газету ксерокопия… Я ее даже и не читал еще. Стаканского взяли, он указал на меня. Что указал. Ведь ничего, кроме разговоров, анекдотов не было. Ничего.
Сворачивая у библиотеки, Мэл покосился. Идет. Мэл обошел вокруг манежа, подолгу стоял на переходах… Стоит. Идет. Мэл медленно, гуляя, миновал Александровский сад. Медленно, гуляя — минует, идет. Мэл с ненавистью поглядел на коренастое изваяние Свердлова, на экскурсию, глазеющую внизу…
Кинотеатр «Метрополь», недавно открытый после ремонта, до утреннего сеанса минуты… Незнакомец постоял у афиши, будто бы тоже раздумывая, потом тоже зашел. Мэл сидел в полупустом зале, теша себя надеждой незаметно выйти в темноте, наблюдатель занял позицию сзади-справа. Фильм был образцом абсолютного идиотизма, радостью Политбюро. При других обстоятельствах Мэл покинул бы зал в самом начале (громогласно высказавшись, через путаницу сквозняковых портьер уверенно выталкивая свою спутницу) но теперь, в ужасающем ледяном одиночестве перед огромным экраном, он смотрел совсем другое кино…
Тогда он закончил первый курс: знаменитая четверка по общей географии, начало лета, звонкая пионерская пора, по улицам едет бесконечная колонна автобусов с горящими фарами, голос повторяет: «Пропустите колонну!» — тополиный пух, удваиваясь, галсами скользит по зеркальному паркету институтского бюро, комсорги-первокурсники, дюжина молодых людей и две некрасивые прыщеватые девушки, ведут деланную непринужденную беседу, кто-то читает, Мэл (крупный план) играет в морской бой, созерцая движение пушинок… Вдруг входит высокий, толстый, поистине огромный, улыбается, игриво здоровается с девицами, пусть и прыщавыми, решительным толчком ладони возвращает места вскочившим. В это время незаметный, то есть, очень даже заметный, но всем своим видом выражающий незаметность, некое запрещение даже поздороваться с ним, в комнату входит антипод (маленький, серенький, худой) и скромно устраивается в углу, раскладывая бумаги, вопросительно подымая перо над столом, и тут кажется, что главный именно он, так как большой молчит, выжидает, дружелюбно поглядывая по сторонам, пока устроится маленький, и только по приказу его вздернутого пера начинает говорить, но удивительное дело: как только он начинает говорить, сразу становится видно, что главный-то все-таки он.
Громовым большевистским голосом говорит он, над столом возвышаясь. О неустанном повышении бдительности. О том, что наряду с капиталистическими, в мире, как известно, существуют и развивающиеся страны, и в этой связи ограниченный контингент студентов, представителей стран третьего мира, учится в Советском Союзе, в частности, в Москве, в самом узком смысле, в родном МИРЕУ. Специфика некоторых факультетов вуза требует от студентов упорядочивания контактов с иностранцами, в чем они и расписываются, переходя на второй курс. Разумеется, все присутствующие вполне взрослые люди и отдают себе отчет в тематике и направленности бесед с иностранными студентами, хотя, конечно, недостатки у нас есть и мы их не скрываем. Недавно одна из первокурсниц, вызванная по поводу аморального поведения, заявила, что собирается вступить в брак с подданным некой африканской страны. Хочется верить, что подобный случай — исключительный. Девочки гнусно усмехнулись в прыщи и сделались еще более бдительными. С каменным лицом Мэл смотрел, как его линкор раздолбал два американских миноносца. Антипод что-то записывал, одобрительно улыбаясь.
Наплыв. Улицы становятся зимними. Мэл идет полуподвалом, гудящей, химически пахнущей зоной старшекурсных лабораторий. Обитая жестью анонимная дверь. За спиной большевика, на тумбе — гипсовая — возвышается бесстрастная белая голова. Мэлу не по себе. Он уже секретарь курсового бюро, зам секретаря факультета, его гладкопричесанный чуб раз и навсегда поймал блик фотовспышки: глядеть с институтской доски почета на сексуально неудовлетворенных дур — карьера, слишком стремительная для второкурсника. Итак?
Беседа строится по принципу шахматной игры. Как конкретно идет комсомольская работа на курсе, факультете. Как выполняются решения декабрьского пленума. Кто конкретно, фамилии, группы. Крупная лобастая голова — живая — и белая мертвая голова над ней.
Мэл понимает, что сейчас решается ни более, ни менее, а — его судьба. Он неуверенно рисует здоровую картину всеобщего. Вы неискренни. Мы располагаем достоверностью. Хорошо. А как Вы объясните свое поведение. В общежитии. Я слышал, Вы собираетесь жениться. Да. То есть, на ком это, зачем, с каменным лицом внутренне паникует Мэл. Далее. На вступительных экзаменах Вы недобрали полбалла. Мы взяли Вас в соответствии с характеристикой, рассчитывая на Вашу активную комсомольскую работу. Тут нервы Мэла сдают. Волнуясь, он официально заявляет, что стучать ни на кого не намерен. Вздор, речь идет не о стукачестве, а о помощи некоторым людям…
Пауза. Где-то тикает метроном. Мэл панорамирует скудную, баптистски аскетическую обстановку кабинета. Тишина начинает звенеть, и вдруг человек напротив, бесстрастно глядя Мэлу в глаза, сначала тонко и вкрадчиво, затем достигая громогласного ап-пруа! — выпускает газы. Из-под стола тянется зловещий дух сероводорода. Что, — тихо и тонко говорит чекист, щурясь. Пердеть. Хрястнул ладонью по столу. Пердеть, зараза. Мэл чувствует, как холодеет кожа его лица. Это не я, сдавленно произносит он. А кто, может быть я. Или может быть он, — через плечо шутливо указывая на белую голову. Кто, я тебя спрашиваю. Мэл вдруг лепечет извинения, он чувствует, что через секунду будет бессвязно выдавать имена, пароли, явки, адреса штабов — если бы таковые имелись. Вон отсюда, тихо говорят ему. На второй этаж. Просрись. Дать бумагу. Нет, постой. Иди-ка опять сюда. Чужак. Я вынужден пробить тебе щелбан, мазик называется. Ты должен был сказать свояк, если пернул. А если не сказал свояк, то я говорю чужак и пробиваю щелбан.
Получив мазик, длинный, с оттяжкой, даже двойной, с использованием среднего и указательного пальца, Мэл пятится, бежит прочь, запирается в кабинке и с болезненным облегчением опорожняет кишечник. Стаканский жутко хохочет, подымая пенную бурю в пивной кружке.
Тут Мэл слышит нелепый в кинотеатре запах Беломора. Он видит, что незнакомец в куртке преспокойно курит, уставившись в экран. Перестаньте курить, вдруг кричит Мэл, вон отсюда. На него неуверенно шикают. Появляется служительница с фонарем и хватает шпика за рукав. Пользуясь заминкой, Мэл выскакивает из зала и устремляется к метро. Фильм снят на кинопленке Шосткинского п/о «Свема».
11
Придя домой, Мэл упал на кровать и так пролежал в ботинках, шляпе и белом шарфе, глубоко засунув в карманы руки, до вечера, пока не заработал настойчивый реостат и вещи не стали постепенно уходить из комнаты в темноту.
Ему было невыносимо жалко себя и холодно — от того, что не грели батареи, от того, что это случилось именно с ним.
Словно что-то твердое, многообразное, с острыми иглами и углами, медленно тонуло в чем-то вроде ртути — именно так в полусне Мэла исчезал страх.
Мэл повертел, оглядел с разных сторон и отбросил вопрос за что, устремившись тем самым по проторенному кафкианскому пути.
Самое большое, резюмировал он, что они могут со мной сделать, — это отчислить из этого вонючего института. Разумеется, следствием было отчисление из Москвы, из той жизни, к которой он себя столь уверенно готовил. Все поедут дальше, а он останется — маленький, бегающий по пустой платформе, а пионеры будут ехать и петь в автобусах, с тупыми равнодушными лицами петь, в то время как маленький Мэл — бегать и звать по пустой платформе, где ветер шелестит скомканными бумажками… Отвратительная жалость к себе накатывала волнами, порой совсем успокаиваясь… Если дом загорелся, не стоит пытаться тушить пожар: ясно, что дом сгорит, — надо спасать вещи.
Мэл увидел в зеркальной ретроспекции свою будущую жизнь: он с чемоданчиком возвращается домой, на щите, ищет работу, находит, его забирают в армию, в Афганистан или Чечню, новое возвращение с чемоданчиком, иллюзии, жизнь, семья и школа, в ежевечернем телевизоре непокоренная Москва, Кремль, трехрублевый казначейский билет…
И все это намереваются сделать именно с ним, просто, по-деловому, одним росчерком пера в полуподвале, вместо того, чтобы (тут образ будущего Мэла раздваивается: из униженного с опущенной головой выходит другой, бодрый, веселый Мэл, он легко заканчивает институт, поступает в аспирантуру, становится освобожденным членом, все выше, легче возносится, руки в карманах, сигарета в зубах, белый шарф, лежа…)
Чтобы жить дальше и даже — пожалуйста — пусть и вернуться в Санск, стать секретарем райкома, расти, иметь каждый вечер новую девочку, или даже по две за сутки…
Он выпустил подряд двенадцать аккуратных колец и пронзил их острой струей дыма. Перед ним вереницей, словно гарем Абдуллы, прошли его секретарши. Он будет посещать школы, выступать с идеологическими лекциями, и там, среди десятиклассниц, на конкурсной основе… Можно, например, стать попечителем детского дома или театрального училища — благородная, классическая деятельность — тогда надо будет проситься в какой-нибудь Саратов. Можно придумать крупные показы мод, конкурсы красоты, можно вызывать к себе жен и дочерей подчиненных, подсыпать им снотворного в чай, как это делал Дяборя, развести секретные питомники, выращивать хорошеньких девочек, с младенчества посвящая их в тайну…
Он представил будущие свои костюмы — светлые летние, темные зимние, скромные, но добротные, как платье Карениной, какую-нибудь маленькую, но выразительную деталь, например, алмазную заколку для галстука, скажем, в виде изящной змеи, тысяч этак в пятнадцать… И персональный вертолет — непременно, обязательно персональный вертолет для осмотра сельскохозяйственных угодий.
Мэл отдавал себе отчет в том, что мечтает глупости, но стоит ли осуждать его — ведь он понятия не имел о чьей-то посторонней возможности подслушать его мысли…
И я буду с ними, с ними, на вершинах наслаждений, и я буду брать — не хватать, не хапать — а именно брать двумя пальцами, как стебель цветка, а потом придет год от рождества Христова 1985-й, и мы придумаем нечто новое, мы сменим одну правду другой, и снова будем брать, еще нежнее, с еще большим наслаждением, более изысканные плоды…
Вдруг будто какая-то на гибком медицинском шланге присоска, покачиваясь, вылезла из-под кровати и поцеловала его в шею — ведь институт есть единственное, что они могут сделать со мной на законном основании, следовательно, они пойдут другим путем, а именно: подкараулят меня где-нибудь и преспокойно убьют, как говорят в народе — кирпич на голову упадет.
Мэл увидел бесспорную вещественность этой мысли. Вот он стоит в троллейбусе, невинно поглядывая по сторонам, красивая женщина строит ему глазки, он завязывает знакомство, выходит с ней — темные улицы, по городу движется цепная реакция собачьего лая, вдруг несколько костлявых фигур преграждают дорогу, подруга спокойно уходит по переулку, не оглядываясь, она сделала свое дело, его профессионально, с холодным отвращением бьют, он закрывается, пытаясь защитить жизненно важные органы, и вдруг ему становится ясно, что его вовсе не бьют, а его убивают, и он кричит, но никто не идет на помощь, потому что милиционеры предупреждены, а мирные жители боятся милиционеров, — это чудовищно, нелепо, да, слишком нелепо, скорее всего, так: они заходят в засаленный подъезд кислой капусты, она открывает дверь картофельной коммуналки, запускает тихую музыку, томное ожидание нового тела, она дает себя раздеть, вдруг вцепляется ему в волосы, орет, врываются соседи, милиционеры, налицо попытка изнасилования, он попадает в лагерь, где его голову зажимают между дверью и косяком, делают его машкой, не выдержав кошмара, он кончает с собой, что также выглядит неправдоподобно, лучше оставить так, как это было всегда: незнакомая бедная комната, тихая музыка вечернего дрозда, острый неповторимый запах, сугубо индивидуальный для каждой, утренний чай, в глазах благодарность за доставленные оргазмы, поглаживания: заходите еще, 3-я Паршивая улица, Дом Образцовых Фекалий, лестница вчерашнего супа.
Мэл был человеком странным, противоречивым, с одной стороны, он хотел завоевать мир, насладиться им с высоты, иметь самых лучших женщин, иметь ярких, интересных друзей, вроде Стаканского, и т. д. и т. п. В то же время он высоко ценил свое одиночество, Стаканского да и прочих людей тайно ненавидел, а что касается наслаждений — Мэл в полной мере ощущал лишь эякуляцию, его вкусовые рецепторы были развиты слабо, вообще, он воспринимал мир больше через запах, цвета его были приглушенными, тусклыми. Родившись в год собаки, а по странному совпадению — и в час собаки, Мэл, в сущности, и был этой самой собакой, так, по крайней мере, он иногда с горечью думал о себе.
Недостатки и слабости, которые Мэл тщательно скрывал, несколько смещали уже вполне сложившийся образ. Плохое зрение делало окружающих людей лимоннолицыми, без каких-либо существенных черт, очки, разумеется, Мэл категорически не носил: кроме вполне понятной причины, была еще одна, странная — он боялся, что количество женщин уменьшится еще и потому, что он их слишком хорошо разглядит.
Женщин у Мэла было уже больше сотни, в прошлом году он как раз посчитал на компьютере, и — удивительная вещь — тогда их оказалось девяносто девять, и Мэл срочно взял недостающую, вместе с ней, кстати, и отметил это дело, ни слова ей, собака, не сказав. За всю его недолгую жизнь ни разу — верите ли? — не было у него отказного случая, что могло бы послужить либо косвенным доказательством существования некоего еще не открытого донжуанского поля, либо… Вполне возможно, что шестое, или даже седьмое чувство подсказывало Мэлу: с этой де не выгорит, немедленно шел электрический импульс в мозг, в центр наслаждения, и Мэл не испытывал ни страсти, ни боли в паху…
Своим бесспорным недостатком Мэл считал непреодолимую тягу к табаку, много раз он пытался бросить, безуспешно, в конце концов смирился, со злостью сообразив, что этим наградил его «дед», куривший, как паровоз, исключительно папиросы, омерзительный Беломор, уводящий в ассоциацию о парашах, бушлатах, каких-то закопанных скелетах… Была у него еще одна, совершенно незамотивированная привычка — в гостях он всегда воровал спички, как бы машинально засовывая коробок в карман: никому и в голову не приходило, что он делает это обдуманно, расчетливо. Другой его странностью было внезапное, непонятное желание ночевать где-нибудь вне дома: частенько он засиживался допоздна у того же Стаканского, и тогда хозяева сами не хотели отпускать его в жуткую, полную стрельбы ночь, и Мэл как бы с неохотой соглашался, влезая в плюшевый халат, впрочем, скорее всего, здесь прослеживалось желание комфорта, элементарной домашней ванны…
Вот каким чудаковатым персонажем был этот Мэл Плетнев, и вряд ли стоит говорить, что это совершенно не типический образ, не какой-нибудь там Базаров, Мышкин или Дубровский.
Ночь… Свесившись с кровати, Мэл далеко шарит, рука натыкается на твердый предмет, завернутый в ситцевую тряпицу. Это — инструмент.
Музыка была для Мэла мерцанием, он видел здание, чьи загадочные окна возделывали мелодии ночи и пустоты, — вот почему инструмент Мэла Плетнева, инструмент, специально для него изготовленный его другом, мейстером Сакварелидзе — из красного и лимонного дерева, с инкрустацией тончайшими пластинками янтаря, слюды, смарагда, инструмент, найденный после известных событий и так озадачивший следователя, — был похож на узкое многоэтажное здание с пылающими окнами. Вот почему, разворачивая свой инструмент, Мэл накладывал длинные артистические пальцы на разноцветные шторы человеческих жилищ и, слегка надавив, извлекал свои симфонии и фуги, свои рапсодии и гимны, и двигались по ночному городу дивные сполохи света, будто город, глазированный, сахарный, со свечами тысячелетия подавали на стол великана, и он следил внимательными белыми глазами, сглатывая слюну, как вспыхивает где-то на Сретенке очередной аккорд и, в мгновенье ока полыхнув по бульварам за реку, взлетает на Воробьевы горы, чтобы потом вынырнуть в Коломенском и в более дальней перспективе нестись по тьме и сырости южной Подмосковии, где лишь мельчайшими искрами полыхают отдельные дома, станции, церкви… И толпы обезумевших от ужаса людей вываливают на улицы, срывают друг с друга одежды, разрывают друг другу рты, — и вот уже пляшет бесноватый в кальсонах, как занавеска в окне, на площади перед памятником Ришелье, прямо на колодезном люке, и скачут, гулко стуча, вниз по лестнице отломанные головы…
Он сфантазировал себе рок-группу, в лицах представив ее состав: это были замечательные, безраздельно преданные ему ребята, они были столь же реальны, как, скажем, литературные персонажи, жили своей, неуправляемой жизнью, и плевать им было на собственную нематериальность.
Мэл не хотел быть ни органистом, который, сложив губы трубочкой, склоняется над клавиатурой, ни даже лидером, в экстазе выгибающим спину с фаллической гитарой наголо, ни тем более ударником, который на заднем плане иронически переглядывается с публикой, когда друзья-артисты пускают петуха.
Мэл был загадочным басистом с гитарой, длинной, как ружье, он ставил изумительные звуки среди спрессованной публики, словно палочки в муравейник для добычи кислоты, разумеется, он сочинял тексты и музыку, и был неофициальным, теневым руководителем группы, и с первого же взгляда было ясно, что главный здесь именно он. Мэл зависал на перекладине в метро, с каменным лицом онаниста, и лишь по ритмическому дрожанию век можно было догадаться, что внутри молодого человека происходит музыка, броуновское движение зала, пятеро маленьких человечков на сцене, наполняющих мир грандиозным звуком… И никакого значения не имеет, что с рождения нет Мэла ни малейшего музыкального слуха, иначе бы он действительно пытался стать музыкантом — в яркокварцевом ореоле славы, в бешеном серебре софитов, он имел бы, наверно, столько же девочек, и вовсе не нужно было ему карабкаться по этой лестнице, годами высиживать материальную власть…
Инструмент Мэла Плетнева был глухим. Мейстер Сакварелидзе изготовил плоскую, размером чуть больше компьютерной клавиатуры, доску, в которую были врезаны выступающие клавиши, их легко было нащупать, но вовсе невозможно нажать. Каждая клавиша соответствовала определенной ноте, полулежа в кресле, Мэл клал инструмент себе на колени и, водя по клавишам пальцами, внутренне слышал или, вернее, воображал свою волшебную музыку.
Дверь была заперта, тишина… В тишине было слышно лишь глубокое дыхание музыканта и легкое постукивание ногтей о деревяшку, но это была неведомая, фантастическая, феерическая музыка, и лишь один человек в мире слышал ее.
Анжела стучалась тихо — пять коротких телеграфных стучков в размере три четверти. Девушка разбежалась и прыгнула, запрокинув ноги ему за спину. Мэл отечески похлопал ее по плечам.
— Я очень скучала за тобой.
Она восседала у него на коленях, его мысли метались в знакомых читателю пространствах, он машинально поглаживал ее бедро, внечувственнно, как бородач теребит бороду, его слова были бездумным отражением ее слов:
— Да?
— Да. Я каталась на лыжах в горах, у нас там зимой бывает снег. А в прошлом году был снег и внизу, мы катались на санках по улицам, а один Лешка — он даже спустился на горных лыжах с Ай-Петри, мимо Тюзлера и Учан-Су, вылетел на Советскую площадь и лихо развернулся у сучьего дома, правда, потом лыжи пришлось выбросить, потому что там кое-где торчал асфальт.
— А я считаю эти катания пустой тратой времени.
— Да?
— Да.
— А на что же вы тратите свое бесценное время, милорд?
— Так… В жизни есть дела поважнее.
— Ты, наверно, пишешь роман? Я угадала?
— Какая ты догадливая.
— А можно примазаться к твоей славе?
— Только посмертно.
— Не говори так. У нас во дворе был мальчик, его потом в горах нашли, в обвале, так он тоже написал роман. Между прочим, он его мне посвятил… Бр-р! Какой был гнусный роман — там всю дорогу только и делали, что пердели, как в фильмах Феллини, да беседовали о строении Вселенной, честное слово, пятьсот страниц сплошного пердежа и какой-то странной, душераздирающей философии… Вообще, этот роман как будто бы медленно сходит с ума: герои говорят совершенно не характерные им речи, меняются местами, репликами, причем, безумие его совершенно уникально — каждый читатель, в меру своей испорченности, находит свою, индивидуальную точку безумия… Эй, ты не заснул? А ты знаешь, что Вера Лемурова пишет стихи?
— Да ну?
— Ну да! Очень дурные стишки про чувства. Она у нас трагическая женщина.
— Ну ее на фиг.
— Правильно. У нас есть много о чем поговорить, кроме нее. А откуда ты родом, Мэлор?
— Из Стамбула.
— Не смешно. Ты турок?
— Нет, правда, я родился в Стамбуле, где мой отец был полпредом. Мы даже жили полгода в Италии.
— Правда? Расскажи.
— Скучно. Эмигранты едят бананы. Есть обычные, есть круглые, есть маленькие, словно пиписьки, а нам присылают зеленые, кормовые.
— А я никогда не ела бананов.
— Как?
— Так. В Ялте их не бывает, а в Москве денег нет.
— Может, ты и апельсинов не ела?
— Ела недавно. Под Новый Год. Слушай, этот Пурся хотел меня трахнуть под бой курантов. Набей ему морду, а?
— Непременно. Только найду предлог.
— А ты просто — вызови его на дуэль.
— А если убью?
— Отсидишь и вернешься. Я буду тебя ждать, я верная. Да не улыбайся ты так кисло, будто лимон схавал! Я пошутила. Пурся уже получил свое.
— Да? Кто же это постарался за тебя?
— Я сама. Охуячила его хрустальной вазой. Я ведь девушкой была, неужели ты так и не понял?
— Понял.
Анжела мягко взяла его руку и положила себе на грудь. Изо рта у нее так ужасно, так нестерпимо пахло, что Мелу захотелось украдкой, беззвучно пукнуть, чтобы хоть поменять запах…
— Я теперь очень спокойная, потому что у меня есть ты.
— Я тоже.
— Знаешь, мне жизнь казалась совершенно бессмысленной.
— Она и так бессмысленна.
— Нет. Жизнь — это другие. Когда ты один, ее просто нет. Я всегда была одна и ждала. Я даже ни разу не поцеловалась.
— Трудно представить.
— Отбивалась руками и ногами. Потрогай меня здесь… А однажды меня хотел взять старик.
— У меня тоже в детстве была девочка, которую взял старик.
— Ну? И что с нею стало?
— Она умерла.
— Из-за старика?
— Нет, это совсем другая история. После расскажу… Тебе не жарко в этой зеленой кофте? Да. И это сними.
— Ах, ты родной мой! Какие же у тебя добрые глаза, какой ты большой и теплый, живой… Я так люблю тебя, Андж!
— Андж? Ты назвала меня Анджем?
— Прости, оговорилась… Я вспомнила брата.
— У тебя есть брат?
— Лейтенант КГБ. Только никому не говори.
Мэл внутренне захохотал, будто из-за шторы выглянуло и сразу спряталось какое-то смехотворное лицо.
— Почему ты улыбаешься? — капризно спросила Анжела. — Между прочим, он у меня очень ревнивый. Его мечта — удачно выдать меня замуж.
Мэл покраснел. Он увидел гнусную картину: зловещий брат в голубом мундире коротким ударом плеча швыряет его на стул и, тыча ему в грудь пальцем, скупыми фразами наставляет в будущей семейной жизни. Свадьба в закрытом распределителе, родственники, старые лысые в штатском, Стаканский заводит свою песню о Сталине, двое из гостей переглядываются, Мэл понимает, что он уже ничем не может помочь другу, вдруг мелькает отдаленная надежда…
— А где он служит? — с самым безразличным видом поинтересовался Мэл.
Внезапно все перевернулось, звеня медалями: крепкая волосатая лапа в органах, жертва сама становится судьей… Анжела высокомерно рассмеялась:
— Трудно отвечать на такие вопросы!
Несколько секунд Мэл ее ненавидел, затем снова вернулась чувственность, нежность. Он вспомнил подколенные ямочки за черными колготками, утреннее возбуждение, метроном на крупных ягодицах, рука его заскользила по ткани, по-хозяйски нащупывая пуговицы. Боль в паху стремительно нарастала, но зуд ее был сладок в предчувствии близкого разрешения. Мэл был одним из тех немногих мужчин, способных испытывать мощнейший, длительный, чисто женский оргазм, правда, за сей редкий дар ему приходилось расплачиваться мгновениями мучительной боли…
Погружаясь в это незнакомое, опять новое тело, Мэл вдруг недовольно поморщился: не будет ли это повторяться каждую ночь?
(Ты во мне, ты во мне, ты во мне! — с восторгом причитала девушка. — Пива мне! Пива мне! Пива! — слышалось ему, и он улыбался, думая, как расскажет об этом другу…)
На самом интересном месте, в самый момент его слабости, вдруг требовательно и громко постучалась Мышь. Анжела заговорщически захихикала, в то время как Мэл уже высунул язык, начиная все громче стонать…
Потом, когда он отдыхал, Анжела приподнялась на локте (Луна или лампа сквозь окно красила ее лицо в молочнобелый цвет, она безнадежно кого-то напоминала…) и вдруг поведала ему великую тайну.
— Я пишу стихи.
Мэл искренне удивился:
— Давно?
— Не очень. Даже очень недавно. Короче, сегодня ночью и дебютировала, после тебя.
Она вдруг проворно встала и принялась одеваться. Мэл вежливо отвернулся. Ему нравилось, что она уходит.
— Вот, — сказала Анжела, положив на стол листок и выразительно припечатав его ладонью. — Теперь вы все обо мне знаете, милорд.
Едва за ней закрылась дверь, Мэл подошел к столу и врубил лампу. Он сам болел стихами, стыдился этого недуга и никому не показывал опусов, лишь однажды Стаканскому-старшему, который профессионально раскритиковал их, именно и употребив эти смехотворные словечки: недуг, опус, болеть…
Восьмистишие было написано жирным синим фломастером, строчки, не умещаясь на листе, сползли книзу, в правом верхнем углу было посвящение — М.П.
Сначала Мэл ничего не понял, но, перечитав, убедился в полной бездарности опуса. Как ни странно, М.П. ему польстило: он чувствовал то же, что чувствует девочка, когда ей впервые в жизни дарят цветы. Рядом лежала большая фотография, где была изображена запутавшаяся в собственных волосах Анжела, на фоне каких-то гор. На обороте стояло: «Ветер…» — очевидно, название снимка. Мэл вгляделся в лицо девушки, и вдруг оно переменилось: из-под разбросанных Анжелиных волос на него посмотрела другая девочка. Мэл бросил фото на стол и, словно в романе, трагически хлопнул себя по лбу. Голый трагический человек с хлопком по лбу выглядел в зеркале весьма забавно.
Оллу, маленькую давнишнюю Оллу, которую Мэл в детстве до смерти напугал, напомнила ему фотографическая Анжела.
12
Мэл Плетнев был родом из Санска — не Петербурга, Обояни, Стамбула, не из Тамбова даже — не из какого-либо существующего города нашей необъятной, ее европейской части — из Санска, и это было почти неприличным, звучало несолидно, даже слегка похабно.
Опустим длинное и противоречивое описание этого уездного городка, достаточно сказать, что Санск стоял на обоих — высоком и низком, зеленом и желтом — берегах Шумки, что придавало городу аномальность, ступенчатость, блеск.
Я говорю о многоэтажности одноэтажных зданий, соперничестве зеркал во владении вечерним солнцем по вертикали, когда Мэл, бывало, возвращался домой из школы, перемигиваясь со знакомыми окнами — теплый весенний вечер, вода и снег сливаются в кощунственную аморфную мздру.
Был ли кто в этом городе счастлив? Когда-либо?
Шумка огибала невысокий, но ярко выраженный холм, он был разрезан оврагами, на овражьих склонах (хотелось сказать: лепились) санские домики — внутреннее содержание города, а досужему путешественнику могло бы показаться, что улиц в город вообще нет, но поскольку городов без улиц не бывает, улицы в Санске все же существовали.
Широкая и длинная, почти прямая в плане, но горбатая вертикально, улица К.Маркса разрезала холм или Лысую гору (как в далеком, догородском прошлом ее нарекли) на две одинаковые половины, а поперечные, кривые во всех измерениях улки, струились вниз, — таким образом, пассажиры аэробуса ИЛ-86, бездарной, плохо задуманной и кое-как построенной машины, один раз в день выполнявшей рейс Ленинград-Ашхабад и обратно, всегда с ужасом высовывались из иллюминаторов, поскольку им казалось, особенно осенью, что у излучины реки лежит гигантский, весь в опухолях и язвах, обнаженный человеческий мозг.
Два узких моста связывали его с пойменной частью города, раз в несколько лет, в период дождей, заполняемой водой. Здесь было все по-другому. Прямые, словно натянутые, улицы и проспекты. Двухэтажные дома с колоннами и львами. Статуи в общественном саду. Южной Пальмирой иногда называли Санск его жители, игнорируя основной нагорный район. Нижний город был построен по петербургскому образцу, александрийским способом… О-да, мы были когда-то счастливы!
Особенно темными зимними вечерами, когда Мэл, крадучись, возвращался от… Впрочем, не надо, — его душа пела, ноги гудели, он чувствовал себя настоящим мужчиной.
Кто из нас не брался за эти случайные ночи, останавливая словом жест чьих-то хладеющих рук? Когда героиня не так уж важна — есть только ее отдельные черты, локон на плечо… Без будущего, словно стихотворение пишется в самый момент происходящих событий, в глуши, во мраке. В данном случае (Мэл Плетнев, Санск) в игре принимал участие низкий дом с голубыми ставнями, с камином, светящим в углу, как телевизор, притупленные собачьи голоса за стеной… Мэл бросал в огонь собственной наколки сосновые поленья, свеча горела на столе (перебои с электричеством) оба смотрели в открытое пламя, большое и малое, свеча дивно заполняла комнату, босоногая возлюбленная шлепала в сени, гремела ведром, тихо материлась, спотыкаясь об нечто, а Мэл, как и положено юноше в такие минуты, лежал, вытянувшись, и млел, что заключало в себе и предчувствие конца романа, и навсегда покинутый Санск: я буду жить долго-долго, и много пока еще не знакомых женщин, и т. д. В комнате нелепо пахло смолистым костром, и в последующие годы, глядя на образцы различного пламени — костер, пожар или спичка, до предела сгорающая меж пальцев, хитро загибающийся вверх угольный остов, — Мэл вспоминал свои первые впечатления, свои неумелые судороги — одно, на всю жизнь тайное значение огня.
Улицы Санска не освещались, т. е. ввиду аварий на городской атомной электростанции, время от времени, а зимой почти каждый вечер, во всей округе гасли фонари, — на ощупь совершал Мэл свой фаллический путь туда и обратно.
Окна озарялись свечами и керосиновыми лампами. Медленно активизировались городские собаки. Сначала один, робкий сонный песик тихо тявкал невдалеке от Мэловского сапога, и тут же разворачивалась цепь немного впереди по другой стороне улицы, и — пока маленькие шавки вставали с безнадежным подвыванием — хозяин все еще разворачивающейся цепи глухо бэхал, тем самым давая сигнал небольшому аккорду собачек средней величины. Цепной реакцией лай взбегал вверх по Ореховой улице, стремительно разливаясь в боковые переулки — Отрадный, Дунаевского, 3-й Мощеный; какое-то время по звуку можно было отраженно вычислить ночного пешехода, затем, — наверно потому, что по разным склонам Лысой горы пробиралось сразу несколько человек, ночных возвращенцев, — лай захлестывал весь верхний город, гулял и пульсировал, взлетал и падал, но стихал внезапно, потому что вдруг давали свет: он быстрорастущим кругом, со скоростью тока в проволоке, опалял город, мельчайшие фонарики проникали в самые потайные уголки садов, где-то внизу медленно укладывалась невидимая цепь, гигантское бэхало ложилось спать, Мэл червяком влезал в щель тяжелой скрипучей калитки, шуршаво поднимался по деревянной лестнице, легко, невидимо проникал в свою комнату и ложился, невидимый, запретный, потому что ему тогда было пятнадцать, а ей тридцать шесть, мать думала, что Мэл не курит, он отлично учился в школе, детские прыщики на спине, удил рыбу на мостках за домом…
Олла, юная несчастная Олла сгубила его.
13
Дом был для Мэла данностью, то есть, он не помнил, как и когда впервые открыл какие-либо существующие детали дома, но зато убедительно помнил, как видел детали, которых у дома нет.
Например, раз в рубашечке и босиком Мэл выбежал на каменный пол и — шлеп-шлеп-шлеп — в какой-то темнозеленой сводчатой комнате увидел, как «дед» (в кавычках, потому что все же прадед) в чудесном звездном колпаке с кисточкой склонился над шипящим устройством… Зажмурившись, Мэл втянул острый воздух, симметричный растительному, и это было первое в жизни опьянение, дальнейшее — молчание, в том числе и последующий сон, не помню. Он видел женское лицо, именно женское, а не лицо вообще, значит, в ту ночь его падение полностью завершилось.
The rest is silence…
Второй существенной деталью дома (из тех, которых не было) была невысокая, даже очень маленькая — так что потолок можно было достать руками (причем обеими ладонями сразу) темная камера, куда Мэла вводили, если он шалил.
В камере стоял большой ночной горшок, он был уже полон, тусклый свет просачивался в щели между стенами, полом и потолком, чтобы в абсолютной темноте ребенок не пропустил самого главного, интересного — момент, когда начнется это.
Оно начиналось обычно с тихого несущественного звука, словно некто подходил к двери, которой, впрочем, в камере уже не было, и камера снаружи казалась небольшим ящиком на полу. Так вот, к этому ящичку некто снаружи подходил. Внутри камеры, где стоял, подняв руки, ребенок, начинали происходить жуткие, таинственные вещи.
Дом стоял на берегу реки, вернее, выходил на ее бережок огородом, или садом, так как место действия было среднерусским худым гибридом обоих форм.
Раньше река была огромной, медленной, постоянно текущей твердью воды, и была детским жестом растопыренных пальцев (неуверенно: каким из них надо пользоваться в качестве перста) когда Мэла вынесли, кажется, дед, на первый берег и попросили ее показать.
С улицы дом выглядел более чем скромно: три заставленных окошка, ворота и уже упомянутая скрипучая калитка, любой прохожий имел полное право отметить убожество жилья, не обратив внимания на слишком уж жирный каменный цоколь.
Если же открыть калитку и заглянуть во двор (любопытная гусиная шея, удивленные глаза) то все внутри вставало на свои места — и стремительная кирпичная лестница в ступенчатом саду Семирамиды, с каменными вазами на перилах, плакучие ивы и прочие декоративные деревья, и дом, неожиданно двухэтажный, с множеством веранд и балконов, непредсказуемый, нерушимый. Далее (сбегая садом вниз, тряся длинными лучистыми волосами — Олла!) за поворотом меж двух правильных цветочных тумб, бурных факелов немыслимого запаха, открывалась уютнейшая виноградная беседка, с сетчатой тенью и шорохом, эхом столетнего шепота в ночи полнолуний, и калитка — заветная калитка на личный пляж Плетневых, с умопомрачительным петербургским видом противоположного берега… Сам дом, следуя склону, обнаруживал здесь уже третий, полуподвальный этаж, где размещались просторная кухня, столовая, склады. Над ними была большая, в три света зала, куда вела узкая скрипучая лестница (внутренняя) из кухни, и — металлическая, подвесная, увитая крепкой виноградной лозой — из сада. Кроме того, тремя двустворчатыми стеклянными дверьми зала соединялась с другими помещениями второго этажа и коридором, с лестницей на третий, то есть, первый со стороны улицы, имеющий скромный отдельный выход во двор…
Понять дом было невозможно и за неделю, особенно, если ты приехала в гости, в чужой город и чужую страну, тебе четырнадцать лет и ты не вполне уверена, что внешний мир существует.
Олла обнаруживала двери и зеркала там, где их еще вчера не было, окна, логически выходившие на городской простор, заключали в себе внутренность смежной комнаты, лицо дедушки, который никогда не разговаривал, а только смотрел из-под синего ночного колпака, угрюмо пожевывая папиросу. Возможно, в доме, среди темных, будто всегда кого-то прячущих комнат, были тайные, вовсе без окон комнаты, замурованные, вечно хранящие затхлый неподвижный воздух сундуков.
Олла приехала вместе с мамой — дальние рижские родственники — она была двумя годами его старше, Мэл надувался и рдел, проходя сцену всеобщего знакомства (даже дедушку выкатили в кресле на обозрение) а потом, ночью, хорошо сквозь стены представляя, где она спит (или не спит — ворочается?) Мэл вдохновенно мечтал о ней, о будущем счастливом месяце, неожиданно выделенном ему из обыденного каникулярного лета.
Утром у рукомойника — запах, бесспорно цветочный, но незнакомый, Мэл двинулся по коридору, раздувая ноздри, в сад, где в беседке (листья, пожалуй, удерживают гирлянды ароматических молекул) нашел книжку на чужом языке (две точки над «i», словно «ё») и далее, за полуприкрытой калиткой, в плотном коконе запаха на берегу Шумки обнаружил ее сидящей на корточках. Обе ладони Олла погрузила в воду и, внимательно сощурившись, обернулась на него.
Мэл закинул несколько пробных приветственных слов, девочка с любопытством наблюдала за ним через плечо, самые кончики ее волос были также погружены в воду, разговор установился…
И Олла объяснила Мэлу свое видение реки.
Это были следы уток на песке под водой, столь же четкие, что и на суше, листья, лежащие на дне, вырезанные из пластин ржавого железа, и листья, плывущие в толще воды, еще не затонувшие, не набравшие мирового железа — они давали живые тени. Солнце было напротив, оно плавило гребешки волн, превращаясь на дне в длинные змеистые линии, очень нервные; полупузыри воздуха бросали на дно хорошо отфокусированные иглы, Олла видела, как вытягивались вдоль течения водоросли, как корни прочно удерживали их в песке. Она видела глубоко летящих рыб, которые оставляли подвижные нитяные следы, колышущиеся объемы чистой воды, чаще двойные, как пузыри гигантских рыб, солнечные блики, слепо влекомые волнами — Мэл слушал и расширял свое зрение. Братское чувство переоформлялось в запретное, с этого момента между двумя детьми встало то неизбежное, что должно было произойти между двумя детьми в замкнутом пространстве сада и дома, в одном из тайных уголков, о существовании которых и не подозревают взрослые, хотя и считают, что хорошо смотрят за своими детьми.
Смотри, говорила Олла, он не сразу убивает ее — об огне и щепке, брошенной в огонь. Он обнимает ее и долго — смотри, как долго! — она остается целой, невредимой, странно: она вся в огне, но еще жива. Так он обладает ею — ты понимаешь, что значит это слово?
Об-ла-дает, — подумал Мэл. Окружает, обкладывает блестящими звонкими ладами.
Огонь, говорила Олла, был и есть один на Земле. Однажды он возгорелся и размножился — от искры к искре. Все огни — огонь, частицы единого большого огня, и стоит потухнуть одному костру, как где-то на другом конце Шара загорается новый. На каждой планете строгое количество огня. Если оно увеличивается, планета гибнет, если оно уменьшается, планета гибнет опять. Такое случилось и с моей далекой планетой, и вот я здесь, с тобой… Мэл был уже по уши влюблен в эту странную девочку.
Любая новая девочка была ему безумно интересна, потому что на свете не бывает не то чтобы двух одинаковых, но и вообще — даже двух похожих девочек: даже близняшки Ася и Аза, которых родители одинаково одевали — то ли следуя какой-то чудовищной моде, то ли из экономии — настолько отличались одна от другой, что лишь слепой или глухой мог их перепутать.
Ася обладала удивительной способностью краснеть, была застенчивой, жалкой, Аза, напротив, часто отпускала рискованные шутки и сама же над ними смеялась. Алла любила музыку — легкую, плавную — амурские волны или танго Соловья, Антонина предпочитала четкие ритмы диско, металла и рэпа. Анна имела привычку закусывать верхнюю губу, Алина — нижнюю, Ариша пристально смотрела расширенными зрачками, будто пораженная ужасом и болью, Ада высовывала язычок, острым кончиком достигая носа. Августа, напротив, вываливала свой огромный фиолетовый язык вниз-набок, издавая высокие протяжные стоны, Акилина крепко зажмуривала глаза и мерно раскачивала головой из стороны в сторону, Ариадна широко улыбалась, щурясь от удовольствия, Андрона любила натянуть подол себе на лицо, так что сквозь материю проступал какой-то забавный Фантомас, Анфиса никогда не снимала носков, похоже, из соображений гигиены, Агнесса не раздевалась вообще, позволяя лишь расстегнуть молнию джинсов, Аглаида, словно соперничая с нею, снимала с себя все, вплоть до дешевых сережек, шпилек, обручального кольца, Алевтина истерически требовала только фирменных усатых презервативов, Агриппина же терпеть не могла всей этой резины и, будто какая-то пожилая учительница, была буквально помешана на графиках и диаграммах, Аграфена, иногда называвшая себя Аделаидой и даже Аделиной, громким страстным шепотом читала стихи Иннокентия Анненского, Альбина вела долгие философские диспуты, тематики столь же разнообразной, как и применяемые ею подпозы, не прекращая дискуссировать даже во время своего оргазма, и лишь только одна Шурочка, милая моя, искренняя — делала все просто, чисто по-человечески, совершенно без всяких фокусов…
А какие у девочек были запахи, если вынюхивать девочку по частям: лиственные, лесные запахи ее волос — березовые, каштановые, липовые, деревенские запахи ее рта и ушей, запахи мегаполиса в ее промежности и подмышках, мягкие хлебные запахи ее грудей… Мэл умащивал девочек мамиными духами и дезодорантами, натирал мамиными кремами, умело использовал он и природные материалы, осыпая любовное ложе лепестками роз, лаская девочку головкой одуванчика, угощая земляникой… А каким наслаждением было любить девочку в стоге сена, в пойменных лугах загородных излучин реки, где вперемешку с травой были засушены мельчайшие дикие цветы, а однажды в бане, в липецкой деревне у двоюродной бабки, когда пришла насмешливая соседка, афганская вдова и, приметив его взгляд, умыкнула с собой потереть спинку… С тех пор он страстно мечтал повторить это древнерусское благоухание, и даже придумал себе суррогат, как-то раз, уже в Москве, преодолев брезгливость, отправился в общественные бани, но при первом пощипывании парного запаха с ним произошла вполне понятная вещь, и моющиеся мужчины приняли его за педераста.
Он любил дарить девочкам скромные, но значительные подарки, которые чудесным образом возвращались обратно: так, Анжеле он подарил ампулу розового масла с каплей болгарского солнца внутри, чтобы потом потерять сознание в дебрях собственного розария… Он мечтал полюбить девочку вдвоем с другом, крутить ее на широком ковре в четырех руках, четырех ногах, удвоить ее наслаждение, чтобы оно, размножившись в геометрической прогрессии, вновь вернулось к нему.
Бедная, несчастная Олла, прилежно читавшая книгу, она и представить себе не могла, какие необузданные желания вызывал у русского мальчика ее гладко зачесанный затылок.
Утром они вместе топили теплицу, накалывая тонкие смолистые лучины, днем пололи огородик (сырая черная земля, уже вполне хрустящая морковь, червяки) вечером поздно, в беседке, где луна вдруг разваливалась, нет, нарезана была на сотни виноградных листьев — зловещим шепотом рассказывали друг другу невинные страшные истории (Олля! Зун звейкас бьес киелис? — Да ладно вам! — голос матери Мэла. — Двор же на замке…)
Однажды девочка увидела на своей постели точечное красное пятно. На другое утро пятно выросло до размеров пятикопеечной монеты. Ночью ей приснился сон, будто Учитель пришел к ней и укусил ее в шею, и стал сосать кровь. Девочка ударила его туфлей и вышибла каблуком ему зуб. Наутро учитель пришел на урок без зуба. Следующей ночью (а пятно стало уже гораздо больше, как рубль) ей приснилось, что Учитель грызет ее пальцы. Она ударила учителя топором по ноге, а он пришел в школу без ноги. Между тем, пятно выросло до размеров луны, а Учитель пришел к ней ночью и стал… В этот момент Олла вцепилось Мэлу в плечо и заорала глухим басом: Отдай мою кровь! — будто сам ужас вцепился в него.
Все существующие истории были рассказаны и пришлось сочинять новые, воображение Мэла бездарно кружилось вокруг черных перчаток и подозрительных пятен, Олла сочиняла причудливые образы, явно выпирающие за рамки детской мифологии. Ничего, думал Мэл, когда я буду таким же взрослым, как она, я сочиню много мудрых книг, здесь, в этой беседке испишу множество коричневых тетрадей, меня узнает весь мир… Нет, ничего он так и не написал.
Темнозеленая, гладкая Убивайя с золотыми глазами, большая толстая Убивайя снилась им по ночам, переходя от окна к окну по карнизу и склоняясь над их постелями. Убивайя всегда появлялась там, где кого-то убивали, она выглядывала из-за плеча убийцы и смотрела на жертву, большеголовая, безносая, медленно ползая горящими глазами туда-сюда. Прославленные сыщики знали, что там, где появляется Убивайя, неминуемо произойдет убийство, они шли по ее следам, крупным треугольным отпечаткам в глине… Мэл внутренне собирался, по едва уловимым признакам чувствуя: сейчас Олла будет его пугать, скрежеща зубами.
Лунное лицо Оллы источало холодный матовый свет. Губы были такими же белыми, как и кожа, и Мэлу казалось, что она уже давно мертва.
Пора спать, говорила Олла внезапно, на самом интересном месте, как Шахерезада, и уходила шелестя, оставляя в беседке дымный призрак Оллы, на глазах теряющий форму сгусток запаха, насыщенную гамму острых девчоночьих духов и подмышек, и Мэл старался почувствовать ее путь по лестницам и коридорам, пока наконец не освещалось окно ее комнаты, затем свет перемигивал: при ночнике Олла читала свою чужеземную книгу.
Мэл видел, что Олла идет к нему, и это наполняло тайным смыслом каждое ее слово и движение, Мэл видел, как Олла идет к нему по обширной площади с колоннадами зданий на горизонте, вытянув вперед руки, в длинном белом балахоне…
Они поверяли друг другу свои тайные мысли и сны, удивляясь совпадениям, казалось, остался один-единственный маленький шаг, чтобы действительность приобрела новый смысл, и раз вечером, засыпая, вытягивая трубочкой губы, Мэл твердо поклялся себе, что завтра крепко возьмет ее за плечи и прямо в рот поцелует, крепко, с языком, но утром все перевернулось, закачавшись в каком-то новом равновесии, и началась другая история, потому что в Санск прибыл Дяборя.
Это был студенческий товарищ отца и старомодный поклонник матери, целующий ручку и щелкающий каблуками. Он больше других гостей разговаривал с детьми, обращаясь на равных, слушая с серьезным, внимательным лицом.
Дети в доме Плетневых обычно существовали сами по себе, и если их летом собиралось трое или больше, им даже накрывали отдельный стол. Они довольствовались короткими репликами разрешающего или запрещающего толка, обрывками серьезных разговоров — вечерами, на веранде, когда общество наслаждалось традиционным липовым чаем, довольно вкусным… Иногда кто-нибудь солидно подзывал ребенка, задавал несколько вопросов и, успокоившись тем, что ребенок мечтает стать космонавтом или фотомоделью, отпускал «поиграть», напутственно хлопая по задику.
Впервые появившись в беседке — в твердом, волнующем табачном коконе — Дяборя за полчаса довел обоих детей до истерического хохота, исполняя в лицах картинки из своего детства — где-то под Киевом, в дачном поселке НКВД, который по своему строению был подозрительно похож на город Санск… Когда стемнело, они вывели его на берег и показали вечернюю Пальмиру. В ответ на это Дяборя показал им восходящие над Пальмирой звезды. Тогда Олла показала Дяборе, как созвездие Северного Муравья отражается в реке. Напоследок Дяборя пообещал завтра же придумать нечто такое, что удивит весь город и окрестности, пожал руку Мэлу, поцеловал Оллу в макушку и удалился.
— Странный человек, очень странный человек, — несколько раз задумчиво повторила Олла. «Шеловек» получалось у нее.
Выйдя наутро во двор, Мэл с удивлением увидел, что Олла и Дяборя уже на ногах, увлеченно мастерят что-то в сарае. Мальчик обиделся, что начали без него, но, едва посвященный в суть дела, пришел в настоящий восторг: они строили летающую тарелку, это должен был быть монгольфьер из папиросной бумаги, полтора метра диаметром, раскрашенный для пущей видимости черной тушью. Дяборя показал Мэлу свои расчеты: энергии одной тщательно спрятанной под аппаратом спиртовки должно было хватить, чтобы он взлетел.
Три дня они увлеченно работали, распевая популярные в то лето песни, скептические головы взрослых заглядывали в сарай, иногда кому-нибудь удавалось умыкнуть Дяборю на стакан вина, он возвращался веселый, обнимал детей, похлопывал их по плечам. Пуск был назначен на воскресный вечер, когда на улицах города много праздношатающегося люда и переполнены пляжи.
Олла зажгла спиртовку, шепотом произнесла заклинание, и вскоре шар приподнялся на лесках, полный живого горячего воздуха. Олла тронула одну из лесок и, натянутая, она зазвучала, словно струна. Дяборя произнес краткую речь о неопознанных летающих объектах, в существование которых люди отказываются верить, и по его команде все трое разом перерезали лески. Под дружное «Ах!» обитателей веранды, где пили пресловутый липовый чай, тарелка, медленно вращаясь в поисках равновесия, легко взмыла в воздух.
— Ну, а теперь айда гулять! — хитро сощурившись, предложил Дяборя. и вскоре Мэл стал участником зрелища, которое запомнил на всю свою недолгую жизнь.
Созданное их руками существо поднялось метров на пятьдесят и медленно поплыло вдоль реки, повторяя ее излучины. Теперь уже трудно было представить истинные размеры странного тела: вполне могло показаться, что оно гигантское и летит очень высоко.
Солнце весьма выгодно выявляло его тарелкообразную форму, на тихой улице Малышева стояло несколько ошарашенных зевак, тычущих пальцами в небо, на углу Пиотровского бульвара остановилась черная «Волга» и ее пассажиры недовольно посмотрели в небо из-под шляп. Прилетели! Прилетели! — кричал мальчишка, размахивая грязной майкой. Центр города был переполнен сотнями тычущих, окна домов были настежь распахнуты, кто-то наблюдал явление в бинокль, и посреди всеобщей паники, в самом сердце обманутого города, загадочно улыбаясь, ходили мужчина и двое детей… Мы были когда-то счастливы! Мэл и помыслить не мог, что вскоре этот пожилой человек станет его соперником в любви…
На другое утро Мэл, в ожидании новых игр и шуток, рано проснулся и вышел во двор, но беседка была пуста, не было его друзей и на берегу, не появились они и после получаса одинокого раскачивания на скрипучих качелях. Вскоре бабушка позвала завтракать и между прочим сообщила, что дядя Боря и Олла рано ушли в город. Мэл был ошарашен прежде всего тем, что два человека, не знающих Санска, идут на экскурсию без него, законного гида.
Мэл взобрался на Лысую гору, петляя по хитрым кривым улкам, сокращая через чужие собачьи дворы, обошел собор, даже заглянул внутрь, из конца в конец прошел улицу К.Маркса… Их не было.
По серой деревянной лестнице (116 ступенек) Мэл спустился в Гидропарк, проверил аттракционы и лодки, зашел в комнату смеха, последовательно показавшись в каждом из двенадцати кривых зеркал, совершил круг на Чертовом Колесе, высматривая беглецов в тайных углах парка. Их не было нигде.
Воспользовавшись фуникулером, Мэл попал в центр, осмотрел детский городок и музей тринадцати санцев, пробежал из конца в конец улицу К.Маркса, затем, трамваем позванивая, через мост прикатил на Пальмиру, где шатался, переходя с улицы на улицу, огибая прямоугольные кварталы, выглядывая из-за углов… День был удивительно солнечный, город окутывал золотистый туман, флюгеры и знаки на готических карнизах, колеблясь, исчезали из реальности, и вдруг, из магазина «Книги» выходящими, увидел Мэл тех, кого искал. Оба улыбались. Олла несла небольшой сверток, высоко прижав его к груди.
Приникая к стенам зданий, отстаиваясь в парадных, Мэл продвигался за ними. Солнце, глядя ему в спину (а им в глаза) помогало стать невидимкой. Они зашли в Детский мир — на груди Оллы появился еще один таинственный сверток. Мэл обогнал их сорным проходным двором и вышел из-за угла навстречу. Улыбки, на миг погаснув, возникли вновь, сменив качество…
— Мы не хотели тебя будить…
Мы. Вместе. Мы и ты…
Втроем они вернулись домой. Вечером сидели в беседке. Дяборя показал игру в Муху.
На листе бумаге чертится сетка, в ее ячейки вписываются (угловатым, щемящим сердце почерком Оллы) буквы и цифры, берется муха, отрываются крылья, запускается на поле. Бегая, муха отмечает знаки, которые и складываются в слова предсказаний. Мэлу выпало: ланджголщж8гно91 . Олле — ыткане7654вук. Дяборе — крыс72 . После чего муха перевернулась кверху лапками, что означало конец гаданий. Зловещий смысл всего этого стал ясен немного позже…
В дальнем углу беседки к столбу был прикреплен треугольный фрагмент зеркала, взгляд Мэла, отразившись, падал на Оллу, он увидел, что лицо ее жутко перекошено, присмотрелся и понял: у девочки было два профиля: один, обращенный к Мэлу, изображал явную насмешку, другой, для Дябори, был возвышенно грустным, святым.
Олла уже не рассказывала Мэлу своих снов, она медленно удалялась, отлетая и делаясь все меньше. Когда он находил их, уединенными в беседке или на берегу, они замолкали, недоуменно смотрели на него, и Дяборя начинал новую тему беседы. Однажды, сидя на веранде, Мэл через два зеркала, в гостиной и коридоре, увидел, как Дяборя прижал Оллу к двери шкафа и коротко поцеловал в губы.
Дяборя, наслаждаясь своей победой, становился все более веселым и жизнерадостным, он неутомимо придумывал все новые развлечения, притворяясь, что делает это не только для Оллы, но и для Мэла, хотя и его отражение в зеркале было двуликим: Олле Дяборя показывал ласку, внимательную нежность, а Мэлу — какую-то глупую тыкву…
Узнав о том, что молодые люди увлечены страшными историями, Дяборя закричал от восторга и тут же выдал рассказ о Тыквочеловеке, который вырос на бахче, перегрыз росток-пуповину и явился среди людей. Внешне он ничем не отличался от обычного человека, но присмотревшись, можно было заметить необычную фактуру его кожи, а на ощупь она была твердой, гладкой, слегка влажной, как тыква, кабачок, или другое растение семейства тыквенных. Иногда его лицо полностью тыквенело, превращаясь в абсолютную тыкву, но чаще всего оно приближалось к обыкновенному человеческому лицу, и лишь временами проступали сквозь него черты тыквы, выросшей на бахче среди кабачков, патиссонов и дынь — чем на самом деле и был этот странный человек. Иногда он мог превратиться в тыкву не плавно, а рывком, можно сказать, одним мгновенным толчком или даже тычком, — Дяборя показывал, как он это делал, с выпученными глазами дергая вперед головой и произнося жесткий межзубный звук «стп!» — с которым, но гораздо громче, превращался в тыкву тыквенный человек.
Дяборя был писателем, по утрам Мэл видел, как он пишет в беседке, время от времени стряхивая ручку, крупным взмахом в сторону-вниз-назад… Каждый вечер, во время поздних бдений, Дяборя сидел посередине, так, что Олла была далеко, и старик-писатель перебивал ее запах, рассказывая, как новая Шахерезада, свою многосерийную историю, где Тыквочеловек, так же как и Мэл, ненавидел людей с бородами. Он страшно завидовал тем, кто мог ходить по улице, поглаживая свою бороду, усмехаясь в бороду, промокая полотенцем бороду, собирая в кулак свою бороду и нюхая ее. Ненависть к бородатым была жуткой, физиологической, их хотелось таскать за бороды по лестницам, бить головой о ступени, наслаждаясь их слабостью, унижением, поскольку все эти бородатые были такими одинаковыми, такими умными на вид, и Мэл смеялся над ними, презирая их, что не мешало ему ненавидеть их и завидовать им.
Тыквочеловек преследовал бородатых, выслеживал их в темном лесу, подходил вплотную и превращался в тыкву с громким звуком «стп!» — бородатые (а их тонко организованная нервная система не была рассчитана на подобный внезапный удар) умирали на месте от разрыва сердца, а Тыквочеловек таскал их трупы за бороды, всячески издеваясь над ними: он отрезал их головы, насаживал, сопя, на палку и бегал по лесу, затем он стучался в окна, где жили бородатые, и показывал головы их женам, прыгая и хохоча внизу, с длинной палкой в руке — в такие моменты он был больше всего похож на тыкву, когда она смеется, катаясь по бахче на скрученном корне, тревожа собственные листья и с глухим стуком толкая соседние, грустные тыквы.
Чернильные пятна на полу превратились в сплошное чернильное пятно, и оно приобрело странную форму человеческой фигуры: голова — где попало наибольшее количество брызг от Дябориной ручки, покатые плечи — где брызги разошлись веером. Олла и Мэл стали героями бесконечной истории, потому что Тыквочеловек напал на след Оллы, у которой были чудесные, длинные и белые, очень шелковистые и нежные на ощупь волосы — Дяборя трогал их и осторожно гладил, демонстрируя Мэлу их шелковистость и блеск. Тыквочеловек должен был заманить Оллу в темное место, напугать ее до смерти и снять с нее скальп, но девочка гуляла только днем, по светлым и людным улицам города, в котором жила, чудесного города, где были островерхие готические крыши с флюгерами в виде животных и человечков, где по воскресеньям в воздух взлетали разноцветные шары, где старые серые стены молча, чопорно, словно какие-то слепые зеркала, свидетельствовали о тебе, где миниатюрные цветочницы в кружевных чепчиках лелеяли розы, полные скрытых взрывов душистой пыльцы, где по крутым и узким улицам, ощутимо накреняясь на поворотах, сбегаешь на набережную кораблей, и свежий ветер моря хочет сорвать твое голубое ситцевое платье… А вечерами, когда начинало темнеть, прилежная девочка (Дяборя погладил ее по голове и шутливо поцеловал в щеку) возвращалась домой… Тогда коварный человек решил подговорить друга Оллы, блистательного мальчика Мэлора, чтобы тот выманил ее вечером из дома, отвел в лес и оставил одну. Да, сказал маленький Мэл, бессильно злой на Оллу, — именно так я и сделаю, где этот Тыква-Человек? — на что большой Мэл возразил, что шутка звучит глупо, но было уже поздно: Олла презрительно смерила взглядом нормального живого Мэла… Тогда Тыквочеловек вышел из шкафа и остановился перед Мэлом, который за столом мирно делал уроки. Он стал шантажировать его, угрожая немедленно превратиться в тыкву — тычком, на его глазах, с мерзким, умопомрачительным звуком «стп!» но Мэл сказал, что он не боится тыквы, какой-то вздорной огородной тыквы, которую он может пнуть ногой, несмотря на то, что она смеется, катаясь на длинном своем корешке, но сам не поверил собственным словам и сразу увидел: Дяборя и Олла также не верят ему, Олла — с нескрываемым презрением, а Дяборя — с плохо замаскированным чувством досады… Тогда Тыквочеловек предложил Мэлу игрушки, тысячи новых игрушек, которые не снились никому из сверстников: тут были и самоходные ползающие черепахи, которые могли часами двигаться по полу, хитроумно обходя препятствия, почти не отличаясь от живых, и даже летающие радиоуправляемые осы, которые могли по приказу мальчика жалить кого угодно, но Мэл отказался от подношений тыквы, хотя и подумал, что с помощью этих ос может завладеть миром, убивая и держа в страхе правителей разных стран… Тогда Тыквочеловек решил взять Мэла хитростью и тем самым добиться волос Оллы. Он наслал на Мэла любовь к Олле, ведь она такая красивая и умная девушка, и нельзя в нее не влюбиться (Мэл покраснел, как обычно краснеют рыжие, так ярко, что было заметно даже в полумраке этого вечера) а влюбившись, он сам должен был искать темных уединенных уголков с Оллой, поскольку в любви наиболее важно найти темный, скрытый от посторонних уголок, на что Мэл притворно расхохотался, вспомнив близняшек Асю и Азу, а Олла посмотрела на него с сожалением. И вот однажды наступил день, вернее, ночь, когда Тыквочеловек понял: от умного, хитрого мальчика Мэла добиться ничего нельзя, и решил пойти прямо к Олле, и для верности взять с собой золотистозеленую Убивайю, но тут кончилась очередная — и как потом, после чудовищных событий этой ночи оказалось — последняя серия романа о Тыквочеловеке.
Они распрощались на веранде, напоследок Дяборя по традиции достал три таблетки сладкого витамина, три черных твердых горошины, Олла поглядела на небо, где полная луна уже взошла и стала маленькой, облако, мутной ореольной формой напоминавшее трехпалую руку, медленно протерло серебристый диск, лицо Оллы было белесым, тень облака скользнула по нему, оба — Мэл и его старший соперник — одновременно увидели ужас, который отразился в ее глазах, и переглянулись…
Дяборя ночевал в комнате Мэла, поскольку в тот август весь дом был переполнен гостями, и поздно, когда Мэл разделся и лег, Дяборя молча покурил у окошка, глядя на цепи городских огней и торжество луны на крышах домов, затем сообщил, что идет играть в преферанс с гостями, и исчез, улыбаясь. Мэл мысленно проследил его путь по дому, полному тишины. Мэл знал, что сегодня никто не собирался играть в карты.
Он выскользнул из комнаты и прокрался по коридору в гостиную, которая, как и ожидалась, была пустой, лунные пятна горели на спинках стульев, Мэл спустился по винтовой лестнице в нижний коридор и через окно столовой выбрался на карниз, ночной ветер надул его рубашку, мальчик оглянулся и посмотрел вниз, где на сгибах волн поблескивала пресловутая луна… По течению проплыло длинное гладкое бревно, казалось, оно извивается в близком фарватере реки. Мэл заметил, что из окна Оллы вытекает розовый колеблющийся свет, какой может изобразить только живое пламя свечи.
Широко раскинув руки и вжавшись в стену (Мэл знал, что здесь неглубоко, всего по шейку, но черная, в трех метрах под ним монотонно текущая вода, казалась опасной) дрожа всей грудью, он продвинулся по карнизу, замер, достал из кармана зеркальце и через него, двумя пальцами поставив его углом, заглянул в окно.
То, что он увидел, запомнилось ему на всю жизнь: горящая свеча истекала стеарином в черном чугунном канделябре, причудливым скрещением теней вибрировал потолок, а на полу, на ковре, мерно покачивался на руках над распластанной Оллой писатель, чьи четко выраженные суховатые мускулы были белыми, словно корни растения. Больше всего Мэла поразило, что они оба высунули языки и двигают ими, будто ищут чего-то, и годы спустя, уже будучи у Бориса Николаевича в Москве и беседуя с ним на самые серьезные темы, Мэл представлял себе его белое бесстрастное лицо с крепко зажмуренными глазами и высунутым, как у утопленника, языком…
Когда Дяборя вернулся в комнату, почесываясь и напевая, он застал Мэла мирно читающим в постели.
— Проигрались, поручик? — спросил Мэл, снисходительно улыбаясь.
— О нет, милорд, очень даже выиграл.
При этом Дяборя потряс карманом куртки, где плеснулась мелочь, затем разделся (несколько медяков выпали и беззвучно закружили по ковру) лег, поставил пепельницу себе на грудь и с наслаждением закурил. Ему явно хотелось поговорить.
— Ты сам не понимаешь, — продолжал он тему, начатую. еще вчера (это была его привычка, делать паузы по нескольку дней, как бы для того, чтобы юный собеседник мог основательно подумать) — не понимаешь, как прекрасен город, в котором ты живешь. Неужели тебе не нравится бродить по улицам и лестницам, почти ялтинским, в районе Старой Мельницы, или проезжать на велосипеде по ровной как плац Пальмире? Неужели противно смотреть вечерами на возрастающие цепочки огней Старого Города, где множество окон являют собой эффект бесформенного, сверхмногоэтажного здания, гигантского в основании, как Вавилонская башня, или смотреть снизу на группу пятиэтажных домов барочной постройки начала века, на самой вершине Лысой горы, они и днем и ночью видны как на ладони и кажутся крошечными вычурными кораблями? Или как страшно, а вовсе не весело идти по улочкам сверху вниз, среди дворов и заборов Черной слободы домой, когда цепной реакцией развивается собачий лай, и так хорошо на душе… Мэлор, посмотри, тебе не кажется, что тапочек ползет по полу, не землетрясение ли тут еще началось?
— Нет, это вам так кажется, — сказал Мэл, ослабив нить.
— Так вот, — продолжал Дяборя, — ты еще не понимаешь, что с возрастом жить становится лучше, интереснее, все ярче чувствуешь краски и формы мира, все полнее испытываешь самые простые ощущения — вкус, например, или запах, прелесть движения, спорта, гибкость своего тела… Постой-ка! По-моему, он все-таки ползет, смотри!
Он нервически двинул вперед головой, будто хотел превратиться в тыкву. Мэл продолжал медленно, очень медленно тянуть нить, отвечая:
— Что вы, Дяборя, это вам кажется, уверяю вас.
— Ладно, — вздохнул Дяборя. — Так на чем мы остановились?
— На наслаждениях.
— Ах да, наслаждениях… Разве я произнес это слово? Странно… Вот, к примеру, звездное небо. Почему мы раз и навсегда решили называть на нем одни и те же сочетания звезд? Почему воображению не чертить какие-нибудь другие, новые фигуры? Почему не объединить два разных созвездия в одно, и наоборот?
— А-а-а! — вдруг шепотом закричал Мэл, показывая на тапочек.
— Что, — встрепенулся Дяборя, — ползет?
— Да, — прошептал Мэл. — Медленно.
Но тапочек стоял на месте и вновь пополз только тогда, когда Дяборя откинул голову и, не сводя с тапочка глаз, перешел к рассуждению о цвете морей и океанов:
— …Солнце всегда по-разному освещает их поверхность, и, похоже, они ни разу за миллиарды лет не излучали двух одинаковых цветов… И все-таки ползет!
— Нет, — сурово сказал Мэл.
Тапочек медленно и неотвратимо двигался по полу, в полной тишине…
— А знаешь, — сказал вдруг Дяборя без тени улыбки, — ползающие тапочки водятся только в стране дураков?
Мэл понял, что его сразу раскусили и только издевались над ним. С этими словами Дяборя встал и выключил свет, так и не дав Мэлу исполнить последний трюк. Он намеревался рывком дернуть нитку, чтобы тапочки взвились в воздух и бросились на Дяборю, и он уже ясно представлял себе жалкого голого мужчину, пулей выскакивающего из постели и постыдно убегающего вон…
Спустя несколько минут Дяборя захрапел, а спустя годы отомстил Мэлу сходным способом, когда Мэл приехал в Москву и жил на даче Бориса Николаевича, в Алешкиных садах, и вместе с его сыном готовился к вступительным экзаменам, и приехал сам Борис Николаевич, и засыпая, Мэл слышал в доме странные звуки, шаги, сдавленный девичий смех, и где-то на грани слуха — девичьи крики: Дяборя крутил магнитофонные записи, включал скрытые источники света, устраивал внезапные падения книг и картин, и однажды ночью в окно заглянула Олла, статуя мертвой Оллы в бледном свете луны — и Мэла тогда подвели почки, и он мучительно соображал, как тайком выстирать и просушить постель, а в ту ночь, в Санске, едва Дяборя уснул, Мэл встал, взял свою одежду и тихо вышел в коридор, там оделся, затем беззвучно скользнул по лестнице и на цыпочках пересек двор. В щели за дровяным флигелем он разыскал и отряхнул от успевшей нарасти за вечер паутины небольшую тыкву, которую они с Дяборей уже несколько дней выдалбливали по ночам, тайком от Оллы, а днем сушили на солнце, надев на черенок от сломанных еще в прошлом году ржавых граблей. Тыква была почти готова, оставалось только вырезать глаза, нос и рот, что Мэл сделал довольно быстро, импровизируя. Посмотрев на свою работу, в лицо, являвшее рваные щели глаз, огромный, в полтыквы щербатый рот, Мэл содрогнулся от ужаса…
Обойдя дом по карнизу, он добрался до окна Оллы. Окно было темным, все было немного иначе, чем два часа назад — луна ушла и вода стала черной, глухой. Мэл зажег свечку, надел тыкву на руку, поднял ее невысоко над краем окна и постучал в стекло костяшками пальцев. Ему показалось, что из комнаты донесся слабый девичий крик, а в темноте за стеклом мелькнуло грузное тело Убивайи…
Утро было солнечное, светлое, дом просыпался бодро, в саду гремел умывальник, звучали гулкие, как в железной бочке, голоса, слышно было, как на веранде скрипит колесами и поет старые боевые песни дед, мать Оллы шла по коридору и звала Оллу, звонко журя ее на родном языке за слишком долгий сон, за окном по улице усердно протарахтел трактор, на несколько секунд смешавшись с ревом обогнавшего его мотоцикла, крупная муха билась о стекло, улетала вглубь комнаты и вновь возвращалась к свету, с тупым звуком тычась в невидимую преграду, «Олля! Трикас си те лиека! Вставай!» — и вдруг ужасный, протяжный вопль поглотил остальные звуки, он воцарился во всем доме и прошел сквозь стены, взорвался на самой высокой, уже нечеловеческой ноте и затих, сменившись частой дробью многих ног.
Прибежав в комнату Оллы, домашние увидели, что она мертва. Девочка лежала навзничь с широко раскрытыми остекленевшими глазами, в них застыл ужас, рука тянулась к шнурку звонка.
Вскрытие установило смерть от инфаркта миокарда, то есть, от разрыва сердца. Только один человек на Земле знал истинную причину этой смерти.
(Несколько дней тыква, сидевшая за стеной дровяного флигеля, была объектом его терзаний, и как-то утром, тщательно проверив, что сад пуст, он наконец решился, взял ее, густо обросшую паутиной, пронес на вытянутых руках и сбросил в реку. Глотнув воды, голова наклонно затонула и покатилась по дну, туманясь и пережевывая песок, но через несколько дней, как бы описав круг, вернулась сверху по течению, с гулким стуком ткнувшись о мостки, будто некий плавучий гроб, и выглянула, когда Мэл, обливаясь зловонным потом, удил рыбу. В тот же вечер, при удачном скользящем свете, он заметил на скамье в беседке полустертую надпись, сделанную Дябориной рукой: … Убивайя ее …)
14
Через год после описанных событий в Санск на каникулы прибыл Андрюша Стаканский, сын Дябори, печальный молодой человек с большими серыми глазами, и ровесники быстро сдружились.
Это был возраст важных жизненных открытий, и многие из них они тогда сделали вместе. Они бродили по темным переулкам Гаевой Пэстыни, где в сражениях с местной шпаной его новый друг проявил неожиданную храбрость и высокий класс мордобоя, шатались по бульварам и улице К.Маркса, где Стаканский отличился умением непринужденно зацепить девочку, они сидели в летнем кинотеатре Чкаловского парка и ели мороженое, у Старой Мельницы брали бутылку вина (тогда вполне хватало одной на двоих) и долго рассматривали звезды на берегу, и рассказывали…
Стаканский рассказал историю «Майя», которая займет свое место во второй части романа, а Мэл умолчал уже прозвучавшую историю «Олла»… И некому было взять их за руки, заглянуть ласково в глаза и сказать: Слушайте, несколько лет вы будете друзьями и будете многое вместе делить, но в один момент, я бы не сказал, в один прекрасный момент, вы расстанетесь из-за бабы — навсегда.
— Что жизнь с ее вечным движением в будущее? — осенью писал Стаканский из Москвы, невольно имитируя лермонтовский стиль. — Будущее наступает изо дня в день, не успеешь оглянуться и — весна, конец ненавистной школы и фатальная необходимость нового жребия. Отец настоятельно советует мне поступить в МИРЕУ, у него там влияние в первом отделе, волосатая так сказать лапа, какой-то друг детства… Он намекнул, что может провести и тебя, если ты, конечно, найдешь в себе силы навсегда порвать с городом детства. А моим занятиям живописью и жизнью решительно безразлично, какому вузу отдать эти мозги…
Разумеется, Мэл был рад возможности уйти из Санска. Зимой он приехал к Стаканским на несколько дней каникул, Дяборя, теперь уже называемый Борис Николаевич, подтвердил свое намерение пихнуть обоих молодых людей в МИРЕУ, Москва поразила Мэла изобилием, казалось, он впервые в жизни понял, что такое на самом деле — город. Небоскребы и тройные эстакады, широкие автомобильные проспекты, гигантские кинотеатры, метро, напрочь уничтожающее пространство, тождественность телевизионного и реального изображений…
Москва полонила санские сны Мэла, там, в этих герметических, лично ему принадлежащих пространствах, он выходил за ворота своей школы и, свернув в 7-й Мощеный переулок, вдруг оказывался на площади, где по карнизу здания бежали рекламные символы, и чья-то длинная внимательная рука манила его из-за стеклянной двери метро…
Школу он закончил с двумя тройками, дедушка белой старческой рукой — такой старой, в крошечных смертельных пятнах — подарил ему неизносимый портфель крокодиловой кожи, на выпускном вечере, в парке Чкалова, Мэл умыкнул под летнюю эстраду белокурую девушку из параллельного класса, она оказалась невинной, громко, зычно стонала от боли, закусив губу, в июле он с отвращением читал учебники, справедливо полагая, что несмотря на волосатую лапу, надо хоть что-нибудь знать, мама благоговейно подавала в беседку поднос с легким завтраком, было сухо, безветренно, не слишком жарко, плоды на огороде медленно увеличивались в объеме…
В день отъезда Мэл проснулся с горьким ощущением перемены мира, оно длилось секунду, но было столь подробным, что само время сделало внезапный скачок. Зеркало напротив кровати не отражало ничего, оно было темносерого цвета, также и комната, которая должна была в нем отражаться, выглядела странно: дрожали цветы на обоях, шкаф прогнулся, приобретая форму рояля, и мерно раскачивалась люстра, да, именно увидев эту реальную маятниковую люстру, Мэл понял, что не спит — и ужас охватил его: «Умер!» — прошелестело в голове.
Тут же включился слух, он услышал мерный вкрадчивый треск, будто в комнате работает камин, и подлинный смысл происходящего дошел наконец до него. Едва успев натянуть штаны, он осознал, что ему уже нечем дышать, и услышав сильнейшую головную боль, ринулся в коридор, где также стояли плотные слои дыма, извращая мебель, а из комнаты Оллы вырывалось пламя.
Повернув в гостиную и вбежав по лестнице, Мэл наткнулся на мать: в прозрачной ночной рубашке, жалкие дрожащие груди, она простерла к нему руки, схватила его за плечи, Мэл оттолкнул ее и кинулся вдоль по галерее, пытаясь открыть окна… Воздуха в доме уже не было.
Мэл вдруг понял, что заблудился и не знает, куда ведет какая дверь, он понял, что бороться бессмысленно и что именно так выглядит смерть, но тут он заметил яркий дневной свет, пошел на него, потом побежал и, сломав какую-то хрупкую преграду, вылетел на воздух, в солнечные лучи, весь в осколках стекла и собственном захлебывающемся крике (словно снова рождаясь на свет) плюхнулся в реку, встал на ноги и огляделся, стекая вместе с мутными струями.
Дом, серой громадой поднимавшийся из воды, был еще цел, если не считать только что разбитого окна, но изо всех щелей сочился густой дым, и за стеклами верхнего этажа был виден розовый бликующий огонь.
Мэл поднялся через сад, выбежал на улицу и там увидел мать, отца и гостей: в нижнем белье они растерянно озирались по сторонам, хватали друг друга, кто-то побежал к телефону, улица наполнилась соседями, где-то наверху замелькали красным пожарные машины, вдруг взлетела черепица, и пламя вырвалось через крышу… Когда приехали пожарные, крыша уже обвалилась, и от жара на улице стало невыносимо, а при первых проблесках воды из брандспойтов — страшной силы взрыв потряс окрестности, стекла ближних домов вылетели совершенно целыми и раскололись внизу — это лопнули на кухне газовые баллоны. Дом содрогнулся и сложился, как бы войдя сам в себя, и последующие часы пожарные деловито поливали дымящуюся груду обломков.
Позже, когда они кое-как разместились у соседей, отец повторял, что крики дедушки были слышны даже тогда, когда огонь прошел сквозь крышу, и стихли только после обвала…
Это событие на две недели отодвинуло отъезд, скомкало подготовку к экзаменам, Мэл отвалил из Санска, проклиная его улицы, и в последний раз, на вираже наклонившись вместе с семидесятью угрюмыми пассажирами, чуть не задев крылом колокольню собора, плюнул вниз, смачно и весомо, и ему было безразлично, на чью потную лысину упал его жирный плевок.
Через полтора часа самолет спланировал в аэропорту Быково, и пять лет спустя Мэл любовался изгибом Анжелиной спины, сомнамбулически раскачиваясь и сдерживая оргазм. Когда все кончилось, они сидели по-турецки и курили сигарету на двоих, трогательно передавая ее из пальцев в пальцы, вдруг в неожиданном повороте ее головы он признал Оллу и мгновенно вспомнил, словно мысленно сфотографировал время, связанное с нею.
15
В эти тяжкие, с трудом преодолимые дни Мэл стремился чаще бывать на людях — одиночество и мучило его, и угрожало прямой опасностью. В течение недели Мэл пил с кем попало: в другое время он не позволил бы себе ни малейшего слабоумия с такими людьми… Так, во вторник, не найдя Стаканского ни в институте, ни дома, Мэл скентовался с комитетчиками, официальными стукачами. В ПНИ люди такого сорта не ходили, боясь засветиться, члены бюро облюбовали себе маленький пивняк на конечной остановке 27-го трамвая, называемый Коптевский пивной зал, сокращенно — КПЗ. Там во вторник и напились.
В среду, опять не дозвонившись Стаканскому, Мэл заехал к приятелю в овощной магазин, где он когда-то тайно подрабатывал грузчиком, и они славненько напились «Золотой осени» и мокрым вечером на Новослободской безуспешно приставали к женщинам — пьяно, глупо, выходя из кустов и падая в лужи… Они пели песни, ночью чуть было не попали в милицию…
В четверг Мэл случайно встретил во дворе института с каменным ликом проходящую Веру, поздоровался, небрежно пригласил в кафе, она с гордым видом согласилась. Взяли: бутылку «Лучистого», бутылку «Стрелецкой», два пива. Мэл повел бывшую подругу в приличную стекляшку на Самотечной, где был дым, свет люминесцентных сильфид, запах медленно хмелевших мужчин и женщин…
Они развеселились. Вера добродушно поносила Анжелу, дурацкие заскоки своей подруги, ее провинциальную нечистоплотность, но, не найдя поддержки этой теме, перевела разговор на другую: спокойно, будто бы о давно прошедшем, рассказала о своих ощущениях от самоубийства, о трюке с таблетками… Мэл видел, как она счастлива с ним, и чувствовал досаду… Вечером вдруг, когда они вышли на улицу, боль в паху сделалась невыносимой, и он, затащив девушку в парадное на Цветном бульваре, освободился.
Едва он вошел в свою комнату, как постучалась Анжела. На сегодня хватит, подумал Мэл и не открыл дверь.
(Она появлялась каждую ночь, делая вид, что не замечает его пьянства, она нравилась Мэлу все меньше, забрасывала его сентиментальными стихами, преданно смотрела в глаза… Мэл не любил таких отношений. Ему всегда хотелось чувствовать некую тайну в женщине, даже самой обыкновенной, извлекать тайну из банальной оболочки, словно вытаскивать одну из другой, как вытаскивают тело из платья. Так вот: Анжела была начисто лишена какой бы то ни было тайны, он видел девушку легкой, легче воздуха цветной формой, скачущей по комнатам — откроешь форточку и улетит. Она слишком скоро заговорила о своей любви, требуя ответных излияний, но Мэл прекрасно знал, что его отношения с женщинами, даже в самый ранний волнующий период, были далеки от так называемой любви. Больше всего на свете ему нравилось теплыми летними вечерами выходить из метро в центре и одиноко гулять по бульварам: много неясных в полутьме силуэтов, обрывки фраз, шелест… Он бесцельно ходил за какой-нибудь женщиной, не стараясь познакомиться и радуясь собственному бескорыстию (если она была далеко, боль в паху казалась даже приятной…) Он пил кофе в кулинарии у Англицкого клуба, смотрел сквозь витрину на улицу, перемешенную с интерьером, потом неспеша возвращался домой. стараясь прошмыгнуть никем не замеченным, ложился не раздеваясь на кровать, лежал в темноте и, томно засыпая, думал, что когда-нибудь он все-таки женится, как все люди, необязательно, хоть и желательно, на москвичке, но непременно — по любви. Такие вечера он считал праздниками…)
Все это время Мэл хитро озирался, отыскивая незаметных в толпе, но слежки, похоже, не было, и он был почти уверен, что все это ему показалось: мало ли на свете незаметных, этих курток с меховым капюшоном, плюс слабое зрение — ведь лица того человека он так и не разглядел…
Мэл встретил Стаканского только в пятницу, его друг сосредоточенно ел в институтской столовой, со всех сторон осматривая куски на вилке, прежде, чем отправить их в рот.
Через полчаса в «Ангаре» на Белорусской, в просторном люминесцентном зале, действительно похожем на какой-то ангар для летательных аппаратов, он столь же придирчиво изучал пивную кружку, отчего пена выделывала забавные мыльные фигуры, затем залпом осушил ее и вытер усы.
Последнее время Мэл видел: Стаканский медленно удаляется, и не мог понять, почему. Он явно провоцировал Мэла, припирал к стенке, заставляя признаться, что Мэл либо конформист, либо дурак. Когда-то Стаканский заявил: коммунисту он руки не подаст, и Мэл, в феврале став кандидатом, каждый раз, пожимая другу руку, вспоминал эти слова, что было вполне нормальным психологическим явлением, так, например, несколько лет назад, одна девочка научила его особым способом смешивать растворимый кофе, и всякий раз, смешивая кофе, Мэл вспоминал ее, и в этом была особая прелесть: смакуя кофе, исподлобья смотреть на другую, пристально вспоминая ее…
Всю эту неделю Стаканский побухивал на даче, один, приехал переночевать да задержался, так как обстоятельства были сильнее его: деревенский магазин доверху завалили шмурдяком, а у Стаканского в кармане была стипендия. Сидя на берегу реки, он размышлял о строении Вселенной. За время разлуки он накопил для Мэла много словесного вещества, и вряд ли его занимало то, что накопил для него Мэл.
Стаканский разлил по кружкам «прицеп», взятую по пути бутылку Солнцедара-0,7, и покуда он с мучительным «ы-ы» проталкивал вино в глотку, Мэл успел ввернуть свой рассказ, оформленный с деланной небрежностью.
— Да кому ты нужен, — усмехнулся Стаканский, вполне освоив прицеп. — Ну, скажем, в порядке бреда, если они теперь проверяют тебя как кандидата?
— Я подумал: может, из-за книг?
— Как он выглядел?
— Просто. Такая синяя куртка с капюшоном, вроде как вон тот, у автоматов… — Мэл вдруг осекся, близоруко сощурясь.
Человек в куртке, наполнив кружку, устроился через стол напротив и посмотрел на него: лица с такого расстояния Мэл не разглядел, но хорошо увидел взгляд, и увидел внезапный блик его перстня.
— Да, — серьезно пошутил Стаканский, — это он. Видишь, как тяжел его левый лацкан? Там — пушка: револьвер, революционный наган.
Надо было налить пива. Делая рейс к автоматам, Мэл прошел мимо человека: это был невысокого роста худощавый молодой человек, с длинным, очень смуглым лицом, он производил впечатление гостя столицы — своей старомодной прической, своим провинциальным перстнем-печаткой матового серебра — и совершенно не был похож на сексота. Мэл вернулся, насвистывая.
— Я довольно много, — сказал Стаканский, принимая кружку, — там, в глуши, размышлял о строении Вселенной. Сосны, река под ногами. И Вселенная — бесконечна.
— Если это так, — оживленно подхватил Мэл, продолжая насвистывать, — то во Вселенной есть всё, то есть, существуют все явления, возможность которых только можно предположить.
— И даже те, которые мы, по слабоумию, предположить не можем.
— И притом — в бесконечном количестве! Прицеп?
Как раз опустели кружки, и Стаканский разлил остатки Вермута-07.
— Следовательно, во Вселенной, — продолжал он, перочинным ножом мелко нарезая на столе репу, — могут существовать планеты, похожие на нашу, и даже планеты, совершенно идентичные нашей, и их также — бесконечное количество.
— Есть такие планеты, где существую я и не существуешь ты, — в тон ему подумал Мэл, а вслух сказал:
— Но это же абсурд! Этого не может быть. Следовательно…
— Следовательно — Вселенная не бесконечна. Свояк! — сказал Стаканский и мелко помахал шляпой под столом. Он извлек из дипломата завернутый в промасленную бумагу флакон розовой воды. Мэл поморщился: он знал, что от этого напитка портится цвет лица, но делать было нечего. Стаканский разлил флакон по кружкам и вытряхнул последние капли. Они выпили и несколько секунд с отвращением мотали головами.
— Наш мир, — сказал Стаканский, когда розовая вода прижилась, — устроен логично и целесообразно. Огурчик! Икается эта розовая вода… В этой связи, не вполне понятен смысл связей, которые возникают меж людьми — любовные, деловые и т. п. Почему одни люди держат власть над другими, влияют на ход исторических событий? Для чего нужны войны, революции, уничтожение миллионов людей? Моя очередь наполнять…
Пока Стаканский ходил, Мэл осмотрелся. Свет стал более ртутным, пьющие, делая над кружками губы трубочкой, временами превращались в рыб, человек, стоявший спиной к Мэлу, источал запах чеснока, в то время как сосед слева выпускал из подмышек две сизые потные струи…
— Вот ты тут все говоришь, аргументируешь, блеешь о Вселенной, — мысленно рассуждал Мэл, — ты умный, начитанный, ты рисуешь картины и будешь известным художником, а мир, Вселенная, все равно принадлежит мне, потому что меня любят женщины, а не тебя. Ведь во Вселенной хозяин кто? Тот, кого любят женщины… Или наоборот. А почему меня любят женщины, — пьяно продолжал Мэл, входя во вкус. — Да потому что я умею наслаждаться ими. А ты нет. Потому что я единственный из вас, кто способен испытать настоящий женский оргазм… Для чего ты существуешь, художник Стаканский? Сын Стаканского писателя? Для того, чтобы услаждать таких как я. Мы тебя любим. Мы готовы ласково потрепать тебя по щеке.
В нескольких шагах, на северо-востоке, наливалась пивом веселая и миролюбивая компания — пятеро солидных пожилых мужчин и молодая белокурая женщина, которая, естественно, была окружена ласковым вниманием: ее слушали, поощряли кивками, улыбками, перед ней на газету выкладывали икорные дольки выпотрошенных вобл, специально для нее жарили на спичках вобльи пузыри. Она наслаждалась едой и питьем, хохотала, показывая чудесные молодые зубки, но вот пришла и ей пора развязать коней и, пошептавшись с соседом, она в его сопровождении, под восхищенные взоры всего пивняка направилась в туалет.
Стоило им скрыться за дверью, как один из соседей, худой господин с седыми, на плечи спадавшими волосами, тихо свистнув, жестом вопросительного знака опустил указательный палец в кружку молодой особы. Он смущенно улыбался, будто бы только что пукнул вслух, или совершил еще какое непотребство. Другой, тучный, бородатый, лицом чем-то пародирующий Достоевского, длинно, прицельно плюнул в кружку несчастной, а третий, потный, лоснящийся, похожий на переодетого священника, высморкался, осенив кружку крестным знамением.
— Чему смеетесь? — вернувшись, звонко спросила эффектная леди, и сама разразилась громким безудержным хохотом.
Надо будет свозить Анжелу на квартиру к Стаканскому, если его пахан еще в командировке, подумал Мэл. И хорошенько вымыть. И чистая стереофоническая музыка…
— Я думаю, — продолжал Стаканский, подойдя с пивом, — что все мы представляем собой действующий клетки гигантского живого мозга, и наши связи подобны связям межклеточным. Согласно этой теории, мир действительно существует, а не является нам изысканной галлюцинацией. Все мы материальны, но наши истинные функции не подвластны нашему разуму.
— Можно представить, что будет, — сказал Мэл, — если этот гигантский мозг сойдет с ума. В нашем мире появятся какие-нибудь новые предметы, чудовища, будут происходить необъяснимые явления… Чужак! — заметил Мэл, вторично почувствовать острый запах сероводорода, и пробил Стаканскому щелбан.
— Летите, голуби, летите! — пожелал Стаканский и снова взмахнул шляпой. — Однако, не кажется ли тебе, что это уже произошло? Посмотри вокруг. Разве возможно все это? Будешь одеколон? Вглядись в эти лица… Здесь несколько сот человек спокойно поглощают яды и делают это вполне добровольно. А вон там, в углу! Кто это?
Мэл, протиснув взгляд меж голов и плеч, увидел на полу странное коричневое существо, оно было покрыто шершавой кожей, по фактуре напоминавшей драп, кое-где из него торчали какие-то перья, куски шерсти. Мэл вскрикнул, не веря свои глазам. Он достал очки и присмотрелся. К счастью, это не было ни галлюцинацией, ни новоявленным монстром. Это был всего лишь человек в старом истрепанном пальто, он стоял на четвереньках в луже собственной мочи и силился подняться на ноги. Никто не обращал на него внимания, лишь один невыразительный крепыш по пути в туалет походя пнул его ногой по ребрам.
— Этого не может быть, — сказал Стаканский. — Человек не может пасть так низко. Гигантский человеческий мозг уже давно сошел с ума… Моя пердила подтвердила.
— Хватит пердеть, интеллигент, — сказал кто-то сзади. Мэл давно заметил, что умный разговор не нравится соседям. Это была угрюмая компания из четырех человек, они молча, с достоинством пили пиво, изредка перебрасываясь короткими репликами и, разумеется, накопили злобу на двух философствующих студентов. Будь Мэл один, он бы невозмутимо допил свою кружку и ушел, но Стаканский терпеть не мог пролетариев.
— Отставить, командир! — сказал он на чужом языке, но именно этого и ждали.
— Свали по-тихому, пока я тебе бороду не съел, — послышался ответ. Стаканский поставил свою кружку и жестом предложил прогуляться — и вот уже все шестеро шли к выходу, сопровождаемые хитрыми взглядами питухов. Мэл отчаянно пожелал, чтобы на улице оказался постовой. Обернувшись, он увидел человека в белом халате, тот дружелюбно поглядывал на столы, за которыми посетители ели салат, Мэл догадался, что он, накладывая этот клейкий салат из морской капусты, внимательно плевал в каждую тарелку, подмигивая своей девушке, которая на раздаче бодро нарезала рыбу…
Бить их стали сразу за порогом, по двое на каждого. Мэл махал неумело, отбивая предплечья, Стаканскому удалось достать одного по носу, но тут же он был сшиблен с ног и затоптан, Мэл попытался бежать, но поскользнулся, упал и тут же получил сапогом в глаза, вдруг что-то произошло и удары прекратились.
Сфокусировав зрение, он увидел низко над землей летящего человека. Это был тот самый, в куртке с капюшоном, в течение минуты, издали сверкая перстнем, он виртуозно и жестоко положил противников и заботливо помог Мэлу встать на ноги, отряхнув снег с его спины. Тут кстати появилась милицейская машина, все трое нырнули во двор и, обежав армянскую церковь, вышли на светлую и многолюдную площадь, где спаситель властным жестом остановил частника, и вскоре они мчались по улице Горького, неизвестно куда.
– Меня зовут Андж, — обернулся таинственный незнакомец и пожал обоим руки.
16
Он привез их в «Желторанг» и там замечательно сорил деньгами, заказывая изысканные блюда и напитки, он оказался неутомимым весельчаком и анекдотчиком, Мэл был восхищен, постоянно пьянея и насыщаясь, были какие-то девушки-динамистки, которые к концу исчезли, поздно вечером все оказалось в общаге, с водкой таксистов, и как всегда в конце пьянки Мэлу до боли захотелось женщину, он выпросил у Стаканского ключ, захватил со стола полбутылки, поднял с постели уже уснувшую Анжелу и увез ее в ночь…
Девочка была счастлива. Мэл использовал по назначению и музыку, и ванну.
Разглядывая в мутном утреннем свете спящую любовницу, он подумал, что она, в общем, недурна, и можно было бы повозиться с ней месяц-другой, правда, окончательное решение пока еще не выстроилось в его сердце. Он осторожно приподнял одеяло и осмотрел ее груди, полные с крупными сосками. Мэл пошарил на столе и закурил в потолок, мысленно напевая, а когда сигарета подошла к концу, выдохнул дым в лицо спящей, чем и разбудил ее. Полупроснувшись, девушка скользнула под него, обнимая ногами, Мэл, воротясь от ее стрекозьего рта, где за ночь скопился запах, успел подумать, что она весьма отзывчивая ученица…
Они пили кофе, разгуливая с чашками по квартире, Анжела любопытствовала — открыла шкаф и, вытягивая двумя пальцами вещи, пристально их рассматривала.
— Кто у Стаканского отец? — спросила она.
— Пахан, — ответил Мэл.
— Он художник? — кивнула она на холсты, сваленные на пол.
— Нет. Это сам Стаканский художник. Старший хуже — он писатель. Кстати, очень хороший — известный и заслуженный.
— Не читала… Ух ты! Интересно… — Анжела присела на кровать (Мэл вспомнил, как полчаса назад он ее мучил, сидя на том же месте) дотянулась до стола, выдвинула ящик…
— Каменный гусь. Вариант, — прочла она, — Роман-галлюцинация. Какой-то старичок Будякин… У нас тоже был Будякин, но его застрелили… «Богдан импровизировал грубые, воинственные пейзажи, их агрессивные линии теснили друг друга, создавая движения даже самых монументальных фигур…» Тьфу его, дрянь какая-то… Во дает! Это про нашего Будякина и написано — тут Ялта! Прославился, значит, на весь мир, хер старый.
— Мир тесен, — философски заметил Мэл.
— Да — ужасно! Кажется, что в мире живет всего несколько человек… Эге, да тут альбиция! — Анжела бросила рукопись, поскакала к окну, склонилась над растением в большом горшке, и Мэл подумал, что если подойти сзади, задрать юбку и быстренько…
— Милая, — сказал он, подумав, как противно звучит это слово. Потом он незаметно взял тюбик краски и уже в подъезде, пропустив Анжелу вперед по лестнице, написал, выдавливая на стену зеленый липкий запах: это ты убивайя ее.
В свою комнату Мэл вошел вместе с Анжелой, чтобы дать ей старый конспект по ТББ, и с удивлением обнаружил, что комната пуста, а на столе в пепельнице дымится папироса. Они посидели немного на кровати, и Мэл опробовал новый поцелуй, технику которого всесторонне обдумал по дороге. Суть этого поцелуя заключалась в особом движении языка: язык, скользя по вкусовым рецепторам девочки, должен был вызывать различные пищевые ощущения, что способствовало обильному выделению слюны, которой и питался активно целующий партнер.
Заперев за Анжелой дверь, Мэл ощупал висящую на гвозде куртку, в ней было что-то тяжелое, он посмотрел: на него из бокового кармана двинулось черное дуло пистолета, тут же он понял, почему запах дыма так раздражает его — это был Беломор, тот же, что курил в кинотеатре его преследователь… Ужас мгновенно охватил Мэла, когда шевельнулась его постель, когда поднялась рука с перстнем, и Андж выполз из-под кровати, отряхнул и охлопал себя.
— Ничего удивительного, — сказал он, взяв свой окурок, который наполовину стал пепельным, — Я родной брат девушки, с которой ты вошел. Было бы глупо, если бы она увидела меня.
— Лейтенант КГБ?
— Он самый.
Андж широко раскинул руки, обнял Мэла и похлопал его по спине. Кошмарный сон обратился в сущую правду жизни.
— Я, между прочим, собираюсь тебя убить, — сказал Андж, усаживаясь. У Мэла подкосились ноги. Больше всего на свете он не хотел драки, потому что не умел этого делать и боялся, скорее, позора, чем боли и увечий.
— Ты, я надеюсь, уже сделал предложение руки и сердца моей сестренке? — мирно продолжал Андж, и Мэл глупо улыбнулся, поддерживая форму шутки.
— Ты женишься на ней, нет? — повторил Андж, тычком уничтожая в пепельнице окурок.
— Нет, — ответил Мэл и чуть было не добавил «конечно».
— И я тебе тоже не советую. Иначе Андж придет и убьет тебя.
Он нагнулся и длинной рукой через стол потрепал Мэла по щеке. Затем встал, накинул куртку и вышел…
Мэл весь день провалялся дома, выкурил полпачки сигарет, хотя обычно ему хватало штук пять-шесть в сутки.
Вечером явилась Анжела.
— Ты — огонь! — заявила она, тычась головой ему в грудь.
Мэл неловко высвободился и опустил ее руки, но она приняла этот нерешительный жест за приглашение сесть.
— Я стала совсем заводная: не могу дождаться вечера, а ты? Почему ты не был сегодня в школе?
Мэл промолчал: он жалел, что не запер дверь и впустил ее. Анжела со шпионским лицом посмотрела по сторонам, извлекла из-за лифчика сложенный вчетверо листок бумаги, Мэл увидел темную ложбинку между грудями и сглотнул слюну, в животе шевельнулось желание. Мэл мысленно сплюнул.
— Мой граф сентиментально-пасторальный и бледный тоном утренней луны, скажи мне, из какой чужой страны ты прибыл одиноко и печально? — и т. д. Закончив чтение, Анжела посерьезнела и испытующе глянула на Мэла:
— Хочешь, скажу, о чем ты сейчас думаешь? Смотри мне в глаза!
Мэл вздохнул. Ее манера «читать мысли», никогда не угадывая правильно, раздражала его какой-то брезгливой жалостью. Анжела уставилась на него, морща лоб от напряжения, и Мэл отчетливо произнес про себя, клацнув языком по небу: «Вонючка!»
— Счас-подожди, — Анжела потерла лоб и, набычившись, повторила эксперимент.
— Ты жалкая навязчивая маленькая дура мне скучно паршиво с тобой я не хочу иметь через тебя неприятности сложности провались ты на месте вместе со своим монстром братом или я тебя удушу утоплю отравлю поганками зарою в парке и травку посею как тот комсорг школы шлепнул любовницу чтобы не портить характеристику и американская трагедия наверно симпатичная девчонка девятиклассница а ты шлюха дала мне как дала бы любому поскольку пришло время что называется любить…
Анжела отняла руки от лица и строго посмотрела на любовника. Ее глаза, от избытка косметики ставшие золотыми, сузились в щелочки.
— Вы плохо обо мне думаете, милорд! Вы считаете, что пиша такие слабые стишата, я никогда не стану настоящей поэтессой. Но не забывайте, что я женщина, а женские стихи сильны именно своей слабостью. А ваще… — Анжела провела ладонями по его волосам и хищно ущипнула за мочку уха. — Ваще твои помыслы чисты, они отдают серебром. Если бы ты знал, сколько гадости приходится видеть, когда попадаешь в скопление людей! Кто бы мне посоветовал, как распорядиться этим даром… Последнее время трудно ездить в метро, сидеть на лекциях. Я вижу их мысли как мультипликации маленьких человечков, а в метро они все улетают в темноту и там мультиплицируют, зловеще! Каждый все время бьет, убивает, топчет, мужчины рвут одежды женщин, и женщины не лучше, самые на вид милые… И всегда превращаются какие-то шары, кубы, какие-то подвижные рыбьи пузыри, внутри них — лица. Самое страшное, когда одно лицо превращается в другое… И редко бывает свет. Как у тебя. И у доцента по истории. И еще у немногих.
— Что же ты видишь у меня? — насмешливо спросил Мэл.
— Круги, — Анжела зажмурилась. — Серебряные круги и треугольники. А теперь инь и ян — как два червячка подползают, сплетаются и становятся шаром, значком с двумя точками. Два человечка. Это мы. Идем по набережной. Хм! А-а! Привет, Лешка! (Анжела широко улыбнулась и кивнула кому-то, не разжимая век) Вот прошел один мой одноклассник, руки в карманы… А ты — сильный! — Анжела обхватила голову Мэла и поцеловала в макушку.
— Вот что, — неуверенно начал Мэл, — скажи своему брату… — он осекся. Что именно скажи? Чтобы не обижал меня? Мэлу стало противно от жалости к себе.
— Я напишу ему, — встрепенулась Анжела. — Тебе чего-нибудь нужно?
— Зачем писать, когда он здесь?
— Где?
— В пизде! Он утром был у меня.
Анжела ошарашенно отшатнулась.
— Зачем ты меня играешь?
— Странный вопрос, — Мэл и вправду, будь он не живым человеком, а героем романа, подумал бы, не галлюцинация ли этот Андж, с его пистолетом, изничтожением четверых, перстнем из-под кровати…
— Он что, так и сказал, что он мой брат?
— Да, конечно. И еще он сказал, что он лейтенант.
— Издеваешься?
— Издеваюсь, — Мэл утвердительно кивнул. — Мне надоели эти постоянные приколы.
— Ну скажи, — рассмеялась Анжела, — как он выглядел?
— Как обыкновенный лейтенант КГБ, — зло сказал Мэл.
— А как его зовут?
— Андж.
— Верно, Андж! Да я же тебе и рассказала. Мэлор… Только ты не смейся.
Мэл рассмеялся.
— Мэл, ты скажи, что не будешь смеяться с меня? Обещай, тогда я скажу тебе кое-что. (Мэл поднял глаза к небу) У меня нет брата. Я все это придумала. У меня был отец и он погиб на машине в горах. И в этот день я придумала брата. Андж иногда приходит ко мне во сне…
— Я уже сказал, мне надоели твои постоянные приходы, то есть, приколы. Сегодня Андж приходил ко мне, наяву. И еще, вероятно, придет.
— Хватит шутить со мной, ты! — визгливо закричала Анжела. — У меня никогда не было никакого брата.
Мэл схватил ее за лицо и стал трясти, как только слово ТЫ, вспыхнув, прозвучало неким собирательным ругательством. Последнюю фразу девчонка проговорила сквозь его пальцы, особенно запомнился ему (до конца жизни, теперь уж недолго) ее рот — смятый меж пальцами — темнокрасный клюв птицы… Внезапно Мэла отпустило и он почувствовал в своих глазах слезы.
— Прости меня, — плача, простонала Анжела.
— Да нет, — сказал Мэл. — Это ты — прости меня.
Он поцеловал ее. От языка к ладони пробежал тепленький импульс.
— Не надо сейчас, — проговорила Анжела.
— Почему же не сейчас, — шепнул Мэл, не отнимая губ.
Он чувствовал сопротивлявшуюся одежду и гладкую кожу под ней, все его существо превращалось в осязание, широкие полосы осязания двигались по телу Анжелы, она перестала бороться и, шепотом стеная, сама вырвалась из платья, поймала болтавшийся шнур лампы и выключила свет. Мэл услышал, как шлепнулись его тапочки на пол, и тут же подумал, что не успел запереть дверь, ужаснулся, и в этот момент, как порой радио сообщает время, стоит только вспомнить о часах, раздался стук, тройной четкий стук, похожий одновременно на код Стаканского и Мыши, сразу же, не дожидаясь ответа, кто-то приоткрыл дверь, линия света, как валиком, накатилась на ковер, Мэл замер, боясь повернуть голову, на ковре, в желтозеленой полосе почесались одна о другую длинные теневые ноги, выступил из темноты и покачался образ Анджа, Мэл продолжал медленно входить в девушку, прикрывая ей рот ладонью, некто постоял на пороге, притворил дверь и гулко, как каменный гость, пошел по коридору. Мэл освободился от боли, выдохнул воздух, шагнул и тихо запер дверь, тонко чувствуя каждый скользящий щелчок замка.
Анжела сидела на кровати, обхватив колени. В комнате дурно пахло. Мэл закурил и украдкой вытерся.
— Кто же тогда сегодня ночевал у меня? — продолжил он, с шумом выпустив дым сквозь сжатые губы.
— По-моему, мы с тобой сегодня ночевали вместе… Ах, ты опять об этом? — Анжела беспокойно посмотрела.
— Анжелла, — тихо сказал Мэл, подумав, что, наверно, в третий, или даже второй раз за эти десять дней называет ее по имени, поэтому неуверенно употребил двойное, если даже не тройное «л», — не приходи больше сюда… Точка.
— Точка? — растерянно спросила Анжела.
— Точка, — уже спокойно подтвердил Мэл.
Она демонстративно забычковала свою сигарету, стала медленно одеваться. Мэл подумал: неужели вот так правда уйдет, без истерик? — он с любопытством смотрел, как девушка застегнула свой черный лифчик, нетерпеливо с гримаской дернувшись, когда крючок сразу не попал в гнездо, как она с синтетическим потрескиванием, шорохом да искрами натянула через голову юбку и широко расправила ее, деловито убрала спереди назад и бросила (ладно, если сама прибежит — приму) тяжелые волосы, светлые — даже в этой темноте… Мэл, в общем-то больше любил темных женщин.
Двигаясь к двери, она проговорила с деланным безразличием: точка так точка.
Оставшись один, Мэл присел на полусогнутых ногах и потер ладонями, глядя, как в зеркале приседает и потирает ладонями голый бледный человек.
17
Мэл надел на два пальца пустую пачку «Явы», помахал, смял и зашвырнул в угол. Он оделся, намереваясь стрельнуть у соседей, но тут увидел на столе сиротливую папиросу, выпавшую из портсигара Анджа. Если Анжела действительно лишь вообразила себе старшего брата (подобное нередко бывает у восторженных дур) то, кем бы ни был этот человек, он имел какие-то цели, затевая свою игру. А вдруг он сумасшедший, подумал Мэл. Он смутно представлял себе, что это такое. Сумасшедшего он изобразил белой конвульсивной фигурой в дверном проеме, или тупой зобатой головой — слюна течет из уголка рта, бегают зрачки…
— Но ведь сумасшедший совсем не такой, — вдруг, как бы отшатнувшись, подумал Мэл. — У него нормальная внешность, он приходит и внимательно смотрит, сглатывая слюну, он вынашивает огромные жестокие идеи и время от времени действует. Иногда он действует только раз в жизни, далее гибнет или навсегда уходит в дурдом, и потому идея может быть беспредельной по замыслу, и он не боится расплаты, поскольку принимает ее как необходимость.
Мэл силился вспомнить, как выглядит Андж, но видел лишь гладкий эллипсоид головы, хотя плохое зрение научило его цепкой визуальной памяти… Но ведь должен же он как-то выглядеть, у него есть рот, нос, глаза — и Мэл представил себе глаза… Внешность не воссоздавалась, это был все тот же голый желтоватый овал, в котором при словах глаза, рот, появлялись зияющие черные дыры.
Вдруг он заметил ленточку для волос, забытую ушедшей, и поднял ее — странного она была цвета, темнокрасного до черноты, однако, на сгибах обманчиво загоралась золотом, он задумчиво сжимал ее, любовался переливами червонных волокон, понимая, что цвет лишь взаимодействует с лампой, затем скомкал ленту и с наслаждением затянулся живичным запахом волос, внезапно сильное желание овладело им и он испугался боли, поглядел по сторонам, словно ища, на что переключиться, и жадно вдохнул дым, усилием воли стараясь перевести воображаемый шар из паха в голову, выплюнуть через рот… Словно шаровая молния, сгусток медленно проплыл по комнате и всосался в лампу, но сразу внизу живота стал вращаться новый, пока еще маленький шар. Мэл выпустил его через задний проход, и тот, колыхаясь, был притянут трубой отопления, но во чреве уже созревала свежая горячая капля…
В какой-то момент он увидел, что табачный дым тонко струится волокнистой линией, и понял, что рука дрожит. Он почувствовал озноб и приложил ладонь ко лбу, подумал, что температуру лучше всего мерить устами, как это делала мама, и рассмеялся, представив, как он трогает устами свой собственный лоб. Он прислушался к себе, услышал, как стучит сердце, движется кровь, бурлит в желудке, вращается шар… Вдруг он понял, что эти звуки внешние, проникающие через стены, он хорошо знал, кто находится за стенами, ясно видел этих людей, в часы, когда он приводил женщин, приникавших ушами к стенам, полу и потолку, обкладывая его со всех сторон. Две пары ног на частых каблуках шли по коридору наверху, в туалете на этаже разноголосо настраивались унитазы, он ощущал все это двадцатипятиэтажное звездообразное здание так ясно, будто оно находилось внутри его головы.
Папироса потухла, как всегда эти грубые, чем угодно, только не табаком, набитые беломорины, и он снова поднес к лицу хрустящее пламя, которое было прозрачным и водянистым, сквозь него он видел солнечный лик Анжелы, уходя, девочка все-таки умудрилась засунуть свою фотографию в щель между стеклами книжной полки, он взял ее, недолго рассматривал огромные серые, немного разные глаза, явно пораженные базедовой болезнью, усталое круглое лицо луны, покоящееся на руке с папиросой (поза Цветаевой) мизинец зацепил нижнюю губу, почти с намерением сделать «п-пру», ноздри раздуты, принюхиваясь — вероятно, клубящийся запах хмеля (задний план, Ялта) или запах мужчины, который в тот момент нажимал на курок, и родинки (радуйся, это ты) рассыпанные в комбинации созвездия Журавля.
Радуйся, ему стало не по себе, он перевернул портрет, шлепком его накрыв и — о ужас — сквозь пальцы увидел, что фотография двусторонняя, и пальцы показали, что половина лица смеется, а половина грустит, трагически… Боже, мыслимо ли так виртуозно владеть лицом?
Он присмотрелся и снова перевернул чуть выпуклый кусок картона: на его гранях были две совершенно разные Анжелы, хотя ясно было, что обе стороны напечатаны с одного и того же негатива: одна манерно грустила, другая искренне улыбалась, обнажая чудесные влажные зубы с тонким волоском слюны; одна смотрела равнодушно, словно за видоискателем не видела живого глаза, другая светилась восторгом, в остановленном кивке смазывая пламя волос; одна была немного старше другой.
Он подвигал фотографию вправо-влево, будто по стеклу, и убедился, что согласно свойству прямосмотрящих портретов, глаза Анжелы следят за ним. Он разорвал фотографию на множество кусков, их число с каждым жестом возводилось в квадрат, и представил, что рвет не изображение, но само лицо и кожу своей бывшей возлюбленной.
Тупо уставившись на опавшие лепестки (левый глаз, два зуба, ноздря) и пытаясь сосчитать их, он понял: с ним стряслось нечто ужасное, ему снова стало ясно, что он болен, и как-то непоправимо болен, то есть, его состояние и есть приход смерти, а это действительно можно испытать только раз в жизни, и не расскажешь этого другим…
Он увидел под столом, что ось магнитофона все еще крутится, он перемотал и тихо прослушал шорох одежды, стоны шепотом и неравномерные толчки, на несколько секунд распахнутую дверь, затем разговор (Кто сегодня ночевал у меня — мы ночевали вместе — Анжелла, точка — не надо сейчас…)
Далее следовали непонятные звуки, вот вроде чиркнула спичка, потом его собственный голос прошептал: сумасшедший… Не боится расплаты… Золотая лампа… Нет, никогда, никогда…
Вдруг он представил белую статуэтку человечка, руки по швам, медленными параболами перемещается по кровати и стулу на пол. Усилием зрения он с неистовой силой швырнул человечка за окно, под фундамент соседнего дома…
Тут его привлекли семечки, он стал их грызть и грыз до тех пор, пока не заболел язык.
Какое-то время он видел в воздухе розовую летающую моль и не мог определить, реальность это или галлюцинация…
И вдруг он понял, что сейчас откроется дверь и случится необратимое… Дверь беззвучно открылась и Андж вошел. Лица его не было видно, поскольку на голову он надел белую тыкву с выдолбленными чертами мерзкой маски. Я предупреждал тебя. Оказывается, ты и вправду был с ней в последний раз, — глухой голос, чувствовалось, что Анджу было душно и темно в тыкве. Мэл проследил за движением его правой руки, краем глаза отметив, что Андж повторил это движение в зеркале, и вдруг понял: все это на самом деле происходит… Мэл оглядел себя и увидел, насколько он мал и худ. Вверх-вниз, прицеливаясь, закачался пистолет, который должен был выстрелить, если уж появился.
18
Это был Лешка, никто иной как ялтинский Лешка, человек, который назвался братом Анжелы, был Лешка — нечто подобное сказали бы в старом добром романе…
Незадолго перед тем с ним произошла странная история, в Ялте, зимой. После школы он пошел работать грузчиком на хлебкомбинат, две комнаты, оставшиеся ему от родителей, он стал сдавать курортникам, а сам перебрался в сарай Анжелы, с согласия ее матери. На жизнь всех этих денег ему вполне хватало. Жизнь, как известно, в курортном городе дорогая: обед в кафе, ужин в ресторане, легкое вино, такси…
История, которая столь потрясла Лешку, могла быть названа «Он» — по прозвищу ее мистического персонажа, или «Онка» — по имени ее живой героини.
Она торговала на набережной от книжного магазина, и все в ней было странно — и красота ее, и чувственность, и имя, скорее японское, похожее на короткий звон гонга. У нее был прямой нос и большие серьезные глаза, ее черты стыдились живого полного рта. Перед нею был роликовый стол, покрытый голубыми путеводителями, открытками, голубой же бумагой. Андж, как звали Лешку друзья, производя его имя от Анжелы, уже несколько раз покупал у нее всякую дрянь, приучив девушку, наконец, смотреть себе в глаза. Однажды Андж занял наблюдательный пост на дальней лавочке под кустами тамариска, перед самым концом рабочего дня, и когда Онка повезла свои книги наверх в магазин, как бы случайно подскочил помочь ей, у дверей галантно распрощался и снова затаился — за стволами каштанов. Онка вышла из магазина и направилась вдоль улицы Чехова, Лешка вычислил ее путь и побежал обходом по набережной, выйдя на Боткина прямо ей навстречу. Какая приятная неожиданность, видеть вас опять… О да! Андж удостоился чести проводить героиню. Они говорили черт знает о чем.
На другой вечер Андж пригласил Онку на Эспаньолу, где они ели шоколад и пили шампанское. Потом они долго гуляли по Ливадийскому парку, вернулись на «пятерке». Весь вечер Андж безуспешно пытался поцеловать Онку, перед дверью она сказала: оставь, у меня есть человек, которого я люблю — тоже как в романе. Кто он: спросил Андж, и она с готовностью произнесла начало полного ответа: Он… и вдруг замолчала — звук Н-Н повис в воздухе дифтонгом и поплыл в сторону.
У меня есть он — повторила Онка. Андж молчал. Она рассказала, что ему уже очень много лет, но он любит ее. Как его зовут, спросил Андж. Он весь уже седой, ответила Онка.
И скрылась за дверью, мелькнув углом платья в щели…
Самое печальное было в том, что временами, в некоторых особых поворотах, при определенном скользящем свете — Онка казалась полной копией Анжелы.
Во дворе, на фонарном столбе среди кипарисов, двое рабочих устраивали длинную и толстую, гладко блестящую органную трубу. Один стоял на последней перекладине лестницы и прилаживал фанерный ящик, где, вероятно, находился баллон с сжатым воздухом, электромотор и принимающее устройство. Другой, внизу, подсоединял провод к общему электрокабелю. Оба посмотрели на Анджа, сочувствуя его неудаче. Всех мужчин Земли ждут по ночам их счастливые уютные женщины.
Теперь Онка, или Анжела, как Андж ее иногда, оговариваясь, называл, полностью завладела его мыслями. Он стал приглашать ее в рестораны, совершая круг по Большой Ялте, через Гурзуф и Мисхор, замкнув его на Бригантине. Сидя в теплом помещении, вне дождя, они слушали, как играет ансамбль, как поет длинноногая девушка в черном коротком платье: она приплясывала на одном месте у микрофона, высоко перебирая ногами.
Онка была чудесна в своем снежнобелом кимоно, они танцевали, Андж ощущал пальцами тепло ее спины, радостную твердость ее позвонков. Когда он провожал ее, вверху на Дмитрова к ним прицепились трое, Андж помедлил, затем Онка первой нанесла удар, дотянувшись выброшенной пяткой до чьего-то высокого лба. Андж взял на себя самого крупного и вырубил его, тем временем Онка, тонко взвизгнув, сходным движением поразила третьего. Враги расползались, Онка и Андж степенно двинулись наверх.
В тот вечер Онка рассказала ему, что «Он» перенес два инфаркта и не может жениться на ней, потому что скоро умрет. Они зашли к ней, и Онка достала из ночного столика пакетик, подобный тому как для порошка в аптеке, только намного больше, и развернула… Андж никогда прежде не пробовал марихуаны, но чтобы не ударить лицом в грязь, спокойно принял условие Онки. Сладкий дым наполнил его горло, довел до кашля. Кашляла и Онка, Андж не понимал, зачем все это нужно, поскольку не испытывал никакого опьянения. Как ливры в Африке, сказала Онка и умно посмотрела на него, вдруг Андж почувствовал, будто что-то не так… Ему показалось, что он весь наполнен дымом, и дым выходит из него через все возможные отверстия и поры кожи. Надутый легким и теплым дымом, он приподнялся в воздух, и вдруг перевернулся… Все это было лишь представлением, но до того полным, что его трудно было отличить от реальности, хотя в это время он ясно сознавал себя сидящим в кресле, и главное — ни капли не был пьян. То обстоятельство, что состояние не имеет ничего общего с опьянением, озадачило его. Онка приподнялась над кроватью и легко перелетела к нему на колени, оставшись одновременно на своем прежнем месте. Андж обнял ее, не шелохнувшись, и поцеловал в губы. Он встал с Онкой на руках, сделал шаг и, пройдя через живую сидящую Онку, опустился с ней на кровать. Затем Онка встрепенулась, быстро подошла к двери и открыла ее, кивком указав дорогу вон. Андж молча вышел, похлопывая себя по коленям. Он чувствовал себя волшебником, способным переписать существующую реальность, только пока еще не совсем понимал как это сделать…
В один из тех мучительных дней Андж отыскал в Латинском квартале некоего человека и купил у него за сотню одну вещь. Это был револьвер, русский наган калибра 7,62, образца 1895 года, и отныне правый карман брюк стал чувствительно тяжелым.
Андж ходил по городу и представлял себе, как выглядит Он, названный ею красивый и седой Он . Андж часто видел таких и хорошо знал этот тип людей. Они водились на набережной, на вираже в парк Эрлангера, где был Чеховский Дом писателей, на Дражинского, по которой шли из Интуриста и Дома актера. Это были высокие седые негодяи с вдохновенными гладкими лицами, очень бледные, артистические. Они всегда были с прелестными и не очень, но весьма юными ляльками — лялька была для них как бы пропуском на улицу. Подозревалось, что они знают толк в обращении с женщинами, живо интересуются их проблемами, на которые им, разумеется, наплевать. Они были хорошими любовниками, в совершенстве владели техникой секса, к тому же они славились тем, что вовремя дарили весьма подходящие подарки, именно нужные вещи, или цветы, очень красиво, длинно вытягивая руку, при большом скоплении народу… Казалось, они любят, самозабвенно запрокинув голову — так часто они говорили о своей любви, такие немыслимые слова находили для этого. Они были воплощением тайны, творческой силы и мистики. Они любили мир и умели радоваться миру, зная секреты природы и искусства, они были вальяжны и ласковы, опыт научил их делать преимущественно добро. Иногда они были благородными, то есть, могли позволить себе благородный поступок, очень красивый. Они несли лялькам радость, исключительную радость…
Однажды Онка пригласила Анджа к себе вечером, именно тогда ему уже стало ясно, что все произойдет именно сегодня. Он хорошо представлял себе это, зрительно, потому что недавно смотрел порнографический фильм по видео, когда онцы специально обесточили дом, ворвались в квартиру, где в аппарате заклинило злосчастную кассету, и хозяин видео отправился в лагерь.
Но Андж не мог представить, что это произойдет именно с ним. Стоя под душем, он похотливо поглаживал свое тело, не веря, что через несколько часов оно будет обладать женщиной. Он осязал волосистую упругость кожи, внезапную вишневую твердость сосков… Да, именно осязание было его наивысшим чувством в мире шести доступных человеческих чувств: если Анжела пользовалась лишь глазами, а Мэл — своим длинным утиным носом, то он всецело принадлежал пальцам и ладоням, ощупывая реальность, как туловище под простыней…
Вечером Андж позвонил Онке, но ее не было дома. Он давно нарядился во все чистое, словно покойник, надушился, был полностью одет на выход. Он встал и пошел неведомо куда, звоня из каждого автомата на пути.
Он позвонил на Войкова у маленького магазинчика, затем позвонил возле перехода на Морскую, еще раз на набережной, потому у Эспаньолы, наконец, у «Спартака»… Сделав круг, он поднялся по Дмитрова и в окне дома Онки увидел свет. Андж позвонил у двери, весь дрожа. Он звонил несколько раз, ему не открывали, затем звонок вдруг исчез: похоже, его выключили изнутри, Андж постучался, а она была вся кожаная, глухая, поэтому пришлось стучать по железу оголенной замочной скважины, обдирая фаланги пальцев, как бы об чьи-то искусственные зубы. Оставалась еще надежда, что Онка забыла свет и ушла, но выйдя, Андж увидел, что окно погасло. Он взбежал по лестнице, постучался настойчивей. За дверью было ясное человеческое тепло. Ему подумалось — это была довольно спасительная на сей момент иллюзия — что Онка накурилась марихуаны и боится открыть, боится, что пришли онцы, тогда он закричал в щель: Онка, это я, пусти, и повторил это несколько раз, пока не понял, что за дверью над ним смеются. Андж прислушался: казалось, что Онка ритмически стонет, но это было уже слишком, Андж побежал домой, как ни странно, рыдая в голос. Какой-то мальчишка завороженно смотрел на него с угла улицы, затаившись за столбом органной трубы, впрочем, он был моложе самого Анджа на каких-нибудь года четыре… Андж провел удивительную ночь. С ним никогда так не поступали.
Придя домой, он лег, не раздеваясь, и сразу окунулся в быстрый патологический сон. Они с Анжелой попали в темную чью-то квартиру, совсем ему не знакомую. На пороге переглянулись: да, оба были здесь впервые. Миновав длинный узкий коридор с последовательностью запертых дверей, встретились взглядами через мутное зеркало… Они вошли в обширную квадратную комнату с двумя окнами в небо, с живой черной портьерой, шелковой на ощупь… В комнате был темнокрасный фонарь, уничтожавший все цвета, кроме своего собственного. Ветер зашевелил бумаги на столе. Человек в очках поднял голову и строго им посмотрел. Рукой он мерно раскачивал плоскую ванночку, где плавала фотография. Это был «Ветер», известный снимок Анжелы, который сделал бродячий фотограф летом прошлого года… Радуйся, ему стало не по себе… Он перевернул портрет, шлепком его накрыв, и увидел, что фотография двусторонняя: половина ее лица смеялась, половина грустила — трагически… Он присмотрелся и снова перевернул чуть выпуклый кусок картона: Анжелы на его гранях были разные — одна грустила, другая улыбалась, обнажая чудесные влажные зубы с тонким волоском слюны; одна смотрела равнодушно, другая светилась восторгом, в остановленном движении головы смазывая пламя волос… Он подвигал фотографию вправо-влево, будто по стеклу, и увидел, что глаза Анжелы следят за ним. Он разорвал фотографию на множество кусков, их число с каждым жестом возводилось в квадрат, и представил, что рвет не изображение, но само лицо своей возлюбленной… Андж проснулся, как бы по команде, и быстро, не глядя по сторонам дошел до дома Онки. Было раннее утро, курортники двигались навстречу, помахивая полотенцами. Он был одет в длинный черный плащ, шляпу, на площадке поднял воротник, но Андж успел разглядеть его лицо, гладкое и зеленое — это был Онн, этот непостижимый дифтонговый Онн, он прошел сквозь Анджа, даже не заметив его, удалившись на свою планету, где ждали его такие же как он — отвратительные долговязые онны …
Боже мой, как приятно было идти утром по городу — не по какому-нибудь, а по Ялте — насвистывая, накреняясь на поворотах, жонглируя яблоком или парой орехов, осязая все более теплый воздух с потерей высоты, — а там, на набережной, издали видна, в окружении вытянутых любопытных, ждет тебя она, с книгами на столе, вся в голубом и синем, с неиссякаемым теплом в ладонях…
Андж постучался, Онка открыла, он вошел и ударил ее в пах, девушка увернулась и нанесла длинный красивый ответ в солнечное сплетение, несколько минут они замечательно дрались, постепенно переходя из прихожей в комнату, затем повалились на диван, и Андж впервые поцеловал ее — впрочем, это и был первый поцелуй его жизни.
Они разговаривали несколько часов, после чего Андж достал бритву, вскрыл себе и ей вены на руках, и они расписались кровью на вырванном из тетрадки, сбоку дырчатом листе — в том, что никогда не изменят друг другу. На сей раз марихуана взяла Анджа необычайно крепко, комната последовательно переносилась в Москву, Гавану и Париж, Онка меняла свое лицо, иногда по нескольку минут кряду пребывая живой Анжелой, рядом с ними, на ковре, мягко стоял невидимка.
— Эти растения, — рассказывала Онка, исподлобья глядя Анджу в глаза, — мы посадили здесь несколько тысяч лет назад. Взгляни, какие они странные, разве у вас могли бы родиться такие?
Андж видел в горах над обрывом высокое дерево, спрятанное от посторонних глаз крутыми снежными хребтами, недоступное за многочисленными скалами и водопадами, такое большое, что по его ветвям можно разгуливать, как по аллеям, и вправду не наше, странно цветущее, какое-то сизое, маслянистое на ощупь. Таким же удивительным был мак, желтый, светло зеленый, голубой, с черной серединкой — искусное, но все же ошибочное подобие земного, совершенно безопасного мака. Растения соблазняли существ, освобожденную энергию улавливали многочисленные онны и онки, тайно живущие среди людей, передавали ее туда — куда? — неведомо куда, да и неизвестно зачем.
В этот момент (в какой еще момент?) на улице раздался странный, очень громкий низкий звук, подобный звуку ночного кошмара, внезапно он перешел на другую ноту и повис на ней совсем близко, прямо во дворе среди кипарисов, Андж и Онка переглянулись, затем посмотрели в окно, на улицу, где был все тот же солнечный вечер с шевелением листвы, но бесшумный, проглоченный мощным звуком настраивающегося органа.
— Подойди сюда, — сказала Онка и жестом подняла его с кресла. Она распахнула дверцу шкафа, и Андж увидел глубокое, медленно вращающее комнату зеркало.
— Внимательно, — сказала Онка, когда их взгляды встретились в зазеркалье, — посмотри мне в глаза, — она взяла его за руку, и Андж почувствовал мощный прилив ее ладони, — а теперь вот так, прямо… — Андж увидел ее глаза напрямую и замер от ужаса: перед ним была совершенно другая девушка, мало похожая на ту, которую он полюбил.
— Это потому, — весело сказала Онка, — что амальгама отражает лишь изображение, но не отражает взгляда, сквозь нее он просто уходит, насквозь.
Они условились, что вечером он зайдет за ней, и они пойдут на праздник. По дороге вниз Андж слышал, как то там, то тут звучат органные трубы, ломаются, переходя на другие тона. Похоже, ему все-таки удалось переписать реальность…
По Войкова шли маленькие старичок и старушка, старичок, ласково болтая на ходу, нес вязанку разноцветных флагов, улица позади них была уже украшена подвижными ветреными полотнищами.
Андж прошел мимо магазина, где работала Онка, купил на набережной мороженое, затем билет на катер и зачем-то отправился в Гурзуф. «Ливадия» дребезжала своим плохим двигателем, краски все прибывали, главным образом, за счет возникающих флажков и хоругвей, казалось, их вешают по определенному плану, в полном соответствии с будущей музыкой.
Андж обедал в гурзуфском ресторане, заказал две бутылки вина — одну здесь, другую с собой. Напротив сидели двое местных, уже изрядно выпивших, подозрительно одинаковых с лица.
— Онка? — сказал одни из них, обеими руками держа гусиную ногу. — С ней надо быть осторожнее, к ней надо торопиться.
— Хватит об этом, — перебил другой, — ты же знаешь, я не люблю.
— Нет, почему же? Она весьма мила, право. Только надо приходить к ней пораньше, ведь она пускает лишь одного, первого.
— Поговорим о другом, прошу тебя. Ведь ты не испортишь мне вечер, не правда ли?
— Нет, не правда. Сколько раз я говорил, чтобы ты больше никогда не связывался с ними!
Тут один из них встал и ударил другого по лицу, и тот — с гусиной ногой в руках — мешком повалился навзничь.
— Я очень любил ее, — сказал он, покосившись на Анджа.
— Я тоже, — ответил другой, поднимая его.
— Она ведь весьма целомудренна, почти что девочка.
— Вот-вот, и у меня поначалу сложилось подобное впечатление.
— Нельзя же думать о людях так плохо.
— Да-да, я тоже такого мнения.
— Я впервые увидел ее на набережной, за книгами. Я долго ходил и смотрел на нее, пока не решился заговорить. Однажды я занял наблюдательный пост на дальней лавочке под кустами тамариска, перед самым концом рабочего дня, и когда Онка повезла свои книги наверх в магазин, как бы случайно подскочил помочь ей, у дверей галантно распрощался и снова затаился — за стволами каштанов. Онка вышла из магазина и направилась вдоль улицы Чехова, я вычислил ее путь и побежал обходом по набережной, выйдя на Боткина прямо ей навстречу. Поначалу мы с ней лишь чинно прогуливались, беседуя. Я был очень рад, что мне так повезло на старости лет, и не верил возможности своего счастья, хотя все говорило за то, что девушка рано или поздно отдастся мне, и я не торопил события, а лишь тихо наслаждался ожиданием.
— А потом она призналась тебе, что у нее есть другой, так?
— Да.
— Да, но откуда…
— Местный. Кажется, художник. И когда она стала рассказывать о нем, ты подумал, что это чуть-чуть перештирихованный твой собственный портрет.
Они посмотрели друг другу в глаза, Андж с любопытством наблюдал за ними.
— Однажды я сидел у нее в будуаре, и мы услышали, как кто-то звонит в дверь. Я не хочу открывать, сказала она, а я сделал вид, будто не догадываюсь, что это он. Это была ночь моей победы: она сама раздела меня и оказалась на редкость страстной и опытной. Это, хотя и обмануло мои ожидания, но весьма мне понравилось… Она кричала на всю Ялту.
— Но то же самое было и со мной! Он всегда стучался, когда я был у нее, порой по нескольку раз за вечер… Слушай, может быть это был ты?
Они посмотрели друг на друга, как в зеркало, Андж залпом выпил стакан вина.
— Однажды я пришел к ней, но она меня не пустила, представляешь, она мне даже не открыла.
— И мне тоже. Я тогда всю ночь шатался вокруг ее дома, вытирал руки углем, слышал, как она кричит, ебясь, а утром видел, как он выходил от нее, уверяю тебя, это был не ты.
— Может быть, это был он? — оба пристально посмотрели на Анджа, как отраженные в двух зеркалах под острым углом… Черт подери! Так они были похожи… Андж вытер губы салфеткой и вышел, забыв заплатить по счету.
Было уже темно. На пятачке Андж взял тачку и помчался в Ялту. Фонари на трассе горели разными цветами, гирлянды цветных лампочек причудливо опутали город, мигая целыми нитями — это пробовалась новая цветомузыка.
Окно Онки тускло светилось среди листвы. С минуту Андж безуспешно стучался в дверь (обдирая костяшки пальцев, ощупывая кожу, полную чисто растительной упругости) и, выйдя, увидел, что окно погасло.
Нет, ничего никогда нельзя переписать…
Он обежал дворик, детскую площадку со скелетом ракеты, затем прошелся по газону, нашел и подобрал с земли одну вещь. Это был камень, холодный, гладко блестящий в руке (ночью все камни черны) и Андж, хорошо сознавая, что поступает, как в кино, сильным атлетическим жестом запустил его. Секунда полета была длительной: он успел представить, как они, почувствовав момент отрыва камня от ладони, ослабили объятия и тревожно посмотрели на окно, словно стекло издало какой-то звук. Камень прошел сквозь двойную раму, как сквозь воздух, не изменив полета, Андж услышал, как в звоне осколков камень ощутимо упал на пол, подпрыгнул и покатился к их ногам.
Дальнейшее было весьма комично. Андж поднялся к телефонному автомату и позвонил ноль-два, сообщив, что насилуют женщину, несовершеннолетнюю, в дом номер такой-то по N-ской улице, в квартире номер 6. На вопрос, кто он такой, и как фамилия квартиросъемщика, (онец не хотел ехать по ложному вызову) Андж честно ответил, сказав, что ждет внизу. О наркотиках он пропустил, зная, что запах гашиша, который они там курили, прежде чем отдаться мощному наркотическому наслаждению, сразу ударит в нос. В роли Онки, как и тогда, в порнографическом видео, он представлял Анжелу. Спрятавшись в щели за дровяным флигелем, он злобно грыз семечки, и лишь серебристые плевки поблескивали в туманном конусе фонаря.
Она докурила пятку, и они повернулись друг к другу. О недавно стучавшем в дверь было забыто. Она дотронулась до его плеча и всей ладонью ощутила исходящий из него серебряный свет. Камень пролетел стекло и шлепнулся на пол, внезапно замерев, они посмотрели в глаза друг другу, не прерывая объятия… Анжела долго целовала его, как бы выпивая что-то из его рта. При повторном стуке в дверь они вдруг испугались, вернее, больше всего он, поскольку ему было пятьдесят восемь лет, и нервы его плохо боролись с шугой гашиша. Ему показалось, что это уже не Лешка, он слышал голоса, все более требовательный стук. Она тоже поняла: в дверь ломится милиция, а в комнате стоит духан гашиша, но он возьмет вину на себя, что вообще благородно, и она быстро ласкала его на прощание, брала его голову за виски и требовательно заглядывала в глаза. А где этот парень, где этот честный предатель? — послышалось с улицы, очень близко через голое окно. Она обхватила его ногами и помогла войти в себя. Дверь толкнул первый мощный удар, и стало ясно, что дверь сломают. Они часто меняли объятия, возвышаясь над кроватью, невольно попадая в такт дверным судорогам, и дверь наконец вылетела, и в квартиру вошли озабоченные, одетые люди — в тот самый момент, когда пара на кровати издала радостный крик освобождения.
Дальнейшее уже переходит границы реальности. Она все глубже залезает под одеяло, пятясь на боку и глядя на гостей исподлобья, он пытается сделать то же самое, но вдруг чувствует нарастающую боль в груди, все ползет и меркнет перед глазами — желтозеленый свет, ужас, топчущие в комнате онцы…
Такая-то? — спрашивает сухой нездоровый онец. Восемнадцать-то — еще через полмесяца стукнет? — говорит веселый розовощекий онец. А духанчик-то в комнате густой, — подхватывает высокий, серьезный и серый онец. Они забирают их обоих и везут в участок. Его несколько раз бьют в поддых перед раскрытыми дверьми автомобиля, обыскивают и находят продранный пакет граммов на семьдесят. По дороге, на последнем повороте улицы Войкова, перед гимназией, которую он так любил, сердце выходит из его груди и начинает самостоятельное движение в мире инерции, он пытается поймать его, но становится легким и пустым без него, и кровавый пульсирующий комок тычется ему в лицо. Онцы, оглянувшись, с ужасом наблюдают эту картину, машина минует съезд на Морскую, где расположен участок, разворачивается на Платановой, и по Рузвельта и Дражинского шпарит в Массандру. Скорость приличная, девушке страшно, онцы молчат, переглядываясь перед поворотами, наконец, согласно кивают, машина сворачивает, ползет вверх по аллеям… Труп ее возлюбленного, еще теплый, игриво толкает Онку плечом. Машина останавливается, свет гаснет абсолютно, видны только зеленые огоньки приборной доски, высокий онец говорит: Анашу мы тебе прощаем. Скажешь кому, девка, пеняй на себя.
Онка вышла, дверцы хлопнули, и машина поехала выше…
— Неохота копать, — вяло заметил сержант.
— Мне кажется, Вселенная все-таки бесконечна, — пробормотал шофер, вероятно, продолжая давний разговор.
— Вот-вот, — оживился сержант. — Если бы она где-то кончалась, то не имело бы смысла и существование человечества вообще…
Наверху в бамбуковой роще была со всех сторон защищенная щель, небольшая площадка примятого грунта. Там онцы и спрятали труп, умело замаскировав его листьями веерной пальмы, как бы специально выросшей неподалеку…
По пути из Массандры Онка услышала вдруг музыку, остановилась у парапета над Латинским кварталом и ахнула. Стройная месса поднималась над городом, удивительная, смыкаясь под звездным небом в музыку сфер. От гор к морю наискось раскинулось огромное созвездие Северного Орла. А как они там внизу, вдруг подумала она, каково им там внизу! Онка нашла на парапете еще дымящийся окурок Мальборо, сделала несколько глубоких затяжек, ткнула в шершавый камень. Вдруг прямо под ногами раздался короткий выстрел…
Тем временем Андж (все происходило в считанные минуты) который почувствовал на ляжке тяжесть револьвера и вспомнил свое новое качество, уже сбегал на набережную. Вокруг было полно людей и электричества, все будто чего-то ожидали, поглядывая на небо. В часовой башне горел свет. Андж увидел в окне человека, склонившегося над пультом своего гигантского, неповторимого органа. Часы пробили полночь, и с их последним ударом где-то на западном склоне Дарсана прозвучал далекий аккорд, и вслед за ним другой, высокий — внизу в Ореанде, и третий — на Поликуровке у Златоуста… Все живое в городе, считая и кипарисы, издало вздох восхищения.
По ступенькам и виражам улиц музыка хлынула вниз, словно толпа людей в длинных одеждах, ясные мощные звуки мессы были слышны в горах, на метеостанции и ретрансляторе, далеко в море на несколько десятков миль…
Внутри музыки творилось нечто странное… В сущности, в каждой точке города был хорошо слышен только один, ближайший звук, он поглощал остальные, более далекие — и был страшен своей мощью. Самые пронырливые, поняв, что сейчас начнет происходить, бросились к троллейбусам и такси. Началась паника, толпа хлынула прочь от столбов с трубами, от звучащих улиц в узкие немые переулки бежали люди, путаясь в длинных одеждах, падая и крича от безумной боли в ушах. Молниеносные волны боли широко летали над землей, люди затыкали уши и корчились на асфальте, женщины и мужчины бросали друг друга, никто никого не привлекал к себе, сражаясь с болью в одиночку, воя сквозь зубы, а на улице Достоевского какой-то человек дико раскрыл рот в улыбке, прижал колени к груди и часто запрыгал на копчике вниз по лестнице… И только двое во всей округе не слышали музыки: органист в башне, сложив губы трубочкой, медленно покачивающийся над клавиатурой своего немыслимого инструмента, и Андж.
Он брел по городу, как бы надев на голову тыкву, нижними плоскими улицами, от Спартака до угла Севастопольской, затем свернул направо по Воронцовской в Нижнюю Ореанду, прошел по набережной до угла Фундуклевской, каким-то непонятным образом попал на Виноградную, и исчез где-то на Морской… Он грыз семечки, белые тыквенные семечки, выплевывая шелуху сквозь щель огромного рваного рта, заглядывая в лица умирающим и пугая их горящими глазами.
Через несколько дней он вновь встретился с Онкой, и она сказала: я благодарна тебе, слог за слогом — он бы не выдержал, нет, его сердце не выдержало бы такой любви, сказала она и повторила — слог за слогом — я-бла-го-дар-на… Он понял, что путь свободен, и шагнул к ней. Нет, сказала она. Сначала принеси мне камень, который упал прошлым летом на Дарсан, ты знаешь, у кого он.
И Лешка поехал, не столько за камнем, сколько из-за счастливого повода — он не хотел признаваться себе (или кому-то другому, кто был неизмеримо выше него) в том, что хочет видеть Анжелу.
С тех пор, как однажды в июне он узнал ее пустой сарай, виллу Елена с черной распахнутой дверью, подошел и потрогал чистый гладкий пол под тем местом, где стояла кровать, его отношение к Анжеле стало двойственным. Он знал, что никогда первым не напишет ей, поскольку она ушла, не простившись, и все же трепетно (иначе не скажешь) ждал письма, которое так и не пришло. Это ожидание, медленно слабея, составляло смысл его осени и зимы, и когда появилась Онка, оно переполнило раннюю весну, словно цветение конского миндаля…
Раз ночью Лешка проснулся и понял: Анжеле плохо и она зовет его. Ночные цвета комнаты несколько сместились по спектру — красная портьера казалась темножелтой от уличного света, зеленое сукно стола выглядело синим, а фиолетовая рама окна была насквозь черной.
Лешка собрался и поехал, поезд первые тащил его на столь далекое расстояние, под Новоалексеевкой он увидел одинокий дом, невдалеке — столб, в доме сама собой открылась дверь, словно оттуда вышел невидимка.
Стемнело, он лежал, ощупывая глазами мерно качавшуюся сумку, где был револьвер, дорожная книжка — «Алиса в стране чудес» на английском языке — и еще кое-что: темная бутылка массандры, куда при помощи шприца он ввел три смертельных дозы татразила.
Снилось то же, что и происходило: он лежал навзничь на той же верхней полке, покачивая скрещенными ступнями, по вагону кто-то ходил туда-сюда, указывая себе путь фонарем, остановился и, больно плеснув ему светом в лицо, произнес: «Ты убийца» — и тут же прорвалось новое цельное сновидение, то, что снилось ему каждый год, обычно весной — сон о первом убийстве…
19
Первое свое убийство Андж совершил, когда ему было четырнадцать лет, в возрасте нежном, а прежде он года три страстно мечтал об убийстве, как мечтают о любви, и будущая его жертва очаровывала своей слабостью, своей женственностью: это был соседский мальчик, годом младше, он любил бродить дождливыми зимними вечерами где-нибудь вдали от человеческого жилья — например, доезжал на «пятерке» до Ливадийской больницы, затем спускался безлюдными аллеями к морю, пляж был пуст, берег чист и бел, словно его вымели большой метлой, мальчик шел по Ливадийской тропе, слушая шум зимнего моря…
Мальчика звали Жан, он сочинял стихи, никому их не показывая, единолично владея этой великолепной тайной и наслаждаясь ею в одиночестве, в тиши…
Ему грезилось блестящее будущее, хорошее качество и работоспособность. Он щедро распылялся на мелочи: сочинял матерные куплеты, длинные экспериментальные опусы, тренировочные венки сонетов, иногда вся вещь состояла из одной метафоры, развернутой капусты, в которой все же находилась тонкая сладкая кочерыжка.
Его сверстники вовсе не читали книг, им достаточно было компьютерной игры и видео, они влачились по городу, вдавив головы в плечи, опустив руки до колен, озираясь, вероятно, они уже снова превратились в обезьян, лишь мимикрируя под человеческий облик, и то — с сомнительным успехом.
Вернувшись к себе во двор, Жан долго разглядывал рыб в круглом каменном бассейне, впрочем, вовсе не какие-то там рыбы интересовали его. Локтями ощущая шершавый холодный камень, Жан ждал, когда, победно бликуя фонариком, к бассейну спустится она.
В сетчатом луче, отраженном от глади воды, нежно высвечивался ее любопытный профиль — и этот персиковый шелк щеки, и этот ее вздернутый носик с еле заметными следами отроческих угрей, и эта челка, и эта неизбежная Бунинская интонация…
Кем она была ему — музой, еще не рожденной строкой, несбыточной мечтой?
А он — для нее? Придурковатым соседским мальчишкой, носившим странное французское имя, чуть ли не каждый вечер мешавшим ей проверять рыб?
Ничего в нем выразительного, ничего интересного. Ребята не любили его, ни с кем он не играл, предпочитая шататься в одиночку по городу и лесу, что, в конце концов и сгубило его…
Был у Жана дедушка, фронтовик и ветеран, который частенько пугал его старостью и смертью.
— Ты будешь грязным вонючим стариком, — говаривал дедушка, постукивая своей коричневой палкой по полу веранды.
— А может быть, ты умрешь молодым, — мечтательно продолжал дедушка, критически рассматривая вещество заката.
— Тебя расстреляют, мой мальчик, — резюмировал дедушка, приподнялся над креслом и, старчески пукнув, взмахнул рукой, будто и впрямь выпуская риторического голубка — привычка, приобретенная им еще в окопах Гражданской…
— Анжела, — шептал в полусне одними губами Жан, — Анжела…
— Да кто ты такой! — возмутилась она, потрясая ладонью, когда он между прочим, у бассейна, намекнул ей на… Что когда-нибудь в будущем… Когда мы все вырастем…
— За тебя замуж? — продолжала Анжела, искренне возмущаясь. — А чем ты меня можешь прельстить? Чем ты отличаешься от других? Ну, если бы ты, скажем, написал книгу или там убил кого-нибудь… А то погляди — такой же, как все: с взбитыми волосами, в узкой голубой рубашке, застегнутой наглухо, светлосерых свободных брюках о больших карманах, чтобы можно было, глубоко засунув в них руки, посвистывая, небрежно войти, скажем, в кафе… Тьфу на тебя!
Жан повернулся и пошел. Дома он долго разглядывал себя в зеркале: действительно, он ничем и не отличался от них, тех, кто жевал и плевался, вытягивал шею, рассматривая витрины ларьков, мечтая ограбить пьяного, чтобы полакомиться заморскими сладостями, отведать диковинного напитка… В ту же ночь он начал писать роман.
(Он купил общую тетрадь за сорок пять копеек и, удивившись этой дешевизне, унижавшей грандиозность задачи, тотчас купил шариковую ручку — дорогую, за рубль… Дом На Берегу Моря — вывел он на титульном листе, так как это было словесным воплощением его мечты, и наконец понял, чем заполнит свою жизнь, чем утешится, утолится, он понял, что жизнь его имеет определенную тайную цель, а именно: он должен быть писателем, и не простым, каким он уже, можно сказать, являлся, но значительным, торжественным, входящим если не в школьную, но по крайней мере в вузовскую программу…)
— Ну что? Убил ты кого-нибудь наконец? — спросила Анжела, когда прошло несколько недель, и роман разогнался, полетел по накатанным рельсам, и главы-вагоны толкали друг друга, обладая полновесной инерцией.
— Нет, — сказал Жан. — Я, видишь ли, роман пишу.
— Вот как? Ну-ну… Представляю, что это будет за роман… Пиши-пиши. Напишешь — выйду за тебя замуж.
Сказав так, Анжела запрыгала перед ним, огибая полукруг, гримасничая, высунув язык до плеча… Жану представилась ужасная, смешная мультипликация: красивая взрослая женщина, не Анжела, но уже другая, с длинным развевающимся шлейфом голубого платья, пикируя с большой высоты, с воздуха бросается на него, крича: В твоем романе такая глубина, такая мощь! Как я люблю тебя!
И Жан с новой силой, с яростью набросился на роман… Слова не сопротивлялись, ощущение было такое, что некая женская сущность, однажды потеряв невинность, ведет себя все более бесстыдно, разнузданно: слова летели откуда-то сверху, Жан представлял свою голову открытой, как воронка, в которую втягивается из далекого пространства гигантский конус, вращаясь, проходя через его тело и концентрируясь в единственной точке, той, где его рублевый шарик катился по глади листа, намотав уже километры пути…
Он познал внезапную истину: человеческая цивилизация только для того и существует, чтобы порождать тексты — труд пекаря держится несколько дней, пока не съедят его булку, крестьянин, вырастивший урожай, действителен до тех пор, пока не переварятся его последние консервы, мебельщик существует в мире несколько десятилетий, архитектор, скульптор, художник — от силы какие-то столетия, и лишь слово, однажды записанное, остается навечно, и тот, кто посеял на Земле человечество, может собрать в конечном результате лишь слова, слова… Иначе зачем он это сделал?
— А как же другие, — риторически вопрошал герой его романа, школьный учитель Богдан, — как же те, кто ничего не пишет, зачем они живут?
— Как зачем? — отвечал Голос свыше, Голос из сновидения, — Крестьянин всех кормит, портной одевает, бизнесмен организовывает, и все это для того, чтобы поэта окружали люди, не может же он творить в пустоте…
— И никакого следа от этих несчастных людей?
— Полноте. Они-то как раз счастливы, это вот только ты… Они прорастают в твоих строках, оставаясь в виде слов, их уделом тоже становится вечность…
В новом своем варианте роман стал называться «Марiя, или Проект разрушения мира». Учитель мучился тем, что не может передать своим детям выстраданную им жизненную правду, так как высказанная, она неминуемо обращается в ложь. Богдан понимал: уйди он из школы, его место займет кто-нибудь другой, и будет еще хуже, но со временем пришел к выводу, что глубоко ошибается, ибо окажись на его месте сам Христос — и он не смог бы сказать этим сынам и дочерям ни единого слова правды.
В этом фантастическом мире, где известный тютчевский закон действовал буквально, гибло и разрушалось все: экскаваторы огромными чугунными шарами разбивали здания, отбойные молотки вскрывали асфальт, обнажая коричневую жижу, мотопилы валили деревья… Богдан догадывался, что мир рано или поздно будет разрушен полностью, все в этом процессе было логично и закономерно, но один лишь вопрос не давал ему покоя — куда денутся люди?
С детских лет он узнал искусство визионизма: он мог свободно корректировать действительность в галлюцинациях и снах. Это был иной, секретный и, может быть, самый реальный для него мир, всецело его владение, в отличие от мира внешнего, в котором он всю жизнь обретался где-то на задворках бытия, среди самой униженной и бесправной части человечества. Жан хотел написать занимательную, трагическую и трогательную книгу, вместе с тем он давал прямые инструкции, чтобы научить читателя видеть сны по собственному желанию, научить, как можно уйти.
Несмотря на то, что линия сна занимала ровно половину романа, его нельзя было назвать сюрреалистическим, потому что в нем отсутствовали другие атрибуты сюрреализма — тут не было ни крови, ни обостренной чувственности, ни мрачного юмора, сновидения не принимали форму кошмара, напротив, кошмарной была сама действительность, откуда Богдан постепенно переселялся в спокойный солнечный сон, там были море и песок, причудливая рыбацкая деревушка на берегу, старый капитан Гун и дочь его Марiя, со своим таинственным «i».
Каждый персонаж сновидения имел двойника в реальном мире, и поистине увлекательной игрой было сочинять эту вещь, проецируя события из одного мира в другой, следя за взаимным влиянием обоих миров.
После забавных приключений, путешествия, шторма, игрушечной дуэли, Богдан наконец возвращается на остров и женится на Марiи, последние страницы полны воздуха и света, лишь изредка Богдан глухо кричит во вне, видя всегда одно и то же — какой-то уродливый полуразрушенный мир, каких-то угрюмых детей, которых ему надо учить истории и словесности, хотя его специальностью всю жизнь была ловля черных кальмаров… Впрочем, вот-вот на остров ожидают прибытия известного гипнотизера из самой столицы, и Марiя надеется, что он излечит ее мужа от этой непонятной болезни.
Все шло как по маслу, и работа над романом близилась к концу, когда автор вдруг понял, что Богдан, будучи его alter ego, не может не писать своего собственного романа.
И тогда все завертелось с начала, странички Жана зашелестели в обратном порядке: Богдан начал писать роман, героя которого звали Жан, в этой словесной вязи порой нельзя было разобрать, о ком именно идет речь, фраза начиналась в области верхней матрешки, но, к своему завершению, протекала в матрешку нижнюю, и Жан-большой, прямо на глазах у потрясенного (гипотетического, надо заметить) читателя, превращался в Жана-маленького, этого дважды вымышленного, квазилитературного героя. Роман Богдана, кстати, так и назывался — «Герой».
20
Это была история человека, который, прожив полжизни в привычном ему мире, постепенно оказывался в мире другом, враждебном и чуждом ему. Еще совсем недавно преуспевающий и энергичный физик, он очутился на какой-то глухой окраине жизни. Его научная работа уже никому не нужна, и он мучится непривычным бездельем. Сам он со своей мизерной зарплатой больше не нужен в качестве любящего мужа, и жена покидает его. Да и друзья делись кто куда: одни уехали за границу, чтобы выгодно продать мозги, другие разбогатели здесь, чем попало торгуя, перешли в новый класс, отдалились, третьи просто умерли. Он растерян, подавлен, почти уничтожен.
Выиграв путевку на конкурсе туристической фирмы, тридцатипятилетний доктор физико-математических наук Жан Ниязов отправляется в престижный санаторий. Он полон радужных надежд: в его жизни уже давно не было событий, и ему кажется, что в этом путешествии с ним произойдет нечто, способное изменить его судьбу. Он мечтает встретить женщину и вновь создать семью, мечтает воспитать сына, чтобы “передать ему свои знания о мире, скопировать и продлить самого себя до небывалой величины”.
Но в первый же день Жану становится ясно, что все эти фантазии наивны и пусты. Роскошная обстановка тяготит его, и он никак не может ужиться с окружающими людьми. Над ним издеваются, его травят. Именно здесь, среди новых русских, уважаемых бандитов и знаменитых проституток, этот несчастный докторишка, этот поэтишко, шахматистишко или как там его — внезапно ощущает обвал окружающей среды, внезапно понимает истинную систему ценностей реального мира. Осознав, что предполагаемые две недели блаженства угрожают превратиться в непрерывную пытку, он собирает вещи и уезжает.
Но покинуть санаторий Жан не может, как бы он того ни желал.
Это был роман загадок и фантастических приключений. Сквозь реальные бытовые детали прорастали легенда и миф, постепенно формируя причудливый мир, существующий по неисповедимым законам искажения.
Действие происходит в северной части Каспийского моря — то ли в наше время, то ли в недалеком будущем. Санаторий расположился на острове, который соединен с берегом “шатким деревянным мостиком, напоминающим, скорее, корабельный трап.” На первых страницах мы видим маленького, тщедушного Жана, который прибыл на остров со своим зеленым чемоданчиком, топчется в холле, грызет карандаш, заполняя какую-то анкету… Выясняется, что при самых педантичных сборах в дорогу он умудрился все-таки оставить дома рекламный проспект фирмы, в котором и карта острова, и все необходимые наставления…
Время от времени монотонное течение текста оживлялось рисунками: герою приходится набрасывать планы и схемы, постоянно корректировать их, и вот уже рекламный проспект становится камнем преткновения: администрация почему-то отказывается выдать Жану второй экземпляр, а Жан почему-то считает (впоследствии так оно и оказывается), что в брошюре заключен весь смысл его существования на острове. Он ходит по коридорам и залам, выглядывая из-за плеч, стараясь увидеть, урвать хоть толику истины.
Наутро, вдоволь наевшись всего новорусского, Жан собирает свой зеленый чемоданчик, спешит обратно к мостику, какая-то морда с веранды кафе смеется ему вслед… Он идет по прелестной пешеходной дорожке посреди дремучего субтропического леса, из чащи доносятся странные звуки, он вспоминает туманные намеки охранников — на то, что, дескать, “администрация не рекомендует покидать территорию парка…”
Выйдя на берег, Жан обнаруживает, что остров отплыл в открытое море.
Он все же находит этому научное объяснение, вспоминает, кстати, газетную заметку о каком-то понтонном острове, что строился там-то, впрочем, во все это верится с трудом…
Вернувшись в санаторий, Жан разыскивает морду, которая смеялась над ним, пытавшимся бежать, хотя в рекламном проспекте, в путеводителе сказано, что остров отплывает вчера, но у Жана-то нет никакого путеводителя…
Он вызывает морду на дуэль, озабочен поиском секундантов, одновременно ему надо срочно научиться владеть хоть каким-нибудь оружием, и кстати — в коммерческом ларьке продаются кинжалы, и стоит кинжал ровно столько, сколько наличных денег осталось у Жана, и он покупает кинжал, выходит — несмотря на запрет — за ворота, в спешке тренируется, кидая кинжал в ствол сухого дерева, тут-то и появляется из лесной чащи первый монстр.
Это чудовище несколько выше обыкновенного человеческого роста, с какими-то даже человеческими чертами лица, правда, довольно искаженными. Жан сражается с монстром, в сражении гибнет.
Надо сказать, что смерть героя в тексте романа “Герой” никогда не является окончательной и бесспорной. Это всего лишь первая смерть, поэтому она несколько даже и страшна. Вообще, смерть происходит с Жаном довольно часто, после смерти Жан попадает в альтернативный мир, отбрасываясь на безопасное расстояние во времени, и ему предоставляется случай вновь пережить этот отрезок, как бы начисто переписав его.
Впрочем, Жан не сразу понимает, что прошел через смерть: сначала он видит в явлении человекообразного монстра и в том, что за ним последовало, галлюцинацию, вызванную каким-то веществом, которое подсыпали ему в бокал злобные новые русские, ведь в самом деле, трудно поверить в то, что смерть является не концом, а лишь очередным незначительным этапом безбрежного бытия, хотя, конечно, еще никто не доказал обратного.
Со второй попытки Жану все же удается победить монстра, вероятно, потому, что в новом варианте посмертия он ощущает значительный прилив сил. Вернувшись в санаторий, Жан встречает своего обидчика, эту морду, и она извиняется перед ним — дуэль отменена. Вообще, убив своего первого монстра, Жан ощущает явную перемену к себе со стороны окружающих: теперь он уже не просто какой-то там очкаришко, мыслителишко, жанишко, но самый настоящий герой . Кстати, и очки теперь ему больше не нужны: зрение у Жана теперь стопроцентное, как у моряка.
Основной сюжет романа завязывается несколько раньше — утром второго дня, еще когда оскорбленный Жан собирает свой чемодан, а именно: он узнает о том, что сегодня ночью пропала дочь отставного адмирала, который, построив на уворованные партийные деньги крепкий, хорошо охраняемый особняк, поселился на Плавучем Острове, в северо-восточной его части. Эта частность, которую Жан сперва воспринимает как очередную отрицательную эмоцию на злополучном острове, неожиданно становится определяющей: префект острова просит Жана (уже в качестве новоиспеченного героя) возглавить расследование таинственного дела.
Это был роман о смерти, о победе над нею, о ее несущественности: вероятно, чуя свою, уже близкую, из-за скалы мигающую, Жан бессильно пытался спасти себя.
Именно поэтому он торопился, лихорадочно и бестолково пытаясь втиснуть в единственный роман все свои замыслы, все свои дальние планы… Не удивительно, что Жан номер два, вскоре тоже начал писать романы, углубляя матрешистоть, пока не замкнул круг: последний его роман был уже о верхнем, самом большом Жане, который, чтобы добиться любви прекраснейшей из девчонок, писал в дешевую тетрадку роман. Все эти дочерние романы были схематичны, туманны, их единственным назначением было объяснить основной роман, и в щедро разбросанных по тексту комментариях к ним гипотетический читатель узнавал именно его, тот самый роман, в котором уже изрядно запутался несчастный автор…
Разделавшись с монстрами, преодолев подземный лабиринт, он выходит один на один с главным антагонистом, многоруким чудовищем, чей лик, напоминающий полную луну, ужасен настолько, что простые смертные гибнут от разрыва сердца, едва лишь взглянув на него. Но Жан к тому времени стал настолько могучим, что поединок вполне ему по силам. Конец получился мажорным: виновники наказаны, враги уничтожены, прекрасная пленница возвращена, Жан находит в ее лице свою вожделенную любовь.
Будучи романом приключенческим, «Герой», казалось, не претендовал ни на что большее, читался легко, забывался быстро, тем самым, как и все они, провоцируя перечтение в будущем. В этом-то и была его тайна…
Взявшись за повторное чтение, вы неожиданно для себя находили под той же обложкой совсем другой роман, мало чем похожий на первый. Вы чертыхались, передергивали страницы, думая даже, что вовсе перепутали книги… Прошло уже несколько лет. Вы почти перестали читать, нагруженные возрастом, озабоченные лишь одним — как заработать деньги на жизнь. Иногда, впрочем, вы перечитываете что-то старое, остросюжетное, чтобы отвлечься от постоянно гнетущих мыслей… Вы уже открыли для себя удивительный мир компьютерных игр, чему способствовал подрастающий сын. И внезапно вы понимаете, что в первый раз автор беспардонно провел вас, ведь роман «Герой» — это ничто иное, как…
Оказывается, прежде вы видели в романе лишь одно из двух равноправных прочтений, его духовную или, точнее, культурную версию. Эта версия предполагала наличие всех обычных атрибутов художественной прозы: выдуманных автором персонажей, выдуманных интерьеров, пейзажей и обстоятельств. Изначально считалось, что в романе есть персонажи, есть их отношения и всяческие обстоятельства. В романе, который сочинял Жан, это было не так или не совсем так.
В нем нет никаких персонажей, никаких взаимоотношений, образов и т. п. Правда, присутствуют пейзажи и интерьеры. Есть некое словесное поле. Герой же в романе только один, и он вовсе не является Жаном Ниязовым, потому как никакого Жана Ниязова не существует.
Перед вами фигуры компьютерной игры. Романа, как такового, в принципе нет, есть только компьютерная игра, ходилка — чудовищный по размерам и все же конечный набор цифр и кодов-символов огромной программы. Героем же всего этого является не Жан, не даже читатель, а некий человек или, лучше, художественный персонаж, тускло глядящий в подводную мглу монитора.
Но обо всем этом в романе не было сказано ни единого слова, не читалось это даже и между строк, просто, благодаря особому способу письма, одни и те же слова играли двойную роль, возделывая на бумаге два разных текста, растворенные один в другом.
Теперь уже совершенно по-новому объяснялись и прилив сил героя, и обостренное зрение, как непременные условия успеха игры, ее элементарный score , и недосягаемый путеводитель, который суть ничто иное, как manual пользователя, и бесконечные смерти — всего лишь этапы сохранения игры…
О, как бы хотелось где-нибудь сохраниться, заново переписав иные моменты земной жизни: не поддаваться на провокации Анджа, не брать сомнительной, неизвестно чем забитой папиросы, не красться по карнизу со своей дурацкой тыквой, не убивать эту маленькую девушку, чья вина была только в том, что она стала жертвой любви старика…
Герой второй версии романа — это некий реальный человек, с помощью клавиатуры и мыши управляющий поведением Жана Ниязова. В первой версии этот герой — невидимка, его попросту нет. Это чисто полиграфический герой, персонаж курсивного шрифта, его мысли, его отчаянные вопли естественным образом присваиваются Жану во-первых, и мудрому резонерствующему автору, во-вторых. Постижение тайны романа, его второй версии рождает этого своеобразного героя: по ряду признаков ясно, что курсивные пласты романа принадлежат ему, как и рисунки, которые делает якобы Жан, как и само движение этой прозы. Во второй версии вместе с Жаном исчезает и автор, замещаясь Незнакомцем, чей характер существенно отличается от характеров как Жана так и автора.
Маленький человечек, собственно, герой , уверенно двигался по экрану, он мог лишь брать и переносить какие-то вещи, перепрыгивать препятствия, карабкаться на стены, в то время как все слова принадлежали Незнакомцу: это он был доктором наук, выброшенным за грань бытия, это он страдал от несчастной любви, и ничего ему не оставалось в жизни, только уныло сидеть перед монитором, елозить мышью по коврику, щелкать в ночной тишине клавишами…
Такое взаимное проникновение было вполне естественным, так как роман существовал на стыке двух противоположных культур — одной, навсегда уходящей, культуры слов, речей и мыслей, и другой, неумолимо идущей на смену — культуры знака, движения, пиксела.
Едва осознав мощь своего таланта, способность извергать тяжелые, как вулканические камни, слова, Жан понял, что проиграл, опоздав на каких-нибудь два десятка лет, когда еще можно было совершить что-то в мире с помощью слова, хотя бы сыграть ему — слову — последний гениальный реквием. Но увы — письменность, как таковая, стремительно уходила из обихода человечества, как некогда ушли, скажем, ритуальные танцы… Словесный урожай был собран, наступила промозглая осень цивилизации, лишь близкий конец света казался достойным завершением процесса.
И жизнь немедленно, как это бывает всегда, предъявила свои доказательства этой внезапной мысли.
21
— Ха-ха-ха!
— Хи-хи-хи!
— Ху-ху-ху!
Жан ходил по пустому двору, не понимая, откуда раздается смех. Всюду — на лавочках и на перилах бассейна, в его зеленоватой воде, просто на земле — валялось множество бумажных голубей, невесть откуда взявшихся… Он наклонился, поднял одну из бумажек — вырванный из тетради, клетчатый листок, мелко исписанный… Да это же…
Жан не верил своим глазам: это были листы его романа! Но как… Жан посмотрел вверх. На краю крыши, вся в солнечных бликах, широко размахивая руками, сидела Анжела и сеяла, сеяла его листы, а из-за ее плеча выглядывал Лешка, ее одноклассник и сосед.
— Хо-хо-хо!
— Хэ-хэ-хэ!
— Хы-хы-хы!
Вчера он торжественно вручил Анжеле готовую рукопись, ее титульный лист с инициалами посвящения теперь лежал под его ногами, мертвым голубем…
— Нет, ты только послушай, — сказала Анжела, обернувшись через плечо, и, держа уже вырванную страницу на отлете, давясь от смеха, стала читать:
— Жан изучил свое новое жилье — приподнял графин с маленьким солнцем в цилиндре воды — умора! Заглянул в платяной шкаф, и шкаф показал ему большое подвижное зеркало, которое, если закрывать дверцу, бесцеремонно глотало призму пространства с окном, полным шевелящейся листвы и света… Какой маразм! Жан откинул одеяло, словно открыл конверт с долгожданным письмом, пощупал живую женственную упругость подушек, разделся, лег — это он звукописью выебывается, на «же» и на «у» — и едва стало исчезать внешнее, уступая все более материальному внутреннему, и милый образ Марии — буква какая-то хохляцкая — сформировался на расстоянии вытянутой руки… Пошляк.
Анжела размахнулась и выпустила очередного голубя, свежего, только что сделанного Лешкой.
— Матом еще ругается, — с обидой в голосе сказала она.
— Запятые после скобок не ставит, — сказал Лешка, выглядывая из-за ее спины.
— Слова какие-то свои придумывает, будто ему нашего языка мало.
— Всякие там темно-голубой, ярко-розовый — без дефиса пишет, думает, так красивше.
— Эротика у него нездоровая, вроде как пособие по онанизму.
— И мысли никакой, все пустота, пустота…
— Или рисунки возьми… Тухлые какие-то рисунки, аж глаза на лоб лезут.
— А то наоборот: долу глаза опускаются.
— Или вовсе никаких глаз нету…
— А цитаты, заметь! Цитирует, а в кавычки не ставит, как бы свое…
— А эти бесконечные повторения? Одни и те же слова, сцены, из главы в главу…
— Да и юмор мягко говоря, странный… Совершенно не смешно.
— Своим юмором он просто оскорбляет читателя, тычет его мордой в гавно, как Кутузов какой-то…
— А убийства? Он постоянно кого-то на дуэль вызывает, убивает — студента убил, профессора, даже школьника.
— Да что там школьника! Он Ленина убил…
— И Сталина…
— Да что там Сталина! Он Господа Бога убил…
— И распял…
— И самолет, полный людей, в лужу бросил.
— И водокачку нашу взорвал!
— Это он просто сам скоро сдохнет, почему и о смерти пишет.
— Он все это лишь для себя пишет, никому это вовсе и не нужно.
— Ноги он на ночь не моет, вот что.
— Зубы не чистит.
— Жопу не вытирает.
— И ваще, это ни на что не похоже, это не проза, это просто обман, поэтому его никогда и не напечатают, поэтому мы и делаем из него голубей, кхе…
— Как это ни на что непохоже? Да он просто подражает Набокову! — вскричала Анжела.
— И Пастернаку, Пастернаку, — закивал Лешка, — помнишь? «В трюмо испаряется чашка какао…» Этот тип — просто сумасшедший. Да, он умеет писать и все такое… Но весь этот роман, покажи его психиатру, всего лишь расширенный самодиагноз, так-то… Его надо просто убить, уничтожить, чтобы он больше не морочил нам голову. Он ведь просто наркоман, алкоголик.
— Да он же наркоман! — запрыгала вдруг на крыше Анжела, по звериному, на ногах и руках запрыгала…
— Наркоман должен быть найден, — строго сказал Андж, жестикулируя ладонью. — Вероятно, это тот, который в комнате сидит, который курит табак, который, спички ворует, который дома не ночует.
Жан повернулся и пошел, гребя ногами опавшую листву. В его жизни только и остался один-единственный жест — повернуться и уйти…
Поднявшись до трассы и перейдя ее, Жан оказался в можжевеловом лесу, где крепко пахло целебной смолой, и дурман этот окончательно успокоил его.
Уйти навсегда. Никогда больше не видеть людей, не знать их историй, никого не замечать, ни с кем не здороваться, жить, как бы надев на голову ведро, весь день блуждать по лесу, а ночью строчить и строчить. И не показывать никому.
Так начиналась весна, цветение конского миндаля, Жан гулял, нагуливая строки нового романа, вечерами записывал в новую, в том же книжном магазине купленную тетрадь…
С некоторых пор он стал замечать на своих тропах странные, ничем не объяснимые изменения: в одном месте кто-то копал яму, словно собирался зарыть собаку, начал и бросил, правда, через два дня яма была явно углублена… Жан полюбопытствовал вокруг и обнаружил спрятанные в корнях можжевельника кирку и лопату со следами свежей земли. Может быть, тут ищут клад? Романтично, забавно… Вот бы встретить этого человека, вдруг он единственный и есть — такой же как я?
Как-то раз он увидел вдали на Тарахтарской тропе Лешку. Неожиданно для самого себя Жан обрадовался, ускорил шаг, даже призывно засвистал… Оглянувшись, Лешка коротко сплюнул и исчез в кустах. Не узнал, испугался? Может быть, именно он ищет клад?
— Лешка, привет, а я тебя видел вчера, в лесу, ты что, не помнишь?
Лешка сплюнул сквозь зубы, так же как и вчера.
— Я не шатаюсь один по лесу, как некоторые.
— Но ведь не мог же ты мне показаться?
— Коль еще разик покажется, перекрестись.
Была за всем этим тайна — жуткая, волнующая, будто не от мира сего, будто, перепутав пространства, прямо на его глазах разворачивалась длинная метафора…
И был камень, огромный камень, который нависал высоко над обрывом, и который — при помощи хорошо известного архимедового рычага — можно было удачно, прицельно…
Жан давно обратил внимание на то, что камень этот стал выступать из скалы немного дальше. Движимый своим несчастным любопытством, Жан поднялся на скалу с другой, более пологой ее стороны, и увидел.
Совсем недавно вокруг этого камня велись какие-то работы: земля была подкопана, под самое основание камня была проведена толстая буковая жердь…
Жан приник к камню, ощупал его ладонями. Камень был теплый, шершавый, казалось, энергия разогревает его изнутри, Жан трепетно осязал это орудие смерти, чувствуя, как горячие, острые слезы царапают щеки, с грустным шипением падают в сухую траву…
Однажды, стоя как раз под странным камнем, близоруко щурясь, чтобы разглядеть, не изменилось ли что на скале, Жан ясно увидел, как камень сдвинулся с места и медленно покатился вниз. Зрелище было настолько завораживающим, что Жан даже и не тронулся с места, глядя, как камень легко увлекает за собой другие, поменьше, и уже подпрыгивает, словно от нетерпения, набирая скорость, приближаясь с неотвратимостью смерти, и превращаясь, собственно, в саму смерть.
Суть же сна о первом убийстве была такова. Много лет подряд Лешка видел, как, тужась, раскачивает свое буковое бревно, но древесина не выдерживает, инерция влечет Лешку вниз, и крича, кувыркаясь, катится он по крутому склону, мимо неподвижно стоящего, завороженного зрелищем Жана — живого, вслух читающего свои бездарные стихи, а за его хилой спиной стоит, вся такая зеленая, с золотистыми глазами — ужасная Убивайя…
Утром вагон представлял светлый, полный бликов и радуг объем, прозрачный насквозь на обе стороны, и уже под Москвой Лешка вдруг снова увидел одинокий дом невидимки, столб и раскрывшуюся дверь.
22
Препротивный проводник, парень из Симфера, потянул Лешку за хвост: надо было немедленно сдать постель. Сон его нимало не разнежил, пассажиры были собраны, торжественны, застегнуты на все пуговицы, скоро ли Москва, спросил Лешка, да вот же она, сказал один, по столице идем, сказал другой, хорошо идем, — и Лешка увидел за окном грязнорозовые заборы, гигантские маслянистые лужи, ползающие по земле и прыгающие в небеса трубопроводы, черные человеческие фигуры в окнах и на крышах домов, темнокирпичные пороховые погреба, колонны грязных солдат, марширующих в баню, и навстречу, из бани — чистых, причесанных солдат, какую-то широкую реку с переломанными шеями портовых кранов, узкую речку с белокаменной обшарпанной крепостью на высоком берегу, сотню влажных на ощупь рельсовых путей, дохлую собаку — Лешка не мог узнать в этом сорокаминутном промышленном квартале столицу своего государства.
Вдруг совсем близко замелькали шагающие люди — экспресс вполз под черную крышу, дернулся и встал. Лешка вышел, с удивлением осматривая местность поверх голов. Местность была плоской, заставленной разнокалиберными, как попало построенными зданиями, более высокими, чем в Ялте и Симфере, но столь же запущенными, давно не крашенными, во многих окнах не хватало стекол, проемы были небрежно зашиты фанерой, всюду были корявые надписи — «Абба», «RAP», «AC/DC», «Хуй» — в подворотнях, в нишах, в укромных уголках за телефонными будками — темнели потеки, мужские и женские, валялся крупный и мелкий мусор, окурки, пакеты из-под молока, банки из-под пива, выпитые яйца, кал… Редкие больные деревья, памятники с головы до плеч, карнизы — все сплошь было засрано голубиным гуано, по улицам быстро, пошатываясь, толкая друг друга и отвязываясь матом, двигались бледные люди с злыми, невыразительными лицами, часто попадались онцы — менты и служащие армии…
Вдруг впереди забрезжило, и Лешка вышел на Красную площадь. Тут было немного прибрано, шатались иностранцы с открытыми фотоаппаратами, маячило великое множество онцов.
Весь день он ходил по столице, перекидывая сумку с плеча на плечо, улыбаясь. К вечеру он двигался медленно, задумчиво, позволяя каждому прохожему обогнать себя: скорые, сгорбленные, они видели его взгляд всей кожей спины, и Андж, тщательно прицелившись, долго и шумно собирая слюну, плевал им точно меж сдвинутых лопаток, и они, почувствовав этот слабый, но значительный выстрел, трусливо спешили прочь, чтобы где-нибудь в подъезде тереться спинами о стены, плача от бессилия, ненависти… Так в джунглях — о стволы гостеприимных кедров — чешутся слоны…
Ночевал он в метро, спустившись на пути станции «Лефортово» и, найдя сухой рокадный туннель, тепло и равномерно продуваемый вкусным воздухом, с запахом жилья и буксы черного масла, наспех сразился с гигантскими крысами и мгновенно уснул.
Утром он разыскал странный пятиугольный хмарачес, недоразвитый небоскреб провинции мира, занял позицию напротив выхода и принялся разглядывать студентов, торопливо скользивших сквозь стеклянные двери. В течение получаса мимо него пробежало, размахивая сумками, несколько ложных длинноногих Анжел, когда же появилась настоящая, Лешка потерял сознание и мягко опустился на снег. Очнувшись, он увидел, как Анжела удаляется, ведя под руку маленькую белокурую ляльку, которую через несколько часов, после занятий, Лешка выследил у входа в метро и, сидя напротив, мысленно обратился к ней. Выйдя из-под земли, белокурая углубилась в обширный липовый парк, Лешка пошел по ее следам. Вскоре появился и повод для знакомства: двое молодых людей, вынырнув из боковой аллеи, прилепились к ней с обеих сторон, пытаясь завязать съемный разговор, девушка, явно не желавшая контактов, настороженно поглядывала по сторонам, все больше походя на белую морскую свинку или мышь.
Лешка решил разделаться с ними просто, не применяя специальных приемов: одного он схватил за ноги и, размахнувшись, словно топором, шмякнул головой об асфальт, второго, уже убегавшего через кусты, Лешка достал длинным пинком, затем взял за голову и рубанул оземь, после чего снял с обоих часы и, проверив, опустил в карман. Девушка стояла поодаль, ей, видно, очень хотелось убежать, но любопытство к сражающемуся человеку, вернее, само это грандиозное зрелище остановило ее.
— Вы обронили, сударыня! — запыхавшись, подбежал Лешка и с поклоном протянул кружевной лиловый платочек.
Они познакомились, и Лешка завел Лену в ближайший кабачок, где заказал ужин с шампанским на десерт.
Через несколько часов он знал об Анжеле все. За месяцы своего студенчества его бывшая невеста стала абсолютной шлюхой и интриганкой. Она брала у любовников деньги, каталась на машинах с неграми и, вероятно, уже была поражена СПИДом. Если бы Андж не считал себя джентльменом, то вместо прощального поцелуя он угостил бы Белую Мышь хорошей затрещиной. Поцелуй состоял из шоколада и шампанского.
На другой день Андж выследил Мэла, лишний раз убедившись в том, что человечество состоит из длинных, разомкнутых или закольцованных цепочек людей, идущих друг за другом, пожирая гнилое пространство.
Андж возникал то там, то тут, оставаясь невидимым, как бы наблюдая мир из зеркал. Он хотел видеть, как Мэл ходит, как он ест и затягивается дымом, ему было интересно, как он пьянеет, как его страх сменяется доверчивостью и слепотой, в середине пьянки в индийском ресторане он специально выходил с Мэлом в туалет и смотрел, как Мэл писает.
— Ты уже понимаешь, кто я? — спросил он, нагнувшись к Мэлу в танце, но тот не расслышал, близоруко сощурившись.
— Ты уже знаешь, кто я! — выкрикнул Андж ему прямо в ухо и радостно захохотал. Ему хотелось надеть белую пластмассовую маску смерти, из тех, что продаются в Ялте в любом киоске, чтобы местные могли пугать курортников, выпрыгивая с растопыренными руками из кустов тамариска — надеть и исполнить вокруг своей жертвы ликующий танец.
— Я исполняю танец смерти! — закричал он, двигая руками над головой, как бы шаря по стеклу, и Мэл, услышав, энергично закивал с глупейшей улыбкой.
— Ты убивайя ее, а за это я — убивайя тебя, — написал Андж на фирменной салфетке и засунул ее в нагрудный карман жертвы, похлопав ее по груди. Ему нравилось одевать ее в гардеробе, глядя, как она неловко путается, не попадая рукой в рукав. Хорошо было похлопывать ее по колену, благоговейно ощущая тепло и мягкость кожи за грубой тканью, когда он сидел с нею рядом в такси. Приятно было расплачиваться с водителем, заботливо добавляя бумажки…
— Я Убивайя твоя, — думал он, смеясь. Лешка всегда по-детски радовался, если сочинял новое слово, доселе не существовавшее в языке.
«Убивайя приходит улыбаясь она обнимает тебя длинными белыми руками она замыкает над тобой полог мира и в пурпурной темноте твоего безумия любит тебя…»
Ночью, когда жертва уехала с Анжелой, Андж видел чудесный, опьяняющий обилием звуков и цветов — сон. На соседней кровати метался другой человек, хозяин той самой квартиры, на которой Мэл в последний раз валял свою последнюю девушку. Утром он тихо покинул комнату, вероятно, чего-то стыдясь…
Лешка проверил и почистил наган, радуясь слаженности его маслянисто блестящий деталей. Уходя, он оставил на столе хозяина папироску, забитую для верности на троих.
«Кто Убивайя и чья? Я Убивайя твоя, или ты Убивайя моя?»
Весь день он просидел, болтая ногами и разглядывая плакаты, в коридоре на подоконнике, где традиционно для казенного дома трепыхалась больная дневная лампа, вечером увидел, как в комнату Мэла вошла Анжела, немного погодя он подошел к двери, распахнул ее и посмотрел — помните? — в темноту, где увидел, как жертва делает это, и высокомерно усмехнулся в нос. Когда Анжела вышла, он последовал за ней по коридору, стараясь не наступать на ее упавшие слезы.
Все эти дни он несколько раз наблюдал Анжелу издали, пользуясь черными зеркальными очками, он был совсем рядом с нею в толпе, однажды даже прикоснулся к ее плечу и немного погладил, выщупав, как движется под кожей ее кровь…
— Тебе-то чего здесь надо? — огрызнулась она, как только Лешка вошел, будто они расстались вчера, на 116-м официальном уведомлении. Он почувствовал, как внутри него рушится архитектурная конструкция из стальных труб и стекла, где ему казалось, что за эти месяцы он необратимо изменился, и теперь-то уж она точно поймет: не может она жить без него, как и он — без нее.
— Я приехал… — начал он, откашливаясь…
— Так же и уедь!
— Но Анжела! Я приехал, чтобы в последний, — он глянул на калькулятор, — сто семнадцатый раз сказать тебе…
— Ты мне можешь только помешать, Андж! — сказала она, намерено играя ласковую, хотя было видно, что девушка сильно рассержена.
— Может быть, я и вправду некстати… — пролепетал Лешка. Он чувствовал себя идиотом. В ее присутствии все разумные, доходчивые слова отлетали к черту, и он нес совершенную околесицу. Он понял, что никакой он не Андж, беззвучно, как кошка, движущийся в темном мире осязания, а Лешка, ялтинский Лешка с калькулятором, жалко умоляющий о любви самую красивую девушку Южного Берега.
— Ты посмотри на себя, — сказала Анжела, потрясая ладонью. — Разве такой как ты вправе чего-то требовать от такой как я? Какие у тебя маленькие слабые ладошки, какой ты весь сгорбленный и никудышный, смотреть противно! — Анжела уперла руки в бока и качала головой, как толстая украинская баба. — Ты представить себе не можешь, как ты мне отвратителен.
— Анжела, меня забирают в армию, — тихо сказал Лешка.
— Там тебе и место — у параши. Уходи. Едь в аэропорт и лети в Симферополь. Кстати, знаешь новый ялтинский анекдот? Собрались призывники на симферопольском призывном пункте…
Лешка уже слышал этот анекдот — и вправду смешной.
— Анжела, — сказал он, — я должен забрать у тебя одну вещь. Мне поручили.
Он прошел по комнате, решительно снял с настольной лампы тыкву и погладил влажную мылкую кожу.
— Забирай и уматывай.
На секунду Лешка представил, что он сидит у себя дома на веранде и курит, листва шелестит в саду, за ней виден голубой треугольник моря, выпуклый, как чей-то гладкий живот… Представление было настолько ясным, что окружающая действительность показалась галлюцинацией. Впрочем, возможно, так оно и было…
— Вот мой массандровский сувенир, — сказал Лешка и, булькнув, поставил бутылку на край стола.
— Ладно, — Анжела мельком глянула на этикетку.
— Прощай, — сказал Лешка, стремясь ввести в одно слово всю свою боль, но вышло жалко и смешно.
Через несколько минут он стоял перед другой дверью, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. Он увидел бестолково порхающую розовую моль, улыбнулся ей, приоткрыл дверь и впустил насекомое в комнату. С опаской, будто ныряет в холодную воду, он надел на голову тыкву. В тыкве было темно и крепко пахло сушеной тыквой. Он увидел Мэла стоящим посередине комнаты, на зеленоватой лужайке, казалось, он специально ждал, глядя в потолок и поглаживая пальцами подбородок. Пусть именно таким навсегда и запомнится нам этот несчастный человек…
Лешка достал револьвер и шесть раз выстрелил ему в пах. Он видел, как блеснули пули — так вспыхивает на солнце пойманная рыбка-бычок.
Он подождал, пока жертва перестанет дрожать, наклонился и освидетельствовал смерть, убедившись, что живой, сейчас только думавший и даже бредивший под марихуаной человек, превратился в тяжелый кусок остывающего мяса, и все его монументальные галлюцинации, или приходы , как именуют их в Ялте, в Москве, да и вообще на планете, неустанно пьющей, курящей и колющейся, — все эти двусторонние фотографии, сумасшедшие в кальсонах, мальчики-убийцы и мальчики-писатели, кругообращение ненаписанных романов, онны да онки, и вот это, особенное, истинно Мэловское — Инструмент, дека которого разрослась до масштабов целого города, — все это разом лопнуло, как розовый шар, или, может быть, не розовый — это я так, для красного словца… Все это лопнуло, продырявленное кусочками свинца, опало на пол в виде сдувшейся оболочки, из которой, как некий газ, высвободились лишь слова, слова…
Андж снял тыкву, засунул под мышку и вышел.
23
Больше в Москве делать было нечего, и он уезжал, послав этот город ко всем чертям, воображая, как плюнет из самолета на взлете — вниз — на все его уродливые здания и мрачные головастые памятники. Это и будет точкой, смачной и весомой, поставленной неимоверно длинным стилом — с белоголубой высоты птичьего полета.
Ибо ты все-таки ужасающе быстро, революционно и звонко преобразовал реальность, пусть даже не столько усилием мысли, сколько с помощью пламени и свинца… И химическая жуть, притаившаяся на дне бутылки с вином, также ждет часа своего освобождения… Вот так просто, быстро, на самой его середине, можно закончить роман, оставив автора без хлеба, публику без зрелищ, открыть скрипучую дверь невидимки и выйти, выйти отсюда навсегда…
Легко и быстро летела машина по дымным желтым туннелям, ни один перекресток не задержал ее, шофер что-то мирно наговаривал, дружески глядя на дорогу, улицы становились все шире, пространство между зданиями свободнее, будто бы город равномерно разрушался за спиной: переломилась посередине и медленно поехала Останкинская башня, оплыло, колеблясь, здание Университета, треснул Кремль, как порванная в сердцах трехрублевая купюра, с гулким стуком покатились, подпрыгивая, луковки церквей, полезла из канализационных люков мутная жижа, вечерело, все ярче горели тормозные огни автомобилей, машина влетела в полосу дождя, и влажная улица выгнулась китовой спиной, вдруг снова стало сухо, тепло, пошли плоские поля и перелески, в аэропорту Лешка свободно взял билет, бодро прошел по огромным светлым залам, и лишь на поверке, под магнитной подковой, когда оглушительно зазвенело, сообщая внимательным онцам, что у пассажира есть металл, он беспомощно оглянулся, ощутил тяжесть в груди и понял, что забыл выбросить свое оружие, и чьи-то хлесткие ладони уже обыскивали его, и лица онцов возбужденно улыбались — не Лешке, но извлеченному на свет металлическому существу.
Часть вторая. Соловьи
1
Андрей импровизировал грубые, воинственные пейзажи, их агрессивные линии теснили друг друга, создавая движения даже самых монументальных фигур, поэтому его деревья и здания, его фантастические мосты — дрожали и жили на бумаге, и всегда в его небе летел ветер, сдувая с размашистых начертаний угольную пыль. Андрей рисовал, подгоняя линии звуком, скрипя зубами и щелкая языком, линия, разваливая ровную академическую штриховку, шла с собственным шорохом и свистом, поэтому картины, свои и чужие, были явлением как слуха, так и зрения — взгляд, двигаясь по плоскости полотна, подобно адаптеру, снимал музыку и шумы.
Синий кобальт гудел глухим тоном большой органной трубы, ультрамарин был звонким, как и небо, его породившее, сажа давала гулкое туннельное эхо. Смешиваясь, краски составляли полнозвучные музыкальные пьесы, синтез пространства и времени, сложную зримую музыку.
Он стал художником однажды: она сидела за столиком напротив и, поставив чашку донышком вверх, хмуро ожидала, пока гуща стечет и образует рисунок, затем встрепенулась, вспомнив о яблоке, достала его из сумочки, обдула и обтерла о рукав, злобно куснула, выпустив струю зеленого запаха, как осьминог чернила, капля сока брызнула Андрею на щеку, он снял ее мизинцем и положил на язык, но не почуял вкуса, она посмотрела на часики, шлепнула себя по лбу и быстро выбежала из кофейни, забыв разгадать свою чашку… Андрей бережно взял ее и увидел рыбу и черепаху — символы близкой смерти. Она ни разу не взглянула на него, даже бегло, дабы полюбопытствовать, с кем разделила три минуты своей жизни…
(— Скоро? — спросил один из завсегдатаев кофейни, с рыжей бородой и в больших квадратных очках, зачем-то посмотрев в потолок.
— Через час, серьезно ответил другой, чернобородый, заглянув себе в манжету…)
Некоторое время он двигался по ее следам: малиновая прядинка от длинного шарфа, зацепившаяся за медную ручку двери, антоновский огрызок, медленно ржавевший на решетке водостока, а за углом, чуть выше по Фундуклевской, на тротуаре откусанный ноготь, да сгусток крепкого маслянистого запаха, засевший в низкой каштановой лапе, словно в расческе клочок волос, и дальше ничего — она растворилась в звуках и запахах города, в этом облачном небе, в этом, я бы сказал, холодном осеннем ветре.
Андрей ушел из города и долго гулял по Труханову острову, по пустынным пескам, волоча ноги и обнимая деревья, было душно, вдруг стало темнеть, так стремительно, будто кто-то прикручивал Солнце, незримое за облаками, Андрей огляделся: свет уходил неправдоподобно быстро — в том месте, где должно было быть светило, разлилось по исподу облаков обширное кровавое пятно, Андрей побежал, спотыкаясь и падая, ветки ив хлестали лицо, в считанные секунды стало совсем темно, сердце больно колотилось от ужаса, он выбежал на пляж и увидел город в ночных огнях, а по висячему мосту, с зажженными фарами, как ни в чем ни бывало, ползли автомобили. Андрей закричал. Люди, стоявшие на мосту, смеясь, оглянулись на него. Вдруг столь же быстро стало светать, и наступил тот же палящий душный день… Андрей вернулся в город. Пассажиры автобуса вяло обсуждали феномен, который из-за сильной облачности не удалось хорошо рассмотреть. Вот так живешь, ждешь чего-то всю жизнь, и Господь обманывает тебя. Это было 29 октября 1978 года, на Украине помнят этот день — первое со времен князя Игоря полное солнечное затмение…
Андрей зашел в канцтовары на Червоноармейской и купил за последнюю трешку наборчик масляных красок, бутылочку растворителя, кисть, он действовал, как сомнамбула, не понимая, зачем ему это надо, пришел домой, на картонке из-под обуви написал небольшой ее портрет — это и была первая в его жизни работа маслом.
Интересно, подыми она тогда глаза от стола с кофе — узнала бы она его? Увидела бы в этом стандартном долговязом подростке с взбитыми волосами, в узкой голубой рубашке, застегнутой наглухо, светлосерых свободных брюках о больших карманах, — того самого мальчика, которого обманула да чуть не убила десять лет назад? Вероятно, нет, потому что такие как она вообще не видят других, это люди Юпитера, люди силы и власти, они живут, повелевая, они могут оскорбить, унизить и тотчас забыть об этом, они видят в тебе лишь средство, и вряд ли они вполне уверены в том, что ты существуешь, а не представляешь собой какую-то полезную галлюцинацию. Таких как она ты любишь всю жизнь, из-за них ты готов прострелить свою или чужую голову, из-за них ты лезешь наверх, пытаясь приобщиться к классу избранных, богатых и власть имущих, ты совершаешь подвиги, географические открытия, пишешь картины и романы — с единственной целью объяснить ей этот мир, доказать ей, что ты действительно существуешь, бедный, ты никогда не достигнешь цели, она никогда не ответит на твою любовь, слышишь?
Он стал часто приходить в кофейню на Кресте и тянуть двойную половинку десятки минут, наблюдая, как бородатые в длинных шарфах умно беседуют или почитывают книги, или что-то записывают в дешевые блокноты. Он мечтал о старших друзьях с веселыми внимательными глазами, они могли сказать ему нечто очень важное, то, что надо было запомнить на всю жизнь — где вы теперь, умерли?
Он бродил по городу часами, главным было, конечно, проскочить незамеченным через двор, где резвились и играли другие, да и на улицах надо было делать вид, что ты не гуляешь, а идешь, поэтому он двигался скоро, помахивая показной пустой сумкой (я вовсе не ищу уединения, ни о чем не думаю, я такой же, как все…)
На выходе он еще не знал, куда направится, спускался, скажем, по Енгельса, сидел на аллеях, среди гулящих девиц и сутенеров, ел мороженое, затем пересекал Хрещатик, шел по Прорезной, Володимирской, затем, на поворотах раскачиваясь, Андреевским спуском (мимо дома, где родился отец, но Андрей не знал об этом) падал на Подол, там, в опасных трущобах, ходил с поднятым воротником, затем по Александровской, тогда улице Жданова, автобусом возвращался домой, но не было ее нигде…
Так прошла зима, оставив в его комнате снег в различных формах — искристый масляный, пушистый гуашевый, талый акварельный. Он пробовал новые, странные материалы: писал зубным порошком и гуталином, черным байховым чаем, зеленкой и синькой, перо вспарывало бумагу, часто, не удержавшись, он бросал кисть и работал пальцами, натирая мозоли… Ее не было нигде.
Теперь Андрей уже не просто жил , как все, питаясь и заливая мозги случайными впечатлениями — он рисовал, и все внутри и вне его стало лишь средством этой единственной цели, словно внезапно был найден единственно верный угол зрения, при котором невидимая в траве стекляшка обращается в дивный сполох солнечного серебра… В этих лучах мерещилась ему жизнь, полная чудес и значительных встреч, неведомые города и страны, удача как плата за талант. Он зачитывался Буниным, любуясь его живым объемным миром, мысленно экранизируя строки, ощущая цвет, запах и звук, словно дрожащую галлюцинацию… В ту зиму он не сошел с ума.
— Ишь! И не стыдно ему! — шипела бабуля, покручивая в ладонях палку, будто бы добывая огонь. — Ну и на что это похоже? Гавно да и только, как есть гавно. Ты гавном-то еще не пробовал малевать?
— Бабуленька, это современная живопись, — кротко заявлял Андрей.
— Это не живопись, это выжопись и вжопись, гавно, сучий ты сын!
— Тогда, может быть и это, — он искоса, как торговец на барахолке, показывал ей репродукцию своего любимого художника, — гавно?
— Гавно, гавно!
— Сама ты гавно! — внук отбегал на безопасное расстояние от мрачных фигур, творимых в воздухе вертящейся палкой, внутренне ликуя: недостойными устами его скромные опыты были поставлены рядом с великим именем…
— Что ты изрек, ребенок? — бабуля приподымалась на руках над креслом, зловеще покачиваясь. — Это ты гавно и мать твоя — гавно.
И так далее. Бабуля была старой коммунисткой, потому и злоупотребляла любимым словечком Владимира Ильича и, как все картавые, сильно акала, преобразуя морфологию слова, что и вынуждает записывать его через «а». Андрей тогда еще не мог, из-за недостатка информации, проследить этой безотчетной мистической связи. Он жутко, протяжно ненавидел старуху и желал ей мучительной смерти, когда она загоняла его в угол комнаты и, рисуя палкой коричневые конуса, резиновым набалдашником тыкала его в грудь, приговаривая:
— Ты! Ты! Ты!
Он ненавидел ее за многочисленные темные юбки, за привычку кряхтеть в уборной, за то, что она всю жизнь считала его ребенком, а не человеком, за то, что у других бабушка была явлением второго порядка, смертным, за то, что у других были родители, братья и сестры, а у него была она одна.
— Твой дед был великим человеком, — говаривала бабуля в лучшие свои минуты, нежно штрихуя ковер кончиком палки. — Он управлял семью лагерями, — мечтательно продолжала она. — Через его руки прошли десятки, сотни тысяч людей.
Андрей ненавидел и покойного деда — не за то, что тот убивал людей партиями (Андрей тогда еще не думал о подобных вещах) — а за то, что он был мужем этой женщины. Как-то раз, возвратившись из школы, он увидел, что несколько его пейзажей разорваны в мелкие клочья, и у порога его комнаты хозяйственно покоятся веник и совок: убери.
(Он сымпровизировал уже более десятка ее портретов, она всегда получалась разная, то с золотыми, то с зелеными волосами, иногда она поражала его восточным разрезом глаз или округлостью японской улыбки, и пахла она всегда по-разному — острым развратным маслом, сизой талой акварелью, древесным углем из костра, однажды оказалось, что она поразительно похожа на маму, на ту ее фотографию, где она держит двумя пальцами длинную папиросу вблизи лица и настороженно косится на уголек — мизинец зацепил нижнюю губу, ноздри раздуты, принюхиваясь…)
2
Видишь ли, ее звали Майя, она была на три года старше, она приходила к нему на веранду, которую дедушка оградил первым в его жизни забором, устроив одноместный детский концлагерь. Она шла между пионов (он гораздо позже узнал, как называются эти гигантские цветы) и ее красный, а может быть, белый бант покачивался среди краснобелых душистых цветов.
Она приходила, потому что у него были необыкновенные, дорогие игрушки — вездеполз, который тыкался в предметы, уверенно путешествуя по полу, пока не забивался в угол, трофейная кукла, которая могла говорить на непонятном языке и даже бегать, бабочка, которая умела порхать — или это была настоящая бабочка, пролетавшая между ними, и они, дико вскрикнув, поймали друг друга за руки и на несколько секунд, со временем ставших вечностью, замерли, странно глядя друг другу в глаза?
Его восьмилетняя любовница казалась ему неимоверно сильной, она часто шлепала его, как маленького, и он беспрекословно подчинялся ей. Он воровал в доме сладости для нее — видимо, на том и держалась их матриархальная семья: она ела быстро и шумно, облизывая пальцы, она была похожа на какое-то голодное животное, а он истекал слюной и завидовал ее наслаждению и, может быть, в эти минуты не так у ее и любил. (Тогда они жили за городом, в поселке НКВД, два десятка хороших каменных домов с палисадниками, своя котельная, своя водокачка, на каждую семью полагался сарай, все это, конечно, окружено забором, поколение дедушек — бывшие прославленные НКВДисты, палачи и мучители, тихо отправленные на заслуженный отдых, все прочие — их дети и внуки, вот кому раздолье, радость — столько на свете страшных, таинственных мест, та же Водокачка, окруженная яблоневым садом, та же Котельная с огромной кучей угля…
Родившись, он истошно кричал, заходясь страхом и ненавистью, он кричал все те часы, когда бодрствовал, замолкая лишь на время еды, мать вскормила его грудью и кое-как успокоила, назвала Андреем в честь погибшего отца, научила ходить, разговаривать, во время проситься на горшок, и однажды ее нашли на железнодорожных путях близ станции Курташино, разорванной на куски.
Лицо матери слилось с внимательным бабулиным лицом, у мальчика были серьезные основания полагать, что он не такой как другие, у которых были родители, правда, долгое время он ничем не выделялся среди сверстников и был столь же бездарен, как они, поэтому его странная, вызывающая привычка к одиночеству, весьма приятная в вундеркиндах, лишь раздражала взрослых. Андрей мог часами сидеть неподвижно, сложив руки между колен в двойной кулак, глядя в окно или в стену, как-то раз бабуля, махнув перед его глазами ладонью, поняла, что он всего лишь симулирует взгляд, да спит с открытыми глазами, словно кролик.)
Дедушка сидел, открыв рот, Андрей с волнением заглядывал в эту беззубую щель, тщетно пытаясь увидеть его язык. Иногда дедушка кричал, корчась на кровати, и бабуля тихо ругалась, варила шприц, делала дедушке укол, тогда он начинал плакать и плакал долго, пока не засыпал.
Однажды Майя попросила попить, Андрей со всех ног кинулся на кухню, нашел чашку, уже полную воды, принес, она отхлебнула, сморщилась и начала бить его и щипать за уши, потому что на дне чашки оказалась тусклая, с клочками пищи между зубов, дедушкина вставная челюсть… Все знали, что он скоро умрет.
Раз вечером Андрей услышал внизу в овраге странные, на музыку похожие звуки. Этот глубокий овраг разделял поселок надвое, там, внизу текла быстрая журчавая речка Шумка, которую мог перепрыгнуть только взрослый человек, там росли большие и малые деревья, виднелись красные черепичные крыши, это была дивная, загадочная страна, в сумерках ее скрывал медленный клубящийся туман.
Звуки текли и переливались, взлетали и прыгали, казалось, будто из темных лиственных крон выпархивают золотые и розовые искры.
— Что это, кто это, дедушка, дедушка! — теребил Андрей его рукав, и дедушка посмотрел на него с грустным сожалением и произнес удивительное слово:
— Соловьи.
И заплакал и, утирая кулаком слезы, сквозь слезы повторил:
— Соловьи.
Утром, когда один из пионов ожил и стал приближаться, Андрей радостно забился, расшатывая штакетины своего забора и высоко подпрыгивая:
— Майя, Майя! Соловьи!
Майя задумчиво обернулась и долго посмотрела вниз, в темнозеленую, еще не освещенную яму оврага, Андрей опять, уже во второй раз в жизни увидел ее крупную родинку за ухом, которую так хотелось поцеловать.
— Да, — сказала Майя. — Соловьи.
Они построили железную дорогу с мостом и туннелем, станцию с уютными двухэтажными домиками, посадили мультипликационные деревья, поезд тронулся, жужжа, проехал круг, гулом отметил мост над рекой, остановился, пассажиры высыпали на перрон, но вдруг из-под кресла, из-под черного дедушкиного кресла, вышла заводная кукла, шепча проклятия и размахивая руками, она схватила паровоз, сунула под юбку и убежала в сад, где устроила страшный суд над паровозом, пытая его, выламывая ему колеса, но Майя поймала и отшлепала злодейку. Так они играли до обеда, затем бабуля накормила обоих вкусным оранжевым борщом и отпустила погулять во двор.
— Туда! Туда! — указывал Андрей вниз, к берегам Шумки…
Как он любил ее — эти худые ноги и стремительные волевые движения, уничтожающие смысл платья. Он любил ее высокий звучный голос, каким, вероятно, поют сказочные морские сирены, ее жест частого пощелкивания пальцев, с которым она командовала над столом: дай мне вон-то, вон-это, будто разбрызгивая на скатерть огненную соль…
Они спустились по крутой деревянной лестнице, прошли под мостиком, связывавшим запад и восток поселка, и попали на большую зеленую поляну, где лежали в траве бревна, и в воздухе кувыркались золотые жуки, но главное — на высоких деревьях, тут и там, на ветвях сидели, размахивая ногами, и свистели во все свои легкие — соловьи.
Увидев Андрея и Майю, они неторопливо спустились, подошли и окружили их. То были взрослые мальчики, старшие друзья Майи — Джон, Вит, Тед и Пайл.
— Он… — тихо сказала Майя, наклонившись к Джону, и Джон медленно кивнул.
— Соловьи, — сказал Андрей.
— Сколько тебе лет? — спросил Пайл, и Андрей с достоинством показал ему полную раскрытую ладонь. Недавно перейдя пятилетний рубеж, он почувствовал себя взрослым — и потому, что уже не надо было унизительно поджимать большой палец, и потому, что тянучее, как бы растущее «четыре года» превратилось в состоятельное «пять лет». Загадочные числа старших казались недоступными, тонально звучали ниже: восемь Майи, десять, двенадцать, и даже совсем непостижимое четырнадцать — мальчиков, которых Андрей сразу принял и полюбил.
Все они жили на другом берегу реки и казались бы еще недоступнее, если бы Андрей знал, что там, на удачной солнечной стороне, расположились не старые жилища дряхлых умирающих НКВДистов, а процветающие загородные дачи современных КГБешников, румяных, гладких, пиджачных людей, которые летними вечерами, возвращаясь с электрички, бодро громыхали по мосту.
Были среди них отцы и дедушки его новых друзей, был среди них и отец Майи, которого Андрей боялся больше, чем других…
Человек, проходивший по мосту, несмотря на всю свою кажущуюся реальность, связанную с зудом электрички и каким-то конкретным домом на том берегу, из небытия появлялся и в небытие исчезал, будто весь смысл его существования заключался в том, чтобы громко протопать по доскам, посмотреть в сторону и поприветствовать поднятым портфелем.
Дом, где жила Майя, стоял прямо на берегу реки, вода бежала под самым карнизом, и можно было купаться, прыгая из окна, Андрей любил в Майе и эту ее удивительную черту — весь как бы вырезанный из одного куска камня, окруженный галереями и лестницами дом.
Иногда кто-то из мальчиков уезжал на несколько дней в город и возвращался другим, полным захватывающих рассказов из жизни городских дворов. Андрей любил мальчиков еще и за то, что они чудесно и неповторимо назывались, в то время как у него было обычное, часто звучащее имя: неведомого, геройски погибшего в стычке с бандитами милиционера-отца, также звали Андрей, и в соседнем доме, чуть ниже по деревянной лестнице, в доме с розовым вертлявым петушком на крыше, жил маленький, неуверенно на растопыренных ногах идущий — Андрей.
Впрочем, отцы, проходившие по мосту, кричали мальчикам их имена, и всего лишь — Женька, Витька, Толик и Павлик, но это были ненастоящие, придуманные взрослыми клички, а имя, свое неповторимое имя, человек выбирает себе сам.
Андж — так стал называться Андрей вскоре после знакомства с мальчиками. Андж, Андж, с замиранием сердца повторял он про себя…
Они играли в новые, удивительные игры, их увлекательные сюжеты были самыми изощренными образцами детского творчества, они использовали лучшие достижения детской мифологии и смело развивали ее.
Обычная игра в Муху была модернизирована в сложную многодневную мистерию, в ней принимала участие не одна, а несколько сотен мух. Первый день был полностью посвящен ловитве и подготовке мух к игре, друзья отправлялись на Выгребную Яму, это было долгое и трудное путешествие на восток, мимо Правления, где в окне покачивался строгий профиль Коменданта, и на крыльце стучали в домино глазастые чернокожие рабочие в кепках, мимо Водокачки, над всем миром нависавшей темносиней башни, где водокач дядя Вова, также между прочим в кепке, точил что-то в огромных железных тисках, мимо Старой Мельницы с разрушенной плотиной, где царствовали жабы и тритоны, которых так весело было надувать и класть на рельсы… Выгребная Яма, то есть, большая поселковая помойка, окруженная каменным забором, поставляла мух в любом количестве, их ловили кепками, майками, длинным розовым сачком Пайла, мухи разделялись на две категории, золотистозеленые и черные, им отрывали крылья и складывали в две стеклянные банки. В игре принимали участие также жуки, бабочки, гусеницы, черви — с одной стороны, жабы и тритоны — с другой.
После обеда готовилась обширная площадка, песчаная поляна на дне оврага, на излучине Шумки, с трех сторон окруженная водой, с четвертой — перегороженная относительно высоким забором. Они строили государство с городами и крепостями, железными дорогами и каналами, всю ночь эта чудесная страна стояла пустой, освещенная жутким лунным светом, и народ ее томился в банках, в ожидании игры.
Игра велась по нескольким вариантам, это могла быть война, когда черные вторгались в страну золотистозеленых, или революция, когда черные в подавляющем большинстве брали дворец, повисая на раскрытых чугунных воротах, или нападение инопланетян, когда жабы и тритоны поедали тех и других. В ходе игры происходили мелкие, попутные события: ограбление поезда (черные в полумасках разбирают рельсы) казнь невинного (золотистозеленые накалывают неуклюжего жука, в поисках нервного центра, жертва упирается всеми шестью лапами в иглу, тщетно пытаясь вытащить ее из себя) свадьба Принцессы, избиение евреев, демонстрация, инквизиция и т. д.
Однажды они смоделировали свою родину, поселок НКВД, со всеми его домами и достопримечательностями, населили поименными насекомыми, роль дедушки Анджа, например, исполняла крупная глянцевая жужелица, бабули — бабочка-махаон с обтруханными крыльями, чтоб не улетела, неумолимые поедатели вторглись в поселок с севера, громя дачную фешенебельную часть, ящеры прыгающие и ползучие, грозные летающие ящеры, они форсировали Шумку, разгромили Правление, склевали коменданта и рабочих в кепках, не пощадив даже ни в чем не повинные костяшки домино, они сорвали крышу с Магазина, полного деликатесов и съели все, что там было, вместе с продавщицей и заведующей, добродушными толстыми тетей Оксаной и тетей Олесей, вздрогнула и поползла, распадаясь на кирпичи, темнокрасная труба Котельной, бабуля убегала зигзагами, качая маятник, беззвучно крича раскрытым ртом, словно стрекоза, ящер перекусил ее, дедушка, бешено вращая колеса кресла, подпрыгивая, катился по лестнице, но гигантский Птиц, спикировав, склевал его вместе с креслом на изгибе дуги, моментально исчезнув в низких облаках… Анджа, Майю и мальчиков ящеры взяли в плен, заточили в дедушкином домашнем концлагере, отобрали игрушки, в том числе, и построенный ими поселок НКВД, тем самым как бы замкнув и прекратив игру…
А какой интересной была игра в Короля, когда в поселок через главные западные ворота вошел Король, приехавший из Киева на электричке, с секретной миссией от правительства Украины, он спокойно запер за собой ворота, направился вдоль оврага на восток и запер ворота восточные, затем, не обращая внимания на встречных, которые пытались поймать его взгляды и раболепно поприветствовать, широкой дубовой аллеей прошел к выгребной яме и запер черный выход. Убедившись в том, что жители в полном его распоряжении, он начал поедать их, неторопливо обходя дома: тех, кто встречал его сопротивлением, пытаясь выстрелить из ржавых именных пистолетов, он хватал за руку, раскручивал и бросал в пасть, тех, кто на коленях умолял его о пощаде, каясь во всех своих грехах, он накрывал ртом сверху, сглатывая вместе с землей и травой, тех, кто, убоявшись, заползали в чуланы, уборные и под кровати, он выковыривал двумя пальцами и, истошно орущих, засовывал в пасть… Эта игра длилась три дня, жители знали, в каком месте находится медлительный Король и куда он следует с маниакальной неотвратимостью, они собирались группами, пили липовый чай и с грустью обсуждали свою участь, и никто не пытался бежать из поселка, поскольку именно это и было условием игры.
Когда все жители были съедены и остались только Андж, Майя и мальчики, Андж предложил надуть Короля через соломинку и положить его на рельсы, но Джон вдруг ударил Анджа по голове, а Пайл схватил его за грудь и больно встряхнул, потом Вит взял его за ноги и ударил головой о дерево… Андж даже не в силах был разреветься — таким неожиданным оказалось столь суровое обращение добрых и ласковых мальчиков. Он поглядел на Майю, но та отвернулась на него. Все встали.
— Запомни, — жестко сказал Пайл. — Это Король. Короля нельзя надувать и класть на рельсы, потому что он — Король. Короля надо не надувать и класть на рельсы, а слушаться его, всегда выполнять его волю.
Короля отпустили в речку и, сытый, он весело запрыгал по песку, оставляя туманные следы.
Андж уже знал, что существует большой, настоящий Король, о нем говорили вполголоса, с серьезными кивками и многоточиями… Король приносил мальчикам плоды Волшебного Дерева, и мальчики приносили ему за это деньги. Король прибывал по вечерам на электричке, вероятно, уезжая в город утром, но Андж просыпался поздно и не видел этого, и Король, такой огромный и серый, всегда двигавшийся по мосту в одну и ту же сторону, на север, как бы совершал ежедневные гигантские круги.
Для отвода глаз Король носил милицейскую форму и служил сержантом в городе, никто не знал, что он владеет обширным, могущественным королевством детей, и раз в год, золотой порой листопада, он отправляется в далекую страну, по горам и ущельям, где, спрятанное от посторонних глаз высокими снежными хребтами, недоступное за многочисленными скалами и водопадами, растет Волшебное Дерево, такое большое, что по его ветвям можно разгуливать, как по аллеям, на нем созревают ягоды, от которых вкусно и тягуче во рту, но главное — они дают силу и могущество, способность властвовать, доставать любые игрушки, даже летать…
Мальчики жгли костер и готовили из ягод терпкое варенье, они ели его, облизывая пальцы, и тотчас становились волшебниками.
Много прошло времени — была съедена вся черешня, затем абрикосы и сливы, уже поедались виноград и арбузы, Андж заметно вырос, окреп, научился лазать по деревьям, и лишь только тогда мальчики позволили ему вступить в тайную королевскую гвардию и отведать волшебных ягод.
(Андж не знал, что через много времени, поскольку мир трагически тесен, судьба снова сведет его с Королем. В то далекое лето сержант Приходько собирал справки, характеристики и в сентябре навсегда покинул Киев, поступил в Москве в школу КГБ, женился, дорос до начальника первого отдела Московского Института РЕУ, и через двенадцать лет именно он был тем человеком, которые помог Стаканскому поступить в институт с одними тройками, и если обратно, на шесть лет от того зыбкого момента, — именно он, Митрофан Приходько, был тем волшебником, который свел его отца и его мать, плясал на их свадьбе в серых клетчатых брюках, был как бы самим прародителем Анджа, но все это за скобками действительности, об этом не знал ни Андж, ни отец его, ни сам Приходько, мнительный, отравленный гашишем человек, который допрашивал обоих Стаканских, оглядываясь на Белую Голову, что стояла за его спиной, словно незаметный, но истинный хозяин кабинета… Все это так себе, все это почти не имеет значения…)
Андж любил создавать маленьких, пузатых человечков, он забрасывал их силой взгляда на ветки деревьев, на крыши домов, на облака, труднее, однако, было с предметами материальными, конфетами и пирожными, Андж пока не умел появлять их, как это делали Майя и мальчики — необычайно яркие, красивые вкусности возникали в их ладонях и они угощали Анджа, с наслаждением ели сами… Вит, например, мог сделать так, чтобы с далекой бахчи за станцией прикатились к ним отборные, спелые арбузы и дыни, прилетел в клюве услужливого аиста прозрачный виноград… Зато Андж легко научился раздваиваться, исторгать из себя нового, нематериального Анджа, не всегда видимого другими. Мальчик невинно сидел среди друзей, делая вид, что прислушивается к их разговору, смеется и фантазирует вместе с ними, а на самом деле его бесплотный двойник выходил, оглядывался и, опершись о воздух, взмывал в небо, делая длинные опасные виражи над поселком, распрямлялся, вытянув руки по швам, и свечой взлетал в зенит, вообще покидая Землю, облетая стеклянные, голубые и розовые пятиконечные звезды, которые висели в темноте, звеня. Он мог незаметно подойти к Майе и поцеловать ее в губы или в золотистую родинку, как это делали мальчики, он мог также пойти за Майей в кусты и увидеть, как она подбирает платье и садится, обнажая свое женское устройство, он мог также вызвать из спящей девочки ее невесомый призрак прямо к себе в кроватку и делать с ней то же, что делал с ней сам Король. Майе это не очень нравилось, но таково было условие игры: помимо тех вещей и денег, которые мальчики должны были добывать у родителей, Король повелевал, чтобы Майя в назначенный час являлась на Водокачку, где водокач дядя Вова, на самом деле — Первый Министр — тайно, дабы не видели враги, впускал их в темное помещение с цементным полом, они подымались на самый верх по узкой писклявой лестнице, медленно закручиваясь против часовой стрелки и считая ступени, и там, на открытой площадке, очень близко к облакам и птицам — совсем немножко, ничуть не больно, только потом остаются на животе или на спине какие-то белые липкие сопли…
Андж мог читать человеческие мысли, представляя их в виде красочных истечений и взрывов света, ликующих розовых мультфильмов, мог он также вызывать у кого-то, например, у бабули, нужное ему решение — заставить ее спать, не звать его на обед, не шипеть на него, он мог видеть в мельчайших деталях весь мир, его краски и формы, его тайное строение, проникая взглядом в самую глубину вещества… Андж умел уже многое, хотя, конечно, по сравнению с мальчиками, не был волшебником, а как тот телевизионный принц — «Я еще только учусь…»
Но что взять с него, пятилетнего, если даже сам Король не был всемогущим, если даже у самого Короля существовали враги?
Одним из них был дедушка Анджа, он сам владел тайной Волшебного Дерева и строил всяческие козни Королю и Королевству. Майя рассказала, что вещество дедушкиных ампул содержит сильный целебный настой волшебных ягод, его приготовляет врачиха амбулатории, вечно пьяная, костлявая ведьма с серым лицом, они замыслили погубить Короля и разрушить Королевство, словом, надо найти и утащить эти вредоносные ампулы. Майя несколько раз показывала Анджу пустую коробку, чтобы он запомнил, как она выглядит, Андж уже несколько дней знал, где они лежат — в бабулиной комнате, в комоде под бельем, там же хранился и чудесный стеклянный шприц, который также надо было утащить, но Андж не решался это сделать, не потому только, что боялся — ему казалось, что это слишком важно для дедушки, что вещества связаны с самой дедушкиной жизнью, ведь последнее время, присматриваясь в темноте к дедушкиным мыслям, он мультиплицировал лишь одно: сияющую ампулу, остро блестящий шприц…
Однажды, придя с Майей на Соловьиную поляну, Андж увидел, что мальчики не сидят, как обычно, в вольных позах на деревьях, а валяются в траве: Джон схватился за живот, Вит – за голову, Пайл – за шею, а Тед – за пятки. Мальчики стонали, раскачиваясь из стороны в сторону.
— Видишь, — сказала Майя, указав на них. — Они больны. Только ты можешь спасти их.
— Я не знаю, где они лежат, — соврал Андж.
— Помираю… — произнесла Майя и опустилась на землю, как бы сложив крылья.
Андж побежал наверх, через несколько минут он принес коробки и серебристую баночку. Неизвестно откуда (внезапно из воздуха, как он это делал всегда) появился, сверкая погонами, Король, он засунул коробки себе за пояс, дал всем по ягоде и властно увел Майю с собой, на Водокачку.
— На Водокачку! На Водокачку! — мысленно произнес Андж, бросил в рот волшебную ягоду, раздвоился, вышел, все еще жуя, и, отбиваясь ногами от веток и листьев, с шелестом полетел между деревьями. Он увидел, как Король и Первый министр варят шприц, закатывают рукава рубашек.
— И ей тоже, — приказал Король.
— Нет, — сказала Майя.
— Да, — негромко возразил Король.
Они укололись сами и укололи слабо сопротивлявшуюся девочку, немного посидели молча, раскачиваясь туда-сюда, и вдвоем сделали с Майей то, что обычно Король делал один.
Андж рассердился. Он камнем упал вниз, в подвал, легко преодолев перекрытия здания, собрал в кучу промасленные тряпки, какие-то вельветовые куртки, вылил бензин из моторного бачка и ударом глаз поджег.
Вернувшись домой, Андж был схвачен бабулей, она приволокла его к раскрытому комоду, тыча, словно кота, головой в белье, которое пахло вонючим хозяйственным мылом.
— Где, где, где? — кричала она, Андж ревел, упорно повторяя «Не знаю!» — в соседней комнате корчился и выл дедушка, бесконечно выкрикивая каркающее слово:
— Морфий, морфий, морфий!
Под эти крики Андж и заснул, смутно помня в ночном бреду, как пришла из амбулатории пьяная докторша, поводя головой и сверкая глазами, бабуля ползала перед нею на коленях, протягивала пачку денег, но злая ведьма все мотала головой, приговаривая:
— Нет! Нет больше. Нет!
Утром на улице раздались разноголосые крики:
— Пожар! Пожар!
Андж выбежал на веранду и увидел охваченную жирным дымом Водокачку, внизу стояла пожарная машина, и люди в касках тянули шланги, все жители поселка вышли из домов и радостно обсуждали пожар, вдруг откуда-то вылетел водокач дядя Вова, Первый министр, и заорал, размахивая руками:
— Там! На Водокачке! Ацетилен!
Услышав это слово, пожарники переглянулись, поспешно запихали шланги в машину и уехали. Жители поселка пришли в движение, вываливая через западные ворота, бабуля схватила Анджа и побежала по ступенькам, дедушка, вращая колеса, быстро катил за ними.
Люди несли в руках все, что успели взять: одеяла, сумки, мальчика Андрея, других маленьких детей, хрустальные вазы и фарфоровые чашки… Они столпились далеко от поселка, на холме, глядя сверху на свои покинутые жилища, Андж увидел Майю и мальчиков, они были разобщены, каждый стоял со своими родителями, чуть в стороне возвышался огромный торс Короля, Митрофана Приходько, без формы, в сером спортивном костюме, вдруг Водокачка, превратившаяся в сложной формы огненную фигуру, приподнялась, как бы выйдя из себя, раздался оглушительной силы гром — колокол боли в ушах — и последнее, что увидел Андж, теряя сознание, была кольцевая, бегущая во все стороны взрывная волна, в считанные секунды уничтожившая поселок НКВД.
Первое время они жили в палатках, расположение которых повторяло поселок, затем переехали в один общий многоэтажный дом с лифтом, где стали соседствовать уже по вертикали, через несколько недель умер дедушка и его отвезли на кладбище, Майя, Король, мальчики – исчезли из жизни Анджа, как и все прочие жители северного, дачного берега Шумки. Вскоре, говорят, и саму Шумку заключили в трубу, и – представь себе – нету больше на свете этой реки.
3
В момент взрыва Андж посмотрел на Майю, которая выглядывала из-за бедра своего отца, высокого синего человека в редкой, и потому красивой, прокурорской форме — перевернутый огненный гриб задрожал в этих серых бесстрастных глазах и, падая в небытие обморока, Андж ухватил и взял с собой ее быстрый вопросительный взгляд, будто и вправду она была в чем-то виновата, и через десять лет, в день полного солнечного затмения, гораздо менее старшая, она снова мелькнула перед ним, как бы высунув язык и повертев косичками, чтобы опять, дразня, исчезнуть на неопределенные годы, — Андрей знал, что не навсегда, и был спокоен, спокоен…
Его лишь занимал вопрос: где, когда, при каких обстоятельствах… Поскольку это случится неожиданно, надо все время быть готовым. Андрей уже догадывался: мир настолько тесен, что едва может соперничать своим простором с площадью небольшой комнаты… Однажды выяснилось, что Майя отпустила его еще на шесть лет, предоставив ему более двух тысяч безусловных дней ожидания.
Ее не было нигде, медленно подкрадывалось лето, выросли и распустились цветы, он много работал, главным образом, обеспечивая техническую базу, прячась и маневрируя, чтобы не увидели люди, собирал цветы и листья, тайком от бабули сушил на крышах шкафов, воровал в чулане яйца, молол сухие цветы на кофейной мельнице, смешивал с яичным желтком и уксусом, полученную темперу разливал по баночкам, закупоривал, прятал в свою постель… Бабуле так и не суждено было найти и уничтожить эти вредоносные вещества.
Незадолго до того, как лечь последний раз в больницу, она призвала внука к себе и, выстукивая набалдашником палки глухую резиновую морзянку, будто предлагая второй, тайный план своих слов (хотя и первый был вполне ошеломляющим) сказала:
— Ты скоро останешься один. Благоразумнее всего тебе будет воссоединиться отцом. Да, да — с отцом, с этим погибшим милиционером, который, кстати, вовсе никакой не Андрей, а Борис, даже имя пришлось законспирировать, не делай круглых глаз, перестань грызть ногти, гавно, слушай! Этот убийца твоей матери никогда не служил в органах. Вот тебе письма от него, скажи спасибо, что сохранила. Ладно, о деталях позаботятся…
Вскоре приехала машина «скорой помощи» и санитары, воняя перегаром, поклали бабулю на носилки и увезли. Андрей взял ее палку, засунул под шкаф, уперся ногами в пол и с надрывным треском разломил…
Это были первые дни летних каникул, в доме стали появляться родственники с озабоченными лицами, особенно запомнились — дядя Митяй, всегда раздраженный, пьяно орущий что-то на суржике, его жена, умоляющая кричать тише, чтобы не разбудить мальчика, и дядя Миняй, свояк, известный в городе адвокат, выражавшийся по-русски витиевато, совсем почти без акцента. Андрей ездил в больницу на Печерск и по нескольку минут тоскливо с бабулей молчал. Он очень любил ее эти дни…
Некоторые письма были написаны на машинке с длинным чернильным росчерком в конце листа, всюду стояла дата, время, место написания: Москва, Ялта, Санск, Киев… Первое было обращено к матери, оно было отправлено за три дня до рождения Андрея, а получено через два дня после, несколько писем разных лет адресовались бабуле, последнее — самому Андрею…
Митрофан сказал, что ты беременна. Если ребенок — мой, я не имею права на развод. Прости меня.
Уважаемая Белла Родриговна, Вы выгнали меня вон, но я снова настаиваю отдать мне моего сына. Подумайте, ведь Вы не вечны. С каждым годом Вам будет все труднее, что ожидает мальчика?
Дорогой мой сын! Мне будет трудно объяснить тебе, почему ты остался один, но будет уже хорошо, если ты дойдешь когда-нибудь хотя бы до такой же грани непонимания, что и я. Я хочу сказать тебе — не в оправданье — для сведения: я много раз обращался к твоей глубокоуважаемой бабушке с просьбой тебя забрать, но безрезультатно. Если ты помнишь, однажды зимой, когда я приехал (пушистый искристый снег переполнил цветочные вазы, его острые кристаллы кружились в сетчатом свете фонарей, наподобие дивных неземных насекомых) и мне позволили взглянуть на тебя, это было еще в том доме, который сгорел, я открыл дверь и с порога смотрел, как ты спишь, ты зашевелился, проснулся, увидел меня, и я медленно закрыл дверь и ушел… Помнишь?
Бабушка не вечна, с каждым годом ей становится все труднее, тебя ожидает одиночество. Скоро ты станешь совсем взрослым и вправе будешь решать, где тебе жить, ведь это право каждого человека на Земле. Мой дом всегда открыт для тебя. Знаешь, давай оба попросим глубокоуважаемую бабушку, чтоб отпустила тебя на каникулы ко мне. Поедем на Юг, полазаем по горам, покупаемся в ласковом море…
Бабулю похоронили, не отпевая, как обычно зарывали коммунистов, поставили в ногах не крест, а худую пирамиду со звездой.
— На кой ляд сей крест, дура, на кой?
— Тише, разбудишь его.
— А мне плевать! Ежели ты еще заикнешься про этого выродка, падла, я те смазь сотворю. Девай, куда хошь — в интернат, в воровское училище, шоб я его по гроб жизни не видел!
— Тише! Не пей, пожалуйста, Митяй, прошу тебя.
— Не будем ссориться, друзья мои. О Суворовском училище подумать стоит, но видите ли, у парня задатки к рисованию и, вероятно…
— Шо? Какие задатки? Это вот? Ты шо, хошь, шоб он усю жизь на даровом? Шо я вот этим рабочими руками грошик к грошику, а он кисточку у пальчиках? Или на скрипочки научить питренькать, шоб у белых перчатках? У ролетарии его, у люди, у гавно!
— Не шуми, Митяй! Дядя Миняй верно говорит.
— Да нехай и берет его у себе! Шо — съел? Мараться не хошь?
— У меня нет подобающих условий… Я бы предложил связаться с его отцом, ведь не откажет, я полагаю…
— Во-во! Усе наровишь на чужие плечи переложить. А то, что его так называемый пахан — алкаш, нарком, из психушек не вылазит, это как? Зоны ты не нюхал, Миня, вот что. В виду всего вышесказанного, считаю своим долгом заявить, что твое предложение более чем тривиально.
— Ну, как бы то ни было, со своей стороны я бы смог принять лишь посильное материальное участие… В общем и целом, гоните бабки, шоб нонча ж у Москву.
— У Москву! У Москву!
Это было первое в его жизни путешествие на поезде дальнего следования, первые шаги теперь уже вечного одиночества. Он ненавидел пассажиров, задумчиво жующих глазами поля, кажется, за то, что они ничего не знали о его жизни… В его портфеле, старинном дедушкином портфеле крокодиловой кожи, кроме изрядно потрепанных носильных вещей, лежали несколько самых дорогих ему картин и рисунков (все лишнее он предал огню) пачка писем, написанных одной и той же рукой, и дорожная книжка — «Алиса в стране чудес» на английском языке.
Отец оказался холостым. Вместо молодой красивой мачехи, тайно влюблявшейся в пасынка, да и вообще вместо живого отца, он обнаружил записку с просьбой позвонить в соседнюю дверь. Соседка, весьма привлекательная и ласковая, вынесла ключ. На столе, удивительно писательском письменном столе с глубоким зеленым стеклом, он нашел деньги и письмо (тем же каллиграфическим, не лишенным кокетства почерком) где говорилось, что пока папа живет и работает в Крыму, он может располагаться, как пожелает, ибо свобода есть высочайшее неосознанное желание каждого человека.
Стаканскому понравился факт существования письма: он всегда придавал большое значение письменному слову и хранил его. Живя в своей новой, темной от растений комнате, и умело, бабулино поливая, как было предписано, эти растения, он изучал отца по форме, словно Евгения — Татьяна, отыскивая его резкие отметки на предметах.
Вот черная в шершавом футляре пишущая машинка: жестко свернувшийся в трубку лист, кажется, что внутри огромная гусеница, на нем сверху несколько повисших строк, окончание таинственной фразы: «…и в десять шагов обойдя его квартиру, вдруг замерев, как внимательная статуя, на исходе длинного (настороженного?) жеста, плача, совсем уж внутренне плача, обнаружила тонкий и светлый, не ее волос…»
Он был неожиданно найден в ванной, в щетке для волос — светлый, почти голубой, длинный, приглашающий погадать… Стаканский рассмеялся и намотал его на палец, намереваясь увидеть имя по числу витков. Получилось «А», поскольку волос сразу обломился. Годом раньше, на тех каникулах, молодая цыганка на Бессарабке, вернее, даже негритянка в классическом костюме цыганки, странное такое явление, нагадала ему, что последняя буква ее имени будет «А».
Анжела? Алина? Анна? Агния? — нет, не годится, а жаль — Аграфена, Агриппина, Анфиса, Агата, Ада? Алушта, Алупка — я живу и работаю в Крыму, как работаю — лопатой?
Это неправда, потому что существует Майя. Все мое несчастье в том, что я раз и навсегда полюбил одну женщину, у меня не было милых летних сумерек с розовыми поцелуями, попыток овладеть рукой в душном незначительном кино, торжественных расставаний навсегда. Приходилось делать вид, что есть женщины, выдумывать прелестные истории, морочить головы знакомым некой огненнорыжей Агнессой…
Стаканский рассматривал фотографии отца в обширном представительном альбоме, это лицо мучительно кого-то напоминало… Стаканский изучал свои тождественные ракурсы, не находя ни малейшего сходства, и только раз, в неуловимом повороте зеркала, бесцеремонно глотавшего пространство вокруг торса, он увидел полупрофиль писателя, с задумчивым русским носом, но как ни вращал потом дверцу, не мог вызвать этого повторения, и только много позже, годам к сорока, в несуществующем еще ни для него, ни для всех нас будущем, он стал все настойчивее походить на отца, требуя долги у давно пролетевшей смерти.
Аделина? Акелина? Антонида?
Стаканский читал его рукописи, начал и бросил, поскольку все это было невыносимо скучным, полным постыдных любовных излияний, истерических выкриков, путаницы в именах, всяческих несоответствий — герои говорили совершенно не свойственные им речи, менялись местами, репликами… Ничто, кроме любопытства к личности, не заставляло переворачивать страницы. Мало-помалу Стаканский понял, что отец вовсе не писатель, владеющий тайной бытия, а всего лишь озлобленный шарлатан. Ни одной его книги не было издано, а та жалкая, самая худая папка, где бережно хранились желтые вырезки, представляла еще более скучную, обыкновенную газетную муру: уютные заметки о прелестях природы, плоские юмористические рассказы, нравоучительные изложения кинофильмов.
Один из ящиков стола был заперт, Стаканский не без труда открыл его, там лежали аккуратно перевязанные письма женщин, что оказалось более увлекательным чтивом, так как было подлинником — одни с умными философскими рассуждениями, другие бытовые и безграмотные, третьи жаркие, полные телесных переживаний, самые сладкие. Ящичек этот представлял собой какой-то домашний музей пошлости: гребешки, заколки для волос, шпильки, даже завернутый в бумагу окурок с коричневым пятном губной помады, даже аккуратно уложенные в целлофановый пакет, нежные на ощупь трусики, в довершение композиции — колода порнографических карт без дамы треф — вывернутые наизнанку белые и черные бляди с высунутыми языками.
Был там жуткий, скабрезный дневник в коричневом переплете, с красиво выведенным заглавием на титульном листе — «Дневничок стареющего мужчины», с эпиграфом из Тютчева — сердце жутко билось, и к горлу подступала тошнота, руки тянулись к постыдному, раз вечером, в момент чтения этого документа, Стаканский услышал решительный лязг ключа в замке и, едва успев забросить тетрадь в стол, увидел, как уверенно улыбаясь, с раскинув готовое объятие, идет к нему сам Конопляный Король.
Действительность пошатнулась и задрожала: так бывает, когда разрушена перфорация, Стаканский попятился, с полки повалились книги… Король — отец? Этот Король и есть мой отец? — тем временем его обнимали, охлопывали, осматривали на вытянутых руках.
Внезапное сходство исчезло, будто отец снял чужую голову и рассмеялся, довольный произведенным эффектом — Стаканский так и увидел эту метафору: человек снимает голову и, дико хохоча, высоко отшвыривает ее с глухим пинком. Галлюцинация, из глубины детства догнавшая его, разлетелась на куски. В такой момент могла бы зазвучать музыка, торжественная и тихая, прямо говорящая о том, что все обошлось.
4
Отец источал запах кофе и табака.
— Куришь? — спросил он, и Стаканскому стало неловко за этот демократический жест. Он взял предложенную сигарету и засунул за ухо, и с этого дня началась между ними странная многолетняя игра.
Отец называл его «молодой человек» и «дорогой мой», реминисцируя Версилова — с различными эмоциональными оттенками, от благодушных до уничижительных, придумывал ему какие-то оригинальные развлечения, например, внезапную экскурсию в Ленинград (Собирайся, твой поезд через два часа) или экзотического персонажа (Знакомься, твой тезка, поэт Андрей Макаревич) Однажды он отвел Стаканского в художественную студию, которая оказалась просторной комнатой с окнами в зимнюю тьму, где на полу по большой афише ползал художник, руководитель. Стаканский получил задание: нарисовать карандашом с натуры гипсовую греческую голову с белыми глазами, удивительно ненастоящую. В афише намечалась глупейшая грамматическая ошибка, Стаканский, полный искреннего желания ее предупредить, влез не в свое дело, нарушив естественную иерархию умов, вследствие чего эскиз был категорически разбит, художественный талант юноши взят под сомнение… Ох, как много в его жизни зависело от этого идиотского пустяка: он никогда больше не появлялся в студиях, никогда не имел учителя-профессионала, не получил никаких корочек, не усвоил азов, что всегда давало окружающим поставить под сомнение всю его живопись, в конечном итоге — всю его жизнь. Однажды он застал отца в своей комнате (мастерской она называлась) и навсегда запомнил его брезгливый жалостный взгляд… И зачем было разыгрывать сдержанное восхищение, выражать скромные отцовские надежды?
Между ними установились ровные, безысходные отношения молчания, Стаканский пресекал все попытки задушевных разговоров, уходил из дома и шатался по улицам до поздней ночи, изучая новый город своей жизни, много рисовал, вяло реагировал на похвалы, отец часами стучал на машинке, преимущественно, по ночам, три-четыре месяца в году его не было, приходили открытки из разных городов, краткие, формальные, с наивными попытками подружиться, и так прошли годы, отец заметно поседел, Стаканский регулярно влюблялся в его женщин, одну из них звали Алла, однажды он решил перечитать отцовское писево и неожиданно открыл одну весьма остроумную фантастическую повесть, ничем не хуже Шекли, однажды он сам попробовал писать — это уже на первом курсе, в бездарном и бессмысленном МИРЕУ, куда по блату устроил его отец.
Стаканский не мог придумать сюжета: все приходившие варианты были либо вторичны, либо глупы, выяснилось также, что он не может написать ни строчки о человеке, который был бы старше его, да и вообще — никак не ложился на бумагу никакой другой человек.
Героем его романа стал художник, он должен был пройти тяжкий путь от уверенного сознания собственной гениальности до полного разочарования в своих силах, концовка предполагалась открытой: он стоит на распутье, с ужасом понимая, что годы штудий растрачены зря, что жизнь свободного живописца, полная приключений и тайны, теперь превращается в самую заурядную растительную жизнь обыкновенного человека — с нищенской зарплатой, женой в халате, вечерним телевизором, медленным приближением смерти…
Стаканский реализовал один из вариантов своего бытия, хотя и не сомневался в том, что из него выйдет толк, и через десять лет — срок, казавшийся тогда неисчерпаемым — о нем заговорит весь мир, и судьба уже уверенно брала первые аккорды: как-то раз знакомый художник, подвязавшийся на звучащей подвижной скульптуре, металлических конструкциях, образующих зримую додекафонию, привел к нему волшебно пахнущую свободой, лишенную возраста француженку, которую почему-то звали Аврора, и она купила картину, отвалив немыслимую для него сумму, четыреста целковых — четыреста франков Винсента, само собой напрашивалось сравнение, услышанное в отрочестве от покойной бабули..
Картина называлась «Люди», на ней было изображено несколько миллиардов человек, причем, нельзя было разобрать ни одного лица, так как они стояли, опустив головы. Люди были обнажены, их фигуры, в перспективе сливались в однородную серую массу, которая была сущностью земли, взбиралась на холмы, заполняла овраги, образовывала берега дымной реки. Кое-где на светящихся столбах взлетали отдельные тела и, в перспективе уменьшаясь, вырастали редкие голубые деревья неземного образа… От картины веяло ужасом и смертельной тоской, вся ее прелесть была в невозможности единственно верного варианта истолкования: это могли быть и узники, и люди, погибшие в войнах, и просто люди, жившие на Земле, впрочем, ничто не доказывало, что художник нам изобразил именно Землю…
Вот эта монотипическая многоплановость, в сущности, обращение к единственному сознанию, умножение смысла картины на количество зрителей — было для Стаканского одним из главных рабочих принципов, его экзистенциальной концепцией. Увлекался он и чистой монотипией, свободным течением красок по мелованной бумаге, и в сочетании немыслимых форм и цветов зритель был волен видеть лишь то, что ему хотелось видеть. Возможно, если бы Стаканский дожил до открытия вернисажа в Битце, то стал бы богатым, преуспевающим живописцем…
5
А если всего-навсего Александра? Просто Шурочка?
Стаканский был человеком мечты. Предметы мира служили лишь манекенами для переодевания в новое качество, в собственную проекцию, удобно размещавшуюся в голове хозяина, составляя для единственного на Земле человека искусственный рай.
Стаканский выдумал себе друга, ровесника, он жил в далеком прелестном городе, автор построил для него довольно вместительный экзотический дом над самой водой, творчески развив сгоревшую дачу Майи, мысленно беседовал с ним и писал витиеватые письма (мысленно) невольно имитируя язык того литератора, которым увлекался в данный период.
Он вообще был склонен окружать себя воображаемыми фигурами, налюбленными фантомами души: когда-то в детстве у него был столь же мультипликационный, все понимающий отец, он умер в страшных муках с появлением настоящего. С отроческих лет в его ночном сознании завелась внимательная сонная женщина, она взрослела вместе с ним и с годами стала такой реальной, будто готова была материализоваться. Стаканский боялся, что она не умрет, когда у него появится настоящая…
Он слишком много фантазировал, не догадываясь об опасности этого занятия: за двадцать два года жизни внешний мир был значительно подменен внутренним, действие — замыслом, уже ушло в небытие несколько обдуманных и вовремя не написанных полотен, уже были исчерпаны — успешно прокручены в мозгу и забыты — увлекательные путешествия на байдарках, легкие, лишенные силы тяжести, восхождения в горы, и уже несколько женщин, каждая из которых, по закону вариантности, могла стать частью судьбы, прошли мимо, нетронутые, даже не подозревая, что в сознании Стаканского были венчаны, народили ему детей, состарились и умерли.
Стаканский редко пропускал лекции, не ерзал на месте, не игрался с соседями, не писал любовных записок — черт его знает — не будь он художником, не отличайся от других одной лишь деталью — умением рисовать, т. е. быстро и точно обводить плоскую проекцию своего поля зрения (казалось бы, так просто, почему мы все этого не умеем?) — то был бы он таким же, как все, жил студенческой жизнью, пьянствовал и блядовал, играл на лекциях во все эти игры — в Морской бой, в Крестики-нолики, в Жопу, в Пятку и в Сиську — но вся беда была в том, что он никогда не причислял себя к всеобщему братству — Gaudeamus igitur! — он был «я и они»…
Со стороны он казался прилежным студентом: вот он сидит где-нибудь посередине, кивает конспекту, смотрит на преподавателя, умно вытягивая губы, и тот, всегда чувствующий, кто пишет конспект, а кто имитирует, вступает с Стаканским в интимную зрительную связь, он все чаще посматривает на него, стуча мелом по доске и почесывая ногу о ногу, пространство расфокусируется, несущественные лица желтеют, тоном стремясь к мандаринам, лимонам, грейпфрутам, в центре этого дождливого цитрусового сада вскидывается лицо того самого, усатого, умного студента, и теперь ты читаешь только для него, постукивая по квадратному корню, подпрыгивая на месте и старчески припукивая, а между тем в тетради Стаканского, хотите в точечном, хотите в штриховом исполнении, возникают (Дай! Покажи! Ну че ты как этот-та?) монохромный портрет того жалкого, с ширинкой до колен, с переполненным мочевым пузырем, ни черта не понимающего ни в жизни, ни в предмете, который читает, как и все они, бездарные, тупенькие, вступающие в партию, всю жизнь проигравшие в Жопу, Пятку и Сиську, важно спешащие по коридору на заседание кафедры, — а вот уже и смерть близка, и яму можно увидеть, если привстать на цыпочки, за чужими лысинами — скучно, ну скучно же — господа…
Стаканский рисовал город, он ставил в центре листа первое здание, тщательно выводил его тончайшие черты, затем пристраивал к нему другое, и сразу намечалась улочка, она спускалась, горбатясь, к обширной площади, где вырастал гигантский пятиглавый собор, появление такой массивной фигуры требовало равновесия, и еще в нескольких местах поднимались высокие башни… Это был увлекательный пасьянс: здания вытягивали соседей за шпили, по закону гармонии, город разрастался, взбирался на холмы, доходя до отвесной стены гор и взлетая отдельными виллами на скалы. Вероятно, это и был тот самый город, где жил, сочиняя трогательные, ободряющие письма, его всегда мертвый единственный друг.
Результатом этих этюдов стала серия небольших вертикальных картин — город, чудесный, нигде, никогда не существовавший город, провинциальная столица какой-то иной, придуманной России… (несколько строк в рукописи неразборчивы, увы…) узкие улочки, неотвратимо сбегающие к реке, а над рекой парят стрижи, и мы вспоминаем, что действительно были счастливы в этом нарисованном городе, но счастливы недолго, так как всякое начало несет в себе свой же конец…
И Стаканский предлагал мечтать, безнадежно и сладко: с первого взгляда это был вполне уютный западный город, где зеркальные плоскости небоскребов отражали некогда высокие средневековые постройки, а по эстакадам двигались диковинные автомобили, лотки лавок ломились от яств, но слишком уж много было здесь чисто русского, православного — и купола, шлемовидные и луковичные, и сугубо наши деревья, и надписи реклам, сделанные на нашем дореволюционном языке, и, наконец, странная, невозможная подпись автора: Андрђй Стаканскiй, 1981, и сердце начинало радостно биться — хотя бы по мнению автора — я узнаю тебя, Россiя, какой ты могла быть в наши дни, если бы всего лишь несколько маленьких событий, несколько тончайших исторических завитушек… Но достаточно было одного взгляда за окно, чтобы отрезветь и, может быть, окончательно возненавидеть художника…
Та самая Аврора, прошелестев, сфотографировала несколько картин, в том числе и вышеупомянутые, и через полгода к Стаканскому пришли новые покупатели, «The last price — thousand» — замирая, проговорил он, и ему было немедленно отсчитано сто душистых червонцев одной серии, и русский город, свернувшись в трубки, укатил в Европу. Стаканский тупо смотрел на пустые подрамники, вмещающие теперь обстановку «мастерской», сравнивая их вид с видом пачки денег на столе, которая, словно еще не проросшее семя, хранит в себе невиданные вещи: фирменный магнитофон с полным собранием Beatles, Баха, Бетховена, фантастическое путешествие по России, давно вожделенную проститутку в развратных узорчатых чулках, и т. д. — бесконечно раскручиваемая спираль образов… Но уже через неделю облако тает на треть — кутеж с двумя скульпторами в Желторанге, где прелестная динамистка с круглой, ходящей вдаль попкой, оставляет ему фальшивый телефон и похмелье, пачка заряженного Беломора, выкуренная в депрессию и онанизм, несколько лихих прогонов на такси, а через неделю его вызывают в деканат, где огромного роста детина, странно на кого-то похожий, не здороваясь, хлопает себя по коленкам, встает, ведет его вниз, трубными коридорами в зону старшекурсных лабораторий, ключом отмыкает жестяную дверь, несколько минут молчит, перебирая на столе бумаги, Стаканский разглядывает за его спиной безликую гипсовую голову, которая с растительным звуком «стп!» — превращается то в Ленина, то в Дзержинского, и вдруг действительность входит в некое кинематографическое сновидение: Стаканский понимает, наконец, на кого похож этот большевик — на Короля, Конопляного Короля его детства, изнасиловавшего восьмилетнюю Майю на его глазах… Он и представить себе не может, что это и есть бывший сержант Митрофан Приходько собственной персоной, он же таинственный друг детства отца, устроивший его в МИРЕУ, также выросший среди декораций поселка НКВД и лет двадцать пять назад мучивший его красавицу-мать в кустах за Водокачкой, — Стаканский обо всем этом не знает, он принимает очередное явление Короля за обычное, много лет в разных лицах, в том числе, и в зеркале, преследовавшее его, — как Вы думаете, сцепив побелевшие пальцы, спрашивает его Король, почему Вы, не добрав полбалла, все же прошли в институт. Я Вам отвечу. Мы видели в Вас талантливого молодого художника, способного внести свою лепту в наш всеобщий созидательный труд. Вы не находите, что, мягко говоря, не оправдали нашего высокого доверия (почему-то с грузинским акцентом) Ведь эта ошибка может в любой момент выясниться… Сдавай валюту! — вдруг завопил он бабьим голосом и хрястнул ладонью по столу.
— Нет… — прошептал Стаканский, слушая эхо удара, — Нет у меня валюты.
— Вот как? Чем же с тобой расплатились за проданную Родину?
— Рублями, — успокаиваясь, сказал Стаканский.
— Так. Значит, ты признаешь, что все-таки продал Родину?
— Я продал всего лишь несколько своих картин.
— Какие именно? — королевская рука приготовилась писать.
Пока Стаканский рассказывал, Король придвинул графинчик с водкой, ногтем сбросил пробку, плеснул себе полстакана, опрокинул, проиграв кадыком.
— А твоя жена в рот берет? — вдруг спросил он тихо и внятно.
Стаканский поднял на собеседника удивленные глаза. Неприятный холодок пробежал по его груди.
— Что вы сказали? — сощурился он, понимая, что вот сейчас должен ответить, а что будет потом…
— Я сказал: Ну же она и рот дерет, — повторил Король, вытирая салфеткой губы.
Он продиктовал текст объяснительной, прочел лекцию о вреде контактов с иностранцами, среди которых часто встречаются как сотрудники ЦРУ, так и носители СПИДа, несколькими жестами растопыренных рук — крупный план, отъезд — нарисовал, что ждет его в случае отчисления и призыва в армию (веревка на водопроводной трубе в туалете) взял обязательство «помогать» и вышвырнул вон.
Неизвестно почему у Стаканского сильно заболел живот, он добежал до туалета и долго стонал в кабине, опоздав на вечерние лабы, а через месяц его вызвали снова, и он обстоятельно, делая наивное лицо, рассказал о настроениях на курсе, о разговорах, назвал конкретные фамилии, в том числе, заложил Лизу, читавшую на лекциях ксероксы, девушку, которая нравилась ему больше всех в группе, тихую и недоступную, он рассказал анекдоты, приписав их своим недругам, и вскоре увидел непосредственные результаты своей деятельности: Лизу подали на отчисление, завалив на философии, переизбрали комсорга курса… Король требовал новых жертв, и Стаканский добросовестно стучал.
6
Антонина? Алевтина? Августа?
Отцовский письменный стол, размером напоминавший двуспальную кровать, постепенно зарастал окурками, огрызками, наконец, наступал критический момент, когда стол уже лишался столешности, превращаясь в мусорную кучу, и тускло плыла над нею лампа, словно некая квадратная луна, и казалось, что вовсе не стоит ничего никогда писать…
О, как хотелось на маленьком ручном аэроплане облететь кучевое облако, провалиться в него, в плотную белую тьму, а ведь все было в твоих руках, сынок, как этот ускользающий под утро упругий штурвал — ты мог бы стать летчиком или моряком, почему ты так отчаянно боролся за то, чтобы стать никем?
Он был импрессионистом по форме, обнажая приемы, показывая строение мазков, как бы по ходу писания комментируя данный текст, доверяя читателю, как и зачем это сделано, постоянно напоминая, что писать прозу чрезвычайно просто — вот так-то и так-то — и нечего делать из нас идолов, не за что даже и уважать нас, господа! Хотя всюду присутствовала тихая мысль: вот вы видите, как это просто сделано — черный, так сказать, квадрат — но попробуйте сами сделать такое, нет, вы не сможете, а я это умею, и поэтому я буду вечен, между тем как все вы — умрете.
Он пил запоями, по три-четыре дня, собирал вокруг себя разновеликих двойников, затем отходил, часами валялся на кровати с книгой, затем доносилось робкое постукивание клавишей, старый «Ундервуд» выдавал разное содержание звуков для каждой буквы, и из своей комнаты Стаканский слышал, что именно сочиняет в ночи отец:
«Лиза спала беспокойно скорее даже агрессивно она лупила Рассольникова локтями и коленками сбивая в бесформенную груду от пота влажное одеяло и долгими чужеголосыми стонами она вовлекала Рассольникова в тайну своих сновидений из них словно из-за закрытой двери доносились ее мучительные вздохи и Рассольников приподнявшись на локте вглядывался в ее лицо в быстро бегущих морщинах пытаясь понять что происходило с нею там внутри…»
Несколько тяжелых неверных шагов, по скрипам паркетин можно было определить угол комнаты, где идет писатель, затем удары запечатывающей буквы «ж» и поправки: «мокрое» на «мертвый», затем снова — с паузами на чирканье спички — новорожденный свежак, где Стаканский по своему усмотрению расставлял пунктуацию:
«Лиза любила ускользающее дыханье запахов, самое зыбкое что можно любить в мире вещественном и самое недоступное для курящего человека. По утрам, еще не поцеловав первую сигарету, она обнюхивала свои цветы, свои конфеты: ей не хватало густоты и силы запаха, и тогда она использовала суррогаты — ее дом был полон аэрозолей, нужных или бесполезных, всех этих хладеющих сосудов, которые скоро ломались и шипели вхолостую — острой струей запаха, что ей было и надо. Рассольников приносил ей ноктюрны, этюды, фуги и симфонии запахов, составленные из цветов, листьев, кусочков коры или хвойных веток. Его стремленье к естественности умиляло ее, но не удовлетворяло вполне: иногда она затаскивала его в художественные салоны, мебельные магазины и тому подобное, где они выслушивали химическую музыку масляных красок, лаков, обработанных древесных волокон… Однажды, придя к ней, он застал ее в туманном исступлении, над букетом увядших пионов. Он с трудом разжал ее затвердевшие пальцы, уложил ее в постель, и после украдкой понюхал цветы, но они уже не пахли — Лиза вынюхала их до дна.
Рассольников любил цветы, но не цветы вообще, а розы, да и не розы вообще, а их сухие лепестки. Он покупал букет самых крупных, самых разноцветных роз, приносил его домой и ставил в сухой кувшин, чтобы они быстрее умерли. Он наблюдал, как они постепенно меняют цвет и фактуру, и это было нелегкое зрелище, потому что неповторимость игры красок доводила его до слез. Расстоянье от первого лепестка, беззвучно опускавшегося на свое отраженье в полировке стола, до последнего, еще державшегося на пестике, равнялось нескольким томительным дням, и Рассольников проводил их в бденьях над столом, осторожными дуновеньями перераспределяя багровую радугу. Когда все было кончено, он растирал ее с терпеньем работающего гашишиста; шелковая ее ткань забавляла чувствительную кожу подушечек; он смешивал полученный порошок с яичным желтком и льняным маслом, приготовляя удивительные краски, которые различались не только цветом, но и запахом. Материалом для работы служили также сухие листья, летние и осенние, тонкие пластинки древесной коры — береста, выбеленная дождями, золотая сосновая шелуха, остановившая солнечный свет, высохшая хвоя новогодней елки, принявшая отблеск восковых свечей.
Своими красками Рассольников рисовал розы, еще более прекрасные, невыведенных и неназванных сортов: Лиза приходила и с жадностью вынюхивала их до дна, а позже, когда они вяли, Рассольников собирал лепестки, и все начиналось сначала…
Вот какими чудаками были эти Рассольников и Лиза, и вряд ли стоит говорить, что их встреча была случайной игрой света и воображенья.
С тех пор, как начались у Рассольникова припадки мании преследованья, Лиза почему-то избегала его, и он не видел ее почти уже месяц, изредка соединяясь с нею по телефону…»
Под этот стук Стаканский засыпал, и роман отца продолжал сниться ему, и он видел страдающего героя, полного душевной и телесной боли, его взбалмошную любовницу, пустой мрачный город, где они ходили в потемках, и, поскольку сон был все же его, Стаканский сам оказывался на месте персонажа и гулко ходил всю ночь, преследуемый ужасом…
Все в этом романе было неестественным, вымученным, Стаканский думал, что и он мог бы так написать, занимайся он этим профессионально. Неприятным было и высокомерие, с которым автор относился к читателю: он водил читателя за нос, обманывал его ожиданья, часто подсовывал пародийный, как бы подложный текст. Чего стоили только эти старинные окончания на «нье» и «нья»…
Где-то посередине Стаканский понял, в чем природа странного впечатления пустоты и одиночества: мир, предлагаемый романом отца, был никем не населен, никакие другие люди, кроме двух влюбленных чудаков, в романе не упоминались, ни прямо, ни косвенно — пустыми были московские улицы и площади, трамваи, вагоны метро, ветер гнал по платформе клочки газет, вхолостую работали эскалаторы, и лишь смутные следы остались от провалившегося куда-то населения — то дымящийся окурок на лестнице, то запах пука в лифте…
Акулина, Андрона, Арина?
С каждым годом отец пил все больше, надолго уходя в беспросветные запои, и однажды Стаканский, вернувшись с Юга, еще в прихожей услышал вонь и обнаружил его в ванне, примерно на две трети заполненной водой, но это уже конец романа, вернее, другой, дрожащий где-то рядом вариант реальности, и прежде случилось много драматических событий, связующих сына и отца.
Агата, Ариадна, Аглаида?
Он увлекся образом паутины, огромной свисающей паутины, умеющий преломить мир, показать его обнаженный скелет. Альбом художника стал каталогом всевозможных форм и размеров (всюду по углам заседают, бегут, раскачиваются на нитях, хохочут — громадные жирные пауки) — нет, он не штудировал энтомологических книг, составленных под редакцией маститых паукообразных, не охотился в лесной глуши с остро отточенным серым карандашом, как Паганель, или какой-нибудь там Набоков — он создавал образ паучности, неповторимый, никем не запатентованный способ ее написания, ведь великим художником стать легко: достаточно найти свою манеру элементарных вещей — роз, женских торсов, облаков, самых достойных и видных деталей конструкции мира… Почти на самом острие мыса Пицунда, вместо того, чтобы с упоением тратить кобальт и железную лазурь, церулеум и ультрамарин, на виноградной веранде посиживал и посвистывал в этюдник лучший в мире изобретатель паутин, любитель самых сырых и темных подвалов, где привольно себя чувствуют лишь могильные черви — странно, правда? Он еще не знал, для чего ему понадобится именно это явление природы, но какая-то единственная в мире композиция — заросший гигантскими паутинами лес или город, или, может быть, заросший гигантскими паутинами интерьер или натюрморт (почему бы даже не портрет, жанровая сцена?) уже существовали совсем рядом во времени, и стоило только повернуться, чтобы скопировать видение, и главное — ни на миг не забывать суть открытия, сделанного в штудиях: паутину, как и стекло, писать не надо, писать надо предметы, расположенные за паутиной или стеклом… В это самое время, в двух тысячах километрах на северо-запад, захлебнулся в горячей ванне его никудышный пьяный отец — но это уже конец романа, вернее, другой его вариант…
Альбина? Аделаида? Ада?
7
Аа-а? Аа-аа? А-а? (Когда-то, когда-нибудь, ты…) — звучала год за годом неоконченная строка, и однажды, перевалив на последний курс, зимой, он невзначай услышал на лестнице высокоголосое:
— Анжела!
Это крикнула, свесившись с перил, худая белокурая девушка. Стаканский посмотрел вместе с нею и увидел лишь лестницу.
— Можно упасть, — ласково сказал он.
Они разговорились. Первокурсницу звали Лера. На улице он купил два эскимо, и пришлось присесть в скверике, затем их внимание привлекла афиша, и в темноте кинозала он вроде невзначай положил ей руку на остренькое колено и как бы забыл убрать. Это был типичный вариант с возрастающей последовательностью действий, весьма распространенная молодежная игра, тайная прелесть которой составляли лишь промежуточные ходы, — легкая, если бы Стаканский хоть раз прежде играл в нее.
Дома Лера страстно рассматривала сувениры отца — раковины с Карибского моря, где он никогда не был и не будет, небольшие тропические деревья, выхоженные тут же из семян в возрастающих цветочных горшках.
— «Каменный гусь», — прочла Лера название романа о Рассольникове и заливисто рассмеялась, потом прочитала несколько строк наугад:
— Лиза любила однотонные, необычайно яркие ткани, их удивительное звучание овладевало пальцами, когда за больно страдающим цветом она видела четкие тени своей руки… Ну и дичь! Омерзительно.
— Пахан сейчас в Ялте, — небрежно пояснил Стаканский, делая необходимые приготовления в виде бутербродов и кофе.
— Вот как? У нас на курсе тоже есть одна ялтинка.
— Какая же ты дура, — с нежностью подумал Стаканский, пытаясь приобнять девушку, но та, вопреки логике событий, выскользнула и закружилась по комнате, спланировала в кресло и вдруг замерла, словно испуганная моль. Под крыльями у нее была гладкая белая, почти голубая кожа, Стаканский решил повторить приступ после кофе, ткнувшись, как бычок, в ее неаппетитные губы, но Лера подставила ладошку и засмеялась:
— Нет-нет! Только не сейчас…
— Да-да, понимаю! — сказал Стаканский и часто закивал, отчего девушка еще больше развеселилась.
— Каменный гусь! — вспомнила она. — Умора!
— Не теперь так когда-нибудь, — успокаивающе подумал Стаканский, играя сам себе какого-то маститого донжуана… Все это время внутри происходило следующее: по спине самоуверенного молодого человека струился пот, печоринские словечки рождались в мучительной цензуре, он немного любовался девушкой, находя в ней, некрасавице, хотя бы неизбежную прелесть другого пола, и одновременно — до бешенства ненавидел ее: за то, что она некрасива, остра, истерична, да и вообще не та.
Кончилось тем, что ему пришлось провожать ее по ночному городу, возвращаться в Измайлово на мусорке…
Через несколько дней он был приглашен к своей новой возлюбленной на рандеву в общагу и выслушал обстоятельный рассказ о ее недавней роковой любви, на коей она обожглась, чуть не свела счеты с жизнью, приняв смертельную дозу люминала и, для верности, выпрыгнув из окна, но вот беда: она зацепилась за ветки, а яд вывели промыванием.
— Так противно: засовывают в тебя резиновую трубу и продувают, как лягушку! Вспомнить тошно.
Стаканского действительно чуть не стошнило от ее слов, к тому же, от всей этой девушки так дурно пахло, что он украдкой беззвучно пукнул, чтобы хоть поменять запах…
— О-о-о-о! — раскачивала она головой, обняв щеки ладошками, и на сей раз позволила себя умеренно поцеловать, но когда Стаканский нерешительно потянул ее к будуару, выскользнула из рук, как мокрица, которую вечно и безуспешно пытаешься схватить пальцами:
— Нет, не здесь!
Стаканский не то чтобы не понимал, что в таких случаях надо лишь чуть применить силу — он вообще панически боялся насилия, независимо от того, к нему ли оно было направлено или от него. Неужели это все же где-нибудь когда-нибудь произойдет, — думал он, замирая… Анжела в тот вечер так и не появилась, но в последующие встречи Стаканского с его ошибочной Лерой мастерски напоминала о себе: как-то раз Стаканский заметил на столе у Леры ее конспект и увидел острыми буквами высеченную ее фамилию — Анжела Мыльник — другой раз в дверь просунулась смуглая музыкальная рука и часто постучала с внутренней стороны (— Зайди, Анжелка! — Нет, сама выйди на минутку, — низкий, чуть хриплый голос курящей женщины… Лера просунула в щель длинный темнокрасный шарф, то ли возвращая, то ли отдавая в прокат, они недолго пошептались, причем, видна была на полу нечеткая Анжелина тень)
Редкие изнурительные поцелуи, продолжение романа о ее столь несчастной любви, трактат о способах ухода из жизни, похотливое пожирание мороженого, бледноголубая кожа, жалость к себе, к своей девушке, — Стаканский знал, что с окончательным проявлением Анжелы, выполнив свою связующую роль, эта мучительная Лера исчезнет навсегда, что, впрочем, весьма легко сделать — стоит только заменить одну букву ее имени…
Однажды на исходе зимы выпал обильный снег, всем своим видом говорящий, что он последний в этом году. Стаканский вышел из метро и двинулся в общагу пешком, через парк. Вдруг с боковой тропинки свернули чьи-то следы. Нога была маленькой и узкой, отпечатки чуть припорошены. Стаканский присел на корточки и прищурился на след, уже начинавший оплывать: шаг несомненно принадлежал длинноногой и гибкой женщине, так как оси следов расходились под острым углом. Женщина ступала осторожно, высоко поднимая ноги: ее каблук лишь слегка чиркал по нетронутому, прежде чем запечатлеть глубокий турецкий полумесяц.
Стаканский пошел по следам, наступая на каждый отпечаток, обезличивая его. Одета она была в длинное платье или пальто, да, скорее, именно длинная юбка из-под узкого пальто оставляла на белом шелке такой нежный шлейф со стоящими на попа снежинками… Вдруг на снегу показалось алое пятнышко, потом еще, покрупнее, потом, через каждые шесть шагов регулярно повторялась капелька крови. За поворотом появился скомканный окровавленный платок, потом перчатка, стоящая указательным пальцем вверх, Стаканский подобрал и то и другое. В воздухе дважды пахнуло розовыми духами и кровью, внезапно следы, ставшие уже совсем теплыми, четкими, как бы предлагая печатать гипсовые слепки, оборвались. Стаканский растерянно оглянулся и увидел — в снегу под елкой сидящую, ухватившую себя за носки сапожек — Майю.
— Не пойму, что случилось, я, кажется, грохнулась, — весело сказала она, протягивая руку. Стаканский помог ей подняться, проверяя на ощупь ее реальность.
Та же, только старше. Те же насмешливые, никогда не поцелующие губы, глаза, вечно высматривающие что-нибудь вкусненькое на столе, и Nevermore, с детства запавший в душу, будто ты сам написал эту новаторскую поэму.
— Не может быть, — спохватился Стаканский, осознав невозможность ситуации. — Как ты здесь оказалась?
— Наверно, оттуда, — ответила она, прищурившись на верхушку сосны… — Стреляли, — тем временем произнес за спиной невозмутимый Саид.
Некоторое время они шли молча, Стаканский разглядывал замысловатые узлы ее бордового шарфа.
— А ты узнаешь меня? — спросил он, понимая, что попал в гораздо большее завихрение реальности, чем случайная встреча двух старых знакомых.
— Конечно, — сказала Майя. — Ты учишься на пятом курсе, иногда прогуливаешь лабы, сидя на подоконнике, ешь сникерс и болтаешь ногами.
И, чтобы вполне развеять сомнения, бойко представилась:
— Анжела.
Вот так они, наконец, и встретились, слишком банально для романа, слишком неправдоподобно для жизни, где-то посередине, на исходе зимней агонии, когда в воздухе доминирует сырость и могильный червяк уже поет в подвалах старых домов…
Они шли темнобелой аллеей, вечерело, они еще не знали, какую драму им предстоит разыграть в недалеком будущем… Кто и по какому праву делает с нами все это? С интересом, играя глазами, как ребенок над коробкой, где ворочается жук? С равнодушным отвращением? Никак?
Стаканский вдруг почувствовал восхитительную свободу действий и слов, это именно те глаза, подумал он, не отдавая себе отчета, что попался на игре звуков…
А если бы Анжелу звали, скажем, Наташа — тот же приятный стук колес с ударом посередине, то же страстное придыхание гласной — в этом случае, что же, надо было бы переписывать роман заново?
Поглядывая в эти голубые, совершенно чистые, словно у девушки не было затылка и в прорезях просвечивало небо (приходит на ум, несмотря на то, что шел снег, соответственно обеляя небеса) Стаканский спокойно рассказал ей историю о Майе, детской наркомании и раннем своем грехопадении, начиная с «Видишь ли, ее звали Майя, она была…» и кончая «Представь себе, нету больше на свете этой реки.»
Солнышко уже замелькало между деревьями, похожее на огромный мерцающий штабель из телевизоров. Дальнейшее обладало повышенной четкостью изображения, чем и отличалось от сна…
— 1471, — назвала Анжела номер своей комнаты, для конспирации предлагая Стаканскому миновать вахту розно, отчего у молодого человека заныло в паху, и прошла вперед, прелестно закручивая турникет легким движением ноги. Стаканский выждал несколько секунд и проделал то же. Дежурила как раз та омерзительного вида старуха, которая всегда пропускала его, не требуя документа в залог.
Он поднялся на четырнадцатый этаж, в пустом коридоре гудели испорченные люминесцентные лампы, дул мягкий внутренний ветер. Стаканский постучался в семьдесят первую комнату, ответа не последовало, тогда он крутнул ручку и вошел.
Анжела сидела в кресле к нему спиной, уже успев закрыть уши двумя лопухами, погрузившись в эгоистический стереомир. Стаканский присел на край стула и с интересом огляделся. Три кровати, согласно социальному рангу первокурсников, среди книг, между прочим, сборник Цветаевой, на стене неизвестно откуда добытая репродукция Сальвадора Дали, высокой печати прямо в глаза летящие пчелы-тигры. Анжела действительно оказалась женщиной его мечты… Он вслушивался, пытаясь определить природу комара, и «Флойды», жужжавшие в ее наушниках, вполне подтверждали эту мысль. Он сидел, щурясь от удовольствия, и только одна нелепая деталь чуть раздражала его: черная электрическая бритва, разложенная на тумбочке.
Вдруг, вероятно, услышав с обратной стороны Луны, как взгляд гостя гремит стаканами на столе, человек, сидевший в кресле, медленно повернул голову и смерил Стаканского строгим взглядом. Это был незнакомый студент, тучный грузин с гладковыбритыми сизыми щеками. Стаканский пошатнулся на стуле, сделав ладонями дрожащий жест, на тему «а черт меня знает».
— Анже Ламильник? — спросил грузин, выслушав путаные объяснения. — Это наверху, на семнадцатом этаже, прямо напротив Мэлора Сакварелидзе, моего лучшего друга, у него на двери нарисована земляника. Мэлор — это значит Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская Революция. Подожди. Меня зовут Гиви. Ты хочешь вина?
Стаканский не мог устоять перед соблазном выпить в халяву. Для храбрости, решил он в свое оправдание… Он еще не понимал, какую мерзкую яму приготовила ему судьба.
Шторы на окне были густого цвета моренго, они преобразовали комнату в лучистый аквариумный мир, казалось, из-под кровати вот-вот вылетит рыба…
— Саперави, Цинандали, Васисубани? — предлагал Гиви, гремя в шкафу батареей бутылок. От такого количества Стаканский ошалел.
— Киндзмараули, Вакханали, Амонтильяди?
Через несколько минут они подружились, опрокидывая стакан за стаканом — охлажденное светлое, шамбрированное красное, Гиви научил Стаканского дегустировать, вытягивая губы трубочкой и цокая языком, Стаканский был совершенно счастлив, все больше набираясь храбрости, ему казалось, что стоит только войти к Анжеле, решительно ее обнять, нашарить выключатель на стене…
Он так распалился, что, кивнув на фотопортрет Сталина, выглядывавший из-за портьеры, весело спросил:
— А это тебе зачем, тир держишь?
— Что такое «тыр»? — спросил Гиви, улыбаясь.
По мере того как Стаканский объяснял, жестикулируя, Гиви все больше мрачнел, становясь каким-то репчатым, затем отставил стакан и крупно, профессионально ударил Стаканского в нос, мигом отскочив, чтобы тот не забрызгал его кровью. Стаканский, бывший всю жизнь трусливым на драку, зажал нос платком и пошел к двери, выписывая ногами синусоиды боли.
— Стой! — крикнул Гиви. — Я пошутил.
Он огромным прыжком нагнал Стаканского и ухватил за печень.
— Я больше не буду. Сталин мудак.
— Нет-нет! — затряс годовой Стаканский. — Я тороплюсь. Меня девушка ждет. Я хочу в туалет.
— В баночку пописяешь, — прошептал Гиви. Он часто задышал, отдирая пальцы Стаканского от дверной ручки, и Стаканский, наконец, все понял, что и придало ему сил вырваться в коридор.
— Подожди, дорогой… Свояк! — Гиви унижено шел за ним, хватая за полы. — Цоликаури, Эрети, Эякуляти!
Стаканский свернул на лестницу и побежал. Гиви неотступно следовал за ним, гнусаво канюча. Стаканский прогромыхал по ступеням, слыша за собой умоляющий шепот. Он был на две головы выше, этот Гиви, но из-за своей чудовищной полноты с трудом поспевал за ним. Стаканский толкнул тяжелую жестяную дверь и оказался в подвале – зеленоватым светом залитая лестница, ведущая глубоко в землю, была единственной возможной дорогой, и он бросился по ее скользким ступеням, пробив еще одну дверь, оказался в туннеле, где неровно горели разноцветные фонари и поблескивали рельсы. Огромная крыса скользнула меж ног, обдав его зловонным звериным теплом, Стаканский побежал по шпалам, задыхаясь, Гиви грузно двигался за ним… Стаканский, хоть и имел более длинные ноги, был менее вынослив, поэтому расстояние между ними медленно, терпеливо сокращалось. Они пробежали мертвую, слабо освещенную в этот ночной час станцию «Арбатская», в зоне «Площади революции», где горбатые скульптуры с мерзким скрипом шевелили конечностями, они шли шаткой спортивной ходьбой, а под «Курской» – ползли, цепляясь за мокрые стены и осклизлые кабели. Стаканский чувствовал, как Гиви дышит ему в шею, слезы лились из его глаз, вдруг он ясно ощутил себя спящим в собственной кровати: тикали часы и капала на кухне вода – голенький, в трусиках, в маечке – и нет никакого Гиви, но чем отчетливее было это видение, тем гаже было возвратиться в реальность, где Гиви, уже не дыша, но клокоча большим горлом, настиг его, повалил на шпалы и, стеная от наслаждения, изнасиловал.
8
Выбравшись через вентиляционный люк, после полной ночи мрачного блуждания по трубам, мучительной истерики без единого зрителя, поистине героического, гладиаторского сражения с гигантскими крысами, из которого он, к несчастью, вышел победителем, — Стаканский долго мылся в общественном туалете на Николаевском вокзале, сдирая пятна дегтя с локтей и колен. Он приехал в институт часом раньше и ждал Анжелу на лавочке за мусорными ящиками, несколько раз его бросало в какой-то зыбкий, патологический сон, где ненавязчиво менялись времена года, падал снег, падал тополиный пух, наступала незаконная ночь, наконец — сумочкой рисуя в воздухе любопытную радугу — из-за угла выбежала Анжела, остановилась, подняла ножку и через плечо глянула на свой каблук. Стаканский двинулся к ней, улыбаясь. Вместо приветствия девушка молча протянула ему туфельку: почини.
Стаканский извинился, что не зашел вчера, как было указано, стал витиевато объяснять, что ошибся комнатой, долго блуждал, вероятно, перепутал номер… Анжела странно смотрела на него исподлобья, он вдруг подумал, что перед ним другая девушка, всего лишь похожая на ту.
— Анжела, — сказал он.
— Я самая. Уже семнадцать лет с хвостиком. А ты-то кто?
— Ну как же? Вчера…
— Вчера не сегодня. Ах-да, припоминаю! — она весело хлопнула его по плечу. — Забавный тип. Какую-то фигню порол про водокачку… Спасибо, — она бережно приняла подлеченную туфельку.
— Давай встретимся сегодня вечером, — как можно беспечнее проговорил Стаканский, — пойдем куда-нибудь…
— Нет. Сегодня я занята.
— А завтра…
— И завтра. Если девушка говорит, что она занята, значит, она ваще не хочет, понятно?
— Может, ты позвонишь мне, если вдруг, когда-нибудь…
— Нет. Я ненавижу говорить по телефону.
— Все-таки возьми, — Стаканский подал ей визитную карточку отца, где «Борис Николаевич» было художественно переправлено на «Андрей Борисович», Анжела машинально засунула бумажку за лифчик, щелкнула Стаканского по носу и быстро побежала наверх.
Стаканский остался стоять на ступеньках, кто-то шлепнул его по спине, он поднял голову: это был Гиви… В своем новом сером костюме, сером галстуке, с кожаным портфелем, крошечным в его руках, он приглашал Стаканского идти на занятия, деловито постукивая пальцем по циферблату часов… Стаканский замотал головой, пошел прочь, дома лег, не раздеваясь, и сразу уснул, очнулся, вспомнил все и тихо завыл.
Был ранний вечер, в комнате стоял, затхлый солнечный свет. Стаканскому показалось, что она знает, как он провел эту ночь, на него напал знакомый с детства страх, будто бы все вокруг видят его мысли, его сокровенные желания, видят его насквозь, как Родиона Романыча, а он движется в этом коварном мире зеркал, не понимая, что с него уже содрали кожу.
Зазвонил телефон, Стаканский с тоской отметил внезапную дрожь, подумал, что теперь — на долгие недели — обречен уныло ждать ее звонка, жить в постоянной готовности… Отец, возившийся в прихожей на отход, взял трубку.
— Тебя. Прелестный детский голосок.
— Но-но, без комментариев! — подумал Стаканский, и тут как бы все вокруг осыпалось, завалив его по колено обломками: в трубке была Анжела.
— Да вот, решила позвонить, кхе! — сказала она.
— Я в этом не сомневался, Анжела, — высокомерно заявил он, что вышло весьма гнусаво.
— Красивое имечко, — пробормотал отец, уходя.
— Ладно, не задавайся! — ее и вправду детский голосок в трубке, — Меня немного зацепило, вот и все.
— Я ужасно рад, Анжела, — он повторял ее имя, как обычно повторяют — «да, сэр».
— А кто это брал трубку, отец?
— Пахан. Он видишь ли, писатель…
— А мать у тебя есть?
— Нет. Я ее и не помню.
— Так. А у меня наоборот: не было отца.
— Значит, мы чем-то похожи.
— Значит. И ваще — почему ты не пригласишь меня в гости?
— Приезжай хоть сейчас.
— Ну, говори адрес, а то передумаю.
Стаканский продиктовал, объяснив интимные подробности дороги, его охватил настоящий ужас, он подумал, что успеет принять душ, но не успеет прибрать квартиру, да и как одеться, если все грязное, и нету в доме ни капли вина — неужели это произойдет именно сегодня… Он увидел в ванной кучу носков и трусов, своих и отцовских, спрятал в бачок, достал из потайного ящика ксерокс Бродского, небрежно положил на ночную тумбочку: будем говорить… Вдруг на него глянула грудастая, с похотливым изгибом женщина, он сорвал плакат со стены, засунул под кровать, но, подумав, перепрятал в стол, в этот момент раздался звонок, он открыл дверь, придав лицу безразличное выражение, и увидел девочку с ободранными коленками, какую-то странную, коленастую девочку-кузнечик, она заученным тоном спросила макулатуру, но за ее спиной лязгнул лифт и, приветственно размахивая рукой, вышла веселая Анжела.
Стаканский принялся неловко снимать с нее шубку, бормоча, подобным светским жестам его никто так и не научил. Анжела нервно дернула плечом.
— Наизнанку, — сказала она. — Рубашечка, батенька, наизнанку-с! Бить тебя сегодня будут, малыш, поди-ка лучше переоденься.
Стаканский не стал переворачивать рубашку, а надел новую, с петушками на белом поле, думая, что так будет смешно, но Анжела даже и не заметила, она прогуливалась, по-хозяйски осматривая вещи, вдруг влезла в отцовский шкаф, двумя пальцами вытащила на свет его голубые зимние кальсоны, послушала, как шумит стромбус, сделала раковиной круговое движение, мультипликационно побрившись.
— У меня такое чувство, будто я уже была здесь, — задумчиво проговорила она, перекладывая на столе листы отцовской рукописи. — Банальное, впрочем, чувство, дежавю называется… «Ка-мен-ный-гусь» — прочитала она по складам. — Это что за порода такая?
— Роман так называется, — замахал руками Стаканский, неловко изображая крылья.
— М-да. Сам ты — каменный гусь.
Стаканский терпеливо ждал, когда наступит момент его триумфа, но вышла заминка: попав в «мастерскую», Анжела первым делом рассмотрела карту Парижа на стене, удивилась классическому Цейсовскому биноклю, через который Стаканский изучал даль на пленэре, и лишь потом, оглядевшись, заметила картины.
— Ты еще и рисуешь, — фыркнула она, ногтем проверив качество холста.
— Пустяки, — засмеялся Стаканский. — Мажу потихоньку.
— Оно и видно, что пустяки… Забавная семейка. Ну и? Будем мы что-нибудь пить? Кстати, куда это делся пахан?
— Он на эту… На студию, — предательски осклабился Стаканский, чувствуя, что через несколько минут уже не сможет выдавить ни единого слова.
— Ладно, я сама сварю, — сказала Анжела, вильнув попкой. — Отвори-ка мою сумку — ахнешь!
Стаканский открыл ее нежнейшую прохладную сумочку и вправду — театрально ахнул: среди интимных тюбиков и флакончиков темным гранатом внутри плеснула — бутылка вина.
Вскоре глаза Анжелы заблестели, Стаканский, чувствуя в груди ободряющее винное тепло, заговорил об искусстве, о Ван-Гоге, о собственном Божьем даре… Анжела небрежно глянула на часы.
— Гавно это все… — вздохнула она, и Стаканский вдруг ошарашенно подумал: да знает она — и о бабуле, и о Майе, мальчиках, более того — Майя она и есть…
— Давно это все… — томно вздохнула Анжела, — Известно… Ты бы сварил мне что-нибудь новенькое, крепкое…
Стаканский осмелел, встал, прошелся с бокалом по кухне, прицелился на ее гладкую, удивительно выгнутую спину и, зажмурясь, опустил руку ей на плечо. Анжела вскочила.
— В чем дело? — «в» она произнесла как «ф», запахло чем-то уголовным… Стаканский, решив, что отступать поздно, неловко сгреб девушку в охапку и стал целовать, Анжела отпрянула и залепила ему крепкую пощечину.
— Идиот. Я вовсе не это имела… Дай-ка мне одеться.
Он двинулся за ней по коридору, тускло мыча. В этот миг раздался бодрый хруст ключей, и в дверь ввалился отец — весь мокрый, пахнущий весной. Анжела, почему-то испугавшись, пробежала обратно на кухню. Стаканский был благодарен такому сплетению событий.
— Вина бухнешь?
— Отнюдь, — сказал отец, потирая ладонями.
Анжела сидела, скрестив руки на груди и нервно болтала ногой. Она все еще переживала внезапный натиск мужчины.
— Вот познакомься, это…
— Клава, — быстро сказала она. Стаканский улыбчиво кивнул, делая вид, что рад такой остроумной шутке.
— Боря, — сказал отец, оценивающе осматривая бутылку на столе.
Стаканский налил, и все трое выпили. Отец взял с тарелки самый большой бутерброд и откусил сразу половину.
— Ужас хочется есть, — пояснил он с полным ртом.
— Я тоже ужас как люблю поесть, — сказала Анжела, схватила бутерброд и куснула, испустив звериное рычание.
— Девушкам это полезно, весьма… — отец понимающе закивал ей, вдруг улыбка застыла на его лице, глаза стали медленно вылезать из орбит.
— Что вы! — оживляясь, продолжала Анжела. — Я, бывает, съедаю целые горы бутербродов, такой на меня нападает жор, свиняк, я не могу остановиться, на пузе можно играть, как на церковном барабане… Что с вами? Эй!
Отец медленно кренился на бок, превращаясь в какого-то пучеглазого рыбного человека, изо рта повалили пережеванные куски хлеба и колбасы, Стаканский кинулся к нему, но тут надломилась, словно была подпилена, ножка табуретки, и оба рухнули на пол.
– Боже! – Анжела хлопнула себя по щеке, будто убивая комара.
9
«Скорая помощь» прибыла минут через сорок, Стаканский трижды звонил, и развратный старческий голос безразлично отвечал: «Едуть», Анжела, вся в слезах, обтирала лицо отца мокрыми полотенцами, санитар споткнулся в дверях, он был вдребезги пьян, другой держался лучше, но от него густо несло перегаром, молоденькая докторисса виляла ягодицами, откровенно смотрела на Стаканского, говоря глазами: я лучше, чем эта твоя, и будь сейчас другие обстоятельства… Вдруг все исчезло, словно кончился фильм — отца увезли, и они остались вдвоем, на той же кухне, вернувшись к остывшему кофе.
— Метро уже выключили, — сказал Стаканский.
— Дай мне бабок на тачку.
— Понимаешь, у меня, к сожаленью… — он врал, конечно.
— Придется остаться, — вздохнула Анжела. — Есть чистое полотенце?
Он дал ей махровое, огромное, Анжела закуталась, как в сари и, морщась от боли, расчесала перед зеркалом волосы.
— Шо ты на меня так смотришь? Я сейчас лягу.
— Со мной?
— Ага. Именно сегодня, кретин, — она томно потянулась, показав небритые подмышки. — Я, между прочим, не говорю тебе ни «да» ни «нет». Но не вздумай доставать меня сейчас.
Стаканский слышал, как Анжела легла и выключила свет. Время остановилось. Стаканский лежал, скрестив руки на груди, и умолял кого-то, чтобы тот послал ему сон, но Он как назло напускал все более ясное ощущение мира, Он смеялся, кокетничал, скакал, сверкая глазами, на карнизе… Всего лишь в нескольких сантиметрах бумаги и алебастра, за тонкой стеной — Стаканский слышал дыхание и сонные стоны женщины, далее слышал скрипучий полз последнего лифта по шахте, слышал устойчивый кап воды в ванной… Ему сильно хотелось пить, он прошлепал на кухню, попил и подумал о сверчке за холодильником, сунул туда щетку, вдруг выбежала и метнулась под батарею мышь, он беззвучно приоткрыл дверь отцовской комнаты, Анжела ровно спала, Стаканский сел на пол, осторожно приподнял край простыни и увидел ее грудь, тепло разлилось в паху, он коснулся языком ее крупного соска, женщина потянулась во сне и задышала чаще, Стаканский влез на кровать, Анжела сонно обняла его ногами, вероятно, принимая за другого, но ему уже было все равно, в паху завертелась шаровая молния, я знала, знала, что ты придешь, но тут все объяснилось, хотя можно было догадаться и раньше, когда появились сверчок и мышь: в комнату вошел Гиви и значительно поставил на стол банку вазелина, крышка приоткрылась и вазелин сверкнул в щелочке маленькими острыми глазами, солнце залило комнату, Стаканский вспомнил, что во сне на месте Анжелы была та, с торчащими ягодицами, докторисса, постель была липкой, около часа он ходил на цыпочках, чтобы не разбудить девушку, затем его стало беспокоить какое-то несоответствие деталей, например, не было в прихожей Анжелиных сапожек, он тихо приоткрыл отцовскую дверь: кровать была аккуратно застелена, пуста, все часы в доме встали без пятнадцати два, он позвонил и узнал время — без пятнадцати девять — он набрал номер больницы и ему, после долгого шелеста бумаги, сказали, что отцу уже немного лучше.
Больница производила впечатление сложного, разветвленного общественного туалета, Стаканский не хотел видеть отца, смерть прошла между ними и просто заглянула в глаза, ему было стыдно и больно, что отец умрет, а он будет жить на Земле десятки лет потом, и отныне его улыбка станет фальшивой, и отец увидит его мысли.
Двигаясь по темному коридору, переполненному кроватями, где стонали и метались бледные старики, когда-то так любившие жить, Стаканский изнывал от скорби и ненависти, а через тридцать три года, в госпитале на окраине Вероны, в небольшой палате, полной света и воздуха, он сам умирал под морфием, и нестерпимо чесались руки, и его рыжая красавица-дочь, быстроногая наследница Анжелы, тридцатилетняя увядающая женщина, стыдливо гладила его седые волосы, приговаривая: ничего, ничего, папенька, да, я лгу, я бессовестно лгу, никто не сможет спасти тебя, никто, никогда, не… Замечательный прием для романа — строчный прыжок через целую жизнь, библейская ассоциация, какая пошлость, известный художник умирает в эмиграции, проклиная Родину, и причем тут госпиталь, какая тогда будет война? — Стаканский свернул за угол, в неожиданно солнечный коридор, и увидел впереди хорошенькую медсестру, чем-то похожую на Анжелу и, приблизившись, понял, что это Анжела и есть — в белом халате напрокат… Казалось, ей будет к лицу любая одежда, даже милицейская форма.
— Маленький инфаркт, — сказала она, как всегда, не тратя времени на приветствие, словно в бестселлере Чейза, — Он тебя ждет. У тебя прекрасный пахан, ты его не ценишь. Мы очень разнузданно поболтали. Проводи меня чуть.
Он вывел ее на улицу, его неприятно поразило, что она пришла, как своя, как сестра, впрочем, это было вполне естественно — ведь она росла без отца, он подумал, что совсем еще не знает ее, видит в ней только женщину и обещание счастья, ее эротическое сияние… На крылечке он чмокнул ее в щеку, совсем уж будто родную.
— Я позвоню.
Он долго смотрел ей вслед, фантазируя. Его голова поднялась высоко в воздух, на тонкой жилистой нити мечтательно покачиваясь среди крыш, вдруг он понял: что-то не так… Ах да! Анжела! Ты забыла оставить казенный халат, Анжелика! — но она уже не слышала, из живой, источавшей тепло женщины превратившись в далекую белую моль.
Отец был бледен. На тумбочке в бутылке из-под молока цвела крупная алая роза, символизирующая Анжелу.
— Хорошая у тебя подружка, добрая, — проговорил отец.
— Было бы странно, если б я выбрал плохую и злую, — парировал Стаканский, мельком подумав, что может быть и в эти годы заглядываются на девушек.
— Да-а, — протянул отец, устраивая голову на ладонях. — Вот и меня кондратий хватил…
— Я вас слушаю, — вдруг высунулась с верхней кровати чья-то полуседая, полулысая голова.
— Кондрат Михайлов, известный театральный критик, — сказал отец. — Недавно написал блестящую статью о балете «Чевенгур».
— Полноте, Марк Спиридонович, это лишь маленький кирпичик в фундаменте мироздания.
— Марк Спиридонович? — почтительно прошептал Стаканский.
— Да, будьте любезны, — послышался звонкий голос с кровати у окна.
— Старик глуховат, — пояснил отец. — Как видишь, я тут уже основательно обжился. Это, сам понимаешь, Марк Норштейн, известный политолог, депутат Государственной Думы, — пояснил он в скобках.
Палата была густо заселена пожилыми мужчинами, это все были писатели, с особыми, только писателям присущими лицами — таинственная матовая бледность, красивая искрометная седина… У каждого был маленький блокнотик, и они быстро-быстро писали, иногда посматривая в потолок, и у отца был блокнотик и такая же, как у всех, рублевая шариковая ручка, и поэтому становилось его еще более жалко…
Они поговорили о делах: что надо принести, кому позвонить, сколько продержат.
— Ты понимаешь, — сказал Стаканский, — ведь это случилось с тобой сразу после стакана вина!
— Что ж, оказывается, вредно пить его залпом, натощак… Интересно, если бы я вчера помер, что бы вы все здесь делали? Представляешь, как удивился бы автор романа, обнаружь он утром, что один из героев исчез, причем, на самом интересном месте, в начале новой увлекательной истории… Черт подери! А ведь кто-то действительно пишет этот мучительный роман…
— Вы неисправимый идеалист, — сказал невидимый больной с верхнего яруса.
— Василий Митрофанович Белов, — представил отец. — У него поразительно мелкий почерк, просто бисерный.
— Великий писатель, — прошептал Стаканский, потрясенный таким соседством.
— Есть масса возможных толкований действительной жизни, коллега, поскольку мир дан нам в ощущениях, не более, — проговорил отец и, будто иллюстрируя, проверил вещественность лепестка розы.
— Cogito ergo sum, как сказал Платон, — сказал Белов, и Стаканский увидел его руку, удивительно мягкую и белую, жестом захвата пояснившую мысль над краем кровати.
— Вовсе необязательно, что мы существуем, а мыслим совсем даже и не мы, а клетки его мозга, более того, я начинаю сомневаться, что все это, — отец нарисовал в воздухе обобщающий круг, — мыслительный процесс писателя, скорее, наш мир — результат невнимательного прочтения какой-то книги…
— Nulla dies cine linea, — белая рука отмерила в пространстве короткую убедительную черту.
— Увы, это вполне может быть так, по крайней мере, никто не докажет обратного. Вот он сидит, с похмелья, читает в общем-то сносную книгу, но в его мозгу, полном всяческих ассоциаций, текст причудливо преображается: рушатся мотивировки, теряются эпизоды, персонажи, громоздятся нелепости, et caetera…
— А книга-то была неплохой, — мечтательно произнес Стаканский.
Отец, просияв, поднял палец, хотел что-то сказать, но тут общий разговор опять прервался, так как один из больных вдруг протяжно закричал, забился в своей кровати, вошли санитары и, связав несчастного простыней, бодро понесли на укол. Впечатление было тягостным, жители палаты глубоко замолчали, было слышно, как в ординаторской ритмично скрипит кушетка, стонет под натиском практиканта-доктора юная медсестра…
— Ты когда-нибудь сам напишешь эту книгу, — прошептал Стаканский с неуместным жаром. — Все перепишешь набело, по-другому. Ты просто обязан преодолеть эту трагическую прелесть нашего бытия…
— Бог с тобою, — проговорил отец после долгой паузы. — Иди.
10
В те дни, когда он страдал в больнице, между молодыми людьми развивался бурный, мучительный роман.
Анжела была на редкость капризной, она играла в принцессу, что не всегда у нее выходило гладко, но и это нравилось, как и любой ее недостаток, к примеру — ожоговые шрамы на правой ладони, которые сами по себе могли бы привести в ужас, но в контексте Анжелы эта «черточка» казалась трогательной, даже сексуальной, и была единственным местом, куда позволялось целовать. Анжела рассказывала, что поймала метеорный камень, серьезно предъявляя какой-то бурый кусок угольного шлака, каким обычно посыпали дорожки в поселке НКВД. Они действительно иногда падали с неба, если вылетали, увлеченные потоком газа, через трубу котельной.
— Существует много иноземных гостей, — говорила Анжела, рисуя кончиком пальца, словно острием карандаша, различные очертания в воздухе. — Иначе, как же они будут следить за нами — с тарелок? И что они увидят, кроме городов с высоты, широких площадей, всяких муравьев на улицах и набережных?.. Нет, они живут среди нас, вступают с нами в удивительные отношения…
Стаканский был человеком соответствия, он мог грубить только самым близким людям, поэтому он с круглыми глазами, как внимательный студент, слушал ее вдохновенные речи. Он и сам увлекался иными мирами, даже написал серию фотореалистических пейзажей удивительной планеты, с гигантской, стовосьмидесятиградусной луной, с гладкокожими животными и островерхими развалинами, которые возвела нечеловеческая рука, но он ни секунды не сомневался, что все это лишь порождение его мозга, плоды его личного мастерства.
— Вот видишь, видишь! — Анжела с горящими глазами тыкала в холсты. — Это говорит в тебе память, это просыпается он, гость… Погоди, тебе тоже откроется это, он постепенно завладеет всем твоим существом и от тебя останется одна лишь земная оболочка, ты будешь работать на высший разум, передавать ему информацию…
— Информацию, — повторил Стаканский, думая о жестяной двери в подвале, о Короле из первого отдела, о его Белой Голове…
Вдруг ей хотелось мороженого, или пива, или мороженого с пивом, и она заставляла его лезть без очереди, как это делают настоящие мужчины — в Ялте, в Москве, да и вообще на планете — и смотрела со стороны, как он неумело втирается, и очередь заклевывает его. В субботу в кафе она обратила внимание на какого-то бородача с чашкой кофе: нет, невозможно, почему он на меня так вылупился, достал совсем, иди, разберись, — Стаканский подошел на дрожащих ногах, внятно проговорил что-то по фене, бородач смерил его взглядом, но вскоре и вправду ушел, Стаканский победил, он был счастлив, что выдержал и такое испытание, казалось, Анжела немного зауважала его, она никогда не узнает, что спустя минуту, как кавалер посадил ее в троллейбус, из ближайшего парадного вышли трое рослых бородатых людей и долго, издевательски били Стаканского под проливным дождем, стараясь попасть ему в пах. Зато каким триумфом было на другой день рассказать ей, оправдывая синяки, в нескольких скупых фразах тщательно придуманную героическую историю, в которой не нашлось места ни жалобным крикам «Не надо!» — ни стоянию на коленях среди кустов, когда трое, смеясь, мочились ему на голову.
Он пригласил ее в «Кинотеатр повторного фильма», на одну из скучных и красивых картин, которые в те годы было принято по нескольку раз смотреть и долго обсуждать за табль-дотом… В самый звездный момент он нашарил ее руку, Анжела быстро встала и пошла к выходу, — Не прикасайся ко мне, не смей меня трогать, пока я тебе не разрешу, — так сладко было это огромное «пока»…
Ускользая, она оставляла обещание, непомерно раздувая его любовь, каждое ее движение обжигало его, раскручивало мучительное желание, однажды, когда она полезла под кровать, ища убежавшие тапки, и показала ему смуглые ляжки с розовой кромкой трусиков, он слишком громко задышал, слишком густо покраснел, чувствуя, как горячо влажнеет живот.
— У тебя что-то болит? — подозрительно спросила Анжела, видно, опасаясь, не заразный ли он…
Их разговоры вертелись, в основном, вокруг болезни отца, да и дела ограничивались походами в больницу, поисками вкусной снеди. Ее доброта и заботливость восхищали Стаканского, правда, он порой ревновал ее — так, чисто по-сыновнему — потому что Анжела, казалось, была гораздо больше обеспокоена болезнью отца, чем он сам.
— Ты знаешь, — тревожно говорила она, — ему вчера поставили какую-то архисовременную клизму, и сегодняшний стул…
Он торжественно вручил Анжеле одну из рукописей отца, его, пожалуй, самую нежную и добрую книгу. Стаканский любил ее больше других, хотя ее качество оставляло желать лучшего… Показательным было то, что отец писал ее в год его рождения и, возможно, нося на руках ребенка, вынашивал и эти гуманистические строки.
Роман назывался «Мрачная игра», и был действительно игрой весьма мрачной — с читателем, с реальностью, с самим собой… Он мимикрировал под обычный бульварный роман — и острым сюжетом, и особыми изысками языка; его можно было, скучая, прочитать за вечер, прочитать и забыть, скользнув, будто жук-водомерка, по самой глади, но это лишь в том случае, если ты сам не имеешь веса, чтобы преодолеть силу поверхностного натяжения.
Там, в глубине, открывался удивительный подводный мир, населенный разнообразными рыбами, впрочем, читая роман отца, Стаканский порой сомневался, стоит ли учиться на аквалангиста, чтобы добывать этот бисер… Стаканского раздражало, что роман был почти полностью сплетен из цитат, обрывков стихотворений, известных и не очень, чужих искаженных мыслей, всяческих перифразов, реминисценции и аллюзий… Роман был бездарен, утомителен, загроможден чем ни попадя, и будучи ассоциативно замкнут сам на себя, читался с невероятным трудом. Автору постоянно изменяло чувство вкуса: казалось, что подтягиваясь на ручонках, он высовывает из-за букв свою маленькую голову и кричит: Посмотрите на меня! Это же я — это я!
Молодой человек возвращается из тюрьмы и ищет свою возлюбленную. Несколько лет назад они расстались — внезапно, на полуслове — ее чистый образ спасал его долгие годы, проведенные в аду.
Эта девушка была ортодоксальной христианкой, она не позволяла даже прикоснуться к своей руке, их любовь звучала мучительно, надрывно, и должна была кончится свадьбой, венцом, но случилось чудовищное недоразумение — герой оказался в тюрьме.
Вернувшись, он узнает, что девушка умерла, погибла в пожаре, но что-то в этой истории не так — труп сильно обгорел и полное опознание невозможно, да и поверить в ее смерть герой просто не может…
И он ищет ее — живую. И, разумеется, находит. И убивает, совершив попутно еще несколько жестоких бессмысленных убийств.
Мир, как выяснилось, был устроен совсем не так, как он представлял себе раньше. Не было этой великой любви, ради которой стоит и в тюрьму сесть, и вены себе разрезать. Не было никакой недотроги, христианки, мечтающей о венце…
Была шлюха. Женатый молодой человек, имея любовницу, испытывает естественные затруднения с временем и местом встреч. Пара разрабатывает хитроумный план, согласно которому, любовница подсовывается его другу (именуемым в романе Ганышевым или “Я”) и блестяще исполняет роль небесной возлюбленной, ортодоксальной христианки, недотроги и т. п. Введя таким образом в заблуждение несчастного “Я”, она беспрепятственно входит в круг общения своего любовника, знакомится с его женой, даже поселяется на подмосковной даче, где живет вся компания. В конце концов друг, не без помощи «возлюбленной» упекает несчастного Ганышева в тюрьму.
В принципе, вся эта фабула не важна, как не важна и фантастическая линия романа, в которой Ганышев, вернувшись на волю, наблюдает какой-то измененный, едва знакомый ему мир…
“Мрачная игра” — своеобразный хамелеон, мимикрирующий под боевик, мелодраму и т. п., старающийся скрыть свою истинную сущность, словом, игра действительно довольно мрачная.
Главный герой, некто Ганышев, программист, писавший стихи, нечаянно угодивший в тюрьму, является ничем иным, как современным воплощением второго пришествия, но в отличие от предыдущего Христа, этот и не догадывается, кто он есть на самом деле. Он как бы задерживается в развитии, и того открытия, которое прежний Христос делает еще в семилетнем возрасте, Ганышев достигает лишь к тридцати пяти годам. Это вполне естественно: каков нынче мир, таков нынче и Бог…
Две еретические мысли последовательно развиваются в романе, одна — о том, что никакого Дьявола не существует, и все проявления зла в мире являются промыслом Божьим, другая — о том, что творение мира происходит постоянно, что Бог — это сущность изменяемая, и сущность, изменившаяся не в лучшую сторону за последние две тысячи лет.
Лишь к концу романа этот истерзанный, смертельно уставший персонаж понимает, Кто Он есть на самом деле, и совсем уже под занавес принимает решение выстроить на Земле новый мир, исправив Свои предыдущие ошибки…
11
— Занимательная, трагическая и трогательная книга, — твердо произнесла Анжела, будто высказывая продуманное, давно сформулированное мнение. — Ты знаешь, прочитав это, я стала выбирать сны по желанию. Что захочу, то и смотрю, будто купила билет.
— Ну да! — горячо согласился Стаканский. — По-моему, она для того и написана, чтобы научить, как надо уйти. А что ты, собственно…
— Секрет. Это мои личные сны. Я увидела жизнь человека, который писал книги — с начала и до конца, вместе с его книгами. Было ужасно интересно: мне открылась его гадкая, отвратительная душа…
— Уж не о нем ли? — Стаканский кивнул на папку.
— Вот какого ты мнения, сынок! Нет. Я прокрутила Лермонтова — очень его люблю.
— Между прочим, существует продолжение «Мрачной игры», я видел его черновики. Следующий роман, “Рождение божества”, рассказывает о дальнейшей судьбе этого существа, о деятельности живого Бога на Земле.
Представь себе некое “Я”, которое учится быть богом, что дается ему с трудом. «Я» осваивается среди людей, пытается найти способы переустройства мира, всюду натыкаясь на сотворенное им же зло.
Выясняется, что он может иногда читать мысли людей, может создавать небольшие предметы, управлять вращением рулетки и т. п., но какие-то радикальные действия ему пока недоступны. Сила его, однако, постоянно растет. Так однажды, добывая деньги на пропитание единственным доступным ему способом — игрой в казино, он открывает, что физико-математическая сущность управления барабаном рулетки — разрыв во времени. Вскоре он понимает, что может путешествовать в прошлое или, точнее, отбрасывать в прошлое некогда сотворенную им Вселенную, что, в сущности, одно и то же.
Бог, живущий в этом существе, еще слаб, на первых порах его одолевает Человек. Ганышеву больше всего на свете хочется не прекратить войну в Чечне, не сдернуть с истории завиток русской революции, или, на худой конец, обводнить Сахару — ему хочется всего лишь вернуть Марину, ту девушку, которую он застрелил в романе “Мрачная игра”.
Интересно, что персонаж, действующий во втором романе, является не только героем первого, но и его автором. Текст “Мрачной игры” написан этим Ганышевым номер два, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это и комментарии к первому роману, включенные во второй, это и некоторый перифраз событий, настоящей действительности, которая была несколько иной, чем действительность “Мрачной игры”…
Марина, возлюбленная героя, в том виде, в котором она существовала — лживая, похотливая, гиперсексуальная мулатка, в итоге становящаяся профессиональной проституткой — не устраивает Ганышева. Он хочет создать из нее идеальный образ любимой женщины, вероятно, потому, что моногамен и обладает патологическим постоянством характера, что в нем, конечно, от Бога…
С этой целью он и устремляется в прошлое.
Действие переносится в семидесятые, шестидесятые, пятидесятые годы, герой претерпевает различные приключения.
Так, например, несколько лет он проводит в марокканской тюрьме, в пятидесятых годах, а в семидесятых, в СССР, учится в университете, тогда же переходит советско-финскую границу, и в 56-м, превратившись в негра (уже научился, значит, даже менять облик — эдаким внезапным и резким тычком головы) вместе с другими неграми, шлепая ладонями по там-таму, отправляется в Москву на фестиваль.
Ему приходится мотаться во времени туда-сюда несколько раз, дважды и трижды проходя одни и те же события, чтобы в прошлом изменить им же испорченное будущее… Лейтмотивом этого запутанного странствия звучит стремление попасть на живой концерт Beatles, но затея не удается, словно в каком-то повторяющемся сне…
Вся беда его, конечно, в том, что, овладев перемещением во времени, он еще не научился столь же легко перемещаться в пространстве, и ходить да ездить приходится Ганышеву как обычному человеку.
В конце концов он встречается со своей воссозданной возлюбленной — в нашем времени. Ему также удается кое-как подправить окружающий мир.
Разумеется, все, связанное в романе со вторым пришествием, с Христом, Его воплощением в Ганышеве оказывается иллюзией, как иллюзорна сама мысль о непричастности дьявола к мировому злу. Образ “Я-Христа” отец выстраивает и разрушает в самом тексте романа “Рождение божества”, подобно тому, как в “Мрачной игре” выстраивает и разрушает образ Марины.
Философская мысль «Я» развивается следующим образом. Предположив еще в конце «Мрачной игры», что он является Иисусом Христом, и основав свое предположение лишь на своей способности видеть будущее, «Я» искренне верит в это, но в «Рождении божества» его вера начинает колебаться: «Я» вспоминает христианскую идею о том, что, благодаря своей гордыне, Люцифер может обманываться, считая себя Богом. Думая о своих поступках, «Я» понимает, что творит, скорее, зло, нежели добро, и мысль о том, что он является не Богом, а Дьяволом, потрясает его…
В действительности все оказывается гораздо проще…
С самых первых страниц я замечаю за собой чью-то слежку. За мной охотится некая банда, предводитель которой хочет допытаться, каким образом мне удается все время выигрывать в своих ночных похождениях по московским казино. Надо сказать, что алчность временно замутняет мой разум и от скромных заработков на пропитание и содержание утлой комнатенки на Арбате я перехожу к настоящему выковыванию денег на разнообразных играх, от рулетки до баккары. Я покупаю себе автомобиль, гараж-ракушку, меняю жилище, веду роскошный образ жизни.
В семидесятых годах, когда я становлюсь студентом МГУ, чтобы познакомиться с матерью Марины, отпугнуть от нее марокканского негра и самому стать отцом своей будущей возлюбленной, я замечаю за собой слежку тогдашнего КГБ.
Когда негр все-таки выиграл поединок за молодую женщину и под воображаемые звуки там-тамов Марина все же была зачата, я устремляюсь в Марокко 56-го года, чтобы помешать рождению негра, но, по несчастной случайности — неожиданно и внезапно — способствую этому рождению и под звуки там-тамов сам становлюсь его отцом. Слежка и ловитва, однако, продолжаются: на сей раз это — полиция Марракеша, справедливо разоблачившая меня как фальшивомонетчика (я действительно не могу создавать в прошлом настоящие деньги, так как уже убедился, к каким непредсказуемым последствиям это приводит в будущем…)
И так далее. Постепенно я догадываюсь, что все эти преследования имеют под собой одну и ту же причину. Кто-то пристально следит за мной во времени, принимая облик различных удобоваримых сущностей.
В конце романа выясняется, что на хвосте сидят представители племени Ямбов, которое несколько тысячелетий назад обосновалось на Земле и к которому я, оказывается, принадлежу по крови.
Итак, никакой я не Бог, никакой не Дьявол, и весь этот ложный путь был лишь иллюзией, культивировавшейся на страницах романа. Да и само существование Бога-Создателя так и остается тайной, какой оно и является в нашей настоящей жизни.
Ямбы не создавали Землю. Они обладают известным могуществом, но вещество Вселенной десять миллиардов лет назад было создано Кем-то Другим…
Итак, с манией величия покончено, хотя, будучи Ямбом, я все же умудрился кое-что изменить в современном мире — так, по мелочам. Мне удалось предотвратить третью мировую войну (между христианской и мусульманской цивилизациями) вернуть к жизни Beatles (в финале мы с Мариной все же идем на концерт в Лужники, где состарившиеся Джон, Поль, Джордж и Ринго под восторженные вопли исполняют как старые хиты, так и новые песни) но главное — мне все же удалось реанимировать Марину, создать этот недостижимый образ небесной возлюбленной в реальной жизни — по своему образу и подобию.
“Рождение божества” — роман сюжетный, глагольный, приключенческий. Особенность текста заключается в том, что отец пишет его одновременно от первого и от третьего лица, но это не является постмодернистской штучкой, а имеет четкую мотивацию. Герой романа слышит мысли окружающих людей, видит их биографии, именно это и позволяет свободно перетекать от Я к ОН и обратно. Как и “Мрачная игра”, роман несет в себе множество плохо и хорошо замаскированных цитат, но, в отличие от первого романа, цитаты и ассоциации преимущественно библейские. Лейтмотивом по-прежнему остается музыка Beatles, правда главным героем встроенного трактата является уже не экзальтированный, непредсказуемый наркоман Леннон, а мудрый, просветленный, осененный индийскими благовониями наркоман Харрисон. Знаешь, почти в каждом романе отца присутствуют наркотики. Он объясняет это тем, что честный писатель никак не может умолчать об этой самой грозной реалии двадцатого века…
Разумеется, роман не лишен иронии, своеобразного юмора и так называемого стёба, который, впрочем, проверен и на то, чтобы его искренно принимали за чистую монету. Мне кажется, что в литературе должно быть что-то такое весеннее, первоапрельское…
Отец вообще пишет странно, глубоко. Он разрывает цельную фразу, имевшую некогда смысл, и вставляет в нее другую, отдельную, и в этот момент она теряет свое значение, смешивается с первой, и тут рождается третья, совершенно новая фраза.
То же самое он делает и с романом. Так, «Мрачная игра» первоначально сшита из трех разных романов. Затем в нее вплетено несколько отдельных трактатов. И, наконец, все это, как белой ниткой, прошито основной идеей.
Или взять, к примеру этот роман… Ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду, когда говорю этот роман?
— Кстати, — сказала Анжела, которая последние минуты вроде и не слушала разговорившегося Стаканского, — отца выписывают через два дня.
— Очень жаль…
— Что-о?
— Я хотел сказать, — Стаканский вдруг нащупал удивительную, волнующую мысль. — Ведь у меня завтра именины! — весело соврал он. — Будут друзья — художники, скульпторы, придешь? — сердце его отвратительно забилось: в голове как бы из стеклистых палочек выстроилась надежная ловушка.
Анжела, помедлив, обещала, и Стаканский на радостях чмокнул ее в верхнюю губу, за что тут же получил звонкий гонорар, но не сильно, скорее, как-то ложно, шутя…
План был кристально прост: гости задержаться, а потом и вовсе не придут, наверно, перепутали числа, как в Библии, и мы начнем пировать вдвоем, ведь все уже приготовлено, затем, если недостаточно будет просто вина, мы предложим попробовать замечательной афганской дряни, выросшей на полях сражений, а если девочка откажется или дрянь не зацепит — применим набоковско-бериевский прием: таблетка клофелина вкупе с вином гарантировано завершит процесс…
Проснувшись наутро и увидев себя обнаженной рядом с обнаженным мужчиной, Анжела ахнула и в ужасе натянула одеяло на грудь. Было? Неужели было? — прошептала она в растерянности. — Какая дрянь! Я ничего не помню. — Ты сама предложила, — сказал Стаканский, закуривая. — Сама затащила в постель. — Анжела села, одеяло сползло, обнажив смуглую грудь с розовым, нет, темновишневым соском, — продолжал фантазировать Стаканский, очищая картофелину… Три вида салата уже были готовы. Мясо томилось в утятнице. Бутылка коньяка, бутылка водки, две бутылки вина, крепленого и сухого, плюс, на всякий случай, четвертинка водки — на это ушла вся его стипендия. Не забыть еще и соблазнительный натюрморт экзотических фруктов посреди стола, и розу в бокале. Сидя в ванне, Стаканский похотливо разглядывал собственное тело, не веря, что через несколько часов оно будет обладать женщиной.
Зазвонил телефон.
— Я не смогу приехать, — сказала Анжела.
Мгновение — и вокруг его черепа, словно какая-то планетная система, закружилось несколько круглых хохочущих лиц.
— Почему? — только и сумел выдавить он.
— Потому что. Дело в том, что сегодня приходит Андж.
— Какой еще Андж? Когда приходит Андж? Куда?
— Ко мне, идиот! Да и ваще, забудь меня на несколько дней. После расскажу. Андж — это мой жених.
Стаканский вдруг увидел в зеркале, каким неприятным стало его лицо, как противна его светлоголубая рубашечка.
— Неужели? — тускло выдавил он, стараясь придать своему голосу жесткость. — Ты мне никогда… — в этот момент кто-то позвонил в дверь. — Одну секунду! Не бросай трубку, тут пришли… Похоже, уже собираются гости.
Какие еще к чертовой матери гости?
Стаканский кинулся открывать, он настолько был ошарашен, раздавлен (задним планом прошло: как же натрескаюсь я сегодня, один!) что не смог полностью воспринять происшедшее в следующие секунды.
Он увидел незнакомого человека, огромного, за два метра ростом, тот без приглашения вошел и сразу сильно ударил Стаканского в челюсть.
— Ограбление! — успел подумать он, падая в нокаут.
Вероятно, несколько мгновений его не было, очнувшись, он увидел квартиру почти с горизонта пола, поначалу она показалась ему чужой, тем более, что какой-то неправдоподобно большой человек с телефоном под мышкой расхаживал по ковру.
— Ах это ты… — говорил он. — Откуда звонишь? Нет, я ему не буду делать больно. Очухался. Все — кончаю, — он положил телефон на пол, нагнувшись над поверженным Стаканским.
— Ты ведь уже знаешь, кто я? Вот и хорошо. Прелесть!
Он взял с полочки «Прелесть», лак для волос, и побрызгался. Стаканский потрогал виски: голова гудела, хотелось пить. Он поднялся с пола, паукообразно шевеля конечностями, прошел на кухню и выдул кружку воды — одним глотком, словно водку, поискал глазами топорик для мяса, представил, как ему придется разделывать труп на мелкие кусочки, порциями спускать в унитаз, ужаснулся…
— Надеюсь, мы все решим мирно, — сказал Андж, входя. — Недурные у тебя картинки, и портрет очень похож. — Он держал изображение Анжелы на отлете, любуясь.
— Незаконченно ведь, — пролепетал Стаканский, ненавидя свой голос. Он ясно видел, что этот человек намного сильнее и может сделать с ним все, что захочет.
— Сойдет и так, — сказал Андж, засовывая портрет за пазуху. — Вы, конечно, понимаете, милорд, что ждет вас в случае, если вы попытаетесь искать встреч, писать жалостливые письма и прочее… Понимаете или нет?
Он сунул руку Стаканскому в пах и с бесстрастным лицом сдавил ему яички. Стаканский взвыл от боли.
— Да! Да! Отпусти, — взмолился он.
— Вот-вот, — с нескрываемой заботой в голосе подтвердил Андж… Тут его взгляд проследовал куда-то мимо, он простодушно улыбнулся, вошел в комнату, отодвинул стекло серванта, достал маленький серебряный бокальчик, из которого Стаканский так любил пить, осмотрел и засунул в карман.
— Это я тоже заберу, — сказал он, сняв со стены бронзовое распятие, оставшееся от бабули. Стаканский было двинулся на него, но Андж успокаивающим жестом ладони его осадил и тут же вышел, посмеиваясь и качая головой. В дверях он на секунду замер, оглядел праздничный стол, сервированный в комнате отца, и произнес с досадой:
— К сожалению, я сыт.
Стаканский запер за ним дверь на цепочку и, трясясь, как алкоголик, выпил полный стакан водки. В миг, когда жидкость достала желудка, снова зазвонил телефон.
— Что? Ушел? Я с ним поговорю сейчас. Ты, главное, ничего не делай и жди. Будь умницей. Жди моего звонка или письма, страстно жди, как у Симонова. Если будешь хорошо себя вести, я поеду с тобой на дачу. Все. Вешаю трубку. С днем тебя рожденья!
Стаканский выпил второй стакан водки, бросился ничком на кровать и пьяно разревелся в подушку, в ту самую подушку, на которой сегодня ночью, согласно его плану, должны были лежать ее бедра. Все это было чудовищно еще и потому, что вот сейчас тут, в этом пространстве, находился счастливый художник, всесильный, повелевающий мирами, и достаточно было каких-то минут, чтобы растоптать его, повергнуть ниц — как Художника и Человека.
Стаканский ненавидел свои шедевры, бесстрастно наблюдавшие весь процесс. Он выпил еще, его сразу вырвало, опьянение сползло вниз, он забил папиросу и выкурил, затем принял таблетку клофелина и, уже выключаясь, увидел цветную отчетливую галлюцинацию: идет огромный переваливающийся Андж, за ним мелко семенит мультипликационный Стаканский, в его руках водопроводная труба, он настигает, замахивается, но не достает до затылка, мажет по спине, Андж оборачивается всем телом, обеими ногами затаптывает его, слышен хитиновый хруст, но тут появляется совсем уж гигантская Анжела и накрывает сандальчиком обоих — Андж лопается, словно помидор.
12
— Знаешь, я чувствую себя великолепно. Нет, теперь мне пока нельзя кофе. Я замечательно отдохнул. Я чувствую прилив свежих сил — я и молод и свеж… Нет, нельзя такой крепкий чай. Ты, я вижу, недурно провел время вчера, только будь любезен, убери из моей комнаты сей пир во время чумы… А вот окурочек с губной помадой — явный перебор, кхе… Эта клизма — она была просто ужасна, бр-р! После ужина — сразу за работу, я сделал там кое-какие заметки. Знаешь, я ведь пишу другой, совершенно новый роман… Кстати, как дела у нашего Человека, нарисовал он что-нибудь новенькое?
Стаканский показал папку с эскизами, отец посмотрел, пощелкивая пальцами по картону, и в общем остался доволен…
«Человек-тело» — так называлась книга, которую он писал последнее время. Они уже полгода делали эту совместную работу, теоретически она могла бы сблизить их…
По замыслу писателя, роман должен был содержать множество рисунков, карт, схем, временами обращаясь в комикс — первый подобный опыт на русском языке, увлекательная, современная идея.
Это была история человека, который после смерти родителей остался в квартире один, и которого убивают, используя одну из стандартных махинаций, чтобы захватить жилплощадь.
Будучи его приятелями, некие молодые люди все чаще к нему захаживают, выражая соболезнования, утешая его вином. Вскоре и рождается их чудовищный план, суть которого заключается в том, чтобы женить хозяина квартиры на подставной женщине, прописать ее, а затем — инсценировать самоубийство героя.
Человек имеет довольно высокие духовные запросы, поэтому кандидатуры невест, которые подсовывают ему друзья, не удовлетворяют его. Наконец, Человек действительно влюбляется и готов жениться, но вся беда в том, что он выбирает девушку сам, пренебрегая специально подготовленной невестой, и теперь задача банды друзей — обмануть ее или переманить к себе…
Основной конфликт романа — тело и душа, материя и дух, реальное и идеальное — словом, тема столь же избитая, сколь и вечная. Человек ищет и в друзьях и в женщинах родственную душу. Человек ее не находит. Человек умирает в одиночестве.
Надо заметить, что характер у Человека довольно сложный, тяжелый. Человек мстителен, эгоистичен, он измышляет всяческие извращения, строит планы диких, кровавых преступлений, вспоминает возмутительные истории, из которых ясно, какой это отвратительный, гадкий и мерзкий человек.
Подобного человека не жалко, его просто так и тянет убить.
В то же время Человек отличается порой небывалой чистотой помыслов, изысканностью и благородством побуждений, он обаятельный, хороший, духовно совершенный человек.
Противоречие снимается в конце романа, и загадка этого сложного характера разрешается весьма неожиданным образом, причем чисто лингвистически, как это часто бывало в стаканских текстах…
Роман написан от первого лица. Информация, которая считывается непосредственно с текста, находится в конфликте с информацией, которую страница за страницей узнает герой. Специфические приемы, впервые звучащие в литературе, позволяют варьировать дистанцию между героем и читателем, то идентифицируя, то разделяя их.
Так, например, Человек пытается найти куда-то запропастившиеся страницы своего дневника, но никак не может сделать это в общем художественном беспорядке своей квартиры, в своем личном мире, но мы, в относительно благополучном мире читателей, сделать это можем, и тот, кто это делает, понимает секреты романа. Проницательный читатель видит, что “Я” собираются убить, он следит за постепенно развивающимся заговором, он видит со стороны и то, как Человека оплетают паутиной, и то, как Человеку иногда — случайно — удается эту паутину разорвать.
Преступный замысел друзей Человек раскрывает ближе к концу романа, когда поздно что-либо изменить. Читатель непроницательный, тупой приходит к этому открытию в той же точке, что и Человек. Этот невнимательный, тухлый читатель всегда движется вместе с Человеком, сопереживая ему на уровне последовательных записей его дневника, он как бы сам является этим Человеком, что характерно для обычной прозы, написанной от первого лица. Проницательный же читатель, пожелающий вернуться на несколько страниц и перечитать некоторые места дневника-романа, раскрывает преступный замысел прежде, чем сам Человек, и этим отрывается от него, в принципе, скользя над текстом, поднимаясь все выше, до тех пор, пока вновь не сольется с героем в известной точке. Но — увы — именно в этой точке уже поздно что-либо изменить. Человека убивают.
Живя в этой своей квартире, в центре большого города (пусть хоть Москвы, все равно, потому что ни герой, ни роман за пределы квартиры не выходят, но обширная география все же складывается из таких объектов как ванная, кухня, коридор, кладовая) Человек приходит к парадоксальной на первый взгляд, но подспудно сидящей в каждом из нас теории.
Человек начинает понимать, что мир устроен совсем не так, как это нам кажется, то есть: население Земли состоит из пяти миллиардов людей, все они имеют тело и душу, да какое-нибудь там египетское Ка… Человек делает роковое открытие, суть которого заключается в том, что не все существующие и движущиеся в пространстве люди обладают самостоятельным сознанием, то есть, являются человеками, причем, далеко не все. Большинство так называемых людей — это просто движущиеся, поглощающие пищу, совокупляющиеся и даже говорящие — тела.
Теория эта сродни солипсизму, с той лишь разницей, что солипсизм предполагает галлюцинацию, отрицая физическое существование посторонних солипсисту тел.
Человек не таков. Он верит в материальность мира. Он знает, что окружающие тела реально существуют. Он их осязает, похлопывает по плечам, целует, кормит, он знает, что они могут причинить ему боль, даже убить его.
Философия Человека дается в ее диалектическом развитии. Сначала он постигает истину о разделении людей на человеков и тел. Затем он пытается понять, кто из окружающих его друзей является человеком, а кто — телом. Он постоянно мечется, меняет свои решения, ходит по обширному миру своей квартиры, как Диоген с фонарем. Он проводит особые эксперименты, пытается построить аппараты и выделить вещества, с помощью которых можно детектировать тело. Вскоре он понимает, что никто из окружающих не является Человеком. Он роется в своем прошлом, пытаясь высветить Человека там, но и в этой глубокой мгле все копошатся тела, тела…
Наш герой пробовал себя во многих видах искусства — он и рисовал, и писал, и музицировал, вот кстати, и нотные листы — они тоже нашли свое место в объемистой графике романа… Но все выходило неудачно у этого несчастного “Я”, рисунки неразборчивы, стихи и проза корявы, музыка скрипит.
Итак, промучившись почти до двадцати восьми лет, Человек понимает, что гения из него не вышло, что он уже пережил Лермонтова — в первый день романа он как раз и справляет лермонтовскую дату в своей жизни, посчитав на калькуляторе, с учетом високосности, сколько именно дней прожил русский поэт… Когда-нибудь он и Пушкина переживет, ничего в своем никудышном творчестве не сотворив…
Измучившись в поисках Человека, Человек приходит к выводу, что ни в настоящем, ни в прошлом, он Человека не видел, и это ошеломляет его. Ведь так не может быть, ведь совершенно ясно, отчетливо он присутствие Человеков в мире чувствует. Может быть, их настолько мало среди миллиардов тел, что сама подобная встреча маловероятна, и поэтому еще не состоялась?
И тут он приходит к выводу, что встреча эта не может состояться в принципе. Мир устроен так, что каждый Человек, находясь на весьма почтительном расстоянии от другого, окружает себя послушными телами, и он физически не может пробиться к другому, и единственный способ связаться с другим — это послать к нему тело…
Наш герой испытывает очередное разочарование. Оказывается, девушка, которую он наконец полюбил, которую считал первым в своей жизни Человеком, на самом деле тоже тело, но тело чужое, из другого, так сказать, сераля, тело, которое послал к нему далекий, невидимый, какой-то иной Человек…
И тогда Человек пытается найти себе подобного, определить его местонахождение, вступить с ним контакт, именно через тело, которое прислал к нему другой Человек, через девушку.
Девушку эту, которая, как мы помним, не была заранее подготовленной невестой, к тому времени уже опутала своими сетями банда, и, искренно любя Человека, она все же идет на предательство под давлением шантажа.
Последний, естественным образом завершающий теорию постулат — это вопрос героя: а существует ли вообще этот неведомый Человек, и не одинок ли он сам в огромном и страшном мире движущихся тел?
Это его предсмертный вопрос, звучащий в момент, когда он уже понял, что окружающие тела, его тела, изначально ему послушные и им управляемые, взбунтовались и все-таки убили его.
Герой умер, но роман на этом не заканчивается, что было бы трудно сделать в любом другом романе, кроме этого.
В последней части на сцену выступает новый герой, доселе невидимый, скрытый, но как выясняется вскоре, постоянно присутствовавший в тексте.
Это — следователь, который ведет дело об отравлении гражданина Булышева Виктора Алексеевича, такого-то года рождения, холост.
Последняя часть начинается словами: “Этот человек был найден мертвым в ванне, примерно на две трети заполненной водой…” и т. п. — но мы сразу узнаем и этот стиль и эту интонацию…
Дело в том, что уже многие куски романа-дневника начинались словами “Этот человек” — но прежде мы приписывали их самому Виктору Булышеву, так как они находились прямо в тексте его дневника.
Это и были, впрочем, слова Булышева: он всегда ругал и корил себя, обращаясь к себе в третьем лице, как бы со стороны рассказывая, какой он нехороший человек. И вдруг становится ясно, что все фрагменты, обозначенные ключевыми словами “Этот человек…” принадлежат следователю и произвольно вставлены в только что прочитанный дневник, являясь комментариями к нему.
Перед нами, оказывается, был некий конгломерат, результат сканирования сознания следователя, читавшего дневник человека, которого убили.
Нам остается сделать только одно — перечитать этот странный роман, если, конечно, этот бурный роман уже давно не успокоился в клозете.
Повторное чтение расставляет все на свои места. Один образ распадается на два. Меняется характер главного героя — он больше не выглядит таким плохим: многие мизантропические идеи принадлежат, оказывается, не ему, многие шокирующие истории произошли, оказывается не с ним. Перед нами тихий, безобидный, весьма домашний человек, который путался в нелепых теориях, пытался писать стихи, рисовать, найти свое жизненное счастье, но его убили, потому что он обладал наследственной жилплощадью.
Следователь, взявший теперь на себя вторую часть героя, его нижнюю, отрицательную часть — человек мелочный, безжалостный и злой — завершает роман довольно стройным отчетом о своем расследовании, из которого выясняется, каким именно образом было инсценировано самоубийство Человека.
Следователь ненавидит Человека за его солипсизм, что, в принципе, и есть естественная на солипсизм реакция. Рассматривая дело об убийстве, следователь борется с желанием его закрыть, так как ему не хочется выводить на чистую воду людей, которые, по его мнению, совершили правильный поступок. Этот самый следователь в детстве строил планы страшных преступлений (в тексте романа, мы приписывали их Человеку) но в конце концов решил, что безопаснее раскрывать преступления, нежели совершать их.
Закрыть дело о подложном самоубийстве — значит, поставить очередной ноль в своей служебной карьере. Все решает случайный факт, надо только умело использовать его…
В ходе следствия выясняется: один из убийц — сын весьма уважаемого и богатого человека. Что если как-нибудь вечерком позвонить этому человеку и с этим человеком поговорить… Ведь карьера — что? Опять эта собачья жизнь, это мизерное жалование…
И следователь закрывает дело.
13
Иллюстрируя роман, Стаканский пытался излечиться постоянной, каторжной работой, к ночи карандаш вываливался из пальцев, он не мыслил в себе сил ни принять душ, ни даже почистить зубы, засыпал в одежде, находя наутро под собой измятый лист эскиза…
К каждой главе была приложена виньетка, символизирующая городской пейзаж — шпили и башни прорезали облака, по улицам двигались фигурки прохожих… Весь фокус был в том, что каждый последующий рисунок был мультипликационной фазой рисунка предыдущего, их персонажи взаимодействовали, сталкиваясь, отбирая друг у друга какие-то вещи, поглощая друг друга и порождая… Режиссура этого сквозного мультфильма принадлежала отцу.
(— Восхитительно, загадочно, свежо! Никогда ни у кого не было такого. Когда-нибудь все это загонят в компьютер, добавят недостающие фазы, и наши потомки посмотрят увлекательный фильм отца и сына Стаканских, который сквозит по моей книге, словно Гольфстрим по Атлантике, словно… Словно…
— Гадость, папа. Больше всего на свете это напоминает детские мультфильмы на уголках учебников, преимущественно, похабного содержания. Правда, я никогда тебе об этом не скажу…)
Он бродил по мрачным окраинам столицы, вдохновляясь ядовитыми трубами Капотни, мертвой водой Борисовских прудов… Он путешествовал по зловонным свалкам Чертанова и больным новостройкам Паскудникова, его рисунки, отражающие виды из окон квартиры несчастного Человека, выходили не только мрачными, но и плохими, бездарными: любовь измотала, измучила его, изувечила его душу, убила его талант.
Он очутился в сумрачном подмосковном лесу, где с листьев пещерно капала вода и в высокой траве рос эдакий гриб-подандж, красный такой гриб, вкусный, и этим грибом был он сам, потому что любил женщину Анджа… Ему открылась вся мерзость его положения — красивая отвратительная баба, которая нисколько его не любила, но вымещала на нем свои чувства к другому, истинному герою, а сам он, как бы его неудачный двойник, пытался соответствовать, насколько мог. Он поднялся до обобщения, подумав, что люди делятся на Первых, Вторых и Третьих. Третьи служили номинально, для того лишь, чтобы Стаканский не попал в Последние. Классификация дана рождением, никаких переходов не допускается… Это было слишком безнадежно, и он разрешил возможность перехода, в случае, если индивид затратит усилия — ну, например, станет великим художником или там новым русским… Тогда ему показалось, что он уже попал на первый план или, по крайней мере, находится на грани… Следовательно, он уже был на месте Анджа, сам был Анджем — двойничества избежать все же не удавалось.
И как тоскливо было знать, что где-то (он всегда чувствовал азимут места, глядя исподлобья чуть вверх, чтобы взгляд, пролетев, поднялся до семнадцатого этажа) бестрепетный Андж по-хозяйски обнажает свою невесту, делает с нею что-то непостижимое, то, чего Стаканский в своей жизни так и не сделал, затем, облегчившись, грузно откидывается на зеленый ворс ковра, со вкусом мнет папиросу…
Передвигаясь огромными концентрическими кругами, как больной, измученный ужасом Рассольников, или как Человек в поисках человека, словом, окончательно литературизируясь, порой и вовсе распадаясь на отдельные слова, Стаканский наконец пришел к Солнышку, выбрав удобное место напротив — залежи железобетонного плитняка — там поставил этюдник и начал сеанс, намазывая грубый индустриальный пейзаж с трубами, гигантскими примусами, кружками Эсмарха: отсюда хорошо просматривалась дорожка между общагой и метро. За два дня он написал несколько мрачных картонов, оклеветав город своей жизни, наконец, на дорожке появилась Анжела, одна, он свернул работу и бодро подбежал: А я вот тут на пленэре, отличная натура, случайно, как поживаете, сударыня?
Анжела молчала, продолжая идти с опущенной головой. На девушке было легкое ситцевое платье в горошек, с крутыми ватными плечами-крылышками, что делало ее фигуру некрасивой, несчастной…
— Я люблю тебя, — прошептал Стаканский, и это было признание, впервые прозвучавшее вслух.
Анжела подняла красное, горько заплаканное лицо.
— Гагарин разбился, — тихо произнесла она.
— Да, я слышал, — сказал Стаканский, пытаясь выразить подобающую скорбь.
— Зайдешь ко мне? — тем же тоном предложила Анжела, и он не смог скрыть неожиданной радости.
— Ты не сердись за Анджа, — сказала Анжела, когда они, после скромного общежитского ужина пили традиционный кофе в комнате. — Он добродушный хлопец, милый. Простой такой парубок. У нас в станице он за всех заступался, якши, — девушка всхлипнула.
— Анжела, — блекло промямлил Стаканский, — ты выходишь замуж. Я поздравляю тебя.
— Ты что — мухоморов объелся? — сказала она грубым голосам. — Если Андж мой жених, это еще не значит, что я его невеста. Я оторвала его. Он больше не придет.
Стаканский почувствовал мелко дрожащую чашечку в своей руке, что обещало приход волны облегчения, почти что счастья, но в этот неподходящий момент вдруг стукнула дверь и на пороге появился Андж.
Комната сразу наполнилась им: в одном месте расшнуровывали огромный ботинок, в другом — булько ставили на стол бутылку вина, в третьем — дружески похлопывали Стаканского по плечу.
Стаканский много раз наблюдал, как человек краснеет, но ему не доводилось видеть, как бледнеет человек — это надо запомнить, подумал он, втягивая голову в плечи и еле дыша, когда смуглая кожа Анжелы стала вдруг пепельной, будто бы что-то разбилось и растеклось.
— Батюшки! — вдруг воскликнула Анжела, принимая букет пионов и подставляя щеку для поцелуя. — Какие люди!
— Очень рад, очень, — пробормотал Стаканский, тряся руку, причем Андж непреминул крепко хрустнуть его суставами.
— А я как раз поставила пирог с какашками… То есть, тьфу — с артишоками! — было заметно: Анжела находится в том же потоке ужаса, что и Стаканский. Она принялась собирать на стол, то и дело выходя на кухню.
— Я очень люблю девок в бане купать, — доверительно наклонившись, сказал Андж в один из ее выходов. Стаканский понимающе улыбнулся.
— Я люблю, — продолжал Андж, в очередной раз проводив Анжелу ласковым взглядом, — вставить ей бутылку и из горлышка пить… Хочешь, Анжелка? — обратился он к вошедшей девушке, взяв со стола Цинандали и шлепнув по донышку. Анжела покраснела и закусила губу, Стаканский, с которым Андж значительно переглянулся, неестественно захихикал.
— Ну-с, начнем, — сказал Андж, потирая руками над столом.
— Каша не готова, — жалобно промычала Анжела.
— Ну ее в манду, — сказал Андж, накладывая себе картошки. — Сала будешь? — обратился он к Анжеле. — А винегрет? Я, между прочим, очень люблю похавать, ну, ты это сейчас увидишь, — наклонился он к Стаканскому, — иной раз просто не могу остановиться. Это очень похоже на то, как я… — он хихикнул, толкнув Анжелу в бок.
— Фу тебя, Андж! — кокетливо засмеялась девушка, вновь меняя цвет лица.
— Я, — продолжал Андж, звучно хрупая свежим огурцом, — во время какого-либо процесса предпочитаю говорить именно об этом процессе, тем самым возбуждая в себе максимальный аппетит. Тема моей диссертации (а я преподаю в Симферопольском мединституте, я, знаете ли, врач…) моя тема — «Влияние акустической среды на выделения предстательной железы». Предстательная железа, расположенная, как известно, в анусе как мужчины, так и женщины, выделяет в задний проход всяческие активные гормоны, что способствует… Андреич, будь любезен, передай соус. Удивительно вкусная свинина, но с соусом данное блюдо приобретает иной, прямо-таки таинственный смысл. Так вот, все эти полезные вещества выводятся из организма — и это совершенно неправильно! — путем так называемых дурных ветров, кроме того — огурчик! — их выход в атмосферу приводит к исчезновению некоторых редких животных… Будь так добра, дорогая, не ковыряй в носу. Исходя из вышесказанного, я настоятельно рекомендую вам, молодые люди, не очень-то злоупотреблять!
Все трое благодушно рассмеялись, с энтузиазмом переходя к десерту.
— Десерт, — глубокомысленно произнес Борис Николаевич, — является наиважнейшим элементом хорошего обеда, его заключительным аккордом. Иногда приходится выносить всю сложнейшую и утомительную церемонию исключительно ради десерта… Анжела, это ты наконец испортила воздух? Ты можешь не бздеть хотя бы во время еды?
Девушка сидела вся красная, ее нож и вилка, застыли над столом, мелко дрожа.
— Это не я, — тихо сказала она, закусив губу.
— А кто? Может быть — я? Или он, — Андж кивнул, не глядя, в сторону Стаканского, и тот вспомнил, что недавно, читал где-то подобную сцену, правда там действие происходило во время допроса на Лубянке.
— Чужак, Анжелка, чужак, иди-ка сюда, — миролюбиво сказал Король и, пробив ей длинный, с оттяжкой мазик, даже двойной, средним и безымянным пальцем одновременно, легонько шлепнул огромной ладонью по попке, направляя на место.
— Был, говорят, на Лубянке такой следователь, — продолжал Андж, заметно волнуясь. — Он всегда проделывал с клиентами подобную штуку и они кололись, бессвязно выдавали имена, пароли, явки, адреса штабов… Я об этом в «Огоньке» прочитал, в ходе разоблачительной кампании… Ну-с, будем здоровы! А тебе, Анжелика, я еще сегодня вставлю, так сказать, пистон…
— Не смей называть меня Анжеликой, — сухо сказала Анжела.
— Разумеется, я больше не буду, — пробормотал Андж, театрально законфузившись.
— Это я пернул, — запоздало сознался Мэл, млея от ложного героизма, но никто, похоже, его не слышал.
— И ваще… — запнулась Анжела. На ее щеках цвел уже другого тона, алый румянец гнева. — Какого хрена ты забрался сюда? Приехал в Москву, пристаешь… У женщин, кстати, и вовсе нет никакой предстательной железы, с чего ты взял, двоечник… Между прочим, — злорадно обратилась она к Стаканскому, — он только кажется таким большим. На самом деле он маленький, — Анжела показала двумя пальцами размер в половину спички. — Его, промежду прочим, в школе все мудохали — в пятку и в сиську. Отрастил себе длинные уши, нацепил очки и думает, что он великий математик, мать твою. Послушай-ка, — она решительно забарабанила пальцами по столу, — убирайся-ка ты к черту, и тыкву свою забирай. Представляешь, — повернулась она к Стаканскому, яростно кивая, — этот болван бегал по всей Ялте с тыквой на голове и пугал людей! С одним даже случился разрыв сердца и он умер, его в бамбуке нашли… И вот теперь он приволок эту мерзость ко мне в подарок!
Только сейчас Стаканский увидел, что вместо абажура на лампу надета сухая тыква, с вырезанной в стенке довольно неприятной мимической фигурой.
— Что ты, — возмутился Андж, похоже, недоумевая от такого решительного натиска, — это даже очень интересно, очень! Посмотрите-ка! — он проворно вскочил и, путаясь в проводах, словно звукооператор на сцене, переключил свет.
Стаканский вскрикнул. Дело было не в том, что лицо тыквы оказалось ужасным — в этих пылающих чертах, как только что в лице Анджа, он увидел искаженный облик отца. Это повторялось уже несколько раз за последний месяц и походило на легкую форму безумия.
— Вон отсюда! — топнула ногой Анжела.
— Да-да! И немедленно! — повторил за ней Стаканский, также топая ногой, чтобы получилось хоть чуточку смешно.
— Но Анжела… Я, впрочем… — Андж решительно подошел к столу и, вцепившись им пальцами в носы, сильно сжал и вывернул. Оба завопили от боли.
— Это так, для прощанья, — злобно проговорил он, взял с полки флакон Анжелиных розовых духов и вышел.
— И ты-икву забери-и-и! — закричал Стаканский и кинулся было за ним, но Анжела сделала предостерегающий жест, другой рукой все еще держась за нос.
Они сели и вытерли друг другу кровь: Стаканскому казалось, что они близки как никогда. Через ватный тампон он чувствовал кожу девушки — ее радостную земную твердь, которую он сам возделывал или даже создавал, — отчего ощущение было гораздо более высоким. Стаканский вдруг понял: это именно тот момент, и другого больше не будет, он взял Анжелу за обе щеки, притянул к себе и впился в ее губы — и девушка ответила ему быстрым и нежным языком, он целовал, не отрываясь, боясь, что в другой раз ему не удастся ее так поймать, вдруг с ужасом вспомнил, что его руки по-прежнему сжимают ее голову, он плавно опустил их вниз, лаская ей уши и шею, затем сжал ее груди, и это было чудесно, потому что Анжела не отняла губ… Стаканский принялся медленно, расчетливо валить девушку на кровать, поцелуй, который был длиннее всех разумных понятий о времени, как будто вообще можно было никогда не разъединять ртов, и вкус имел невозможный — черная Изабелла, поближе к сердцевине, к косточке, стал даже утомлять его, но все-таки было страшно прервать и заглянуть ей в глаза… Вдруг он почувствовал, что совсем не следит за собой, попытался ослабить напряжение, но было уже поздно: авария с ним все-таки стряслась.
— Хватит, — вдруг сказала Анжела, откинувшись. Она ничего не заметила. Ее губы цвели вишневым, да и соски совершенно вишнево обозначились под материей. Стаканский протянул руку, погладил, Анжела шлепнула ее…
— Поедем на дачу, — вымолвил он.
Анжела встала, с размаху обеими ногами попав в шлепанцы, и высоко подпрыгнула на месте.
— На дачу! – вскричала она и ликующим жестом выбросила в сторону-вверх указующий перст.
14
— На дачу! На дачу! — пела душа, когда Анжела, хватая и разбрасывая вещи, кукольно неслась по комнате, будто исполняя ритуальный танец.
— Может быть, эту? — развернулась она, прикладывая к бедрам свободную алоголубую юбку, которая года три, как вышла из моды, отчего Стаканскому стало особенно трогательно к ней.
— На дачу, неужели и вправду на дачу? — удивлялся он, отчаянно сознавая, что некая неизвестная сила должна ему помешать… Он давно уже испытывал действие этой странной, бесспорно существующей силы: она проявлялась именно тогда, когда у Стаканского вдруг выходило с какой-нибудь девушкой — в дело шли любые, самые фантастические средства: барахлил телефон, происходили нелепые природные явления, наконец, просто разбаливалась голова или нестерпимо хотелось в уборную.
— Надо что-то купить, — деловито сказала Анжела. — Я очень как хочу есть. Голодная я никуда не поеду, — капризно взвизгнула она, и Стаканский похолодел: у него не было ни копейки, последние несколько дней, пропившись на «именины», он жил по проездному билету.
— Ерунда, — рассмеялась Анжела, увидев его вытянувшееся лицо, — у меня есть, вот они! — она вывернула перед ним бумажник и прошелестела, как страницами книги, увесистой пачкой денег.
— Откуда? — ошарашенно прошептал Стаканский.
— От верблюда, — огрызнулась Анжела.
— Это деньги Анджа, — строго сказал Стаканский, отчаянно соображая, что деньги все-таки станут проявлением Силы.
— Сдался тебе этот Андж! Это мои бабки, мне прислали. Я квартиру сдаю, у меня мать умерла, понял, ты? — она вдруг сняла шляпку и надула губки. — Никуда я не поеду.
— Я так и знал, — сказал Стаканский, обреченно уронив руки на бедра. — Ну прости меня. Я больше не буду соваться в твои дела. Ну Анжела, девочка моя!
— Так уж и твоя — видали! А ножку мне поцелуешь? — она всмотрелась в его лицо и, прочитав, сорвала подследник.
— Ну?
Стаканский снял свой бархатный цилиндр и, опустившись на одно колено, медленно, взасос поцеловал ее ступню.
— Фу, щекотно! — девушка отдернула ногу. Она и не ведала, каким это было наслаждением.
— На дачу, на дачу, — успокаиваясь, все еще гнусила она, когда они ловили такси. — Все настроение испортил.
Впрочем, когда за окнами двинулось и слилось, она вновь развеселилась, показывая пальцем разные предметы на улице, похлопывая по щеке тыкву, которую зачем-то приказала захватить с собой…
Когда Анжеле внезапно вздумалось позвонить по телефону, впервые продемонстрировав Стаканскому наличие в этом городе других знакомых, кроме его и отца, что поразило легким уколом ревности, он вдруг увидел развязно пьяного, агрессивного бугая, который шел прямо втык, направив ему в лицо сырую сигарету. Сейчас даст по морде и поездка расстроится, вяло констатировал Стаканский, но тот, прикурив, лишь назвал его сквозь зубы козлом и благополучно удалился.
Они обошли центральный рынок, покупая все, что приглянется: спаржу, артишоки, кинзу, связку бананов, упругий редис пионерской раскраски, сочные свежие огурцы, удивительную вишню, маринованный чеснок (Я особенно люблю маринованный чеснок, — сказала Анжела, обернувшись, — а кинза сегодня пригодится тебе, мой китайский болванчик) Они сели на Курском вокзале в электричку, и она, как ни странно, тронулась вовремя, окна наполнились грязножелтой Москвой, Рублевскими куполами, романом Ерофеева… Ключ забыл! — вдруг отчаянно пробило сердце, но ключи были на месте, вся связка: квартира, дача, письменный стол.
Они удивительно быстро ехали маршрутом бессмертного романа, и Стаканский, давно мечтавший, как он будет везти на дачу какую-нибудь женщину и рассказывать ей роман, приступил к обстоятельному повествованию, но Анжела перебила его.
— Все это дрянь, ты вот лучше в окно посмотри, я давно за ним наблюдаю.
Стаканский увидел, что с электричкой поравнялся и медленно обгоняет поезд дальнего следования.
— Это тридцать восьмой скорый, я на нем ехала… А вот и он, посмотри!
В одном из окошек сидел Андж, разрывая курицу, огромную, словно гусь. Увидев их, он сделал носика и весело прищелкнул по горлу. Пронесло, подумал Стаканский. Неужели приедем?
Они прошли цветущим лугом в Алешкины сады, кузнечики и стрекозы встречали их ликованием, они вошли в дом и изнеможении повалились в кресла, Анжела прижимала к груди огромный букет полевых цветов. Стаканскому стало страшно, от того, что ничего им не помешало, он думал, начать ли сейчас или ждать ночи… Пока он колебался, Анжела вполне отдохнула и принялась осматривать дом.
Стаканский провел ее зимней лестницей наверх, открыл дверь мансарды, оттуда неожиданно вылетел крупный шмель. Они спустились в сад, где Анжела проворно вбежала в беседку и, цокая языком, восхитилась ее великолепием — беседка была ей очень к лицу. Наконец, они вышли на пляж, главную достопримечательность дачи, где волны Клязьмы плескались прямо под стеной дома — Анжела плавно взмахнула руками, как крыльями птица…
— Ну почему у меня всегда такое ощущение, будто я вижу все во второй раз! Немыслимо — будто я живу как-то повторно… Если бы мы сейчас сидели в кино, я давно бы бежала из зала от этого deja vu …
В вечернем свете, отмахиваясь от комаров, они расположились на улице и вместе готовили обильный обед. Анжела была так уютна в бабулином переднике, от нее веяло спокойствием, Стаканский почувствовал, что счастье его неминуемо…
— Анжела, — сказал он. — Будь моей женой.
И в этот миг сила, до сих пор прятавшаяся в его сознании, откровенно ступила во внешний мир: Анжела, ладонью с ножом между пальцев – в опасной близости от глаз – прикрываясь от солнца, посмотрела мимо Стаканского и вскрикнула, словно увидела чудовище. Стаканский медленно обернулся. У калитки стоял, приветливо подняв полную хозяйственную сумку, весь потный, сияющий, вот-вот готовый радостно засмеяться – отец.
15
— Ха-ха-ха!
— Хи-хи-хи!
— Ху-ху-ху!
— И они называли вас Дяборя? — хохотала Анжела.
— Но это же очень просто: дядя Боря — Дяборя, или даже де’Боря. А дедушку они называли Десеней — от дедушки Сени.
— Ха-ха-ха! Десеня-гусеня!
— Хе-хе-хе!
— А я был тогда молодой, сильный, я играл на контрабасе! Представляете — здесь, на этом самом месте…
— И вы их обоих убили?
— Да. Ее отравил таблеткой, а его…
— Гу-гу-гу!
— …немного позже застрелил из нагана.
— И вам не было больно, ну, как у Толстого с Болконским, с Карениной?
— Ничуть. Нисколечки не было их жалко, этих, мной же созданных существ. Я думаю, что и Толстой лгал насчет своих крокодильих слез.
Анжела поймала взгляд Стаканского и сделала губами немое «у» — дескать, послушаем его дальше… Стаканскому неожиданно стало светло на душе, так как момент отодвигался на неопределенный срок: ведь все-таки ужасно, когда это надо делать именно сегодня.
— Кстати, — сказал отец, — я внимательно прочитал твои стихи.
Стаканский заметил, как Анжела напряглась и поджала губы.
— Видишь ли, Анжела, твои стихи во многом еще сырые. В принципе, ни одного пока еще нельзя опубликовать. Вместе с тем, в них есть такие замечательные находки, такие рациональные зернышки, что совершенно ясно: этот автор будет поэтом. Ни в коем случае не бросай писать. Считай, что я благословляю тебя на труд, как старик Будякин, то есть, тьфу — Державин. И в гроб сойдя, благословил… Удивительно свежая кинза, вероятно, часа два назад она еще безмятежно росла на грядке…
Обед был многосерийным, полным замечательных лирических отступлений, вроде внезапно найденной банки филе из кальмара в собственном соку, или случайно разбитого блюда с маринованным чесноком, который, впрочем, никто не хотел есть… Отец был оживлен и благодушен.
— Мое глубокое убеждение, — говорил он, с небрежной светской точностью подкладывая Анжеле салат из креветок, — не иметь ровно никаких убеждений. Верить во что-либо — значит, изменять свободе. Зачем мне исповедовать какую-то философскую идею или религию, что в конечном счете одно и то же, когда у меня своя голова на плечах?
— А как же ваш Богдан? — спросила Анжела, узким серебряным ножом разрезая ломтик свинины, — ведь он всегда молится, во сне и наяву, ставит свечи…
— Это не моя философская концепция, а концепция данного романа. Думаете, Дарвин верил в свою теорию? Он просто плыл по течению, создавая замкнутую, совершенную в самой себе систему. Я не делаюсь догматиком и для каждой новой книги предлагаю новую идею. Чтобы написать «Марию», я действительно изучал православие и даже посещал церковь. Богдан — это двоемирие, всего лишь частный случай множественности миров, слоев, так сказать, Вселенной, или нашего сознания — как хотите. Анжела, положи мне пожалуйста вот этот маленький куриный окорочок.
— А как же, — спросила Анжела, переглядываясь с Стаканским и покручивая пальцем у лба, — тот же Толстой, Достоевский?
— Полноте! Никакого Достоевского не было. Это все Тургенев написал, история, знаете ли, искажена… Пожалуйста, теперь крылышко, я ужасно голоден. Что-то невообразимое случилось со мной, ем и ем, как беременный, расту, наверное… Писатель, дорогие мои, это всего лишь аппарат для производства текстов, этим он и отличается от людей других профессий. С чего вы взяли, что он должен быть особенным, высоконравственным, знать то, чего не знают другие? Он, как правило, еще больший подлец, чем все остальные, он туп, невежествен, он гордится не своим умением писать, а, скорее, своим неумением делать что-либо другое. Приятно эдак сознавать себя гением и умереть в полном неведении, что ты дерьмо. Что ты в поте лица сочинял книги — для других, настоящих, которые действительно жили, радовались жизни, наслаждались ее вкусом, запахом, оргазмом, плюс твоими книгами, да и оставили тебя в дураках… Когда же я насытюсь? Почему я ем и ем, и никак не могу остановиться? Андрюша, будь добр, положи мне этого изумительного винегрета из раков. Еще чуть-чуть. Неплохо бы чего-нибудь на десерт, скажем, какой-нибудь рыбы… Самое страшное — и тебе, Анжела, как будущему поэту необходимо это знать — все, что ты не напишешь, рано или поздно произойдет в твоей жизни. Правда, не ясно, творим ли мы сами эти события, или читаем в каком-то информационном поле. Поэтому, будь осторожна. Не фантазируй насчет реально существующих людей. Меньше пиши о смерти… Спасибо. Все было очень. Вероятно, я сюда еще вернусь и доем.
Они перешли в беседку, где удобно устроились в лонгшезах, с высокими бокалами вина. Солнце, наконец, село, в воздухе разлилась спокойная розовая мгла, с реки поднимался туман, неся с собой крупных кальмаров… Что-то не так. Я, вероятно, хотел сказать — комаров.
Стаканский залпом допил свое вино и спустился в сад, где сразу принялся корчевать давно раздражавший его пень. Он снял рубашку и красиво играя блестящими от пота мускулами, стал хлопотать вокруг пня, крепко, как зуб, сидевшего в земле. Анжела и отец, беседуя, смотрели на него, а он слушал, не вмешиваясь, их разговор.
— Вообще-то, я являюсь членом одной международной организации, заговора, который длится вот уже несколько тысячелетий. Я не совсем ясно представляю его цели, вполне возможно даже, что цели со временем была потеряны. Исполнители рождались и умирали, уже невнятно передавая другим поколениям свои инструкции… Писатель, дорогие мои, кроме вышеперечисленных образов, создает образ своего читателя, и это его главная тайная задача. Читатели, в свою очередь, подстраиваются под этот образ, сотнями миллионов голов соответствуют ему. Так мы и творим ваш, мягко говоря, удивительный мир. Вы спросите, как мы передаем информацию друг другу? Господи, да через те ж книги.
— Вы — это инопланетяне?
— Безусловно. Это дается на уровне чувства. Ты просто чувствуешь, что эта планета для тебя — заезжая. Возьми-ка этот кусочек. Да-да, это оно — настоящее афганское сало. Поэтому писателей и надо убивать.
Анжела взяла кусочек сала, бросила себе в рот, щелкнула от удовольствия языком и через кусты швырнула такой же кусочек Стаканскому. Он поймал его зубами на лету.
— Вселенная бесконечна, — продолжал Борис Николаевич, — как в ту, так и в другую сторону, как в Космос, так и внутрь вещества, то есть, сколько бы мы ни делили молекулы и атомы, мы никогда не дойдем до предела деления, равно как никогда не долетим до предела пространства.
Анжела опять незаметно переглянулась с Стаканским и щелкнула пальцем по горлу.
— Мы делаем вывод, — сказала она, — что молекула столь же сложна и бесконечна, как и вся наша планета, да и Вселенная в целом?
— Именно! Между атомом, молекулой, клеткой и планетой можно смело поставить знак тождества.
— Но это же абсурд! — Анжела выпила свой бокал и поставила на столик, рядом с наполовину полной бутылкой. — Вы хотите сказать, что капля, оставшаяся в бокале, тождественна тому, что пока еще есть в бутылке?
— Разумеется! И там и тут содержится абсолютно равное количество вещества — его бесконечность.
— Но это не так. В бутылке вина гораздо больше. Следовательно, тут напрашивается только один вывод, а именно: Вселенная не бесконечна.
— Что ты! — замахал обеими руками Борис Николаевич, как будто бы Анжела произнесла несусветную ересь. — Бесконечность — это постулат, на котором строится вся моя теория, моя замечательная теория строения Вселенной, которую я и собираюсь изложить в этой книге, налей-ка еще!
Исходя из равенства любых сравниваемых объемов вещества, можно утверждать, что клетка живой материи тождественна совокупности клеток всего организма, следовательно, одна клетка нашего мозга может представлять отдельный, независимо мыслящий мозг. Все мы являемся лишь клетками этого замечательного мозга, а Вселенная — это наша галлюцинация, данная лишь для того, чтобы каждый из нас участвовал в его мыслительном процессе.
Примечательно в этих рассуждениях то, что они все же не отрицают существование других людей, или, скажем, мыслящих сущностей…
У меня есть довольно простое и убедительное доказательство. Можешь ли ты представить себе войну, убийство миллионов людей, весь этот абсурд?
— Откровенно говоря, с трудом.
— А я — так никак. Я вообще не могу представить себе всего этого. Я делаю единственно возможный вывод — ничего этого не было. Все это — сложная разветвленная галлюцинация мозга, который не превышает размером футбольного мяча. Да оглянись ты вокруг! Погляди, как мы сидим. Возможно ли, что мы сидим и пьем вино, а этот молодой человек прямо перед нами спокойно корчует пень?
— Пень… — задумчиво проговорила Анжела, отхлебнув.
— Пень, пень, — покачал головой Борис Николаевич, и Стаканский, спортивно помахав им рукой, также вскрикнул:
— Пень!
— Интересно представить этого, — сказала Анжела, — который мозг нашей планеты, у кого в черепе сидит эта цивилизация… Он ходит больной, кричит, друзья хватают его за фалды… А может быть, это один из нас — вы или я?
— Или, может быть, он… — произнес Борис Николаевич, пристально посмотрев на сына.
Стаканский напряг все свои силы, его мускулы упруго вздулись, вздулись и вены под кожей от последнего нечеловеческого усилия. Стаканский разом распрямился, и огромный пень, бывший некогда дубом, видавшим еще, пожалуй, Куликовскую битву, с треском и стоном вышел из земли. Стаканский высоко поднял пень над головой и, торжествуя, снес его на берег, где выбросил в темные воды Клязьмы — пень поплыл, задевая корнями дно и баламутя воду.
Стаканский почувствовал внезапный приступ голода, он вернулся к столу, наложил себе салатов, остывшей картошки, отрезал пирога. Он ел и видел себя в зеркале, как он ест, время от времени переводя дух и вытирая пот со лба, видел, как отраженный человек берет крупные куски мяса, картошки, наматывает на вилку вермишель, обмакивает в соус и отправляет в рот, проталкивает глотательными движениями и, уже пережеванная, бесформенная масса немедленно начинает растворяться в желудке под действием кислотной среды, идут химические реакции, вещества медленно движутся внутри, непрерывным потоком — и вдруг он отчетливо подумал: так не бывает, когда сидит человек один перед зеркалом и ест, ест…
— Что он там делает? — послышался с улицы сдавленный шепот.
— Он ест.
— Ест?
— Ест, ест. Он — ест.
Вошла Анжела.
— Пора спать, — сказала она. — Отец рекомендует мне лечь наверху, в мансарде. Мне и самой там нравится больше всего. Сожалею, что ничего не получится сегодня…
— Я к тебе тихо приду, — сказал Стаканский, неприятно улыбнувшись с полным ртом. Он уже знал ответ:
— Не вздумай! Я страшно громко кричу. Мне бы не хотелось, чтобы старик…
— А если тихо, шепотом?
Анжела поколебалась, как бы прислушиваясь к чему-то внутри себя, Стаканский затрепетал…
— Нет уж, уволь, — подытожила она. — Будь терпелив, как настоящий мужчина. У нас впереди еще много времени, ты не представляешь, какая прорва! Поверь, я очень сожалею. Положи-ка мне винегрета. И свинины. Последнее время мне совсем перестал нравится твой старик …
Вошел отец и присоединился к ним. Втроем они быстро доели все, что было на столе, затем пожелали друг другу приятных сновидений.
Анжела, взяв канделябр, поднялась по винтовой лестнице. Отец устроился внизу, в гостиной. Стаканский пошел через двор, в дровяной флигель.
Ему не спалось, он курил сигарету за сигаретой, задыхаясь в тесном помещении, в табачном чаду, у него заболели легкие, он вышел на воздух, вздохнул полной грудью и осмотрел темный на фоне неба дом… Внезапная идея взволновала его. Он разыскал в щели за дровяным флигелем тыкву, деловито щелкнул ее по лбу, тыква отозвалась глухим звуком «Ум-м!» Все было вполне логично: в случае чего, он скажет, хотел, мол, пошутить, напугать…
Стаканский обошел дом и проверил прочность водосточной трубы, по которой лазал в детстве. Кряхтя, он взобрался на крышу, осторожно дополз до окна мансарды. Если Анжела не спит, она непременно увидит тыкву и откроет ему окно. Сердце его бешено колотилось, от волнения он не сразу зажег спичку… Наконец, тыква озарилась бледножелтым пламенем, Стаканский подождал, пока разгорится, и приблизил тыкву к окну… И тут он увидел тыкву, как она отразилась в черном стекле, с дрожащей свечой внутри… Лик Анджа был невыносим. Стаканский вздрогнул, потерял равновесие и заскользил вниз, тыква вырвалась из рук и оба плюхнулись в Клязьму. Вода была холодной, Стаканский, отчаянно борясь с течением, выгреб к берегу и зацепился за кусты ивняка. Течение в этом месте было быстрым, какая-то крупная рыба ткнулась ему в колено, он поднял глаза и увидел тыкву, ее вынесло на фарватер, она плыла, улыбаясь, и невозможно было отвести глаз от этого зловещего огня…
Нет, не надо больше, подумал Стаканский, стоя во дворе, мокрый. Внезапно его ощутимо качнуло, земля ушла из-под ног… Дом, казалось, был совершенно мертв. Вдруг он услышал, будто скрипнула внутренняя лестница, будто кто-то поднимается по ней… Он напрягся. Звук больше не повторился.
Стаканский обошел дом вокруг, поднявшись садом. Старый дом, потеряв свою монументальную трехэтажность, предъявил утлый низкий фасад, и в этот момент он услышал явные ритмические толчки… Старый дом дрожал, с его крыши змеистыми струйками стекал снег. Стаканский пошатнулся, ухватившись за цветочную тумбу, на которой тоже ритмически дрожала вафельная шапочка снега… Землетрясение! — пронеслось в голове, — одно из тех безобидных московских землетрясений, когда качаются люстры и ползут платяные шкафы…
И вдруг он услышал далекие стоны, крики… Кричала женщина, словно было ей очень больно, словно били ее бичом… Стаканский поглядел вдоль спящей улицы, все окна были темны, редкие фонари отбрасывали сетчатые круги света на снег, его отдельные кристаллы еще кружились, наподобие июльской мошкары… Какое мне дело до этих кричащих в ночи людей, на которых падают люстры, движутся в темноте платяные шкафы…
Москвичи помнят эту странную ночь, когда в каждом доме раскачивались люстры, в буфетах звенела посуда, и двигались по коммунальным коридорам детские коляски — последнее в столице землетрясение, вернее, его дальнее, необязательное эхо…
Стаканский вернулся в дровяной флигель, разделся догола, выпил остатки водки, обильно закусил и лег среди дров. Ему приснилось, будто отец поднялся в мансарду, чтобы поставить Анжеле клизму. В руках он держал огромную, краснокоричневую трехведерную клизму, на голове у него был звездный ночной колпак, он улыбался, Анжела отпахнула одеяло, она была в черных узорчатых чулках, с полоской розовой кожи, пересеченной резинкой, отец понял, чего она хочет, засуетился, потерял очки, положил клизму на ночной столик, вдруг сам сновидец оказался на месте своего героя — волнуясь, Стаканский взгромоздился на женщину, но ничего не получалось, красавица молодая козочка дрожала на краю обрыва, а над ней летал страшный черный муха, и тут кто-то ткнул его в зад, он оглянулся и увидел отца, который невозмутимо, автоматически ставил ему клизму…
16
Утро было пасмурным, Стаканский увидел свет сквозь кустарник собственных век, за которым все еще метались верные псы королевской охоты — последнее из каскада кошмаров.
— Не трогай моих лошадей… — прошептал он сквозь сон, и окончательно проснулся — от глухих шагов отца по земляной дорожке…
Вот пискнула на двух нотах калитка, выпуская отца, смолкли по гравию зернистые звуки, и все это было настоящим, вещественным, как яблоко в ладони, — счастьем, которое хотелось остановить фаустовским жестом мудрости.
Стаканский стоял в позе Властелина Времени, скрестив руки на груди, покачиваясь на скрипучих купальных мостках. Он ясно представил, как входит в мансарду, улыбаясь, и видит воздушную спящую Анжелу, чувствует мощное желание. Почему-то он никак не мог вообразить, что она бодрствует и смотрит на него, не хватало бесстыдства предложить ей позы, о чем он так мечтал, вспоминая порнографические фильмы, боялся он также, что слишком скорая эякуляция лишит его силы…
Тут вчерашняя тыква, обугленная, вернулась домой, с гулким стуком ткнувшись о мостки, как гроб в «Рублеве»… Стаканский вдруг подумал, что Анжела опять сбежала, с нарастающей тревогой поднялся в мансарду, тихо постучал, ответа не последовало, он надавил на дверь — комната была пуста, кровать кокетливо заправлена, пуста.
Стаканский рассмеялся в голос и приник к холодной перине, лаская подушку и простыни, он нюхал и целовал силуэт, оставленный девушкой в постели — ее набитые куриным пухом плечи и груди, медленно спускаясь ниже, до самых кончиков ее пальцев на ногах…
Он заглянул под кровать и увидел пару подследников, в глубине — свой детский ночной горшочек и розовый, женственный, аккуратно завязанный в узел — презерватив.
Стаканскому стало тоскливо и тошно, особенно до тошноты было жалко отца, который приводил сюда одну из своих длинноволосых старух, почему-то именно сюда, а не в гостиную, на широкий ковер… Не видела ли этой гадости Анжела, если искала горшочек, подумал он и, морщась, двумя спичками взял гадость и вывел ее за окно. Кондом плюхнулся в Клязьму и поплыл, покачиваясь, как поплавок, вдруг какая-то молниеносная рыба заглотила его — подумалось, что она родит множество мелких Стаканских, братьев его и сестер…
Тут раздался внизу бодрый шум ватерклозета, звук откидываемого крючка, скрип. Стаканский вздрогнул и, просияв, бросился по ступенькам.
— Ау, где ты? — послышался звонкий голос Анжелы.
Стаканский пробежал по нижнему коридору, свернул за угол, влетел в гостиную. Бачок набрал дозу воды и замолчал. Наверху простучали шаги. Стаканский, закрутившись на винтовой лестнице, влетел на галерею, но обе спальни были пусты. — Анжела, я здесь! — радостно крикнул он и захлопал в ладоши, но она не отозвалась, тогда он сбежал в сад, спустился на пляж, но и там не нашел ее… — В прятки! — крикнул он на воздух и двинулся разыскивать ее, минут пять блуждал по коридорам и комнатам, но вскоре понял, что слышит лишь скрипы и стуки, обычные для неодушевленного дома.
Калитка была распахнута настежь, он схватил свою сумку и выбежал, быстро прошел дачную улицу, свернул и увидел маленькую фигуру в розовом платье, Анжела вошла в автобус, который, налившись звуком, будто огромный жирный жук, тут же тронулся, Стаканский пробежал через пойменный луг к станции, все время видя автобус, петляющий вдали по объездной дороге, на станции он увидел автобус, стоящий на следующий рейс, и хвост электрички, тогда, миновав переезд, он добрался до параллельного шоссе и легко, как в хорошем сне, остановил первый же грузовик, но машина шла медленно, уже переводя нас в сон дурной, на станции Храпуново чуть было не догнав электричку, снова отстала, в черте города Стаканский взял такси, но на вокзал опоздал всего лишь на минуту, Анжелин голубой бант мелькнул на сходе с эскалатора метро, Стаканский оказался в следующем поезде, и в конце этой непрерывной потной погони дверь комнаты хлопнула перед его носом.
— Кто там? — раздраженно отозвалась Анжела.
Стаканский повторил стук и его недовольно впустили.
— Я звал тебя, — вымолвил он.
— Когда?
— Там, — весело махнул он рукой, — на даче.
Анжела весьма натурально изобразила удивление и уставилась на него.
— Ну хорошо, — скучно вздохнула она, не желая продолжать игру. — Допустим, я действительно была у тебя на даче. Но зачем же так преследовать меня? Что — «я думал», «я хотел»? Заруби себе раз и навсегда на своем длинном носу: я никогда не буду с тобой. Садись, — сказала она примирительно, увидев, как он заморгал глазами. — Выпьем кофе. Недолго — я очень устала, — Анжела отворила шкаф, разыскивая чашки…
— Почему такие как ты думают, — говорила она, стоя к Стаканскому спиной, — что они могут рассчитывать на таких как я?
— Но Анжела! — вскричал он. — Вчера…
— Не было никакого вчера, слышишь? — прошипела она. — Это тебе опять приснилось.
Кофе поспело. Анжела ласково разлила по чашкам, Стаканский сделал слишком большой глоток и скорчился от боли. Анжела похлопала его по спине. Вдруг он увидел галстук и, раскрыв рот от ужаса, присмотрелся к нему.
— Это галстук отца, — сказал он. — Откуда он здесь?
— Это галстук Анджа, — возразила Анжела.
— Странно, — пробормотал Стаканский, — у отца есть такой же.
— Был, — вздохнула Анжела, — Видно, это и вправду галстук отца, и Андж попросту спер его, пока ты там ползал в нокауте. Он это любит.
Стаканский отыскал глазами свою серебряную рюмочку на полке, между свечой и метеорным камнем — «подарок жениха»…
— Какая гадость, — сказал он с досадой.
— Почему гадость? — невозмутимо возразила Анжела. — Каждый живет по-своему. Для кого гадость, а для кого мед.
— Коммунисты, — прошептал Стаканский. — Большевики проклятые. Быдло.
— Вот-вот, — сказала Анжела, переворачивая чашку для гадания. — Настучу на тебя в партком. Заберут тебя в армию, ты там повесишься на водопроводной трубе и перестанешь за мной бегать… Ну послушай, Андрюшенька, тошно же! Поверь, это совершенно безнадежно, абсолютно. Никогда — слышишь, как звучит этот убийственный анапест? Как стук колес уходящего поезда, душка. Ни-ког-да… Ах, смотри! — встрепенулась она. — Рыбка и киска. Значит, в ближайшие дни меня ожидает большая радость, какое-то приятное наслаждение… Ручеек. Дальняя дорога с любимым человеком. Н-ну. Дай Бог мне милого встретить, — поддразнила она.
— Тьфу на тебя, — тихо сказал Стаканский.
— Ага.
— Я тебя ненавижу.
— Это любопытно.
— Я тебя просто убить готов.
— Так, — Анжела уселась верхом на стуле, облокотясь на его ореховую спинку.
— Я презираю тебя. Ты мерзкая ничтожная тварь, красивая дрянь, ты и знать не хочешь, что кроме тебя на свете есть другие люди.
— Да-да, — подбодрила Анжела, когда он внезапно запнулся.
Стаканский почти уже плакал, он тускло сознавал, что сейчас падет на колени, омоет слезами ее гладкие ноги: вся жизнь моя, вся жизнь!
— Ты жалкая маленькая дура, мне скучно, паршиво с тобой, провались ты на месте вместе со своим монстром Анджем… Ты нечистоплотна, ты не умеешь мыться. Я нюхал сегодня твою постель. От тебя пахнет хуем.
Анжела наконец удовлетворенно кивнула, встала и распахнула дверь, застыв в насмешливом ожидании. Стаканский покорно вышел, похлопывая себя по коленкам. К счастью, никто не видел этой сцены. В дверях он замешкался и вдруг, неожиданно для самого себя, нежно погладил Анжелины побелевшие пальцы на рукоятке замка.
— С каким удовольствием, я бы все это переписала набело… — загадочно вздохнула она.
Дома отец с порога бросился к нему.
— Ты не видал мой галстук? — спросил он, пытливо заглядывая ему в глаза. Стаканский повел плечами и, шатаясь, пошел прямо на отца и, если бы тот вовремя не отскочил, он прошел бы сквозь него, как сквозь голограмму.
— Где же этот чертов галстук! — кричал отец в прихожей, почти в истерике.
Стаканский лежал на кровати вниз лицом, длинный, вонючий, в ботинках, в плаще… И так будет всегда, слышишь, — говорил внутри какой-то мерзкий баритон. — Ты даже не сможешь найти себе элементарную шлюху, которая бы успокоила тебя, ведь тебе именно сейчас нужно это… как его… спрятать в мягкое, в женское.
— Такой бордовый, в крапинку!
Отец хранил свои галстуки на вешалке в прихожей, и Андж вполне мог, намотав его на палец, по-хозяйски сунуть в карман.
— Это был мой любимый галстук, — старчески вздохнул отец и тихо поскребся в дверь, но, не услышав ответа, кряхтя, прошел к себе.
Стаканский заснул и проснулся. Неизвестно сколько прошло времени. Он вышел в коридор, чтобы раздеться и привести себя в порядок. Отец стоял перед зеркалом.
— Не так жалко галстука, как заколку, — сказал он. — Нечто вроде изящной змеи — скромная, но выразительная деталь. Деталь, друг мой, имеет наиважнейшее художественное значение… Смотри, вроде не так уж и плох, а? — он помахал в воздухе серым в полоску, прошлогодним своим галстуком, шутя примерил его в паху, поболтал между ног и значительно подмигнул.
17
Солнце все более распалялось, отражаясь в глазах прохожих женщин, с каждым днем он все чаще ловил этот насмешливый, на все готовый взгляд, с карнизов свисали длинные развратные сосульки, падая с твердым намерением убить, они звонко разлетались вдребезги, на время своей агонии мешаясь с битым стеклом улиц, которому повезло несколько больше — с точки зрения вечности; капли падали на нос, обжигая, запахи были новые, внятные, даже самые гнусные новизной радовали, хотелось, как всегда весной, бросить курить, и была горькая, комом в горле стоящая тоска, словно последний стакан незадолго до рвоты — Анжела всегда была близко, наверху и внизу, за бетонными перекрытиями здания, часто она выскакивала из-за угла, с кем-то смеясь, он видел ее голубые и алые фрагменты среди чужих голосов и торсов — она была везде, они ни разу не поздоровались за две недели, она забыла о его жизни, как забывают о жизни комара, прихлопнутого ладошкой.
Отец выстукивал грустную детскую повесть в стиле horror, не для слабонервных детей, и было особенно тяжело засыпать под его назойливые, как песня пьяного соседа, слова…
Главным героем повести была тыква, старая сухая тыква, пустая, выдолбленная, — тыква со свечкой внутри, которую два друга вырастили, выдолбили, пугали ей кого ни попадя, затем забыли, а она снова явилась, стала пугать, как пуга, довела до маразма… Самое странное было то, что оба эти друга были патологически похожи — у них были одинаковые лица, и они оба любили одну женщину, и у нее родился ребенок, и никто не мог понять — чей он сын — его или его?
И когда он, это новоиспеченное Эго, выросло, оно всю жизнь колебалось, мучилось, искало отца, пока его не прирезали, пристрелили, отравили или как там еще?
А он уже был уходящим: рассеянные заботы пятикурсника, необязательные консультации, дипломный проект-рыба, как и у всех, версифицирующий чужие давнишние мысли, и вывесили списки на распределение, и Стаканский увидел вдруг против своей фамилии — Тамбовская область, Моршанск.
Стаканский всегда тонко чувствовал ложь, откуда бы она ни исходила, казалось, у него имелся особый орган, улавливающий малейшие сигналы лжи… Король встретил его брезгливым взглядом — «поверх очков» — как можно было бы записать, будь на нем очки.
— Распределение дает деканат, — официальным тоном ответил он. — Мы не имеем и не можем иметь к этому никакого отношения.
— Но разве…
— Разве. Ты, между прочим, не заслужил никакого поощрения. Ты плохо работал, был неискренен. Ты клеветал на тех, кому завидовал, на тех, кто лучше тебя. Вон отсюда. Чужак. Мне даже противно пробивать тебе мазик. Уходи, студент. Бывший студент.
Король взял со стола какую-то тряпку, скомкал и швырнул Стаканскому в лицо:
— Иди вытрись. Нам не нужны пидорасы, онанисты, наркоманы. Нам нужны люди, — он показал широкой ладонью на белую голову, — с чистым сердцем, холодным разумом.
Стаканский ушел с тряпкой на лице, как рисунок Магритта, а через несколько дней его вызвали в деканат.
— Мы вынуждены реагировать, — сказал декан, старый и лысый, с шишкой на лбу, с родимым пятном в пол-лица. Говорили, он вызывает к себе хвостатых студенток, вываливает на стол содержимое брюк, приказывая: «Жюй, шлуха!» И они жуют, вяло поводя хвостами…
— На вас пришла бумага, — продолжал он, пытливо глядя студенту в глаза. — «Телега», на вашем неофициальном арго. Из милиции.
— Я не был в милиции, — прошептал Стаканский. Он всегда говорил с начальством каким-то жадным, страстным шепотом.
— Ну как же, сиповато возразил декан, пальцем прикрывая хромированную оправу дырочки в горле, отметины былой войны. — Вот тут ясно написано: Задержан в метро. Был пьян. Нецензурно выражался. Ударил сержанта валенком. Приставал к девушкам. Какая низость! — он затрясся в тихом возмущении, гремя медалями.
— Не было этого! — вскричал Стаканский, и слезы бессилия брызнули из глаз, сверкнув на солнце.
— Я вам верю, юноша, но существует бумага, — старик нашарил свои костыли, грузно встал, массируя живот.
— А если… — промямлил Стаканский, как бы вильнув хвостом.
— Оставим в институте, — серьезно сказал декан, расстегивая молнию брюк, — Дадим защитить диплом.
Стаканский вдруг почувствовал непреодолимое бешенство: не помня себя схватил со стола лист процентовки, смял и швырнул декану в лицо, выбежал… Это был самый последний решительный поступок в его жизни.
Все было кончено. Он стоял в вестибюле внизу и прощальным взглядом осматривал абаки колонн — единственное, что нравилось ему все эти годы. Тополиный пух лодочками скользил по паркетному полу, Стаканский вспомнил: вот так же стоял он тут около пяти лет назад, абитуриентом, наблюдая пух… Со ступенек, размахивая тобосами, сбежало несколько смеющихся Анжел — вероятно, только что спихнули чертежи.
— Мы подаем вас на отчисление, — подумал Стаканский. — Мы заворачиваем вас, маленького, окровавленного, в тряпку и подаем через окошечко, кладем на весы… И вас забирают в армию, в Афганистан или в Чечню, где вы вешаетесь на склизкой ржавой трубе, выпученные глаза, синий язык, так-то.
И все это просто, буднично, деловым росчерком пера в полуподвале, сделали именно с ним, вместо того, чтобы (тут образ Стаканского раздваивается, из униженного с опущенной головой выходит другой, бодрый, веселый Стаканский, он легко заканчивает институт, поступает в аспирантуру, три года еще валяет дурака, пишет свои картины, любит других, прекрасных и загадочных женщин, едет учиться в Верону, все выше, легче возносится, руки в карманах, сигарета в зубах, белый шарф, иду по гнуснейшему из городов мира, молча…)
Был теплый бессолнечный вечер. Стаканский двигался сложнейшим, извилистым маршрутом. Если бы кто-то вздумал следить за ним, он был бы весьма озадачен, недоуменно склоняясь над картой, поднимая усталую голову… У кинотеатра «Слава» Стаканский увидел светловолосую девушку и пошел за нею, слушая музыку ее каблуков, но на Большой Коммунистической его путь наискось пересекла другая, в яркокрасном пальто, с крутыми полными бедрами, и вплоть до Садового кольца он упруго грезил, но у входа в метро изменил ей, подцепив новую, в черных узорчатых колготках: с нею он миновал «Иллюзион», поднялся по Солянке, у Манежа отпустил, увидев неимоверного роста негритянку, ее он проводил вверх по Герцена, на бульваре расслабился и с полкилометра брел совершенно холостым, но вдруг увидел короткую кожаную юбку, она туго обтягивала ягодицы, белые сексуальные чулочки поскрипывали, когда ее ноги терлись одна о другую — стук-скрип — Стаканский внезапно решился, догнал ее, заглянул в лицо, отметив, что она длинноносая, дурнушка, возможно, хоть такая-то будет сговорчива…
— Приятный вечер, просто волшебство какое-то, не правда ли, мадемуазель? Тополиный пух…
Она смерила его коротким оценивающим взглядом:
— И впрямь, волшебство, милорд! То есть, я, конечно, хотела сказать: Ты, дрянь! Пошел вон, урод!
Словно ткнув его в лоб…
Внезапный порыв ветра сорвал с него шляпу, она покатилась в пыли, шелестя, как могла бы катиться и шептать его отрубленная голова.
Над Пресней чиркнула молния, опутав эфемерной грибницей коричневый берияскреб, потемнело, девушка, подумал он, пустите несчастного под зонтик, впрочем, можно сказать «ненастного», что было бы смешно девушкам, урод, ур-род, ур-р-род… — но все вокруг уже бежали, в таком сосредоточенном ужасе, будто с неба лилась кислота. Стаканский двигался среди них медленно, подобный не вполне ожившей статуе, гром и молнии бились одновременно, уничтожая друг друга, бульвар превратился в широкую реку, несущую сор, опавшие листья, дохлых голубей, вдруг бахнуло и затрещало прямо над головой, в ближайшем пространстве, молния ткнулась в Пушкинский Дуб, развалив его на дымящиеся обломки, откуда-то принесло тину, длинные змеистые водоросли, дамское белье… Внезапно все кончилось, небо разорвалось, вода схлынула, мир стал ослепителен и зорок, от прохожих валил густой пар, создавая впечатление залитого пожара.
На Цветном бульваре, излюбленном месте прогулок МИРЕУшников, он увидел с каменным ликом проходящую Веру — шваброобразная, в своем грязнобелом плаще, похожая на мокрую моль — девушка, наверно, надеялась случайно встретить кого-то, потерянного навсегда… Прощай.
Стаканский чувствовал себя обновленным, вымытым снаружи и изнутри, способным сейчас на все, он быстро, чтобы не сбить хмель внезапного решения, добежал до Солнышка и, забыв даже постучаться, влетел в комнату Анжелы, и только тут, в зеленом подводном сумраке, улыбка погасла на его лице.
Посреди комнаты, нерешительно осклабившись, с портретом Сталина в руке стоял Гиви. Обстановка преобразилась: похоже, над обоими жилищами произвели какое-то математическое действие, но пятно в виде индюка было явно из комнаты Анжелы.
— Не знаю, куда повесить, — печально проговорил Гиви, жестикулируя портретом, отчего нарисованные черты перемешались, образовав совсем другое, безобидное и даже умное лицо.
— А где?.. — спросил Стаканский, не в силах выговорить имени и растянувшись в длительном «э-э-э…»
— Все перепуталось, — сказал Гиви, махнув портретом, и Сталин на миг обернулся женщиной. — У нас новый комендант, бухло, всех переселили. И некому сказать… Слушай, говорят, Черненко умер… Погоди, сегодня такой день… Мой друг, Марлен Сакварелидзе, тоже умер, покончил с собой от несчастной любви. Он был лучший мой друг. Марлен — это значит Маркс, Ленин… Подожди. Не сердись на меня. Почему — если грузин, то сразу пидорас, петух? Я просто люблю этого человека, — Гиви нежно погладил портрет и вдруг захлебнулся рыданиями, обхватив голову руками.
Стаканский медленно вышел, двинулся вниз по лестнице, забыв, что существует лифт. Он прошел все семнадцать этажей, закручиваясь на поворотах, и попал в подвал. Пахло горелой изоляцией и торфом. Он отворил знакомую железную дверь и оказался в тоннеле, где мирно горели фонари и двигался теплый поток воздуха. Стаканский пошел в неопределенность, стараясь наступать на каждую шпалу, как в детстве. Мало-помалу далекий гул стал принимать очертания, и Стаканский побежал, видя перед собой все более четкую собственную тень. Поезд настигал его, отчаянно сигналя, некуда было свернуть. В последний момент он увидел свет впереди, выбежал на станцию и рухнул между рельс, сразу за тормозной буквой. Поезд накрыл его и остановился над ним.
— Он там, внизу, — послышался чей-то сухой голос.
— Сейчас-сейчас, — ободряюще откликнулся другой.
— Внимание, отодвиньте поезд! — произнес кто-то в мегафон, над головой лязгнуло и потащилось.
Стаканский узнал станцию «Динамо», на платформе стояло несколько онцов, они улыбались, помогая ему подняться, поезд торжествующе прогудел и зачухал, это был грузовой поезд, с балластом из огромных колес в кузове.
Его приволокли в отделение, где было ужасающе светло.
— Начнем, пожалуй, — сказал следователь, маленький, лысенький, с угрюмым выражением лица.
— Был в нетрезвом виде, — прочитал он, выкрикивал антисоветские лозунги, изнасиловал пожилую женщину…
— Это не тот, — тихо сказал онец, стоявший за спиной.
— Задержан в метро, — прочитал следователь по другой бумажке, — нецензурно выражался, приставал к девушкам…
— Это он, — тихо сказал онец за спиной и ребром ладони ударил Стаканского по шее.
— Умный, наверно, — пошутил следователь и, перегнувшись через стол, ткнул Стаканского в щеку пером, Стаканский откинулся навзничь, тогда смекалистый онец схватил его за кадык и больно сжал, Стаканский неожиданно пукнул, сержант, полный искреннего возмущения, сшиб его с табурета и принялся топтать ногами. Разъятым на части зрением Стаканский увидел, как следователь проворно запихивает в большой белый валенок — также белый — силикатный кирпич…
Он очнулся в машине, совершенно больной. В окошке бешено неслись листья и стволы, инстинкт подсказывал, что лучше не шевелиться — так поступает мудрый жук-притворяшка.
— Неохота копать, — вяло заметил сержант.
— Мне кажется, Вселенная все-таки конечна, — пробормотал шофер, вероятно, продолжая давний разговор.
— Вот-вот, — оживился сержант. — Если бы она была бесконечна, то и жизь была бы бессмысленна…
— Недавно я прочитал роман, — многозначительно проговорил шофер. — Это был очень странный роман. Его автор ненавидел врачей. Врачи, по его мнению, были убийцами, врагами народа… Он до того, я слышал, ненавидел врачей, что даже хотел всех кегебистов в романе заменить на врачей, да не вышло… Всех не перебьешь!
Машина резко остановилась, как бы о невидимую упругую преграду, оба оценивающе посмотрели на труп.
— Земля мерзлая, — сказал сержант, — а мы позабыли кирку.
— Может лучше на свалку, как того? — предложил шофер и, не дожидаясь ответа, вывернул руль. Через полчаса машина остановилась посреди безбрежной, местами дымящейся, зловонной свалки, Стаканского вытащили на волю, засунули в картонную коробку, плеснули сверху стакан бензина.
— Может, проломить ему череп? — сказал сержант.
— Пошел он в жопу, — ответил шофер и бросил спичку.
Машина развернулась и уехала, внезапно хлынул дождь и погасил пламя. Стаканский выбрался, кашляя, из кучи мусора. Вернувшись домой, он успокоил ожоги растительным маслом.
— Я не люблю тебя, — печатал ночью отец. Стаканский невнимательно вслушивался, реагируя фалангами пальцев.
— Я вообще давно не способен любить, но если ты уверена, что тебя хватит на нас обоих, я готов согласиться на эту приятную авантюру. Ах, Анжела, рано или поздно ты поймешь: нас связывает лишь сексуальность, и ты видишь во мне лишь объект приложения своей неумеренной страсти, от которой дрожит земля, как от шагов чудовища, ты, женщина!
Впрочем, меня устраивает такой вариант, буду с тобой до конца честен. Дерзкая, если ты выйдешь за него замуж, это будет столь же безнравственно, сколь и головокружительно, целую тебя, радость моя, последняя, добавлю, радость!
— Анжела сложила листок, разорвала на мелкие кусочки, возведя его в квадрат, и сдула с ладони. Любовь ее рассыпалась, — продолжал отец, переходя в другой план. — Она упала на свою узкую казенную кровать, рассыпав чудесные волосы на подушке, — отец заменил «рассыпав» на «разливая». — Она плакала навзрыд по своей уходящей любви, ей было горько, что ее больше не будет и будут другие, незнакомые, но все же возвращалась отроческая мечта о многих, борющихся за ее любовь, как за место у ног королевы.
— Перестань, — говорила с соседней койки мышь, замолчи, дура! — вдруг закричала она, и последнее наконец подействовало: Анжела замерла на всхлипе, соединив острые лопатки.
Все это было так подло, так неестественно — эта прямая переделка жизни в литературу, «другой, совсем новый роман», это была гнусная клевета на женщину, которую Стаканский любил, и он чувствовал ревность за те подробности ее жизни, которые отец выведал у нее, высосав ее душу, словно какой-то зловещий паук — о ее комнате, о людях, ее окружавших, — но слушать это было все-таки величайшим наслаждением:
— Ты еще очень маленькая девочка, — продолжала Мышь, закуривая, — и не понимаешь, что первый условен, он — нереален. Это просто человек, совершающий операцию. Это доктор. Он должен быть квалифицированным и не более того. Есть целая порода таких докторов, их обычно очень любят недалекие девочки. Они притягивают к себе, что твоя телепатия, и ловят вас на крючок, в буквальном смысле, хи-хи…
Мышь истерически засмеялась, откинувшись на подушку с хорошо дымящей сигаретой в руке. Анжеле тоже захотелось курить, вдруг она почувствовала что-то колкое внизу живота и, спохватившись в тапочки, кинулась вон из комнаты. Боль в паху сделалась невыносимой, Анжела едва добежала до туалета, заперлась в кабинке и в этот момент конус Мэлора, медленно вращаясь, навсегда исторгся из нее… Анжелу долго и болезненно рвало желчью, потом, кутаясь в халат, она шла по коридору, из дверей выглядывали люди, показывали на нее средними пальцами, будто римляне, лица остро и зубасто улыбались навстречу.
Придя домой и сев на кровать, она вдруг сказала себе, что Мэлора больше нет, и тут впервые за много недель почувствовала на себе свое собственное лицо. Облик Мэлора соскользнул с него, как маска. Анжела быстро поднесла к глазам руки — свои! Глянула в зеркало — батюшки! — вместо греческого, от избытка энергии дышащего Мэлора, увидела — такую же дышащую — себя.
Анжела подпрыгнула на месте, схватила себя за пятки и, перевернувшись, шлепнулась на пол: высоко вверх взлетели волосы — длинные, золотые, ее. Откинувшись, улыбкой выбросила в зенит одно лишь слово:
— Я!
18
В последний день, почему-то именно в полночь, послышалась ключевая возня в прихожей, затем корректный нежелательный стук. Стаканский машинально огляделся: прятать было нечего. Отец вошел, как из-за кулис на сцену, откидывая назад седую шевелюру. Руки были перегружены трехдневной почтой.
— Это очень хорошо, — заметил он. — очень! — уточняюще указав на самое несчастное место в работе, которое превращало ее из шедевра в ученический плевок и одновременно — не могло не существовать. «Венеция» — называлась эта картина, она изображала залитую водой Манежную площадь, полузатонувшие автомобили, каких-то бородатых плотовиков…
— Тебе, между прочим, письмо, — добавил отец, кладя живой розовый конверт поверх пачки газет.
— Из Стамбула, Моршанска? — поинтересовался Стаканский, и сердце его заколотилось от знакомого почерка.
— Нет, скорее, из соседнего дома, — сказал отец, рассеянно барабаня пальцами по штемпелю, подбадривая пока что недоступные буквы Анжелы. — Да, и еще вот повестка. Но это явное недоразумение.
Стаканский тупо уставился на листок из военкомата, между строчек уже кто-то бежал, умирая от жары, по пыльной дороге, чья-то волосатая рука плотоядно клацала щипцами…
— Как твой диплом? — спросил отец, он и понятия не имел, что Стаканский с месяц как отчислен. — Ты не запускай, напрягись. Последний, так сказать, дюйм… Сейчас надо жить, как никогда прежде, наступают удивительные, новые времена, я это чую, есть у писателей, вероятно, особый орган предвидения. Никто из вас и понятия не имеет, какой свет открывается впереди. Мы прекратим убивать себя, мы займемся спортом, мы бросим курить, мы поедем в Париж, в Лондон! Ты, часом, не собираешься жениться, дружок? Не вешай носа! — он любовно посмотрел на ее небольшой портрет, еще сырой, окончательно свободный от образа Майи. — Отлично, отлично, — проговорил он уже в дверях, как всегда, снимая голову и отшвыривая прочь.
Разрывая конверт, Стаканский отметил странность чрезвычайно крохотной, в три строки записки: Номер моей новой комнаты 1432. А.М. — будто это написала не Анжела, а какой-то умелый интриган, играющий людьми. Он посмотрел на часы и решил немедленно ехать. Зазвонил телефон, отец взял трубку: Да. Да, я. Письмо? Интересно. Сейчас у меня студия. Я приеду в десять. Как же не пустят — не посмеют. Ну, назовусь отцом… — если бы Стаканский вслушался в эти приглушенные слоги, то он мог бы подумать, что отец комментирует действительность закадровым голосом.
Метро являло бесконечное разнообразие желтых человеческих отражений. На вахте, узнав, куда и к кому он идет, покачали головами. За новой дверью послышалось все же Анжелино — Да. Ее рука и сапожок были видны из-за шторы.
— Ты очень кстати, — сообщила она, отходя от окна, где что-то выглядывала в ночи. — Я собираюсь идти, ты меня проводишь.
Она протянула ему весьма тяжелый при своем объеме, как будто бы с золотом мешочек: в таких школьники носят сменную обувь. Ничего не говоря, закутавшись в платок, Анжела повела Стаканского парком. Город был пройден, сквозь лес едва пробивались его невозмутимые фонари, весенняя дорожка была черна, холодная вода луж все же блестела, ветер бушевал снаружи, в лесу меж стволов он распадался на неожиданные ознобные струи…
Они вышли на круглую поляну. Анжела взяла из его рук мешок, знаком приказала Стаканскому остаться, вышла на центр поляны и высоко над головой подняла камень.
— Возьми меня, — сказала она.
Стаканскому померещилось, будто девушка подтянулась на руках за вросший в пространство камень, сделала выход силой на какую-то невидимую поверхность и вдруг сорвалась в снег. Отряхиваясь, она подошла, молча засунула камень в мешок, и они двинулись столь же торжественно через мрачный лес.
В своей комнате она усадила Стаканского за стол и достала темную, сильно запыленную бутылку.
— Это кровь невинной девушки, — сказала Анжела.
— Неужели еще существуют невинные девушки?
— Была одна. Я набрала ее крови. Дома, в Ялте, в прошлом году. Я сохранила ее в холодильнике.
— Кто же эта невинная девушка?
— Я. Когда была таковой.
Стаканский помолчал. Ему было мучительно тяжело, и больше всего на свете он мечтал о глотке чего-нибудь спиртного.
— Это вино Анджа, — сказал он.
— Да. Это особое массандровское вино, ядовитое, Андж припас его для самого торжественного в жизни случая.
— Когда мне будет наплевать на тебя? — подумал Стаканский.
Анжела глазами показала на стол, он откупорил и налил в стаканы, опять в эти граненые общажные стаканы…
Он вдруг вспомнил Майю, ясно представил, как она была хороша. Сейчас где-то жила она, в киевском доме, в московском общежитии, в каком-то другом, неведомом месте, но это была уже другая молодая женщина, с неузнаваемым лицом, непостижимыми мыслями, а той не было нигде, кроме портретов, что еще более мертво, чем от времени мутное отражение в зеркале.
Когда Стаканский произнес тост и собрался выпить, Анжела вдруг выхватила у него стакан.
— Кажется, оно всамделе отравлено, — сказала она.
Он поморщился, глядя, как Анжела пытается слить вино обратно в бутылку. Пальцы ее дрожали, и жидкость проливалась на скатерть, расползаясь туманным пятном. Стаканский мягко взял из ее рук стакан и одним глотком выпил. Анжела рассмеялась и выпила тоже.
— Знаешь, за что мы пили? — сказала она. — Я, пожалуй, выйду за тебя замуж. Это мое окончательное решение. Тебе не страшно? Что с тобой?
Стаканский медленно сполз со стула, Анжела поддержала его.
— Ну что ты? Слишком неожиданно, да? Долго тебя мучила, да? Хочешь, поцелую? Впрочем, нет! — отрезала она, уже было потянувшись. — Это успеется, не будем торопить события. Налей-ка еще. И уходи. Завтра будет новая жизнь.
Стаканский разлил бутылку досуха, они чокнулись, выпили, он взял шляпу и, поклонившись, вышел.
Внизу он увидел отца, сдающего паспорт на вахте. Стаканского качнуло, он оперся о колонну (землетрясение?) и, снова увидев уходящую к лифту спину отца, понял, что галлюцинирует. Он чувствовал необычное состояние души и тела, не то чтобы боль, но ожидание боли. Попутчики пристально смотрели на него. Время замедлилось, как при отравлении гашишем: он подробно рассмотрел внутренность вагона, каждому заглянул в глаза, а между тем, прошел лишь один перегон… На пересадке кто-то схватил его за плечо, он оглянулся — онец. Его провели по служебным коридорам, выкрашенным в зеленый, электрическими кулисами жизни, обыскали, затем долго везли по незнакомым улицам, вероятно, уже другого города, впустили в светлый больничный покой, прокололи вену иглой. Выводя его на волю, онцы зубасто смеялись, били копытами землю. В троллейбусе его скрутило так, что он застонал от всеобщей боли, внезапно пришла сонливость, он едва добрался до кровати и лег, уснул и сразу проснулся — от боли в животе. Он увидел Анжелу, также пьющую отравленное вино. В комнату вошел отец, посмотрел на него, исчез. Было слышно, как он накручивает телефонный диск. Стаканский провел пальцем по губам и увидел розовую пену. Он почувствовал дохлый вкус рыбьего жира, перед глазами, как иллюстрация, проплыл двойной рыбий пузырь. Вдруг вспыхнул яркий свет и вошли врачи, те же самые, что брали кровь на наркотик. По полу пробежала мышь, словно законный сигнал сновидения. Проснувшись, он попал в другой, более далекий сон: действие происходило на даче, он крался по коридору, сквозь зеркала, подслушивал у двери. Анжела сидела с кем-то в комнате, смеялась, ей, несомненно, было хорошо, рядом с Стаканским кто-то стоял, сдерживая дыхание, Стаканский включил свет — никого.
Я буду жить долго-долго, ведь с возрастом жить становится лучше, интереснее, все ярче чувствуешь краски и формы мира, все полнее испытываешь самые простые ощущения, да, сейчас надо жить, как никогда прежде, ибо наступают удивительные, новые времена…
19
Все горело дьявольским огнем, вокруг и внутри, нестерпимо чесались руки. Папа! Папа! — несколько раз позвал он и еще раз увидел отца, в белом плаще входящим в Солнышко, мелькнула фантастическая мысль, что отец шел к Анжеле… Стаканский ясно сознавал: у него действительно сильно болит живот, и он лежит на полу, у себя дома, пока живой… Вдруг раздался какой-то мерзкий треск — это лопнула картина, пейзаж с Каменным Гусем превратился в звездообразную дыру, сквозь нее просвечивала действительность: стол, стакан и ложечка в стакане…
Стаканский приподнялся на локтях, сил хватило наполовину залезть на кровать, вдруг на подушке стал раздуваться сизый упругий пузырь, сквозняк скатил его на пол, лопнуло еще несколько его холстов… Анжела, подумал он, как горько, ведь я так и не узнал, какая она. Имя придало ему сил полностью забраться на кровать. Тут что-то свалилось ему на голову, он посмотрел — тыква. Откуда она здесь, если она уплыла? Он увидел, как бы сверху, что пытается влезть в эту тесную тыкву, которая уже обернулась в узкий длинный тоннель. И тогда его стало рвать, его рвало кровью и недоваренным вином Анджа, он попытался снять тыкву с головы, но тыква схватила его, он вдруг понял: темное вино Анджа вовсе не было отравлено, и умер он, захлебнувшись в блевотине. Здесь, кажется, полопались все его картины.
(Ему казалось, что жизнь большая, что она позволит все повторить набело, и вдруг выяснилось, что она ничтожна, что она похожа на мелкомасштабную карту, и можно просто скользнуть взглядом из Киева в Москву, из страны детства в стану смерти, что она подобна небольшой повести, которую можно, скучая, прочитать за час, прочитать и забыть, начиная со слов — «Андрей импровизировал грубые…» — и кончая вот этими самыми словами, точкой, закрытой скобкой.)
Часть третья. Каменный гусь
1
Мой дядя, Борис Николаевич Стаканский, состарился внезапно, как будто бы умер: раз утром посмотрел на свою руку и увидел, что она вся такая дряблая, бледная, в смертельных пятнах — рука из крематория, рука из гроба. Такое случается с каждым из нас, но далеко не каждый вовремя замечает сей прискорбный момент.
И ты умираешь… Ты подобен пассажиру, который отстал от поезда: ты мечешься по пустой платформе, и ветер несет придорожный сор, а они поехали дальше — в освещенных окнах, брызжа шампанским, слюной, спермой, и как же им всем насрать на тебя, кроме, разве что тех двух-трех, которые сидят в твоем собственном купе… Впрочем, и им на тебя насрать.
Борис Николаевич был унном. Онны, как известно, образуются путем поглощения людей внеземными созданиями, а также из-за странного, звонкого, какого-то дифтонгового звука на конце русского слова «он». Онны — они очень похожи на людей, но, как вы сами понимаете, вовсе они не люди. Онны не любят сладкого, да и пища вообще не представляет для них никакого интереса, кроме чисто номинального. В этом отношении онны, конечно, напоминают ранних христиан.
Онны и онки не испытывают оргазма, хотя, из боязни разоблачения, они вынуждены симулировать оргазм, что приводит к забавному казусу: именно они — онны и онки — слывут на Земле самыми похотливыми созданиями. Онны вообще не знают любви — они просто ищут друг друга…
Впрочем, никаких оннов не существует: Борис Стаканский выдумал их, когда, еще цепляясь за возможность пройти удобным маршрутом в литературе, сочинял фантастические пасквили, полные осторожных намеков на Подлую Власть. Впрочем, как выяснилось в процессе жизни, и никакой Подлой Власти не существует, вернее, кто бы там ни был у власти — подлец он просто по определению.
Данные «Онны», одна из бесчисленных повестей Стаканского, так и не была закончена, поэтому и в нашем романе эта тема вызывает, скорее, недоумение, чем интерес. А жаль — как заманчиво было бы представить из невозмутимой тьмы с широко расставленными руками прямо к твоему окну летящую Онку — воздух, постепенно набирая плотность, все огнистей, лиственней треплет ее волосы; пришел и ушел шум облаков, обнажив город в торжестве электричества, и вот уже губы ее и нос расплющены о стекло, словно ты не сидишь ночью дома, коченея от ужаса, один, а провожаешь поезд.
Действие происходило в Ялте, зимой. Молодой человек захотел девушку, которая торговала книгами на набережной, но она оказалась онкой, а его соперником стал никто иной как онн…
Многоточие… Повесть так и осталась незаконченной.
Б.Н. Стаканский родился в Киеве, в небольшом доме на Андреевском спуске, в том самом доме, где жил и работал великий Булгаков, известный тем, что хитроумно вел тайную переписку с сильными мира сего, телеграфически расставляя слова в своих странных романах. Или же он делал некие тонкие опыты, как лукавый демон, желая завладеть головой этого придурка, провести невидимые ночные нити к его черепу, чтобы время от времени постукивать внутри шарик о шарик, затаив дыхание в радостной усмешке, мелко-мелко двигая пальцами? Вот он получает единственный, посвященный лично ему том рукописи, тень трубки ложится на страницу (на коей солнечный день, тихо бродят дымные облака) он хмурится, перелистывает немного назад, но не может найти место, которое хотел перечитать, усмехается своей забывчивости (в усы, дорогие товарищи) листает вперед, откидывается и произносит резкое воздушное «Пэ!» — ведь он не может найти и прежнее место: перед глазами снизу-вверх медленно ползут строки, состоящие из каких-то значков, жучков, ракушек — он снова делает «Пэ!» и откидывает книгу далеко на стол, короткими руками, и Воланд охает, бросает вожжи — сорвалось! — ведь он хотел, вращая глазами исподлобья, перемешать костяные шарики в этом черепе, выложить из них новую цифровую композицию и через Голову, отныне хозяину не при надлежащую, транслировать миру свои сокровенные желания — а может быть кто-то так и сделал, маленький, тихий? Может быть, все они, писавшие для него книги — и какой-нибудь Павленко, и какой-нибудь Шолохов, весь Союз Писателей, каждый по чуть-чуть (все раскачивают головами, зажмурив глаза, окружив одинокую фигуру в высокой зале) — ввели в его Голову все это, подавая друг другу знаки чуткими ладонями?
Здесь пора переключить регистр (второй справа) поскольку речь уже зашла об очень серьезной теме, которой мы, увы, никак не можем обойти, ибо она намертво загипсована с самим временем — теме придурка, Придурка с большой буквы — здесь я употребляю это слово в терминологическом смысле.
Придурок был послан, чтобы доказать всему человечеству, что все человечество есть гавно, как в целом, так и в многообразии представителей. Впрочем, сначала надо было убедить каловые массы в том, что раб это звучит гордо, если даже не революционно — в этом смысле, Придурок был достойным последователем Предшественника. Туманно…
Стаканский сочинил роман, на страницах которого постоянно уничтожались Ленин, Сталин и другие им подобные гуси, и хотя рукописи, вопреки заявлению вышеупомянутого, не только горят, но и весьма дурно при этом пахнут, кое-что все же, чрез звуки лиры и трубы, остается, да…
В одной из книг, уцелевшей лишь потому, что после пожара третий, не правленный автором экземпляр, был на сохранении у меня, он разделался с Владимиром Ильичом Лениным вот таким замысловатым и нежным способом.
25 октября 1917 года Владимир Ильич Ленин, как известно, в гриме и парике, в серой классовой кепке (вы, наверное, помните эту поразительную фотографию, единственную, на которой видно истинное, не затуманенное канонической бородкой лицо вождя) преодолев одиннадцать верст по ночному Петрограду, ворвался в Смольный институт для благородных девиц, где и занял кабинет, на дверях которого значилось: «Классная дама», тем самым камня на камне не оставив от собственных рассуждений о роли личности в истории. Если бы он в эту ночь не дошел, если бы не ворвался (весь мокрый от дождя и пота, энергично трясущий руки соратников, скидывая швейцару грязный плащ) если бы не убедил остальных бастардов, что эксперимент надо начать немедленно, обманув пресловутый съезд…
Долгое время и Стаканский, и другие шестидесятники нечто в этом роде и соображали, и даже на эту тему пописывали… Ну а что, если — весь мокрый, энергично трясущий руки соратникам, скидывая какой-то там плащ — в институт для благородных вошел бы не Владимир Ильич Ленин, а, скажем, Борис Николаевич Ельцин, кстати, совершенно случайный тезка нашего героя?
Изменилась бы скорость света в вакууме?
Перестали бы француженки заниматься любовью?
С меньшим ли рвением персонажи нашего романа долбили свои тыквы?
В варианте Стаканского события развивались следующим образом. На углу Гороховой и Поварской товарищам почудились шаги патруля. Быстро переглянувшись, оба нырнули в подворотню, пригибаясь (будто пули уже вылетели из нарезных каналов) гулко пробежали по панели и мягко — по нежному грунту двора. Тут были старые бочки, вероятно, заготовленные на дрова, пахло тухлой рыбой и гавном, над крышей тускло поблескивал купол небольшой церквушки. Владимир Ильич Ленин указал на него ладошкой, репетируя себе памятник (особая, пикантная история которого также займет свое место в романе) затем, изобразив беззвучное «у», крест-накрест взмахнул руками, показывая, как он разрушит, в частности и вообще. И для наглядности сделал твердый, энергичный шаг назад…
Во дворе было ужасно, исчерпывающе темно. Рахья видел над крышей мокрый купол церкви какого-то русского святого, блик на скользком бедре рыбной бочки, передаваемый куполом во двор от уличного фонаря, крестовый жест и бритое лицо за ним — не видел он ни стены, к которой его в вероятном будущем поставят, ни ямы, которая в безукоризненной темноте, черная на черном, хотя бы запахом своим стремилась предупредить, не допустить…
Рахья сперва не понял, что произошло. Только что вот тут, черный на черном, стоял и жестикулировал этот низкорослый русский, и вдруг исчез — и тогда тьма, и тогда крик, и тогда всплеск. Рахья опасливо продвинулся вперед и кончиком сапога нащупал край ямы. Оттуда доносилось бульканье, словно из кипящего котелка, возня, ругань…
— Вы живы, Ленин? — спросил Рахья.
— Руку! — отчаянно вылетело на поверхность, и в тот же миг цепкие липкие пальцы схватили его за запястье.
— Сейчас, Ленин, сейчас! — взволнованно зашептал Рахья, упираясь коленями в грунт и другой рукой хватая начальника за шиворот. Вдруг он увидел борющееся, искривленное смертным страхом лицо и, увидев, подумал, отчего это вдруг стало так светло… Он вообще соображал довольно туго, этот финский рабочий, марксист. Оглянувшись, он приметил дрожащий, быстро движущийся свет. Несколько крупных фигур приближались из подворотни и, став на миг хитрым и умным, как бес, Рахья принял единственно верное решение. Собрав все свои недюжинные силы, упершись локтями в край ямы, он оттолкнул Владимира Ильича Ленина (снова крик, всплеск) и, быстро развязав портки, присел на краю ямы.
— Кто такой? Встать! — раздался приказ патруля.
Хитрый Рахья ничего не ответил. Он напрягся, что было мочи и издал, как показалось ему, звук объясняющий все…
Один из патрульных дал ему в зубы, другой посветил фонарем в яму. Это была глубокая, до краев полная воды и гавна выгребная яма, бывший сортир, уже разобранный на дрова. Из пучины, навстречу склонившимся лицам, поднялся и лопнул огромный зеленый пузырь.
Через полчаса Рахью отпустили, выдав еще пару зуботычин. Он проворно вышел из кутузки, поднял воротник и, руки в карманах, быстро зашагал прочь. Разум подсказывал ему, что не стоит теперь возвращаться в Смольный…
История не знает каких-либо упоминаний ни о нем, ни о Владимире Ильиче Ленине, чьи многотрудные поиски так и не увенчались успехом — а сколько было разных соображений на этот счет, даже самых архифантастических!
Войдя представительным меньшинством в Учредилку, большевики подавали депутатские запросы, обвиняя бывшее правительство в тайном похищении и даже убийстве двух членов партии, ходили смутные слухи, что вождя ликвидировали германские агенты — так или иначе, это навсегда осталось исторической загадкой, одной из многих, коими изобилует историческая наука, а после и вовсе поросло быльем, как и та яма, вскоре засыпанная.
Окончилась война, Россия разобралась с Европой по поводу новых границ. Были критические моменты, угрозы военных переворотов, новых революций, но слава Богу, все обошлось, к концу двадцатых годов жизнь наладилась, мир оправился от войны, от кризиса, тридцатые годы прошли относительно спокойно, если не считать неудачных попыток фашистских переворотов в Германии и Италии, сороковые и последующие были вполне мирными, широкими шагами шел технический прогресс, Россия и Америка стали цветущими сверхдержавами, все было хорошо, все было великолепно, но все-таки чего-то не хватало, чего-то мучительно не хватало… Нравится?
Для восьмидесятых годов сошло бы. Но рукописи горят, господа, и в воде они тонут, и в компьютерах пропадают.
Да и скорость света в вакууме, знаете ли…
Да и француженки…
Да и тыквы…
2
А что, собственно, тыквы, сдались они вам?
Опять переключим регистр, отмотаем несколько десятилетий назад, да познакомим читателя с детством, отрочеством и юностью героя.
В те солнечные годы уже описанный и благополучно разрушенный поселок НКВД еще только строился, источая запахи свежей древесины и камня. В паутине лесов, словно будущая ракета, стояла некрашеная Водокачка, и воду таскали из ручья по прозвищу Шумка. Прославленные палачи, после трудной рабочей недели отмывшись от крови и лимфы, насвистывая, принимались за доводку своих жилищ, исправляя перекошенное, их жены готовили вкусные мясные обеды, дирижируя деревянными мешалками, их дети возились в чистейшей желтой пыли.
Что было знаменательном в том отдаленном и не существующем (никогда не существовавшем?) детстве, на чем мог бы остановиться взгляд, брошенный с высоты птичьего полета в его глубину и тьму?
Малолетняя проститутка Аня Колобкова, с серыми глазами чистейшая Соня Мармеладова, хранившая тайну невинности чуть ли не всех мальчиков поселка?
Таинственные закаты над Днепром, тени птиц над водой, уличавшие Гоголя во лжи, длительные поиски сверчка под камнем?
Кошки повешенные, кошки, с керосином сожженные, кошки, разорванные между берез?
Насущная необходимость — а не то пробьют щелбан — исправно говорить «Огурчик», когда рыгаешь и «Свояк», когда пердишь?
Мечты о преступлении, скажем, убийстве инкассатора — так, чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь?
Рогатки, самопалы, луки, парашютики, ножички, расшибалочки, летчики, налетчики, бомбы, пулеметы?
Вылазки по садам да огородам, тяжелые ранения солью, смерть мальчика по кличке Сопля, которому заряд угодил в голову?
Групповой онанизм и мужеложество в заброшенном деревянном сарае за Водокачкой, где пахло мочой, и стены были изрисованы примитивными пособиями?
Дрессировка дворняжек, тайная прописка щенков под кроватью, похороны погибшей ласточки?
Выпасывание парочек по кустам, щелочки в общественных сортирах, фрейдистские наблюдения за родителями, хитрые записки девчатам, искусственная случка собак за Выгребной Ямой, липкие путешествия по медицинской энциклопедии?
Открытие вселенской лжи, произвола подлости, в которой замешан не только твой родной дед, да и ты сам, да и каждый вокруг тебя?
Открытие двойничества, поразительной способности другого быть похожим на тебя, другого мальчика в соседнем доме, у которого почему-то было твое лицо?…
Первые пробы пера, радость наглагольной рифмы, страх и ненависть к собственным стихам?
Первая любовь и первая ревность в виде той же Ани Колобковой, простодушно менявшей сладость на сладость и не любившей никого?
Суд линча над мальчиком-подхалимом, когда его повесили в овраге за ноги и по очереди ссали ему в рот, и ты тоже делал это, и в конце лета то же самое сделали с тобой, безо всякой видимой причины, просто осознав, наконец, что ты не такой, как все…
Буйный обвал слов, торжествующая радость грамоты, когда ты наконец понял, чем заполнишь свою жизнь, чем утешишься, утолишься — в мире зла, лжи, насилия, сам насквозь лживый и злой…
Щелбан, мазик, мазик или даже МАЗИК, который ты все-таки получаешь, если вовремя не сказал «Свояк»…
Или вот, например, Пробитая Голова…
Странный такой, волнующий образ детства… Они бегают, голося, вокруг угольной кучи и кидаются углем, входя в азарт и невинно укрупняя куски. Они разделились на два фронта: кому нравится быть красным, кому — белым, постепенно выходит, что Стаканский один кидается против всех — он давно их всех ненавидит, хотя и не полностью уверен в их существовании, вдруг слышен отчетливый сухой стук, который ни с чем не спутаешь, и какой-то парубок падает, корчась, наземь, кричит, его окружают, впиваются взглядами и видят это, вожделенное: темный сгусток крови, слипшиеся волосы — Пробитая Голова.
На северо-востоке, у Выгребной Ямы, было хорошо вечерами сидеть среди шершавых блоков ракушечника, отдающих дневное тепло. Собрав в живописной композиции младших мальчиков и девочек, Стаканский выдумывал страшные истории, захватывающие кошмары, разумеется, не признававшись в авторстве — о Целующем Цветке, о Красном Пятне, о Желтой Женщине, — все это со временем расползлось по стране, эволюционировало, влилось в жестокий детский фольклор… Поздно вечером он разводил перепуганных слушателей по домам и возвращался один, при луне или без — последние метры он двигался, умирая, по галерее собственных образов, и финальным его страхом, уже на крыльце, был страх смерти от разрыва сердца.
И еще у них была тыква…
3
— Сегодня мы будем долбить тыквы, — объявил Король, медленно, как и подобает Королю, оглядев их всех, каждому коротко заглянув в глаза…
Митрофан Приходько, так звали Короля в миру, был сын начальника тюрьмы — крупный сильный мальчик, всегда ходивший в сером костюмчике: серые брюки, серые пиджак и жилет, и даже маленький серый галстук. Со стороны казалось, будто среди группы детей живет взрослый, какой-то шпион из горнего мира, ожидающий неминуемого прихода своих.
Король Митрофан обладал одним странным свойством: неизвестно, кому и зачем это было нужно, но лицом Король был поразительно похож на Стаканского — так, словно лицо Стаканского бережно сняли с черепа и натянули на другую, более широкую болванку.
— Сегодня мы будем долбить тыквы…
Тыква — это однолетнее ползучее растение из семейства тыквенных. Недалеко от поселка, вверх по течению Шумки, раскинулась бескрайняя бахча, на которой произрастали как тыквы, так и другие возделываемые культуры, главным образом, из семейства тыквенных: арбузы, дыни и огурцы. По склонам балки, в которой, сильно извиваясь, протекала журчавая Шумка, росло множество диких, бешеных огурцов, также принадлежавших к семейству тыквенных.
Если ты, пораженный внезапным горем, идешь, опустив голову, вдоль берега, идешь, не разбирая дороги, петляя, корявыми ногами путаясь в ползучих огуречных плетях, а над головой августовское небо, полное метеоров, то прямо из-под ног твоих, в воздухе перевертываясь, кувыркаясь и лопаясь, во все стороны трассируют бешеные огурцы, эти омерзительные метеоры почвы, и становится от этого еще более тошно, тоскливо…
На бахче, охраняемой бдительным неусыпным сторожем с солью, они наворовали несколько зрелых, ядреных, гладкокожих тыкв. Они уселись на берегу Шумки, устроив тыквы на коленях, и, вооружившись ножами, с усердием принялись долбить.
Их было пятеро — Вовик, чьим любимым местом во дворе была Водокачка, на которой он так и проработал многие годы, пока не сгинул в лагерях за изнасилование малолетней, Павлик, которому Король, патологически любящий видоизменять окружающий мир, придумал заграничную кличку Пайл, Стаканский, который вооружившись ножом, в сущности, долбил на коленях собственное безумие, сам Король, чей образ, время от времени материализуясь, преследовал Стаканского всю жизнь, и — в длинном, монотонном, голубом — тонкими музыкальными пальцами скользящая по тыквенной мякоти — Аня Колобкова…
Первым откололся Пайл. Его жалкая, вздорная, совершенно не страшная, а скорее грустная тыква не понравилась Королю и Король прогнал его, несколько раз ударив ногой в живот. Много лет спустя Пайл пристрастился к наркотикам, он умирал, галлюцинируя, на металлической решетчатой кровати, и грустная тыква маячила перед его глазами, уводя из ада этой жизни в настоящий, конечный и более цивилизованный Ад.
Вторым потерпел неудачу тщедушный Вова. Его тыква получилась смешной, обрюзгшей, и Король прогнал его, дав ему такого пинка, что он перелетел через русло реки, тяжело свалившись на том берегу, в бешеные огурцы, мертвой хваткой сжимая свою бездарную тыкву. Он умер в лагере под Анадырем, от рака прямой кишки, которым его наградили мстительные гомосексуалисты.
Третья тыква, представленная на обозрение Королю, была тыква Стаканского, он стоял, замирая, перед сидевшим на корточках Королем, и властитель хмуро переводил взгляд со Стаканского на тыкву и обратно, как бы пытаясь отыскать общие черты.
— Тыква, — слабо пролепетал Стаканский.
— Вижу, что тыква, — мрачно констатировал Король, наливаясь кровью.
— Смерть, — подумал Стаканский, — страшная мучительная смерть с таким вот лицом, с этой циничной улыбкой рваного рта, чем-то похожая на полную луну…
— Эта тыква пойдет, — серьезно сказал Король, и Стаканский чуть было не бросился ему на шею.
То была несомненная творческая удача, как будто бы у тебя наконец приняли рукопись… Много лет прошло, и вот так же, наливаясь кровью, читали различные редакторы его сочинения, и всегда, видя их склоненные лысины, Стаканский вспоминал именно этот момент своей жизни…
Тыква Короля, гнусная, подлая, полная искривленной лжи и ненависти, обсуждению не подлежала. Также особо, вне всякой критики, почему-то прошла хмурая, похожая, скорее, на болезнь, чем на смерть, тыква Ани Колобковой.
Они остались втроем. Темнело, небо являло первые звезды, Вегу и Альтаир, они укрепили свечи внутри своих тыкв и посмотрели на них.
Это было странное зрелище: три головы — лица искажены ужасом, в сумерках почти прижаты друг к другу, молча, пристально смотрят на три головы — огненные глаза, постоянно подмигивающие от сквозняка, идущего внутри тыкв, огромные рты, в глубине своей шевелящие красноватыми языками… Нет ничего страшнее лица, искаженного ужасом, нет ничего страшнее тыквы, из бездны своего растительного мира глядящей тебе прямо в глаза.
— Мы сделали эти тыквы, — сказал, прокашлявшись, Король, — для того, чтобы пугать жителей нашего грязного, гибнущего от лжи и разврата поселка НКВД. Прошло время, и мы изменили наше мудрое решение. Данные тыквы слишком хороши, чтобы стать добычей обыкновенных людей. Отныне мы отправляем их в путешествие: пусть плывут они вдоль этой извилистой реки, пусть впадут вместе с водами ее в Днепр и далее, в Черное море, а через Босфор, Дарданеллы, Гибралтар — в океан… Пусть плывут наши тыквы сквозь время, монотонно щеками стуча, да взойдет долгожданное семя на далеких и чуждых бахчах… Свояк.
Впрочем, ничего такого Король не говорил. Они взяли каждый свою тыкву и бережно опустили их в воду. Покачиваясь, медленно поплыли тыквы вниз по течению, отражаясь, отбрасывая в ребристое зеркало десятки причудливых гримас.
Стаканский смотрел им вслед. Он мысленно проследил их синусоидальный путь по рекам, представил себе огромные, веселые, полные звука и огня города, и тоской защемило сердце — никогда…
Никогда, сколько ни ходи и не езди, не увидишь этого прекрасного мира, не познаешь его до конца, следовательно, надо устремить взор свой внутрь, не опасаясь, что и там ты тоже найдешь непостижимую бесконечность.
Внезапно он услышал какие-то странные звуки — шелест, чмоканья, толчки… Стаканский оглянулся. То, что он увидел, запомнилось ему на всю оставшуюся жизнь, до тех самых пор, пока он не посмотрел на свою руку, и рука зависла в воздухе и опустилась медленно на стол, уже чужая рука, бледная, сухая, вся в старческой сыпи рука…
На берегу Шумки, в зарослях бешеных огурцов, на коленях стояла Аня Колобкова, а сзади, ритмично раскачивая мощным торсом, в своем неизменном сером костюме при галстуке, торжествовал Король, и лицо его в этот момент было так похоже на лицо Стаканского, что он ясно и четко осознал: здесь зеркало.
Вдруг, перехватив его мутный взгляд, Аня Колобкова улыбнулась, поманила пальцами, мелко постучав по своим губам, как делают глухонемые, когда просят есть… Стаканский повернулся и пошел.
Он любил ее первой любовью, полной восторгов и внезапных великих открытий. Глубоко в себе он таил это святое чувство, и больше всего на свете боялся, что о чувстве узнает она… Он так любил Аню, что готов был упасть на сухую черную землю и кататься, стучась головой о тыквы. Он так любил Аню, что был готов провести ночь на кладбище и поседеть от ужаса. Он так любил Аню, что готов был лизать и лизать ее крупную родинку чуть пониже левого уха, лизать и лизать, пока не кончится слюна.
Так он любил Аню, и он знал, что рано или поздно они будут вместе, пусть пройдет много лет, пусть все они станут взрослыми, пусть нынешние, еще живые взрослые — умрут.
Стаканский не ошибся: вероятно, мир все же, хоть и со скрипом, подчинялся некоторым его желаниям, правда, ждать Аню Колобкову действительно пришлось очень много лет, и он лишь предчувствовал свою будущую жизнь, будто сжимая в руках тяжелую толстую книгу…
Он долго шел за тыквами по берегу Шумки, продираясь сквозь причудливую вязь ползучих огуречных стеблей, и под его ногами, лопаясь с гортанным звуком боли, в исступлении метались бешеные огурцы, и он видел, как тыквы, с глухим звуком сталкиваясь, страшно улыбаясь, желтыми глазами подмигивая, уплывают от него все дальше и дальше, по черной реке, под августовским метеорным небом, и так поплывут они через десятилетия, через всю его жизнь, постоянно скрываясь за поворотом…
Стаканский сочинял стихи.
4
Писательство родилось вместе с ним: он сочинял всегда, сколько себя помнил, и это давало ему полную уверенность в том, что он сочинял и до начала памяти.
Складывать буквы в слова, то есть, писать, он выучился раньше, чем разбирать слова написанные, то есть, читать, чему изрядно помогла дедушкина пишущая машинка, старая немецкая машинка с антикварными ятями, прослужившая Стаканскому всю жизнь и ломавшаяся за пятьдесят лет лишь трижды, в тех случаях, когда к ней прикасалась чужая рука.
Именно на клавиатуре деда, отца погибшего в стычке с бандитами отца, пальцы его, еще в четырехлетнем возрасте, отстучали первую сказку, слабую, с незамысловатыми иллюстрациями, и в этом забавном тексте уже довольно прозрачны зародыши последующего творчества писателя: все его произведения изобилуют каскадами бессмысленных смертей, странных природных явлений, разнообразных пожаров, стихийных бедствий, глобальных катастроф, словно ему было жалко, жадно оставлять людям созданные им миры.
Это была всецело его вотчина, в отличие от мира внешнего, в котором он всю жизнь обретался где-то на задворках бытия, среди самой униженной и бесправной части человечества, которая, в свою очередь, также отторгала его, чувствуя, что он не тот, за кого себя выдает — не археолог, не дворник, не студент, не стукач, не внук, что он не принадлежит людям так, как они принадлежат друг другу.
Был в распоряжении Стаканского еще и третий, самый секретный и, может быть, самый реальный для него мир. С детских лет он овладел искусством визионизма: он свободно мог корректировать действительность в галлюцинациях и снах.
Засыпая, Стаканский сосредотачивался на сновидении, в общих чертах проектируя его: собственная голова представлялась ему в виде большого здания с множеством лестничных маршей, коридоров, по которым сновали служащие, несли какие-то бумаги, хлопали дверьми, деловито входя в кабинеты: «Итак? Что мы сегодня будем смотреть?» — шла напряженная коллективная работа, результатом которой становилось сновидение, где мальчик был всесилен.
Но реальная жизнь все же существовала: она возвращалась вместе с утренним солнцем, звоном умывальника, запахом весенней улицы, чувством бодрости в молодом теле, и внезапно становилось тоскливо, невыносимо сладко, невыносимо горько — некая тошнотворная смесь соли и сахара во рту, ком в горле: нет на свете никакой дороги из желтого кирпича, никаких железных и соломенных человечков, никакой девочки Элли, и он ясно понимал, что сначала умрет бабуля, затем дедушка, дядя и тетя, затем и он сам, старый, вонючий, на неведомом диване — нет, не хочу — в окружении любящих детей и внуков, в ореоле славы и богатства — нет, впереди годы и годы немыслимых страданий, ад на земле, ад на небеси, сороковые, пятидесятые и далее — все это надо прожить, среди других, искренне верящих, что все вокруг настоящее.
Бабуля, стучащая палкой в пол, когда нижний сосед заводил патефон, чтобы заглушить крики жены, бабуля, стучащая палкой в потолок, когда верхний сосед зачем-то среди ночи начал передвигать мебель, дура, это просто пришли арестовывать, убивать, продолжая борьбу за несокрушимые материальные блага жизни, и тебя могли бы, царапающуюся, протащить по подвальному коридору в комнату с желобом, чтобы загнать пулю в затылок, между водкой и водкой, интересно, молодых да хорошеньких ведь предварительно?… Ведь это вполне логично: лапать, целовать, оплодотворить и сразу убить, это, вероятно, немыслимое удовольствие…
Он слегка озадачил дедушку, когда трех лет от роду, сидя на горшке, вдруг выдал свое первое стихотворение — «Клизма-клизма марксизма-ленинизма!» — и позже напугал его до смерти, когда заплясал в белой рубашонке на кровати, веселясь и повторяя: «Сталин — Мудак!»
Дед несколько раз избивал его, запирал в темную комнату, морил голодом, увещевал устно, применяя все свои знания и опыт работы в органах — тщетно, казалось, будто внутри мальчика установлен какой-то адский механизм.
— Сталин Мудак! Сталин Мудак! — скакал он в своей детской рубашонке на кровати, скользя ладошками по невидимому стеклу, а дедушка мрачно смотрел на него, руки по швам и опустив голову, словно на похоронах.
— Ну погоди, дорогой, — приговаривал он, почему-то с сильным кавказским акцентом, — вот доживешь до двенадцати лет, мальчик, и сдам тебя куда надо…
Разумеется, он прекрасно понимал весь абсурд данной угрозы, поскольку вместе с внуком загребли бы и его — кто поверит, что мальчик мог самостоятельно открыть величайшую государственную тайну? Поэтому дед и пришел к простому и мудрому решению, подобно тому, как много лет назад финский рабочий Рахья, там, вдали, на краю выгребной ямы…
Последующая история, которой можно дать условное название «Мой паук», настолько потрясла маленького Стаканского, что отразилась определенной вехой в его творчестве, приведя его к значительному качественному скачку.
Многие помнят знаменитые садистские куплеты, написанные хорошо ритмизованным четырехстопным дактилем, в них действуют дяди и тети, мамы и папы, деды с безотказными обрезами — с одной стороны, и дети, которые находят в бескрайних полях гранаты, пулеметы, прочее оружие — с другой. Объединяет их неизменный мотив убийства родителями детей и наоборот. Вряд ли все стихи цикла принадлежат перу Стаканского, но изначальный толчок этому фольклорному жанру дал именно он.
Однажды Стаканский обнаружил под подушкой паука. Это было крупное, с кулак величиной, чернобурое существо, медленно перебирающее ногами. В тот день дедушка как раз вернулся из среднеазиатской командировки, где мучил и умерщвлял непокорных азиатов, и Стаканский подумал, что зловещее насекомое совершенно случайно могло заползти в багаж.
Он расправился с пауком при помощи учебника арифметики, захлопнув его меж десятичных дробей, тщательно проверил постель, завернулся в одеяло и, проонанировав, уснул, забив во сне еще несколько хрустящих каракуртов, а наутро, когда дед в майке и трусах, волосатый, пришел посмотреть его, Стаканский впервые заметил, как поразительно похож он на паука.
Одним субботним вечером дед, или паук, как он теперь его мысленно называл, пришел с работы веселый, долго плескался в ванной, напевая, затем предложил Стаканскому поехать до завтра на дачу, вдвоем.
По дороге они разговаривали, вечером играли в шахматы, что также было весьма странным, а на рассвете пошли в ближний сосновый бор за грибами — солнце обладало звонкими полянами, культивируя над травой сонмы сверкающих жуков, рослые грибы радостно прыгали в корзины, паук был необычайно весел, хохотал в небо и призывно аукал издали бабьим голосом.
Они вернулись домой, и паук сразу принялся обрабатывать грибы.
— Гъбы! Гъбы! — приговаривал он, почему-то по-болгарски, с редуцированной гласной.
Стаканский ужасно хотел есть, он увивался вокруг чугунка в клубах аппетитного пара, подбрасывая в огонь самые сухие и тонкие поленья, чтобы ускорить процесс. Он нарвал в огороде зелени: сочнозеленый лук с капельками сока на срезах, молодой чеснок, продирающий горло до слез, упругий редис пионерской раскраски, росистые пупырчатые огурцы, хранящие внутри вакханалию хруста, нежнейший укроп, стройная петрушка с пикантной горчинкой, опальный пастернак, таинственная кинза, именуемая меж взрослыми «ебун-трава», — паук одобрительно следил за работой внука, и мир был переполнен сладострастным бульканьем изумительного варева.
— Ну-с, молодой человек! Готовьте миски, — известил наконец паук, и Стаканский опрометью бросился к буфету.
— Однако… — паук озадаченно заглянул в карманные часы-луковку. — Мне необходимо сделать звонок в управление, ровно в двенадцать.
Он вышел и через несколько минут вернулся, грустный, с глубоким сожалением посмотрел на жарко блестящие миски.
— Придется тебе одному побаловаться тут супом, внучек, — печально сказал он, на ходу натягивая галифе на все десять своих черноволосых ног. — Срочная работа, — пояснил он, покрутив растопыренными руками в воздухе, как бы шутливо изображая свою работу, и уже в дверях, потянув носом вкусный воздух, два раза с грустью кивнул:
— Гъбы! Гъбы!
Оставшись один, Стаканский медленно подошел к плите, снял с чугунка крышку и долго разглядывал варево, затем, приняв решение, щелкнул пальцами и выбежал во двор.
У Котельной, под угольной горой возился чумазый мальчик Вит. Это был классический золотушный мальчик, с большими ушами, тонкими ручками, с расширенными от ужаса глазами, представитель многодетной семьи Честяковых, что обитала на другом берегу Шумки, в бараке для обслуги. Богатые энкаведисты трогательно помогали этим детям, давали работу, что-то из старой одежды, подкармливали. Стаканский и решил этого мальчика подкормить.
— Суп! — важно сказал он, подняв палец.
— Суп, — в другом тембре повторил Вит.
Мальчик был вонючий и грязный. «Суп! Суп!» — приговаривал он, опорожняя миску за миской. Стаканский сидел напротив, внимательно за ним наблюдая и тоже закусывал — черным хлебом с подсолнечным маслом, сочнозеленым луком, молодым чесноком, упругим редисом пионерской раскраски, пупырчатыми огурцами, нежнейшим укропом, опальным пастернаком и таинственной кинзой.
Насытившись и рыгнув, Вит сполз на пол, его живот волочился, как у беременной суки, а ночью он умер в страшных мучениях, и когда старший Честяков выламывал ему пальцы и бил по грудянке, выпытывая, что он такое съел, мальчик, уходя, мог вспомнить лишь одно страшное слово, с умершей уже гласной, затихающе повторяя:
— Съп! Съп!
Часто потом этот золотушный мальчик являлся Стаканскому в кошмарах, синий, подтягиваясь на руках из-под кровати, с ужасом, с удивлением шепча: Съп! Съп! — и странное дело: призрак со временем набирался возраста, сначала вытянулся и запрыщавел, затем превратился в красивого луноликого юношу, десятки лет посещал жертву зрелым мужчиной, занашивая и меняя костюмы, а к старости стал носить толстые двойные очки, и наконец исчез, отпустил, вероятно — умер… А тогда, на следующее ненастное утро — ливень, ветер, растут в лесу новые бледные поганки, гъбы — когда паук вернулся, чтобы посмотреть внука, Стаканский весело хлопнул ему синими глазами из-под одеяла, натянутого на нос, и с этого момента игра повелась в открытую, паук плел все более узорчатые, изощренные сети: вот он пытается заманить его то на лодочную прогулку в Гидропарк, то в увлекательное вертикальное путешествие на Чертовом Колесе… Мальчик ест только то, что опробовано бабулей, он выбирается ночью из окна и спит на крыше пристройки…
Однажды в доме появляется новый друг семьи, доктор из органов, он все чаще бывает вечерами, все больше пьет, сблевывая излишки в унитаз, мальчик понимает, какая ему уготовлена участь — теперь паук может умертвить его любым способом, от петли до пули — верный лекарь сфабрикует какую угодно бумагу… Стаканский решается, наконец, нанести ответный удар, в пределах необходимой самообороны, полностью в духе эпохи.
Через несколько часов после того, как он бросил в почтовый ящик маленький треугольный конверт, поздней ночью в дверь тихо, очень корректно, но в то же время торжествующе — постучали.
Паук сразу понял, кто это и зачем, потому что только вчера, на другом конце города, на Сырце, борясь за распределение материальных благ жизни, он делал то же самое. Несколько человек бодро вошли и перетряхнули весь дом. Они расколотили цветочные горшки и фарфоровые сервизы, отстегали широким ремнем маленького Стаканского, изнасиловали бабулю, связали пауку все десять его ножек, взвалили на плечи и унесли.
Стаканский вышел на улицу. Медленно падал снег, исчезая на теплой мостовой, здания с той же скоростью плыли вверх, наглядно демонстрируя относительность вещей. Какой-то человек, осторожно ступая по брусчатке, спускался на Подол. Стаканский двинулся за ним, сердце его забилось.
Человек этот был невысокого роста, широкоплеч, одет в долгополую, хорошего сукна шинель. Вот он повернул голову, поглядел в проулок, Стаканский заметил трубку с колечком дыма и окончательно узнал его. Это был Сталин.
Он обогнул огромный сахарный особняк, недовольно осмотрев его узорчатые карнизы, и свернул в Даев переулок. Стаканский внимательно огляделся по сторонам: охраны не было. Стаканский машинально хлопнул себя по груди и, ощутив под драпом твердый предмет, удовлетворенно хмыкнул. Тем временем Сталин вышел на Сретенку и, секунду поколебавшись, поднял воротник и двинулся вниз, к Лубянской площади. Снег усилился, потянуло промозглым ветром. Стаканский расстегнул верхнюю пуговицу пальто. В то время он как раз занимался альпинизмом и всегда в петле под мышкой носил с собой маленький ледоруб… Металл был гладок и холоден. Стаканский осторожно высвободил ледоруб из петли и, подбросив его, жестом индейца цепко схватился за древко. Сталин обернулся и, увидев идущего на него убийцу, тонко взвизгнул, кинулся трубкой, нырнул под арку, придерживая полы шинели. Стаканский ринулся за ним и оказался в маленьком тупиковом дворе. Пахло рыбой. Сталин стоял у кирпичной стены и, часто дыша, глядел тускло. Стаканский подошел, склонился над ним, как огромный Каменный Гость, медленно вонзил ледоруб в самую середину темени и с волнением увидел, дунув и распушив седые волосы, темнокрасной улыбкой из детства глядящую на него — Пробитую Голову.
На этом-то детство и было закончено. Не заходя домой, Стаканский отправился на вокзал, сел в первый попавшийся поезд, несколько дней его носило по стране сквозь мартовские метели, пока наконец не забросило в Санск.
5
Городок приглянулся ему: здесь была замешана Европа и Азия, провинция и столица, женщины глазели на него, что приятно волновало, он поужинал с темнокрасным вином и видом на нижнюю часть города (которую мысленно окрестил Пальмирой) и спустился к реке, вернее, маленькой извилистой речушке посреди города, где-то вдали впадавшей в Оку, сел, шлепнул на лбу комара и увидел на соседней лавочке женщину.
— Есть у вас огонь, молодой человек? — осведомилась она, вопросительно поведя в воздухе папиросой.
Стаканский проворно подошел и подал. Пламя осветило немолодое, невероятно красивое лицо.
— Если ты уже куришь, — сказала женщина каким-то другим тоном, — значит, на тебя можно положиться. Возьми этот пакет и отнеси вон на ту дачу (царственный перст) Я сумею тебя отблагодарить. Идет?
Стаканский поймал ее взгляд и вдруг с ужасом понял, как она будет его благодарить. Он протянул руку, взял (в пакете булькнуло) и с этой минуты сделался ее рабом.
— Скажи, что Илга просила передать. Если спросит, кто такой, скажи ее брат, Вова, понял?
Отойдя на несколько шагов и став невидимым за кустами, Стаканский развернул бумагу и посмотрел. Это была темная бутылка вина, пачка писем и застекленная фотография мальчика в галстуке бабочкой, с надписью на обороте: Илга, таким я был в отрочестве, не правда ли, достойный кавалер? Стаканский открыл одно из писем: оно было полно сопливых признаний — Илгочка, Илгунчик, Илгунок, последняя моя радость, последняя жизнь…
Смысл акции стал ясен: покинутому любовнику возвращались его атрибуты.
На указанной даче за плотными красными шторами плавала пятиламповая люстра. Дверь открыл тот же мальчик, но без бабочки и примерно полвеком старше — высокий, седой, красиво состарившийся господин. На стене за его плечами (так и полагается в кино, отметил Стаканский) висел большой портрет очень красивой девочки — Илга в детстве, мелькнул самый логичный вывод, хотя, как вскоре выяснилось, реальность предложила другой, более парадоксальный вариант…
— Кто такой? — грозно спросил хозяин.
— Брат! — поспешил Стаканский, подумав, не мог же он принять меня за соперника, хотя мог, разумеется, мог, если сам был лет на двадцать старше своей бывшей любовницы.
— Алешка! — миролюбиво вскричал он и засуетился, откупоривая бутылку, наливая вино в стаканы. Стаканский вежливо поблагодарил и отказался, посмотрел на уши старика и представил, что будет сегодня ночью…
Илга приказала идти за ней. Он видел в свете уличных фонарей ее прямую, гладкую спину, ткань юбки шуршала на ягодицах специально для него, он старался попадать ступнями в ее горячие следы.
Они миновали несколько переулков, вошли в калитку невзрачного двухоконного дома и, оказавшись во дворе, Стаканский ахнул: за мизерным фасадом скрывался трехэтажный особняк, ступенчатый сад с лестницей и беседкой, с персональным пляжем на реке… Стаканского взяли за руку и провели по галерее, увитой виноградом, мягко втолкнули в одну из многочисленных комнат… При свете он хорошо разглядел женщину: ей было около сорока, и она была прекрасна. На столе покоился соблазнительный графин с красным вином, женщина ласково наполнила стаканы.
— Илга, — сказал Стаканский.
— Молчи, — сказала она, — Илга — это моя дочь.
Она потушила свет и, впившись Стаканскому в губы, повалила его на кровать, а наутро он вышел, потягиваясь, в сад и в круглой виноградной беседке увидел, собственно, Илгу — девочка лузгала семечки, держа на отлете старинной кожей переплетенную книгу. За эту скрипучую, полную сладостных мучений ночь, его заочная любовь к этой девочке полностью выкристаллизовалась в сияющий смарагд.
Первая же деталь, которую Стаканский отметил в ней, повергла его в смятение. Это была крупная, величиной с монету, изумительная родинка чуть ниже мочки уха, и образ той, которую Стаканский все еще любил, мгновенно заполнил овал этого незнакомого лица.
— Я ваш новый жилец, — представился Стаканский. — Мама не говорила вам?
— О да! — Илга захлопнула книжку. — Мамаша всегда берет каких-то… — она сомнительно осмотрела Стаканского с головы до ног, причем, на взмахе ее ресниц он инстинктивно щелкнул каблуками, — Каких-то молодых студентов… Ведь вы студент, не правда ли?
— Пока что… — засмущался Стаканский. Ваша мать… Она обещала устроить меня… В музыкальное училище, — прожевал он это обилие многоточий, в подробностях вспомнив утренний разговор за чашкой довольно вкусного липового чая.
— Вот как? Интересно. По какому же классу?
— Школу я закончил по фортепиано, — бодро заговорил Стаканский, предчувствуя впереди несколько уверенных пассажей беседы, — однако, я полагаю выбрать какой-нибудь другой инструмент, ибо на данное отделение всегда наибольший конкурс.
— Вы не уверены в своих силах? Тогда вполне можете быть уверены в связях моей маменьки.
— Полноте, на что я ей… (Знает или нет? — подумал он запрокидывая голову в улыбке…)
— Как! Вы не догадываетесь? — вскричала Илга, нервно обмахнувшись веером. — Ведь в это время года у нас довольно трудно найти жильца, тем паче — в мансарду.
Оба посмотрели вверх, где над свежевыкрашенной зеленой крышей возвышалось отдельное стрельчатое окно (Вид! Какой упоительный вид!) и в это время где-то поблизости грянул гонг, дунули фанфары, закричали трубы, томно подпукнул геликон — похоронный марш Мендельсона, фа-мажор — Стаканский вытянул шею и поверх забора с ужасом увидел, как по улице перед домом, в длинном коричневом гробу с кисточками, медленно пронесли того самого вчерашнего старика.
Стаканский во все глаза смотрел на Оллу: она также вытянула свою лебединую шею с изумительной родинкой, и серьезными глазами провожала процессию. Ни один мускул не дрогнул на ее лице.
— Олла, — тихо позвал Стаканский, когда звуки музыки ушли.
Девушка повернулась к нему, покусывая ноготь большого пальца и пристально глядя исподлобья.
— Вы знакомы с теорией Большого Взрыва?
— О да! — живо воскликнула она.
— Вселенная, — волнуясь, заговорил Стаканский, — родилась в результате Большого Взрыва. Рассказывают, что произошло это десять миллиардов лет назад…
— Двадцать, — возразила Олла. — Один очень пожилой человек говорил мне именно так, — при этом она непроизвольно посмотрела через забор.
— Цифры не имеют значения, мадемуазель. Главное заключается вот в чем. Тело, из которого произошла Вселенная, являлось столь миниатюрным, что его невозможно было разглядеть даже в самый совершенный микроскоп. Он носил его в капсуле, вроде таблетки, и однажды простым щелчком выпустил на волю… Это вполне могло произойти даже и случайно.
Олла взволнованно закусила губу и вскинула на Стаканского свои длинные ресницы. На щеках ее пылал бордовый румянец.
— Зачем? — прошептала она. — Зачем он это сделал?
— То-то и оно что — зачем? — вопросом на вопрос ответил Стаканский и, кряхтя, поднялся со скамейки.
6
Стаканский был (пусть всего лишь на три дня разницы с кем-то) старше всех слушателей училища, в котором наглядное большинство составляли девочки, самой маленькой — вундеркиндке — едва минуло тринадцать.
Стаканский был контрабасистом. Их было всего трое, контрабасистов в этом училище, они ходили, вызывающе поглядывая по сторонам, один из них, тщедушный мальчик с большими желтоватыми ушами, едва сдав экзамен, тяжело заболел: он лежал и кашлял с перевязанным горлом, а девочки в белых рубашечках быстро прошли мимо его кровати на официальном групповом посещении — Стаканский выглядел неправдоподобно большим в этой скорбной веренице. Недели через две другой контрабасист, надменный Миропольский, пилочкой зачищавший ногти и глядевший на Стаканского, подняв левое плечо, как обычно глядят на молодой месяц, свалился с мостков в речку и утонул (Стаканский в задумчивости стоял у окна своей мансарды и видел, как в узком фарватере, переваливаясь, плывет набухшее человеческое тело, но было темно, моросил сизый дождь, и Стаканский тогда не узнал Миропольского, и лишь утром в училище сопоставил факты) Вскоре скончался и первый мальчик — таким образом, Стаканский остался единственным контрабасистом в музыкальном училище.
На репетициях самодеятельного симфонического оркестра, стоя позади всех с огромным контрабасом, в галстуке бабочкой, он ласково разглядывал прилежные шейки скрипачек, к которым — увы — не мог прикоснуться. Он воображал, что звук, издаваемый его контрабасом, самый главный в оркестре, так как он самый низкий, самый толстый. Стаканский ставил на бесконечной площади массивные чугунные столбы, рядами и по два, тройками, тесными септ-группами, вдали, среди песчаной ряби. Девочки-скрипки вытягивали меж столбами тонкую серебряную проволоку.
Стаканский не мог позариться ни на одну из них, даже под страхом смерти, потому что прикосновение и означало саму смерть — так, по крайней мере, это выглядело в душе нервного, запуганного, истерзанного любовью молодого человека.
Хозяйка преследовала его на улицах, караулила после занятий. Работая в училище уборщицей, она бесцеремонно входила в классы, пряталась в гардеробной, среди пальто, высовывая голову из воротников. Стаканский шел по тротуару, а она двигалась сзади, поодаль, будто незнакомая, и Стаканский сам себе казался маленьким, в белой рубашечке и коротких штанишках, а за ним вышагивает как бы его огромная бабушка.
Ночью он становился мужчиной, она быстро входила к нему, ставила на стол свечу (пламя вздрагивало, глухой стук символизировал в пространстве еще один огненный музыкальный столб) сбрасывала халат и надвигалась… Стаканский плавно переходил от сладчайшего наслаждения к унизительнейшей муке: в известный момент она до крови кусала его и однажды даже порвала ему жилу на шее, так что кровь ничем нельзя было остановить, потоки крови стекали меж ее пальцев, постель и стены были забрызганы темной венозной кровью, позже Стаканский, бродя по комнате, видел эти пятна даже на потолке, расплываясь, они принимали очертания чудовищной птицы… Порой старушка долго и сладко плакала у него на плече, благодарная за оргазм…
Стаканский знал, что у нее есть револьвер, который она еще девушкой выкрала у отца, этот факт логически связывался с обстоятельствами смерти ее мужа, найденного в омуте застреленным, он знал, что она в совершенстве владеет техникой приготовления ядов — а этот факт связывался с бутылкой вина, которую на его глазах откупорил тот мертвый дедушка… Временами Стаканский с писком швырял на постель и ноты и стихи (обеими руками, сморщась) два раза он даже собирал свою дорожную сумку и давно, уже давно бежал бы из Санска — хоть домой, хоть в Тамбов, Стамбул — если бы не одно обстоятельство, а именно, смарагд, который выкристаллизовался в первую ночь.
Он так любил Оллу, что часто, запершись в мансарде, садился на пол и рыдал, раскачиваясь, поднося скрюченные пальцы к глазам. Он так любил Оллу, что ходил по комнате, морщась, взявшись за поясницу, кланяясь в разные стороны. Он так любил Оллу, что воздевал глаза к небу и с мучительным беззвучным «ы» — потрясал кулаками. Вот как он любил Оллу, и временами ему казалось — нет на свете больше ничего, кроме белого ее огня.
Олла училась в школе, в одиннадцатом классе. Вечерами, чуть подкрасив брови и губы, она бежала по ступенькам — быстро мелькали под платьем-колокольчиком оловянные ноги, сумочка застывала на отлете в немыслимом равновесии, Стаканский встречал этот час как обряд, стоя за зеленой, мятой пахнущей портьерой.
Несколько раз он видел ее в городе, всегда с разными пожилыми мужчинами, однажды она привела какого-то старика поздно ночью, Стаканский слышал: разувшись, на цыпочках поднялись они в дом и прошли по коридорам, затем хихикали в ее комнате, затем вдруг замолчали…
Была в доме и другая группа стариков — тех, которые сватались к хозяйке, принося букеты и приникая к ее руке. Олла язвительно кокетничала с ними и раз затащила одного к себе. Утром Стаканский видел как он вылез из окна, осторожно прошел по карнизу над водой и, озираясь, помочился на подпорную стенку.
Был в доме и еще один, самый главный старик — отец хозяйки, парализованный пенсионер союзного значения, бывший кавалерист-чоновец, он ездил в кресле по темным коридорам, накрытый пледом, и осматривал стены, выискивая домашних пауков. Время от времени он взрывался, швырял миски, кричал, что у него есть револьвер, и даже наган, настоящий русский наган, и он перестреляет всех этих жеребцов, которых дочь и внучка водят в дом, между прочим, и квартиранта, скрипящего наверху.
Случайно встречая Оллу, Стаканский не мог поднять глаз, потому что его лицо дергалось, дрожал и кривился рот, едва соединялись их взгляды. Олла, давно заметившая все, подтрунивала над ним, мимоходом ероша ему волосы, на его глазах, притворяясь, что не замечает, высоко на ступеньку ставила ногу и разбиралась с резинкой чулка, или уж совсем откровенно, радостным шлепком убивала глубоко под платьем комара.
Хозяйка ревновала весь шарообразный мир: Стаканского к скрипачкам, скрипачек к старикам, стариков и Стаканского к Олле, Оллу к Стаканскому и т. д. Она часто заводила постельный разговор о револьвере, напоминая, что он был изготовлен на Тульском оружейном заводе, в 1895-м году…
И существовала еще одна, не менее важная причина, удерживающая Стаканского здесь: старый, неподъемный, медью кованый сундук. Изучая лабиринты дома, в одной из сводчатых комнат подвала, с тайным ходом через заднюю стенку старинного шкафа, Стаканский обнаружил его, с трудом и скрипом приподнял крышку и увидел в темных кожаных переплетах — книги.
7
Прошла зима, первый семестр, на каникулы Олла ездила в дом отдыха, вернулась веселая, загадочная, Стаканский перерыл ее вещи и обнаружил несколько фотографий с надписями в стиле тех лет, среди хмурых лиц он особенно запомнил полковника в черной форме, с пиратской повязкой на глазу.
Пришла весна, снова полыхнуло по санским садам сиренью, крыши закачались среди вольных облаков, в доме появился новый мрачный жених, он был настойчивее предыдущих, серьезно приникал к руке хозяйки, подолгу беседовал с нею за чаем, постепенно отшил всех остальных поклонников (Стаканский видел, как в нише за кухонной дверью с каменным лицом он молча щипал в паху у одного толстого мечущегося учителя словесности) — и вскоре оказалось, что хозяйка, в принципе, не прочь взять его в мужья.
Стаканский не мог ошибиться: это был именно он, черный полковник с повязкой, написавший на фотографии: Олла, Оленька, Оленок, Олененок…
Однажды днем Олла (Стаканский не поверил своим глазам, присел на кровати — том Соловьева, крамольный, запрещенный фолиант из сундука, скользнул на пол, хрустнули под шлепанцами очки…) спокойно вошла в его комнату, притворила за собой дверь, оглядела стены.
— М-да, — протянула она, — никогда бы не подумала, твою мать, что у тебя такой хороший вкус… (Стены Стаканский увесил фотографиями актрис, каждая была чуточку похожа на Оллу)
— Я пришла, чтобы объясниться. Я давно знаю: ты неравнодушен ко мне, и это вполне нормально для молодого человека…
Стаканский сглотнул слюну, полагая, что сейчас ему произнесут смертный приговор.
— Нет, — сказала Олла, — ты неверно подумал… Признайся, о чем ты сейчас подумал? — засмеялась она, кончиком пальца щелкнув его по носу. — Я и впрямь сначала смотрела на тебя очень скептически. Худой какой-то, да и совсем еще мальчик. Но понимаешь… понимаешь… — она задышала часто-часто, прижав кулачки к груди, — есть в жизни такие минуты, когда все вокруг переворачивается, как словно бы весь мир нарисован на шаре, и ты — внутри, понимаешь? (Стаканский согласно закивал, дрожащими руками пристраивая на носу разбитые очки) И вот я увидела тебя, — взгляд ее стал отсутствующим, мечтательным, будто она представила далекое приятное воспоминание, — когда ты шел вдоль реки с книгой… В этот миг что-то укололо меня, что-то вокруг пошатнулось, я подумала, что вся моя прежняя жизнь была чудовищной, немыслимой ошибкой… Ночами я плакала, переворачивала подушку и снова мочила ее с другой стороны. Стоя за зеленой, мятой пахнущей портьерой, я до боли в глазах смотрела, как ты, пружиня, сбегаешь по лестнице… Совсем как молодой Пушкин… — она подняла к нему беспомощное заплаканное лицо. — Долго я не решалась подойти к тебе, а вот сейчас, наконец, приняв пять таблеток циклодола, я пришла… Я пришла, чтобы сказать… — слезы задушили ее, Стаканский схватил девушку за плечи, прижал ее голову к своей…
— Нет, не сейчас! Она может войти в любую минуту! — Олла вскочила и в волнении зашагала по комнате, поправляя высокую прическу. Успокоившись, она присела на подоконник.
— Ты знаешь, что по вечерам моя мама пьет довольно вкусный липовый чай, — сказала Олла глубоким грудным голосом. — Брось ей эту таблетку в чашку липового чая. Это очень сильное снотворное. И тогда вместо нее к тебе сегодня ночью приду — я!
Это была крупная черная горошина. Стаканский проделал все незаметно, липовый чай значительно потемнел, как бы сделавшись крепче.
Вечером Стаканский вылез на карниз и добрался до окна хозяйки. Женщина спала крепко, Стаканский увидел высоко задранный подбородок и две черные ноздри. Вдруг что-то не по рыбьи плеснулось в реке под ногами, через секунду еще один камешек обвалился с карниза в быструю воду, и Стаканский увидел Оллу, она приблизилась к окну с другой стороны и, серьезно прижав палец к губам, заглянула внутрь.
Несколько минут они оба молча разглядывали спящую, затем Олла удовлетворенно хмыкнула и скрюченным пальцем поманила Стаканского за собой, и вскоре он испытал и величайшее наслаждение своей жизни, и гнуснейшее разочарование, а утром, пробуждаясь, в первые мгновения принимая ночное происшествие за сон, он услышал отчаянный вопль, жутко вплетенный в бодрый звон умывальника… Родриг Леопольдыч, бешено вращая колеса, катился по ступенькам, в руке у него был наган, он бесцельно палил в небо. Белла Родриговна была мертва.
— Ты подменил таблетку, — сказала Олла, изучающе глядя ему в глаза.
— Нет.
— Ты положил другую таблетку, — повторила она, покусывая ноготь.
— Черная таблетка, — Сказал Стаканский.
— Белая таблетка, — сказала Олла.
Они помолчали, глядя в воду. Вдруг Олла улыбнулась, болтнула ногой.
— Все будет хорошо, — твердо сказала она. — Я люблю тебя.
— Черная таблетка, — мысленно прошептал Стаканский, а вечером к нему в комнату, быстро снимая перчатки, вошел одноглазый полковник, плечом толкнул его на кровать, мелко постучал пальцем по циферблату своих часов и кинул ему в грудь дорожную сумку.
Стаканский бежал из Санска, проклиная город и его жителей, плача в свой мешочек на третьей полке общего вагона, изнывая от благодарности к этой единственной ночи с Оллой, холодной и безрукой, как статуя, ночи, которая будет самым значительным, самым дорогим воспоминанием его жизни: со временем оно отстоится, словно старое вино, оно будет питать его жизнь надеждой, нежным чувством ожидания, оно будет воздушно и стеклисто строить его грядущие книги…
О, беконечно далекая. полузабытая, воистину бескомпромиссная, без малейшей капли ненависти, любовь моя! Спасибо, что ты отвергла меня, швырнув в мутную пучину жизни, обрекла на страдания, указала сей гибельный путь, славный светом не спереди, но сзади, чтобы лучше видеть под ногами собственную тень.
8
Последующие несколько лет он провел в скитаниях, как бы следуя наставлению Максима Горького, познал и полюбил множество великолепных городов; приезжая на новое место, он устраивался в бесчисленных общежитиях, он пристально изучал улицы, тщательно поедая города, очищая их от советской скверны — там быстрым взглядом сломает парочку картонных бараков, тут надстроит колоколенку; он видел в подлинниках все шедевры архитектуры и живописи, дозволенные на территории страны, он познал клубки и сети человеческих отношений, запомнил сотни человеческих драм, с годами он окреп, заматерел, как-то по-особому устаканился; он был дворником, дорожным мастером, кондуктором, тунеядцем, тапером, фотографом, сутенером, декоратором, душевнобольным… в принципе, можно лепить наобум любые человеческие занятия, поскольку Стаканский, если и не изведал их все, то так или иначе соприкоснулся; его влекло через судьбы, он обрастал друзьями и врагами, его нещадно били и обожали страстно, несколько раз за эти годы, как это бывает с каждым, он становился невольным убийцей, казалось, будто все это и есть его настоящая жизнь, и вовсе не стоит уцепиться за что-то твердое, вечное, тем более, возвращаться блудным сыном, пока, наконец, в тмутараканской археологической экспедиции на Тамани, его не разыскало письмо бабули, в котором сообщалось, что дед оступился на лестнице у порога, упал, покатился вниз, набирая скорость на поворотах лестничных маршей, ломая кости, пролетел все восемь этажей, вышиб дверь парадного и угодил прямо на проезжую часть, где его сразу, как на зло, раздавил грузовик. Впрочем, дед скончался от цирроза печени, в переполненной больнице, в коридоре за холодильником, тихо и жалобно воя — о чем и говорилось в письме.
С конвертом в руке, как заблудившийся почтальон, Стаканский прошел, шатаясь, несколько километров по берегу, вдруг остановился, вытер слезы, разорвал письмо и, поднявшись на обрыв, верхней дорогой вернулся назад и в тот же день взял в экспедиции расчет.
В его чемодане, кроме грязных трусов, бритвы, античных донышек, из которых он любил пить черное тмутараканское с археологинями на брудершафт, его любимого пипифакса, розового, в голубую полоску, прочих изгойских мелочей, — была рукопись повести «Таурика», вернее, серии более-менее связанных друг с другом коротких рассказов — о жизни провинциального острова, где в каком-то вымышленном времени, вконец одичавшие жители питались буряками и вином, привычно молились Богу и с поразительной легкостью убивали друг друга. «С легкостью улыбки» — сказано было.
Каждый вторник бабушка, захватившая власть в доме, посылает внучку в магазин, где та за порцию продуктов отдается товароведу-лесбиянке, сосед, уже много лет не евший минтая в томате, подстерегает девочку, отнимает сумку, съедает продукты, заодно насилует, и она, пораженная новым ощущением, влюбляется в этого уже седеющего мужчину, отказывается ходить к товароведу-лесбиянке, бабушка избивает ее палкой, под вздохи безропотных родителей, той же ночью девочка вливает спящей бабушке в рот кипяток из чайника, отец оттягивает за ноги труп тещи в подвал, все вздыхают свободно, улыбаются, затем играют свадьбу, но вскоре молодой муж, страстно мечтающий о минтае в томате, сам посылает жену за продуктами к товароведу-лесбиянке — таких рассказов в книге было около сотни, Стаканский брал каждое человеческое качество: совесть, ум, волю, ярость и т. д., пристально рассматривал его со всех сторон, говорил «Ага!» — и пускал катиться, как некий шар, по векторному полю человеческих отношений, наблюдая, как оно меняется, становится собственной противоположностью, вовсе теряя связь со своим первоначальным значением — все это было удивительной игрой, там, в казачьем доме на берегу моря, среди амфор солнца, амфор вина… Каждое событие, происходящее на его глазах, он любовно препарировал, перенося в тайную лабораторию Таурики, в мир одряхлевшего человечества, в самый канун конца света.
В этом мире родители жестоко избивали своих детей, стараясь изуродовать их, переломать им кости, потому что знали, стоит детям вырасти, они сами начнут их избивать, такова была традиция. Поэтому население острова в целом страдало не только моральным, но и физическим уродством. Стоило появиться на Таурике нормальному человеку, какому-нибудь командировочному с материка, как его стремились прописать, и если ему всего лишь вырывали глаз или отрезали яйца, путник считал, что отделался довольно легко.
В этом мире любые проявления добра считались постыдными, а зла — доблестными, что на практике доказывало относительность и условность понятий о добре и зле. Например, совершенно ясно, что отобрать урожай у соседа гораздо проще и быстрее, чем вырастить свой, да и вообще — сделать плохо другому легче, чем сделать хорошо себе, а поскольку эти понятия равнозначны, есть смысл делать первое, а не второе.
Глупость стала в этом мире одним и почетнейших свойств человека, идеальным лицом было признано лицо с распахнутым ртом. Это были дебилы, дети и внуки дебилов, их любимым занятием было, к примеру, такое: взять две палочки (или два камушка, камушек и палочку — вариации) и равномерно постукивать, отфокусировав взгляд в одной точке, таким образом можно было привлечь к себе внимание другого, находящегося рядом. Когда другой наконец цыкал, первый на некоторое время умолкал, но вскоре с твердым лицом возобновлял постукивание, и тогда другой набрасывался на него, бил, царапал и кусал, отчаянным жестом хватал за щеки и срывал с его черепа лицо…
Они уже давно перестали читать книги, да и вообще — письменность потеряла почти все свои функции, исключая одну, знаковую, умеющую показать что и как надо есть, что на что намазывать, какие применять презервативы и тампаксы: в обиходе остались лишь символы, лейболы и наклейки, обозначающие ту или иную еду на скудном рынке еды…
Во всех антиутопиях был какой-то положительный персонаж, отличный от других, восстающий против существующего порядка вещей — сей нехитрый прием и составляет суть конфликта в этом жанре. Стаканский такого героя не нашел, был, правда, один мальчик, который не смотрел видео, не играл в виртуальные игры, он любил гулять в одиночестве, любоваться полоской заката, он долго шел берегом на юг, до самой Запретной зоны, собирая цветные камушки, из которых потом делал удивительные объемные картинки в буковых рамах, но его все-таки поставили на место соседские ребятишки: они выследили его, повалили наземь, набили ему рот песком и переломали крупными базальтовыми голышами ноги в нескольких местах. Однако, этот мечтатель не унимался: чудом выжив в местной больнице, под присмотром врачей, хлещущих спирт, он, обреченный на вечную неподвижность, продолжал вечерами посиживать у окна, глядя на небо, и даже пытался пописывать в школьной тетрадке какие-то беспомощные стихи. Тогда мальчишки ворвались в дом, раскрошили все его удивительные объемные картинки в буковых рамах, связали и изнасиловали его мать, долго били несчастного по больным ногам, после чего облили все керосином и подожгли. Перебеливая повесть, Стаканский исключил эту новеллу: само появление такого мальчика в данной системе отсчета казалось весьма сомнительным…
И была одна странность у Таурики, одна, можно сказать, тайна, окончательно уводящая повествование в область кошмара.
Вот сидит в изумительной виноградной беседке гость с материка, выпивает и закусывает в халяву, возбужденно лопоча, дружелюбный хозяин с двумя искорками в зрачках мягко постукивает вилкой о стакан, вечереет, в кроне мушмулы пробует лиру соловей, гость, с трудом прожевывая картофелину, тянется к дальней тарелке с моченым арбузом, и вдруг рука застывает над столом, в глазах недоумение, ужас, гость щуриться, подается вперед: что, что это? Нет, невозможно — что это? — рука выбрасывает дрожащий перст…
— Соловьи, — заявляет хозяин, запрокинув голову в сторону ликующей мушмулы, в то время как дальше, за кронами, за соседними крышами, на фоне вечернего неба медленно плывет гигантский… Гость никогда прежде не испытывал такого бурного потоотделения. Тем временем гигантский торс с узкими плечами, огромная, крупно кивающая голова проплывает над крышами среди деревьев, уже удаляясь по параллельной улице.
— На пристань пошел… — рассеянно замечает хозяин, тянется к графину, ногтем большого пальца сбрасывает граненую пробку…
– Кто пошел? — проговаривает гость, отчаянно сознавая, что видел не галлюцинацию, а нечто существующее.
— Ну, Двувога — на пристань пошел, встречать… — рука с графином издает умиротворенное бульканье.
— Вога?
— Ну да — вога, вога, — хозяин делает жест, будто вынимает из ушей огурцы. — У него две такие зеленые воги на голове, потому и Двувога… А ты что? А ты… — хозяин внимательно смотрит на гостя, глаза его сужаются, гость залпом выпивает стакан, часто кивает:
— Да-да, конечно. Двувога. Конечно.
— Говорят, там есть еще тревоги, шестивоги… — хозяин, выпив, вытаскивает из ушей еще несколько пупырчатых огурцов. — А у нас вот Двувога — другого нет… А в Москве? Как там в Москве?
— В Москве, — говорит жилец. — В Москве.
Ему становится дурно и его укладывают спать на железной кровати, в саду под деревьями. Время действия — август, внезапно он просыпается и видит метеорный дождь в небесах, и видит спелые сливы на одеяле, он механически берет малиновый плод и начинает есть.
Утро. Ночью ему уже отрезали большой палец на ноге — культяпка старательно перевязана свежей тряпицей, ему не очень больно.
Хозяин, думает он, смотрел на это как на само собой разумеющееся, словно проезжающий грузовик. Опасно было бы показать свое незнание, то есть, отличие от других. Следовательно, спросить будет не у кого. Бежать, немедленно бежать отсюда!
Но бежать некуда, когда твои документы у начальника экспедиции и ты подписал договор, что остаешься тут до конца сезона.
Стаканский копает. Он любит загорелую археологиню. Он бродит по таманскому берегу, размышляя о Лермонтове. Нет здесь ни высоких скал, ни расселин — лишь песок да глина, и море такое мелкое, что в пятидесяти саженях от берега от силы по пояс, и вся его повесть вранье, но все же гениальна…
Как Лермонтов, думает он, как Лермонтов, с его изощреннейшим, неповторимым самоубийством… Сначала разделить себя на две части и написать роман с двумя героями — один убивает другого. Или нет, сначала написать роман, потом увидеть в себе двоих и ужаснуться. Подробно и захватывающе выписать образ своего убийцы, затем найти живого кандидата, сложной системой хитростей заманить его, привести к барьеру, заставить сыграть роль героя пятого акта, палача своего — это ли не самоубийство самоубийств? Оригинальнее трудно придумать… Почему же до сих пор продолжаются пошлые банальные самоубийства, во имя чего, если форма исчерпана?
Вскоре выясняется, что Двувога весьма безобиден: он ходит, переваливаясь, по острову или подолгу сидит на берегу, бросая камушки в море, иногда кажется, что он существует лишь для забавы местных ребятишек — они кружат вокруг него хороводы, дергают его за длинные воги, ошпаривают из-за угла кипятком.
Иногда Двувога съедает кого-нибудь, разламывая и глотая крупными кусками, давясь и сплевывая кровавые кости, но чудесным образом жертва в тот же миг возникает на другом конце острова, целой и невредимой: пожираемому этот акт даже не причиняет боли — вот склонилась над ним огромная голова, черный многозубый рот, воги, поднятые вверх в похотливой эрекции, а спустя минуту он уже сидит за столом в компании друзей, как ни в чем ни бывало пьет, ест, дрочит и наслаждается жизнью.
Чудный остров, эта никогда нигде не существовавшая Таурика, разделенная надвое узкой извилистой рекой, таинственно вытекавшей из Запретной Зоны, — холмистая Таурика, разворачивающая пешеходу геометрию своих виноградников, намекая, что здесь он может насмерть упиться дешевым вином, — гостеприимная древняя Таурика, предъявляющая свои амфоры и кости, свои чудесные развалины, красноречиво свидетельствующие о том, что некогда здесь жили люди, неизмеримо более счастливые, чем мы.
(Стаканский поднял голову и поверх бумаги да пера посмотрел на водорослями заваленный берег, катер вдали, неумело играющий роль рыбацкой шаланды, и его вдруг захлестнуло чувство утраты, замешанное со щемящей радостью — ведь какая удивительная, красивая страна, Россия, ее медленные реки и ее реки быстрые, горы молодые и горы древние, темносиние русские сумерки… И как оно все было загажено, засрано этими тупыми тварями, превращено в гигантскую помойку, кладбище, а ведь какая была когда-то изумительная страна… И планета… Третья планета системы, полная голубого кислорода, безраздельно принадлежащая деревьям, зверям и птицам, и эти воды, полные сверкающих медуз… Пока не пристала к ней неистребимая зараза, пока в куске метеорита, в безобидном на вид углистом хондрите не упала сюда смертоносная сперма разумной жизни…)
География Таурики в многократном увеличении копировала поселок НКВД: его забор стал береговой линией, его Выгребная Яма превратилась в многокилометровую свалку, где в худшие годы поселяне копошились в отбросах, раскапывая то, что выкинули в годы лучшие, а вместо огороженного Хоздвора Стаканский построил обширную Запретную Зону, занявшую добрую четверть острова — двугорбую Лысую гору, где в черных карстовых пещерах рождалась, минуя каскады водопадов, под колючую проволоку текущая Шумка, где в глубоких туманных долинах скрывались зловещие пауконогие антенны и ровные железобетонные купола, лежащие в лесу, словно яйца огромных ящеров, где нарушителя неизбежно ловили, сажали в карцер на соленую воду, методически избивая каждый день, пока он не испускал дух, где в угрюмых лабораториях варились сатанинские яды новейшего бактериологического оружия, где розовощекие офицеры по зеленым лужайкам гонялись за юркими солдатами, где реками лились вино и спирт, где никогда не смолкали лихие песни под гитару, частая дробь пляшущих сапог… Там, в тенистых буковых лесах, водились самые вкусные, самые крупные грибы, отчаянные грибники, смертельно рискуя, пробирались за колючую проволоку, промышляли в ближних урочищах, и часто настигала их пуля дозорного — катились, рассыпаясь по склонам, расписные корзинки.
В самом центре острова, как мрачный реликт давно ушедшей эпохи, на высоком постаменте с лестницами стоял каменный памятник Ленину, изображавший с простертой дланью, в кепке коренастого Ленина, которому кто-то из местных шутников коричневой кедровой смолой пририсовал в определенном месте огромный трехъяйцевый член. Говорили, будто Ленин этот по ночам, ворочаясь, слезает с постамента и рыщет, пригибаясь, меж дворов, в поисках запоздалых прохожих, с глухим стуком натыкаясь на деревья, камнем своим скрипя… Эта легенда имела даже некое косвенное подтверждение: по утрам на улицах Таурики частенько находили разодранные, изнасилованные, основательно потрепанные трупы, которые гнили, в ожидании нелегкого опознания, по нескольку суток.
Говорят, однажды один хорошо подвыпивший господин, возвращаясь поздно ночью из гостей, где его обильно накачали в самый последний момент перед выходом, по таманскому обычаю — на коня — вдруг посреди улицы поднял голову и увидел над собой раскинувшего руки, на коротких и толстых ногах покачивающегося, белого Ленина — с искаженным от злобы лицом, со своим трехъяйцевым членом… «Фу, гадость какая!» — неведомо кому пожаловался прохожий, схватил с земли первый попавшийся предмет (им оказалась ржавая водопроводная труба) и, широко раскрутив ее в вышине, сшиб памятнику его каменную голову, которая с пустым звуком ткнулась в грунт, подпрыгнула и зловеще замерла, показав черную дырку горла.
Однажды несколько офицеров из Запретной Зоны приехали в центр и засели в ресторане, весь вечер заказывая оркестру один и тот же шлягер. Славненько они погуляли тогда, угомонившись далеко за полночь, в верхних чердачных комнатах, где обычно содержались проститутки. Наутро гостиницу и ресторан облетела страшная весть: все офицеры и проститутки были найдены мертвыми.
Персонал гостиницы пришел в смятение, многих рвало, на свою беду они вызвали полицейских, те же, не пытаясь разгадать причины ночной трагедии, были прежде всего озабочены тем, как скрыть происшествие от военных властей. Один из сержантов был послан в станицу, чтобы перехватить только что ушедшую уборщицу: он догнал ее почти у самого дома и забил сапогами, тем временем, под предлогом снятия показаний, весь персонал собрали в комнате мертвых офицеров, заперли на ключ и, щедро разлив по коридорам горючее, гостиницу подожгли.
В те дни начальника полиции беспокоили два нарыва, вскочившие у него на затылке. Почесываясь, он смиренно ждал, когда в станицу приедут военные за объяснениями. Он заранее заготовил несколько фляг вина и чачи, собрал с подчиненных крупную сумму на откуп и запер в сейф. Дозорные из числа местной шпаны дежурили с портативными рациями на всех трех дорогах, ведущих в Запретную Зону, губернатор и префект, запасясь изрядным количеством вина и двумя знаменитыми на весь остров школьницами, заперлись на фешенебельной вилле, предаваясь пиру во время чумы. Остров затих в ожидании близкой войны, птицы перестали петь, свиньи — хрюкать, глубоко в своей пещере в Южных горах залег, тягостно воя, несчастный Двувога.
Однако, прошло три дня, а ситуация не изменилась: в станице не было видно ни одного военного, и поселяне угрюмо пили горькую по вечерам.
На четвертый день начальник полиции не выдержал и позвонил в воинскую часть — ответом ему были длинные гудки, как по официальному, так и по секретному номеру.
Вечером пятого дня в порт после штормового перерыва прибыл рейсовый катер, капитан быстрым шагом, ни с кем не здороваясь, направился в префектуру, но не найдя никого на месте, пришел в полицейский участок, где и рассказал весьма странную историю.
Неделю назад, делая рейс на Керчь, который проходил, как известно, мимо уютных пляжей Запретной Зоны, он увидел у самой воды группу спящих на песке солдат, уже тогда отметив довольно странную деталь, а именно: загорали они под проливным дождем. И вот сейчас, на обратном пути, он мог бы поклясться, что они все так же и лежат там, на ветру и, скорее всего, не спят и не загорают вовсе, поскольку слишком уж их раздуло, и вороны клюют их лица.
Начальник полиции, несмотря на то, что был от рождения полным идиотом, сразу все понял — и гробовое молчание птиц, и дохлых уток в затоке реки, и собственные нарывы…
Тотчас же в строжайшей тайне собрались все именитые люди острова — депутаты, уголовники, бизнесмены, фотомодели, даже один журналист — и, погрузившись в катер, отчалили на материк, и почти все они спаслись в клиниках Крыма, а безмятежные сельчане допили свое вино и забылись последним сном. Смерть протекла по мутным водам Шумки, спустилась по склонам балок, запалила души адским огнем, и в то время, как на башне Обсерватории умирал последний житель Таурики, неврастеник-профессор, в глубокой пещере Южных гор корчился в муках Двувога — галлюцинация, уже не нужная никому.
9
Хотя книга была напечатана со значительными купюрами, ее двадцатипятилетний автор ликовал: он бегал по киоскам, скупал журналы, находя все новые потоки грязи, которой поливала его критика.
Это была явно клеветническая книга. Это была откровенная, пародирующая сама себя клевета, не только на Советский Союз, его будущее, но и на человека вообще, на мир в целом. «Если они, — написал Стаканский в предисловии к повести, — именуют клеветой неугодную им всего лишь правду, то интересно будет представить теперь, какой эффект произведет именно клевета, настоящая, намеренная, тонко рассчитанная клевета?» Это действительно был единственный в своем роде пример использования клеветы как литературного метода, и от некоторых мест «Таурики» благосклонного читателя должно было просто тошнить.
«Молодой автор представил нам скверно пахнущий образчик дурного вкуса, — писал “Новый мир”, — он небрежно распоряжается с русским языком, пропускает запятые и часто теряет сказуемое порой обстоятельство места с образом действия прямолинейно…»
Замечательным было то, что даже диссидентская общественность приняла новую антиутопию в штыки. «Ни единого просвета, ни одной мало-мальски спасительной щели, куда можно юркнуть, подобно гоголевскому таракану, из этой мрачной, насквозь надуманной действительности. Мое глубокое убеждение, — продолжал некий А.К. в эмигрантском журнале “Суть”, — что литература и искусство вообще должны утверждать высокие гуманистические идеалы, вести от тьмы к свету, а здесь, в этой изнуряющей прозе (не лишенной, впрочем, некоторого чисто литературного шарма) прослеживается только одна “высшая” цель — дать читателю право сойти с ума, вместе с автором и его героями…»
М-да. Тоненьким карандашом правя свою рукопись, Стаканский с беспокойством думал, что нет ни одного человека на свете, которому он может ее показать, впрочем, как и многие, если не все свои сочинения. Друзей у Стаканского не было, о чем он знал всегда, но особенно остро почувствовал это сейчас, когда готовая, приятно без помарок отпечатанная рукопись, лежала, тяжелея, у него на ладони.
(Стаканский посмотрел на свою руку и подумал, какая она загорелая, жилистая, сколько еще твердых как камень книг сделает эта рука… В самом деле, так ли часто на протяжении жизни человек вот так пристально, вдумчиво смотрит на свою руку? В следующий раз, уже через много лет, когда мой дядя посмотрит на свою руку, она будет бледная, слабая, все свое сделавшая, и будет это за какие-нибудь несколько часов до его страшной смерти…)
Вздохнув, Стаканский запер никем не читанную рукопись в потайной ящик стола. Достаточно было самого существования книги.
Там, в этом укромном ящике, нашли свое прибежище расхристанные, непричесанные, почти всегда неоконченные его опусы: ранняя лирика, увековечившая и Аню Колобкову, и других, каких-то безымянных девок, сказки, фантастическая трагедия из Средневековой жизни, санская повесть, фрагмент из которой уже нашел место на этих страницах, а также юношеский роман «Головокружение», в меньшей степени неоконченный, чем все остальное, поэтому о нем стоит поговорить особо.
Роман начинался классически, даже подчеркнуто чопорно: там-то и тогда-то появлялся молодой человек такой-то наружности, был он из такого-то рода… В данном случае, фигурировал угол Сретенки и бывш. Лубянки, 5 февраля 1953 года. Тут проницательный читатель сразу навострит уши, предвкушательно поерзает на стуле — месяц! К тому же, и Лубянка уже упомянута… Но автор почему-то не торопится удовлетворить собственную заявку и лениво рассказывает, как Андж (так назовем мы нашего героя) столь педантично описанный, успевший уже в нескольких мысленных фразах наметить и круг персонажей (друг, невеста) и приятных перипетий (ревность, измена, возможно — донос) ожидающих читателя, вдруг странно и нелепо погибает — бородатый незнакомец в подворотне Печатникова переулка (Стаканский тогда был последователем гоголевского метода географической скрупулезности, еще не решаясь в одном маршруте запутывать улицы разных городов) вкручивает ему в солнечное сплетение нож.
И тут вислоухий читатель окончательно убеждается, что перед ним не Лев Толстой, и если он научится читать на языке этого автора, то скоро будет вознагражден.
Действительно — с первых же строк второй части включается новый тумблер, и действие стремительно летит в иррациональность. Перед нами снова появляется умерший герой, он обнаруживает себя в новом, потустороннем мире — это вроде как наша планета, но пространство здесь лишено времени, здесь существуют великолепные города с висячими озерами и стеклянными мостами, удивительные туманные долины, посмертная жизнь полна новых, неизвестных людям ощущений и волнующих событий, здесь Стаканский, то есть, тьфу — Андж — находит себя: он учится в университете, у него появляются новые друзья (Шмах! Запомни! — кричала бабуля на лестнице фамилию зубного врача, и Стаканский, мелко строчивший свой роман, мгновенно ввел в вестибюль отеля громогласного, длиннорукого Шмаха, который уже хлопал Анджа по плечам, тискал и тащил вниз — в лабиринты ночных улиц Парижа…)
Андж выписал себе восьмидесятитомное посмертное собрание сочинений Лермонтова и прочитал взахлеб, царапая ногтем поля. На свою сторублевую стипендию он купил себе призрак автомобиля и призрак радиолы, значительно уцененные, он пил уцененное пиво, катаясь на пивном трамвае, который кружил по городу, напаивая всех желающих из автоматов, подобных газированным (писательское предвидение: пивные автоматы появились гораздо позже) в темных переулках родной Сретенки Андж как-то ночью, при снеге, выследил уже совсем не ожидаемого проницательным читателем Сталина (призрак великого грешника) и, применив ледоруб Троцкого, зверским образом еще раз его убил.
Вторая часть также состояла из коротких емких отрывков, но смонтирована была так, что начало полностью посвящалось миру тому, а конец — миру этому. По-прежнему тихо влачилась жизнь Москвы пятьдесят третьего года, происходили различные события, так, например, друг Анджа и его невеста расстались, девушка опрометчиво отдалась другому и получила триппер, бабушка Анджа внезапно слегла… Впрочем, Стаканский настолько был увлечен загробной линией, что тутошнюю прописал слабо: в рукописи встречались чистые страницы с обещаниями, вроде — «Гл.76. Дедушка навещает в больнице бабушку. Едет к любовнице. Эротическая сцена». Существовали также маркированные красным отрывки (надо сказать, что каждая линия должна была печататься своим цветом) где развивалась самостоятельная колея — жизнь лечебницы для душевнобольных, о которой автор тогда не имел никакого понятия, поэтому эти места наиболее слабы. Были также и фиолетовые письма, возникающие тут и там — письма от девушки, с которой Андж (вообще-то, Стаканский, и письма были подлинными) познакомился летом в Крыму — она заунывно и безнадежно писала в пустоту, мертвому герою…
Продолжался и разговор о строении Вселенной, уже порядком надоевший благосклонному читателю:
— Следовательно, мы теперь бессмертны?
— Отнюдь нет. Здесь мы тоже умрем и переселимся в иной, еще более дальний мир.
— Почему же тогда на Земле я не помнил своей прежней жизни?
— Потому что ее не было. Земля — это колыбель, рождение твоей души.
— Тогда выходит, что Вселенная не бесконечна?
— И да и нет. Вселенная имеет начало, но не имеет конца. Вспомни понятие луча в геометрии…
— А как же тогда черные дыры?
— Полноте! Никаких черных дыр нет.
В целом, вторая часть романа не удалась, зато третья, последняя часть, была написана динамично и интересно. Это была как бы отдельная новелла, лишь формально, чтобы придать всему тексту стройный вид, дробящаяся на те же маленькие главки, но подчиненная одному сюжету, с непрерывным участием сознания главного героя.
Андж пользуется услугами Информоцентра и несколько раз призраком проникает на Землю. Он кружит в ритмической тьме над постелью, где дедушка мурыжит молодую любовницу (довольно удачная по своей отвратительности эротическая сцена, с использованием лексики русского мата, вероятно, впервые после Баркова в таком безудержном потоке) Он наблюдает из-под стула, как бывшая невеста залечивает свои язвы. Нечаянно он становится причиной смерти бабушки, явившись видимым у ее больничной постели. Он узнает, что одна тихая и неприступная девушка, его сокурсница, которая ему давно и безнадежно нравилась, несколько лет уже тайно любит его, она подолгу сидит на его могиле.
Анджу открывается вся чудовищность и ошибочность его земной жизни, из которой он ушел столь рано. Он принимает решение вернуться, и Шмах соглашается ему помочь. Они выкрадывают в адской канцелярии свои учетные карточки и, гарантированные таким образом от погони, похищают виратар, один из тех тарелкообразных аппаратов, которые люди иногда наблюдают с Земли. После захватывающего полета друзья оказываются на подмосковной даче Анджа, в момент времени, предшествующий его смерти на несколько дней… И тут Стаканский попадает в собственную ловушку.
Он глянул на дату в начале романа, несколько месяцев назад с таким ехидством выведенную и, мучительно застонав, швырнул стило на стол. Ведь если его герои имеют возможность вывести этот дурацкий виратар в январь пятьдесят третьего, то что им мешает вывести его в октябрь семнадцатого? Лично я так бы и сделал. Лично я разыскал бы этого маленького, лысого, скрывающегося в лопухах, и размозжил бы его гениальную голову… Стаканский бегал по комнате, бил кулаком в ладонь. Он бросился на кровать и закусил подушку. Это был один из самых мерзких моментов его жизни, сравнимый, разве что, с тем последним, когда он посмотрел на свою руку и увидел, какая она вся…
Только сейчас, здесь, за этим столом, сидел всесильный, управляющий мирами писатель, и вот уже лежит, рыдая и корчась от боли, вчерашний мальчик, не умеющий в жизни ничего, кроме этого бисерного строчения в безнадежную тетрадь.
Он умылся, накинул плащ, вышел. В подворотне ему встретился дед — они молча посмотрели друг на друга. Его беспокоил этот мальчик, вероятно, возомнивший себя писателем. Как-то раз, обыскав его стол, он обнаружил черновичок доноса, в стиле Павлика Морозова. Он спокойно и серьезно потолковал с внуком, предупредил, что сдаст его в интернат. Последние два года они не разговаривали, с тех пор, как семья переехала в Москву — формальной причиной была жестокая ссора, происшедшая из-за категорического нежелания мальчика покидать Киев.
Пробравшись между стеной и трансформаторной будкой, Стаканский вышел в Последний переулок и через несколько шагов был оглушен Садовым кольцом, где под треснутым призраком Сухаревой башни, клаксоня, проносились автомобили, автобусы… Вот регулировщик делает бравый жест и автомобили стоят, а пешеходы, семеня черными ногами, сколопендрой пересекают улицу. Забавно, подумал Стаканский и стал наблюдать. Новый жест и — эти поехали, а те стали. Очень забавно! Стаканский находился на пороге очередного открытия, одного из тех, которые он совершал ежедневно во множестве… Спустя минуту, сделав открытие и оформив его словами, он быстро пошел вниз по Сретенке, оглядел афишу кинотеатра, заглянул в пивную, потолкался там, выпил кружку среди плавно вьющихся рыб и восторженно каркающих раков… Записать. Эти действительно похожи на раков, бурно жестикулирующих клешнями, а эти — на рыб, молча трубочкой пьющие. Весьма удачно, потому что пиво. И желтый туман…
Стаканский вернулся в свою келью, спокойно пройдя через двор. Он уже не так боялся соседей: они немного выросли, и у них появилась масса новых увлечений, кроме издевательства над ним. В следующем году он станет совершенно свободным от детства. Впрочем, можно будет и уехать, страна, как поется, огромная. В принципе, тот факт, что Андж и Шмах не соизволили умертвить Ленина, хоть и с натяжкой, но также в струе выбранного метода литературного подлога — ведь читатель и так уже был неоднократно обманут. К тому же, здесь вполне традиционное решение: некто обладает волшебной палочкой, но не умеет воспользоваться ею. Конечно, здесь господа сказочники еще больше, чем я, наподличали — вот бы сочинить что-то, где сбываются самые сокровенные мечты…
Стаканский распечатал новую пачку папирос, и к утру роман был вчерне закончен. Несколько дней, предшествующих смерти, Андж наблюдал за собой и своими близкими со стороны. Он мог свободно приближаться к ним, поскольку был неузнаваем: его лицо скрывала хорошо ухоженная борода. Он видел, что тот, другой Андж, похожий на него, как однояйцевый близнец, пересекает улицу, намереваясь встретиться с его невестой. Он жил на даче, питаясь консервами и все больше злился на двойника. Однажды, вглядевшись в зеркало, он вспомнил, где и когда уже видел это лицо… В означенный час он подстерег однояйцевого в подворотне и без содрогания, как куклу, зарезал его. Андж стоял на углу Сретенки и бывш. Лубянки и думал, что вот сейчас побреется, снова превратится в себя настоящего и поедет на Рогожскую заставу, к той девушке, которая часами плакала на его могиле…
10
Никто этого романа не читал, неоконченные его черновики уничтожил огонь, впрочем, потеря для мировой литературы невелика…
Вернувшись с Таурики домой, едва избежав изуверской смерти и залечив свои раны, Стаканский оказался как без средств к существованию, так и без каких бы то ни было видов на будущее.
В начале марта он еще метался по городу, тунеядствуя, вздрагивая при виде милицейской формы, но уже в апреле с утра до ночи, как Мартин Иден, писал нечто новое для себя — не диссидентское, не кровавое, а первого сентября сидел, прилежно выпрямившись, в аудитории Литературного института, и секретарь комсомольской организации, вдоль доски расхаживая, руки за спину, словно молодой фашист, наставлял юношей и девушек: поступить, козлы, в институт было трудно, но еще труднее, гавно, удержаться в нем. Gaudeamus igitur!
Выйдя во двор, Стаканский тухлым взглядом окинул юную, возбужденную толпу молодых мужчин и женщин, которым предстояло разделить с ним пространство и время, хитро подумал: удержусь, за пять лет покоя душу дьяволу отдам, и вдруг услышал слово, которое всегда вызывало в нем тягостный, тихий во внешнем, оглушительный во внутреннем — стон:
— Стаканский!
Он медленно обернулся на зов, мир совершил пространственно-временной поворот, из-за плеча выехал от рождения Христова год тысяча девятьсот тридцать восьмой, поселок НКВД, игрушечная железная дорога, проволочный мост через Шумку и ниже — мост деревянный с бодро шагающим по жердям, милицейской кокардой сверкающим — Митрофаном Приходько.
— Откуда ты здесь? — обнявшись и охлопавшись, произнесли они почти одновременно, будто бы каждый спросил самого себя.
— Долгий разговор… — опять хором протянули они, как бы продолжая размышлять вслух.
Король почти не изменился — только увеличился в объеме, но, поскольку сам Стаканский изрядно вырос, он увидел перед собой все того же большеголового мальчика, который когда-то нассал ему в рот.
— Смехотворная штука — жизнь… И тапером был, и фотографом, в археологических экспедициях письки блудницам лизал. Помотало меня по свету, поносило… Жил в общежитиях, познал все клубки и сети человеческих отношений, запомнил сотни человеческих драм, я был дворником, дорожным мастером, кондуктором и даже — милицейской собакой, — над гранеными стаканами покачиваясь, откровенничал Король, и Стаканскому стало жалко его большую больную голову.
— Мой последний роман, — внезапно переменил он тему, — в котором с присущей мне ненавязчивостью муссируется мысль о строении Вселенной, написан в совершенно необычной, где-то даже модернистской манере. На первый взгляд, — Король двумя пальцами взял из вазы, щелчком подбросил и неуклюже поймал ртом небольшой грецкий орешек, с громким хрустом разгрыз и сплюнул шелуху на пол, — так вот, на первый взгляд это вполне добропорядочный, реалистический текст, но вдумавшись, проницательному читателю есть от чего сойти с ума. Роман состоит из пяти частей — по числу героев и — одновременно — по числу возможных человеческих чувств. В первой части доминирует зрение, но она беззвучна, во второй — добавляется обоняние, в третьей — осязание, затем включается довольно мощный звук, и лишь в последней, основной части романа, возникает вкус — таким образом, придуманный мною мир достигает совершенства. Это роман о музыке, о поэзии и живописи. Сюжет, — Король выбрал на овальном блюде воблу, из тех, что покрупнее, отломил ей голову, отбил, очистил и съел, облизав пальцы, — так вот, я говорю: сюжет занимает у меня самое последнее место, в сущности — это банальная и пошлая история — какая-то девка, какие-то ее мужчины… Роман мой называется «Каменный Гусь»… Юная девушка приезжает из провинции в Москву. Сначала ее любит музыкант, потом — поэт и, наконец, художник. Девушка эта — оборотень. Каждому она мучительно напоминает его первую любовь, и каждого в конце концов приводит к гибели… Как тебе идейка? — Король отправил в рот последний, начинавший подсыхать кусочек сыра и, не дождавшись ответа, но, несомненно, прочитав его на поддельно-восторженном лице собеседника, вдруг схватил его за локоть и радостно воскликнул:
— Кстати! Ты еще не видел Аню? Она ведь тоже здесь, в литературном, на втором курсе…
— Какую Аню? — сдавленно прошептал Стаканский, хотя уже и в глазах потемнело, и знакомая дрожь пробежала по груди.
— Аню Колобкову! Тоже, сука, выбилась в люди… Тихо! — Король прислушался к частым шагам в коридоре, подняв палец. — Легка на помине. Слушай… Давай разыграем ее. Ужас, как люблю пугать, помнишь нашу тыкву? Ты, братец, полезай-ка в шкаф, а?
Тут в дверь робко, но требовательно постучали, тройным условным сигналом, выражающим на азбуке Морзе букву «А», и Стаканский заметался по комнате (мысленно, не сходя с места) как бы и вправду умоляя спасительную дверь в какое-то другое пространство, поскольку это был действительно ее стук.
— В шкаф! — сказал Король.
— Но позволь, Митроша, я вовсе не намерен…
— В шкаф! В ШКАФ! — взревел Король, мотая головой и широко разевая огромную, золотыми зубами блестящую пасть.
Стаканский заглянул в бездну, полную большого размера пыльных плащей, шляп, вытертых блеклых халатов. Был там, между прочим, неизвестно зачем хранимый серый детский костюмчик… Как он постарел, подумал Стаканский.
— Ты не можешь со мной так поступить, — прокашлявшись, сказал он. — Мой последний роман разрушает грань между мечтой и реальностью, между литературой и действительной жизнью. Герой романа является одновременно и его автором, следовательно, текст содержит в себе еще и некий самокомментарий, ибо это чрезвычайно сложный, труднодоступный текст, хотя он, в целом, читается легко (если читатель, конечно, не полный кретин, не милиционер, не новый русский) и мимикрирует — то есть, конечно, роман, а не новый русский — под обычную нравоописательную книгу с самой заурядной фабулой. В ней, будто в капле воды, — продолжал Стаканский, сложив пальцы щепотью, — отражается вся бесконечная Вселенная, причем роман мой наглядно демонстрирует пути, по которым жизнь трансформируется в искусство и наоборот. Кстати, роман мой также называется «Каменный Гусь», и это весьма странное, совершенно необъяснимое совпадение…
— В шкаф, — тихо и убедительно сказал Король и захлопнул дверцу.
С ужасом ожидавший внезапной тьмы, Стаканский увидел, что в шкафу достаточно светло, пастельно. Он заметил отверстие размером с монету, очевидно, проделанное коловоротом, и не сразу понял его назначение.
Этот старый, сработанный, возможно, до его рождения, русский платяной шкаф жил своей странной, чужой, мудрой и невъебенной жизнью. Глубоко в толще древесины тянулись песни могильных червей; крестовик, хозяин пространства, туманил дальние углы; трутовик, несомненно, рифмующийся здесь, чьи споры несколько десятилетий назад некто принес на полах плаща, еще возбужденный дальней загородной прогулкой, еще сантиментальный, еще не мертвый, — трутовик, завершив многолетний инкубационный период, вывесил на массивной стойке первую белую шляпу; розовая моль, насытившись ворсинками старого махерового шарфа, вылетела наконец через глазок в просторный объем комнаты, где и была прихлопнута внезапной Анной, которая вошла, как всегда входила, — быстро, по балетному просеменив на цыпочках на середину комнаты, и остановилась, выбросив руки ладонями вверх:
— Здравствуй!
— Здравствуй, здравствуй, — проговорил Король, плотно прикрывая дверь.
11
То, что мой дядя увидел через дырочку, всю оставшуюся жизнь, до тех самых пор, когда он посмотрел на свою руку и т. д. — преследовало его в ночных кошмарах, возвращалось внезапными ударами в затылок, когда вдруг застонешь ни с того ни с сего посреди улицы, и в конце концов — так и сошло с ним в могилу, в которую положили несколько обгорелых костей, да и хоронили его, вернее, все то, что осталось от некогда высокого, прямого, пропорционально сложенного тела, — в плотно закрытом гробу, чтобы никого эти мерзости не смущали…
Когда Король наконец уснул, подложив огромные ладони под щеку, похожий на какого-то чудовищно выросшего ребенка, Анна, до тех пор молчавшая, подала голос.
— Видишь ли, Боря, мы ведь с тобой так толком и не говорили никогда…
— Никогда, — дурным эхом отозвался Стаканский.
Они лежали втроем на полу, укрывшись одним общим одеялом, которого не хватало. Он давно нащупал ее руку и бережно сжимал, гадая, спит ли она, умаявшись после долгих, бурных, двойных излияний… Он гладил ее руку, словно они сидели в кинотеатре, словно и не существовало этой мерзкой, всего тебя перечеркивающей реальности, в которой Стаканский, пылая любовью и злобой, выпрыгнул, смахивая на некоего сказочного персонажа, из шкафа и, увидел, что Аня Колобкова, значительно выросшая, чуть уже даже потрепанная жизнью, все также, как и много лет назад, там, на берегу Шумки, по волнам которой плывут, улыбаясь, тыквы, стоит перед ним на коленях и жестом голодного глухонемого показывает на свой рот.
— Никогда…
Анна чуть сжала его руку, и он снова подумал о том, как хорошо сидеть с какой-нибудь девушкой в кино, а после проводить ее до калитки и на прощание долго целовать…
— Моя последняя поэма, — сказала Анна, перебирая его пальцы, — написана верлибром и, если отказаться от разделения текста на строки, она будет выглядеть хорошо ритмизованной прозой. Поэма рассказывает о двух людях, поразительно похожих друг на друга, об их тяжелом детстве, о девочке, а затем — девушке и женщине, которая любила одного из них, любила только потому, что он… — Анна вдруг сильно сжала его руку, взяв на его пальцах мучительный септаккорд, — Только потому, что один был близок, а другой далек, один был доступен, как старая вешалка, а другой витал, как журавль в небе, да! Это действительно наша история…
Король Митрофан начал храпеть и храпел все громче, разевая свою огромную пасть, клацая золотыми зубами, вздрагивая и мучительно стеная во сне. Анна играла на пальцах Стаканского, используя их вроде клавиатуры, и ему казалось, что именно эти, храпящие и клацающие звуки выплевывает из себя ее немыслимый инструмент.
— А что мне было делать? — вдруг повысила голос Анна, как бы укоряя Стаканского неизвестно в чем. — Что мне делать, если ты далеко, а рядом твой почти что двойник, только крупный и слегка растянутый, и если прищуриться и тупо смотреть на него сквозь щелочки… К тому же, — усмехнулась Анна, взяв полнозвучный до-мажор, — ты сам понимаешь, как меркнет сознание женщины во время оргазма… Милый мой! Я так ждала тебя все эти годы, я знала, что когда-нибудь мы будем вместе, навсегда…
— Никогда, — подумал Стаканский.
Внезапно Король проснулся, тяжело приподнялся на локте и тусклым взглядом посмотрел на них обоих. В свете уличного фонаря коротко блеснул золотой зуб, будто и впрямь внутри этой головы была установлена горящая свеча.
— Что тебе было делать, — строго сказал Стаканский, запоздало отвечая на риторический вопрос Анны, — так это надо было писать свою поэму, просто писать поэму, и больше ничего.
— Нет, — лениво протянул Король. — Надо вернуть наши тыквы.
Стаканский посмотрел на него, как на полоумного.
— Я уже давно вернул их, слышишь, ты! — он был готов немедленно драться, рвать, полными ладонями выгребать эту сочную мякоть влажных семян, несмотря на то, что силы были совершенно не равны, и лежавший рядом гигант мог свободно раздавить его, как жука.
Несколько лет спустя Король, соблюдая наследственную традицию, устроился работать в органы, долго служил, выслужился и получил пост начальника первого отдела в МИРЕУ, где его основной обязанностью было вербовать соглядатаев среди студентов и преподавателей. Они встречались не часто, встречаясь, вспоминали Аню Колобкову, трагическую историю, с ней связанную, горько пили за упокой ее души… Несколько раз, пользуясь этой волосатой лапой, Стаканский устраивал в МИРЕУ мальчиков и девочек, главным образом, слушателей своей литературной студии, которые приносили ему в заветных тетрадках стихи. Но после Мэлора, сына санской Оллы от второго брака, которого он также устроил и которого Король сделал фискалом, Стаканский отказался от подобного рода благотворительности… Умер Король в нищете, в глубокой старости, одинокий: какая-то фирма взяла над ним опеку в обмен на его двухкомнатную квартиру на Ордынке, и через несколько недель после заключения этой сделки, он, понятно, и умер…
— Надо вернуть наши тыквы, — с безнадежной горечью в голосе повторил Король, и всем троим вдруг стало невыносимо весело, как если бы сразу после этого появился традиционный комический персонаж, из тех, что всегда несут околесицу, заранее смешную, и сказал: поверьте, ему было очень плохо, очень.
12
Они поженились, несмотря ни на что. Свадьбу играли всем курсом, в столовой Литинститута, Митрофан был свидетелем, он танцевал, от натуги лопнули его серые клетчатые брюки, вскоре у них родился сын, и назвали его Андреем, Стаканский никому не признался, что это имя он выбрал в честь персонажа романа, который начал сочинять в ту весну, а вовсе не наоборот, как думала его жена.
Странный это был персонаж — он являлся всегда в разных лицах, с разными характерами, он нагло забывал о своих поступках, начисто их переписывая; временами казалось, что это вовсе и не герой, а мысль, оживленная словами, или чувство, новое чувство, седьмое, еще человеку неведомое. Он родился из галлюцинации героя, и тут же убил его, став активным персонажем в самом романе, все в нем перетряхивая, искажая…
Время в романе также выглядело довольно странно: оно не текло, как река, а стояло, как озеро или, скорее, гнилое болото — все истории, рассказываемые в романе, существовали одновременно, и одна отрицала другую, а его приметы, приметы времени, были нарочито расплывчаты, являя то современные коммерческие ларьки, рекламы, офисы, то прокуренные пивнушки семидесятых, очереди за хлебом и вином, каких-то архаичных кегебистов, и все это в один и тот же момент.
В трамвайном вагоне звучала гармошка…
Некоторые части романа, поначалу выданные за настоящие, описывающие отношения живых людей, впоследствии оказывались то вымыслом, то галлюцинацией, то сном, будто бы автор более менее подогнал, смонтировал распечатки постоянно творящего сознания, смонтировал так, что стало похоже на цельный роман, но при ближайшем рассмотрении все трещало, распадалось, тонуло в этом мучительном болоте времени.
«Каменный Гусь» (так продолжал называть Стаканский свой новый роман, хотя в нем уже давно не было никакого Каменного Гуся, никаких палачей и жертв) поначалу развивался и рос довольно бурно, но со временем стал проскальзывать, иногда замирать — надолго, на целые недели, пока в конце концов не остановился совсем, и осталось от него одно название… Автор ясно понимал, отчего это случилось.
Они поселились на даче, которая была построена по образу и подобию санского дома — на самом берегу реки, чтобы можно было прыгнуть в воду прямо из окна мансарды. Беременная Анна подолгу гуляла в окрестных полях, удила рыбу, сидя в своей спальне, а Стаканский целыми днями писал у себя наверху; такая жизнь вполне устраивала обоих.
С рождением Андрюши они, разумеется, переехали в город, Стаканскому пришлось взять академический отпуск в институте, и он устроился корреспондентом в «Вечернюю Москву», взял литературную студию при ДК ГПЗ, утвердившись в роли порядочного мужа и отца… Тут-то и остановился его роман.
Он садился за компьютер (к тому времени он уже перешел от стука и дребезга «Ундервуда», который порой выплевывал фиту или ять, к туповатому спокойствию монитора) он сидел, всматриваясь до боли в глазах в синюю подводную гладь, где сиротливо мигал курсор, и ни единого слова невозможно было выловить, скользя целыми часами по гладкой пустой поверхности, закатывая глаза к потолку (белая, в кровавых комариных могилках поверхность) переключаясь в какие-то другие программы, развратные виртуальные игры, бесцельно шатаясь по всей чудовищной памяти машины.
Ему надо было сосредоточиться, чтобы отшумела газета, отошли бессмысленные, надрывные ссоры с женой, которые начались чуть ли не на другой день после свадьбы и не прекращались до самого конца, ему надо было десятки минут, чтобы фраза пошла, упругая, звучная — так он писал всегда, возделывая прозу как стихи, вкручивая в прозу незримые цепочки нотных знаков.
Дело было не в том, что он купал ребенка, ходил с ним ночью по комнате, днем катал в коляске по парку, и не в том, что ездил по всему городу, чтобы брать интервью у депутатов, шлюх, бизнесменов, священников, — времени у него хватало, целые часы, целые свободные дни, он мог взять свой портативный компьютер и отправиться на дачу, в одиночество, и там писать, писать, хоть самозабвенно закатывая глаза, хоть высунув от усердия язык, но выходило так, что само время, как бы оскорбленное им, не желающее растекаться из ручья в лужу, в конце концов отомстило ему.
Оно было неумолимо прямолинейно. Гуляя с маленьким Андрюшей, которого он с болью, надрывно любил, ведя занятия литстудии, где ему нравилась одна молоденькая поэтесса, выблевывая свою борзопись для газеты, которая приносила ему деньги, чего только не делая в этой жизни, — он неизменно мучился, испытывал чувство вины, что ворует время у главного, единственного своего дела, у самого смысла своей жизни.
И он все больше ненавидел сущности, способствующие этому — не газету, не жену, не ребенка, а некую сущность газеты, сущность жены.
Сущность ребенка… Неужели он будет такой же как я…
Стаканский любил подолгу гулять с ним, бережно толкая перед собой голубую коляску, он возил маленького Андрюшу по кривым аллеям Измайловского парка, улыбаясь встречным молодым матерям, которые делали то же самое. С ними было приятно беседовать, всегда на одну и ту же благородную тему, всегда с эротическим подтекстом, фантазируя…
Нет, никогда он не будет таким же как я.
Только теперь Стаканский стал обращать внимание на то, что на улицах огромное количество младенцев: их возят в разноцветных колясках, носят на животах в специальных сумочках, их много, в сущности, в этом нет ничего удивительного — их должно быть ровно столько же, сколько и нас, может быть даже чуть больше; их носят и возят по улицам всех городов планеты, пройдет лет тридцать, и они возьмут в руки этот мир, его энергию, мощь всех его механизмов, его эфирные волны, и тогда они насладятся, и тогда они перебьют всех нас, как это сделали младенцы, которых купали, трогали губами сантиментальные отцы начала века, а потом они замучили, перестреляли в затылок, сгноили в лагерях своих клинобородых отцов. О да! Они вырастут, и они так же перебьют всех нас, так было и будет всегда…
Вот эта девочка в розовой заграничной коляске-прамбуляторе будет валютной проституткой, она будет учиться в университете, с восторгом делить свое время между библиотекой и постелью, по вечерам она будет сидеть в баре, отражаясь в десятке зеркал, иностранный турист подойдет, улыбнется, они поговорят по-английски и выдут в ночь, а по воскресеньям она будет ходить в церковь, чему-то в тишине молясь…
А этому мальчику не повезет. Его первая любовь станет единственной, потому что он и представить себе не сможет, как откажется от этой любви. И он преследует свою возлюбленную, зовет ее замуж, грязной лужей растекается по асфальту… Девушка уезжает в другой город, у нее впереди много жизни, много разных, неповторимых любовей, она оставляет его одного, с его жалкой, единственной, совершенно смехотворной любовью. И он едет за ней, потому что любовь для него — это жизнь, и он сражается за свою жизнь, он убивает соперника, а когда читает на ее лице окончательное никогда, убивает и ее, и гибнет сам в лагерях — во имя чего, спрашивается, почему ты вдолбил себе в голову, милый, что любовь на свете одна?
Стаканского мучили страхи. Вот он идет, бережно толкая коляску, мимо бесконечного ряда коммерческих ларьков, какая-то иномарка выруливает на тротуар, молодой человек выскакивает, стреляет очередью с колена, кто-то с огромным пузом падает, из распоротого живота вываливается его кал, разборка окончена, машина уехала, труп накрыли и ждут, а в бортике коляски, где спал, причмокивая, ребенок — маленькая, еле заметная дырочка от шальной пули…
Вот он идет, сложив губы трубочкой, делая маленькому Андрюше глуповатое «у-у», идет вдоль стены дома, а на одном из балконов стоит другой, уже немного подросший ребенок, в его руках кирпич, он ждет, внимательно поводя глазами, в его голове одна прицельная мысль: попадет или нет, точно, прямо в эту белеющую далеко внизу коляску, ведь надо рассчитать, соотнеся, как скорость ее продвижения, так и скорость падающего кирпича…
Вот он идет, извиваясь, по аллеям парка, толкая перед собой неизменную коляску, а навстречу бежит, высунув огромный язык, серый, гладко блестящий дог…
Возвращаясь домой, ожидая лифт, Стаканский всегда смотрел в одно место, в узкую щель приоткрытой двери подвала, откуда сладко тянуло гнилью, стоячей водой, тягучим страхом… Глубокий и черный смысл этой зловещей щели выяснился несколько позже…
— Я уеду. Я просто брошу вас и уеду. Когда-нибудь, если ты сам станешь художником, ты меня поймешь, сынок.
— Нет уж дудки! Я не для того родился, чтобы меня бросили.
— Ну послушай. Вот представь себе, скажем, Андерсен… Твой почти что тезка. Представь себе: никакого Андерсена нет, то есть, был, конечно, человек с такой фамилией, но ничего он не сочинил, ни одной сказки.
— Не может быть, па!
— Очень даже может. Просто Андерсен женился, у него родился сынок, он был должен пойти работать, зарабатывать денежки, кормить семью. Так случилось, что он ничего и не сочинил.
— Я так не играю. Пусть уж лучше он будет.
— Ну вот и договорились. Вообрази себе, что ты и есть сынок Андерсена, и чтобы папа сочинил свои книги, ты должен проститься с ним, выгнать его вон из дома, послать его к черту, надавать пинков — пусть шастает по городам, пусть влюбляется, тяжело и красиво страдает, протяжным жалобным криком отмечает свой одинокий оргазм в ночи…
— Я не согласен. Пусть лучше будет папа. Папа-Андерсен.
Больше всего на свете он боялся потерять ребенка, потому что он возненавидел его, любя, вернее, возненавидел сам факт его существования, которое внезапно рассекло всю жизнь Стаканского на две неравные части. Лично к этому существу он не испытывал никаких чувств, кроме животной любви и чисто автоматической брезгливости: это был неразумный кусок мяса, не более, но он боялся его потерять и слишком хорошо представлял себе возмездие, которое ждало его за эти тайные греховные желания.
Кроме того, всматриваясь в его сморщенное красное лицо, Стаканский никак не мог понять, на кого он больше похож, на него, законного родителя, или на Митрофана Приходько. Стаканский подолгу разглядывал ладони, ступни, уши этого ребенка, пытаясь доказать авторство, но черты ускользали: слишком уж они с Митрофаном были похожи, как родные братья, но это лишь ложный ход — братьями, ни родными, ни сводными они быть никак не могли, что Стаканский выяснил еще в детстве: их семьи попали когда-то в Киев из разных мест, нигде прежде не пересекаясь, родители Митрофана приехали позже, уже с готовым младенцем на руках…
Стаканский не пытал Анну: их конфликт развивался совсем на другом уровне. Сразу после свадьбы он охладел к ней, внезапно поняв, что вся его бесконечная, многолетняя любовь была иллюзией, неким спасительным чувством, живущим глубоко внутри, защищавшим его от других женщин — с тем, чтобы он мог сохранить свободу… Но Богу было угодно снова свести его с полумифической Аней Колобковой, чтобы продемонстрировать ему как относительность свободы, так и относительность любви.
— Имею ли я право принести эту жертву?
— Принести в жертву своего ребенка?
— Нет, принести жертву ему. Свои ненаписанные книги, свое имя, еще не зазвучавшее в мире…
— Ты имеешь право приносить любые жертвы.
— Тебе что — безразличны книги?
— Наоборот. Я и затеял здесь все это лишь для того, чтобы кто-то из вас писал книги. Остальное человечество — не более, чем обслуга.
— Так что же — принести жертву или нет?
— Ты сам запутался и Меня запутал. Какую жертву, милый?
— Принести в жертву моего ребенка.
— Это твое дело.
— Но ведь Тебе нужны книги, любой ценой, да?
— Нужны. И любой ценой. Но разве Я говорил, что Мне нужны именно твои книги?
— Так не нужны?
— Напиши, потом посмотрим. Ты всю жизнь сочиняешь какой-то цивилизованный бред. Ни один из этих романов не окончен. Я еще не решил, как поступлю с твоими рукописями.
— А что будет с маленьким Андрюшей? Станет ли он художником?
— Да. Он будет неплохим художником, но недолго.
— Почему?
— Твой сын доживет до двадцати двух лет и умрет.
— Умрет?
— Это будет странная смерть. Огурчик… Он наденет на голову тыкву, чтобы покрасоваться перед зеркалом — так, пошутить. Но в этот момент на него найдет приступ рвоты — в тот вечер он много выпьет гадкого дешевого вина. И он захлебнется, не в силах снять голову с тыквы, то есть, тьфу — наоборот: он захлебнется в тыкве.
— В той самой тыкве?
— Да. В той самой тыкве.
— Не делай этого, прошу Тебя.
— Хорошо, Я этого не сделаю. Лети легко, мой голубок…
Однажды вечером Стаканский обратил внимание на странную тишину в доме. Маленький Андрюша не кричал, как обычно, он лежал смирно, трогал погремушки, которые висели над кроваткой, вроде глубоко задумавшись. Анна пощупала его лоб. Он был сухой и горячий. Она поставила ребенку градусник — тридцать девять и две… Вызвали «скорую».
— Пустяки, — сказал Стаканский и принялся ходить из угла в угол, ожидая врачей.
Между тем, машина не шла. Стаканский позвонил еще раз, ему сказали, что машина выехала.
Минут через сорок машина прибыла. Молодой доктор и маленькая кривоногая медсестра были чем-то сильно взволнованы, казалось, они стараются скрыть улыбки, которые так и норовят прорваться сквозь матовость озабоченных лиц.
(Полчаса назад это наконец произошло. Она была уверена, что это произойдет именно сегодня, и он, как выяснилось уже после, тоже был уверен: сегодня … Третью смену они ездили вместе, и постоянно, часами были на самой грани, будто балансируя, широко расставив руки. Однажды их губы соединились, и мощная волна тепла и желания захлестнула обоих, и стоило только накинуть на дверь крючок, и сразу, торопливо расстегивая пуговицы, мучительно стеная от нетерпения… Но именно в этот момент случился вызов к ребенку, который простудился или сожрал что-то не то.
Он сидел впереди, рядом с шофером, она — в салоне. Она елозила попкой по гладкой коже сиденья, распаляясь неимоверно, а он, с постоянной болезненной эрекцией, жадно, взасос курил, тиская зубами эбеновый мундштук. Войдя в подъезд, они переглянулись. Надо было вызвать лифт, но вдруг они одновременно увидели приоткрытую дверь в подвал, которая чернотой своей щели манила, звала… Он легонько хлопнул ее по ягодицам и подтолкнул, указывая направление. Очутившись в подвале, они жадно приникли друг к другу. Казалось, что это будет продолжаться вечно…
У ребенка ничего серьезного не было. Достаточно одного укола и можно было опять вернуться туда, где толстая жаркая труба с каждым его толчком обжигает спину… Вместо ампицилина она вколола этому несчастному ребенку татразил…)
Когда маленький Андрюша уснул, измученная Анна приникла к мужу, буквально повиснув на нем от усталости. Стаканский бережно взял жену на руки и отнес в постель.
— Я скоро с ума сойду, — сказала она, — Ты мне совсем не помогаешь.
— Это неправда. Я стираю пеленки, гуляю.
— Настоящий отец ведет себя по-другому. Он всего себя отдает ребенку, а не выкраивает для него время с мучительным лицом.
— Настоящий отец… — начал было Стаканский, но во время осекся. Нелепые, никчемные подозрения…
— Я, между прочим, тоже бросила писать, — с укором в голосе сказала Анна. — Моя новая поэма, которая, вероятно, так и не будет закончена, рассказывает о любви. Девушка любит пожилого человека, и он тоже любит ее. Но разница в возрасте мешает им соединиться. Тогда девушка разрабатывает хитрый, коварный план. Она знакомится с сыном своего возлюбленного, тот, понятно, влюбляется в нее, делает ей предложение, и они женятся. Все это она проделывает лишь для того, чтобы жить в одном доме с предметом своей роковой страсти. Но вскоре старичок умирает, и моя маленькая героиня оказывается одна, с нелюбимым мужем, в доме, где каждая вещь, каждый цветочный горшок напоминает ей о погибшей любви. (Может быть, она просто всю жизнь любила Митрофана, а я стал лишь ширмой, прикрытием, удобным населенным пунктом для их встреч?) Поэма должна была быть написана тонко, удивительно остроумно. Она должна была быть написана от первого лица, но не от девушки, а от молодого человека, этого обманутого сына. И читатель не знает, а только догадывается о той истории, которая происходит за пределами строчек. Моя поэма никогда, никогда не будет написана…
Это был сон о будущем. Стаканский уснул, слушая, как Анна читает отрывки из поэмы, навзничь, в темноту, и эти плавные, змеистые верлибры постепенно переползли в сновидение. Он был одновременно собой, своим сыном и своим отцом. Женщина, которую он любил во сне, также постоянно менялась, словно какой-то прекрасный оборотень. Маленький Андрюша вырос, стал художником, он ходил в голубом балахоне и всюду разбрасывал краски. Он писал картину, единственную, великую картину своей жизни, и в то же время за тонкой стеной, в образе отца, мохноногого паука, обладал женщиной-оборотнем, женщиной своей мечты… Мой милый, мой сыночек! Ведь ты вырастешь, тоже увидишь все это — этих распутных мужчин и женщин, которые будут использовать тебя, как бумагу, лепить из твоей души свои наслаждения. Надо ли тебе быть художником, чтобы всю жизнь чувствовать себя чужим в человечестве, чтобы вот так же как я — страдать? Надо ли тебе вообще — быть?
Стаканский проснулся в холодном поту, с полным мочевым пузырем, рядом, все также навзничь, тонко похрапывала Анна.
— Отдай мне моего соловья, — пролепетала она, не просыпаясь: видимо, снился ей какой-то соловей…
Стаканский вышел в уборную, потом проверил ребенка. Маленький Андрей лежал неподвижно, приоткрыв ротик…
Спи, мой малыш. Кажется, я сделал свой выбор. Никакая книга, даже гениальная, даже Книга Книг не стоит твоей удивительной, неповторимой жизни.
Утром Стаканского разбудил чудовищный крик. Простоволосая Анна стояла на коленях у колыбели, ее била судорога, обеими руками она в кровь царапала себе лицо. Ребенок был уже несколько часов, как мертв.
По дороге с кладбища, в полупустом трамвае, где полуголый кондуктор сонно клевал носом, а где-то в первом вагоне звучала губная гармошка, Стаканский долго смотрел на уползающие назад рельсы, потом вдруг повернулся к Анне и сдавленным голосом спросил:
— Скажи мне правду: Андрей был сыном Митрофана?
Анна дико глянула на мужа, не произнеся ни слова в ответ.
— Это был ребенок Митрофана, — повторил Стаканский утвердительно.
— Думай, как хочешь, — сказала Анна. — Теперь это не имеет значения.
— Конечно, — продолжал рассуждать Стаканский вслух, — это был его ребенок, не мой. А раз так, то вовсе не я потерял ребенка, а он, Митрофан.
Анна вдруг зарыдала в голос, пассажиры оглянулись и пытливо посмотрели на Стаканского, будто бы им всем сразу стало ясно, кто он…
(— Как же так? — вспоминая свою недавнюю беседу с Богом, вопрошал Стаканский, — Как же так?)
В один из темных декабрьских вечеров он вернулся домой и застал Анну перед открытым чемоданом.
— Я поживу у тетки, — сказала она. — Курит она, правда, как паровоз, а так ничего…
— Разве у тебя есть тетка? В Москве?
— Да. Курящая тетка. Моя курящая тетка.
13
Когда все было кончено, он обнаружил себя на берегу моря, в Ялте, зимой. Уже несколько дней он чувствовал на губах мягкую загадочную улыбку, говорившую о том, что его жизнь продолжается, как бы разворачивая новую, небывалую метафору, из одной и той же точки — нечто, до безобразия напоминающее Большой Взрыв Вселенной…
Стаканский устроился на лавочке в тени хуй. Пардон, это опечатка. Я имел в виду всего лишь — в тени туй. Туей называют вечнозеленое многолетнее деревце семейства кипарисовых. Конечно, это прозвучало забавно: «Втяни хуй». Далее следует неопределенный жест…
Хозяйка была женщиной молодой, красивой и — что наиболее важно — необычайно высокого роста. Неделю назад она похоронила своего мужа, пьяницу и никудышного человека, по пьяни и погибшего в горах. Несмотря на свое несчастье, она была полна здоровья и сил, бодро хлопотала по хозяйству, заразительно смеялась, обнажая десны, и, лишь вспомнив о трауре, смущенно закусывала губу. Однажды она рассказала Стаканскому, как и почему убила своего мужа.
В день, когда произошло это убийство, Стаканский прилетел в Петербург, он постоял несколько минут на Дворцовой набережной, любуясь четырехцветной радугой над куполом Исакия, выпил полкружки пива и поставил город, вернее, его державное отражение на рыжую доску стола, отказавшись от этих зданий. Надо выбрать другой, скорее, совсем незнакомый город, скажем, Ашхабад, — подумал он и поплелся в авиакассу…
Все эти смутные недели, останавливаясь на несколько дней в разных городах, знакомых и не очень, Стаканский бредил Востоком… Он одиноко ходил в кино на дневные сеансы, вечерами гулял по улицам, обдумывая планы новой то ли повести, то ли романа… И Средняя Азия манила его.
«Гюльчатай» — так назывался этот странный роман, странный прежде всего тем, что, в отличие от других дядиных романов, от которых остались хоть какие-то материальные следы — планы, заметки или даже готовые куски — существовал лишь в замысле, в грандиозном и неосуществленном плане, перед которым я, как литературовед, снимаю шляпу.
Ключ романа — драматическая история семьи, глава которой не отличался высокой нравственностью, поэтому сводные брат и сестра даже и не подозревали о существовании друг друга.
Это история любви между братом и сестрой, история, которая проходит все возможные фазы и комбинации. Брат любит сестру, а она его нет, и наоборот. Брат влюбляется в сестру, не зная, что она его сестра. Сестра, которая любит брата, узнаёт, что он ее брат, и так далее. Все перипетия сюжета строятся на этих двух несовпадениях, на конфликте любви братской и не братской, духовной и физической, и все это — общая, стержневая тема романа, основная, хотя и не самая главная.
Главная тема романа — не любовь, а смерть, но об этом позже. Сначала о том, как именно устроен — вернее, должен был быть устроен — этот роман.
Тридцатилетний молодой человек, вечный студент, живущий вместе со своими стареющими родителями, находится в состоянии глубокого жизненного кризиса. Этот герой чем-то похож и на Рассольникова, и на Человека, и на пресловутого Ямба «Мрачной игры»… Действительность, еще совсем недавно вполне благосклонная, вдруг со всех сторон набросилась на него. Многочисленные неприятности образовали большой снежный ком, вот-вот готовый покатиться с горы.
И он стал встречать знакомых… Везде, в самых невообразимых частях города, он каждый день встречает знакомых ему людей, и ясно, что он давно затер этот город до дыр, и город измучил его, именно теперь жаждущего одиночества… И новый удар, в качестве последней капли… Случайно перлюстрировав письмо, он узнает: у отца есть вторая семья в Ашхабаде, куда отец много лет мотался в командировки, и взрослая дочь, которую зовут Гюльчатай.
Герой бежит из Москвы — внезапно, интуитивно, с грошами в кармане. Он совершает длинное и запутанное путешествие по стране, пока, наконец, не оказывается на восточном берегу Каспия. Он устраивается в палеонтологическую экспедицию, где раскапывает скелет гигантского ящера…
Платят немного, но на жизнь вполне хватает, можно даже выпить вина. Работают тут люди со всей необъятной, это — экологическая ниша, которых в СССР тогда было множество: туда попадали непризнанные художники, странствующие интеллектуалы, неуживчивые, недовольные режимом люди…
В экспедиции наш герой влюбляется в девушку, черноглазую, загорелую палеонтологиню, родом из Ашхабада и зовут ее — Гюльчатай.
Тут-то и начинаются основные перипетия сюжета: ветреная Гюльчатай принадлежит другому, герой страдает. Добившись, наконец, Гюльчатай, он начинает подозревать, что она его сводная сестра, но вскоре находит убедительные доказательства противному. Однако, в один прекрасный день Гюльчатай предъявляет свои собственные аргументы: все-таки она и есть — та самая Гюльчатай, что становится для нее поводом или причиной немедленно изменить нашему страдающему герою…
И так далее. Стержень тут не важен. Кружение по орбите вопроса — сестра или нет — также бессмысленно, поскольку, если этот роман существует, то никакие убедительные доказательства никого не убедят в том, что Гюльчатай — не сестра.
Сестра…
Вся суть этой жизненно-литературной ситуации заключается в попытке разрешить вопрос: почему герои, преодолев столько километров, попадают в одну точку? От этого прямо таки и веет нарочитостью, вымышленностью, дешевой латиноамериканской кинооперой…
Рассуждая, герой приходит к странному выводу. Он анализирует свой путь (с начала романа) и вдруг с ужасом понимает, что все его повороты, все внезапные и неожиданные решения были подчинены какой-то неведомой, лежащей за пределами бытия силе, и именно эта таинственная сила руководила его поступками, пока не привела в единственно возможное место — к Гюльчатай.
В принципе, роман этот — фантастический, только фантастика в нем, хоть и не слишком глубоко, скрыта. Так, например, реальность романа размывается: невозможно вычислить год его действия, так как бытовые детали — от одежды героев до цен на продукты — колеблются, принадлежа то шестидесятым, то восьмидесятым и прочим годам. То же касается и разговоров, и поведения героев: то спор между физиками и лириками, то невнятный политический толк о перестройке. Мы наблюдаем то робкие, тайные любовные воздыхания, в стиле шестидесятых, то обильный сексуальный завал девяностых.
Фантастика романа проявляется и иначе, гораздо более зримо, когда герой, ревнуя возлюбленную Гюльчатай то к одному, то к другому своему товарищу (надо сказать, не без оснований, поскольку Гюльчатай, мягко скажем, все же шлюха) представляет на месте этих счастливых товарищей — себя, да так явственно, зримо, что почти чувствует себя ими, как бы надевая на свой череп их лица, и только этим созданием нового варианта бытия спасает себя от мучений.
Отсюда — вполне закономерные и обоснованные перетекания авторского «Я» от одного персонажа к другому, с особыми историями этих персонажей, фантастическими, потому что все они — вымышлены изначальным, коренным «Я».
Так, например. один из сотрудников экспедиции, Мохаммеддыев Абдулла, предстает, через авторское «Я», истинным, непримиримым мусульманином, который, не считаясь с законами, позволяющими иметь только одну семью, тайно содержит гарем у себя в Чарджоу и там, на берегу быстрой и прекрасной Амударьи, проводит безумные ночи со всеми своими женами…
Авторскому «Я» принадлежит значительная часть текста, в начале и середине романа, но в последней его трети оно теряется среди прочих «Я» других персонажей, выступая на равных с ними. Кстати, именно это обстоятельство и позволяет показать в романе, написанном от первого лица, смерть главного героя, что, если вы помните, уже не первый случай в практике писателя.
Приведу небольшой отрывок из романа, чтобы дать вам возможность насладиться неповторимостью его стиля.
«…Мы молча шли по пустому, темному солончаку, столь же ровному, как и море, в которое он переходил двумя верстами впереди. Лучи всех наших фонариков безобразно кружились и перемешивались, шарили по уродливой, черепашьей поверхности земли, или, может быть Земли, или даже лучше — Глины. Вот так же и наши судьбы — пересеклись теперь на растрескавшейся поверхности планеты… Кричали удоды.
Я скошу глаза направо и увижу грустный горбоносый профиль Абдуллы и вспомню его вчерашние слова, и подумаю, что, может быть, и вправду глубоко в его ушах сидят черные пауки ревности, совсем реальные, настоящие живые пауки, совсем черные… Нет, я не скошу глаза — ни направо, ни налево, где увижу тщедушного Петруху, тщетельного, без всяких изощренных восточных метафор, без пауков, просто пожираемого ревностью, как русской водкой. Нет, я буду смотреть вперед, где в шести шагах бодро, такой удобный для дуэльного выстрела, в перекрещении наших шарящих взглядов идет, шагает высокий и стройный, одергивая подол гимнастерки Сухов, а рядом, временами невзначай касаясь его бедром — Гюльчатай.
Мы шли. Кричали удоды.
Где-то позади, в заплеванном клубе Пенджента, зубастый киномеханик укладывал в ящик жестяные банки с пленкой, и фильм, который мы только что увидели, теперь уже свернутый в пружину, всегда готовый ожить, будто бактерия в цисте, также, помимо всего прочего, преследовал и мучил нас в этой черной степи.
Это был фильм ужасов, тяжелый давящий кошмар, и назывался он “Рука”. Это был фильм о человеке, который случайно оказался в центре кошмарных, гнусных событий, узнал отвратительную тайну, и в его безобидное существование легко, как пьяница сквозь стекло, вошла сама Смерть.
Главный герой, простой клерк, нелепый, рассеянный, обремененный некрасивой и неумной женой да двумя детьми, сам некрасивый, неумный, скопив ценой лишений приличную сумму — жене шубу купить, не то чтобы очень шуба нужна — они ведь в теплых краях живут — а так надо: все покупают женам шубы, и я своей падле в лепешку разобьюсь но шубу куплю…
Но внезапно он принимает решение, пожалуй, единственное решение в своей жалкой жизни: шуба подождет, а на денежки эти кровные, я в круиз поеду, один.
И отправляется этот несчастный в какой-то фантастический, с точки зрения географии совершенно нелепый круиз — то ли по Средиземному морю, то ли вокруг Европы, но вот беда: в первый раз в жизни еду без жены, без детей этих, но от самого себя-то разве уедешь, и как всегда — не везет, влип я в историю, по уши влип…
В своем мешковатом костюме, с ширинкой ниже колен, ходит он по чудесным, словно нарисованным городам, фотографирует достопримечательности, его преследует местная проститутка, он хочет ее безумно: я хочу тебя, но боюсь, они следят за мной, и видишь ли, яйца оторвут, если узнают, ведь ты, южная, чужая, не понимаешь, ах, какая темпераментная, не знаешь — ведь в моей далекой стране всегда так: если турист что-то там чего… Сразу в подвал, пытать, и наконец — яйца оторвут…
Ах, я подлец, подонок, хоть я и войну прошел… Не потому, сказал я ей, проститутке, что комитета боюсь, а потому сказал я ей, грязной потаскухе, что я советский человек, что я моральный облик, у меня вообще никаких яиц нету…
И я иду по Стамбулу…
Наконец, попадается бедняга в лапы международной мафии, случайно произнеся пароль, и — перепутав несчастного с настоящим уголовником — ставят ему на руку гипс, весь полный золота и бриллиантов, и этот дурак, опять же, снедаемый желанием сдать все еврею-скупщику с улицы Карла Маркса, несется в КГБ, все рассказывает, и тут-то и завязывается интрига: наш герой попадает в щель между молотом и наковальней, между преступниками и преступниками в законе, между контрабандистами и теми, кто их ловит.
За гипсом идет охота, а органы используют его в качестве живца… Кегебисты соблазняют его большими деньгами, и он ходит по городу с огромной пачкой, где хватило бы не только на шубу… Он все щупает, покупает, его пожирает страх, он ежеминутно ждет убийства, он представляет, как они, ни о чем не думая, ничуть не церемонясь, оторвут мою руку, с мясом, с костями, на что им какой-то человечек, им гипс нужен, тем и другим, гипс — и больше ничего.
И вот я сплю на своей узкой кроватке, один, а он ползет, в его пальцах ножницы…
И тогда рука превращается в символ, в некий неотвратимый летающий жупел, она живет самостоятельной жизнью, отделяется от туловища живца и нападает на его убийцу. Сцена снята в багровых тонах, лицо убийцы искажается ужасом — наезд — рука подбирается к воротнику, душит — крупный план, деталь — живец хохочет, пляшет на одеяле в кальсонах, рука царапает мои щеки, разрывает рот, и вот уже глаз лопается, словно гнилая виноградина, я просыпаюсь — холодный пот, память, отчаяние…
Мы шли по степи и пришли.
Я лежу на раскладушке в палатке, со мной под брезентом еще семеро, брезентовые души — наверное, им всем снится наш коллективный поход в кино, эта рука… Я вытягиваю шею, как любопытный гусь, и смотрю в сухой угол. Койка Сухова пуста — Гюльчатай. Далеко в черной степи кричат удоды…»
Удивительная проза, не правда ли? Мой скромный, не очень-то любящий говорить о себе дядя, пожалуй, и сам не сознавал ни собственной ценности как стилиста, ни своего места в истории мировой литературы. Остается только пожалеть, что роман не был написан, хотя, в наше время, когда в мире с каждым годом становится все меньше людей, читающих книги, может быть, достаточно только изложить замысел…
Главная тема романа «Гюльчатай» — смерть, знаки смерти, расставленные на пути героя, их осмысление, как и вообще — безжалостная расшифровка любых знаков, выбрасываемых на поверхность бытия.
Один из них появляется на самых первых страницах, когда герой начинает встречать знакомых…
Начало этого странного, казалось бы, ни с чем — ни с временем года, ни с самими обстоятельствами существования — не связанного периода встреч — и есть самый яркий и материальный знак смерти. Можно, конечно, попытаться объяснить такие периоды чем-то другим, но, к сожалению, многолетний печальный опыт подсказывает только одну гипотезу…
Инстинктивно почувствовав смерть, герой бежит из Москвы, скитается по свету, совершая немыслимый, необъяснимый крюк, и позже, к концу романа, анализируя свой путь, вспоминая знаки, расставленные на этом пути — и в Москве еще, и по трассе на Каспий, и в самой экспедиции, в с своей любви к сестре, он вдруг понимает, что все его повороты, все неожиданные решения были подчинены одной неведомой, лежащей за пределами бытия силе, и именно эта таинственная сила руководила его поступками, пока не привела в единственно возможное место — к смерти.
Не к Гюльчатай, как он считал раньше… Таким образом, понятия — Гюльчатай — сестра — любовь — смерть — вступают друг с другом, так сказать, в синонимические отношения.
Смерть героя со стороны выглядела бы нелепой, трагической случайностью, если бы не была столь ожидаема и неотвратима. Ее причины лежат вне сюжета и, с точки зрения самой рассказываемой истории, совершенно необъяснимы.
Сам момент смерти наступает в то время, когда авторское «Я» принадлежит Сухову, начальнику палеонтологической экспедиции, бывшему любовнику Гюльчатай.
В этом есть некий фокус, так называемый стаканизм, не сразу бросающийся в глаза. Каким образом мы можем наблюдать глазами другого персонажа смерть авторского «Я», если из самого текста романа ясно, что все посторонние «Я» ничто иное как представление или даже галлюцинация первого?
Может быть, смерть вообще — есть нечто несуществующее?
Тем не менее, товарищ Сухов, в присущей ему сдержанной, не лишенной доброго народного юмора манере, повествует об этом несчастном случае, даже подробно рассказывает в очередном письме к своей далекой супруге, как один из его рабочих залез в бетономешалку, чтобы пропустить там стаканчик вина, а другой, не подозревая об этом, бетономешалку включил. Как ни странно, именно Сухов ближе, чем все остальные, принимает к сердцу эту неожиданную смерть, вероятно потому, что она произошла в рабочее время, во вверенной ему экспедиции…
А как же Гюльчатай?
Ну, Гюльчатай к тому времени принадлежит Аристарху, придурковатому землекопу из Астрахани, который когда-то поступал во ВГИК, хотел стать кинорежиссером, но, медленно спиваясь, оставил эту мечту…
Гюльчатай всегда любит другого.
14
Печальную, поучительную историю рассказала Стаканскому его квартирная хозяйка, женщина необычайно высокого роста, когда Стаканский, оказавшись после всего этого в Ялте, зимой, устроился на удобной женственной скамейке в тени туй…
Последние годы жизни муж ее много и омерзительно пил, перестал обращать внимание на подрастающую дочь, пачкал простыни. Выпив, он становился каким-то пельменным, сметанным, масляным. Раз в субботу жена взяла бутылку коньяка, бутылку шампанского Абрау-Дюрсо и бутылку необычайно вкусного массандровского муската.
— Друг мой, обратилась она к мужу, — твоя пьяная жизнь мне решительно надоела, и я готова принять самые серьезные меры. Как правило, ты выпиваешь рано поутру, со своими сомнительными друзьями, и пьешь гадкие плодовоягодные вина. Не лучше ли выпивать вечером, пить высококачественные виноградные вина и разделять компанию не с какой-нибудь рванью, а со мной, твоей законной женой? Не отправиться ли нам с тобой в лес по случаю выходного дня, расстелить одеяло на самом краю скалы и, выпив, полюбоваться видом Южного Берега с высоты птичьего полета?
Иван сразу почуял недоброе: глаза жены светились странным желтоватым огнем, она говорила, покусывая ноготь большого пальца и пристально глядя исподлобья в глаза жертвы.
Надо быть бдительным, подумал он, хватаясь за упругие побеги метельника, когда они уже поднимались по Солнечной тропе. Пахло птицами.
Иван карабкался по склону, выбрасывая из-под подошв крупные комья земли… Бдительным, думал он, оглядываясь на жену, которая торжественно шла за ним, как сказуемое за подлежащим, высокая и прямая, бережно, словно ребенка, неся на руках скатанное одеяло.
Он мой, мысленно повторяла она, глядя на небольшое, темное, упорно ползущее вверх существо. Вот он — мой мужчина. И солнце, ниспадая с высоких уступов Учан-Су, утомленное, вновь обретает серебро и покой в гладких волнах Караголя… Или Кара-Чорба… Вот мой мужчина!
Они миновали Пьяную Рощу, вдоволь надышавшись спиртовыми сосновыми смолами, Иван захмелел, ему показалось, что жена будет милосердна к нему, но при переходе через Большой Каньон, на могучих крыльях спланировав, орел насрал ему на голову, и остаток жизни нагло преследовал Ивана острый, утомительный запах птиц.
С каждым своим шагом Иван становился все меньше: Аграфена как бы поглощала его по мере подъема. Медленно и торжественно восходя по Чертовой лестнице, она уже видела под ногами лишь мелкую торопливую букашку.
— Довольно! — вдруг сказала Аграфена и с глухим стуком сбросила наземь свою ношу: расписную торбу с продуктами, одеяло в скатке и — таинственную гитарообразную вещь, слишком тщательно упакованную, чтобы быть настоящей гитарой.
Они находились на вершине Роман-Кош, Аграфена расстелила одеяло на самом краю пропасти, узорчатый угол чуть свесился с ослепительно белой скалы и трепетал на ветру…
(В этот момент аэробус ИЛ-86, бездарный, плохо задуманный и неряшливо построенный аппарат, оторвался наконец от взлетной полосы аэродрома Пулково и взял курс на Ашхабад. Самолет был полон людей, лишь одно кресло пустовало: пассажир, который был должен занять место 42-а, на регистрацию не явился. Этим пассажиром был никто иной как Стаканский. Дождь застал его в пути. Он долго не мог поймать машину и опоздал. Потолкавшись в кассе, Стаканский взял билет на ближайший рейс до Симферополя и вскоре, глядя на расплавленные солнцем облака, подумал, что если самолет упадет, это будет быстрая, блистательная, и чрезвычайно интересная смерть, случайно подсмотренная изнутри, правда, осталось бы неясным, чем прогневили Бога все остальные 350 человек…)
Аграфена была женщиной хозяйственной, обстоятельной, она вытряхнула на импровизированный стол дюжину фарфоровых тарелок, со вкусом, с явным знанием теории цветоделения обставила натюрморт.
— Послушай, Зин! — сказал Иван, усевшись по-татарски на самом краю скалы. — Последнее время меня одолевают странные, недобрые мысли, мне кажется, пришла нам пора решительно объясниться… За нашу любовь! — он залпом осушил стакан коньяка, лицо его мгновенно покраснело от обильного притока крови, в глазах заблестела влага — неполадки в работе слезных мешков, вызванные, как известно, алкоголем… За его широкими плечами раскинулось море, весь Южный Берег от Алушты до Фороса был виден, будто на карте, мир был прикрыт тонкой нежной дымкой, взывал к милосердию…
— Вся моя жизнь, — продолжал Иван, закусывая тонким ломтиком ветчины, — была попыткой доказать тебе, что я совсем не то, что ты обо мне думаешь, и уж более того: я вовсе не являюсь твоей полезной галлюцинацией. Вообще, каждый из нас представляет собой лишь сумму собственных отражений в глазах окружающих людей — в этом суть моей новой теории человеческих взаимоотношений… — он выпил еще полстакана коньяка, закусил кубиком сыра и, устроившись поудобнее (как бы покрепче оседлав своего любимого конька, хотя Аграфена с изумлением услышала из уст мужа подобные речи) продолжал:
— Рассмотрим человека как некую точку, помещенную в особую систему эмоциональных координат, суть которой человеческие качества: ум — глупость, смелость — трусость и т. д. В таком случае, каждое суждение о человеке даст вектор определенной длины и направления, и истинный характер данного индивида определится результативным вектором. Можно подумать, что это и есть абсолютно верное суждение, поскольку характер человека проявляется лишь в его поведении, высказываниях, то есть — лишь в глазах окружающих. Но вот беда: стоит только какому-то новому человеку попасть в это векторное поле, как он немедленно сформирует свое, отличное от других мнение, и тогда результирующий вектор изменит величину и направление. Но это же абсурд! Утверждать, что личность человека меняется в зависимости от лишнего суждения о нем — нелепо! Это значит лишь одно, а именно: личности как таковой не существует, а есть лишь ее проекция в сознании окружающих, образно говоря, ее отражение в чужих глазах. Кому-то я представляюсь добрым, кому-то — злым, кто-то видит во мне благороднейшего человека, кто-то — законченного подлеца. Согласись, еще пять минут назад у тебя было совсем другое мнение обо мне, до тех пор, пока я не заговорил. Даже раньше, когда я подумал «как сказуемое за подлежащим», можно было сделать вывод: что речь идет об интеллигентном, образно мыслящем человеке, да и неявная цитата из покойного Бродского, небрежно, походя употребленная, о чем-нибудь да и говорит? Не удивительно, если в дальнейшем я вдруг окажусь, скажем, известным музыкантом, к примеру, композитором, написавшим уйму замечательных сочинений. Черт возьми! — Иван громко ударил кулаком о ладонь. — Мне кажется, нас тут давно дурачат. Похоже, здесь происходит совсем не то, за что оно себя выдает. Эта жизнь фантастична, нелепа: мы действуем, как во сне, наши поступки незамотивированы, наши речи абсурдны. То мы вдруг замечаем, что родные, дорогие сердцу воспоминания, становятся набросками чьей-то бездарной книги, то вдруг исчезает кто-то, кого ты хорошо и близко знал, и ты ходишь, ищешь его, натыкаясь на подсунутых тебе двойников, слыша в чужих устах его слова. Платон был прав. Дольний мир — это лишь отражение, тени от мира горнего, где некто невидимый проносит перед входом в пещеру загадочные фигуры, и наша Вселенная (в данном случае, не имеет никакого значения, бесконечна она или нет) суть колебания теней на стене пещеры, где мы сидим в тесноте, в темноте… Одно могу сказать определенно: те, кто там ходят и носят эти мрачные изваяния, те, кто издает там дикие, нечеловеческие звуки, — они ужасны, они отвратительны, и не дай Бог смертному увидеть их в лицо, если, конечно, у них есть лица… Ох! Что это? Что происходит? — глаза Ивана расширились от ужаса и пронзительный вопль, из тех, которые иногда раздаются в ночи, не принадлежа ни человеку, ни животному, застыл в его гортани, так как в этот момент Аграфена, с бледным, внезапно затвердевшим лицом, поставила перед ним тарелку с огурцами… Иван машинально протянул руку, но вдруг сочнозеленый, весьма аппетитный на вид огурец выскользнул из его пальцев, плюнул мерзкой жидкостью и улетел за край экрана, прочертив молниеносную дугу вокруг Иванова плеча. Тотчас, в тарелке потревоженные, зашевелились, заверещали огурцы, и не успел Иван выйти из оцепенения, как все они с реактивным звуком разлетелись в разные стороны, оставив тарелку пустой.
— Это бешеные огурцы, — зловеще прошептала Аграфена и Иван увидел ее желтые редкие зубы.
— А теперь послушай сюда, — продолжала она, досадуя, что заранее спланированный, баллистически рассчитанный фокус не удался. — Мы находимся с тобой на высоте 1535 метров над уровнем моря, и можно с уверенностью сказать не только то, что на всем острове нет ни одного человека выше нас, но и то, что вообще, подавляющее большинство жителей нашей планеты гораздо ниже нас… Друг мой, давай выпьем за высоту, за вечное и неизбежное родство пьедестала и статуи, давай посмотрим на мир так, будто мы видим его в последний раз, пельменный мой, сметанный, масляный.
— Пельменный? Сметанный? — рассеянно прошептал Иван, близоруко щурясь.
— Разве я так сказала? — отшатнулась Аграфена. — Прости, но я ведь только подумала…
— Ты уверена? — дрожа, спросил Иван. — Ты уверена, что только мысленно… Что ты не подумала вслух?
— Да, пожалуй. Прости меня, милый, но я иногда так называла тебя про себя.
Иван опять в сердцах шлепнул кулаком о ладонь.
— Вот видишь! Это — оно. Это уже происходит прямо на наших глазах и, наконец-то я поймал его с поличным. Я уже почти уверен, что все мы являемся продуктом какого-то наглого лицедейства, что и до сих пор сидит в комнате своей наркоман и курит, курит марихуану, галлюцинируя наши ничтожные жизни…
— Бедный мой, как ты переволновался, как устал! Иди ко мне, я поглажу твои буйные вихры… — Аграфена крепко обняла мужа и он почувствовал, что все ее тело наполнила хорошо знакомая дрожь.
— Здесь! — громко прошептала она. — Я буду сверху.
Она повалила Ивана на одеяло и меж стаканов, тарелок страстно, быстро овладела им. Мужчина смотрел в небо, где из стороны в сторону раскачивалась голова в облаке ветром треплемых волос, и выше, в самом фокусе огромной голубой линзы неподвижно застыл силуэт грифа-стервятника…
Едва Иван уснул, Аграфена осторожно составила с одеяла грязную посуду, нежными нечувствительными движениями очистила бороду мужа от своих волос и, внимательно осмотрев тело, что было силы дернула одеяло за край. Михаил несколько раз перевернулся в воздухе, внезапно проснулся, с опаской глянул на жену и, осознав происшедшее, стал падать в бездну, стремительно набирая скорость. Аграфена подскочила к самому краю и замерла, быстрым жестом закинув одеяло на плечо.
Когда Михаил задел бедром первый уступ, его движение, доселе беспорядочное, многорукое, обрело плавность и смысл: тело развернулось ногами вперед и, описав длинную параболу, с новой силой ударилось о скалу, причем, у падавшей фигуры отлетела голова, начав свое отдельное движение в нарастающем вихре пыли и камней, и вскоре уж руки и ноги мчались отдельно, едва поспевая за торсом; вот разломилась на две половинки и розно прошелестела по кустам массивная задница, юркнули в расселину яички, некоторое время еще содрогались верхушки сосен в нижнем подлеске — и вдруг все стихло… Аделаида несколько минут постояла на вершине, затем развернула таинственный пакет, и гитарообразная вещь оказалась веником, которым женщина тщательно подмела скалу. Затем она достала пачку махорки и горстями, как сеятель, рассыпала вокруг. Вдруг какой-то странный звук привлек ее внимание и она с любопытством посмотрела в небо, сложив лодочкой ладонь.
Вечерело. Заходящее солнце уже слепило глаза, но в этом золотистом свете хорошо было видно самолет, который летел низко над яйлой.
Аделаида не поверила своим глазам: огромный, накренившийся на бок самолет летел прямо на нее, звук нарастал, превратился в оглушительный вибрирующий рев, скала задрожала, заволновался воздух, поток горячего смрадного газа едва не сшиб Аделаиду с ног, на миг тьма заслонила весь мир, будто бы сработал затвор фотоаппарата, и вдруг все кончилось, звук отдалился, самолет, едва не снеся полскалы с женщиной на вершине, неожиданно обрел новое пространство под обрывом, и было странным видеть его внизу, неуклонно летящим к морю, оседлавшим свой собственный дымный след.
Накренясь над Аю-Дагом, аэробус развернулся в сторону Ялты, несколько секунд летел низко над морем, внезапно его правое крыло окунулось в воду, стал виден узкий белый шлейф пены… Наконец, сопротивление воды стало критическим и машину развернуло, медленно, как бы в рапиде, она продолжала лететь брюхом вперед, погруженное в воду крыло лопнуло, переломилось, и бывший самолет, перевернувшись, целиком скрылся под водой, а впереди, чуть отклонившись вправо от предполагаемого подводного движения, показались какие-то предметы, долго еще плывшие по инерции вперед…
15
Закончив свою исповедь, Аделаида задумчиво откинулась на подушку, крепко затянулась сигаретой и, с шумом выдыхая дым, покосилась на Стаканского, наблюдая произведенный эффект. Несколько мгновений они молча лежали рядом, разглядывая огоньки своих сигарет.
— Рассказывают, — прервал молчание Стаканский, — что некогда на Тавриде жил караим, имя которого было Петри. В те далекие времена человечество не утруждалось такими мелочами, как спортивное покорение вершин, но этот Петри, словно стараясь подтвердить исключением правило, занимался альпинизмом неистово и бескорыстно. Он покорил почти все вершины на острове, вымерил их, нанес на карту и дал им названия. Так, считается, что именно он первым обозначил геодезические отметки Чатырдага, Димерджи и, кстати, Роман-Кош. Удивляясь его бессмысленной работе, крымские татары только качали головами. Но в нашем мире — увы — любое благое начинание преследует неудача, позор, смерть, как будто бы сама природа ненавидит людей более, нежели они сами ненавидят себя… И однажды бедняге не повезло. Во время восхождения на Козел-гору подул сильный ветер, нередкий в этих местах, и горе-альпинист сорвался со скалы. Сидевшие внизу в Алупке крымские татары лишь покачали головами, подобно китайским болванчикам, приговаривая:
— Ай да Петри! Ай Петри! Ай!
Вот почему Козел-гора и по сей день носит название Ай-Петри…
— Но дело не в этом, — продолжал Стаканский, обнимая Аделаиду за плечо. — Меня глубоко взволновал твой рассказ, детка. И вот что я подумал. Мне кажется, как ни дерзко это звучит, Платон был все-таки не прав. То есть, он угадал сам механизм, конструкцию мира, но неверно выбрал точку, в которой помещается человек. На самом деле — и это мое глубокое убеждение — мы находимся не в дольнем мире, не в этой мрачной пещере, где движутся тени, а в мире горнем, и именно мы и есть те самые существа, которые проносят загадочные фигуры перед входом, то есть, я хочу сказать, что этот ужасный, этот проклятый мир и есть предел Вселенной, и выше нас, как это ни страшно, — нет ничего.
Аделаида задрожала. Сигарета вывалилась из ее рта, глаза замерцали слезами.
— Неужели ничего? Неужели там ничего нет, милый?
— Ничего, — спокойно сказал Стаканский. — Нет ни Бога, ни Дьявола, ни Ада ни Рая, — на чем я и завершаю этот долгий и серьезный разговор о строении Вселенной. То, что было создано двадцать миллиардов лет назад, не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас. В начале было слово, и слово это было Свояк. Никто не ставил никаких экспериментов, и вовсе никаких целей. Мы даже и не бред некой безумной головы, поскольку и головы-то самой нет. Ничего нет. Ничего нет и не было никогда. Никогда — именно так звучит на русском языке этот совершенно убийственный анапест.
Аделаида теснее прижалась к Стаканскому, ее слезы обильно потекли по его груди, путаясь в волосках, Стаканский нежно гладил женщину по спине, мало-помалу ее скорбь переросла в возбуждение, она села на мужчину верхом и, перебирая ногами, будто ища стремена, с долгим протяжным воплем отдалась ему, уже третий раз за эту ночь…
В углу комнаты, в колыбели, зашевелилось какое-то тряпье, и Стаканский с изумлением увидел девочку лет трех, пристально глядевшую на них. У нее были большие, расширенные от ужаса глаза, она вдруг улыбнулась и простерла вперед ручонки, радостно воскликнув:
— Папа!
Аделаида, будучи на вершине своего оргазма, застыла, сведя лопатки. Она медленно оглянулась и, пронзив девочку испепеляющим взглядом, злобно прошептала:
— Спать стерва! Убью!
В этот момент стало окончательно ясно, что в комнате начался пожар. Опрометчиво брошенная сигарета прожгла в одеяле небольшую брешь, тление, как опухоль, расползлось по ватину, на несколько минут двумя голыми людьми овладела паника, они молча и трусливо бегали на кухню за водой, потом, часто дыша, проветрились на веранде, девочка уснула на коленях у Стаканского, от нее исходил запах прелого персика, хотя в апреле этот плод еще только замышлялся природой.
— Ее зовут Анжела, — сказала Аделаида, нежно погладив дочь по волосам.
16
Когда Стаканский вошел в комнату покойного, ему почудился сладковатый трупный запах. Пишущая машинка на столе уже стала зарастать паутиной, рукописи покрылись нежным пушком известковой пыли. Покойник имел привычку грызть за работой ногти и, вероятно, боясь расстаться с частицами своего Я, складывал их в специальную банку — за жизнь накопилось почти пол-литра ногтей…
За жизнь накопилась полка папок, это были невинные юморески, сочиненные специально для местной газеты и в ней же опубликованные под псевдонимом «Сверчок», несколько серьезных рассказов и повестей, роман в работе, исчерканный вдоль и поперек — с милыми смелыми пассажами, двусмысленностями, сборничек стихов, который покойник, похоже, готовил к юбилею города и безуспешно пытался опубликовать, сочинив несколько заглавных стихотворений, в коих прославлял именитых мафиози Южного Берега…
Как сквозь застывшую воду, из-за зеленого стекла на столе смотрел на него Михаил Мыльник в десятках своих обличий: Мыльник в Тамани у домика Лермонтова, Мыльник за чтением в купе поезда, Мыльник с Анатолием Кимом, Мыльник за обеденным столом между Пастернаком и Набоковым, молодой, гениальный, уже заявивший о себе.
Это можно было объяснить либо стремлением пустить окружающим пыль в глаза, либо заподозрить писателя в нарциссизме, если учесть, что прямо перед рабочим местом на стене висело небольшое зеркало, либо представить более сложный психологический казус: не для того ли, чтобы сориентировать себя на долгий подвижнический труд, изготовил он эти довольно грамотные фотомонтажи?
Все три версии были равноправны. Разнообразие предметов мыльниковского кабинета подтверждало его последнюю мысль о векторном поле, неопределимости человеческого характера и т. д. Стаканскому захотелось поближе познакомиться со своим предшественником и он устроил в комнате обыск, результатом которого стала еще одна, тщательно продуманная и высокохудожественная штука: одни предметы он переменил местами, другие — изъял, чтобы уничтожить, несколько вещей попросту украл. Он также перевесил зеркало, теперь оно наполнилось видом из окна — куст олеандра, нисходящие кровли, сапфирный треугольник моря с силуэтом судна, в любой миг готового медленно оторваться от глади и взлететь. В нижнем внутреннем дворе соседнего дома медленно брела по своим делам кошка, и какой-то приезжий грузин избивал ногами белую женщину, приговаривая: «Будиш ябаца? Будиш? Будиш?»
Стаканский заменил фотографии на вырезки из газет с псевдонимом «Сверчок», и чтобы еще больше запутать действительность, поместил туда заметку о гибели самолета Петербург-Ашхабад, этой бездарной, ненадежной машины. Он присвоил маленький интимный ларец, где были любовные письма, предметы дамского туалета, скабрезный дневничок неудовлетворенного, закомплексованного мужчины, отлично сознавая, что, приобщив эти предметы к собственной коллекции, он формирует не только Мыльников, но и свой литературный образ.
Остаться здесь, подумал он. Взять чужие рукописи, пишущую машинку, квартиру, воспоминания детства, имя и лицо… Мыльник встал и прошелся по комнате, потирая руки. Мыльник подошел к окну и увидел сидевшую на корточках Аделаиду, которая, серьезно жестикулируя, учила дочку, как правильно снимать трусики и садиться на горшок. Почувствовав взгляд мужа, она улыбнулась и погрозила ему пальцем.
Он взял с полки пухлую папку и взвесил ее на руке. Таким тяжелым может быть лишь труд всей твоей жизни. Он прочитал титульный лист: «Каменный гусь. Роман-галлюцинация. Посвящается А.М.»
Он прилег на оттоманку и принялся читать.
Каменный гусь был чудом техники, мечтой самого изощренного, самого похотливого тирана. Это был универсальный аппарат, умеющий на довольно большом расстоянии не только улавливать инакомыслие, но и пресекать его, внушая надежность, добропорядочность. Тех, кто не поддавался внушению, Каменный Гусь призывал к себе, действуя через подставных лиц. Попав наконец во двор Лубянки, жертва видела высокую кирпичную стену, цемянковый постамент с двумя цветочными урнами по сторонам и его — на самом деле похожего на какого-то каменного гуся — Каменного Гуся, серого, с бронзовой воронкой на голове… Издав продолжительный и лунный звук «У-у-у-м!» — Каменный Гусь умерщвлял жертву.
Герой романа, Роман Рассольников как раз и оказывается неподдающимся. В один прекрасный миг мир изменился к нему, словно развернулась некая метафорическая избушка на курьих ножках — меткое сравнение. Друзья предают его, женщины ему изменяют, события начинают развиваться так, чтобы заманить Рассольникова на Лубянку. Совершая огромные круги по огромному городу, он постепенно, по спирали приходит к кирпичной стене и видит цемянковый постамент, две безвкусные цветочные урны и гладкокожего, щедро облитого лунным сиянием — Каменного Гуся.
«И в тот миг, когда за спиной раздался пронзительный и лунный крик, и острие этого крика вошло ему в затылок, мгновенно оборвавшись глубоким напряженным молчанием, Рассольников родился — весь в собственном захлебывающемся звуке, выйдя в ощутимый поток мощного белого света, и сильные руки безликих акушеров в марлевых полумасках приняли его, бордового, раскаленного, первыми усилиями разрывающего родильную рубашку, и Елизавета, отметив, что она стала матерью — и матерью долгожданного сына, облегченно вытянулась на столе, проваливаясь в здоровый и упоительный сон.»
Рождение вместо смерти было довольно неожиданной, смелой концовкой. Перевернув последнюю страницу, Стаканский тотчас открыл первую и снова вдумчиво перечитал текст. Он увидел, что все действие романа метафорически отражает развитие плода в материнской утробе, его преджизненные галлюцинации, разговоры снаружи, страхи матери, которая там, внутри, трансформировалась в Елизавету, возлюбленную героя.
Роман был бездарен, утомителен, загроможден реминисценциями и аллюзиями и, будучи ассоциативно замкнут сам на себя, читался с невероятным трудом. Автору постоянно изменяло чувство вкуса: казалось, что подтягиваясь на ручонках, он высовывает из-за букв свою маленькую мертвую голову и кричит: Посмотрите на меня! Это же я — это я!
Стаканский заснул лишь под утро, когда комната перестала являть неподвижных чудовищ, ему приснилось, будто его — дрожащего, голого, бледного — (ничего, сейчас он покраснеет) — двое одетых — неумолимо и молча опускают в ванну с кипящей водой. Он кричит, запрокинув голову, голова скрывается, его крик пунктирен в пузырях, такими же пузырями ползет его тело. Он весь, как бы металлический, погруженный в ванночку с кислотой; пузыри облепили его и тонкими струйками идут вверх — аквариум — некоторое время он видит их на себе и знает: кожа пузырится от того, что кипит внешняя кровь, быстрее движется по сосудам, разрывает его горячей болью — и он на мгновенье представил все свои артерии, вены и капилляры, и он на мгновение почувствовал себя очищенной от мяса и костей кровеносной системой, и все еще бился, но его крепко держали четыре руки в изоляционных перчатках, и теперь он уже не цепляется за них, воя в воду, и не болтает ногами — его руки и ноги вытянуты вверх, торчат из помутневшей воды, красные, напряженно и крупно дрожат. Вдруг он понял: ведь это мама купала его и вытаскивает из ванночки, вытирает толстым белым полотенцем — Елизавета — протирает глазки, ушки, носик, и ему не нравится, потому что щекотно, и он мотает головой, путаясь в ткани, и она приносит его в детскую, и за окнами темнеет рано, потому что уже Сочельник, и за решетчатой ересью морозных узоров стоит — весь ослепительный — солнечнолунный — Каменный Гусь.
17
Он вышел в сад. Утром Аделаида принесла письмо, каждое слово которого навсегда врезалось в его память.
Письмо было от одного приятеля. Несколько месяцев назад он взял на сохранение рукописи Стаканского и спрятал два тугих чемодана на даче в Малаховке. Надо заметить, что почти все рукописи существовали в одном экземпляре.
В письме говорилось, что означенная дача сгорела и два чемодана (два чемодана — старые кожаные, доставшиеся по наследству от деда, вероятно, дед таскал в них отрубленные головы) также сгорели вместе с домом, и Стаканский вдруг вспомнил Кащея Бессмертного с его сундучком…
Он все еще стоял в саду, слушая, как в прохладном воздухе разливается старая крымская песенка про старичка в серой шляпе, который так любил попивать вечерами липовый чай… И вдруг он понял, что больше всего на свете жалеет не о испепеленном добре, ни даже о рукописях, труде всей его жизни, рассеянном теперь где-то в холодном воздухе Подмосковья, — а о фотографии Анечки с сыном на коленях, фотографии, которую он иногда рассматривал, которая говорила ему: ты испортил меня. Ты испортил мне мою жизнь, а затем убил меня. За что, зачем ты это сделал со мной? Ведь она была у меня одна — моя.
Я была тебе плохой женой, да? Я изменяла тебе, я с тобой скучала, я хотела других, да? Я была тебе плохой партнершей в постели? А я хотела быть единственной женщиной твоей, и после тебя у меня долго не было других, почти два года. А ты прогнал меня ради других, ну и что, если они любили тебя больше, ведь не я виновата, я просто могла тебя любить именно так, как могла… Да, я не могла любить больше, чем это было мне определено, дано Богом. Это как объем легких, он дается и все, и не может быть больше. Я любила тебя.
Когда она ушла, недописанные книги вновь призывно зашелестели страницами, но так и остались в виде воображаемых атласных кирпичей.
Ибо дело было вовсе не в том, что мешали люди, два человечка, оба маленькие, оба — его порождение, и не в том, что газетная работа пожирала его время, и даже не в том, что рукописи в конце концов сгорели, а именно в том главном, в том самом жутком, во что не верят, как, скажем, в собственную смерть.
Он проиграл — только и всего. Цель жизни, с беспечной легкостью поставленная еще в детстве, оказалась недостижимой. Музыка, так ясно звучавшая внутри, так и не нашла выхода. Все его существование оказалось бессмысленным, дряблым, как эта — если заглянуть в будущее — далеко над столом протянутая старческая рука.
Жил на свете один старичок,
У него была серая шляпа…
Наиболее правильным решением было бы взять тыкву, надеть ее на голову, да с лицом, искаженным ужасом, пристально посмотреть в зеркало и несколько раз выстрелить себе висок, из того самого револьвера, настоящего русского нагана калибра 7,62, который уже не раз стрелял на этих страницах — так, чтобы семечки брызнули в разные стороны, а когда из-за плеча выглянет она, театрально размахивая своей серебристой косой, расхохотаться в небо и длинным мазиком пробить ей чужак.
Все оказалось гораздо хуже. Стаканский прожил еще пятнадцать лет. В то утро он вышел в сад и увидел Анжелу, безмятежно игравшую в песочек. Она формировала синим ведерком аппетитные куличи, а напротив восседал толстенький соседский мальчик, немедленно уничтожая каждое новое произведение подруги. Перед вами сама жизнь: хлоп-шлеп — и наоборот. Вскоре этот мальчик полюбит Анжелу, замучит ее признаниями, станет ей отвратителен, хотя всю свою жизнь девушка воспринимала его, как брата… Я хочу присвоить его детство, его город. Загорелый, босой, бегал я в грузовой порт ловить беззащитных и вкусных рапанов… Из нее выросла бы прекрасная невеста. Лет через пятнадцать — жаль, что так немного (по сравнению с вечностью) не совпали во времени.
И на это в ответ старичок
Лишь тихонько и тоненько пукнул…
Он взял девочку на руки и подбросил в воздухе. Анжела крепко ухватила его за шею и поцеловала в губы.
— Между прочим, тогда мне будет пятьдесят, — сказал Стаканский, смеясь, продолжая подбрасывать легкое и прекрасное тело.
— Ха-ха-ха! Пятьдесят.
— Ха-ха-ха…
— Хе-хе-хе.
— Хе…
— Кхе…
Он посмотрел на свою руку, долго и удивленно разглядывал ладонь, будто лежит на ней кусок поразительного минерала. Он приставил палец к виску и шутя выстрелил губами. Цевье руки было сплошь в смертельных пятнах, как некогда у бабули, да и подозрительно похожая палка уже стояла в углу, сроднившись, как маленькая черная собачка холостяка. В свои пятьдесят с небольшим он выглядел на все семьдесят. Представьте себе хотя бы эту жульническую, с перекошенными плечами походку горбуна, добавьте недержание кала… Да, читатель.
18
За окном значительно выросли деревья. Несколько новых зданий, похожих на губные гармошки, сделали мир еще ужасней.
Последний год, как это под конец случается с каждым из нас, действительность двинулась на него, злобно дыша. Он не сразу понял, что события, каждое из которых происходило вроде бы само по себе, случайно, составляют систему, некое игровое поле, где меченый шарик непременно попадет в лузу, будто некто склонился над столом, думает, выколачивает трубку…
Вчера ночью после концерта хозяин театра взял Стаканского за пуговицу фрака и тихо попросил написать заявление, так как уже найден и ждет новый, молодой контрабасист.
— Я бы на вашем месте продал инструмент, — сказал он, — пока кто-то не сделал вам испанский воротник, крошка.
Последнее время его беспокоили насекомые. Крупный мохноногий паук жил за книжным шкафом, по крайней мере, он туда уходил, волоча серый мешок с яйцами. Несколько кожистых каракатиц обосновались под кроватью, они источали резкий чесночный запах, особенно в период течки. Наконец, самые мелкие, размером с кулак скорпионы, жили и питались в кухонной тумбочке.
Думая о своей жизни, Стаканский не мог вспомнить, когда именно он совершил ошибку — ведь ясно, что в одной человеческой жизни должно быть и одно ключевое, определяющее событие. Может, это была встреча с Норой? Или тот памятный концерт Сен-Санса в Лозанне? Или всему виной Регина? А может быть не стоило ему возвращаться на ялтинское пепелище, на улицу Дмитрова, где давно засыпали бассейн с рыбами — они, наверно, и теперь висят там, в песке и щебне, превратившись в багровые камни… Или, наконец, узел всей его жизни завязывается сегодня, когда в его жизнь снова вошла — все перетряхнув и перепутав — любовь?
19
Любовь облагородила его, будто бы он подставил лицо свежему морскому ветру и свежий морской ветер растрепал его седые кудри, и вот он уже высокий, седой, с узким благородным лицом матовой кожи стоит над волнами, смотрит, рвет и бросает какие-то бумажки…
Анжела появилась внезапно. Еще вчера Стаканский валялся среди кустов акации, измазанный калом, а сегодня в ночном кафе на Бронной, высвеченный на пол-лица нежной розовой лампой, с изумлением разглядывал девушку, которая, как все ялтинцы, широко и энергично жестикулируя, рассказывала ему свою жизнь…
— И вот я здесь, у вас, и брат приезжает завтра, потому что жить с нею больше невыносимо, — закончила она и звонко поставила на стол пустой бокал.
— Сколько лет твоему брату? — спросил Стаканский, тупо глядя на блюдо.
— Пятнадцать.
— В каком месяце он родился? — Стаканский увидел, как блюдо перед его глазами скуклилось, превратилось в жуткий фарфоровый цветок.
— В январе, — сказала Анжела, нетерпеливо дрогнув плечом, недовольная, что мэтр говорит о таких мелочах.
(Смерть у каждого разная. У каждого она такова, какой он ее себе представляет.
— Что такое смерть? Может быть, это шкаф? Или ты стоишь на обочине, один, а мимо едет колонна автобусов с детьми?
– Chacum а sa mort… Смерть у каждого своя)
Это был сумасшедший день, полный судьбоносных перемен, вчера… Встреча проходила в перерыве между спектаклями, Стаканский был во фраке, украдкой поглядывал на часы и на инструмент, расположившийся чуть поодаль у стены. Его напряжение было столь велико, что на одном из самых головокружительных пассажей ля-минор фуги до-мажор-труа он во второй (и как выяснилось — последний) раз в жизни не сдержался и желтая, остро пахнущая струя выползла из-под пюпитра флейтистки, изогнулась и потекла по полу оркестровой ямы, внося хаос в музыкальные ряды. Вернувшись домой, он сразу лег в постель и, проонанировав, уснул, и сегодня, уже не волнуясь о своей дальнейшей судьбе, сидел у окна, поджидал Анжелу, разглядывал свою руку в смертельных пятнах и трепетал о прожитой жизни. Только сейчас его отпустил очередной приступ жены.
Приступ жены был связан у него всегда с физиологией, да он и проходил физиологически. Иногда у него начинало потягивать печень, первые часы он ее всего лишь ощущал, то есть, тело его вообще состояло из весьма чувствительной носоглотки и теперь вот печени, которая тяжелела на юго-востоке и вдруг впервые прокалывалась иглой… И тогда начинался приступ жены.
Казалось, еще совсем недавно (а уже пятнадцать лет прошло) он жил с нею в одном пространстве, что теперь недосягаемо, больно, не подвластно никакому волшебству.
Самое пошлое, что и после своей единственной свадьбы, с живой женой на руках, он продолжал мечтать о любви, о какой-то неземной женщине, о гармонии, Господи, о музыке сфер.
Как в липкие холостые ночи. Да — именно это было его детской ошибкой: думать о ней, о той, которой, и основной смысл смещался в сторону которой, вовсе сводя на нет понятие той.
Любовь существовала внутри него: как определенная система его личных чувств, вне зависимости от объекта приложения. В юности он занимался математикой и именно в таких фразах строил свои философские системы бытия, но, едва поняв и выстроив, находил основную ошибку — лишнее доказательство того, что умом Россию не понять. Впрочем, и верить в Россию не стоит. Свояк.
Жизнь подобна беседе: вы говорите долго и напряженно, вы давно перешли границы запретного, вам надо прекратить разговор, иначе он уже изменит отношения между вами, но остановиться никак нельзя, неужели никак?
Неужели никогда? — вопрошал он близлежащее пространство, когда жена наконец ушла от него, уже не играя уход, но уходя.
Позже он и вправду влюбился в одном из бесчисленных своих городов, да так, значит, втюрился, что весь этот город должен был знать об этом, сопереживать, встречать его выходящим из здания вокзала, смотреть, как он дарит цветы — далеко вытянув руку, запрокинув голову, блея — слушать ночные крики его быстротекущей страсти. Это, разумеется, было ненадолго, Боже мой! — это было ничто по сравнению с длинной и полной любовью жены, готовой растянуть себя на годы, до самой-самой смерти.
Милая, родная моя! Ведь ты сосала мою кровь, девочка, медленно припадая к ключице, ты не виновата, ничуть, ведь без моей крови ты не могла жить, это и была, собственно, твоя жизнь, а вместо того, чтобы отдать тебе ее, я оторвал тебя, маленькую, красногубую, от груди, сжал и бросил… Умоляющий недоуменный взгляд.
Помню, когда она ушла и первое время жила еще в Москве, у своей старой курящей тетки, а Стаканский навещал ее и иногда оставался на ночь, и она придумала версию о том, что они расстались временно, и щебетала, что гораздо приятнее быть любовницей, нежели женой, а потом вдруг разревелась: мне страшно, я не могу без тебя, возьми меня обратно.
Он хотел все вернуть, действительно хотел, вздрагивая среди ночи: зачем я так? Сам своими руками разрушил их маленькую беззащитную семейку, зачем?
Боже мой, а ведь прошло несколько месяцев и она охладела к нему, может быть, увлеклась другим, это навсегда останется тайной, поскольку она погибла — где-то под Киевом, на железнодорожных путях, (теща потом повторяла, будто не знала иных слов в русском языке: на куски, на куски) а он все писал ей, еще не зная, правда, гораздо реже, спокойнее, что мы с тобой родные, что у нас будет новый сын, кровь наша, что это временно, временно, пока не вернулось последнее нераспечатанное его письмо и уведомление о смерти.
И после смерти Анечки — а в тот год почему-то все умирали, и мать ее, и его бабуля, долго и добросовестно заменявшая ему мать — зловещее «никогда» отпустило его. И лишь приступы повторялись время от времени, с болью в печени на юго-востоке, с привкусом жирной жареной печени во рту. Он вдруг вспомнил ее темнокрасный свитер, вспомнил, как однажды, делая вид, что сочиняет, писал любовнице в N-ск, и она вошла в этом красном свитере, и он взорвался, затопал под столом ногами — не мешай сочинять мою великую музыку, ты, ничтожество, жалкая подменная скрипка в клубном оркестре! — взял ее за плечи и выставил из кабинета, и сразу подумал: он будет всегда это помнить, когда ее не будет, и сейчас он именно и вспомнил этот случай, один из многих, с которыми обычно приступ входил в него.
Он лежал, скорчившись, под одеялом, и голосом, сходящим на нет, просил воды неведомо у кого, огромное юго-восточное екало в брюшной полости, казалось, будто червь медленными толчками продирается через тело… Боже, как больно, Аня, больно, бабушка, больно, и нет тебя рядом, и не будет больше никогда. И слезы спасали его от боли, гасили боль.
Да, слезы спасали, лились обильно, беззащитно, он вставал, подвывая и хныча, принимал седальгин, сильную наркотическую дозу, он знал, что в один из этих приступов покончит с собой, но для этого нужны еще условия — так чтобы все, абсолютно все было кончено…
А ведь я тоже хотела, чтобы ты стал композитором, сочинил хорошую музыку, говорила ему мертвая жена. Ведь я тихо любила тебя, я дала тебе несколько лет тихого счастья, тихого дома, по крайней мере, спокойствия, ведь мне больно, больно, Боже, как мне больно, — пульсировала печень, и он начинал причитать: Анечка, моя бедная Анечка, почему никогда не вернусь я к тебе, — что уже принимало ритм посредственных стихов.
Если бы она хоть где-нибудь была, можно было приползти к ней на коленях, с печенью в руке, и пусть жить с нею дальше, влачить жалкую маленькую семейку, опять притворяться чутким, может быть, изменять ей иногда стыдливо и страстно, о нет, я не способен на такую сильную жертву, во имя чего, спрашивается, ведь ей уже давно все равно (вновь пульсируют стишки, Лоханкин) и мне давно — тоже. Но что-то существует все же…
Когда к тебе приходит андж, приходит андж, как насморк или боль в боку… И ты лежишь, и ты молчишь, и молча смотришь, как идет, к тебе идет издалека, идет, приходит и берет тебя, хватает за бока — ужасный, как сама тоска, безумный андж…
Андж, который начинался как твое вдохновение и первые годы жизни настраивал тебе лиру, который затем соблазнял тебя винами и наркотиками, уводя в мир спасительных грез, теперь обернулся безумием, чтобы вскоре показать тебе истинный свой лик — лик смерти.
Стаканский боялся возмездия, а именно: если действует закон наказания, то он должен быть наказан за измену, предательство, гибель ее, гибель их ребенка, и он знал наверное, что когда-нибудь это наказание свершится.
И в каждой новой женщине он подозревал своего очередного палача, достигнув крейсерской скорости двух-трех бурных любовей в год, он вздыхал свободно, если отпустило.
И вот с Анжелой столь легко отделавшись тогда (сто рублей и тотчас съеду) он вздохнул свободно, на крутом троллейбусном вираже покидая Ялту, и не то чтобы забыл (он не забывал ничего никогда, даже в узком любовном значении этого слова) а удалил девушку в память, вторгся в другую, полную и уже немолодую красавицу из нотного магазина, открыл новый роман, и когда лицом к лицу вновь столкнулся с Анжелой, испытал мощный электрический удар — все-таки оно нашло его, и теперь окончательно ясно: палач явился, спокойно и черно вошел палач.
20
Цель встречи была ясна и вполне корыстна. Анжела дала ему тетрадку, исписанную красивым и круглым. Стаканский представил себе синий ворох партитур — беспомощных, жутких, однако, читать принялся с волнением.
Начало было ожидаемым, и важно было удержаться, чтобы не вздохнуть, словно Анжела стояла на ковре напротив, в потных руках сжимая скрипку, но вдруг Стаканский споткнулся о недурной образ, затем перечитал одну коротенькую фугу и удивился ее ясной двойственности, наконец, вернулся в начало и внимательно прочитал всю тетрадь.
Фуги были великолепны. В них не было и следа воющей, прижавшей ладони ко лбу девушки. Перед ним был композитор, равный по силе Скрябину, Шнитке… Ялта, чей воздух уже столетие был полон дыханием русской богемы, рано или поздно должна была породить гения.
В этом внезапном свете собственные рукописи показались Стаканскому маленькими. Он окинул взглядом полку над столом. Пять симфоний, выстроенных по длине жизни от классики до полной додекафонии, по мере разрушения души. Опера по мотивам стихов Солженицына, написанная в соавторстве и незаконченная по причине смерти соавтора. Несколько десятков пьес, этюдов, зарисовок, даже элементарных песен. Ни одна его вещь не была опубликована, ни разу не была исполнена, иногда он играл отрывки друзьям, выдавая за малоизвестные сочинения западных лабухов, как-то раз послал анонимно симфонию ре-минор «Мраморный конь» Джигге Шостаковичу и не получил ответа… Для всех он был скромным, стареющим, исполнительным контрабасистом, и никто не знал, что эти папки ждут своего часа, что однажды звуки, рожденные в его сердце, загремят по всему миру. Все это было слишком ново, слишком хорошо, чтобы жить при жизни автора. Ах, чтоб вы сгорели! — сказал Стаканский своим рукописям и представил, как скручиваются в огне нотные листы, как ползут, извиваясь, некогда прямые линейки, и от этого неожиданного искривления, смещения зрачков, вдруг знакомо застучала кровь в лобных долях, замерло сердце, Стаканский подбежал к «Шредеру», дрожа, откинул крышку, припал, как пьяница, к клавишам и, запрокинув голову, проиграл несколько тут же пришедших в голову пассажей. Это надо записать, — он нервно затряс в воздухе пальцами, ища бумагу и ручку, но тут в дверь позвонили, и великая музыка мгновенно умерла, не родившись…
На пороге — в яркорозовом свитере, в золотистозеленой свободной юбке — стояла Анжела. Из-за ее спины выглядывал худенький очкастый мальчик, точная копия Стаканского в отрочестве. Он бережно держал в руках какой-то шарообразный, завернутый в махровое полотенце предмет.
— Мой младший брат Андж! — отрекомендовала Анжела, и мальчик с достоинством щелкнул каблуками.
Девушка выбежала на середину комнаты, огляделась и, указав на свободное место на столе, хлопнула в ладоши. Андж проворно подошел, разыгрывая заранее отрепетированную сцену, поставил свою ношу на стол и артистическим жестом сорвал полотенце. Анжела выключила в комнате свет.
— Ап!
Стаканский закричал. Обняв дверной косяк, он стал медленно сползать на пол, изо рта повалила белая пережеванная кашица.
— Господи, господи! — запричитала Анжела, наклоняясь к нему. — Скорее свет! Воды! Батюшки! — всплеснула она руками. — Мы же пошутили, Борис Николаевич, мы всегда так шутим, в Ялте, зимой, выскакивая из кустов тамариска… Андж! Погаси свечу. Вот так. Полотенце, валидол… С вами все в порядке?
— Да, — сказал Стаканский, садясь на полу. — Все хорошо. Нервы, знаете ли, старость… Ну и весело же вы меня! Ух! Люблю веселых, бойких ребят, не обделенных чувством юмора. М-да.
— Ну-с, дорогие мои! — говорил он спустя несколько минут, расхаживая по комнате и потирая руки, которые, впрочем, все еще дрожали. — Что мы будем есть, пить?
— Мы не голодны, — холодно ответила Анжела, одергивая брата, уже было раскрывшего рот, дабы произвести заказ.
Стаканскому стало жаль сына, который, в отличие от своей единоутробной сестры, производил впечатление тупого, неразвитого мальчика.
— Мы ненадолго, ваще… — продолжала Анжела. — Сегодня у нас еще несколько визитов в Москве… Вы прочли? Вы можете что-нибудь сказать?
Его психическое напряжение достигло предела и в этот момент мохноногий выкатился из-под шкафа, Анжела, будто тоже услышав шорох, метнула взгляд и глаза ее расширились.
— Что? — пролепетала она, облизывая пересохшие губы.
— Это пустяк, — залепетал Стаканский, — это паук… Такая механическая игрушка, монстрик, подарок из Африки… — пяткой запихивая мерзкое тело на место.
— Однако! — подумал он.
Внезапная догадка придала ему силы и уверенности в себе. Он обнял девушку за бедра, опустился перед ней на колени, страстно лепеча:
— Люблю, люблю тебя! Невообразимо и страшно… Как в старину. В серебряный век…
Анжела с силой оттолкнула его голову.
— Старый енот! Нытье… Ты ради бляди… Выслюнишь, вылижешь! — девушка задыхалась от злости, Стаканский запрокинул голову и зарыдал в голос, глядя, как рушится стеклянное здание последней надежды его жизни.
Но что это? Он чувствует: ее руки гладят его волосы, ее влажные глаза прижимаются к его щеке, и та же сбивчивая фраза, преобразившись, вновь звучит в ушах:
— Старые нотные тетради… Глядя мысленно издалека, глазами юга, я столько раз тайно обращалась к вам, мой добрый гений! Вы же лишь… Вы же… Лишь вы…
Девушка задыхалась от страсти, ей просто не хватало слов:
— Как же я люблю эти (Какаете? Блюете? — вдруг опять перевернулось и задрожало…) милые разноцветные папки, в которых хранится история вашей души! Разве вы не заметили в моих скромных фугах то скрытые, то даже явные обращения к вам, цитаты — через расстояние, через время? С тех пор как я увидела вас пятнадцать лет назад, я забредила вами, и бредила все эти годы, вы снились мне — да, да! — не хлопайте удивленно глазами! Тогда в моей душе что-то произошло, и вся моя жизнь потекла иным руслом… Я люблю вас. Я — ваша. Я так боялась, когда шла к вам, потому и припасла эту дурацкую тыкву… Я никогда не была так счастлива, как сейчас, когда вы первый сказали мне… Хотите, я буду вашей женой, хотите — любовницей, служанкой, собакой. Я буду жить здесь, на пороге… Только не гоните меня! — вдруг воскликнула она, увидев мелькнувший в его глазах огонек.
Стаканский сидел вполоборота к Анжеле, громко барабаня пальцами по столу. Он посмотрел в окно. Там, на стоянке такси маячила жалкая фигура Анджа, о существовании которого как-то забылось, и совсем было не ясно, когда он успел уйти… Ожидая сестру, мальчик купил мороженое и теперь разворачивал фольгу с похотливым лицом. Анжела вся съежилась, чувствуя, что сейчас произойдет нечто ужасное.
— Что у тебя с рукой? — тихо спросил Стаканский.
— Обожгла в детстве.
— Звезда упала на ладонь?
— Что-то вроде того. Мамаша напилась, не потушила окурок, начался пожар… Что вы! Мы тогда чуть не сгорели все…
— Значит так, — четко, с расстановкой сказал Стаканский. — Твои фуги, дочка, никуда не годятся. В них нет, — он схватил со стола коричневую тетрадь и потряс ею в воздухе, — ни малейшей искры, ни капли надежды. Твои фуги — гавно. Мне тяжело об этом говорить, но у меня уже были случаи, когда по доброте душевной допущенная похвала приводила к трагедии. Эту болезнь надо лечить операционно. Ты должна раз и навсегда зарубить себе на носу, что из тебя не выйдет композитора, — зарубить и выбросить эту чушь из головы.
Анжела сидела вся красная. Пот струился по ее полному лицу, отсветы пламени, пляшущего в неплотно прикрытой печи, колыхались на ее отвислых щеках.
— Значит так, девочка, — деловито сказал Стаканский, дотянувшись до кочерги. — Надеюсь, это у тебя единственный экземпляр?
Анжела энергично закивала. Она поняла что сейчас произойдет и, похоже, безропотно смирилась с решением. Крючком кочерги Стаканский распахнул чугунную дверцу, и бесплотные сполохи вырвались в более просторный объем, отраженно заплясав на стенах и потолке.
— Сама, — сухо сказал Стаканский и протянул Анжеле ее коричневую тетрадь.
Ни секунды не поколебавшись, девушка швырнула свои фуги в огонь, и пламя охватило их, и в тот же момент огонь ворвался в ее голову и опустошил ее, уничтожив и в памяти последние обрывки нотных линеек.
— Я свободна, — прошептала Анжела и, не простившись, вышла вон.
Стаканский уселся у окна, тускло глядя на улицу. Андж на стоянке такси покончил с мороженым и теперь ел леденец. Подлетела машина, на несколько секунд задержалась перед ним и, не востребованная, сорвалась с места и скрылась между деревьями.
— Сыночек мой! — сказал Стаканский. — Ты так никогда и не узнаешь, что видел живым своего отца. Я не был с тобой рядом и сделал тебя несчастным. Ты всегда будешь маленьким, слабым, ничего ни в чем не смыслящим, и в этом виноват только я. Слава Богу, ты никогда не поймешь этого. Да и Бога-то на самом деле нет. В этом несчастье всех нас.
Анжела появилась на тротуаре. Маленькая, толстенькая, переваливаясь, словно утка, она неуклюже перелезла через оградку стоянки и с ходу залепила брату оплеуху. Бедный Андж, вытянувшись перед ней, молча выслушал ее выговор, наверно, по поводу сладкого… Анжела порылась в сумочке, нашла кредитную карточку и вставила в щиток на столбике. Вскоре подлетело такси, мягко спланировало на гравий. Брат и сестра сели в кабину, и машина, заложив крутой вираж над верхушками вязов, исчезла.
Стаканский прошелся по комнате, окинул взглядом полки с папками, тихонько процедил сквозь зубы:
— Чтоб вы сгорели.
Внезапно ему пришла в голову очень интересная идея. Он остановился и несколько минут всесторонне обдумывал ее, глядя в потолок и поглаживая пальцами подбородок. Пусть именно таким навсегда и запомнится нам этот несчастный человек…
Тот факт, что Анжела увидела его паука, мог значить лишь одно, а именно: Анжела сама была его галлюцинацией, что также подтверждалось последующей нелепой сценой жарких лобзаний. Но если это было так, то — по цепочке причинно-следственных связей — никогда не существовало и многих других событий его жизни. Стаканский и раньше сомневался в подлинности некоторых вещей, которые были либо слишком чудовищны, либо слишком нелепы, чтобы происходить на самом деле. Так, будучи еще совсем маленьким, он издали наблюдал, как взорвался и рухнул грандиозный, над Москвой возвышавшийся храм — событие, которого просто никогда не было в действительности. Или это омерзительное убийство Сталина ледорубом у стены — что может быть нелепее? Значит, никогда не было и Анжелы… Но если его первая встреча с Анжелой пятнадцать лет назад — фикция, то можно поставить под сомнение как его бегство в Ялту зимой семьдесят третьего (или семьдесят восьмого? — недаром вся эта путаница в датах) и Анну номер два, и Анну номер один, но ведь Аня Колобкова — это воспоминание его детства, значит, надо поставить под сомнение и всю его…
Жизнь человека — непрерывная цепочка причинно-следственных связей, следовательно, стоит… Похоже, затерялся листок, и это место в тексте, впрочем, как и многие другие, осталось неразборчивым.
Да и сама реальность? Эти гигантские самостроящиеся здания, буквально растущие на глазах, непоправимо меняющие облик планеты, с тех пор как изобрели фантастическую технологию выращивания глаудионовых блоков? Эти немыслимые флаеры, которые просто принципиально не могут летать, так сказать, без руля и ветрил?
Неразборчиво…
Стаканский поискал в кладовке, достал наполовину полную, пыльную канистру. Соотнесясь со своими знаниями в области пиротехники, ненужными, но все же неизбежными в такой длинной жизни, он равномерно и мудро расплескал керосин по комнате.
Тыква, оставленная на столе недавними гостями, глупо улыбаясь, глазела на него, звала… Осторожно, как некий символический шлем, Стаканский надел на голову тыкву. В тыкве было темно, душно и, как всегда, тяжело пахло тыквой.
Он подошел к большому, во весь рост, зеркалу, висевшему на стене. Несмотря на та то, что во внешнем мире вместо Стаканского появилось какое-то гадкое белоголовое чудовище, внутренний мир все еще существовал… Стаканский бросил зажженную спичку на пол и в тот момент, когда огонь широким фронтом побежал в разные стороны, несколько раз выстрелил себе в висок. Тыква брызнула семечками, но он этого не видел, потому что уже был внутри: он стоял на пустом полустанке, один, чуть белели неоновые фонари, ветер гнал по асфальту бумажки, а по рельсам медленно, чтобы он мог лучше рассмотреть, двигался поезд с ярко освещенными окнами, где весело смеялись, ели и пили, разворачивали газеты те, кому еще только предстояло сойти.


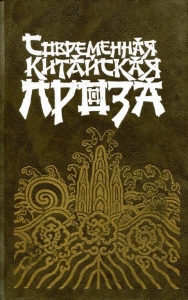
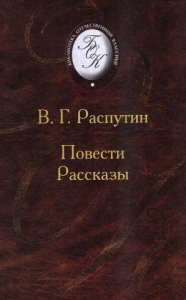




Комментарии к книге «Когда приходит Андж», Сергей Юрьевич Саканский
Всего 0 комментариев