Посвящается Мерседес Лопес-Байестерос из Сан-Себастьяна
В День входа Господня в Иерусалим почти никого из моих друзей в Мадриде не было и я решил скоротать вечер на ипподроме. Во время второй скачки, совершенно неинтересной, какой-то тип нечаянно толкнул меня локтем, поднимая к глазам, чтобы лучше видеть финишную прямую, бинокль. Я свой бинокль уже держал у глаз, и от удара он выпал у меня из рук — я всегда забываю вешать его на шею, и мне приходится платить за это, по крайней мере в тот раз я поплатился: одно из стекол разбилось, когда бинокль ударился о ступеньку, и разлетелось на мелкие осколки.
Я хотел наклониться, чтобы поднять бинокль, но человек, толкнувший меня локтем, уже сделал это. Это он первым заметил, что стекло разбилось, и принес мне извинения:
— Извините, — сказал он. А потом: — Смотрите, сломался. Вот черт!
Он наклонился, чтобы поднять мой бинокль. Когда он протянул к биноклю руку, мне бросились в глаза его запонки: в наши дни их никто не носит, это выглядит вульгарно и старомодно. И еще, когда при наклоне полы пиджака разошлись, я заметил у него на правом боку (видимо, он левша) кобуру. Это было совсем уже странно, но я подумал, что он, наверное, полицейский. Потом, когда он выпрямился, я увидел, что он очень высокий — на голову выше меня. Ему было лет тридцать, и он носил бачки, прямые и очень длинные — они тоже давно вышли из моды. Такие носили лет пятнадцать — целую вечность — назад. Или еще в прошлом веке. Может быть, он отпустил их, чтобы зрительно расширить лицо — голова у него была маленькая и продолговатая, походившая на спичечную головку.
— Я оплачу вам починку, — смущенно развел он руками. — Возьмите пока мой. Еще только вторая скачка.
Вторая скачка между тем уже закончилась. Мы не слышали, как объявляли имена победителей, поэтому я не стал пока рвать билеты со ставками, которые мы все обычно держим в руках и которые тут же рвем и бросаем на землю, узнав, что наша лошадь не выиграла. Выбрасываем ставшие ненужными бумажки и забываем об ошибочном прогнозе. Впрочем, я не смог бы порвать билеты, даже если бы захотел: в руках у меня были еще и два бинокля — мой, сломанный, и бинокль того человека (он протянул мне его, и я машинально его взял, чтобы он тоже не упал и не разбился). Заметив, что я в затруднительном положении, он взял у меня из рук билеты, положил их мне в нагрудный карман пиджака и похлопал по нему ладонью, словно заверив, что теперь мои билеты в полной сохранности.
— Но как вы сами будете без бинокля? — спросил я.
— Мы могли бы пользоваться моим по очереди, — ответил он. — Если вы не против того, чтобы смотреть скачки вместе. Вы один?
— Один.
— Вот только смотреть нам придется именно отсюда. Я веду наблюдение. Сегодня мое место здесь, мне нельзя никуда уходить.
— Вы полицейский?
— Да что вы! Я бы давно с голоду помер. Знаю я, как они живут. Вы что же, думаете, что полицейские могут одеваться, как я? Вы посмотрите! — и с этими словами он отступил на шаг и развел руки, как делает иллюзионист в цирке, перед тем как показать очередной трюк. Честно говоря, одет он был (на мой вкус) ужасно, хотя и очень дорого: костюм с двубортным (при этом, как я уже говорил, расстегнутым) пиджаком какого-то немыслимого серо-зеленого цвета; бледно-розовая, слишком нежного оттенка рубашка, сама по себе неплохая, но совершенно не подходившая мужчине такого роста; и чрезвычайно пестрый галстук — невероятная мешанина (птицы, насекомые, какие-то отвратительные фигуры в духе Миро, кошачьи глаза) на желтом фоне. Но особенно странной была обувь: не ботинки со шнурками, не мокасины, а какие-то детские башмачки, которые не доходили ему даже до щиколоток. Наверное, они казались ему очень модными, а все остальное он, видимо, воспринимал как почти классику. Запонки в форме листиков были вполне приличные, скорее всего, от Дюрана — сверкали, как им и положено. Скромностью мой новый знакомый похвастать не мог, но он и не оригинальничал — наверное, его просто в детстве не научили одеваться, вот и все.
— Вижу, — сказал я, чтобы что-то сказать. — И за чем же вы ведете наблюдение?
— Я телохранитель.
— А… И кого же вы охраняете?
Человек взял из моих рук свой бинокль, который отдал мне за минуту до того, приставил его к глазам и посмотрел на ВИП-ложи (правду сказать, ложи эти были совсем близко, и их легко можно было бы разглядеть даже невооруженным глазом), потом возвратил бинокль. Мне показалось, что он с облегчением вздохнул.
— Еще не пришел. Еще есть время. Если он все-таки придет, то не раньше четвертой скачки. На самом деле его интересует только пятая, как и всех остальных, только, в отличие от остальных, у него нет времени, чтобы его бесполезно тратить. Вот вы, например, можете позволить себе убивать время здесь, а он сейчас по телефону о делах говорит или прилег отдохнуть, перед тем как снова приняться за дела. Я пришел раньше, чтобы посмотреть, что тут и как, посмотреть, все ли спокойно, продумать расстановку сил.
— О чем это вы? Что здесь может произойти?
— Скорее всего, ничего. Но тем не менее кто-нибудь всегда должен приходить заранее. А кто-то, понятное дело, должен приходить вместе с ним и быть рядом. Я обычно прихожу раньше. Например, когда мы идем в ресторан или в казино или по дороге в бар заходим пива выпить, я всегда вхожу первым, чтобы взглянуть, как там и что. В таких местах всегда можешь нарваться на пару идиотов, которым приспичило набить друг другу морды. То есть не то чтобы это было сплошь и рядом, но, сами знаете, официант по нечаянности обольет вином какого-нибудь клиента, а тот взбеленится и давай его мутузить. Я не могу допустить, чтобы мой босс это видел или, хуже того, чтобы его самого в драку втянули. Бутылки, они, знаете, летают быстро. В Мадриде за день их ого сколько пролетает! И навахи то и дело в ход идут. Народ нынче дерганый, у всех нервы на пределе. А случись вмешаться в эту историю кому-нибудь с большими деньгами, то все сразу думают: "Ага! Пусть этот богатенький за все и расплачивается!" Эти, что дерутся, вмиг между собой договорятся и вместе на богатенького накинутся: "В задницу богатеньких!" Не-ет, тут глаз да глаз!
И он поднес палец к правому глазу.
— А что, ваш босс такой богатый, что это сразу бросается в глаза?
— У него это на лице написано. Большими буквами. Даже если он три дня бриться не будет и лохмотья нацепит, все равно по лицу будет видно, что богач. Мне бы такое лицо! Когда мы идем в дорогой магазин, я тоже вхожу первым, и, когда продавцы меня видят — хоть я тоже одет хорошо, — они кривятся или делают вид, что меня не замечают: бросаются обслуживать других, на которых до этой минуты тоже внимания не обращали, или начинают рыться в коробках, будто ищут там чего. Я им ни слова не говорю: проверяю, все ли спокойно, возвращаюсь и открываю дверь боссу. И как только они его видят — тут же бросают и клиентов, и коробки, тут же начинают улыбаться и бегут к нему навстречу.
— Но, может быть, ваш босс — человек не только богатый, но и известный? Может быть, они просто узнают его?
— Может, и так, — задумчиво согласился телохранитель. Казалось, такая мысль раньше не приходила ему в голову. — О нем сейчас все больше говорят. Он ведь из банка. Но идемте-ка в паддок — надо бы ставки сделать на третью скачку.
По дороге мы разорвали на мелкие кусочки и выбросили (туда вас! на пол!) наши не выигравшие билеты. Навстречу нам попались философ, завсегдатай воскресных скачек, и адмирал Алмира со своей красавицей женой. Они вежливо со мной раскланялись, но не сказали мне ни слова — возможно, просто удивились, увидев меня в компании великана, которому я едва доставал до плеча. Бинокль моего нового знакомого висел у меня на шее, а свой, разбитый, я нес в руках. Мой бинокль был маленький и мощный, а его — большой и тяжелый. Ремень натирал мне шею, но я не снимал бинокля — а вдруг он тоже упадет и разобьется. Мы остановились посмотреть на лошадей, и я почувствовал, что сейчас мой спутник начнет расспрашивать меня о том, чем я занимаюсь. Рассказывать о себе в мои планы не входило, поэтому я опередил его:
— Взгляните, как вам четырнадцатый номер?
— Хороший экстерьер, — сказал он то, что всегда говорят о лошадях люди, ничего в них не смыслящие. — Я, пожалуй, на нее поставлю.
— А вот я нет. Мне кажется, она немного нервничает.
— Вы так думаете?
— Здесь лицо богача никого не обманет.
Мой спутник рассмеялся. Сразу, не раздумывая — так смеются люди, не получившие воспитания, люди, которые не думают о том, как расценят их смех окружающие. Потом, не попросив на то разрешения, он взял у меня свой бинокль, быстро поднес его к глазам и посмотрел в сторону лож, хотя из паддока они почти не видны. Бинокль он стянул с меня довольно резко, причинив мне боль.
— Что, не пришел? — поинтересовался я.
— К счастью, нет, — подтвердил он, опираясь, я думаю, больше на интуицию.
— Много работы он вам задает? Я хотел спросить, часто ли вам приходится действовать, то есть по-настоящему, с опасностью для жизни?
— Не так часто, как хотелось бы. Вы ведь представляете себе, что у нас за работа: с одной стороны, ты все время в напряжении, а с другой стороны, почти ничего не делаешь. Ты все время начеку, твоя задача — опередить. Я пару раз набрасывался на важных шишек, которые собирались только поприветствовать босса. Все как полагается: руки им назад закручивал, нейтрализовал и оплеух навешивал. А потом мне самому как следует влетало. Так что и опережать тоже нужно с умом. А так почти никогда ничего не происходит, и пропадает всякое желание быть настороже, потому как чувствуешь, что на самом деле это никому не нужно.
— Понятно, человек расслабляется.
— Не то чтобы расслабляешься, но трудно бывает себя заставить. Вот напарник мой, который идет рядом с боссом, когда я иду впереди, тот действительно расслабляется. Даже я это замечаю и иногда ему выговариваю. Он, пока ждет, развлекается карманными видеоиграми, он без них жить не может. А так нельзя. Вы меня понимаете?
— Понимаю. А ваш босс, как он к вам относится?
— Да как вам сказать? Мы для него невидимки. Наше присутствие его не смущает, он при нас может чем угодно заниматься.
— Чем угодно?
Охранник взял меня под руку и развернул в сторону касс тотализатора. Сейчас я и сам испытывал неловкость, оттого что шагал рядом с таким высоким человеком. Он явно опекал меня — возможно, он просто привык вступать именно в такие отношения: привык охранять. Он поколебался с минуту, потом сказал:
— Ну, например, с бабами в машине. Он в этих делах чистая свинья. Что-то у него тут, — он постучал по виску, — не в порядке. Слушайте, а вы случайно не из газетчиков?
— Нет-нет, — поспешил я успокоить его.
— Тогда ладно.
Я поставил на восьмой номер, а он на четырнадцатый — он был человек упрямый (или суеверный), и мы вернулись на трибуны. Сели и стали ждать третью скачку.
— Как поступим с биноклем?
— Если хотите, я буду смотреть старт, а вы — финиш. Я перед вами виноват.
Он опять взял бинокль, не потрудившись снять его с моей шеи. Но сейчас мы сидели близко друг от друга, и ремень даже не натянулся. Секунду он смотрел в сторону лож, потом положил бинокль мне на колени. Мой взгляд снова упал на его башмачки — все-таки они ему совсем не подходили, его большие ступни выглядели в них очень по-детски.
Когда началась скачка, он пришел в возбуждение и громко кричал лошади под номером четырнадцать: "Давай, Нарния, покажи им! Жми!"
Лошади это не помогло, она начала скачку неудачно и пришла только четвертой. Мой восьмой номер пришел вторым, так что мы с отвращением ("Вот вам!") порвали и выбросили свои билеты.
Вдруг я заметил, что вид у него подавленный. Проигрышем это объясняться не могло.
— Что-то случилось? — спросил я.
Он ответил не сразу. Сидел, сильно наклонившись вперед, опустив голову между коленями, — можно было подумать, что его тошнило и он боялся, если его все-таки вырвет, испачкать брюки, — и смотрел в землю, на обрывки билетов.
— Нет, — ответил он наконец. — Просто третья скачка кончилась, и если босс с моим напарником придут, то придут очень скоро. И если он придет, я должен буду действовать.
— Вам нельзя уходить отсюда и прекращать наблюдение?
— Да, мне нужно оставаться здесь. Вы побудете со мной? Если хотите, спуститесь в паддок, сделайте ставки, а потом возвращайтесь. Я пока возьму себе бинокль. На всякий случай.
Он дал мне десять тысяч песет, чтобы сыграть в паре, и еще пять, чтобы поставить на победителя. Я спустился и быстро сделал ставки — очереди еще не было. Когда я вернулся, охранник по-прежнему сидел опустив голову. Он совсем не был похож на бдительного стража. В глубокой задумчивости он поглаживал бачки.
— Пришел? — мой вопрос вывел его из задумчивости.
— Нет еще, — ответил он, поднося бинокль к глазам и глядя в сторону лож (жест почти уже автоматический). — Может, сегодня уже не придет.
Вид у него по-прежнему был подавленный. От его добродушия и веселости не осталось и следа, он был темен как туча. Он больше ни о чем меня не спрашивал, вообще больше не обращал на меня внимания. Я уже собирался сказать ему, что хочу посмотреть скачку внизу, где смогу обойтись без бинокля, и покинуть его, но потом забеспокоился о его работе: он весь ушел в себя, именно тогда, когда ему предстояло приступить к выполнению своих обязанностей, он меньше всего был готов к их выполнению.
— С вами все в порядке? — спросил я и, чтобы напомнить ему о его работе, предложил: — Если вам плохо, я могу пока вести наблюдение вместо вас. Только скажите мне, кто ваш босс…
— Не нужно никакое наблюдение. Я знаю все, что сегодня случится. Или уже случилось…
— Как это?
— Послушайте, к тому, кто платит тебе за то, что ты его охраняешь, особой любви не испытываешь. Мой босс, я уже вам говорил, меня в упор не видит, имени-то моего толком не помнит, все эти годы он меня почти не замечал, только взбучки устраивал, если я слишком в работе усердствовал. Он дает приказы, я их выполняю, он говорит, где и когда я должен находиться, и я туда являюсь. Вот и все. Я забочусь о его безопасности, но любить я его не люблю. Не раз до того доходило, что я готов был сам устроить на него покушение. Просто чтобы он почувствовал опасность, понял, что я ему необходим. Ничего серьезного — так, маленькая драка в гараже: подстеречь его там в свой свободный день, разыграть комедию, напугать… Но мне и в голову прийти не могло, что нам когда-нибудь и в самом деле придется его прикончить.
— Прикончить?! Кто его должен прикончить?!
— Мы с напарником. Вернее, или он, или я. Может, он это уже и сделал. Хорошо бы. Если так, то босс сюда уже не придет: он сейчас дома на ковре лежит. Или в багажнике. А если он все-таки здесь появится, то, значит, мой напарник не смог, и придется мне. По дороге с ипподрома, в той же машине. За рулем будет мой напарник. Веревка или выстрел в затылок. Хоть бы они не пришли. Говорю вам: симпатии у меня к нему никакой, но убивать самому… Не по душе мне это.
Я подумал было, что он шутит, но до этого момента он не производил впечатление человека, способного шутить. Скорее, наоборот. Именно поэтому — мелькнула у меня мысль — он и смеялся так моей совсем не смешной шутке. Люди, не умеющие шутить, очень удивляются, когда это удается другим, и очень за них радуются.
— Я не совсем понимаю… — произнес я.
Охранник продолжал теребить бачки. Потом посмотрел на меня искоса:
— Все вы понимаете. Я очень ясно выражаюсь. Еще раз повторяю: симпатии у меня к нему нет, но я был бы рад, если бы они не пришли, если бы мой напарник сам все смог сделать.
— А зачем его убивать?
— Это долгая история. Из-за денег, конечно, тоже, но еще иногда просто нет другого выхода. Иногда приходится делать такое, от чего тебя тошнит, но делать нужно, потому что, если не делать, будет еще хуже. С вами такого не случалось?
— Случалось, — согласился я. — Но до таких… крайностей не доходило… — Я бросил взгляд в сторону лож. — Но если все это правда, зачем вы мне все это рассказываете?
— Да мне все равно. Вы же не побежите никому ничего сообщать. Даже если завтра об этом будут писать все газеты. Никто никогда ни во что не хочет ввязываться. Вам же хуже, если вы куда заявите — затаскают, допросами замучают. Никто ничего никому не рассказывает, если не может извлечь из этого выгоды. А уж полиции помогать — совсем последнее дело. Этим никто заниматься не будет, и вы не будете. А у меня сегодня никакого желания нет хранить секреты.
Я взял у него бинокль и навел его на ложи. Они были почти пусты — наверное, все ушли в бар или в паддок. До скачки оставалось еще несколько минут. Да и что я мог увидеть? Я не знал его босса, разве что увидел бы человека, у которого на лице написано, что он очень богат.
— Там он? — боязливо спросил мой спутник, глядя на скаковую дорожку.
— Да вроде нет. Там вообще почти никого нет. Взгляните сами.
— Да нет, подожду еще. Пока скачка не начнется и все не подойдут. Вы мне скажете?
— Скажу.
Мы замолчали.
Я смотрел на его ботинки (теперь он сдвинул ноги), а он разглядывал запонки на манжетах своей бледно-розовой рубашки. Я поймал себя на том, что мне хочется, чтобы тот человек, его босс, был уже мертв. Чтобы его уже не нужно было убивать.
Трибуны постепенно заполнялись, теперь нас окружали люди, и нам пришлось встать, чтобы видеть дорожку.
— Возьмите, — протянул я ему бинокль. — Мы договаривались, что сначала ваша очередь.
Телохранитель взял бинокль и резким движением (точно таким же, каким он выбил мой бинокль у меня из рук) поднес его к глазам.
Сначала он навел его на место старта, но, за секунду до того, как прозвучал выстрел и лошади рванули с места, повернулся в сторону ВИП-лож.
— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не пришел, — сказал он.
— Уже стартовали, — привлек я его внимание.
Он повернулся к дорожке и (лошади делали первый круг) закричал:
— Давай, Харон! Жми, Харон, жми!
Несмотря на то что он был так захвачен происходящим, я все же забрал у него бинокль — уговор есть уговор: он сам предложил мне смотреть финиш, — когда лошади вошли в последний поворот.
Я смотрел, как Харон, на которого поставил мой новый знакомец, обгоняет на полкорпуса Белое Сердце — лошадь, на которую поставил я. Что ж! А мне опять придется рвать и выбрасывать билеты…
К моему удивлению, мой спутник не выказывал признаков бурной радости. Я опустил бинокль и обратился к нему:
— Вы выиграли!
Но он, видимо, уже давно не следил за тем, что происходило на дорожке. Глаза его были устремлены в сторону лож. Ему уже не нужен был бинокль. Он был спокоен. Потом он повернулся в мою сторону, но даже не посмотрел на меня, словно не был со мной знаком. Застегнул пиджак. Лицо его потемнело, он еле держался на ногах.
— Они там. Пришли на пятую скачку, — сказал он. — Вы извините, мне нужно идти. Получить указания.
Больше он ничего не сказал. Даже не попрощался. Наклонил голову и начал протискиваться сквозь толпу. Я еще долго мог видеть его спину. Продвигаясь в сторону ВИП-лож, он похлопывал рукой по правому боку, где под пиджаком у него была кобура. Бинокль он оставил мне.
Я разорвал свои билеты, а его, выигравшие, рвать не стал — положил их в карман: подумал, что он за своим выигрышем не пойдет.
И настоящее, и прошлое…
Вполне возможно, что привидения (если они существуют) имеют привычку поступать наперекор желаниям тех, в чьем доме они обитают: появляться тогда, когда им не рады, и исчезать, когда их ждут и хотят, чтобы они остались. Иногда, впрочем, с ними удается договориться, что подтверждают свидетельства, собранные лордом Галифаксом в Англии и доном Алехандро-де-ла-Крусом в Мексике.
Среди случаев, описанных этим последним, есть незамысловатая, но очень трогательная история одной старушки. Началась эта история году в тысяча девятьсот двадцатом, когда старушка была еще вовсе не старушкой, а совсем юной девушкой и знать ничего не знала о существовании — если это слово здесь уместно — подобных посещений или исчезновений. Она была компаньонкой немолодой и весьма богатой дамы и, помимо прочих обязанностей, должна была читать ей вслух романы, чтобы хоть как-то развеять скуку и хоть чем-то заполнить дни сеньоры Суарес Алдай, потерявшей мужа очень рано, но осужденной остаться вдовой навсегда (в городе поговаривали о некоем неудачном романе, пережитом ею вскоре после смерти супруга и гораздо сильнее, чем эта смерть — о муже ей было нечего или почти нечего вспомнить, — повлиявшем на то, что сеньора Суарес Алдай сделалась замкнутой и неприступной в том возрасте, когда такие качества женщины уже не могут способствовать усилению интереса к ней со стороны мужчин, но еще не могут превратить ее в объект насмешек).
От бездействия и скуки сеньора Суарес Алдай так обленилась, что даже читать сама не хотела, а потому требовала от своей компаньонки, чтобы та читала ей вслух о приключениях и переживаниях, которые с каждым прожитым сеньорой Суарес Алдай днем (а дни бежали монотонной чередой) случались, казалось, все дальше и дальше от ее дома.
Слушала сеньора всегда молча и внимательно и лишь изредка просила Элену Веру (так звали нашу девушку) повторить какую-нибудь сцену или диалог, словно не хотела забыть их навсегда, не сделав попытки хоть что-то удержать в памяти. Когда Элена Вера заканчивала читать, сеньора Суарес Алдай всегда говорила ей одно и то же: "У тебя чудесный голос, Элена. В тебя можно влюбиться за этот голос".
Именно в эти часы и появлялся обитавший в доме призрак. Каждый вечер Элена, поднимая глаза от страниц Сервантеса, Дюма или Конан Дойла, от стихов Дарио или Марти, могла видеть очертания фигуры еще довольно молодого, лет тридцати с небольшим, деревенского вида человека в широкополой шляпе (которую он тут же вежливо снимал) и в продырявленной во многих местах одежде (короткая куртка, белая рубашка и обтягивающие панталоны), — казалось, его изрешетили пулями. Однако на теле незнакомца никаких повреждений заметно не было, а лицо с пышными усами было загорелым и обветренным. Когда она увидела его впервые — он стоял за креслом сеньоры, облокотившись на его спинку и время от времени покачивая на ладони перевернутую тульей вниз шляпу, и казалось, очень внимательно слушал то, что Элена читала, — то чуть не закричала от страха, потому что, хотя в руках у незнакомца и не было оружия, грудь его была крест-накрест перехвачена патронташными ремнями. Но мужчина поднес к губам указательный палец и знаками попросил Элену не выдавать его и продолжать читать дальше. В выражении лица его не было ничего угрожающего. Застенчивая улыбка лишь изредка, в те минуты, когда Элена читала особенно мрачные сцены (или, возможно, когда он погружался в особенно мрачные мысли или воспоминания), сменялась выражением глубокой озабоченности, свойственным людям, не до конца сознающим разницу между реальностью и вымыслом. И девушка подчинилась, хотя в тот вечер слишком часто поднимала глаза от книги и смотрела куда-то поверх головы сеньоры Суарес Алдай, которая тоже начала поднимать глаза, словно беспокоясь, не съехала ли набок шляпка. "В чем дело, детка? — не выдержала она наконец. — На что ты там все время смотришь?" — "Все в порядке, сеньора. Просто глаза устают, и я даю им немного отдохнуть". Человек за креслом приподнял шляпу и поклонился Элене, выражая одобрение и благодарность. Объяснение удовлетворило старую сеньору, и впоследствии она ни разу не оглянулась и так никогда и не узнала о присутствии незнакомца, на которого девушка (а с того вечера она читала не только для сеньоры Суарес Алдай, но и для него) время от времени устремляла взор, чтобы получше его рассмотреть.
Он никогда не появлялся ни в какое другое время и ни в каком другом месте, а потому у Элены Веры за многие годы ни разу не выдалось возможности поговорить с ним, расспросить его, кто он или кем был когда-то, узнать, почему он приходит слушать ее. Она предположила, что он мог быть героем того самого давнего и печально закончившегося романа сеньоры Суарес Алдай, но с уст сеньоры никогда не сорвалось ни единого признания — а ведь к ним так располагали все те сентиментальные и трагические страницы, которые читала ей Элена Вера, да и сама Элена Вера столько раз за долгие годы пыталась подобраться к этой теме во время бесконечных вечерних разговоров. Возможно, все это были лишь сплетни, и в жизни сеньоры не было ничего, о чем стоило бы рассказывать. Не потому ли она хотела слушать чужие истории, далекие от ее жизни, невероятные? Не раз испытывала Элена искушение сжалиться над старушкой и рассказать ей о том, что происходило каждый вечер за ее спиной, поделиться своей маленькой тайной, сообщить о присутствии мужчины в этом с каждым днем все более печальном и пустынном доме, где иногда по нескольку дней и ночей подряд звучали только два их женских голоса — с каждым днем все более глухой и старческий голос сеньоры и с каждым днем чуть менее красивый, звучный и живой голос Элены Веры, который, вопреки предсказаниям, так и не завоевал ничьей любви, по крайней мере любви кого-то, кто оставался бы с нею и к кому можно было бы прикоснуться. Но всякий раз, когда Элена готова была поддаться искушению, она вспоминала, как мужчина поднес палец к губам, приказывая ей молчать, и как потом не раз повторяли этот приказ его насмешливые глаза. И она молчала. Меньше всего на свете ей хотелось бы рассердить его.
Однажды Элена заметила, что выражение лица незнакомца — полукрестьянина, полусолдата в продырявленной одежде (каждый раз, когда Элена видела эти дыры, у нее возникало желание заштопать их, чтобы сквозь них не проникал холодный морской воздух) — вдруг изменилось. Здоровье сеньоры Суарес Алдай день ото дня становилось все хуже, и незадолго до смерти (правда, никто не знал, что она вскоре умрет) она попросила Элену вместо романов и стихов почитать ей Евангелие. Элена начала читать. И вот тут-то она и заметила, что каждый раз, когда она произносила слово "Хесус"[1] (а произносила она его часто), лицо мужчины искажалось болью и страданием, как если бы это слово ранило его. На десятый или одиннадцатый раз он, наверное, уже не выдержал, потому что фигура его, и без того нечетко очерченная, хотя вполне различимая, стала таять, растворяться в воздухе и наконец совсем исчезла — намного раньше, чем Элена закончила читать.
Элена подумала, что он, возможно, атеист, оголтелый безбожник. И чтобы проверить, так ли это, через несколько дней убедила сеньору послушать нашумевший роман «Энрикильо» доминиканского писателя, имя которого было Мануэль де Хесус Гальван. А перед тем как начать читать роман, рассказала об авторе, стараясь как можно чаще упоминать его полное имя. И опять всякий раз при упоминании имени «Хесус» глаза незнакомца выражали смятение и ужас. Тогда-то Элена и заподозрила то, чего раньше и представить себе не могла. Читая книгу, она вставила туда придуманный ею коротенький диалог, в котором Энрикильо якобы обращался к своему подчиненному с такими словами: "Ты, Хесус, гуахиро[2]" Призрак в ужасе зажал уши ладонями. Элена прекратила игру, и мужчина пришел в себя.
Прошло три дня, прежде чем Элена устроила решающее испытание. Сеньора слабела, но отказывалась лежать в постели, предпочитая оставаться в своем кресле, словно оно было символом ее здоровья, охраняло ее от смерти. И Элена Вера решила почитать ей «Книгу» Марко Поло. То есть сказала, что хочет почитать эту книгу, а на самом деле она собиралась прочитать лишь пролог и биографию знаменитого путешественника. Читая жизнеописание Марко Поло, она добавила к нему такую фразу: "Этот великий искатель приключений побывал, в числе прочих мест, в Китае и Мекке". Загорелое, обветренное лицо мужчины внезапно побледнело, и в мгновение ока, без постепенного перехода, его фигура исчезла, словно бледность стерла ее, сделала прозрачной, невидимой даже для Элены. И тогда она окончательно уверилась, что ее слушателем был не кто иной, как Эмилиано Сапата, убитый в возрасте тридцати с небольшим лет человеком, выдававшим себя за его сподвижника. Имя его было Хесус Гуахардо, а прозвище — Чинамека.[3] Элена испытала гордость оттого, что ей оказывал честь своими посещениями изрешеченный предательскими пулями призрак такого человека, как Сапата.
А на следующее утро сеньора Суарес Алдай умерла. Элена осталась в доме, но первое время была настолько подавлена и растеряна, что ей было не до чтения. Да и предлога для этого у нее больше не было. Призрак не возвращался. С одной стороны, Элена объясняла посещения Салаты желанием получить образование, чего при жизни ему наверняка сделать не удалось, и тем, что на его долю выпало так много суровой правды, что после смерти он захотел отдохнуть, слушая красивые вымыслы. С другой стороны, она опасалась, что его появления были все же связаны только с сеньорой — любовь к такому человеку, как Салата, требовала соблюдения особых мер предосторожности, и тайну ее нужно было хранить до самой смерти.
И все же она решила снова читать вслух, чтобы привлечь, вернуть его. И читать не только романы и стихи, но также исторические и естественнонаучные трактаты. Несколько дней он не показывался — как знать, возможно, призраки тоже переживают траур: у них для этого гораздо больше оснований. Или, если слова могут причинять боль и призракам, он просто больше не доверял Элене. И все же через некоторое время он появился вновь — может быть, его заинтересовали новые темы. Слушал он все с тем же сосредоточенным вниманием, хотя теперь уже не стоял, облокотясь на спинку кресла, а удобно устраивался в этом самом кресле, вешая на его спинку свою шляпу и иногда даже закидывая ногу на ногу и откинув руку с дымящейся сигарой — словно патриарх, каким он никогда не был при жизни.
Девушка (которая становилась все старше и старше) оберегала свою тайну. С каждым днем она проникалась все большим доверием к своему слушателю и говорила с ним все более откровенно. Правда, ответа она никогда не слышала — призраки не всегда могут и не всегда хотят говорить. Доверие ее все росло и росло, а годы все шли и шли. Она тщательно избегала упоминания имени Хесус в каком бы то ни было контексте, следила за тем, чтобы ни одно слово не вызвало ассоциаций с именем Гуахардо, исключила из своего лексикона названия Китай и Мекка. Но вот наступил день, когда ее слушатель не появился. Не появился он и на следующий день, и через неделю, и через несколько недель.
Девушка, которая была уже почти старушкой, сначала по-матерински забеспокоилась, не стряслось ли с ним чего, словно позабыв, что беды случаются лишь у смертных, а с иными ничего стрястись не может. Но потом опомнилась — и пришла в отчаяние.
Она просиживала целые вечера, глядя на пустое кресло и с болью в голосе вопрошала пустоту, бросала в нее упреки и проклинала прошедшее, в которое, как она полагала, вернулся ее слушатель. "За что? — спрашивала она. — Что я такого сделала? Какую ошибку совершила?" А потом лихорадочно искала новые книги, способные вызвать у герильеро[4] интерес, заставить его вернуться. Она пробовала читать новые трактаты и новые романы, доставала последние рассказы о приключениях Шерлока Холмса — на лиризм и мастерство их автора она возлагала особые надежды. Каждый вечер она читала вслух и с замиранием сердца ждала, что ее слушатель вот-вот появится.
Прошло несколько месяцев, и однажды она обнаружила, что закладка в романе Диккенса, который она тогда читала, лежит не там, где была ею оставлена, а совершенно на другой странице. Она внимательно прочла отмеченную страницу, и сердце ее пронзила боль, которой не избежать никому, даже тому, чья жизнь однообразна и не отмечена никакими событиями. Там была фраза: "И она постарела, и лицо ее покрылось морщинами, а голос стал глухим и утратил былую прелесть". Дон Алехандро-де-ла-Крус пишет, что старушка возмутилась, словно отвергнутая жена, но не сдалась, не отступилась, а с глубоким упреком сказала в пустоту: "Ты несправедлив. А когда-то ты боролся за справедливость. По крайней мере так говорят о тебе теперь. Ты не стареешь и хочешь слушать прелестные юные голоса, смотреть на свежие нежные лица. Ты не думай, я тебя понимаю — ты молод и уже останешься таким навсегда. И, наверное, тебе на многое не хватило времени, ты был многого лишен. Но я столько лет учила и развлекала тебя! Я многому тебя научила. Возможно, научила даже читать. Как же ты можешь оставлять мне такие оскорбительные послания в книгах, которыми я всегда делилась с тобой? Подумай о том, что, когда умерла сеньора, я могла бы продолжать читать про себя, но я этого не сделала. Я могла бы покинуть Веракрус, но я его не покинула. Я понимаю, что ты можешь отправиться на поиски новых голосов. Ты никогда ничего у меня не просил и ничем мне не обязан, как и я ничем не обязана тебе. Но ты знаешь, что такое благодарность, Эмилиано, — она впервые назвала его по имени, даже не зная, слышит ли он ее. — Я прошу тебя приходить хотя бы раз в неделю послушать меня. Пожалуйста, наберись терпения. Я знаю, что голос мой уже не так прекрасен и не доставляет тебе удовольствия. Но ведь он уже не принесет мне новой любви. Я буду очень стараться, буду читать как можно лучше. Приходи, потому что теперь я стара и теперь я нуждаюсь в твоем присутствии. Мне будет трудно не видеть больше твоей продырявленной одежды. Бедный Эмилиано! Как в тебя стреляли!"
Дон Алехандро-де-ла-Крус сообщает далее, что призрак бывшего крестьянина и вечного солдата (возможно, действительно самого Сапаты) не был таким уж черствым и внял ее доводам (или просто знал, что такое благодарность), потому что с того дня и до самой смерти Элена Вера с трепетом ждала того часа, когда ее призрачный возлюбленный возвратится к ней из своего прошлого, хотя на самом деле для него уже не было ни прошлого, ни вообще времени. Она ждала, что вот опять наступит среда, и он опять вернется — изнуренный, печальный, предательски убитый Чинамекой. И, наверное, именно благодаря тем встречам, тому слушателю и тому договору, она так долго еще оставалась в том доме у моря и так долго жила. И были у нее и настоящее, и прошлое. И даже будущее.
Песня лорда Рендалла
ДЖЕЙМС РАЙАН ДЕНЭМ[5] (1911–1943), уроженец Лондона и воспитанник Кембриджа, был одним из тех писателей, таланту которых не дала раскрыться Вторая мировая война. Он был из состоятельной семьи. После университета поступил на дипломатическую службу и работал в Бирме и Индии (1934–1937). Он не оставил обширного литературного наследия — известны только пять его произведений. Все это были частные издания, найти которые в настоящее время почти невозможно, поскольку даже сам он, скорее всего, считал свои литературные занятия только развлечением. Его друзьями были Малколм Лаури, с которым они вместе учились в университете, и знаменитый собиратель живописи Эдвард Джеймс. Сам он был обладателем прекрасной коллекции полотен французских художников XVIII–XIX веков.
Его последняя книга — "How to kill" ("Как убивать"; 1943), из которой и взят переведенный нами и представляемый ниже вниманию читателя рассказ "Lord Rendall's Song", была единственной, которую он попытался опубликовать в коммерческом издательстве, но ни один издатель рукопись не принял: все они были едины во мнении, что, во-первых, подобная книга будет ударом по боевому духу солдат на фронте и их близких в тылу, что недопустимо, когда идет война, а во-вторых, некоторые рассказы чересчур откровенны. До этого Денэм опубликовал книгу стихов «Vanishings» ("Исчезновения"; 1932), сборник рассказов "Knives and Landscapes" ("Ножи и пейзажи"; 1934), небольшую повесть "The Night-Face" ("Ночное лицо; 1938) и "Gentle Men and Women" ("Мужчины и женщины знатного происхождения"; 1939) — серию коротких очерков о знаменитостях, в том числе Чаплине, Кокто, балерине Тилли Лош[6] и пианисте Дико Липатти.[7] Денэм погиб в возрасте тридцати двух лет, участвуя в одном из сражений на Севере Африки.
Хотя в приведенном ниже рассказе все понятно без пояснений, полагаем все же не лишним добавить, что английская народная песня о лорде Рендалле являет собой диалог между умирающим (его отравила собственная невеста) юным лордом и его матерью. На последний вопрос матери: "Что оставишь ты своей любимой, Рендалл, сынок?" — лорд Рендалл отвечает: "Веревку, на которой ее повесят. Веревку, на которой ее повесят".
Хулии Алтарес, для которой я до сих пор не существую
Я хотел сделать Дженнет сюрприз, а потому не предупредил ее о дне своего возвращения. Что значат в сравнении с четырьмя годами еще несколько дней неопределенности, думал я. Узнать в понедельник из письма, что я приеду во вторник, будет для нее не таким радостным потрясением, как открыть во вторник дверь и увидеть на пороге меня. Война и плен остались позади. Они остались позади так быстро, что я уже начал понемногу их забывать.
Я был бы счастлив, если бы мне удалось забыть их сразу и насовсем и удалось сделать так, чтобы наша с Дженнет жизнь никак от них не пострадала, а потекла так, словно я никуда из нее не исчезал, словно не было фронта, приказов, боев, вшей, ампутаций, голода, смерти. Словно не было ужасов немецкого концлагеря. Она знала, что я жив, ее известили. Знала, что я попал в плен и поэтому остался в живых. Знала, что я вернусь. Наверное, каждый день ждала вести о моем возвращении. Мой приезд не испугает ее, он ее обрадует. Это будет большая радость. Я позвоню в дверь, она откроет, вытирая руки о фартук, и увидит меня — наконец-то снова в гражданском, худого, бледного, но улыбающегося и готового задушить ее в объятиях, зацеловать. Я подниму ее на руки, сорву с нее фартук. Она уткнется мне в плечо и заплачет. Я почувствую, как от слез намокнет пиджак, но это будет совсем другая влага, не та, что выступает на стенах тюремного карцера, не окопная сырость, не монотонный дождь, который стучит по каскам солдат на марше. Мне было так сладостно мечтать о нашей встрече, что, оказавшись наконец у дверей своего дома, я почти пожалел, что ожидание кончилось. И я не стал звонить, а обошел дом и подкрался к окну. Я хотел услышать что-нибудь, что-нибудь увидеть. Хотел снова привыкнуть к забытым родным звукам, при воспоминании о которых так сжималось сердце в тех местах, где я не мог слышать звяканья кастрюль на кухне, скрипа двери ванной комнаты, шагов Дженнет.
И голоса малыша. Ему едва исполнился месяц, когда я ушел, и тогда голос нужен был ему только для того, чтобы плакать. Сейчас ему четыре года, и у него, наверное, настоящий голос, собственная манера разговаривать, похожая, вероятно, на манеру его матери, с которой он провел столько времени. Его зовут Мартин.
Я не знал, дома ли они. Стоял и, затаив дыхание, вслушивался. Первое, что я услышал, был детский плач, и это меня насторожило. Плакал младенец, такая же кроха, каким был Мартин, когда я уходил на фронт. Что бы это значило? Может быть, я ошибся домом? Или Дженнет с малышом переехали без моего ведома и теперь здесь живет другая семья? Плач доносился издалека, судя по всему, из той комнаты, которая когда-то была нашей спальней. Я решился заглянуть в дом. Я увидел нашу кухню. Там никого не было, не увидел я и кастрюль на плите. Уже темнело. В это время Дженнет обычно готовит ужин. Может быть, она собиралась начать готовить, как только успокоит ребенка? Но я не мог ждать и решил заглянуть в другие окна. Прижимаясь к стене и пригнувшись, чтобы меня не заметили, я снова обошел дом. Теперь справа от меня было окно гостиной, а слева, рядом с входной дверью, — окно нашей спальни.
Я начал понемногу распрямляться и наконец смог заглянуть левым глазом в окно гостиной. Она тоже была пуста. Окно было закрыто, и по-прежнему слышно было, как плачет ребенок, который не мог быть Мартином. Дженнет, наверное, была в спальне, укачивала того малыша, кем бы он ни был. Впрочем, возможно, это и не она.
Я уже хотел перебраться к окну слева, но тут дверь в гостиную отворилась и вошла Дженнет. Я не ошибся домом, и они не переехали без моего ведома. На Дженнет был фартук, как я и предполагал. Она всегда ходила в фартуке. Говорила, что снимать его — только время терять: все равно зачем-нибудь придется надевать снова. Она была очень красивая. Совсем не изменилась. Все это я увидел и подумал за пару секунд: вслед за Дженнет в комнату вошел мужчина. Он был очень высокий, и с того места, откуда я смотрел, не видна была его голова — ее срезала оконная рама. Он был без пиджака, но в галстуке, словно только что вернулся с работы и еще не успел переодеться, лишь пиджак снял. Он вел себя так, как ведут себя дома. Ходил следом за Дженнет, как ходят дома мужья за женами. Если бы я пригнулся еще больше, то не смог бы вообще ничего увидеть, и я решил подождать, пока он сядет — тогда я смогу увидеть его лицо.
Некоторое время он стоял возле окна спиной к нему — белая рубашка, руки засунуты в карманы брюк, — заслоняя от меня Дженнет. Только когда он отошел от окна, я снова увидел ее. Они молчали. Похоже было, что они поссорились и теперь не разговаривают — обычная вещь между мужем и женой. Дженнет сидела на софе нога на ногу. Хотя она была в фартуке, но на ней были тонкие чулки и туфли на высоких каблуках.
Она закрыла руками лицо и заплакала. Он склонился над ней, но не затем, чтобы утешить, а лишь затем, чтобы посмотреть, как она плачет. И когда он наклонился, я увидел его лицо. Это было мое лицо. Человек в моей гостиной был точно таким, как я.
Не то чтобы он был очень на меня похож, — нет, это были мои черты, словно я смотрелся в зеркало, или, еще вернее, словно я смотрел один из тех любительских фильмов, которые мы начали снимать вскоре после того, как родился Мартин и отец Дженнет подарил нам кинокамеру, чтобы мы могли вспоминать о том, каким был наш ребенок, когда он уже не будет ребенком.
Тесть мой до войны был человеком небедным, и я надеялся, что Дженнет, несмотря на все трудности, все же нашла возможность снимать Мартина в те годы, когда я не мог быть рядом с ним. Да, конечно же, это фильм, подумал я. Дженнет загрустила и включила проектор, чтобы в который уже раз посмотреть одну из тех сцен, что мы сняли до моего отъезда. Но нет: то, что я сейчас видел, я видел в цвете, а наши фильмы были черно-белые. Да и никто никогда не снимал нас вместе из того окна, возле которого я сейчас стоял. Человек, который склонился сейчас к Дженнет, был реальным, я мог бы его потрогать, если бы разбил стекло. Это мои глаза, мой нос, мои губы, мои вьющиеся светлые волосы. Даже шрамик над левой бровью — мой двоюродный брат Дерек в детстве бросил в меня камнем. Я потрогал шрам. Уже совсем стемнело.
Сейчас он говорил, но слов было не слышно. Плач Мартина стих, когда они вошли в гостиную. Теперь всхлипывала Дженнет, а человек, у которого было мое лицо, что-то говорил, склонившись к ней, и по выражению его лица было видно, что слова, которые он произносил, не были словами утешения — скорее, это были насмешки или упреки. Голова у меня шла кругом. Я пытался найти происходящему хоть какое-то объяснение, но мысли, приходившие мне в голову, были одна другой абсурднее.
Я подумал, что, возможно, она искала и нашла как две капли воды похожего на меня человека, который заменил бы меня на время моего долгого отсутствия. Или что произошел какой-то необъяснимый сдвиг во времени, те четыре года оказались забыты, стерты, как я того и хотел, и я смог продолжить жизнь с Дженнет и малышом с того самого момента, в который она когда-то прервалась.
Не было четырех лет войны, и я, Том Бут, не был ни на фронте, ни в концлагере, ни в плену: я был дома, как всегда, я пришел с работы и ссорился с Дженнет. Те четыре года я прожил рядом с ней. Я, Том Бут, не был призван в ряды действующей армии, я остался дома. Но кем же, в таком случае, был тот, кто смотрел сейчас в окно, кто так долго шел к этому дому, кто был только что освобожден из немецкого концлагеря, кто прошел через столько сражений и хранит в памяти столько воспоминаний об этих четырех годах?
А может быть, думал я, всему виной то волнение, в которое привело меня ожидание встречи? Это оно заставило меня вдруг до мельчайших подробностей вспомнить и словно заново увидеть сцену из прошлого — какое-то событие, которое случилось незадолго до нашего расставания (может быть, даже в последний день, когда мы были вместе) и о котором я забыл. Может быть, Дженнет плакала в тот день, когда мне предстояло ехать на фронт, где меня могли убить, а я относился ко всему шутя. Этим мог бы объясняться и плач Мартина-младенца.
Но то, что я видел, не было галлюцинацией, я не воображал это и не вспоминал — я это видел. И потом, Дженнет перед моим отъездом не плакала. Она очень сдержанная. Она до последней минуты улыбалась и старалась казаться совершенно спокойной — знала, что иначе мне будет еще труднее покидать ее. Это сегодня она должна была заплакать — открыв дверь и увидев на пороге меня, уткнувшись мне в плечо, заливая слезами мой пиджак.
Нет, то, что я видел, не было забытой сценой из прошлого. Я окончательно уверился в этом, когда мужчина, муж, я, Том, внезапно выпрямился и обеими руками схватил за горло сидящую на софе Дженнет — свою жену, мою жену. Он сжимал ее горло все сильнее и сильнее. Я понял это, хотя сейчас он снова стоял ко мне спиной, и его огромная белая рубашка — моя белая рубашка — закрывала от меня Дженнет. Я видел только ее руки, которые били по воздуху, а потом спрятались за рубашкой — возможно, тщетно пытались освободиться от моих рук, которые не были моими руками, — и через несколько секунд снова появились по обе стороны белой рубашки, но на этот раз только для того, чтобы безжизненно упасть. Снова послышался плач ребенка — такой громкий, что его слышал даже я на улице.
Мужчина вышел из гостиной — наверняка направился в нашу спальню. А я увидел Дженнет — мертвую, задушенную. Юбка ее задралась, одна из туфелек свалилась с ноги. Я увидел ее подвязки, о которых старался не думать все эти четыре года.
Я не мог сдвинуться с места, но я понимал: этот человек, я, тот, кто не покидал Чешем все это время, сейчас убьет и Мартина, или другого ребенка, если у нас с Дженнет за время моего отсутствия родился еще один ребенок. Нужно разбить стекло, нужно войти, нужно убить этого человека, прежде чем он убьет Мартина или своего новорожденного сына. Нужно помешать ему. Я должен немедленно совершить самоубийство. Но я оставался по ту сторону оконного стекла, а опасность продолжала оставаться там, в доме.
Пока я так стоял, плач ребенка стих. Он оборвался резко, не было постепенного перехода от плача к всхлипываниям и потом к полному успокоению, как это обычно бывает, когда ребенка берут на руки, когда его баюкают, когда поют колыбельную. До моего отъезда я часто пел Мартину песню про лорда Рендалла, и иногда мне удавалось успокоить его, но удавалось не сразу: приходилось повторять песню много раз. Он всхлипывал, с каждым разом все слабее, и потом, наконец, засыпал. А сейчас ребенок замолчал сразу, без всякого перехода. Неожиданно для самого себя я вдруг запел в ночной тишине, у окна, песню о лорде Рендалле, ту песню, которую я пел Мартину. Она начинается словами: "Где ты был весь день, Рендалл, сынок", а я пел: "Где ты был весь день, Мартин, сынок?" И, когда я запел у окна, я услышал, как ко мне присоединился тот человек: оттуда, из спальни, он пропел вторую строчку: "Где ты был весь день, мой милый Том?" Я услышал его, потому что ребенок — мой сын Мартин, или сын (его тоже звали Том) этого человека, больше не плакал. И когда мы допели песню о лорде Рендалле, я спросил себя, кого из нас двоих следует отправить на виселицу?
Примечания
1
Иисус от исп. Jesus. (Здесь и далее — прим. перев.).
(обратно)2
Крестьянин, деревенщина.
(обратно)3
Ассоциацию с именем Гуахардо вызвало слово «гуахиро», а ассоциацию с прозвищем Чинамека — упоминание о Китае, по-испански China (Чина), и Мекке, по-испански Меса (Мека).
(обратно)4
Мятежник, партизан.
(обратно)5
Джеймс Райан Денэм — вымышленный X. Мариасом автор. К подобной мистификации писатель прибегал не раз.
(обратно)6
Тилли Лош (1907–1975) — австрийская балерина, актриса и художница.
(обратно)7
Дино Липатти (1917–1950) — румынский пианист.
(обратно)



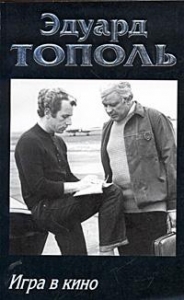


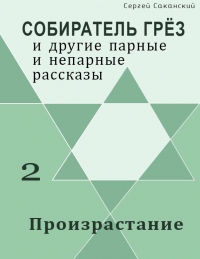



Комментарии к книге «Рассказы», Xавьер Мариас
Всего 0 комментариев