Александр Городницкий «Хочу, чтобы меня любили»
Юлий Крелин, одноклассник и старинный друг Натана Эйдельмана, умер в Израиле в мае 2006 года, куда, после долгих сомнений и отлагательств, все-таки переехал, взяв гражданство. Первопричиной этого была необходимость срочной и сложной операции по поводу аневризмы. Выяснилось, уже после переезда, что в Израиле такие операции не делают, а делают либо в США, либо в Германии. Время, однако, было упущено. Опытный врач, сам перенесший несколько сложных операций, он, по-видимому, прекрасно это понимал. Говорят, что умер он мгновенно, без мучений, на балконе Тель-авивской квартиры, с пустой трубкой в руках (в последнее время он уже не курил).
С ним, так же, как с Натаном Эйдельманом и Валей Смилгой, познакомил меня впервые Игорь Белоусов, но подружились мы уже после безвременной и неожиданной смерти Игоря. Эта неразлучная в свое время четверка одноклассников 110 арбатской школы, своеобразного лицея, который мечтал, но так и не успел воспеть Натан Эйдельман, чем-то напоминала знаменитую четверку мушкетеров, при всей непохожести облика и характеров.
Пожалуй, только образ жизнерадостного и тучного Портоса мог быть воплощен как в Игоре Белоусове, так и в Натане Эйдельмане с его громовым голосом и любовью к шумным застольям. Но и Белоусов, и Эйдельман, ушли из жизни молодыми, и такими навсегда остались в нашей памяти. Меня всегда занимал вопрос — какой облик будет вечно иметь душа умершего человека в царстве теней. Ведь умершие молодыми так молодыми и останутся, а дожившие до старости вечно будут стариками. Как будут общаться яростные и задорные мальчишки Павел Коган и Михаил Кульчицкий с седоусым и мрачным Борисом Слуцким, с полуслепым и лысым Давидом Самойловым? Как будут смотреться Игорь Белоусов, умерший на пороге сорокалетия, и Натан Эйдельман, не дотянувший до шестидесяти, рядом с семидесятивосьмилетним Юлием Крелиным? (Кстати, подлинная фамилия Юлика — Крейндлин, а Крелин — писательский псевдоним). Близкие друзья называли его «Крендель».
Юлий Крелин был выдающимся талантливым врачом, профессиональным хирургом высочайшей квалификации, проработавшим в клинике около шестидесяти лет и спасшим жизнь сотням людей. Окончив медицинский институт в 1954 году, и защитив позднее кандидатскую диссертацию, он практически всю свою жизнь отдал медицине. Московская больница № 71, где он много лет заведовал хирургическим отделением и вырастил могучий отряд учеников и последователей, была его реальным домом. С ностальгической болью я вспоминаю его сидящим в своем кабинете всегда в белоснежном халате, выглядевшем на нем как-то особенно нарядно, с бородой и неизменной трубкой, напоминавшей о его принадлежности к племени Хемингуэя, и загадочным перстнем на пальце. Несмотря на небольшой рост и лысину, был он неотразимо хорош и двигался с неповторимым изяществом. Что бы он ни надевал — от модного в те времена замшевого жилета до грубошерстного свитера, все на нем сидело как-то ладно, слегка по-пижонски, и был он неотразим. Женщины вокруг умирали. Это относилось не только к медсестрам и докторам медицинских наук, но и ко многим другим. Он это прекрасно сознавал всю свою жизнь и оставался мужчиной в буквальном смысле до последних дней. Неслучайно свой последний, так и неизданный роман, он назвал «Любовь и блядство».
Его фанатичная преданность медицине и побудила его взяться за перо.
Первая литературная публикация молодого хирурга появилась через десять лет после окончания ВУЗа в журнале «Новый мир». Это была серия новелл под общим названием «Семь дней в неделю». В 1969 году Юлий стал членом Союза писателей СССР, однако всю жизнь, до самых последних дней продолжал активно работать в хирургии, спасая человеческие жизни. Вставал он ежедневно в пять утра и в семь утра, как правило, был в больнице. Профессионал высочайшего уровня, он прекрасно сознавал угрозу неизбежных поражений в неравной борьбе с неизлечимыми недугами. Неслучайно одной из любимых его шуток была история, рассказанная в мединституте профессором на одной из лекций: «Врач перед операцией говорит больному: — Медицина, батенька, наука неточная, поэтому деньги прошу вперед». Сам он, однако, никогда и никому в помощи не отказывал и брал в свое отделение самых тяжелых больных. Мы все, его многочисленные друзья, постоянно обращались к нему со всякого рода медицинскими просьбами, и он неизменно помогал. У него лечился практически весь Союз писателей — от Эммануила Казакевича до Евгения Евтушенко.
Мне повезло, я, в отличие от многих других, ни разу у него в больнице не лежал, хотя многократно обращался за советами, натыкаясь порой на мрачный кренделевский юмор: «Ты что мне жалуешься! Ты лучше в свой паспорт посмотри!» В Донском монастыре я неожиданно натолкнулся на такую надпись на одном из надгробий: «Здесь лежит урожденная такая-то, умершая от операции профессора Снегирева». На один из его дней рождения я написал ему приветственные стихи такого содержания:
Увяли траурные ленты В доисторической поре. Твоих собратьев пациенты Лежат в Донском монастыре. Но я живой, и я не сбрендил, И говорю я, весь дрожа, Что мне твои романы, Крендель, Дороже твоего ножа.Лучшие произведения писателя Юлия Крелина посвящены медицине, с которой была связана не только вся его жизнь, но и смысл самой жизни. В романе «Хирург» в образе доктора Мишкина он воплотил реальный облик замечательного хирурга Михаила Жадкевича, безвременно умершего от рака. Да и другие романы и повести «От мира сего», «Игра в диагноз», «На что жалуетесь, доктор», «Суета (Хроника одной больницы)», «Письмо сыну», тоже связаны с медициной. Вместе с тем, жизнь больницы для автора, в большей части — фон человеческого существования, где герои сталкиваются с важнейшими личными, семейными, социальными и нравственно-этическими проблемами.
Юлий не любил публичных выступлений и всегда их сторонился, хотя ему нередко приходилось выступать со сцены, особенно во время поездок по стране с самыми близкими друзьями Натаном Эйдельманом и Вольдемаром Смилгой. Оба они были блестящими лекторами, тонко чувствовали аудиторию и легко находили нужный язык Крелину приходилось нелегко. Однажды они выступали где-то на Дальнем Востоке в большом зале. Аудитория долго хлопала Натану Эйдельману, очаровавшему слушателей рассказами о Русской истории. Следующим должен был выступать Крелин. Он сел на стул у рампы, вынул изо рта свою неизменную трубку и сказал: «Ну, что рак, рак! Вот от рака умрет примерно только каждый десятый из вас. А вот от сердечно— сосудистых болезней — каждый третий». И начал считать зрителей в первом ряду. Зал замер в ужасе. После этого его слушали, затаив дыхание. Непререкаемый медицинский авторитет Юлия Крелина порой помогал научно обосновывать самые невероятные вещи. Он написал несколько статей о вреде спорта. Более всего наделала однако шума другая его статья, где он пытался доказать пользу курения, которое, якобы, снижает артериальное давление. Терпеть не мог загородных прогулок и морских купаний, утверждая при этом что «Воздух всюду — одинакового состава». Однажды в доме творчества писателей в Пицунде, в биллиардной заспорили о том, кто может выше всех прыгнуть, оттолкнувшись от пола. Неожиданно для всех Юлик прыгнул и достал рукой до потолка. Как ни старались все присутствующие, в том числе и я, повторить этот рекорд, у нас ничего не вышло. «Еще бы, — улыбнулся Крелин, — я же всю жизнь стою у операционного стола».
В его романе «Очередь» героиню, врача-хирурга, ухаживающий за ней поклонник приглашает в финскую баню. Неожиданно для нее, они оказываются там вдвоем, и он после пары рюмок коньяка пытается овладеть ею. Она, как будто, ничего не имеет против, но он умирает у нее на руках от внезапного сердечного приступа. «Как ты мог убить человека в такой момент? — возмущался я. — Юлик, ты садист!» «А я не люблю финскую баню» — отвечал он.
Человеческое его обаяние было поистине безгранично. Не случайно именно его дом стал местом традиционного сборища его школьных и нешкольных друзей, и даже три его жены все годы дружили с ним и друг с другом.
Его внезапный уход из жизни, осиротивший нас, нуждавшихся в его постоянной дружеской и врачебной поддержке, был его первым не товарищеским поступком. Он не имел права опережать нас. Недаром много лет назад, уверенный в его долголетии, я обратился к нему с такими стихами:
И в январские пурги, и в мае, где градом беременна, Налетает гроза с атлантических дальних морей, Вспоминаю хирурга, прозаика Юлия Крелина, Что друзей провожает из морга больницы своей. Не завидую другу, целителю Крелину, Юлику, — Медицина его непроворна, темна и убога. В ухищреньях своих он подобен наивному жулику, Что стремится надуть всемогущего Господа Бога. Почесав в бороде, раскурив неизменную трубку, Над наполненной рюмкой что видит он, глядя на нас? Сине-желтую кожу лежащего в леднике трупа? Заострившийся нос и лиловые впадины глаз? Не завидую другу, писателю Юлию Крелину, — Он надежно усвоил, что вечность не стоит и цента. Сколько раз с ним по-пьянке шутили мы, молодо-зелено, Что бояться не следует, — смертность, увы, стопроцентна. Пропадает в больнице он ночи и дни тем не менее, И смертельный диагноз нехитрым скрывая лукавством, Безнадежных больных принимает в свое отделение, Где давно на исходе и медперсонал, и лекарства. Не завидую другу, врачу безотказному Крелину, — В неизбежных смертях он всегда без вины виноватый. С незапамятных лет так судьбою жестокою велено: Тот в Хароны идет, кто когда-то пошел в Гиппократы. Не завидую я его горькой бессмысленной должности, Но когда на меня смерть накинет прозрачную сетку, На него одного понадеюсь и я в безнадежности, Для него одного за щекою припрячу монетку. Москва. Июнь, 2007ЛЮБОВЬ — БЛЯДСТВО — ЛЮБОВЬ
Слово «блядь» было ходовым бытовым выражением, пока Указом Императрицы Екатериной II не было внесено в разряд срамных. Пора вернуться к истокам.
«Ведь это же прекрасное старинное русское слово (блядь), коим наши отцы и деды не токмо в самом высшем свете, но даже и при дворе не гнушались».
И. Бунин Изд-во Худ. Лит. 1966 г. Т. 5. стр. 370* * *
Когда я пишу, у меня нет ни цели, ни идеи. Для какой цели? Я даже и не понимаю вопроса. Но есть человек перед глазами, в голове, в сердце, во всём мне. Вот. И мне хочется его всем показать. Может, он мне нравится, а может, наоборот. Но это я узнаю, когда сумею показать. Или не сумею. В процессе написания у меня порой меняется к нему отношение. Мало ли, что он может учудить. У меня цели нет, но у него-то есть. Или появится, по мере рождения в моей голове. Да и вообще, какая цель у живущего? Жизнь и есть цель. Вот когда мы узнаем смысл существования человечества, тогда и можно будет говорить о цели, об идеях. А пока бы, жизнь прожить удачно, не погрешив особенно против классических канонов порядочности. Главное, не поддаться общей морали, а стараться блюсти свою личную нравственность. Представляю, сколько мне за это натолкают в душу, если кто-нибудь когда-нибудь сподобится прочесть.
Показать человека. А зачем? Глупости, что это может кого-то научить. Или, не дай Бог, воспитать. Осудить. Превознести. Ответить на какой-то вопрос. Вот евреи-иудеи, в склонности к своей талмудической диалектике, поняли, что, по существу, ответа ни на что нет: каждый вопрос при попытке ответа просто рождает новый вопрос. И исходят из главнейшего для них: Бог, как нечто абстрактное, непознаваемое. Даже не ясно, какого пола — он, она, поэтому я и пишу, как невнятное, абстрактное оно. Где? Ответа нет. Где-то в бесконечности. Но бесконечность — это ничто — нет времени, нет пространства. Стало быть, Бог был нигде и никогда. Чтобы реально возник Он, нужны мы. Без нас — Его нет. Вот Он и взорвал Вселенную из какой-то неведомой точки в нигде и в никогда. Тут тебе и ответ, и новый вопрос. Нет ответов. Верь.
Бог дух, Бог мысль, непостижимое, не могущее поддаться любому изображению, а, стало быть, всякая попытка изобразить, просто создание очередного, ни о чём не говорящего кумира. Всякое изображение, словом ли, рисунком ли, уже несёт в себе попытку найти какие-то пути в поисках ответа. Например, Иисуса Христа рисуют и страдающего, и любящего, и учащего, и спасающего. И думают, что это ответ на какой-нибудь один из главных вопросов бытия. Ответа-то нет. И какой может быть ответ, когда сплетают, сплетается несовместимое: покорность и сопротивление, любовь и отторжение. Не может человек сопротивляться без любви. Но может ли он, умеет ли он любить? Изображаю — что получится в поисках очередного вопроса? Следующего. Так мне кажется. Так мне хотелось бы. Задумчиво изобразить, а в ответ кто-то бы задумался: а что делать, или как быть, или кто виноват… Опасная и плохая попытка ответить этим последним вопросом. Кто виноват? — люди чаще всего полны желанием ответить на него. Вот уж в ответ получили тысячи новых вопросов.
Мне бы изобразить. Поискать вопросы. Поискать любовь… Да, если по правде, и это мне не по силам. А хочется. Вообще-то, любовь — это самое легкое в жизни. Если настоящая любовь, а не изображение, не имитация, пусть даже неосознанная. Ведь самое трудное в жизни — это всегда выбор. У нас никогда не было условий для выбора — ни в товарах, ни в положении, ни в депутатах… Вот возникли условия свободного выбора, — а мы и оказались не готовыми. А любовь не даёт нам выбора. Если это любовь — она однозначна. Выбирать уже не надо. Если отказался — выбрал нелюбовь. И точно это знаешь. При таком выборе от любви до блядства, как от вечного до мимолётного. Блядство — украшение и облегчение жизни; любовь — солнечное счастье, часто с муками, страданиями. Но это и есть суть жизни. Некоторый вид мазохизма, когда и от страданий счастье тебя обволакивает, а солнце греет даже в ненастье. Жизнь как жизнь.
Секс это и есть жизнь. Это не любовь. Любовь отдельна. Просто грандиозно, когда это сочетается. Если эволюция, действительно, реальна, то всё равно, я не согласен с Энгельсом, будто труд сделал человека. Трудились все звери. Обезьяны миллионы лет хватали палки, чтобы сбить себе банан, если не могли долезть. Животные готовы к сексу два раза в год. Когда у них течки и наступает брачный сезон. У человека нет сезонов. Он всегда готов. Женские «критические дни», как теперь вежливо и эвфемистически говорят наши средства массовой информации, недолги и длятся всего лишь несколько дней, а уж через месяц… Секс порождал и порождает интеллектуальную конкуренцию, излишнее любопытство.
Почти все животные, соразмерные человеку, сильнее его. Развитие мозга компенсирует физическую слабость. Основа развития, прогресса человека в его физической слабости. Сила человека в его слабости. Спортсмены, зачастую, если и не импотенты, то и не гроссмейстеры в этом виде физических упражнений.
Секс — это прогресс, радость жизни. Любовь — тяга к нравственным страданиям, она делает жизнь жизнью. Через страдания — к солнцу.
* * *
Ефим Борисович проснулся около пяти утра. Рядом никого. Он ещё ощущал тепло любимой, уехавшей около трёх часов назад. Сладко и трепетно становилось ему, лишь только физически он вспоминал бархатистость кожи внутренних поверхностей её бёдер. Её руки, пальцы, нежность их прикосновений к местам, жаждущим любви, контакта с любимой. Плотность, так сказать, тургор её груди. Цилиндрические тёмные соски. Он вспомнил и почти повторил вслух своё раздумчивое, пожалуй, мечтательное замечание:
— Ох, с такими сосками только рожать да рожать — никогда мастита не будет.
Илана засмеялась:
— Докторский подход. А не поздновато? Ну, вообще-то, рожать, так рожать. Да вряд ли получится. А я бы не против.
— Да и я готов.
Ефим Борисович вновь ощутил тот же радостный трепет, вспомнив её слова, улыбку, что сопровождала их. Тогда он подумал: «А хорошо бы. Я конечно стар, но до паспорта новой дочки теоретически дотянуть могу». Почему он решил, что светит им дочка? Да и вообще, о какой беременности может идти речь? Да, конечно, Илана могла бы ещё родить, но на пределе, возрастном пределе. У него тогда даже в глазах защипало от готовности любимой родить от него, несмотря… Да, несмотря, несмотря. Так это согрело душу его. И даже потом, когда в другой день, вернее, в другую ночь, он увидел в ванной баночку какого-то крема, предохраняющего от беременности, нежность к своей, ныне царствующей, а не возможной, гипотетической, девочке, никак не уменьшилась. Вполне естественно, подумал он при неожиданной находке, я, конечно, не имею на это право. Что ж я, мужа её должен обрекать на чужого ребёнка? Она ведь не решила разводиться. А если даже и решится, я вполне могу за это время перекинуться. Собственно, почему чужого? Для неё-то он не будет чужим. Меня не будет, а более наглядной памяти даже Господь не придумает. А нужна ли ей будет память? Ефим Борисович открыл баночку, понюхал, покачал головой и опять нежная, радостная улыбка скользнула по его лицу.
Ефим Борисович от ощущений трёхчасовой давности улетал всё дальше и дальше в прошлое. Он старше её почти на тридцать лет. А что было тогда, в год её рождения? Да что было, что было — у него уже были свои дети. Поэтому он с полным правом называл Илану девочкой и обращался к ней «деточка». И это было столь естественно, что ни он, ни она не цеплялись мыслью за некоторую необычность обращения к любимой. Или грубее — к любовнице. Любимую деточкой называть естественно, любовницу — не получится.
Тридцать лет! Нет — это невыносимо даже произносить, даже мысленно. Он отбросил двадцать девять лет и вернулся в современность. С чего всё началось?
Она приехала из другой больницы и привезла ему для консультации свою пациентку. А он ещё проводил утреннюю конференцию. Сдавали дежурство. Ему и всему хирургическому корпусу. Она, — он ещё не знал, как её зовут — так и шла, как доктор из соседней больницы. Это потом, потом, стала Иланой, а фамилия и вовсе уже была ему ни к чему. Илана, девочка, деточка…
Он по привычке дамского угодника равно улыбался как больной, так доктору. Благо они были с небольшой разницей в возрасте. Больная чуть старше доктора, но обе были сильно моложе … Как выяснилось в дальнейшем, трагически моложе его. Трагически? Конец всегда трагический. На то он и конец. Но перед этим-то сколько счастья.
Он, как и положено старому русскому доктору, начал с расспроса больной. С анамнеза. Всё-таки «в начале было слово». Но нынешние врачи больше доверяли объективным, бесстрастным показаниям разных аппаратов и лабораториям и почти не говорили с больными. Может, они и правы, и ошибаются меньше, но старики по-прежнему умудрялись из разговора порой вытащить мудрёный диагноз. Вернее, какую-то нестандартную болезнь. Естественно, раз привезли на консультацию к нему, значит что-то не поддается пасьянсу из полученных цифр, картинок, фоток, графиков… Это льстило старому врачу, который всё больше и больше чувствовал нарастающую свою невостребованность, устарелость. Да ещё и две молодые, для него молодые, женщины. Он и сам почувствовал себя моложе, расправил свой павлиний хвост, затряс козлиной своей бородой. Если и диагноз не поставит, то хоть разговором впечатление произведёт.
А случай-то оказался простой. Вернее, болезнь-то не простая, а достаточно тяжёлая, но диагноз поставить несложно. Он весь вытекал из разговора. Терапевты все исследования делали лёжа, а признаки болезни вылезали при ходьбе. А с больной, практически, не разговаривали. «Что болит?», и пошли исследовать место болезни, заодно и весь организм, а вот «как болит?» не спросили. А ведь борьба между «что» и «как» сохраняется. Она вечна!
Борис Ефимовичу через минуту ясно стало, что и где искать, но он продолжал говорить и выспрашивать. Показывал себя со всех сторон. Молодая терапевт, для него молодая, смотрела на него своими прелестными серо-голубыми глазами со сполохами явного восхищения. Да и старик, пожалуй, больше говорил с доктором, чем с больной. Больная была ему уже ясна, а доктор манящая загадка. Хотя чего уж там загадочного? Просто система общения, жизни, выработанная за годы любви к женщинам, автоматически включила весь его организм в привычный стиль сосуществования с лучшей, по его мнению, гранью человечества.
Как зовут больную, он не спросил — в «Истории болезни» написано. Так он объяснил свой вопрос доктору только об её имени.
— Илана Владимировна.
— Какое редкое и красивое имя. Сейчас такая смесь новейших имен и названий со старинным, национальным, архаическим и даже почти будущим, только зарождающимся. Вот сказал я «История болезни», а написано «Карта больного», а ведь в начале двадцатого века, ещё называли эти листочки «Скорбным листом». А?
А что, а — то? Запел. Заиграл старый селадон. И, похоже, что не без успеха. Доктор восхищена. А чем? Так, наверное, обходительностью, желанием говорить, желанием смотреть на неё, желанием обаять. «Королева в восхищении!» — Так, кажется, у Булгакова на балу у Сатаны.
— Коллега, по разнице возраста, я позволю обращаться к вам лишь по имени. К тому же это современно. По-западному. Вопреки старинной русской традиции. Да и имя ваше не русское. Так ведь? И очень красивое.
— Меня назвали так в честь бабушки, которая умерла перед моим рождением.
— Согласно национальным традициям?
— Вам нравится имя? А то меня всё время спрашивают. Оно ж редкое.
— Очень красиво. И так соответствует вам. Такое же красивое, как и вы.
— Спасибо. Спасибо и за консультацию. Если разрешите, мы к вам и впредь будем обращаться, ладно?
— Весьма польщён такой уверенностью в моих способностях.
Ну и так же, в том же тоне, ещё недолгое время завершался разговор.
Это была первая встреча. Знакомство состоялось.
* * *
Знакомство. А вот первое знакомство с первой любовью. Девятый класс. Ах, как давно это было. Разумеется, давно. Школы тогда были разделены, так сказать, по половому признаку. Стремление Вождя к старому постепенно распространялось на всё. Сначала появились генералы. Потом погоны. Школы стали мужские и женские. Народные комиссары переименовались в министров. Ещё только не ввели гимназические формы. Ещё все школьники ходили, кто во что горазд. А горазды были не густо. Война кончалась. Перешивали старое. Часто из военных одёжек, в которых приходили раненые или демобилизованные родственники. Ещё демобилизованных было мало. Вождь еще не боялся, видимо пока не боялся, возвращающихся, уцелевших, набравшихся смелости воинов. Их пока было мало. А те, кто были ещё в армии, не знали, не чувствовали ужасов мирного существования в стране. Эти внешние признаки прошлого вселяли некоторым пожилым людям мысли, что Вождь хочет быть Императором. Или чувствовать себя им. Династии всё равно не выходило. Говорили: скоро он вам в гимназиях формы старые введёт — это пока денег на формы нет, ни у людей, ни у государства. Военные формы ему нужнее. И впрямь, чуть оклемались — и ввели новые старые гимназические мундиры. А дети радовались. Пожившие лишь головами покачивали. Вскоре мундиры появились в некоторых институтах, учреждениях. Всё выстраивалось перед Императором. Каждый начинал понимать своё место. Ждал, ждал Вождь-Император массы возвращающихся воинов. Готовился. Не упустить бы момент.
А дети радовались. В школах вечера с танцами. Появились танцуроки, танцучителя. Учили танцам, знакомым детям по кино о прошлом. Дети радовались. Ещё не знали, что скоро окажутся под запретом фокстроты, танго и прочее, пришедшее к нам сравнительно недавно из стран, ещё недавних союзников. Всё, всех выстраивали перед Императором. Дети радовались, радовались. Ждали отцов. Они ещё не знали, что возвращаются не все выжившие. Иные ушли прямо с фронта, другие из плена в родные лагеря. А кто-то ещё ждал, что Великая Победа возвратит их близких из своих, отечественных лагерей, поскольку арестованы они были в ожидании пакостей от ныне поверженного врага. Не состоялось возвращение. А целые народы, что ради безопасности Империи были полностью высланы из родных, так сказать, исконных земель, также не дождались возврата домой. Но дети радовались, учились танцевать и любили Вождя, что дал им счастливое детство.
Да, так вот: всем классом они пошли на вечер в соседнюю женскую школу. Знакомства, знакомства! «Фима». «Катя». И молча танцуют. Что сказать? Как говорить? О чём? Зачем читал столько, если не знает, как с девочкой поговорить? Что в танцах, что в перерывах. А их и не учили говорить. Слушайте, ребята, да на ус мотайте. Собственно, и на ус мотать их тоже не так учили. Не то мотать и не так.
Ещё провожали всю девичью гурьбу всей гурьбой мальчишеской. Вот и шли от дома к дому большой толпой, уменьшаясь у очередного подъезда на одну девичью единицу. Так и с Катей он распрощался большой гомонящей толпой. Все шумели одновременно, высказываясь и не слушая.
Долго-недолго, но вскоре они опять же толпой, но, может, меньшей, уличной пришли в гости к одной из девочек, где тоже была суматошная толчея от множества ног, девичьих и мальчишечьих — ребята танцевали. И опять никаких контактов личных. Ещё общественное было выше личного. Но один прорыв совершил одноклассник. Он недвусмысленно дал понять всем, что хочет придти ещё раз и один. Сделал он это своеобразно. Правильно решил: надо нечто забыть, чтобы была причина вернуться или повторить визит назавтра и одному. А поразмыслив, не зная, что позабыть, он, в конце концов, решительно, но тайно, вытащил брючный ремень и засунул его под диванный валик. Вот это, вряд ли, было правильным: что бы девочке пришлось объяснять родителям, если они обнаружат забытый предмет раньше её? На улице все радостно смеялись над незадачливой находчивостью члена их толпы. Но прорыв сделан. Обозначены желания индивидуального сосуществования. Обозначилась первая пара. Первая победа индивидуализма над коллективистской психологией.
И уже через два дня Фима позвонил Кате и пригласил её погулять по бульвару. Состоялось.
Да, они долго стояли у подъезда. И даже за руки не держались. О чём они говорили? Их души пели, тела молчали. Тела только-только начинали понимать роль свою. Ах, как прекрасна любовь платоническая. Только не знали они, что это ещё не любовь. До — не любовь. После — возможно.
А вскоре они были в театре. Роман школьников развивался согласно всем правилам, почёрпнутым интеллигентными детьми из классических книжек, одобренных родителями, а частично и учителями.
Ах, это ханжеское время: Мопассана прятали от великовозрастных подростков. О «Яме» Куприна при детях говорили шёпотом. Матерный Барков лишь слухами доходил даже до взрослых. Слово говно, иногда позволялось, поскольку термин этот был в ходу у пророка их времени, Ленина. Да и то старались произносить его, прикрывая юношеские уши. При этом другие «Х» — «хулиганство, халтура, хамство» — были наглядны и поучительны. Это потом, более чем через полвека одна женщина точно и лапидарно сформулировала то время: «В СССР секса не было». «Умри, Денис! Лучше не скажешь» Секс — как обобщённый символ личных свобод.
Нет, нет! После театра они стояли у дверей много дольше. И даже по дороге домой он позволил себе держать локоток её полусогнутой руки. А потом ребятам повествовал свой донжуанский подвиг, вызывая тихое одобрение друзей. «Я взял её под руку, и она всем боком прижалась ко мне». «О-о-о!»— завистливо взвыл родной коллектив, приветствуя первую победу индивидуума.
Но вот он не мог ей дозвониться. Подруги тоже ничего не знали. Уроков не было — каникулы. Стало рождаться новое чувство для него — ревность. Но они уже проходили Белинского, который в статьях о Пушкине весьма справно объяснил им, что ревности нет места у думающих, нравственных людей. Согласился, но нервничать не перестал. У Катиной мамы справляться было неудобно и боязно. Уже решил бросить перчатку судьбе, а девочке не простить коварства, даже несмотря на завистливые повизгивания друзей. Однако предмет рождающейся страсти к концу каникул объявился и сам позвонил. Не получился у Фимы суровый разговор. Он обрадовался, и скрыть этого не сумел. И уже через час был у неё дома. Мама была на работе и должна была вернуться очень поздно. Под большим секретом Катя сказала, что папа её за какие-то дисциплинарные нарушения в армии, где-то в Вене, когда гулял весь их штаб в связи с победой, получил срок и находился то ли в тюрьме, то ли в лагере. Дети ещё не делали, вернее, не знали разницы между этими пенитенциарными учреждениями. Кстати, и слова такого вычурного они тоже не знали. Не знали, а может, только Фима не знал, что интеллигентные люди сидели в то время чаще всего не за уголовные или дисциплинарные нарушения, а по хорошо знакомой взрослым тех лет пятьдесят восьмой статье. Да и дисциплинарные наказания тоже были символами времени. Скажем, опоздание больше, чем на двадцать минут, или собирание голодными оставшихся колосков на убранном поле считались формально грехами уголовно-дисциплинарными, но были результатом именно политического изыска, сложившегося в стране. Сроки тюремные были немалые. Но знал ли, понимал ли это Фима? Катя тайно от всех кинулась повидать арестованного отца, офицера-победителя, ну, конечно же, случайно осуждённого. Ну, почти декабристка! Он все ей простил. Он уже смотрел на неё снизу вверх. И она была растрогана таким пониманием их семейной беды. Их уже сближала общая семейная тайна. Разумеется, это привело к объятиям ну и к следующему этапу — к поцелуям. Вот уж когда, действительно, ребята будут ему завидовать. Мог ли он себе представить, что всего через каких-нибудь полвека сверстники его, сегодняшнего, здорово бы посмеялись над сим смелым поступком. Но по тем временам, когда созревали и мужали души и тела этой пары, они зашли за пределы мыслимого в их ученических, учительских и родительских кругах. Они лежали на широкой тахте, — так назывался тогда матрац с прибитыми палками в виде ножек — обнимались, целовались, тёрлись телами друг о друга. «Фима. А может раздеться?» Фима задохнулся — декабристка! Он лишь промычал, кивнул головой и ещё пуще стал целовать и обнимать, вместо того, чтоб отстраниться и не мешать раздеваться, да ещё и помочь, да ещё и самому раздеться. Женщина, если полюбит — нет для неё препятствий. Женщина любит лучше, больше, отчаяннее. Катя ещё не женщина. Но Катя женщина. Мужчина же, несмотря на желания показать себя в любви чем-то средним между суперменом и разбойником, всё же, при прочих равных, больший раб канонических догм и предрассудков. Разумеется, если это не маргинал. Конечно. Фима ещё не мужчина. Но Фима мужчина. Они лежали почти полностью нагие и продолжали целоваться, обниматься. Чувствовать друг друга телами… Дальше дело не пошло. А скоро уже должна придти мама. И Фиму дома мама ждёт.
И ещё раз был подобный эпизод в их жизни до экзаменов на Аттестат Зрелости. Ах, зрелость, зрелость. Знал ли он, знала ли Катя, что есть зрелость человеческая? Школа — они созревали. Вызревало приближение к любви. Тут важно не промахнуться в выборе истинности.
Дальнейшее эротическое вызревание его проходило с другими девочками. В студенческие годы они с Катей встречались всё реже и реже. Слишком разные интересы были у филологов и медиков. Они еще не умели разделять общественное и личное. Интерес к учебе для них — общественное. Любовь — личное. А им вдолбили, что общественное должно быть выше личного. Это потом, может, скрывая от самих себя и от комсомольской организации, они явочным порядком научились личное поднимать выше общественного. Не только любовь, но и эротические вожделения вытесняли в их душах и телах первенство общественных нужд и задач.
Катя встретила единомышленника, друга, с общими учебно-профессиональными интересами. Да и вообще подходящего индивидуума в качестве соавтора вечного сохранения в мире их общего генофонда. Он будет прекрасным отцом их будущего ребёнка. Это назвалось любовью и законно перешло в совместную супружескую жизнь.
* * *
Илана приехала вновь на следующий день. Оказывается, она забыла дать ему подписаться под консультацией, которую он ей вчера надиктовал. Вспомнил ли Ефим Борисович своего одноклассника, забывшего у девочки брючный ремень? Нет. — Он слишком далеко отошёл от искренних обманов детства. А напрасно. Но когда он увидел в коридоре отделения идущую к нему навстречу вчерашнего доктора.… То ли сердце, как говорится, ёкнуло, то ли обычная аритмия, то ли перебои, что нередко его посещали последние годы. Он обрадовался, снова её увидев. А может, его порадовало, что он ещё играет какую-то роль в игре полов.
Конечно, можно подписать на ходу, в коридоре, но они пошли к нему в кабинет. Ефим Борисович сел за стол и сделал вид, будто читает свою консультацию. Он придумывал начало разговора с девочкой.
— Вы отсюда опять к себе в больницу?
— Надо же отвезти «Историю болезни». А так, я закончила, в основном.
— А как наша, уже, в некотором смысле, общая больная, коль скоро и я к ней, если не руку, так голову и память приложил?
— Как вчера и договорились. Начали лечить по вашей схеме.
— Угу. Гм… А вы на чём приехали? Своим ходом?
— Больничная машина.
— Так зачем вам возвращаться? Шофёр и отвезёт. А я скоро поеду и, если не возражаете, и вас отвезу. Я тоже не плохой шофёр. Смею надеяться. А?
— Как непривычно слышать слово шофёр. У нас всё водитель, водитель.
— Намекаете на мою старомодность слишком пожилого человека? Старика?
— Да какой же вы старик, Ефим Борисович! Вас ещё и бояться надо. Просто приятно слышать не эти все официальные названия.
— А ещё лучше — водила, а?
— Это для молодых.
— Ну, вот опять подчёркиваете…
— Да ничего подобного. Я просто радуюсь.
— Чему?
— Не знаю. Я пойду, отдам «Историю» водителю… Водиле. — И смеясь, побежала.
Ефим Борисович смотрел из окна, как она бежала к машине. И обратно. Как она бежала! У него захолодило где-то внизу живота. Всегда так, когда он смотрел с высокого балкона и даже представлял себя на большой высоте. Он боялся высоты. Признак волнения. С чего бы это?
Во рту сушило. Он глотнул воды. Вошла Илана.
— Жажда?
— Доктор! Просто охота пить. Диабета нет.
Девочка засмеялась.
— Может, деточка, чайку иль кофейку? У меня в кабинете всё для этого есть. А?
— Кофе? Да, пожалуй.
— Вот и мне пить охота. Но я предпочитаю чай. У меня всё есть. Знаете, Иланочка, говорят, что когда пить хочет немец — пьёт пиво, француз — якобы вино. Ну и так далее. А когда хочет пить еврей, он идёт к врачу, проверить, нет ли у него диабета. — Посмеялись. Разговор застопорился. Ефим Борисович налил воду в чайник из крана и включил его. — Деточка, вас не коробит, что я беру воду прямо из-под крана? А? Или вы суперсовременны?
— Я и сама дома воду беру из-под крана.
Чайник вскипел. Он вытащил из ящика письменного стола чашки, сахар, баночку кофе, коробочку с пакетиками чая…
— Давайте, Ефим Борисович, я сама сделаю.
— Не даёте поухаживать за молодой красавицей?
— Спасибо. И всё-таки.
Илана подошла к столу и занялась сначала чаем, потом кофе. Ефим Борисович мучительно думал, с чего бы начать разговор. Всегда важно начало, а там пойдёт. Молчал. Она занималась делом.
— В начале было слово. — Решился он, взяв на вооружение, что было придумано давно.
— Вы о чём?
— О слове. Мы молчали. Я понял, что с чего-то надо начать. А с чего?..
— А почему с Библии?
— Хорошо, что вы хоть это знаете. Сейчас многие кресты повесили на шею, а что это означает, толком не знают. Но, таким образом они идентифицируют себя с царствующим большинством. А я просто в поисках слова — для начала.
— В каком смысле — идентифицируют? Не поняла.
— И, слава Богу. Так в каком-то смысле можно обозначить тяготение людей кучковаться в группы.
— А начала чего?
— Сам не знаю. Может, новой жизни? А?
Непонятное обоюдное молчание. Не тягостное.
— Сложно. Чай к вашим услугам.
— К услугам. Ну, пусть это будет услуга. Сложно — это от поисков нужного слова. А?
— А действие…
— А дело было потом.
— Ефим Борисович, а я одну вашу лекцию слушала в институте ещё.
— Хм. И что было?
— Мне было интересно, потому я и напросилась к вам с этой больной.
И опять он не знал, как словесно реагировать.
Чаекофепитие прошло с малым количеством слов. Ефим Борисович время от времени говорил что-то пустое и всё больше и больше, как бы входил в неё — она постепенно заполняла в душе его какие-то пустоты, давно жаждущие заселения.
Он довёз её до дома. По дороге выяснилось, что у неё дома дочь-старшеклассница. Ефим Борисович не уточнял — ему была интересна только она. Может, напрасно. Но она, только она сейчас владела… Владела? Чем? Пока неизвестно.
Но и она пополнила свои знания о нём. Два сына его живут за границей. Жена… жены нет. Жена умерла. А он сейчас живёт один. У её дома они распрощались.
— Приходите в гости ко мне, Иланочка. Вы любезны моему сердцу.
На прощание они друг другу ввели номера в мобильные телефоны. Одна из новых доверительных форм закрепления знакомства.
«Любезна сердцу моему — как это удалось мне сказать? Это точно. Это само получилось. Действительно, в начале было слово. Слово родилось от Бога. Это так получилось. А?» — говорил сам с собой Ефим Борисович по дороге домой, автоматически, не думая о маршруте и дороге, держась за руль, нажимая педали, двигая рычаг скоростей. Автоматически он вёл машину, автоматически мысленно завоевывал женщину.
* * *
В Москве опять праздновали Победу. Сегодня парад и демонстрация. Но главное, душевное празднество, было в тот самый день. 9 мая. Когда было объявлено, когда все высыпали на улицу, когда Фима со своими ребятами и девчатами был на Красной площади. Днём была весёлая толпа, танцующая, поющая, гомонящая и свистящая. Последнее было связано с вышедшим перед войной фильмом о Чкалове. По фильму — неизвестно, как на самом деле — американцы своё одобрение проявляли свистом. И Чкалов в фильме, при встрече после перелета через Северный полюс, услышав свист встречавших, сначала был озадачен, а потом на радость толпы и киношников, вложив пальцы в рот, издал могучий русский посвист. Вот и на площади при виде представителей союзных войск принимались свистеть все, кто умел это делать. Фима свистел замечательно. К вечеру пальцы его были обсосаны до сахарной белизны. Его разбойничье умение вызывало благосклонно-восхищённые взгляды подруг. В какой-то момент на площади рядом с ними оказалась машина с английскими военными. В наше время, когда вход на площадь ограничен и даже курить там нельзя, кажется невероятным появление в толпе автомобиля. Англичане были пьяны и радость их и братания с толпой переходили границы осторожности, выстроенные НКВД. Да, ещё это был Народный Комиссариат Внутренних Дел. Скоро это стало министерством, и раскованность народа-победителя была опять притушена водой из шлангов госбезопасности. Нет, нет — не водометы, да и тушили не огонь. Гасили радость победы, дошедшей до надежды долгожданной свободы. Ведь свобода ограничивалась ввиду нависшего над страной врага. А нынче враг повержен. Его нет. Но скоро, скоро будет обозначен и назначен новый враг, и вновь будут ждать отодвинувшуюся надежду. Так всю историю России. Мальчишки об этом не думали. А иные взрослые привычно поддерживали наивный энтузиазм.
Ну да ладно! Не о том речь. Машина медленно двинулась сквозь толпу, неизвестно куда. Мальчишки милостиво были приглашены облепить её. Собственно, это неизвестно. Что говорили англичане на свойственном им языке, было неизвестно. Мальчишки принадлежали поколению, которое не понимало, для чего нужны были иностранные языки. Общение не дозволялось. Книг не было — только дозволенные, а их и так переводили. Ещё язык врага понятно, что нужен: переводить и шпионить. Но скоро, скоро немецкий язык в школах заменят английским для тех же понятных целей. Так что приглашение, может, было придумано, но мальчишки облепили машину, и этот клубок тел покатился сквозь толпу вон. Один из британских военных возвышался над этой копошащейся и катящейся массой, встав на сидение и до пояса высунувшись из люка на крыше машины. Такие люки на машинах россияне увидели лишь через много лет. Он стоял и как капитан, и как вперёдсмотрящий, и как штурман, лоцман, глашатай… А по-русски: посторонись! подвиньсь! эй, пошла, залётная! Англичанин что-то кричал. Может, давал указание водиле, а не толпе. Так ли, не так ли, скоро ли — медленно, но с Божьей помощью дотянулись они до какого-то британского учреждения, что сейчас бы и у нас назвали офисом. Здесь-то, у цели машина с той же помощью частично и развалилась. Наверное, она была не приспособлена и не только для русских мальчишек. Скорее всего, и на родине был бы тот же эффект.
Англичане споро вынесли из своей конторы столик, на котором была куча бутербродов и вполне приличная бутыль с каким-то алкогольным напитком. Мальчишки были в срочном порядке отброшены взрослым мужским населением и, нимало не огорчаясь, вся Фимина команда вновь ринулась на Площадь в поиск оставленных подруг. Чувствовали они себя героями — теперь им всё можно! Но подруг не нашли и геройство своё они затаили до следующей подобной возможности.
Да и на чёрта им был сейчас героизм, когда над уже тёмной Площадью вспыхнул купол из множества лучей прожекторов и отдельно был высвечен большой лик их бога — Сталин висел над миром и взирал, тогда ещё непонятно им было, каким взором, на расшалившихся детей своих. Бич уже был в руках его, но пока все ликовали, думая, что это его победа. Собственно, это и была его победа, но в большей степени над своим народом. Да Бог с ним. Вернее, чёрт с ним. Тогда их всё же больше волновали свои возможности показать подругам растущие мужские деяния. Они ещё не понимали, что это для них всего важнее.
Возможность наступила в день Парада Победы. Но подруги были уже другие, а жажда проявить затаённый героизм требовала выхода. Дни их роста бежали, но им ещё в те годы казалось, что время ползёт. Понесется время после, когда станет очевидным, какое мгновение вся их жизнь. Время отмечалось прошедшими уроками и меняющимися подругами. И, как они в то время шутили: без всяких эротических моментов. Правда, что это значит — эротические моменты — они толком не знали. Но читали, слыхали, мечтали, вожделели. Не видали: кино сегодняшнего уровня ещё даже и не предполагалось, а максимум эротики, наверное, было в выскакивающей до бюста из бочки для купания голой Марике Рокк в «Девушке моей мечты». Они могли и посмотреть фильм и ещё, и ещё раз, в надежде, что когда-нибудь она выскочит выше, дальше и, наконец, они увидят нечто и до пояса. Пусть хоть бы до пояса.
Опять отвлёкся. Фима с другом и одноклассником Лёней и двумя подругами, Лерой и Ниной, с самого утра мокли под дождём в колонне демонстрантов, ожидающих на улицах, когда начнётся и закончится парад, а их, наконец, допустят на площадь и они увидят своё божество. Так им казалось. А на самом деле они сучили ножками и ожидали, как было договорено, после окончания демонстрации, гостевания у Леры, родители которой уехали на несколько дней. Будто в том возрасте можно отчётливо понять, что на самом деле думаешь, чего на самом деле хочешь. И радость была или печаль, когда объявили, что в связи с дождём демонстрация отменяется. Действительно, с какой стати Вождю мокнуть, когда флаги войск поверженного врага уже брошены к подножью могилы его учителя и предшественника, на которой он стоял и попирал её, тем самым решая множество задач своей коронации.
Неорганизованность мышления автора никак не позволяет дойти в своем повествовании до их прихода на квартиру, на их залихватскую выпивку одной бутылки дикого военно-советского портвейна, и копошащихся попыток стать мужчинами и женщинами. Хотели все и все боялись. Уж как там, у Леры подгибались ли от страха ноги, но у Фимы и ноги не держали, и руки тряслись. А ведь как все говорили, должен был раздеть даму. Старшие товарищи, дворовые учителя, говорили ему, что только лишь он сумеет расстегнуть и снять лифчик — дама твоя, она сдаётся. Так, поди же, доберись до лифчика. А что делать с трусами? Кто их должен снимать? Потом он и не мог вспомнить, кто, как, что снял. Снялось — и вскоре они оказались голыми. Вот уж не скажешь: дело техники — техники они ещё не знали, и не было ни у того, ни у другого до этого никаких практических занятий с каким-либо опытным партнером-учителем. Только дворовые теоретические семинары. Это теперь продвинутые ратуют о сексобразовании, а тогда, как и полагалось режиму, создающим рамки всему, во главе бытия стояли уже помянутые четыре великих «Х»: ханжество, хамство, халтура, хулиганство. И в описываемом эпизоде мальчики никак не могли подойти к делу без неких хулиганских выходок, и совсем не понимая, что поведение их моментами элементарно хамское. При этом, ханжески стесняясь, памятуя слова и наставления как родителей, так и школьных учителей. А в результате, их первые сексуальные опыты, неумелые, боязливые и торопливые, были, безусловно, халтурные, не принесшие ни радости, ни удовлетворения. Лишь боль и… всё же опыт. Гвоздик его, устремлённый заколотить, вбить… несколько перестоял, перенапрягся, а потому вся главная церемония прошла столь стремительно, что оба, кроме боли, ничего не почувствовали. Боль почувствовали, а кровь увидели. Это они были предупреждены. Но и боли, вроде бы, не должно быть у него. Кровь текла из обоих. У Леры закономерно, а у него тоже, как потом выяснилось, порвалась какая-то уздечка. Первый опыт годился только для похвальбы среди таких же молодых бычат, жаждущих приобщиться к миру взрослых.
Уже на следующий день они с Лерой встретились, но радости при этом не испытали. Видеть друг друга не могли оба.
* * *
Ефим Борисович пришёл домой. Готовить ничего не хотелось. И вообще не было никакого аппетита. Не до еды. Он не совсем понимал, что с ним происходит. Ему уже много лет, но такого томления души он припомнить не мог. Сел в кресло, взял рядом лежащую книгу. Раскрыл и стал читать. Какая книга, не посмотрел. Какое имеет значение! Да он и не читал. Уткнулся невидящим взором в страницу. Потом вытащил из кармана свой телефон и стал крутить его, включать, выключать. Он уже не слова искал, а готовился к действию. Сейчас, в начале, должно быть дело. Но надо же решиться. А слова… Родятся сами. Он походил с телефоном в руке и перед глазами по комнате.
— А, чёрт возьми, в конце концов! А? — вслух обратился Ефим Борисович к аппарату. Внизу живота похолодело. Подошёл к столу, выпил глоток воды… и стал набирать номёр. — Илана Владимировна?… Да. Я… Узнали сразу? Какой хороший слух… Как вы там живёте?… Что поделываете?… Ещё на работе! Что-нибудь случилось?… Когда наука задерживает, это благородно. А как наша больная?…. Ну, если вы закончили, так приезжайте в гости. Как вы?… Молодец какой. Я вас жду. До встречи.
Ефим Борисович заметался. Позвал в гости. Первый раз. А дома ничего нет. Открыл холодильник. Кефир. И всё. Хлеб есть. Чай есть. Кофе растворимый только. Какой же она пьет? Выбора всё равно нет. А вот крекер. И то хорошо. Дальше — надо прибрать хоть немного. Унёс набросанные газеты. Несколько книг уложил на спинку дивана — раскладывать по полкам уже и времени нет. Куртка и брюки на стуле. Куртку на вешалку, брюки в шкаф. Хорошо, что сам ещё не переодевался. Остался при параде. То есть в своей обычной рабочей одежде. Пожалуй, надо немного подмести. Да, ладно. В конце концов, одинокий мужик. И так достаточно. Налил в чайник воды. Что ещё? Да, пепельницы выкинуть. А она курит или нет? Не узнал. Как же так? Наверное, нет. Иначе бы уже закурила. В машине, например.
Ефим Борисович кинулся на балкон. Посмотрел, но никто ещё не идет, не едет. Опять в комнату. Сел на диван. Мол, сидит спокойно и ждёт. Спокойно. Так он себя начал выстраивать. Не вышло. Опять вскочил. Посмотрел в ванной. В уборной. Всё нормально.
«Да что ж это я, словно школьник перед первым свиданием. Даже не студент. Рецидив восемнадцатилетия» — усмехнулся себе в зеркало. Заодно и посмотрел на себя. — «Можно бы и помоложе быть. А вообще-то, ещё ничего. Седоват. Ну не мальчик же. Она и так всё знает. Как я понял, она меня давно знает». Опять пошёл на балкон. Никого. «Она должна придти оттуда. Но если на автобусе, то ещё не скоро. Сколько машин проезжает! Будто не двор. Никогда не обращал внимания. А детей совсем нет. Хорошо бы… Какая-то машина у подъезда. Господи! Я не знал, что у неё машина. Не говорила. И рулит сама. Боже, как бежит к подъезду. И опять холодок пал на низ живота. Как замечательно. Спешит. Спешит. Ко мне. А, может, ей скоро уходить?» Ефим Борисович тоже побежал к двери. Да не разбежишься — три шага и дверь. Сейчас, сейчас зашумит домофон. Вот.
— Да, да. Открываю. Входите.
И уже лифт шумит. Он широко распахнул дверь и стоит, ждёт. Лифт. Выходит. Хрустальный звон в ушах. Глотнул слюну. А во рту сухо. Чего ж глотает? Холодок сменился жаром, ударившим в лицо. Кашлянул. Раскинул руки навстречу.
— Здрасьте, деточка. А я и не знал, что вы тоже коллега-водитель.
— Да, да. Я не всегда на машине.
— Жду. Жду, деточка. Ничего, что я вас так называю. По возрасту. А?
Ефим Борисович пропустил Илану и чуть придержал за плечи. Приобнял. Илана не отстранилась, пожалуй, даже поддалась к нему.
— Как я рад, Иланочка. Так давно не радовался. — И почему-то засмеялся. — Впрочем, что тут смешного? А?
Илана прямо тут, около вешалки с куртками, развернулась к нему лицом, всем телом, так сказать, фронтально:
— Ефим Борисович… Ефим Борисович… Простите… Я вас люблю. Очень люблю. И не вчера… — Она издала какой-то звук.
У него зазвенела где-то, то ли в голове, то ли в ушах, то ли в душе… Звон. В голове. У него: «Ну, конечно же. Это я… у меня… Вот я и бегал… Как же это у нас…» — и дальше вслух:
— Да. Да. Какое счастье. Радость моя, как догадалась.
Илана была сильно ниже его и, ткнувшись рыжеватой своей головой в его грудь, оказалась на самом удобном уровне для покровительственного объятия. Но он не хотел покровительствовать. Он сам сейчас нуждался…. Нет, — это он хотел покровительства его (уже его?) маленькой девочки. Он обнял её.
Вся компактная, ладная. Да, да — сильно ниже его, и при объятиях, ещё у дверей стоя, вся как бы уместилась в нем, внутри его тела. Да, да — обнял, и она стояла как-то полубоком, прильнув к его груди, животу; ему стало тепло, и хоть вобрал он её тело в себя, почувствовал сам будто что-то материнское вокруг. Какой-то парадокс. Глупо… в утробе материнской … Глупо, смешно…Почему-то слёзы чуть не выступили на глаза. Но нет. Слёз не было, а ощущение их было. «Какое счастье…» Он не знал, что это такое — счастье. Но сейчас он ничего другого, кроме внезапно нахлынувшего счастья, не ощущал. Откуда вдруг оно на него свалилось. Счастье? Ну, вот так он ощущал. Будто не было прошедших стольких лет. Будто не было ушедших, промелькнувших романов и просто легкомысленных флиртов, легковесных десятков любовных и просто бесчувственных связей. Наконец, сыновья. Они уже большие. Но они же должны были появиться через счастье.
Он и любил, и всякая дребедень всплывала, мелькала, а он отбрасывал, отбрасывал ненужные воспоминания.
Да, как это ненужные — это и есть жизнь. Но сейчас какая-то иная жизнь началась для него.
Не надо ничего выкидывать из памяти. Всё пригодится. Может, что и подскажет, может, пригодится завалявшееся в памяти.
Ведь было. Было. И любовь была. И игры любовные без любви. И…Без любви…
* * *
«Слушаю». «Ефим Борисович?» — «Я. Кто это?» «Ефим Борисович, это ваша бывшая больная. Волкова Надежда. Месяца полтора назад вы меня оперировали. Помните?» «Хм. А что я оперировал? Что у вас было?» — «Аппендицит». «Господи! Да за полтора месяца… Я оперировал-то или кто-то во время моего дежурства?» «Вы, вы. Вспомните. Артистка. Молодая. Ну, сравнительно молодая». «А помню. Помню. Надя вас зовут?» — «Я и говорю Надежда. У меня какие-то боли в животе. Не могли бы вы приехать, посмотреть. Я здесь рядом. Недалеко от больницы». «Если рядом, так заходите. Вдруг понадобится анализ какой. Или рентген. Приходите». «Ефим Борисович. Очень вас прошу. Я не могу уйти сейчас. Мне звонить должны по очень важному делу. Сниматься в фильме. Жалко же упустить. Это ж очень важно для нас. Я вас очень прошу. Это ж близко. Это быстро».
Ефим вспомнил её. Действительно, молодая. Хорошенькая. Ладненькая. Что там может быть? Всё было нормально. Она часто заходила в ординаторскую. Вечно какие-то вопросы у неё возникали. А вроде и не зануда. Полтора месяца! Что там может быть? Вполне полноценный человек. Всё прошло. Всё можно. Всё может быть.
Ефим Борисович был в некотором замешательстве. Недавно его вытащили в КГБ. Устроили допрос. Выясняли, что читает. Про самиздат спрашивали. Повторяли его слова, которые он говорил в очень узком кругу очень своих людей. У него не было опыта общения с этими органами. Он радовался, что родился поздно и не попал ни в дни Большого террора, ни в военную бойню. Он не был ни героем, ни романтиком. Подвигов не жаждал. А наслаждался рутинной жизнью. Хирургия — это рутина. Он знал, что иные, вот эта Надя, смотрели на хирургов как на героев суперменов. Нет, нет. Обычная нормальная работа. Мало ли, что воображают и выпендриваются порой его коллеги. Одно дело понимать, другое интересничать, производя впечатление на молодых актрис. Актрисы тоже для иных суперменов гляделись сверхженщинами. Мало кто мог повторять его слова и полукрамольные мысли в местах, которые жаждут слушать и знать, чем дышат. «Да, — улыбнулся про себя Ефим — чтоб не дышали. Нет дыхания — нет человека. Нет человека — нет проблемы». Вспомнил он чей-то точный закон их прошлой жизни. Прошлой? Посмотрим. Собственно, уже смотрели. Всё это прокрутилось у него. От страха, как говорится, иудейского. Какая там болезнь! — прикидывал он про себя, ещё раз припоминая её приходы в ординаторскую. Всё было недавно. Боязно. Что ж идти к возможно призывающей женщине, маловероятно больной и считать себя героем? «Хорошо к себе отношусь. Банальный, рутинный блядун. И то хорошо. Героизм — это когда подозреваешь, что там, где омут женский, встретишься с зубами», — опять он обратился к анекдотам, словно к притчам. — «Впрочем, зубы нынче играют свою роль не только в темноте пещер, но и на солнце, где им и быть положено, за губами». В мозгах волнами разбушевались эротические фантазии, и он уже почти бежал, отбросив опасности возможных связей малознакомых, норовящих поближе приникнуть к телам и душам, со следящими.
Да, конечно, блядский призыв. И пожалуйста. До чего ж нас растлили — идёт на блядство, а боится КГБ. И понятие растления раздвоилось. Доктор легко идёт на блядский призыв бывшей больной… больной!? Позор. Эротические вожделения перемешаны со страхом перед органами, к этому никакого отношения не имеющими — Второй позор. Когда растление идёт — оно тотально. — Доктор очень здраво и нравственно рассуждал. Но соответствующих выводов выстраивать и не старался. Легко и радостно зашагал, не борясь с вожделением, возникшим практически на ровном месте.
«Врача вызывали?» «Здравствуйте. Здравствуйте, Ефим Борисович. — Смеется — Вызывала. Нет. Не вызывала — просила. Очень просила. Очень хотела вас видеть. Болит где-то в районе шва. Я думала, если ничего и нет, то вы посмотрите, пощупаете, погладите — и всё пройдет». «Так, может, сразу и погладить. — Улыбается. — Начать с главного результативного действия?» Смеются оба. «Доктор, как насчёт кофейку с коньячком?» «Давайте сначала займёмся основной причиной прихода. Ваш живот». «Ох, Ефим Борисович, мы приблизительно одного возраста — можно, я буду называть вас без отчества? К тому ж и Европа». «Господи! Да сделайте одолжение. Можно даже и на ты».
Стандартно хорошенькая. Высокая. Талия высокая. Блондинка. Естественная ли — не оценил. Скоро увидит, оценит. А глаза оценил сразу — озорные. Это хорошо. Это спокойнее. На озорство и приехал. Кожа — бархатная. На глаз. Наощупь, наверное, тоже. Надо проверить. Проверит.
Надя подошла к широкой своей тахте. Она не была, как больная, в каком-нибудь халате или ещё в каком-либо затрапезе. Белая красивая кофточка. Расстёгнутый ворот открывал глубокую дорожку между не худшими из грудей. Отчётливо без лифчика. Синие брюки. Он не понимал, из какого они материала. Кажется, это называлось джерси. Да и не важно. Важно, что они были на резинке. Поэтому она подняла руки к поясу. Завела с боков большие пальцы под резинку и одним движением с обеих сторон спустила сразу и брюки трусы. «Однако! Наверное. Если они там есть. Блондинка. — Подумал доктор и дальше вслух. — Ну, ложитесь».
Ну, что он мог сказать. Разумеется, всё было нормально. Шов в хорошем состоянии. Никакого вокруг него ни уплотнения, ни красноты. Весь живот тоже безболезненный. «Всё нормально, Надя». «Я так и думала. Ведь делали же вы. Остается только погладить и всё пройдёт?» «А разве ещё не прошло?» «Прошло. Прошло. До чего ж ты мне, доктор, нравишься». «Хм. Я старался. Наверное. Видно». «Так. Коньячку?». Коньячок стоял на маленьком столике в изголовье тахты. Бутылка открыта и на маленьком подносике несколько рюмок. Так что выпивание коньячка не вызвало дополнительных передвижений по квартире. Так, сидя на тахте с приспущенными брюками, но с подтянутыми трусиками, Надя лишь протянула руку к столику. Доктор перехватил её, а сам другой рукой произвёл все действия, необходимые для заполнения рюмок коньяком. Перехваченную руку не отпускал. Надя этому не противилась. Всё питье их счастливо удалось с помощью лишь одной свободной руки у каждого. Оказалось это не только возможно, но и удобно для всех последующих задач. Обоюдное согласие было, говоря сегодняшним языком, запрограммировано. А ещё более современно: консенсус был мгновенным, без лишних слов и потери времени. Ничего у Нади не болело ни на протяжении всей намеченной ею программы, да и всего вечера. В конце концов, как она сказала: он же делал! Эх, было бы что, а то пока не более чем простой аппендицит. Хотя он и объяснял потом Наде, что простых операций, как и болезней, не бывает.
Они лежали некоторое время молча. Надя взяла из-под подушки и передала ему полотенце. «Доктор, а ты женат? Давно?» «Спрашиваешь, давно ли, значит сама знаешь».
* * *
С Диной он познакомился в театре. «Дни Турбиных» был неожиданный подарок московской интеллигенции. Ещё в их среде было полно разговоров и воспоминаний старших об этом спектакле во МХАТе. А потом это стало чем-то полузапретным, о чём молодые знали лишь по рассказам. На всякий случай об этом рассказывали полушёпотом. Булгакова не издавали. Время вспышки тотального интереса к нему началось лишь с напечатания в журнале «Мастера и Маргариты». Когда в театре Станиславского поставили «Дни Турбиных», интеллигенция из молодых, наслышанная, ринулась доставать билеты. На всём протяжении советских лет дефицит чего бы то ни было являлся главным мотором движения вперёд, как для людских душ и голов, так и для смешной экономики, которой жила страна. Билеты на спектакль, так же трудно было достать, как и хорошую обувь, книгу, подписку на газету или апельсины, икру, даже хорошую рыбу, например, судака там, или щуку. Ефиму принёс два билета больной, которого он недавно оперировал. Это был вполне интеллигентный гонорар. Обычно приносили бутылки коньяков, женщинам цветы, конфеты. И то это называли взятками и визгливо писали в газетных фельетонах о стяжательских тенденциях среди врачей. Про деньги и говорить нечего. Билеты в театр! Дефицитный спектакль! Класс! Он хвалился качеством полученной взятки. Но дама, владевшая в те дни его душой, а скорее телом, не оценила величие подобного «побора», как иногда официально называли эти благодарственные подношения врачам. Ефим пошёл один и предложил свой лишний билет красивой девушке приблизительно его же возраста. Девушка спрашивала «лишний билетик», а он мгновенно оценил как её внешние качества, так и интеллигентский огонёк охотницы за хорошими спектаклями или книгами.
Естественно, они сидели рядом. «Дина» — лишь только оказались рядом в соседних креслах, как, разумеется, они назвались друг другу. Но уже к концу спектакля стало понятным, что легкой интрижкой не обойтись. Дина знала больше его. Во всяком случае, в том, что касалось театра. Она сообщила ему, что этот спектакль поставил Яншин, игравший в старом спектакле Лариосика. Что, по-видимому, он, в основном, скопировал тот старый мхатовский спектакль. Что здесь Лариосика играет молодой провинциальной актёр Леонов. Что он, скорее всего, копирует с подачи Яншина его Лариосика. Что Леонов подаёт большие надежды. Последнее было сказано несколько свысока по отношению к молодому артисту. Но на вопрос о том, что делает Дина днём, работает ли и кем и где, узнал, что всего лишь преподаватель немецкого языка в институте. А вовсе никакая не критик, не редактор, не имеющая никакого прямого отношения к творческим, как теперь бы сказали, тусовкам.
Ефим вызвался проводить, Это было рискованное предложение: он страсть, как не любил дальних провожаний, но выяснилось, что живут они сравнительно недалеко друг от друга. Это легче подвигло его на начало любовной игры. Так же в процессе недолгого маршрута выяснилось, что живёт она временно одна — родители работают где-то в другом городе. «Тебе удача, парень» — сказал он себе. Для первого раза они не долго торчали у подъезда. Но ушёл он с записанным телефоном. «Как-нибудь позвоню» — легкомысленно подумал он, уходя. Ан, нет. Уже на следующий день, он не мог дождаться окончания операционного дня, чтоб набрать полученный номер. А вот и никто не подходил. «Ну, конечно. Она же работает». Он звонил и звонил, пока, наконец… «Добрый день, Дина. Это Ефим. Я не рано?» «То есть? Как это рано? Я уже с работы пришла» «Я имею в виду, не рано ли, в смысле, на следующий день после нашего знакомства». Смеётся. Ефим начал удачно. «В этом смысле, пожалуй, ну скажем, не страшно». «Надеюсь, что нестрашно. У меня нет и в мыслях вас пугать, страх нагонять». Опять смеётся. Может, удача. А может, не хочет расстраивать. Или наоборот — поощряет. Последнее в думах отобрать предпочтительнее. А потому: «А как бы сегодня нам повидаться? Есть соображения, пожелания?» «А у вас?» О! Это уже успех. «Перед нами Москва. Кино, театры, концертные залы…» «Ефим, вы, пожалуй, разгулялись. Или вы имеете такие связи, что живёте в бездефицитном мире?» «Увы». «Тогда и нечего гусарить. Кстати, рестораны, пожалуйста, даже не предлагать. Это я заранее». Это тоже удача. Рестораны он бы, пожалуй, и не потянул со своей докторской зарплатой, а коньячно-конфетные гонорары годятся только при походе в гости в виде почтительного подношения принимающим хозяевам. «Ефим, я устала сегодня. Если хотите, пожалуйста, приходите ко мне». На такую удачу он и не рассчитывал. Но она спокойна и откровенна. Безобразия здесь ему, явно, не обломятся. Слишком молода, слишком интеллигентна, слишком часто говорит «пожалуйста». Да, в то время это казалось сдерживающим нормальные человеческие порывы. Да и не эротические вожделения в этот раз были основным в желании повидать эту неожиданную театралку. К тому же ещё и не наступила, так называемая сексуальная революция, то есть революция женской эмансипации. Ещё действовало представление, будто «в СССР секса нет».
А что взять? А что у него было? Только и есть, что коньяк. Красиво, но к молодой интеллектуалке…
Они чинно сидели. Попивали кофе с коньяком. Говорили, так сказать, об интеллигентном. У Ефима постепенно заволакивало глаза. Дина была красивее, чем это было вчера или даже в первые минуты сегодняшнего свидания. Речь зашла о Пастернаке и Маяковском. Ещё не было скандала с «Доктором Живаго». Ещё никто не ругал Пастернака с трибун. Но для среднего полу — или чуть недоинтеллигента Пастернак был эдаким затенённым официальным неодобрением поэтом. Ну не оплёванная Ждановым Ахматова, но и не Маяковский — лучший советский поэт по определению Сталина. А потому тот тоже был затенен, но прямо с противоположных высот — официальным одобрением. Это были весьма поверхностные суждения о писателях и поэтах людей, более или менее далёких от мира литературы и искусства. Ефим в этом разговоре не был на уровне своей собеседницы.
Говорили вообще о современной поэзии. В какой-то момент Дина заговорила о Тарковском. «Люди вашего поколения и не знают такого поэта» — покровительственно кинула она словечко и мазнула глазом по Ефиму. У него аж дыхание перехватило. Стали выяснять возрасты и отношения. Дина оказалась моложе Ефима. Но фраза эта сыграла роль не только в сегодняшнюю встречу, но и на будущее. Дина на порядок выше его по знаниям, не имеющим отношения к естественным наукам. Он уже не позволял себе, не мог позволить никаких двусмысленных поползновений. Иной класс, иной уровень. Уходя, он только и мог себе позволить, что к ручке приложиться и спросить разрешение ещё на одно посещение.
Уже завтра он не выдержал и снова позвонил. В следующий раз он был уже в компании её старого знакомого. Ефим некоторое время посидел и собрался было уходить, но она под столом схватила его за руку и: «Да ты что, Ефим. Ещё рано. Посиди. Не уходи». Он всё понял. Сел. И никаких пожалуйста. Значит надо пересидеть этого контрагента. Но этот эпизод без всякого брудершафта перевёл их в статус «на ты». И вообще сильно продвинул их отношения.
Недели через две Ефим уже и дня не мог прожить, чтоб не видеть Дину. Но позволить себе обычные уже в то время для него эротические домогательства он не смел. Не иначе, как, наконец, прихватила его любовь. Но не было, не было холодка, что падал на низ живота, лишь только он переставал чувствовать себя победителем. Когда страх какой-то на него нападал. А может, это и не страх?.. Что-то метафизическое…
Они бывали уже у её друзей. Его друзья тоже уже бывали с ним у Дины. Всё шло к намеченной кем-то в горних сферах цели.
Однажды он в очередной раз пришел к Дине с коньяком. Если раньше они пили понемногу с кофе, то в этот раз… Так получилось. Говорят в подобных случаях: я не хотела, но так получилось. Но нельзя сказать, что она или он не хотели. Им было хорошо.
Дальше шло всё по накатанной веками схеме. Вплоть до родов.
* * *
«Женат. Женат». «Давно?» «Не очень». «Силён. И уже не любишь?» «Почему? Люблю». Надя засмеялась. «Ну, а как понимать?» «Слушай. Не тема для беседы». «Не тема! Но и пошёл тогда. Не тема. Господи! Сколько же вас, козлов!» «Я ж не… Слушай. Не шуми. Давай выпьем ещё».
Ох, эти спасительные «давай выпьем». Не знаю, как в других цивилизациях, а в нашей стране «давай выпьем» играет важную и разнообразную роль. Это приглашение в зависимости от интонации и ситуации может призывать к чему угодно и подвигнуть ко всему. Так сказать, и на «да» и на «нет». Даже Пушкин дал, хоть и не русскому герою, но персонажу-то русскому, Сальери, магические слова: «Постой! Ты выпил без меня». Правда, спасительную роль это не сыграло. Всё ж убил Моцарта. Ну, не как в жизни, а как героя русского мифа на международно-нравственные темы.
А вот у Ефима с Надей это великое предложение спасало окончание их встречи. Правда и оборвало продолжение. Может, он и не проявил себя достаточно элегантным мужчиной? Но он вспоминал Надю всегда с тёплым чувством. Пришла иль позвала, — и посветила немного в сумраке повседневной работы. Именно, что работы. А он уж, какой есть, такой есть. И всё — больше у них ничего никогда не было.
* * *
Обнял и, несмотря на весь свой прошлый опыт, что делать дальше не знал. Может, знал, а не решался. Растерялся. Весь опыт блядства в, так сказать, судьбоносный момент, как ему чувствовалось, оказался пустым, ублюдочным. Они постояли обнявшись. Илана не поднимала головы, а так и застыла, уткнувшись в грудь. Она тоже не знала, как вести себя. Господи! Ведь не маленькие, а он даже и того больше, а тут растерялись. Может, это любовь? Тогда опыт не имеет никакого значения. Нет воспоминаний. У любви нет прецедента. Ефим Борисович чувствовал, вернее, знал, что он старше и его действия должны быть первыми. Так казалось бы. Но разве бывают в любви старшие и младшие. Ведь вот вошла Илана, и первая сказала главное. Может, в правилах взаимоотношений полов и есть какие-то правила, но какие могут быть правила у любви!
И они стояли.
— Иланочка, ты ведь с работы? Поешь что-нибудь? Или кофе?
— Я ела, Ефим Борисович. А кофе можно. — И она подняла голову и говорила, глядя ему в глаза.
Тут он изловчился… Нет, не то слово. Ловчить не надо было. Это слово, понятие из прошлого опыты, из его жизни с женщинами без любви. А может, была любовь, и ему это сейчас, просто казалось, что пало на него ранее неизведанное чувство. Вообще-то, в каком-то смысле это было и предательством по отношению ко всей… Ну не ко всей, но к части жизни, безусловно. Она подняла голову — он склонился и поцеловал. Она не отклонялась, а потянулась губами навстречу. Но губы её не раскрылись — она целовала чуть шевелящимися, почти сомкнутыми губами. То ли нет опыта, и она не знала, как это делают. То ли от растерянности. То ли… Плотные, тугие, без привкуса губы — плохой прогностический признак. Губы должны быть (должны быть?!) сухими, чуть раскрытыми, мягкими, с каким-нибудь почти неуловимым привкусом. А рядом зубы, язык. Это он знал, но сейчас… Господи! Кто из них в эту минуту думал о будущем? Какой прогноз? Поцеловал. А что дальше? Дальше! Он всегда знал, что надо делать дальше. Как вести себя. Куда вести её. Что говорить. Всё было отработано прошлым полумеханическим опытом, не имеющим никакого отношения к любви.
— Сейчас, Иланочка. Я чайник поставлю. — Но продолжал обнимать и целовать. — Почему у тебя такие напряжённые губы?
— Не знаю. Разве? А как?
— Что как? Сейчас чайник поставлю.
Он ещё крепче обнял. Она совсем зарылась в нём, скрылась где-то к глубине его тела.
— Сейчас чайник налью, включу… — Она шевельнулась, будто хотела вынырнуть из… Из чего? Он ещё крепче её сжал и отпустил.
— Сейчас чайник… А ты садись. Проходи. Что мы стоим здесь? Посмотри. Ты ж не видала комнаты, квартиры. Осмотрись. Ознакомься. Садись, деточка.
Он пошел к спасительному чайнику. Воду налил, включил. Сел рядом. Он всегда знал, что надо делать. Знал! — почему в прошедшем времени? Он ещё, как говорится, ого-го. Нет — именно, что знал. А сейчас… Нет науки о любви. Стихия.
Надо говорить, говорить… Зачем? А он сейчас больше ничего не мог.
— Когда ты пришла, я читал Жозе Сарамаго «Евангелие от Иисуса».
— А разве есть такое Евангелие?
— Да нет, деточка. Это роман. За него Сарамаго получил Нобелевскую премию.
— А я и канонические Евангелия, по правде говоря, не читала.
— Сначала их прочти. А Сарамаго написал как бы жизнь Христа с реалистических позиций. Достанется ему от клириков.
— А мне можно? Дадите?
— Ну, конечно, для чего ж я говорю о ней. А? А ты всё ж почитай канонические. Их всего-то четыре.
— Настолько-то я знаю.
— А всего их было что-то в районе тридцати. Ну, всех их собор не признал. Остались как апокрифы.
Ну, причём тут эти богоспасательные премудрости? Он не знал ничего. Считал, что за разговорами действия сами родятся. Женщины, даже без опыта, особенно, когда любят, решительнее смелее, умнее любимого. А он всё ещё говорил про книги, про апокрифы, по созвучию перешёл на апокрифы Чапека, но даже кофе ещё не сделал. Боялся оторваться от неё. Так и сидел рядом на диване, обняв её одной рукой и неся всю эту несусветицу. Несусветицу в этой ситуации. Она ещё послушала. Но, прервав его на полуслове, развернулась к нему, обняла двумя руками и впилась своими губами в него. Губы были чуть больше раскрыты. Он почувствовал зубы. Но губы, губы оставались тугими, а язык и вовсе где-то был совсем далеко.
Он не вспоминал свой опыт. Губы сами собой работали по давней инерции. Его губы раскрыли её ещё больше. Он мазнул своим языком по губам и чуть увлажнил их. Она оказалась способной, послушной ученицей. Он повернул к себе любимую, уже свою, свою и не в мечтах, а, как бы это сказать, ну… в телесных ощущениях. Голова её лежала у него на чреслах. Диван был в этой ситуации короток. Лёжа на боку, она подвернула ноги…
— Милая! Я, наверное, ждал тебя всю жизнь.
— Я очень люблю вас, Ефим Борисович.
— Да не надо «вы». Короче.
Она стала целовать его. В нос, щеки, глаза, опять в губы.
— У меня пока не получается. Пусть? Можно же?
— Я просто жду, когда у тебя получится. Ты, ты, ты… привыкай, милая.
— Угу. Ой, осторожно. Я так кофту порву.
— Да сними ты её к чёрту.
— Сниму, да не к чёрту.
— И юбку.
Она оторвалась от него. Поднялась и, не больно раздумывая, стала раздеваться. Они не отходили от дивана. Тут же, как он сидел…
* * *
В санаторий его привезли прямо из больницы.
Была большая паника. Молодой. Хирург. В те времена инфаркт в тридцать лет был случаем экстраординарным. Потому и началась, как тогда говорили, прогрессивная паника. Даже иные коллеги, с которыми на работе у него было некое состояние войны, и те поддались всеобщему возбуждению. Однако он быстро пошёл на поправку и сам уже ни на что и ни на кого не жаловался, а все вокруг продолжали бурлить и ахать. Сначала кинулись по инстанциям, чтоб молодому инфарктнику медицинских кровей разрешили и выдали путёвку в загородную больницу для реабилитации. Это сейчас больницы для реабилитации общее место, а тогда само это слово воспринималось лишь, как снятие судимости и всего прочего с большого количества народа, массово возвращавшихся из сталинских лагерей. Такая больница для простых смертных была одна на много миллионов москвичей. Правда, для нужных режиму ведомств обстоятельства поддержки сил и здоровья рычагов государственной машины были не в пример лучше. Но не они же финансировались по какому-то нелепому остаточному принципу, когда бюджет строился из деления ракет с бомбами на танки, умноженные на амбиции державных стариков; а уж остаток — на жизнь людей, не необходимых для войны.
Недолго он там пробыл. Всё только о болезнях. Других разговоров нет. Удрал. Домой. Да разве остановишь панику, которая уже раскрутилась вовсю. И опять из больницы в санаторий. Там, по крайней мере, были его сверстники и моложе. У них были другие болезни. Их не ограничивали, как норовили поступать с молодым инфарктником.
С Варей они сидели за одним столом. Когда они знакомились, она назвала себя Барбарой. Но уже за ужином он её звал в привычном русском варианте. И она его не поправляла. Уже по внешнему виду этой рыжеватой блондинки он заподозрил язву желудка. Потом подтвердила его наблюдение диета. И, наконец, на второй день она стала с ним советоваться, узнав, что он врач.
Они ходили гулять в соседнюю рощицу, на берег речки. Погода становилось тёплой, но места прогулок были пустынны. Кроме санатория вокруг ничего не было. Гуляющих из окрестностей или из города ещё не видно. Числящие себя больными, в основном, были полностью в сетях своих забот о здоровье и боялись выходить за пределы определённых им маршрутов. Он и Варю с трудом уговорил на прогулку. Она боялась за свою язву. Пришлось прибегнуть к мистическому авторитету врача, чтобы убедить её в пользе этого оздоровительного мероприятия. Так он назвал и обосновал своё предложение. Хотя сам он бесцельно гулять не любил. Но в этот раз перед ним маячила определённая цель. Варя была весёлая, хорошенькая. Но несколько запуганная своей язвой и докторами. Пришлось пойти против своих коллег. Доктора и его пытались отвратить от прогулок, но он с помощью полуёрнического демагогического спича сумел прекратить их нудный санпросветский разговор. «Коллеги, я же врач. Не рассказывайте мне очевидности. Я знаю. Спасибо». Чем и завершил разговор.
Возможно, доктору и вписали в какую-нибудь карту лечения о нарушении режима. Ведь если с ним что случится, им отвечать придётся. Надо себя обезопасить. У нас в медицине подстраховаться можно не столько лечением, сколько записью. Поэтому больше, чем за правильным лечением, следят за написанием всяких медицинских документов, приговаривая: мы пишем для прокурора. Эта ужасная фраза висит над медиками, начиная со студенческих дней. Все, вопиющие этот воспитательный слоган, даже и не задумывались об уровне безнравственности его. Хотя прокурору, на самом деле, не эти записи важны. Есть много следственных приёмов, наверное, которыми они должны пользоваться, не делая из карт больного главный козырь обвинения, если что и случилось. Так что призыв к медикам со стороны своих же инстанций говорит лишь об уровне морали их самих, да, пожалуй, и всего нашего общества и воспитывает лишь безнравственность вновь поднимающихся от младенчества к зрелости.
Короче, нарушитель с нарушительницей ходят по лесочку, по бережочку. Что-то он несёт, она лепечет. Нарастающий словесный флирт.
(Нынешнее время рождает новые слова и их некоторое переосмысление. Например, сейчас можно бы флирт назвать вербальным. Или: он задействовал всё свое умение вербально обволакивать партнёршу, озвучив банальные истины, чем озаботил её душу, затуманенную ежедневной вечерней виртуальной жизнью. В то время ещё не были столь зомбированы телевидением, как сейчас.)
На этом пустом уровне, что сейчас записано в скобках, он и вёл свою атаку на душу и тело цветущей язвенницы. Ох, неохота пересказывать пустые слова их трещащего диалога. Солнце всё больше нагревало воздух, землю, утепляло и души их. Трава уже приняла почти летний вид. Плащи, которые зачем-то они надели, были явно лишними. В конце концов, на границе леса и берега, в окружении цветов, он расстелил свой плащ, и они уселись, продолжая что-то верещать. Хотя уже и помедленнее. Какая благодать: солнце, весна, тепло, зелень, на пленере (это из банальностей языка прошлого) ещё пока безлюдье.
Они сидели, потом легли, подставив солнцу свои лица. И говорили совсем мало. Ефим взял Варину руку и положил себе на границу груди и живота. Варя руку не убрала. Уж не знаю, продолжать ли дальше. Всё как всегда. Правда, позволит ли Варя продолжить, не вспомнит ли она о язве? Не понадобится ли Ефиму опять его авторитет врача? Вряд ли должна мешать жизни болезнь, оставляющая человеку хоть какие-то силы. Что касается Ефима, так он своим инфарктом пренебрегал и даже более того, пользовался им как знаменем, помогающим ему в его эротических вожделениях. «Солнце уже почти летнее. А?» «Угу. Тепло. Хорошо». «А тебе, Варь, не жарко в твоей шерстяной кофточке?» «Пока нет. Да её же и не снять всё равно». «Нет, конечно. И не надо её снимать». Он осмотрелся. Вокруг никого. Тишина. Лишь чуть шелестят молодые листочки. Они ещё незрелые, упругие и не очень поддаются воздушным колебаниям. «Солнце прямо в глаза. Зря я не взяла тёмные очки». «А ты закрой глаза. Или я сейчас прикрою тебя». Он приподнялся и склонился над её головой, так что тенью своей прикрыл от солнца лицо. Варя засмеялась: «Так долго не продержишься. Устанешь». И он улыбнулся: «Шея устанет? Ну, и упадёт голова к тебе на грудь». Засмеялись оба. То есть, ни да, ни нет. Вскоре шея и устала. Вообще-то, что с шеей, неизвестно, но голова его на грудь её упала… Легла. Варя ничего не сказала. Он повернулся лицом к ней. Варя молчала. Он приподнял своей рукой её голову и поцеловал в губы. Сначала легонько, чуть прикасаясь. Её губы раскрылись, расслабились. «А может, не надо?» «Что не надо? Целовать?» «Всё не надо». Он повторил. «Давай сначала язву вылечим». «Причём тут язва? Любовь, вполне, оздоровительное мероприятие». «Холодно» — совсем уж не уверено буркнула Варя. «Согрею. И язву тоже». «Слушай. Нет. Дай привыкнуть к тебе». «Привыкай». «Тебе нельзя». На этот раз засмеялся доктор. Он положил свободную руку на её колени. «У меня юбка на резинке». Дальше уже и говорить было нечего. Наконец, заработала и женская рука. Она расстегнула ему ремень, брюки…
На следующий день, в субботу, они повторили свою прогулку, но весна брала своё, нарастающее тепло, выходной день ликвидировали безлюдье и в лесу и на берегу. У Ефима в палате сосед был настолько зациклен на своём инфаркте и диабете, что подкатиться к нему, чтоб он выкатился на срок на волю, заведомо получить предложение катится от него… адреса известны. «Не мытьем, так катаньем». Вот именно: ни мытья, ни катанья. Но, тем не менее, так или иначе, но несколько дней они как-то устраивались.
Ужасна обстановка долечивания людей, полностью ушедших в свои недуги и недомогания. Варя создавала возможность существовать в дурных условиях человеку, возможно и не критичного, но, тем не менее, не ощущающего себя больным. Какой к чёрту инфаркт, когда его вожделения и рядом с болезнями не лежали. Спасибо, Варя…
Вспоминать дальше нет никакого смысла. Сначала его одолевали режимные требования коллег врачей-курортологов. Там не сиди, туда не ходи, здесь не кури, ну и так далее. А вскоре присоединилась и Варя со своими капризами. Так не сиди, быстро не ходи, рядом не кури… Эх! Варя, Варя! Как и реабилитационная больница, санаторий тоже удостоился от Ефима побегом. Санаторий? Вот именно. А Варя, что? Уже не причём?
* * *
А он сидел. Знал же, знал. Но… Вся жизнь… Всё насмарку. Она надвинулась на него. Ох, эти спасительные объятия и поцелуи, которые отвлекают от… Ну… Ну же! Он обнимал, а она расстёгивала ему рубашку. Он целовал и мешал ей. Он продолжал целовать, а руки свободны. Нет — руки-то заняты. Наконец, он перестал обнимать и занялся ремнём, застёжкой на брюках.
Всё! Всё, наконец, сброшено. Всё ненужное, лишнее, мешающее. Он сидел — она надвинулась на него сверху. Он сидел, а она… Перехватило дыхание. Хотел что-то сказать. Только звук какой-то издал. Выдох, выдох без вдоха.
— Да, да! Ой.
— Что? Тебе что-то не так?
— Ох, нет. Так. Так! Ой. Ой — о чём ты сейчас. Да. Да-да-да… Ну. Ага.
— Милая! Губы, губы…Родная. Счастье моё. Ты. Ты. Говори ты.
— Ты… ты… У-у-у-мм-ы.
…………………………….
— Ох. Зачем нам этот марафон?
— Что? Тебе?…
— Да-да!
— Иланочка! Как я люблю тебя.
— А я как вас люблю.
— Опять «вас»? Нужен марафон, чтоб ты не говорила «вы»? У меня на это сил не хватит. — Смеется.
Она сидит рядом, обнимает его. Целует в мочку уха, ниже, ниже, в щёку, шею…
— Пойдём в постель. Ляжем. Может, просто полежим. А?
Илана не ответила, а молча пошла…
Он следил за ней взглядом. «Родная девочка. Она и в постели, как ребёнок. И в постели никакой политики, никаких… ничего, что говорило бы о зрелом сексуальном прошлом. Какая замечательная, какая чистая, искренняя. А бельё… Конечно, она рождена для сексуальной жизни. Такое бельё не для себя надевают. А ведь не знала, что сегодня будет у меня. Или я… Или я просто влюбился, словно „отважный капитан, что объездил много стран и не раз бороздил океан“. Или я просто ослеп и „влюбился, как простой мальчуган“. Она рождена для полноценного секса, а не только для исполнения физиологических обязанностей. Для украшения жизни. Родная моя… Любимая, будто… Будто много лет любимая».
Они лежали в постели. Со своим человеком, с любимым можно и не говорить. С любимым так хорошо молчать. С любимым всё понятно без слов. С любимым хорошо молчать. Рядом любимое тело, от которого так не хочется оторваться. Так бы до конца жизни лежать и чувствовать родное тепло. Такого тепла он никогда в жизни не знал и не чувствовал. Они лежали рядом и оба смотрели в потолок. Он смотрел. А она, может, тоже. А может, глаза закрыла…. Обнялись и лежали не как мужчина и женщина, а как два отогревающихся человека. А потом они вдруг, враз, как говорится, не сговариваясь, прижались ещё сильнее друг к другу, сплелись… «Скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенье…» Господи, как он жаждал судеб скрещенья! Будет ли? Судьба только начинается. Отогрелись………
Он смотрел через её голову в окно.
— Темно. Там уже темно. А в Австралии сейчас…
— В Австралии лето. Наверное. Светло. Тепло.
— Причём тут Австралия?
— Не знаю. Вы вспомнили. Тепло, тепло.
— Я тебе кофе так и не сделал.
— Ну и не надо. Мне надо ехать.
— Хорошо лежим.
Она прижалась к нему, поцеловала и решительно вскочила с постели.
— Ну чего же ты?
— Дочка.
— Родненькая моя. Иланочка. Надо жизнь строить, исходя из факта, что дети, во всяком случае, взрослые, оперившиеся дети родителей не любят.
— Здрасьте! Что вы? Меня моя дочь любит. Я своих родителей люблю.
— Это не любовь. Это, если хочешь, при хорошем воспитании в достойной семье, плата по векселям за детство…
— Плата… Причём…
— Дослушай, золото моё. Это, и, прежде всего, уважение, поклонение, благодарность, если хочешь, даже преклонение. Конечно, заботливость.
— Ну а что?…
— Родители из другого времени. Из жизни другого поколения. И образ жизни меняется с каждым поколением. Ты вспомни конфликты у твоих каких-нибудь знакомых. Конфликты с тёщей, со свекровью — дети чаще становятся рядом с избранным спутником, а не с родителями. Сами выбирали. Она понятнее.
— Но ведь бывает…
— Бывает, бывает. И есть. Есть любовь лишь родительская. Ведь любят всегда за что-то. Грубо говоря, не в меркантильном смысле, корыстно. То есть за что-то: за красоту, за доброту, за смелость, ум, мужество, честность… Не важно — за что-то. И о родителях говорят, какие они. А детей родители любят ни за что. Какие бы дети не были — родители за них… В общем, — леди Макбет, помнишь? Родительская любовь единственная, мистическая, бескорыстная. И плохих, и хороших…
— Ничего не знаю, кто кого и за что. Я вас люблю очень, Ефим Борисович.
— Господи! Когда же я доживу до «ты»!? Доченька. Я так хочу познакомиться с твоими родителями.
— Нельзя.
— А что? Родители… Из-за дочери? Они что?.. Что мужа у тебя?… — Ну, никак у него не выговаривался вопрос об отце девочки. А знать хотелось. — Знаешь, если думаешь о чести, то стыдиться своими поступками надо не перед предками, а перед потомками. А ты…
— Ну, причём тут? О чём вы? Я не стыжусь. Как вы… Ефим Борисович. Вы меня не понимаете…
— Детка, прости. Это моё дурацкое любопытство, на любви построенное. Я…Ты на порядок выше, тоньше меня.
— Перестаньте. Ирочка моя плод студенческой любви. Мы ж были прогрессивные, как теперь говорят, продвинутые. Зачем, мол, расписываться. Мы и так любим друг друга. А на распределении нас разогнали по разным городам. Ирочки ещё не было. А, несмотря на продвинутость, я о беременности сказать постеснялась. Любимый мой — психиатр. Там, вдалеке от меня, ввязался в борьбу за права человека против практики советской психиатрии. Ну, понимаете. С реальной жизнью мы практически не встречались. А любовь… Любовь, она как огонь — без пищи гаснет.
— Ты что волнуешься?.. Ладно, Иланочка. Не рассказывай.
— Нет. Я хочу, чтоб ты знал.
— Ради этого «ты» — волнуйся и рассказывай.
— Вам смешно…
— Совсем не смешно, особенно, если опять вы.
— Дайте выговориться. Мне это нужно. Может, это первый раз в жизни у меня. Короче, его осудили, посадили. Он написал мне, так сказать, отказное письмо. Может, не хотел, чтоб мы с дочерью были семьёй осуждённого диссидента. А может… Может… Я ж говорю — огонь без пищи гаснет. Может, кого нашёл. Искать по лагерям, декабристкой стать — дочка совсем младенец. Ну и… Ну, говорю, что огонь без пищи… Ну, а теперь…
Ефим Борисович поцелуями и объятиями не дал ей закончить мысль. Ему казалось, что и так всё понятно.
— А Ирочка что знает? А родители…
— Они живут в Канаде. Уже давно. Так получилось. Потому и машина у меня есть.
— А может и… Ну, да, ладно… Ладно, девочка моя любимая.
Досадно, что провожать не надо. Машина снимает сладость провожания. Ефим не любил провожать. И когда такая необходимость возникала, он внутренне, про себя ворчал. Но необходимость, она и есть необходимость. А сейчас ему так хотелось провожать, постоять в подъезде, как почти полвека назад стоялось. Стоялось. Полвека назад. Подъездные поцелуи. Хм, тамбурные романы.
О чём это он сейчас. Вспомнилось поездное приключение. Почему всё это шальное отвлекает его сейчас. Мешает. «Всё! — ничего не хочу вспоминать. Хаотические воспоминания. Почему это должно мешать? Жизни-то не мешало. Даже украшало. Разве нет?»
Нет — они спустились на лифте, постояли около машины и…
— Доедешь — позвони.
— Конечно.
— Только обязательно. А то я заболею. Я же старый.
— Старый! Это не так. А заболеете, возьму к себе и сама лечить буду. Моё! Позвоню, позвоню.
— Из машины или из дома?
Илана рассмеялась:
— Из подъезда.
— Замечательно. Ностальгическая иллюзия. Подожди. Не уезжай. Я с балкона буду смотреть, как ты едешь.
— Угу. Бегите тогда.
И он побежал. А лифт не идёт. Может пешком. Дольше. А вот и лифт. Балкон.
Девочка стоит у машины и смотрит вверх. Он помахал рукой, и она скрылась в машине. Поехала. Вот и за угол завернула. Всё. Нет её. Быстрей к телефону. Ждёт. Ещё рано. Она ж не может в мгновение оказаться у дома, хоть и недалеко живёт. А вдруг с дороги позвонит. «Господи! За что ж на меня такое счастье свалилось? Может, самому позвонить в машину. Совсем съехал, доктор?» Он пошёл снова на балкон. Зачем? Что она… Она ж не может вернуться — дочка. Наконец, звонок.
— Вы как? Это я.
— Конечно ты. Зачем вы?
— Так получается.
— Ты где?
— Как условились. В подъезде. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, счастье моё. А, может, ещё позвонишь ночью? А?
— Не знаю. Но утром обязательно.
— С самого, с самого утра. Как глаза откроешь.
— Обязательно.
* * *
Ох, как давно это было, а помнится, может, ярче, светлее всего остального.
В тот раз он был на творческом вечере одного кинодокументалиста, своего бывшего больного. Никого не знал там, да и документальное кино ему было ни к чему. Но отказать было неудобно. Он вообще не умел отказывать. И про себя с удовольствием говорил, что бабник — тот, кто не может, не умеет отказывать. Чем и льстил себе, тотчас после этой максимы, называя себя бабником. Здесь много наслаивалось. Нередко после операций малознакомые до этого люди в жажде реваншироваться приглашали его на торжественный обед по случаю выздоровления. Иногда в ресторан. Иногда домой. Отсутствие нормальной возможности, скажем, просто заплатить, что называлась при смешном, советском режиме взяткой или, в лучшем случае, побором и преследовалось либо уголовной статьей, либо морально-партийным осуждением за стяжательство. Так или иначе, он деньги не брал, о чём горько сожалел, когда наступили времена рыночной экономики. У него уже создался, как теперь говорят, «имидж» бессеребренника, и ему по-прежнему тащат бутылки коньяка. Порой бутылка стоила больше его месячной зарплаты. А когда его приглашали в ресторан или домой, он внутренне негодовал: «С какой стати, я должен тратить на них время. Я люблю посидеть в застолье, но со своими. Болтать с ними между рюмками о своём. А тут выслушивать бессмысленные тосты в свою честь и пить за здоровье бывших больных, на здоровье которых я уже потратил своё время. Свои силы, знания и умения». Но отказать не мог. Так и в этот раз он пришёл на вечер и печалился о потерянном времени, в одиночестве куря перед мужским туалетом. Выйдя в вестибюль, он остановился, решаясь уйти, не сказав, бенефицианту, сколь прекрасны его творения. К нему подошла молодая женщина. «Здравствуйте. Моя фамилия Арсеньева. Зовут Арина. Вы три месяца назад оперировали мою сестру по поводу воспаления поджелудочной железы. Вот у меня и появилась возможность ещё раз сказать вам спасибо». «Арсеньева? Да, да. Помню. А как она себя чувствует?»
Он помнил эту больную. Её трудно забыть. Молодая. Два месяца после родов. Полная. Рыжая. Тяжёлая. Пульс еле-еле, нитевидный. Рвота. Желтуха. Токсический шок. Некроз. Омертвение железы. Срочная операция. Да что там операция. Самое тяжёлое — почти двухмесячные тяготы. Бедная девочка выскочила. Заслуга не только их, врачей, но и родственников. Мать не отходила, когда её перевели из реанимации в палату. Такой уход больница не может обеспечить. А уход больше, чем полдела. Особенно у подобных больных.
«Спасибо. Хорошо. Ещё не работает, но девочкой занимается сама». «У вас хорошая семья. Без вашей помощи мы бы были бессильны». «А без вашей помощи просто смерть». «Врачи, больницы есть и другие. А вот родные… Какие есть, такие есть. Их уже не выберешь. А? Так что без нас могли быть другие. А вот без вас…» «Да, это мама, конечно. А что, вам интересны эти фильмы?» «Я оперировал режиссёра». Он не знал, почему здесь Арина, а потому поостерёгся сказать, что здесь всё ему до лампочки. И отказывать людям не любил и всегда страшился обидеть неловким словом. «А я здесь работаю». «Вы киношник?» «Нет, нет. В администрации дома. „Арина!“ Экое имя сейчас редкое». «Вообще-то, Ирина. Это меня так дома зовут». «Красиво вас дома зовут». «Вы останетесь на обсуждение?» «Да, что вы! Что ж мне обсуждать? Это мне не по зубам. В моей голове другие приоритеты». «Я ухожу. А вы?» Он ещё сомневался. Он ещё думал. Как подойти к режиссёру, надо ли к нему подойти, сколь удобно уйти, а, может, надо остаться? Судьба решила всё. Он поглядел на эту, как и сестра рыжую, безусловно, красавицу. Мгновенно оценил всю её стать. Понравились ему и пластика её рук, как она курила, держала сигарету, как кисть, пальцы с сигаретой плыли ко рту. И, как всегда, он больше всего обращал внимание на рот, улыбку.
Ему нравились большие рты. Из анатомии и из практической своей жизни, он знал, что погоду на лице делает рот, что именно он настоящее зеркало души. Рот и мимические мышцы вокруг. Но какое до этого дело художнику, лирику. Вот изобразительному художнику — рисовальщику, актёру до этого дело есть, и очень даже большое и нужное. А в литературе пишут о глазах, но на самом деле можно говорить только о цвете их и форме разреза. Глаза ничего не выражают. Они всегда одинаковы. Разве что когда в них появляются слёзы. Лирики им приписывают всё. А на самом деле рот дирижёр мимики. Ефим потому и старался, прежде всего, вызвать у нового собеседника либо улыбку, либо скорбь. Но самое показательное — улыбка. Нет, нет! — не смех, не плач. В конце — концов, смех — это серия судорожных выдохов, а плач — серия вдохов такого же характера. При этих судорогах понять, что лицо выражает, нельзя. Смех — и есть смех, а то и того хуже, хохот. Плач, он плач и есть, когда не рыдания, которые только звуковое усиление выдохов.
Короче, улыбка Арины ему понравилась. Он думал, почему не замечал её в больнице. Она ж наверняка, там бывала. «А вы у нас в больнице-то бывали?» «А как же. Но мы с вами не пересекались». «А-а. Я бы уже отметил в сердце своём такую красавицу». «Спасибо». «Я очень люблю рыжих и улыбающихся». «Так вы уходите, Ефим Борисович?» «А вы?» «Я да. Рабочий день кончился. А теперь уже и рабочий вечер». «Тогда, если не возражаете, то и я с вами». «Вы как едете?» «В зависимости от обстоятельств. Куда прикажет родина и…» «А вы не на машине?» «Нет. Пока нет. Не дорос». «Так, может, я вас подвезу?» «Замечательно. С таким драйвером хоть на край света». «Найдём и поближе».
Но в этот раз они ничего не искали. Арина знала его координаты… рабочие. И ему оставила номер своего рабочего телефона. Чтоб объединить координаты во времени и пространстве, надо будет созвониться.
Интересно. Кто проявит инициативу первый?
Он не экспериментировал. Он не учёный. Практический врач. Захотелось — и позвонил. «Здравствуйте, Арина». «Здравствуйте, здравствуйте. А я вам и сама собралась позвонить». Вот был бы учёный, дождался бы звонка. Узнал бы, что она хочет. А так, когда ещё станет ясно. А она понравилась ему. Сказать, что он почувствовал душевное… ну, или, скажем, духовное сродство, пожалуй, рановато. Но нечто притягательное в ней, он почувствовал. Да! Она была любезна его душе. Духовное! — это сейчас все говорят о духовном. Правда, больше пишут в газетах. И без уверенности, будто знают, что это такое. А вот прилепиться бы душой. Ефим Борисович в поиске. Может, всё-таки, учёный? «Ариночка, что делать-то будем?» «А именно? Как понять вопрос?» «Сказали, что и поближе найдёте». «Не поняла». «Я сказал, хоть на край света, а вы посулили, будто и поближе найдёте. Нашли?» Смеется. Не знает, как понять. Да нет же, — не знает, что ответить. Ещё и себя, скорее всего, не знает. Смех дело хорошее — помогает подумать. Прежде, чем ответить. Это, как врач, который, посмотрев больного, и, ещё не зная, что сказать, долго смотрит на часы, то ли считая пульс, то ли делая вид, а сам мысли собирает, слова подбирает. Арина спасительно смеется — собирает, подбирает. «Сядем в машину и подумаем, что искать». «Прекрасно. И что прикажете? А?» «А пока приезжайте к нам в дом. Вы уже закончили рабочий день?» «На сегодня завершил». «А я ещё должна трудиться на ниве безделья. Время и подойдёт. Идёт?» «Желание дамы — закон».
Они уже подъезжали к её дому, когда она внезапно остановила машину: «А вы знаете, Ефим Борисович, я вас ещё в больнице много раз видела. Подойти боялась. Супермен. Я люблю вас, Ефим Борисович».
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
Несколько дней прошло. Они лежали на диване у неё дома. Курили, передавая сигарету друг другу. Он при этом пускал кольца над собой, а она в свою очередь старалась струйкой дыма пронзить кольцо. Ничего не получалось из этого эротического символа. Как только струйка дыма догоняла кольцо, оно от дуновения распадалось. Занимались они этим уже не одну сигарету, но каждый раз — одной сигаретой. Очередная кончилась и он, смяв её в стоящей на полу пепельнице, также в очередной раз повернулся к Арине, обнял, и… «Может, хватит, Фима. Передохнём. Зачем нам этот марафон? Ведь на самом-то деле все разы после хорошего раза просто спорт». Вот этим она ему и нравилась. Не выпендривалась. Говорила, почти, как думала. Хоть ещё и не показатель душевного родства, но уже, как говорится, что-то на фоне ничего.
Конечно, это не Дина. Такой близости и понимания с Ариной он не чувствовал. Он не чувствовал, будто изменяет Дине. Он не изменял, не предавал, не стал к ней относиться хуже. Он любил Дину. А это что ж? Вот тебе и любимое его «А?». И всё же, что-то притягивало его к Арине больше, чем обычное его блядство. Как-то всё вокруг посветлело. Он хотел от неё дочку. Вот судьба! Опоздала. Надо обуздать свои праведные, неправильные страсти .
И поэтому, но пока шло всё безоблачно в этой сфере бытия. Ещё не клюнул его, как это говорят, жареный петух в жопу. Для себя он вывел формулу, что на 20–30–50 — это уж как повезёт — эпизодов блядства должна быть одна настоящая любовь. А при переборе дождётся и несчастной любви. Ох, и не накликай себе, батенька. Несчастная любовь, это… Ну, ладно. Посмотрим. Что во что выльется.
Они ещё долго встречались. Это, может быть, самый затяжной из всех его амбулаторных эпизодов.
А потом Арина внезапно исчезла. Ушла с работы. Сестра её ещё приходила к нему для осмотра. Она и сказало, что Арина вышла замуж, живёт где-то в Прибалтике, родила девочку. А потом и сестра уехала, и все следы утерялись.
* * *
Он уже снял халат, потянулся и решил, напоследок, перед уходом покурить в спокойной обстановке и в покойной позе. Сел в кресло, вытянул ноги, засунув их под стол, откинул на спинку голову, руки заложил за неё, гнутая трубка свисала из правого угла рта и равномерно, ритмично попыхивала. Впечатление, что она самостоятельно дым выталкивала из чубука. Сам Ефим Борисович не двигался, и только выдувающийся дым из левого угла рта показывал, кто хозяин и главный виновник, и пользователь этого внезапного кайфа.
Трубка дело долгое — это не минутная сигаретка. Выкурив трубку, можно вдосталь насладиться покоем. Что он и делал, и, пыхтя, планировал остаток дня. Илана звала в театр и даже уже билеты купила. До театра ещё много времени — и он планировал. Но недаром острословы говорят, что, если хочешь рассмешить Бога, скажи ему свои планы.
Но можно ли наслаждаться покоем, когда душа бурлит думами о своей любви. Лишь во время работы — за операционным столом, у постели больного, при разговорах с коллегами — он отвлекался от своего основного занятия последних месяцев: думать об Илане, заготавливать беседы с ней, представлять, что она будет говорить, вспоминать, что она уже говорила, представлять снова и снова, как она идет, бежит, говорит, воображать её мысли и представления её о жизни. Боже мой! Что только сейчас он ей не говорил, что только сейчас он не слышал от неё! Собственно, и закурил он сейчас в покойном кресле, чтобы спокойно, вот именно, так, как и всё это крутится в голове, крутилось снова. Он этого хотел, ждал и создал сейчас весь этот призрачный мир, в котором и жил. Уже, наверное, минут десять. И не хотел вставать прерывать эти счастливые минуты радостных воспоминаний и надежд. Он конструировал и конструировал очередную встречу, очередное свидание, разговоры, объятия, свои удачные «мо», её великолепные реплики. Их, как теперь бы сказали, воображаемые встречи. Театр одного зрителя, где он всё: автор, режиссёр, актеры — два актёра — и сам зритель.
Илана ещё не скоро должна позвонить или прямо придти, благо у неё есть ключ от его дома.
Планы! Покой!
Телефонный звонок. «Может не брать? Сейчас отвлекут, придумают занятие, ещё… А нам в театр. Да мало ли что!» Нет — привычка, выработанная десятилетиями работы хирурга в доиланино время, заставила его ответить на звонок. Да и, в конце концов, позвонят на мобильник. И тогда уж не сможет… Не имеет душевного права отвертеться.
— Слушаю.
— Ефим Борисович! Это я…
— Иланочка! Какая радость. Счастье моё, незапланированная радость, преждевременная радость…
— Подождите, Ефим Борисович. Я с делом. У соседки какие-то страшные боли в животе. Не пойму, ни на что не похоже. Можно приехать?
— Господи! Ты же знаешь. Особенно тебе. Всегда, Живот так живот. Больная, так больная. Всегда. А уж ты…
— Хорошо! Выезжаю. Потом доскажете.
Засмеялся. Счастливо засмеялся и положил трубку.
Ещё рано, но он уже занял пост у окна. Ждёт. Не больную. Илану. Больная — это будни. Илана — праздник. Ждёт!
Она, видно, подъехала с другой стороны. Он вперился в окно и не слышал, как она вошла.
— Ефим Борисович! Мы приехали. — Он развернулся от окна к двери с сияющим лицом, будто труба архангела его призвала к … В общем, со счастливым лицом. — Вот. Я привезла нашу страдалицу.
Пожилая дама. Южанка. С Кавказа, наверное. На лице страдание. Видно, терпит.
— Давно болит?
— С утра. У меня, доктор, аневризма. На УЗИ видели ещё два года назад.
— И что говорили?
— Предлагали оперировать. Операция сказали большая. А я одна живу. Вызывать родственников. Это только, когда уж край. А срочности, сказали, нет.
— Сколько прошло, как… Ладно. Прилягте. Покажите живот.
«Не дай Бог разрыв, расслаивание… Что-нибудь с аортой. Тогда надолго. Тогда всё сомнительно. А Илана… Я ж хотел… Ну, Илана… Илана… Да тут же разрыв. Прощупывается. Пульсирует».
— Илана Владимировна, подайте, пожалуйста, трубку. Вон на столе. Надо послушать. Ага… Да. Она. Спасибо.
«Шумит. Разрыв». Собственно, слушать тут уже нечего. Всё ясно. Лицедействует с трубкой, чтобы было время подумать, что говорить и кому. «Илане-то, что ждать. Это надолго. Пусть идёт. Всё. Сорвалось. Что сорвалось-то?.. Всего лишь театр».
— Как вас зовут?
— Ашхен Кареновна.
— Ашхен Кареновна, нужна операция. И срочная. Немедленная.
— Мне надо позвонить родственникам. Может, приедут. Я же здесь одна.
— Ждать нельзя. Речь идёт о часах.
— Ашхеночка! Давай телефон. Я позвоню. Скажу. Ефим Борисович скажет, что у вас. Я всё сделаю. Не волнуйтесь.
— Мне ж надо что-то взять дома. Я так не могу.
— Нельзя ждать ни часу… Вы договоритесь с Иланой Владимировной, а я пойду за анестезиологом и в операционную. Надо подготовить. Договорились?
— Это так неожиданно. Я, право… Ну, если вы…
— Всё. Я пошёл. А вы… Илана, можно вас на минутку.
Они вышли за дверь.
— Иди с ней договаривайся. Ты понимаешь, что значит разрыв аорты? Чудо, что она жива. Видно гематома придавила разрыв. В любую минуту может плюнуть и мгновенная смерть. Оперировать надо тотчас.
— А можно мне остаться посмотреть?
— Ты ж понимаешь, это очень долгая операция. Надолго. У тебя театр. Возьми кого-нибудь.
— Мне интересно. Ты будешь оперировать? На чёрта мне театр без тебя.
— Разумеется, оставайся. Тем более что опять ты обрадовала меня тыканьем. Когда же это станет обыденным?
«Ты! Нужна какая-то экстремальная ситуация, чтобы услышать от неё — ты. Пусть смотрит. Но ведь всё может случиться. Я хочу, чтоб она была… Или…»
Когда он вскрыл живот… «Громадная гематома… Разрыв, по-видимому, ниже почечных… Слава Богу. Удалось подойти и пережать аорту выше… Кровопотеря — не меньше двух литров… Анестезиологи переливают кровь… Убрал гематому… Вот разрыв… Аневризма вся ниже почечных артерий… Можно пришить протез… Протез уже приготовили. Все артерии вокруг перекрыты. Кровотечения сейчас нет… Теперь выделить её хорошо… Давление держит… Больная стабильна… Рассёкаю по аневризме… Разумеется, склероз. Стенки изъедены склерозом… Тромб. Убрал тромбы… Протез вшивать морока. Шить, шить. Мелкие стежки. Один к одному, один к одному… Сверху сшито… Теперь ниже… Хорошо, что аневризма не переходит на артерии ниже… Шить только внизу и вверху… Всё равно долго… Вшито… Теперь кровь пустим снизу. От ног… Здесь маленькая струйка. Ещё подошьём. Один стежок… Хорошо… Шариком придержать, подождать… Так. Всё… Пустим.
Кровь сверху Хорошо… Шариком чуть ещё… Здесь шить не надо». — Она как?
— Стабильна, Ефим Борисович. Зашивайте.
— Больно быстры. Тут ещё туалет сделать. Брюшину залатать. И ещё подождать с шариком. Пульсирует хорошо. Красиво, а? Илана Владимировна, вы как? Всё нормально? Выдержали все четыре часа?
— Нормально, нормально, Ефим Борисович. Слава Богу. Всё хорошо. Я подожду вас? Ладно?
Кожу зашивали без него.
«Хорошо, что удалось. Это ведь не часто. При разрыве-то аорты. Успели. Хорошо, что сама привезла, сразу. Молодец. Хотя риск. Она у неё в машине умереть могла. Бедная девочка! Каково бы ей было! Даже представить страшно. Молодец. Радость моя. И я себя показал. А могло всё на столе случиться. Крованула бы — и ничего б не успели. На столе-то законно, а вот в машине. Сказали бы, почему „скорую“ не вызвали. Бог помог. Илане. Ашхен этой. Да и мне помог — себя показал».
— Ну, как, Иланочка?
— Выдержала-то, выдержала. А ты?
— Я готов беспрерывно оперировать при тебе, лишь бы мне говорила «ты».
— Всё ж это такой прекрасный спектакль — эта ваша слаженная работа. Вот это театр.
— А всё это стало возможным, потому что появились такие нитки, новая аппаратура. Личности не нужны — технология правит бал. Это не я — это цивилизация.
— Личности нужны. Мне нужна такая личность, как вы.
— Опять — вы. Ты, ты — хочу.
— Я привыкну. Всё будет. А?
— Вот и ты стала акать. И впрямь привыкаешь.
— Ведь не личности исчезают, а исчезает необходимость в них. И не только в медицине. В политике тоже. Ведь не нужен нам лидер в стране, а хороший грамотный чиновник, менеджер. Во Франции какой-нибудь Ширак или кто другой — значения не имеют. Надо, чтоб исчезла необходимость в личностях.
— Чего это, детка, тебя потянуло на такие политические обобщения?
— Пока вы там играли в кровавые игры, я позвонила родственникам Ашхен. И задумалась над национальными проблемами. Неохота пересказывать, но вот что пришло в голову. Откуда у нас так попёр национализм, называемый нынче патриотизмом. Ведь во власти сейчас много, слишком много стало народу. Может, не во власти, а в чиновничьем аппарате, что и создает власть. Ведь большинство малообразованных, да и вообще, в толпе их всегда большинство. Малообразованному легче понять, что ближе лежит. Национальное ему понятнее, чем общемировое. Над остальным надо думать. А думать надо хотеть и уметь. Он и хватает, что близко лежит. Как мелкий вор, шаромыжник. Вот и находят дорогу к храму — геростратову дорогу.
— Ты моя умница, любимая. Давай посмотрим твою Ашхен и поедем. Ты куда? Ко мне можешь?
— Я сказала, что останусь в больнице.
— Господи, счастье какое! До утра значит у меня.
— А вы чего-нибудь ели? А то я купила ещё днём. Думала до театра что-нибудь приготовить. Я совсем вас запустила.
— Спасибо, родненькая. Я поел. Всё в порядке…
— В порядке! А я на что? Я же люблю вас. Не хочу, чтоб вы были несчастным… Он не дал ей договорить — прервал поцелуем. Привычно и понятно.
— Когда кого-нибудь любишь, нельзя быть несчастным. Даже, если и без должного ответа.
— Должного! Нашёл слово.
— Вот и опять «на ты». Может, дождусь полноценного «ты»!
Дома они никуда не торопились. Спокойно легли в постель. Не бросались быстрей исполнить радостный урок. Они спокойно разговаривали, переживали вечернее приключение. Говорили мимоходом о личностях, о национализме, но главное было не это. Главное их ещё ждало. Всю эту мелочевку они вскоре отбросили, потому что ничего важнее и серьёзнее любви в мире живых нет.
* * *
Дина, в отличие от Фимы, была спортивна и, может, более современна в смысле лыж, тенниса, кофе, острой пищи, турпоходов. Интеллектуальная сторона жизни была у них, как говорится, адекватна. По выходным дням Дина порой ездила с их общими друзьями то на лыжные прогулки зимой, то летом уходила в походы по Подмосковью. Слава Богу, походы на байдарках их семью миновали. Один из сыновей тоже пошёл по маминому пути, радуясь загородным потехам, второй же предпочитал утехи городские.
Однажды Дина поехала на очередную лыжную прогулку. Ефим же отдавался плотским радостям в городе. Вечером Дины не было, хотя по всем прошлым её прогулкам, она должна бы быть дома. Сначала он считал, что Дина где-то со всей компанией отогревается. Но вскоре его стало одолевать беспокойство. Исходя из правил своей жизни, он думал не больно праведно о сегодняшнем досуге своей жены. Беспокойство носило раздражительный, негативный характер. Потом… «Потом» не успело — позвонили её друзья из загородной больницы. Дина, летя с горки, сломала палку и поранила живот её обломком. Её сейчас оперируют. С ранением кишки справляются, а вот разорванную артерию они пережали инструментами и просят помощи. Ефим позвонил своему товарищу, Геннадию Петровичу, тоже сосудистому хирургу, к тому же с машиной, и они ринулись на помощь…
Кому!? Хирургам? Дине?
Там уже заканчивали работу с кишкой. Разорванную убрали. Они подъехали, как раз когда надо было что-то делать с нарушенной артерией. Ефим Борисович с Геннадием Петровичем заехали в институт и захватили нитки, инструменты, протезы — всё, что может понадобиться при сосудистых ранениях. Геннадия сразу же позвали в операционную, а Ефим не решился. Да его бы и не пустили. Эта картина, эти действия не для близкого человека. Он-то знал, с чем там можно встретиться.
Геннадий вышел приблизительно через два часа. Ефим сидел в ординаторской и только дымил своей трубкой. Местные врачи пытались отвлечь его разговорами, и он что-то им отвечал, по-видимому, не всегда впопад. Разумеется, даже курьёзные непопадания при ответе у врачей улыбок не вызывали. Все всё понимали, и их пустая болтовня была порой и не всегда удачна — просто вынужденная, немного назойливая, а то и неуместная деликатность. В такой ситуации трудно бывает найти правильную линию поведения, особенно людям, доселе незнакомым.
«Фима… Что я тебе могу сказать? Мы всё сделали. Они убрали немного, не более метра кишки. Я наложил протез на подвздошную артерию. Дефект был сантиметра три. Понимаешь, всё это-то получилось… Но… Она потеряла много крови. Они восполнили, но кровь не сворачивается». «Что, Ген? ДВС?» «Ну. Они всю свою кровь использовали. Уже из ближайших больниц кровь привезли. У ней же четвёртая группа. Редкая». «Ген, у меня тоже четвёртая. Ребята! — это он к местным докторам, — у меня тоже четвёртая. У меня берите». «Фим, у тебя же гепатит был. У тебя нельзя». «Ты с ума сошёл! ДВС! Она умирает. Заражу, что ли? Спасать надо. Ге-ена! Спасать давай».
Местные врачи почесали затылки — по закону нельзя. Но какие законы, когда умирает человек. Тогда считали, что «тёплая» кровь — прямо от донора непосредственно больному может помочь при несвёртываемости крови.
Дина лежала на операционном столе. Ефима тоже хотели уложить рядом на каталке, но он отказался и сидел рядом, в кресле. Кровь у него из вены брали шприцами и через систему капельницы вливали Дине. В какой-то момент казалось, что эффект от его крови был. Время свёртываемости несколько стало снижаться. Её перевели в отдельную палату в реанимационном отделении. Ефиму, как доктору, разрешили быть с ней.
Он до утра от неё не отходил. Сидел рядом, то проверял дренажи, то с капельницей возился. Всё это могли делать сёстры, но ему хотелось приложить максимум своих усилий. Он прекрасно понимал ситуацию, но никак не хотел примириться с нарастающей неизбежностью. В результате тяжёлой травмы, большой кровопотери, шока развились необратимые изменения различных органов. Полиорганная недостаточность.
«Господи! Сколько красивых звучаний придумали в медицине… Красивые слова — слабое утешение. Совсем не утешение. В начале было слово — слова и в конце. Слово было у Бога, к нему и возвращается». — Эта малоосмысленная словесная окрошка крутилась у Ефима в мозгу, временами он что-то выбалтывал вслух, но от Дины не уходил. На следующий день приехала подруга Дины и хотела сменить Ефима. Предложила ему поехать отдохнуть, или, хотя бы здесь у заведующего отделением, что и так предлагал ему хозяин кабинета. Не больно куртуазно он отверг добрые предложения подруги. Разумеется, она не обиделась, видя его состояние. Ефим сказал: «Идите! Идите все. Перебьюсь. Я останусь с Диной до конца. Не видите что ли!?»
Дина, по-видимому, была без сознания. Во всяком случае, она была безучастна, ни на что не реагировала. Вполне возможно, но не обязательно. Ефим считал, что она без сознания. Он бормотал нечто вроде каких-то заклинаний: «Диночка, родненькая! Помоги же! Помоги мне. Ты должна выздороветь. Кто за мной, стариком, будет ухаживать? Я же старше тебя. Я эгоист — выздоравливай. Диночка! Я покормлю тебя. Сейчас зонд поставлю…»
Ну, какой зонд, Ефим Борисович! Уже не нужно ее кормить. Уже всё бесполезно. Ты же должен понимать…
Он понимал, потому и нёс всё это, будучи и сам в полубессознательном состоянии. То он целовал ей руки, лежавшие поверх одеяла, то бормотал что-то невразумительное, обращаясь к застывшей Дине, то что-то делал с дренажами… И вдруг Дина сказала: «Прекрати говорить пошлости». Он обернулся. Нет, это сквозь сознание. Это не осмысленно. Очень даже осмысленно, хоть и не осознано. Он проверил рефлексы. Нет — кома. Какой-то мистический прорыв сознания.
Больше она уже ничего не говорила. Не дождались. Это были её последние слова.
Кого винить? Кого, кому?.. Да, прежде всего себя. Это ж всегда легче. Себя обвинять красиво и легко. А все при этом благородно объясняют и обеляют берущего на себя тяжести укоров и упреков. Долго ещё Ефим Борисович каялся и маялся, пока не оклемавшись, вновь подался к прежней жизни.
* * *
Sic transit, как говорится. Жизнь продолжается и всё потекло по прежнему руслу. Только Дины нет. Осталось её бессмертие в виде двух сыновей. Только бессмертие это тоже ушло, уехало, улетело от него в другие страны и находится сейчас в другом мире. На Западе — не в смысле географии, а в смысле образа существования. И бессмертие Ефима Борисовича вместе с Дининым где-то там. Его образ существования, вполне…
* * *
Ефим Борисович сел на диван. Спать то ли не хотел, то ли не мог. Раскрыл книгу. Минут пять он водил глазами по строчкам. «Господи! А что я читаю? Что, хоть за книга? Я ж читал… и не читал. Мозги набекрень». Он отложил книгу и решил попить чайку. Пока он возился с чайником, чашкой, делая всё это механически, как перед этим читал книжку, в голове строились невыполнимые мечтания. «Илана… Я… Наверное… Хорошо бы…» Он себе и в мечтах даже боялся договорить, домечтать до точки. И слава Б-гу, судьба не позволила довести несбыточное до осмысленных слов: Раздался телефонный звонок. И холодок, холодок… Это значит она. Брюхом чувствует. Ещё совсем недавно ночные телефонные звонки звали его в больницу. Ещё недавно в ответ на ночной телефонный звонок в нём поднималась тщеславная волна, доказывающая нужность, необходимость его миру. Это его в собственных глазах поднимало до уровня демиурга, казалось, что и со стороны на него смотрят, как на супермена. Это облегчало и его общение с женщинами. И они чувствовали эту его уверенность в своей необходимости. Они всегда чувствовали. Сейчас лишь Илана поддерживала в нём уверенность в себе. Он оперировал меньше. Звали его, когда нужно лишь посоветоваться или прикрыться его именем, спрятаться за его спину. В руках его уже не нуждались. Может, от того что окрепли руки и головы его младшеньких? Может, от того, что его ослабли? Услышав звонок, он бросил отвлекающую возню с чаем и кинулся к телефону.
Как сказать? Что он ждал и что получил. Радость или разочарование. На каких весах измерять сии понятии. Это всё равно, что измерять боль.
— Да! Слушаю.
— Это я. Вы как?
— Иланочка. Счастье моё! Спасибо, что позвонила. А я… Приедешь? А?
— Дочка уснула. Могла бы, конечно. Спать не хочется. Но подожду дочку включать в мои заботы.
— Так она же спит.
Илана смеется:
— Она не маленькая. А если проснётся?
— Скажешь, что в больницу вызвали.
— Меня не вызывают. Это ваша жизнь.
— Да. Была.
— Что была?
— Это я так. Приезжай. А?
— Скоро уже вставать. Скоро на работу. Отдыхайте. Я люблю вас. Очень.
— Познакомь меня с дочкой. А?
— Ещё рано. Не время.
Знакомый, привычный, и уже ставший любимым, холодок отошёл — не приедет.
А Илана:
Илана положила трубку.
— Мама. Ты чего?
— Что чего?
— С кем говорила? Что случилось?
— Ничего не случилось. Спи.
— А с кем? Ночью.
— Успокойся. Доченька. С Ефимом Борисовичем. Спи.
— Ты же у него была сегодня.
— Он плохо себя чувствует.
— А что ты по телефону можешь?
— Если что — отвезу его к себе в больницу. Не вникай, доченька. И без тебя…
— Ты что! Я не понимаю тебя…
— Полюбишь — поймёшь.
— Ты что, мам!? А я?…
— Всё. Закончим разговор. Я же не бросаю. Всё остаётся на месте.
— Мамочка… Мам, а расскажи мне про папу. Мне же надо знать. Я уже не маленькая.
— Всё, всё, родненькая. Ты права. Но не сейчас. Я ещё не готова говорить про это.
А Ефим Борисович, положив телефон, уставился в окно, продолжая воображать, что вот опять приедет девочка его, и они спокойно полежат. Или не спокойно. Это как получится. Лишь бы приехала. Лишь бы снова видеть её рядом. Можно даже молчать. Можно рядом сидеть. Можно напротив, чтобы смотреть на неё. А можно лежать рядом, ощущая тепло её тела. А можно… А вот и выясняется, что когда любишь, выходит, что не это главное.
Он сидел на диване, глядя то в окно, то на телефон.
Ну, что он ждал?! Не жди, дорогой. Живи минутой, если эта минута счастья. Мы же не знаем, чем повернётся к нам судьба завтра. Ведь сам знаешь, как в жизни бывает. Лучше и не вспоминать.
А сейчас любовь. Любовь — это когда никакой политики в отношениях. Когда не действует, не имеет никакого значения каноническая, но реалистическая шутка: «Чем меньше женщину мы больше, тем больше меньше она нас». Шутка, пошлость, а если подумать, то, вовсе и не шутка, а закон взаимоотношения полов. Глупость какая — не полов, а вообще людей. Политика? Дипломатия? А любовь … — да никогда. Пришла Илана да и сказала, что любит. И он так её превозносит, стелется… И никто из них не думал о необходимости соблюдать какие-то правила. Они любили. Любовь — это стихия, игра… жизнь без правил. Любовь — гибрид… нет, смесь эгоизма и жертвенности. Где-то там, в заоблачных высотах, Что-то регулирует любовь. Да нам какое дело! Мы любим и нам не до высот!
* * *
«Ефим, шеф вызывает». Чего это? Всё вроде нормально. Последние операции без осложнений. Конфликтов, жалоб нет. Может, кто лечь должен? «Алексей Васильевич, звали?» «Да, Ефим. Какого рожна ты ни черта не делаешь? Бездельничаешь. Сколько ты получаешь?» «Почему бездельничаю? У меня последние дни по несколько операций ежедневно. А получаю ставку и за дежурства». «Это и есть безделье. Бедность и безделье. Сделаешь операцию и домой. А там что? Гульба? Хватай же момент. Разве можно жить только на зарплату твою?» «Алексей Васильевич. Я с больных денег не беру. Коньяки только носят». «Да я не об этом. Голова на плечах есть. Эрудиции достаточно. В консерваторию таскаешься. Нельзя только рукодействием заниматься. Я, вовсе не предлагаю тебе деньги брать. Возьмёшь и получишь по репе. Деньги надо брать законным путём». «Я, как и Остап Бендер, уголовный кодекс чту». «Мне ваш Бендер до лампочки. Вы, всё ваше поколение в нем по самые яйца. Причём тут уголовный кодекс? Если больной принёс деньги после, без договоренности и вымогательства, это больше не кодекс грызёт вас, а устав партии. Смеюсь. Не брал и не бери. Да ты садись. Чего переминаешься? В сортир что ли надо?» «Спешу, Алексей Васильевич. У меня ещё сегодня операция». «Милый, одними операциями у нас сыт не будешь. Мозги надо тренировать. О диссертации пора подумать. Ты хоть и городской врач, к кафедре отношения не имеешь, но бездельничать всё ж негоже». «Да на что мне диссертация? Работа длительная с очень низким КПД. Да и на десять рублей только больше. А то, что в диссертации надо размазывать не менее, чем на двухстах страницах, всё можно уложить в статье, не больше десяти страниц. Я уже сделал». «Да, ладно тебе. Ну, таковы правила игры. И работа приучает к аналитическому мышлению. А насчёт КПД, то если даешь согласие на диссертацию, я тебя завтра переведу в ассистенты кафедры. При твоих ста десяти эта сотня стоит КПД. Тем более, что статьи у тебя есть. Тему возьми по этим твоим работам». «Алексей Васильевич, я по-прежнему против диссертации. Но, как сказал Генрих Наварский: Париж стоит мессы. Забудем про КПД. А меня в ассистенты пропустят?» «Ну вот! Я ж говорил, эрудиция для соискателя достаточная. — Шеф засмеялся. — Я сегодня иду к ректору. Вроде лицензии на отстрел евреев отменили. Пропустят. Я же раньше молчал».
Игривость шефа, по-видимому, была связана именно с еврейскими проблемами. Ему самому, выходцу из дворянской среды, эта ситуация неудобна и неприятна. Так расценил Ефим слова и ужимки шефа, обычно более величаво разговаривавшего со своими помощниками по кафедре, да и со всеми врачами больницы.
Короче, надо, пожалуй, начинать работать над диссертацией. А вообще-то, без диссертаций, этих кропаний статей и прочего, жизнь, не в пример, вольготнее. Но ведь, действительно, стоит.
Клинический материал у него уже кое-какой накопился. Значит, прежде всего, надо заняться литературой. Всё это какой-то бред. Нужная литература для дела ему известна, статьи упомянуты, рефераты есть. Но для обзора надо капать всё, что к проблеме близко, а заодно и что дальше тоже. И это называлось умением работать с научным материалом.
Ефим уже заранее ненавидел эту работу, потому что делать ее надо исключительно из-за денег. А желание сбросить этот камень с тела и выбросить грязь сию из души заставило его выкинуть боевой вымпел, забить в тамтамы, выйти на тропу войны, то есть пойти в Ленинку и начать поиск всего, что давно найдено. По дороге он вспомнил шутку: основная задача молодого учёного убедить жену, что Ленинка работает круглосуточно.
Подбирать материал по журналам работа нудная, и потому, чтобы разогреть себя, почувствовать желание обратиться к научному печатному слову, он брал какую-нибудь интересную книгу и, лишь почитав, войдя в библиотечную ауру, переходил к журнальным поискам. И опять по косвенной аналогии вновь вспомнил ерунду: Эдуард П Английский, будучи гомосексуалистом, страдал от отсутствия наследника, поскольку от монарха требовалось продолжения династии. Для нужд престолонаследия он в постель укладывал с одной стороны любовника, с другой жену. Разогревшись на предмете страсти, он в последний момент успевал перекинуться и забросить свои хромосомы в лоно носительницы надежд державы.
Больше месяца длилась эта тягомотина с ненужной литературой. Набрав достаточно, он сел за стол и начал писать.
Статья им была уже написана и даже опубликована ещё до предложения шефа. Все карточки для «литобзора и клинические данные» он расклеил по большой чертежной доске и поставил её перед глазами на краю стола, прислонив к стене. Готовился. И время тянул. Хотел или не хотел, но всячески оттягивал начало — первые буквы, слова, фразы своего будущего фундаментального, бессмертного труда.
И вновь, чтобы разогнаться в библиотеке, он брал книги. Дома брать их боялся — это могло стать неостановимым процессом чтения. Время писать — время читать. Время камни собирать. Бумага, ручка… И… Стал вспоминать случаи, больных достойных его диссертации, но в голову приходили лишь какие-то сюжеты из жизни дома, улицы, больницы… Почему-то он стал записывать их в виде рассказов. Увлёкся. Но расписавшись, он хватался за голову и насильно заставлял себя переходить на сухой язык науки — почему то считали, что в науке (во всяком случае, в медицине, будто она наука, а не гибрид ремесла и искусства) должен быть особый сленг, который больше производил впечатление квазинаучного. Он приводил «литматериал», «клинические данные» и прочую дребедень, никак не прибавляющую ничего к его предложению по пониманию и лечению интересующей коллег болезни… Так и на следующий день. И на следующий… и ещё…
Так и писал, то псевдонаучным полуканцелярским языком но с медицинским флером. То переходил на рассказики, вспоминая свою хирургическую жизнь и быт.
Получался странный график дня, жизни. Приходил он в больницу в восьмом часу. Короткий оббег своих больных. Потом утренняя пятиминутка, эдак на полчаса. Затем до двенадцати занятия со студентами, после которых перевязки, операции, записи историй болезней. В шесть уходил и упражнялся писаниями. В десять — гульба. А это уж как придётся.
Иногда он уходил раньше. В консерватории у него был контакт с билетёрами. За пять рублей его пропускали и он всегда сидел во втором амфитеатре у прохода. Контакт с Борисовичами. Не Рюриковичи иль Гедиминовичи, — совсем не княжеского рода были Борисовичи. И, кажется, даже не родственники. И ему также, несмотря на некую именную общность. Так он называл административный клан Большого Зала. Директор был, как и он, Ефим Борисович, заместитель его Марк Борисович, администратор Павел Борисович, а у входа Клара Борисовна. Борисовичи! И, разумеется, все не кривичи, не вятичи.
Однажды он пошёл днем на репетицию приехавшего дирижёра из Германии. Абендрот — в период Гитлера он жил у нас, в нашей стране. А нынче приехал в гости. Гастроли с Запада были редкими. Он давал один только концерт. Студентам консерватории, иным музыкантам и так разным пройдохам типа Ефима разрешено было присутствовать на его репетиции. Девятая симфония Бетховена. Абендрот дирижировал, временами прерываясь на какие-то замечания. Лишь один раз Ефим понял, что речь идет о призыве к немецкому духу. И действительно, они повторили совсем по-иному. Как это получается, Ефиму было не понять. Размышляя на эту тему и досадуя на свой недостаточно культурный уровень, он в гардеробе повстречал некую Веру, свою давнюю знакомую ещё по студенческим временам. Она тогда училась на филфаке в университете, а сейчас считалась писательницей. Считалась, так про себя сказал Ефим, потому что сам он ничего не читал и не слыхал даже о каких-либо её публикациях. Что тоже попенял своему уровню эрудиции. Тем не менее, он заговорил с филологиней об озадачившей его поправке Абендрота. Шли они домой пешком, благо она жила недалеко. У подъезда дома она предложила зайти на чашечку кофе. Жила она одна. С мужем развелась. А дочка была у бабушки. Ефим зашёл сзади, чтобы снять с неё пальто, и их долгий музыкальный разговор закончился тем, что помогая ей в борьбе с одеждой, он обнял и притянул её спиной к себе. Автоматически — поза призывала. Она не стала возражать и, развернувшись нему лицом, подтянула его голову к себе и поцеловала. Ефим не стал отмахиваться. Нацеловавшись, они всё же решили и кофейку попить. Она поставила чашечки на маленький столик перед тахтой и двинулась в сторону кухни. Ефим взял ее за руку и подтянул к себе. «А кофе на потом. Не возражаешь?» Она засмеялась. «А что ты называешь „до потом“?» «Сейчас посмотрим. И в восторге беспредельном в светлый мы войдё-ё-ём чертог». «Бетховен тебя сильно одолел». Это она уже сказала лёжа поперек тахты рядом с ним. Он приподнял свитер. «Помнёшь, порвёшь всё». «Так сними». «Ты торопишься?» «Хочу кофе. Пусть быстрее будет потом». «Дай хоть постелю. Ковёр на тахте колется». Кофе они пили нагими, по-видимому, чувствуя себя таитянами. Но разговоры при этом были вполне цивилизованными и интеллектуальными. От музыки они перешли к науке, литературе. Ефим пожаловался на необходимость писать диссертацию и раскололся, сказал, что, скрашивая занудство научного творчества, пишет параллельно какие-то рассказики. Вера уговорила его почитать ей. Вроде бы, мэтр она для него. Писательница всё ж.
Работа над диссертацией несколько приостановилась, но потом он вошел в обычный график: приходил к Вере около десяти, что и шло по рубрике «гульба». Чтение рассказов перемежались более понятными занятиями. Понятными и, может быть, более приятными. Для кого и зачем? Жизнь покажет. Во всяком случае, Вера оценила его рассказы парочкой дежурных комплиментов.
Встречи продолжались, отвлекая от диссертации. Понятно — приятное дело предпочтительнее не больно любимой необходимости. Повышение зарплаты, то есть деньги, для Ефима никогда не были выше естественного природного удовольствия.
С Верой он встречался всё реже и реже. Так получилось. Ну уж не диссертация тому была причиной. Однажды вечером она ему позвонила. «Фима. Говорю из метро Арбатского, рядом с тобой, из медпункта. Мне стало плохо. По-моему внематочная. Вызывать скорую?» Ефим пошёл, побежал к ней. Досада и полное неверие в это. Не верил — и всё. Не верил, вспоминая её поведение. Но она даёт ему понять: причина он.
Пришёл. На внематочную непохоже. Живот мягкий. Когда щупаешь, говорит, что болит. Да не так, как при внематочной. Брать на себя ответственность побоялся и увёз к себе в больницу на такси. Там тоже отвергли её диагноз. Гинекологи нашли кисту и сказали, что лучше оперировать. Но не срочно.
Вера не хотела откладывать операцию в долгий ящик и осталась для плановой операции. Но категорически настаивала, чтоб оперировал Ефим. «Я так хочу. Имею же я право требовать в сложившейся ситуации». «Вера, но пойми, в конце концов, это не этично: мы стараемся не оперировать своих близких». «Был ты мне близкий. Сейчас можешь. Внематочной нет, а то был бы близкий. Я настаиваю. Всё-таки ты должен искупить и доказать, что ты…» «Ничего не понимаю. Что искупить? Что доказать?» «Доказать, что, по крайней мере, ты мне друг. В конце концов, если б не я, твои рассказы…» «Причём тут мои рассказы, домашние безделки». «Ты почувствовал себя человеком после моей оценки». «Бред… Причём…» Ефим не выдержал напора и сдался. Операция была назначена и внесена в график ближайшего времени. Пока Ефим обходил её палату стороной. Накануне операции она сама его нашла и вызвала на очередной разговор.
«Фима, мне уже достаточно лет. У меня есть дочь. Больше я ни при какой погоде рожать не хочу. Живу я одна. Прошу тебя во время операции перевязать мне трубы. Хватит с меня беременностей и абортов». «Ты сошла с ума. А если ты снова выйдешь замуж?» «И в этом счастливом случае о ребёнке и речи быть не может». «Но я такие вещи не имею права делать. Это, в конце концов, уголовщина». «А ты всегда делаешь только то, что имеешь право? А меня оставить ты имел право?» «Нет, нет, нет! Нельзя. Есть вещи, которые нельзя — и всё. Обратись к гинекологам. Приведи им какие-то доводы и пусть этим занимаются специалисты». «Нельзя! А то, что твоей неожиданной сексуальной агрессией ты сорвал мне весьма перспективный роман, это можно. Ты сломал сук, на котором я, казалось мне, прочно сидела. Извини, пожалуйста»! «Я не знаю, что тебе ответить. Вообще-то, я такой же агрессор, как и Израиль, начавший шестидневную войну». — У Ефима появилась реальная возможность сменить направление разговора. — Кстати, мы тоже с тобой встречались не больше шести раз. — И не воспользовался. Не сумел продолжить неожиданно возникшую тему. — «Вера! Уволь, Вера, уволь. Давай закончим этот разговор». «Неужели ты будешь такой неблагодарной скотиной. Такой же, как и все. Человеческий стандарт. По твоим рассказам я была о тебе иного мнения». «Причём тут рассказы?» «Притом, что всё в тебе на поверку, стало быть, фальшь. И твои объятия, и твои рассказы. Оказалось, что настоящие человеческие движения души для тебя недоступны. Я думала о тебе, как о близком мне по духу человеке. Гуманист херов». Вера повернулась и пошла. Ефим смотрел ей вслед и то ли увидел, то ли домыслил в её фигуре, в её походке столько горя и печали, что бросился вслед за ней. «Вера! Ладно. Я это сделаю. Но ты знай, что я иду на преступление и очень не хотелось бы, чтоб этом знал хоть кто-нибудь, кроме меня и тебя». «О чём ты говоришь?! Родной мой! Всё же ты человек».
Взяла парня на понт.
Операция прошла благополучно. Конечно, подтвердилось, что никакой внематочной там и не пахло. Кисту он удалил и, задурив голову помощнику, начинающему хирургу, сумел перевязать трубы, так, что он и не распознал это полупротивоправное действие. Вера через несколько дней выписалась… и исчезла. Сколько он ей не звонил, телефон молчал.
В конце концов, завершилась и диссертация. Спустя год после её окончания, Ефим обрёл степень кандидата наук, а с ней и долгожданное повышение зарплаты.
А через несколько лет… Телефонный звонок:
«Ефим, привет. Это Вера говорит». «Господи! Откуда ты? Куда ты пропала? Я тебе звонил после… И нет нигде». «Так уж я тебе нужна? У тебя же всё благополучно. И диссертацию защитил. Ты всё помнишь, Ефим?» «Ну. А что ты имеешь в виду?» «Фима, я вышла замуж». У Ефима в груди что-то ёкнуло. «Поздравляю. Рад за тебя. И кто ж твой избранник?» «Твой относительный коллега. Врач. Судебно-медицинский эксперт. Не в этом дело. Фима, я беременна». «Этого не может быть! А были ещё эпизоды без беременности?» «Мой муж хочет тебе задать пару вопросов». «Но мы ж…» «Передаю ему трубку».
Избранник Веры говорил чётко. Вопросы ставил по всем правилам судебно-медицинской экспертизы. Уточнял технику операции. Просил выслать ему выписку из истории болезни с протоколом операции. Ефим рассказал ему всю операцию, в том числе и то, что в протоколе не было.
А может, он записывал на магнитофон всё, что Ефим рассказывал, и это станет…
Беременности, правда, не оказалось и на этот раз. Как, в какую сторону всё это можно повернуть? И кому что в этой ситуации надо? Кто какую цель преследует? Что, главное ли желание Веры выйти замуж, желание ли мужа её иметь ребёнка, или, может, вообще, мстительные эмоции подруги юности суровой?
«Алексей Васильевич. У меня беда». — И Ефим рассказал шефу всю эту печальную уголовную историю.
«Как был дурак, так и остался, хоть и кандидат наук. Вот она твоя эрудиция. Не выше кандидата. Консервато-о-ория! Медициной надо заниматься, а не растрачиваться на… Вечно вы!.. Выписку не посылай. Сиди и не рыпайся. Если что-нибудь двинется, то и мы двинем тяжёлую артиллерию. Подумаем. Довела тебя твоя гульба, твоё блядство. Кандидат хренов».
Чего только не вспомнится, когда итоги подбиваешь. Забавная история в ряду одинаковых дней в работе и быте.
* * *
Ефиму очень нравилось, как Илана водит машину. Обычно он всегда предпочитал сам рулить, командовать машиной, ощущая себя каким-то вершителем. Машина ему подчинялась безоговорочно, и это тоже приподнимало его в собственных глазах. И он очень не любил у кого-то ехать пассажиром, неправедно чувствуя почему-то себя подчинённым, подчиняющимся, не самостоятельным. И всегда отказывался с кем-то ехать, если не он водитель. «Нет, нет. Лучше на моей», — говорил он, когда порой ситуация создавала подобную дилемму. Или: «Да нет. Лучше поеду следом на своей».
А сейчас, вот уже почти два месяца, мало того, что с удовольствием, но даже предпочитал сидеть рядом с Иланой и наслаждаться её умением управлять машиной, что их везла… Куда? Да куда угодно. Лишь бы вместе.
Ему нравилось, как она водила. Спокойно, уверенно, не нервничая, не ругая соседей по дороге. Правда, эта спокойная уверенность в езде и говорила, вроде бы, о скрытой жёсткости её характера. Так ему думалось. И он временами, глядя со своего пассажирского места на бегущую на него дорогу, прикидывал — где же ещё эта жёсткость может вылезти наружу? Жёсткость может взять любовь за горло. Не любовь возьмёт её за горло, но она любовь может победить. Жесткость — это порой и есть здравый смысл.
А потом отвлекался и вновь понимал, осознавал, хотел, чтобы всё нравилось — так душе комфортнее. Хотел — и ему нравилось… Да, да — ему всё нравилось, что бы она ни делала. Как шла, как бежала, как говорила, ела, пила, слушала музыку, разговаривала с больными, друзьями его, коллегами. Как говорила о своей работе. Даже, как она разговаривала с гаишниками, от бесед с которыми не гарантирован ни один водитель, выехавший на дорожные просторы, а вернее, попадая в машинную толчею на дорогах родного города. Как возражала его скептическим репликам старого, много нахлебавшегося в медицине врача.
— …Нет, деточка, медицина, особенно хирургия, не наука, а в хорошем смысле ремесло и искусство. И в этом её главная прелесть для нас, энтузиастов процесса поисков диагноза и ликвидации недугов.
— Вы определите, что такое наука. Ведь наука — это определённые закономерности, прежде всего. Что же в нашем деле нет определённых закономерностей?
— Закономерности есть и в кровельном деле, и у кузнецов или стеклодувов. У ремесленника есть также искусство. Когда надо что-то делать руками и когда некие удачи подсказывает интуиция. А интуиция — это не всегда осознанная, когда-то полученная информация.
— Осознание всякой информации и есть цели и задачи науки.
— Слава Б-гу, мы в медицине очень много умеем, очень многого достигли, очень многим можем помочь, но мы мало понимаем, что происходит в нас. Наука есть, но около медицины. Она расширяет наше понимание человека. Последнее, что должно узнать человечество: что он есть на самом деле. После этого узнавать будет больше нечего и жизнь погаснет. А? Ведь жить — значит узнавать. Страх смерти — это страх не узнать, что будет дальше. А?
Ефим засмеялся и подумал: как он многословен и как она великолепно лаконична. Он не был уверен в своей правоте, но так приятно вызывать её на ответы. Она сидит за рулём безо всякого видимого напряжения, не теряет цели маршрута и спокойно отвечает на его замысловатые пассажи.
— Вот мы и узнаем. А иначе на чёрта я пыжилась в аспирантуре, маялась с диссертацией?
— Если б только узнавали. Но от этих узнаваний мы, практические врачи, хирурги, получаем не столько хитроумные закономерности, сколько новые технологии, новые аппараты, новые методы и исследования, когда общение с больным становится не столь обязательным, а руки всё больше заменяются бездушной инструментальной придумкой.
— Значит, работать легче и результаты эффективней.
— Да, конечно. Но это уже не врачевание, а мединженерия. Может, для больных оно и лучше, но для нас, любителей поиска, меддетектива, ручного изыска при операциях, в этой жизни делать уже нечего. Личности не нужны. Аппараты. Аппараты. Узнавайте, узнавайте и ещё раз узнавайте, а мы так любили свою неосознанную информацию — она-то и определяет личность. Впрочем, всё так. Раньше убивали телом у тела, а сейчас всё больше и больше, не видя, не зная противника или даже врага, но точно в мозг или сердце. С глазу на глаз страшнее. И этот страх уходит…
Тут уж посмеялась Илана.
— От личностей мы натерпелись — нам закономерности нужны. Объективность. Остался лишь страх исчезновения узнавания. Всё. Попали в пробку. Передохнём.
Машина остановилась, Илана повернулась к нему и, плюя на соседние машины, из которых смотрели на них досужие участники движения, обняла его и поцеловала. Всё-таки губы не помягчели достаточно, но всё же не то, что было в первые дни.
Господи! Что ему эти дискуссии? Какая прелесть вот так ехать и в пробках целоваться. И больше ничего знать не надо. Объективность! — зачем в любви объективность!? Не надо нам объективности, когда глядишь на любимую, слушаешь любимую, трогаешь любимую. Объективность! — ведь, действительно, многие знания печаль умножают. И он ответил на её поцелуй, мельком подумав, что в соседних машинах усмехнутся, наверное, глядя, как сей пожилой джентльмен фривольничает с юной дамой. Про себя подумал уважительно: джентльмен. И дальше подумал, что плохо он делает, поскольку девочка пишет диссертацию, а он… То ли Фауст, то ли Мефистофель — разрушает цельную натуру. Добром не кончится. Но зато, сколько радости он получает, слушая в ответ её голос, мелодии её ответов, глядя на её профиль, устремлённый в сторону сегодняшней цели. На её губы шевелящиеся, когда она ему отвечала. «Зачем я так многословен? Меньше бы сам говорил, больше б слушал её, больше б видел и понимал её реакции. Не нужна мне ублюдочная объективность. Илана — чудо и знать ничего больше не хочу. И вообще, любовь и объективность несовместны». Он не рискнул её обнимать столь же наглядно, как это делала она, а снял руку с рычага скоростей и поцеловал, стараясь, чтоб поцелуй был на уровне дуновения теплого морского ветерка.
Душа, душа играла, когда он глядел, слушал, ждал её. Душа разборчива. Это плоть всеядна. А получается наоборот: Душа жаждет субъективности; плоть считает.
* * *
Оксану он знал много лет назад. В его ранние врачебные времена она была сестрой в соседнем отделении и училась в медицинском институте. Хороша была. Он тогда автоматически глаз на неё положил, но никогда никаких поползновений и попыток домогательства даже в мыслях его не возникали. А тут он вызвал врача из поликлиники, когда одолел его банальный грипп, но с температурой, и, «на тебе-здрасьте» — является участковая, лично товарищ Оксана. «Вальяжна и бельфамиста», в глазах огонь играет. Впрочем, может, ему это от температуры привиделось? Но глаз его тут же в ответ заиграл, руки раскрылись для объятий, ноги заходили ходуном: «Боже! Оксаночка! И к ногам такой красавицы я должен сложить все свои недуги?! А?» «За красавицу спасибо, Ефим Борисович. Все недуги не надо. Мне бы с вашим гриппом управиться. У вас грипп, да?» «Да, наверное, конечно. Но душе моей было бы комфортно, если б ты, Ксаночка, приложила все свои знания и умения для моего уврачевания. Ничего, что я по старой памяти, позволяю себе говорить тебе ты?» «Господи, Ефим Борисович! А как иначе?! Что вы такие церемонии развели? А уврачевать я вас готова». «Нынче без цирлих-манирлих никак не можно. И приложу все силы тебя очаровать». «Работайте. Только с чего вдруг? Всё можно было и тогда ещё». «Ксаночка, я сейчас не на работе, а тогда мы были солдатами одного полка. А сейчас, дома, когда я вижу столь очаровательную даму, рефлексы чаровничанья включаются автоматически». «Слыхали. Слыхали». «Я очень люблю женщин, вообще. Всех. Я всех хочу очаровать…» «И, наверное, обласкать?» «Ну, это, если удается… Это ещё не программа-максимум, но больше, чем программа-минимум».
«Ладно, Ефим Борисович. Всё-таки, что с вами? Что болит, что неможется?» «Ксаночка, родненькая, золотце моё, только от твоего вида и голоса, у меня уже всё прошло». «Судя по цвету лица, голосу, красным глазам и эйфории, температуру даже измерять не надо». Оксана приложила ко лбу его руку. Он тут же её перехватил и поднёс к губам своим для… Ну ясно чего для. Но не поцеловал: рот жаждал говорить, для чего губы шлёпать должны. «Как замечательно. Сразу видно настоящего доктора. Ни к аппаратам, а к телу и слову больного. Слово и тело!» В конце концов, вернее, в конце слов, он, изловчившись, руку всё же чмокнул. Некачественно — температура знать себя даёт. «Не надо, Ефим Борисович. Высокая температура. Я чувствую её». И она приложилась губами к его лбу. «Ты не боишься заразиться от меня?» «Боялась — не пошла бы в участковые». «Ну, в какой-то степени и это правда. Но это в лоб. А в губы если?» Оксана засмеялась: «И в губы не боюсь. При том другие страхи». «И страх и наслажденье». «И то…»Ефим Борисович двумя своим ладонями сжал голову её с боков и притянул к себе. Чуть задержался… Пауза движения. Сопротивления не почувствовал он, горячие губы его на своих почувствовала она. Нет сопротивления, стало быть, нет и возражения. Температура им не помешала. И сил хватило.
Она не заразилась.
……………………………
Через пару недель ехали они в машине. Он рулил, продолжая первоначальную игривость. Они за это время достаточно привыкли друг к другу. «Терапию твою нам, Ксаночка, необходимо продолжать. Возражения есть? А?» «Как ты мне надоел со своим вечным А. Ну, слова в простоте не скажешь». «Слова-то в простоте говорю. А ещё большая простота в деле. Слово и дело! — знаешь, что это значит?» «Слово и тело — вы сказали в прошлый раз». «Ну, и память. После слов этих я и подступил к телу. А вот при Алексей Михалыче Тишайшем ими предваряли заточенье в каземат. Сажали. Тишайший! — чтоб всё шито-крыто. А?» «Тьфу ты. Опять. Ну, и зачем мне это знать?»
«А затем, чтоб понимать вот эту херню, что развесили по улицам». «Чего это ты? О чём?» «Да вон, идиотские растяжки, лозунги. Ни уму, ни сердцу. „Медицинские работники! Повышайте обслуживание…“ Ну и дальше. Идиотизм. Вот, сейчас всё бросим, и начнём с тобой обслуживать. Так сказать: чего угодно, барин? Чего говна навешали!» «Чего это ты? Их же никто не замечает». «Вот именно. Раздражитель… Или вот, ещё какую-нибудь чепуху, вроде, народ и партия, что вместе и навсегда». Оксана рассмеялась: «Вместе навсегда — русский с китайцем, ну что-то в этом роде. Ничего себе чепуха, когда народ с партией едины. Вот так». «Это ж надо так народ принизить, чтоб считать, что он един с этой мафией, шайкой, кодлом…»
И на этих словах машина стала дёргаться, фыркать и… заглохла. Оксана опять рассмеялась: «Нельзя партию ругать. Уголовно-моральный их устав чтить требуется». «Устав… Устав от партии, машина и заглохла». Мрачно пробурчал Ефим и стал выходить из машины.
Ефим Борисович в машине ничего не понимал. В таких случаях он доталкивал машину вручную и вножную к тротуару, поднимал капот, склонялся над мотором и глубокомысленно смотрел на двигатель. Обязательно вскоре подходил кто-нибудь из проходящих доброхотов. Иные просто спрашивали. Иные, не успев выяснить проблему, сходу начинали давать советы, а наиболее продвинутые в делах технических поначалу интересовались, а уж потом… А уж потом начинали ковыряться и что-то делать. Тут важно во-время доброхота остановить до появления лишних деталей. Эти случаи, когда доброхот починит и вовремя остановится, идеальны. Но иногда приходилось машину тащить на веревке домой или к мастерам.
Вот и сейчас Ефим Борисович начал толкать машину. Оксана посильно помогала, стараясь не испачкать одежду, не сломать каблук, ну, и соблюдая все прочие необходимые осторожности. Подошёл милиционёр. «Ну, вот! Нашёл место испортиться. Давай. Давай быстрей с дороги. Толкай, толкай поактивней». Ефим напрягся — нога подвернулась и он упал. Естественно, экспрессивное ненормативное восклицание. «Что, Ефим? Очень больно?» «Что-то да. Думаю, что перелом». Милиционер, обеспокоенный ненормативной локализацией машины, что уже его касается впрямую, отреагировал адекватно. «Ну, уж, сразу перелом. Давай, давай. Вставай. Не положено здесь машине быть». «Я не могу. Я не встану». «Ефим, я помогу доскакать до тротуара. А что с машиной-то?» С помощью Оксаны Ефим Борисович поднялся и, облокотясь на неё, ойкая и охая, допрыгал до обочины. Ничего не поделаешь, и милиционер сам дотолкал машину к тротуару. Включившись столь активно в помощь, блюститель порядка открыл капот и что-то через пять минут восстановил. Машина заработала. Всё произошло так быстро, что ни один из доброхотов не успел и подойти. Никто совет не подал. Власть всё сделала сама. Довольный собой милиционер, в высшей степени доброжелательно, предложил вызвать «скорую». Ведь если кому удачно поможешь, то и лучше, добрее к нему относишься. И наоборот. «Не надо, товарищ начальник. Я сама довезу. Он доктор. Я к нему и отвезу. Так. Разрешите расплатиться». Оксана полезла в сумочку. «Не надо, не надо. Подумают, что взятку беру. Осторожненько. Права предъявите и с ними. Ага, ага. А вообще-то, зря. Травма ведь. Может, вам… Спасибо, спасибо… Помочь доехать?» «Да нет. Я вожу. Вы мне помогите его посадить в машину».
И как поётся: Скоро в сказках сказывается, да не скоро дело делается. Так то в сказках, а на деле, когда свой человек в больницу попадает, всё делается скоро и споро. Часа через два Ефим Борисович уже лежал в своём кабинете с загипсованной ногой. Дежурный травматолог помог его уложить на диван. «Ну, вот так, Ефим Борисович. Завтра придут заведующие и пусть они решают. Я бы операцию лучше сделал, чем долго с гипсом валандаться». «Я тоже так думаю. Но пусть они решают. Я ж понимаю, что значит связываться с докторами, особенно, со своими. Спасибо, ребята». «Сейчас ещё обезболим…» «Пока не надо. Пока ещё действует обезболивание. Доктор Оксана позовёт, когда понадобится. Спасибо». «Может, что поесть принести?» «Пока ничего не надо. Оксана скажет».
Травматолог ушёл. «Ксаночка, запри, пожалуйста, дверь, и помоги мне раздеться. Не лежать же мне в портках». Оксана стянула с него свитер. «А рубашку оставь. Главное освободиться от штанов. Смотри-ка и утку принесли». Оксана занялась брюками и не без труда стянула. Когда накладывали гипс, штанину завернули вместо того, чтобы снять. Видно постеснялись, да и ему было неловко сказать. «Может, и трусы с тебя стянуть?» «Если дверь заперла, то и это не лишнее. Думаешь, если перелом, так я уже и не соответствую кондициям?» «Совсем не думаю. Ты ж супермен. Даже если больно — будешь делать вид, что всё о, кей. Вот посмотрим, как действительно слово сочетается с делом». Оксана, смеясь, стала стаскивать и трусы. Очень быстро она убедилась, что слово с делом у него пока не расходилось. Диван узкий. Позу не подобрать. Она встала около дивана на колени и приникла лицом к центру его тяжести и мужества.
Скоро сказка сказывается, скоро и дело делается.
* * *
Как счастливо они жили! Как прекрасны постоянные ожидания. То он ждал ее приезда. То он ждал её звонка. Он ехал на работу и смотрел: вдруг увидит ее машину, вдруг она решит перед своей работой заехать к нему. А потом на работе — уже два часа, как она у себя в больнице: сейчас позвонит, сейчас позвонит — и звонила. И лишь услышит её голос, как некий обруч сваливался то с груди, то с головы. Точно он не локализовал, но что-то его отпускало. И он легко и свободно бежал по своим больным, в операционную. Какое счастье, что мир придумал мобильные телефоны. Только во время операции обрывалась их связь. Но после операции он тотчас возобновлял связь, так сказать, внешнюю. Ибо внутренняя связь не обрывалась ни во сне, ни во время операций. Да, во время операции он был сосредоточен на деле — на органах, что в это время занимали его голову и руки, на вытекающую кровь, требующую немедленной остановки. Работали все рефлексы, устоявшиеся за полстолетия стояния у этого стола. Но стоило отвернуться, стоило замереть, как отступали привычные автоматические рефлексы и душой, мозгом вновь властно завладевала Илана. Странно, операции, больные — а она не мешала. Он с ней мысленно говорил, воображая, что советуется с терапевтом. На самом деле эта любовь обостряла и его профессиональное мышление. Интересно, а было бы так же, если бы Илана оказалась, скажем, электронщиком, программистом, или… билетером в консерватории? Что обостряло, улучшало… и было ли это так на самом деле? Он так считал, ему было комфортно так и исполать ему.
А потом он приходил домой и опять ждал, ждал. Ждал сначала звонка. Потом ждал приезда. Либо стоял на балконе, либо стоял у окна. И ждал, ждал. О! Холодок, холодок метнулся на своё законное место — это машина выехала из-за угла. Вот она выходит из машины. На ходу, пультом, запирает двери и бежит к подъезду. Бежит, бежит! Осторожно, дорогая! Не беги! А при этом и одновременно: быстрей, быстрей — я же так давно жду тебя… может, всю жизнь…
И так почти каждый день. Какое счастье! Ефим Борисович просыпался рано и всегда вставал легко. Быстро под душ. Сначала горячий, потом холодный. И всё. И он в хорошем виде. И никакой зарядки. Он уже заряжен. Сколь прекрасна смена температур. Климата. Условий существования. Смена… Нет, нет! Больше он ничего не хотел менять. Сейчас он страшился перемен, холил и лелеял павшую на него стабильность.
Да и сегодня, как всегда, он хотел подняться и — быстрей под душ, но что-то не можется… Он лежал и вспоминал… вот то и вспоминал, о чём написано было в самом начале. Да. Да — её грудь приспособлена для родов, для кормлений. А как хорошо, если бы она родила ему дочку. Он уже представлял себе её, свою дочку. В этом и выразился весь его эгоизм: у него-то было два сына и ему мнилось, как родит она ему девочку. Но у Иланы была дочка. Ей бы, наверное, лучше мальчика. Но он не думал о ней. Вот ведь, как интересно. Он её любил, как ему казалось, вернее, как ему в душе выговаривалось, а… Да не мальчика для Иланы, а девочку для себя. Размечтался. Г-споди! Ещё недавно она лежала рядом. Он наслаждался теплом её… нет, конечно, теплом души. Душа разборчива — плоть всеядна. Не сравнить тепло души и плоти. Он подумал, что долго длится беременность и что возникнут сложности в общении. Разного вида общения. А потом он вспомнил про баночку против беременности и решительно приподнялся в постели.
А неохота. Такого не бывает. Холодок, холодок, но не тот, пугающий и ласкающий. Холодок по всему телу. Да, это ж просто озноб, наконец, сообразил доктор. «То-то мне и вставать не хочется. Надо бы температурку померить».
Короче, заболел Ефим Борисович.
Позвонить — не позвонить? Сказать — не говорить? Вот в чём вопрос. Хочется сказать — быстрей приедет. Сказать — волноваться будет. Волноваться! «Хорошо об себе думаешь» — себе и сказал Ефим Борисович. Всегда, больше двух часов он не выдерживал, не слыша её голоса, а тут ни звонка, ни голоса. Всегда он уже сам звонил, если не оперировал. А тут на тебе: звонить — не звонить. Гамлетовская высота.
Телефон откликнулся! Господи! Слава Ему!
— Наконец! Ты?
— Ефим Борисович, вы что не пришли? Дома?
Чёрт побери! Он же должен был сообщить в отделение. Это же стандарт, если что — всегда звонил ещё до начала рабочего дня. А он, только о ней: звонить — не звонить? Она ж на работу, наверное, трезвонит.
— Ребята. Простите. Не позвонил. Температура. Простудился, наверное. Или грипп. Сегодня не приду. Полежу…
И ряд указаний дал. Просил не приходить — он ждал её. Она же, конечно, придёт. «Небось, телефон в кабинете разрывается. Мобильником не воспользовалась — думает, наверное, что на операции я. Позвоню сам чуть позже. Скажу, что дома. Не буду волновать».
И так полдня душа разрывалась: Быть или не быть! Не выдержал:
— Это я.
— А я вам звонила. Вы не в кабинете?
— Нет, я уже дома.
— Что, как рано? Операций нет сегодня?
— Угу. Может, придёшь пораньше?
— Я ещё не могу.
Сказать — не сказать? Не скажешь — ждать до вечера. Лучше сказать, пожалуй:
— Чего-то домой захотелось. Почему-то решил, что пораньше приедешь.
— Я позвоню.
— Мне что-то не можется. Будь пораньше. А?
— Постараюсь. Ладно. Позвоню.
И не сказал. Или сказал? Как-то ведь сказал — не поняла. Ничего не ел. И не хотелось. Всё ж, чайку попить бы надо. Жидкости нужны. Интоксикацию снимать надо. Озноб. Температура.
Ефим сделал себе чай. Надел тёплую куртку и вышел на балкон — вдруг приехала. Нет. Постоял, подождал. Холодно — озноб.
Ещё два часа прошло. Позвонил сам.
— Ты где?
— Еду, еду. Скоро приеду.
Он опять надел куртку и вышел на балкон. Нет и нет её.
Холодно. Да никакой это не озноб — просто холодно. Температура, по-видимому, растёт.
Ох. Наконец-то! Машина. Вышла. Не бежит. Идёт спокойно. Не бежит. А если бы знала, что заболел? Раньше-то бежала. Ефим заметался по комнате. Раньше надо было начать метаться. А сейчас-то что? Хоть чайник поставить…
Ну, а дальше всё, как всегда. Когда человек болеет. Близкие хлопочут, крыльями хлопают — заботятся. Тоже автоматические рефлексы, отработанные стандарты.
* * *
Застолье катилось по давно придуманным рельсам. Всё было, как всегда. Ефим сидел рядом с молодой дамой. Она была вся в розовом одеянии, и даже какая-то ленточка на голове и туфли на ногах были одного цвета с платьем. И светлые волосы, наверное, крашенные, тоже были с розоватым отливом. Возможно, так и надо, но Ефим не был большим докой в вопросах моды и стиля, имиджа, дизайна, или чёрт его знает, как всё это называется на современной иноязычно-русской мове. Во всяком случае, всё розовое рядом привлекло его охотничье внимание. Пока произносились тосты, которые он, вообще, на дух не переносил, а потому без отвлеченья всё внимание и направленность души, а больше плоти, бросил на соседку в розовом.
Какой-то дурацкий юбилей. Опять это принудительное гостевание. Нынешнему юбиляру Ефим Борисович около года назад убрал желудок, что этот бенефициант счёл причиной для приглашения хирурга на свой праздник, и пришёл к нему с такими приглашающими словами, что отказать было невозможно. Сказываться больным Ефим Борисович всегда боялся. После подобных симуляций он обычно и вправду заболевал. Единственно, что можно было, это во время гуляния устроить срочный телефонный вызов в больницу. Но тогда мобильных телефонов не было, а здешний он не знал. Вот он сидел и накачивал себя: с какой, мол, стати, он должен тратить своё время на это сидение с незнакомыми людьми. Единственное, что ему оставалось, так это начать клинья подбивать под эту бело-розовую, словно сладкая пастилка, соседку. Благо, несмотря на свой цветастый «имидж», гляделась она вполне адекватно его настроению. Плоть всеядна. Плоть — его профессия.
Надо начинать:
«Что вы пьёте? Вам налить? Я начинаю за вами ухаживать. Вы не против? Или сосед с другой стороны имеет больше прав ухаживать за вами?» Сейчас он выяснит главное. «Буду весьма польщена, доктор. Если не трудно, то вон стоит бутылка „Оджалеши“. Претендовать на ухаживание никто не должен. Я здесь одна». О! Первые точки поставлены. Появляется какая-то ясность. «Прошу. Постараюсь не пролить». «Хватит, хватит. Оставим место и для других напитков». «Где место? Куда льём?» Борис Ефимович не больно куртуазно и умно перешёл на физиологию. Даму не смутило. «Вот именно. Нутро наше не бездна». «Да. Простите, — меня зовут…» «Доктор. Да вы что?! Вас все знают. Имя известно. Вы знаете, я всех хирургов считаю суперменами. А суперменов надо знать. А меня вот, зовут Люся». Ефим Борисович не знал, как ответить адекватно её комплиментарной форме знакомства. «Очень приятно. Будем считать, что мы давно знакомы. А, как мне узнать что-нибудь про вас и постараться быть с вами на одном уровне. По своему лику, пластике и фигуре вы вполне тоже входите в клан суперженщин». Когда он говорил эти последние слова, ему уже было стыдно. Не очень ловко. Мог бы и поизящнее. Но времени не было — того и гляди, сейчас либо славословить его начнут, либо сразу тост предложат говорить. А это ему нож острый. Поэтому он, отваливая неуклюжие комплименты, внимательно следил за хозяином стола, чтобы во— время сделать какой-нибудь отвлекающий финт.
После многочисленных тостов, отвлекающих финтов застольный гомон стал абсолютно неуправляемым и каждый кричал другому столь существенное, что совершенно не слышал и не слушал реакцию на свои слова, да и реакции уже у каждого были на что-то своё. Неизвестно только, можно ли было всё это называть словами, во всяком случае, словами осмысленными. Вот тут-то и настало время супермена Ефима и его соседки. «Мы с вами столь долго общаемся, вместе пьём, по-моему, целую вечность уже, так не пора ли нам перейти на „ты“? А?» «Ну, для этого необходимо провести небольшую формальную акцию». «А именно?» «Доктор! Вы безграмотный что ли? Надо выпить на брудершафт». «Так и я про то же. Но здесь неудобно. Давайте рванём отсюда». «Куда?» «Найдём. Там, где можно выпить на брудершафт». Люся засмеялась. Она погрозила игривому собеседнику пальчиком. А потом и сама, хорошо разыгравшись, просто кулаком. «Я слишком много выпила, чтоб куда-нибудь ехать». «Да, я довезу». «А вы на машине?» «Что вы. Я же пил. Возьмём такси». «Хм. Ха. Интересно. Вы, что, серьёзно?» «Абсолютно». «Ха, а зачем?» «Чтобы выпить на брудершафт и перейти на „ты“». «Да? А что, в конце концов! Завтра уроков нет…» «Причём тут уроки?» «Да, я учительница. А у вас завтра операция есть?» «Сегодня же суббота, госпожа учительница. Я думаю, что мы сравнялись — учителя, по-моему, супермены, суперженщины». «Это верно. В конце концов… Пьяная женщина…» «Неправда. Вы не пьяная. Вы чуть навеселе. А доедем, будете стопроцентно трезвы». «Ну, что ж… В конце концов…» «Обождите. Я сейчас!»
Ефим Борисович подошёл к своему бывшему больному, долго расшаркивался, благодарил, желал, надеялся… и прощался. «Доктор, доктор! Я всё видел. Кто победил? Соседка или… или вы?» «Мы оба потерпели поражение». Бенефициант залился смехом, на глазах выступили никчемные слёзы. Он пытался подняться со стула, обнять и поцеловать родного доктора. Но ему удавалось лишь губы вытягивать. Он расплылся скабрёзной улыбкой и: «Ха-ха. И правильно. Пьяная баба пизде не хозяйка». И совсем уж радостно засмеялся. Такими словами он мне всё мероприятие сорвёт, подумал Ефим Борисович. Ещё, не дай Бог, кто услышал. Или эта пастилка. Он немножко испуганно помахал рукой и перешёл к соседке, пока настроение не было порушено дурацкой, хоть и правдивой, шуткой и оставалось вполне боевым. Они быстро подхватились и ушли.
* * *
Суббота святой день. Можно не вскакивать и быстрей нырять под перемежающиеся горячие и холодные струи душа. Можно спокойно, даже медленно подниматься, потянуться, посидеть на краю кровати, почесать задумчиво грудь и потом уж двинуться по обычному гигиеническому маршруту. Но более чем полувековая привычка не позволила эдакое размеренное начало жизни. Поскольку Ефим Борисович просыпался сам, без помощи будильников, в доме у него не было никакого аппарата, объявляющего необходимость начинать день. Рефлексы, наработанные за долгие годы, не отличали выходные дни, и просыпался он, практически, всегда в одно и то же время. Потому и сегодня он выпрыгнул из постели в обычном темпе и, только окатившись первыми холодными струями, стал думать о предстоящем дне.
Илана! Чёрт возьми! Эта проклятая командировка. Полетела сопровождать тяжёлого больного в Саратов, который попал к ним в больницу по скорой помощи, а теперь переправлялся в родной город. Приказано сопровождать врачу и жребий пал на неё. Вчера звонила. Если будет билет, то прилетит сегодня. Машина будет от конторы, что приказывала. А он так хотел встретить её сам.
Утром он всё же смотается в больницу, взглянет на больных, что оперированы были вчера, поступивших по дежурству, и, пожалуй, поедет к друзьям. Созванивались старые, школьные ещё друзья, с которыми они душой не расставались все эти годы. Он любил эти встречи. С некоторыми он не терял, практически, ежедневной связи. Это было всегда интересно. Разные профессиональные интересы — физик, историк, филолог, медик, юрист, артист — создавали дружеский гомон со всех сторон бытия. Всем были интересны новые знания, проблемы. Пронизывался дружеский гомон шутками, а порой и кобелиными смешками на темы плоти. Немножко вспоминали и про душу. Встречи проходили, разумеется, под звон чокающихся рюмок, бокалов, стаканов. Все друг друга перебивали. Как говорится: высока культура перебивания и низка культура выслушивания. Но это было весело и познавательно, поскольку все они неизбывно любили друг друга уже более пятидесяти лет. Правда, поредели их ряды. Печально шутили: иных уж нет и нас долечат. И в этой области Ефим был предметом грустных шуток. Профессия его, к сожалению, с каждым годом становилась всё более и более потребной членам их компании. На телах некоторых из них уже были его автографы. И он думал, что, включив Илану в орбиту их жизни, сумеет почти родственно помогать всем и по терапевтической линии. Ребята, познакомившись с любимой, одобрили его вкус. Пожалуй, это был первый раз, когда его выбор понравился всем им безоговорочно. А выборов-то было много. Но очень немногих он доводил до своей компании.
План, намеченный утром, выполнялся, словно это была стандартная операция, произведенная тысячу раз. Все равно участвовали в крике и питье, всем было хорошо. Неизвестно, что вспыхивало в мозгах друзей, но в его мыслях время от времени сверкало: «Илана. Ну, ну! Где же? Ну, сколько ж можно! Ну, хоть бы позвонила».
Катилась встреча. Шумели все. Он меньше всех. Он ждал. И он к тому же и не пил. Машина! Без машины он уже не мог. Он стал зависим от неё, словно от наркотиков. Он не пил — он ждал. И немножко кричал… прислушиваясь, не завибрирует ли на поясе у него мобильник.
Звонит! Завибрировал он.
— Я прилетела.
— Ты где сейчас?
— В машине. Еду.
— Приезжай прямо ко мне. Я бегу. Если приедешь раньше, иди в дом. Ключ у тебя с собой?
— Да. Но я только отъехала от аэропорта. Вы будете раньше. А вы где?
— Я уже бегу домой. Жду. Жду.
Он приехал раньше. По дороге забежал в магазин. Благо он на первом этаже его дома. Она же с дороги. Надо покормить. Напоить. Дома он бросился на кухню и стал готовить. До Иланы он никогда столько не занимался едой. Что-нибудь съест… и славно. А сейчас, когда он ждёт её… Да что и говорить! На плите что-то скворчит, шипит, булькает. Он бегает на балкон. Ждёт. Успел. Всё готово. Не успел — она пришла, а он не успел увидеть её у подъезда.
Пришла!
— Вот и я. Вы как?
— Любимая! Я жду. Ждал. Голодная?
— Я ела в самолете.
Он обнял её. Она прильнула к нему всем телом. И как всегда зарылась головой в его груди. Боже! Как он любил эту позицию в начале всякой встречи их.
— Ты всё же поешь.
— А вы?
— И я с тобой. Вестимо.
— А может, с дороги сначала под душ?
— Нет, нет. Сначала поешь. Потом под душ. И я с тобой. А?
Илана смеется. Сколько радости и счастья в её улыбке, в глазах… Или?.. Во всяком случае, он так видел.
Они стояли под тёплыми струями. Тепло не только от воды. Особое тепло шло от неё. Не от тела. Изнутри, от неё. От души. Нет и от тела. Тело прекрасно. Тело его профессия, но обнимал душу, а видел тело. Внутренним глазом, невидимым миру. Оно было прекрасней всех Венер Милосских мира. Г-споди! Душа и тело у ней едины. Продолжился бы миг сей до дней конца его. А ей-то каково будет, если так наступит день его последний.
Отфыркнувшись от попавшей в рот воды, она заскользила по телу его вниз, не разнимая своих объятий, пока не утвердила их у колен. Она обнимала его ниже талии и снизу, обратив оттуда своё лицо к нему, сказала:
— Вы знаете, я решила перейти на другую работу. Из больницы приглашают в институт.
— А что это ты? — Чего особенного-то, но у него что-то засверебило в груди.
— Во-первых, руководитель моей диссертации в этом институте. И мне легче будет её закончить там. Во-вторых, неохота ездить больных сопровождать. А время от времени приходится это делать. Наконец, зарплата там побольше.
Она прижалась щекой к его телу, продолжая смотреть на него. И он уже тоже смотрел не на стену. Он ощущал её только той частью, где она щекой прижалась.
— А кто приглашает? Это надёжно?
— Кто ж его знает. А приглашает мой консультант по диссертации, Максим Львович.
Илана лизнула его по животу и ещё сильнее прижалась.
— Ну и исполать тебе, красна девица. Я могу тебе чем-нибудь помочь?
— Только своей любовью.
— Это я тебе обеспечу.
Ему показалось, что вода стала чуть холоднее и он прибавил немножко тепла. Она внизу — он наклонился и поцеловал её в любимое темечко.
— Держись, девочка.
Он перевел кран на холод. Илана ойкнула, он вздрогнул. Хотя оба знали, и неожиданности не должно быть в опрокинутом на них холоде. А следом Ефим Борисович закрыл кран, потянулся к халатам и закутал одним из них свою девочку. Другой накинул на себя, и тотчас скинул.
— Я уже сухой. А ты?
Он подхватил её на руки и перенёс через край ванны, где они стояли.
— Не надо. Тебе нельзя.
— Боже мой! Надо быть голым, чтоб ты говорила мне ты.
— Так получается. Не ругай.
— Разве я могу тебя ругать? Я констатирую. Я радуюсь, девочка моя, когда слышу твоё ты.
Они пошли в комнату…
………………
Как им было хорошо.
А впереди ещё целый день счастья.
* * *
Ещё одно привычное застолье. И тосты, и разговоры про новые книги да премьеры, наконец, самое интересное — кто с кем живёт. Всё как всегда. Говорят, что сплетни дело женское. Ерунда! Мужчины также любят перемывать косточки знакомым, особенно, в разряде: кто кому дала, а кто не дала и кому. Короче, пошел безответственный пьяный треп, да и безответный, потому что по настоящему-то никто не слушал другого, а норовил сам поделиться какой-либо пикантной, эксклюзивной новостью. Даже если она и не была такой уж эксклюзивной. Ефим Борисович не достаточно выпил — автомобиль на шее, а потому в стадию рассказов о своих знаниях про знакомых не вошёл. Как врач, он знал некие вещи про близких и более отдалённых, но с детства своего медицинского был приучен больше слушать и молчать. Профессия такая. Хотя ох и мог бы он нарассказывать им! Напротив и чуть наискосок от него сидела прелестная молодая женщина. Как-то здорово в её теле всё было приложено одно к одному, что создавало удивительную гармонию в сочетании кожи, формы носа, высоты лба, вся фигура, талия, которую он разглядел, когда она встала. И вид сзади и вид спереди. Всё подходило друг другу. Волосы чёрные небольшой чёлочкой над глазами… А глаза… глаза!.. Как два дула, направленных в его сердце. Фира её звали. А потом она стала петь что-то под гитару. Он не слышал слова. Не вникал. Он слушал голос, смотрел на лицо и временами получал очереди из тех самых двух стволов. Она пела — грудь вздымалась. По-видимому, она была без лифчика и два соска, контурирующие под лёгким платьем, также были направлены в его душу. Так ему казалось — или хотелось.
Он горевал, что из-за машины не может выпить достаточно и, будто потому не может потерять голову и приобрести достаточную смелость для начала атаки на хозяйку орудий, так его обстреливающих. Но, хвала судьбе, Фира была свободна от запретов, обрекающих водителей на трезвость. Она, как выяснилось, пешеход. Во всяком случае, сегодня. Она и подошла к нему сама. «Фима. Ты мне нравишься». «Ты мне тоже. И очень». «И не сегодня по пьяни это родилось. Зелье выпитое дало лишь только смелость и отчаянность». Такая откровенность была ему по нраву.
Дальше у них пошёл бессмысленный разговор. Ещё не любовный, но по типу вполне стандартного флирта. И кончился тем, что они уже вместе уехали к ней домой. Жила она одна. А почему, он пока не выяснил, как и не понял, всегда ли она одинока или где-то в загашнике существует муж, а то и его суррогат.
Его безумно к ней тянуло. Любовь ли это — он не понял. Но не возникло ожидания страданий и печали, что бывает порой предвестником возможной любви. Радости любви так часто переплетаются со сложностями, печалями и самыми неожиданными неудобствами, по крайней мере, для одной из сторон возникшего альянса. Предчувствие?… Нет… всё же не было. Но не отказываться же от радостей, которые уже маячили перед ним.
Уже сегодня, когда они приехали к ней и едва закрыли дверь, как она, словно голодная орлица накинулась на него. Он тоже старался быть орлом.
Какие-то не обычные пьяные объятия. Больше тепла, чем бывает в результате гулянки, когда даже если сам и не пьёшь, а всё равно появляется хмельная расхристанность. Учёные подумали, покумекали, поискали — очень надо знать — и нашли, что в пьяной компании все, и не пившие, вырабатывают некие эндорфины, что и позволяет получать эдакую почти алкогольную раскованность. Всё это наука, а Ефиму стало хорошо и тепло где-то внутри совсем не по пьяному.
Как хорошо!
«Фирочка. Как догадалась…» «А зачем мне догадываться? Это я… Как это сказать? Это я тебя индуцировала. А ты оказался мягкий, податливый». «Но это я с самого начала нашего застолья на тебя глаз положил». «Ну и замечательно. Ну и думай… Конечно, ты меня заметил, и судьба меня благословила. Нет, что-то не то я говорю. Ты не пил, но я-то…» Фира вскинула руки, обвила его шею и… А он обхватил её где-то около талии. То ли Фира его подтянула к тахте, то ли он её туда подтолкнул. Этого уже и они сами не поймут и не помнят. Да и надо ли? Желание-то было обоюдным.
(Нынче бы назвали сие консенсусом. Нынче политизированность доведена до постели. Впрочем, у нас это уже лет восемьдесят, как истинная аполитичность прикидывается тотальной политизированностью: толпа в политике роли не играет, но словесно, нынче сказали бы — вербально, все рассуждают и советуют. Кому? Да тому, кто не слушает, не спрашивает, плюет и делает по своим каким-то задумкам, отчетливо понимая, что народ, люди — мусор истории. Между прочим, это последнее и говорила Фира, доказывая политизированность, доведенную до постели.)
Вскоре они забыли всю первоначальную, якобы высокоумную болтовню и отдались прямому Божескому и человеческому делу, что выше всякой политики и всех политиков мира, вместе взятых. Хоть без них пока не научились обходиться.
Прикосновение её тёплых пальцев к голому телу его действовали, как удары током. Какое-то необычное ощущение. Всё было отброшено. Тело и душа сплелись…
Длилось, длилось, что родилось, так неожиданно… По крайней мере, для него. И не ослабевало.
Это всегда неожиданно.
И всегда бывает: «однажды». Разные «однажды» бывают.
Однажды у Фиры появились боли в животе. Казалось бы, дело житейское. Все когда-нибудь болеют. Но не всегда рядом любимый хирург. В лирику вмешалась медицина. Ефим обследовал её у себя в отделении. Камни в желчном пузыре. Воспаление. Холецистит. Начиналось содружественное воспаление поджелудочной железы. Ефим не хотел оперировать сам. Но Фира просила: «Я не хочу своё тело отдавать другим». «Довольно двусмысленно. Я и не собираюсь ни с кем делиться». «Фима, не ёрничай. Я хочу так, если операция обязательна».
Операция прошла благополучно. Фира выписалась. Дома навещать ему было не всегда уместно. Прошёл и домашний период. И снова жизнь потекла как бы по обычному руслу. Но поведение Фиры чуть-чуть стало другим. И непонятно было, что изменилось. Благодарность порой мимикрирует под любовь, любовь как бы неосознанная плата. А бывает, что сушит уже расцветшую до этого любовь. И уже не поймёшь, где любовь, а где спасибо. А это уже иные чувства, другие эмоции. Человек живёт между чувством вины и чувством благодарности. И то, и другое в определённых ситуациях могут жизнь вдруг нелепо перекрасить. Нелепый, напрасный камуфляж.
Фира ещё больше смотрела на него снизу вверх. Ещё больше, а может, и иначе, светились её глаза. Если глаза светятся? До просто, по-другому она смотрела, и они по-другому для него гляделись. Что-то изменилось. Появилось почтение с её стороны. Исчезла и дрожь, когда его голое тело входило в соприкосновение с её наготой. Почтение, благодарность сменили отчаянность и самозабвенность. Стало всё будничнее, скучнее, серее, меньше, пока не исчезло вовсе. Перекрасилось.
* * *
Хаос воспоминаний, словно бури пролетал через всё его ураганное отношение к Любимой. И ничто не могло запятнать сегодняшнее.
А вот и ещё было. Да сильно раньше.
* * *
У него тогда ещё не было машины. Он стоял около ворот больницы и ловил такси. Благо такси в ту пору было вполне доступно его доходу, особенно в первые дни после зарплаты. Вышла молодой доктор, психиатр, которая приходила к нему в отделение как консультант. Почти каждый день из множества алкоголиков, почти постоянно поступающих к ним по скорой помощи, кто-то из них впадал в белую горячку. То ли общество беспредельно перешло все границы разумного употребления водки, то ли водка качества выше фантастического разумения в производстве этого самого популярного в стране напитка, то ли и то и другое. Так ли иначе, но белая горячка скоро станет более частой болезнью, чем насморк или аппендицит. Пришлось взять в больницу постоянного психиатра. Это и была сия молодая дама, остановившаяся рядом. Ефим Борисович первый раз её увидел в нормальной одежде, без халата, причесанной, с хорошо сделанным лицом. Конечно, всё то же, кроме халата, было и в отделении, но он был на работе. Другие рефлексы владели им в отделении. Там он не видел или не обращал внимания, сколь она стройна, привлекательна, да и глаза свои, посверкивающие призывным огоньком, она, видимо, прятала за маской сурового доктора по делам душевных неурядиц. Или эти призывы рождались не в её глазах, а в его душе, жаждущей радости и веселья.
«Доктор, Лариса Васильевна, здесь на воле, без маски строгих обязанностей консультанта, вы глядитесь замечательным человеком, свободным от ярма необходимости залезать в чужие души». Доктор засмеялась. «Да и вы, Ефим Борисович, более расковано нанизываете слова, чем представляя мне очередного алкоголика». Они веселятся. На улице солнце, а не жарко. «Знаете, есть такой французский поэт Превер. И у него есть такие слова: Товарищ солнце, разве это не дребедень хозяину взять и отдать такой день». Видно, никакие тяжёлые беды не остались позади в корпусе, который они только что покинули. Скинув обязанности, они как бы обрели свободу и жажду нормальной жизни без оков службы. «И что?»
«Намёк поняли? Вы ведь тоже хотите словить такси». «Я ещё не решила. Думаю, куда мне сейчас поехать». «И не думайте. Я за вас решу». «Ну?» «Вот такси. Свободны, хозяин?» «Ну». «Великое, всеобъемлющее „Ну“. Садитесь, Лариса Васильевна. Своё решение я вам скажу в пути». «Ну, допустим. Посмотрим какое, удачное ли ваше решение. — Сказала Лариса Васильевна, уже вдвигаясь в машину. — Будем считать, что мы, психиатры, тоже экспериментаторы». — Это она уже договаривала, пока усаживался рядом Ефим Борисович.
«Вы такая молодая, прекрасная, светлая, весёлая, что если позволите, я вас буду вас звать менее длинно — просто Ларой. Даже не Ларисой? А?» «Ну что ж. Совместная езда на одном диване, нас настолько сблизила, что другого выхода нет». «Вы, я вижу, из нашего караса». «Это что — карас?» «Есть великая книга „Колыбель для кошки“ Курта Воннегута. Из одного караса — люди одного поведенчески-психологического круга. Для краткости». «Правильно. Краткость то ли сестра, то ли мать таланта. Поскольку вы старше меня, язык не повернётся называть вас Фимой. У нас в клинике принято окликать инициалами. Можно я буду звать вас ЕБ?» «Хм. Двусмысленно. Ну, называйте, если вам удастся». «Не поняла?» «Ну, а Некрасова читали?» «Ну». «Ну, так ну. У него есть строчки: „Вырастешь, Саша, узнаешь“». «Всё равно не поняла. Так куда я еду?» «Как куда? Разве ещё не ясно? Ко мне. Я уже сказал водителю». «Здрасьте. С какого поворота? Вы, Ебе, очень решительны». «Сами так назвали». «А именно? Вообще, я сегодня устала. Давайте в другой раз». «Зачем нам разы считать. В другой раз не будет такой погоды, у вас такого настроения, и вы, конечно, будете куда-то спешить. К тому же, к следующему разу вы уже прочтете Воннегута и будете совсем иной». «Ну, Ебе, вы так же и отделением командуете?» «По обстоятельствам, родная Ларочка. По обстоятельствам. И по погоде, по погоде». «Нет. Я всё же поеду домой». «Но это глупо. Вот уже мой дом. Мы приехали».
Машина остановилась у нужного подъезда и после небольшой перепалки они всё же вышли вдвоём.
«Ну и что же мы будем делать?» — Это она спросила уже в лифте. «Чай пить, конечно. Если вы откажетесь от коньяка, которым в изобилии снабжают нас больные. Всеобщая уверенность, что лучшего гонорара, чем алкоголь не существует. Спиртовой реванш за победный бой с павшей на них болезнью. А я не пью. А они несут. Но с вами выпью». «А я тоже не пью». «Значит, будем пить чай. Ну, разумеется, сначала посмотрим мои книжечки и всякое прочее». «Ну и телевизор, конечно?!» «Безусловно. Как же без него. В шахматы ещё сыграем».
Эти слова и смех по их поводу, были сродни аплодисментам, говорящими о единогласном одобрении и утверждающей резолюции, что и оказалось началом всего дальнейшего, красивого, прекрасного и лёгкого, так украшающего нашу жизнь.
Впереди ещё было много дней радостных и лёгких.
«Ебе, вы сегодня что?» «Ещё не знаю. У меня ещё одна операция». «Могу себя на сегодня считать свободной?» «Во всяком случае, нынче я пас». «Ну и славно. Я в театр схожу с коллегой». «Завтра позвонишь?» «Ну».
А на завтра он опять был занят. И она пошла к кому-то на день рождения… И однажды: «Ебе, я еду на конференцию в Ригу. Приеду, позвоню». «Угу». «Что угу?! Словно каша во рту». «Именно. Ем. Рот забит». «Ну, целую. Пока». «Счастливо, Ларочка».
Они ещё перезванивались. А порой встречались на каких-то общих, как теперь бы сказали, тусовках. Тогда этого слова ещё не знали.
* * *
И сегодня выходной день. Воскресенье. Ночью Илана не могла приехать. Но обещала быть пораньше. Ефим Борисович с утра метался по квартире. Готовиться специально не надо. Но он ждал, ждал. Он всё время ждал. Он выбегал на балкон, хотя это было нелепо — Илана перед выездом должна позвонить. Так было всегда. Он хотел позвонить сам, но боялся — вдруг она решила сегодня поспать подольше. Пусть девочка отдохнет.
Но звонка всё нет и нет. А он продолжает бегать между балконом и телефоном. Потом стал бегать с двумя телефонами в руках: трубка радиотелефона стационарного и мобильник — нынче вечный спутник. Если раньше порой он забыть мог его, то теперь не расставался с ним даже ночью — вдруг позвонит… она.
Наконец, не выдержал и позвонил сам.
Да, да! — блядство украшает жизнь, а любовь — это обязательно страдание, метания, томление… Но счастливые солнечные страдания, к которым стремишься, к которым тянет всю жизнь, даже если этого не понимаешь верхними отделами мозга. В этом и есть, наверное, основа мазохизма, когда тяга к душевным страданиям переходит к жажде физических. Это, пожалуй, и способствует сексуальному удовлетворению, Это когда секс без любви, без счастливых страданий и томлений. Томление и суета. Первое — любовь; второе — блядство. В любви нет политики — часто делаешь то, что потом обернётся… Навязчивостью. Назойливостью. Канюченьем. Домога… Да какая разница чем, кем это обернётся — ведь любишь. Если только кто знает, что это такое!
Не выдержал… и позвонил сам.
— Доброе утро. Не разбудил?
— Доброе. Какое разбудил! Сейчас поеду на рынок. Мне надо успеть. На днях у дочки день рождения…
— А не сказала ничего вчера.
— Забыла. А вернее не о том думала.
Это понравилось Ефиму Борисовичу. Хорошо, что у него, с ним думала не о том. С ним ей было не до рынка. Может, это самодовольство? А вообще-то, естественно думать ему так. Да и не исключено, что так и было на самом деле.
— А можно я с тобой поеду?
— Нет, нет. Не надо. Я постараюсь побыстрей и позвоню. А вместе получится долго.
— Только звони, пожалуйста. Мне надо слышать твой голос. Тогда я живой.
Илана смеется.
— Конечно же. Буду звонить. Я очень хочу, чтоб вы были живой.
— Хорошо. Жду. Всегда жду. Целую.
— И я.
Сначала Ефим Борисович сел к столу — пытался работать. Не получалось. Да, «сначала было слово». В начале нужно слово. Но начало работы не находило нужного слова. Все слова, что рождались в голове, крутились вокруг совсем иных проблем, а не тех, которых ради он сел за стол и включил компьютер. А ведь всегда любовь ему помогала. Мысли начинали сшибаться в голове, спорить сами с собой, одна меняла другую… Но сначала должно быть нужное слово.
Он отошёл от стола. Вышел на балкон. Да нет же, не приедет она сейчас. Снова в комнату — очередная попытка осмысленно прочесть начатую вчера книгу. Что это с ним? Любовь длится не первый день и всегда только помогала. Включил телевизор — вот дело без смысла и напряжения. Но и не без раздражения, если тоже смотреть со смыслом. Он смотрел, думал о своём, не обращая внимание на мелькающий экран.
Время идёт. Не звонит. Может и сам позвонить. Нет — не надо. Наверное, ходит по рядам, выбирает. А может, торгуется?.. Он не представлял себе торгующуюся Илану. А кому-то ведь интересна эта мелкая торговая игра. Неужто она будет тратить время на торговлю. Ведь он ждёт её. Экая персона! — ждёт! А у неё дочь, а у дочери день рождения. А он и не спросил, когда! Ведь надо поздравить. Ну, что ж она не звонит? Нет, нет — сам ни за что! Да — она хочет перейти… Кто-то ворожит ей. Самой это не поднять. А его не попросила. А у него тоже есть связи. Сказала бы. Собственно, она не собиралась переходить. Это не ворожат, наверное, а уговаривают. Соблазняют новой работой, лучшими условиями. И рыба нуждается в хорошей воде. Деньги бОльшие — понятно. Ей дочь поднимать. А что он, Ефим, в силах ли помочь? Не звонит. Но нельзя столько ждать, а пока он ничего не может делать.
— Алло! Ты прости, что звоню, но уже больше двух часов прошло. Мне твой голос услышать хотя бы.
Смеется. Смеется и ничего не говорит.
— Ты что? Долго ещё? Уже давно. Скоро освободишься?
— Да мне пришлось на другой рынок. Я здесь кое-чего не нашла.
— Господи! Да что ж такое тебе особенно требуется?
— Спечь ко дню рождения надо ведь.
Ну и ещё два часа он промаялся. День-то, чёрт его побери, выходной. На работе люди. Туда пойдёшь, с тем поговоришь, позвонит кто-то, консилиум какой-либо. А здесь сегодня мечешься по клетке — только что решетку не грызёшь, не рычишь и мяса не ждёшь.
Не скоро позвонила любовь его.
— Добрый вечер.
— Добрый. Совсем не добрый. Ты где?
— Вы не сердитесь. Я сегодня не приду к тебе. — Хм, надо такую ситуацию, чтобы и не ночью, не в постели она обратилась на «ты». — Я дочь… Дочь претендует на вечер. Я сегодня должна быть с ней. Прости.
Ефим Борисович сначала только промычал в ответ.
— А что случилось? Что так долго? А ночью приедешь?
Это всегда ему трудно говорить. Если бы можно было за ней приехать, привезти, отвезти потом, он бы с лёгкой душой, выпрашивал её ночные приезды. Но нет. Она на машине. Ей не надо, а его совесть мучает.
— Нет. Сегодня нет. Но прости. Я всё равно люблю вас.
— Иланочка… Ты с утра на работу?
— Что за вопрос! Мне надо будет только днём съездить переговорить насчёт перехода.
— С кем? Уже с начальством, с кадрами?
— Нет. Пока ещё только с Максим Львовичем…
* * *
«Ефим Борисович, вы не назначили анализ этой больной». «Боже мой, спасибо тебе, Валечка. У меня бы все больные были запущены, если бы не ты». «Работа такая». «Вот все бы сестры были такими. Сегодня ещё одна операция. Ты участвуешь?» «Конечно. Я в графике». «Я люблю, когда ты мне помогаешь. Я спокойнее». «И я люблю, Ефим Борисович». «Совместная работа сближает. Да, Валечка?» «Наверное». «Ну, посмотрим. Ты после работы сегодня учишься?» «Да как вам сказать? По расписанию есть лекции, да я не хотела сегодня идти». «И правильно. Завтра пойдёшь, а сегодня… После операции скажу». «Интригуете?» «Так точно, командир. И с удовольствием». «С чего это я командиром стала?» «Не знаю. Как говорится, к слову пришлось». «Ефим Борисович, в операционную уже зовут. Идём мыться».
Вот ведь звучит для непосвящённого: «Идём мыться». Но пока до этого дело не дошло. Пока мыться на операцию.
А после операции: повязка наклеена, простыня откинута, перчатки скинуты. «Валя, когда размоешься, зайди ко мне. Ладно».
А для непосвящённого — «размываться»? Это когда всё операционное одеяние сброшено и остаётся только руки помыть.
«Ефим Борисович, звали?» «Коль ты не идешь на лекцию, не хочешь ли со мной пообедать. Я сейчас допишу операцию и поеду. А?» Валя помолчала. Села. «Ты чего? Пойдём?» «Неловка как-то, Ефим Борисович». «Перед кем?» «Перед девочками». «А зачем им знать?» «Да я-то с удовольствием, Ефим Борисович». «Значит договорились. Через двадцать минут от ворот больницы, справа у угла. Нет, лучше за углом. Идёт? А?»
Это было время, когда их медицинские зарплаты позволяли пообедать в кафе или в ресторане. И не то, чтобы получали они больше, а цены в — как тогда обобщали эти заведения — нарпите были более приемлемые.
Ох, эти аббревиатуры: полные, когда лишь первые буквы — ВКП(б), НКВД, БОМЖ; или неполные по типу химер, половинка от одного, а другая от другого — сексот, теракт, компромат, туда же и нарпит. Ещё к столовкам это было применимо, а к ресторанам эта химера не привилась.
Они хорошо пообедали. Хорошо не столько от меню, сколь от общения друг с другом. Валя давно смотрела на своего начальника широко раскрытыми восхищёнными глазами. Он давно это отметил, но сначала к этому относился иронически. Мол, девочка прельщена удачным поведением своего шефа. Но потом Валина точность, исполнительность, ответственность да ещё доброжелательное отношение к больным заставили его другим взором, с другой неслужебной симпатией взглянуть на неё. Что называется, уже не смотрел, а «глаз положил». Он ответил Вале. Он любил говорить, что бабник это тот, кто не может отказать. Себя считал бабником и нередко в женском поведении находил приглашение, так сказать, к танцу. Приглашал — считал, что отвечал. Удобно оказалось так считать.
В этот день они ограничились обедом. Но лиха беда — начало. В начале была еда. В начале был обед. Беда была потом. Да и была ли беда?
Им было долго хорошо. Обоюдная симпатия нарастала. Вряд ли с его стороны это была любовь, но хорошо было и ему.
В тот раз девочкам Валя не сказала. Но такие секреты на работе недолги. В совместной работе опасны бывают чувства благодарности по неслужебному поводу. Два года назад Ефим Борисович помог ей попасть в институт. Она и так хорошо сдала экзамены, но он говорил со своим сокурсником, который был в приёмной комиссии. Может, тот ничего не сделал, но забота была проявлена. Чувство благодарности оставалось и сохранялось и неизвестно, что было в основе восхищения этой девочки. В первое время он и не реагировал на всё возрастающие сполохи в её глазах. Он боялся, что проявление его симпатий, излишнего благорасположения могло быть похоже на расплату за услугу. Но прошло два года. Его призывают. Он же бабник. Да сколько же можно осторожничать? Он поддался стихии. И не жалел. Ну, а какая разница, что за чувства были у Вали — им было душевно комфортно вместе. И его семья пока ещё была спокойна, хорошо скреплённая детьми. Пока. Потом-то всё будет. Значит всё правильно и вполне нравственно. Или?..
Если будет когда-нибудь читатель этих строк — сколько нареканий свалится на голову позволившего прокомментировать таким образом создавшуюся ситуацию!
Они лежали у неё дома. Был день, и полумрак Валя создала тщательно задёрнутыми шторами. Она положила голову ему на грудь и играла своими пальчиками в разных местах его тела. Да, да и ему было комфортно. Он тогда ещё был силен, как потом оказалось, совсем молодой. Это сейчас в дни любви он вспоминал молодость того времени, нынче понимая, что такое старость, а не то, как он говорил тогда Вале, явно кокетничая и с самим собой.
Он поцеловал её в грудь. Она ответила тем же. «Фима…» И замолчала. «Ну? Что Фима?» «Меня вызывали в райком…» «Тебя? В райком? Какое ты имеешь отношение к райкому? Да и вообще к этой партии». «Вот это они и выспрашивали». «Что это?» «Об отношении твоём к партии. Когда ты говоришь „этой партии“. Ты же болтаешь и не только мне говоришь подобное… в подобном тоне о партии». «Ну, а что особенного?» «Ты старше меня. Ты жил и тогда, когда всё было страшно. Чего ж ты спрашиваешь?» «Ну и что они хотели?» «Начали с того, что у меня с тобой отношения выходят за пределы общего служения здоровью. Так сформулировали». «Смешно». «Тебе смешно, а мне было страшно. Они говорили о нравственности, о комсомоле, об эволюциях человека подобного поведения. Я поначалу вякнула было о том, что партии нет дела до личных привязанностей комсомольцев. Тут такое поднялось. Оказывается из двух говоривших один из органов, как он мне сказал». «Половых». «Прекрати! Тебе всё шутки! А меня из комсомола и из института выгонят. Твоя болтовня всем боком выйдет. И семье твоей тоже. Они хотят с женой говорить». «Это они зря. Это они хватили». «Они мне говорят, что партии дело до всего, даже в какую стену и какой гвоздь я вобью в своей комнате». «Вот и занимались бы гвоздями. Как писал поэт: „Гвозди бы делать из этих людей“. Жену ещё будут вызывать, суки». Валя расплакалась. «Это же серьёзно. Я боюсь». «Да ладно реветь. Что-нибудь придумаем». «Я уже придумала. Я перехожу работать операционной сестрой в Институт». «В какой?» «Роман Львович обещал». «Ну, ну, интересное кино. Жену позовут. С неё где сядут, там и слезут. А вот дома… Слушай, пошли они на… Нам есть, чем заняться. У нас есть свои органы». Он обнял её и стал целовать в шею, грудь, ниже, ниже… Валя досушивала свои слёзы — не сразу стала отвечать на его ласки. В конце концов, ответила.
В чём-то день был удачный.
А в ГБ его всё же вызвали. Про неслужебные связи речь не шла. А вот к его отношению к партии, к сионизму, к марксизму-ленинизму у них были претензии. Он отвечал, крутился, а в голове: «Отпустят — не отпустят. Уйду — или оставят». Отпустили, но напоследок укоризненно, но спокойно сказали, что он в жизни ничего не понимает и что человек он не их морали. Что верно. Он был не их морали.
Через некоторое время он как-то встретил Роман Львовича, который игриво благодарил Ефима Борисовича за ценный кадр, взращённый им на ниве… На какой ниве, не досказал. Но сказал, что девочке не надо мешать заканчивать институт и многозначительно мазнул Ефим Борисовича тем же игривым и почему испуганным глазом. Он лишь думал, о какой ниве речь идёт.
* * *
Илана перешла на другую работу. После того памятного воскресенья, что она была на рынке. На рынке? Они виделись ещё пару раз.
Был звонок.
— Ефим Борисович! — рыдания — Простите меня. Я вам — всхлипы, рыдания — Я всё равно люблю вас, но я… — и опять рыдания. — Ира плачет. Ефим Борисович…
— Что случилось Иланочка, счастье моё? О чем ты? Да, что случилось в эти дни? Где ты была?
— Я из дома. Я уезжаю. Объявился отец Иры. Он приехал. Он… Он такой… Ира плачет. Я должна поехать к нему…
— Ничего не понимаю. А работа? Ты уже на новой? Причём тут работа?
В трубке слышны плач, рыдания.
— Простите меня, Ефим Борисович. Работа… Я люблю вас… Так надо… Так вышло. Ира… Он, как тогда, в институте…
— Родная моя. Приходи, разберёмся. Я в этих изысках Достоевского уже запутался. Это я люблю тебя. Приди… Если любишь. Ведь так просто — любишь, так жду.
— Люблю. Потому и не приду. Потому и не еду… К вам… Потому…
Всё несется к нему в ухо сквозь слезы. Ощущение, будто ухо уже намокло. В глазах стало чёрно. Пожалуй, не черно — всё видит и светло; но сверху, то ли из за…, то ли из под век, нависло, надавило нечто, что ощущается чернотой, темнотой. Но ведь всё видно. И свет, как бы уходящий, изгоняемый чернотой. Странное ощущение. А всё остаётся по-прежнему — всё светло, всё вид. Чернота без темноты. Светло. Светло?
Белый потолок. Вон трещины пошли. Над люстрой, как тени пятна. Видно курево его поднималось теплом ламп и след оставляло. Тень курения. Тень от дыма. Нет дыма без любви. На этом диване… Какой-то бред. Так не может быть. Дверь Ефим Борисович не закрывал — вдруг придёт Илана. Будто она не могла войти. У ней есть же ключ. Он смотрел на дверь, на тени любви на потолке. И действительно, дверь тихо, тихо приоткрылась и вошла девочка. Нет, нет — не Илана. Девочка. Ты кто? Я Ира. Ты что? Я плачу. Почему? У меня папа. У всех папа. У меня не было папы. Ты хочешь папу? Хочу. А мама есть? Мама есть, её зовут Илана. Ты дочь Иланы? Да. И ты хочешь, чтоб я был твоим папой? Вы дедушка. Вы старый. И папы бывает старые. Раз у тебя нет папы, я могу… У меня папа. Он в тюрьме был. Он вор? Почему? Сами вы вор. Вы стащили мою маму. Я?! У кого? У меня, у папы. Папы же нет. Но он же сейчас здесь, я его увидела, я хочу папу. Не плачь. Я тоже плачу. Ты старый, ты почему плачешь? У меня тоже украли. Тоже маму? И маму и счастье. Они вместе были? Кто? Мама и счастье. У меня любовь украли. Значит ты счастливый. Почему? Потому что у тебя несчастливая любовь. Это плохо. Это хорошо: счастливая любовь проходит — несчастливая любовь остаётся навсегда. Ты откуда знаешь? Кто тебя научил? Такие маленькие не бывают мудрыми. Вы сами маме так говорили. Вы её научили. А она меня. Я? Никогда. Мама у тебя хорошая… Хорошая. Я не спрашиваю твою мудрость, я ей говорю. Кому? Маме и мудрости. Не…
Звонок в дверь. Ефим Борисович вскочил. Сон был так реалистичен, что он и не сразу понял, что спал. Звонок повторился. Это уже не сон и пошёл к двери.
— Ефим Борисович, — сосед из квартиры напротив. — У вас телевизор работает, у нас изображение исчезло…
Ефим и не сразу понял, где сон, где девочка, а где сосед; что тут реально, что виртуально. Голова кругом.
— Я вас разбудил? Ещё рано. Глаза красные. Извините.
— Я не включал телевизор, сейчас посмотрим.
Телевизор работал.
Ефим Борисович опять лёг на диван и уставился в тени дыма на потолке.
Вот уж действительно, «чем меньше женщину мы больше, тем больше меньше она нас». Пошлость в прошлом означало обычность. Реалистическая шутка. Да только не для любимых — это для любовников. Политики в любви быть не должно. Любовь — это не обычность. Он ей отдал и душу и сердце. Неужели это нельзя без политики, дипломатии, интриги?! Неужели это для любви опасно? Ефим Борисович смешал в голове смех и слёзы, шутки и печаль… Как всё объяснить? Хаос… Хаос воспоминаний…
* * *
Из дневника Е. Б.
Выспался. Потянулся. Закурил, что не делаю обычно утром, ещё лежа. К чему бы это? Да, Илана, Илана! Наваждение. Прекрасное наваждение. Тяжело, но лучше, чем, если бы этого не было. Благодарю Б-га, судьбу, что даровано мне это беспокойство в конце жизни. Но она обещала продлить мою жизнь. Пусть помужествует с судьбой. Но для этого…
…и я опять весь в думах об Илане. Наваждение, безумие. Отвлечь чем-то можно на чуть-чуть. По правде, я и не хочу отвлекаться — мне и тревожно и сладостно думать о ней и про неё. Я просто не могу существовать без того, чтобы не слышать, не видеть её.
…отвлёкшись, опять о ней и у меня ёкает сердце. В буквальном смысле, как это бывает при экстрасистолии. И мурашки по телу. Пока не могу без неё. Не получается. Я буквально держу себя за горло, чтоб не позвонить. Так хочу, так нужно услышать её голос. С телефоном не расстаюсь: а вдруг. Жизнь в ауре «а вдруг». И не могу позвонить. Я не должен усложнять её положение. Хватит… того, что и без того усложнил… Но я не волен. Не звоню. Держусь. Очень трудно.
А вообще, может, и она ОЧЕНЬ не хочет никакого моего звонка. Наконец, почувствовала: «Господи! Спокойно. Не надо не бежать, не торопиться, не думать о звонках. Рядом друг, любимый с юности, ближе не бывает, общие интересы, дочь… Не хочу».
А при каком-то стечении обстоятельств и слов расплачется и начнёт каяться, рассказывая ситуацию. Может, не всё. Но говорить ему, что всё равно, лучше его нет. И никогда такое не повторится. Всё может быть.
Я так боюсь за неё. Бедная девочка. Я так хочу ей счастья. Покоя. Лукавлю. Да умирать мне спокойнее, если я знаю, что ей хорошо. Но пока я живу…
Счастье бывшее моё!.. Не оставляй меня совсем. Да и не скажу, что покой для неё лучшее.
…жить не могу, её не видя и не слыша. Не могу. Неужели придется? И счастья ей хочу, а всё делаю для её беспокойства.
…Умерла Дина. И я быстрей пришёл в норму. А ведь она мне была так дорога. В чём же дело? А, наверное, понимание, что безвозвратно, снимает всякую надежду. А без надежды течение этой линии обрывается. А уход — надежда, хоть какая-никакая, хоть ублюдочная, хоть тлеет…. А вдруг разгорится. Как острая шизофрения или любое острое заболевание — поддается лечению или там операции; а хроническая тянется, тянется, лечится, лечится… В первом случае не до надежды… А хроническая… Уход тешит надежду, не даёт успокоится… Надежда длит безумие…
…Ужасно, что при редкой чистоте, что пала на меня …
… Сил нет, как хочу позвонить. Могу создать для неё неловкость. Надо набраться терпения. А для этого набраться мужества. Сил нет. Может, я и не знал, что такое любовь?
… Наваждение, безумие. Чтобы ни было вокруг, а в голове Илана. Идет толстая — в голове же, а Илана худая. Оденет кто-то тёмные очки — а у Иланы не такие. Придут гости — познакомил бы Илану. Предлагает мороженое — Илане бы такое не понравилось. И вдруг — хорошо, что Илана небольшая, мне так комфортно с ней. Стоит отойти от любого разговора, от любой книги, от своей работы — и Илана, Илана, Илана. И вообще, по-моему я сошёл с ума. Пришли гости, я с ними разговариваю, да вдруг отключился и я с Иланой. Наваждение. И пусть. Пусть оно будет подольше.
Ну, что со мной делать? Удушить.
…Догадал же чёрт… Да, да — я не уберег. Чтоб я себе не говорил. Виноват, виноват. Чем только? Не знаю пока. Да всем до… наверное… Испоганил свою такую чистую любовь, о которой даже и не мечтал. Слишком поздно о чистоте задумался. Наказан.
…Как о большом фантастическом счастье я мечтаю: позвоню ей и она скажет: «Я вас встречу». Этой фантастикой я живу, хотя не только она так не скажет, но могу ли я …
Утопическое счастье моё! Жизнь без нее невозможна. Хотя бы просто рядом.
Жизнь в системе: А вдруг…
Всё. Не для того пишу дневник, чтоб беспрерывно возвращаться к Илане. Да, мне приятно и хочется писать от ней. Выписывать, вырисовывать имя её, но баста. В голове, в душе, как и было. А писать надо о том, что вижу и что по этому поводу думаю.
И опять все мысли об Илане, про Илану, с Иланой… До боли во всем теле хочу услышать её голос. Если б я знал, когда она вернется. Мне кажется, уже век прошёл. Неделя. Скорее всего, в воскресенье. Совсем нет сил. Я при всём своём прошлом женолюбии и смотреть на «них» не могу. Надолго ли? Илана меня, по-моему, сделала импотентом. Только ей, наверное, под силу вернуть меня к прежнему состоянию…
* * *
— Она сейчас в другой больнице.
— Так она и раньше в другой была.
— Верно. Но та стала для меня родной. Уход из той больницы я внутренне воспринимаю равнозначным уходу от меня. Собственно, так и есть. Может, одновременность играет роль. Ты знаешь, мне надо выговориться. Я всё время хочу об этом, о ней говорить, а никого рядом нет. Вот ты приехал и терпи. Ты приехал и опять уедешь и не сможешь включаться в пересуды, что возможны вокруг нас. Это же событие для окружающего трепливого общества. И, по правде говоря, более важное для мира, чем выборы президента.
— Ну уж.
— Я говорю о Божественном, о любви. О том, что может мир спасти. А выборы — то, что могут мир погубить. Да Бог с ними.
Я о себе. Я вспоминал Маяковского: любовная лодка разбилась о быт. И думал, а моя любовная лодка разбилась о любовную подводную лодку. Да нет. Нет. Маяковский прав — любовная лодка всё же разбилась о быт. Переход на новую работу, перемена места жизни, город ли, квартира, любимый из юности, отец ребёнка, нынче муж — во всём появляется третья сила, включается чья-то помощь и прочее… Помощь ломает сложившиеся отношения. Чужая помощь. Да, да — пути Неисповедимого неисповедимы. И чаще всего через быт. Быт, быт ломает любовь.
А вообще, я тебе скажу… Мне больно это говорить, но, пожалуй, так. Был любовный угар. Слава Богу, что был. Прошёл, прошёл угар. Хвала Господу, что отдалась угару и подарила счастье нам обоим. В счастье мы оба купались. Не всем в жизни это выпадает за век, отведенный нам Богом. Морок прошёл. Амок ушёл. Жизнь заставила задуматься. Выбрала жизнь. Разумно и правильно. И теперь сотни раз благодарю я судьбу и её за то, что было. А она… Она, если умна и благородна, тоже должна благодарить судьбу за павшее на нас.
— Да дура она. Ты… И, слава Богу, что…
— Прекрати! Ничего ты не понял. Думаешь этим меня утешать? Я не хочу, чтоб её ругали при мне. И вообще, она достойна самых лучших слов и воспоминаний. Просто жизнь не райское поле. И всё равно она заслужила рай. Жаль, что если мы и окажемся ТАМ в одном месте, так и не узнаем друг друга. Тел не будет. А души… Я не хочу слушать про неё ничего плохого. Я-то её люблю. Люблю! Я стараюсь ходить в вещах, что она мне купила. Вроде бы она всё ещё со мной. Понял! А она… Ну, скажем… «Но я другому отдана и буду век ему верна». Ну, с поправкой на наш век. Всюду Пушкин… Ты знаешь, она всё время стоит перед глазами и прокручивается в голове наша последняя встреча. Я слова вымолвить не мог, хоть и автоматически что-то выдыхивал из себя. И не сказал ничего, что столько времени конструировал в ожидании возможной встречи. И даже главное: «Помни, моё ушедшее счастье, чтобы ни случилась, как бы твоя жизнь не повернулась, знай: мой дом — твой дом. Но она стояла с таким спокойным лицом, время от времени, говоря почему-то „спасибо“».
Прокрутив всё это в голове, я понял, что она меня не любила. Это был любовный угар от тоски по мужчине рядом. И дело не в сексе. Для неё это не проблема жизни, хотя не осознанно, но она рождена для более, чем будничного секса. А ведь секс важен для человека. Секс сделал человека, а не труд. Обезьяна тоже трудилась. Секс вызвал любопытство, нормальную человеческую, душевную конкуренцию. Но не секс определяет любовь. Не он двигал нашу любовь. И не было любви. Была тоска, был угар. И искрометное счастье. У меня.
А у неё… Иначе она не могла бы так вдруг оборвать. Я не сделал ничего сомнительного, плохого, ничем не обидел. Мне кажется. Разве что, нудно жаждал частых звонков, желая слышать родной голос: «Это я. Вы как?» И мне уже было достаточно. Нет, так не обрывается. Любовь оставляет, ушедши, след. Я говорил с ней и никакого следа не усмотрел. Спокойствие. Впрочем, я говорил, что она жёсткая и в случае нужды возьмёт любовь за горло. Или её сильный характер не только совладать может с любовью, но и с лицом, глазами, голосом при случившейся встрече и разговоре.
Ну да ладно. Я про себя хочу. Я всё сказал про её проблему, про её любовь-нелюбовь. У неё прошёл угар и она обрела спокойную жизнь рядом с достойным человеком. А я как любил, так и люблю. По-видимому, это моя лебединая песнь. Мне важна моя любовь. Она к ней уже отношение не имеет. Мне важно любить её. Мне важно. Она запустила мотор и он работает — вечный двигатель в пределах моей жизни. Даже если и будут у меня некие амбулаторные эпизоды, которые, конечно, не совладают с тем, что меня настигло и дало жизнь на будущее, сколько бы оно не продлилось. Это мне — не ей. Действительно… Пушкин, опять Пушкин: «Я Вас любил (люблю), любовь ещё, быть может, в моей душе угасла не совсем, но пусть она Вас больше не тревожит, я не хочу печалить Вас ничем…». Но сам-то я имею право любить, пусть и себе в подушку. Кто мне запретит!? Всё равно спасибо ей. «Я Вас любил, так искренне, так нежно, как дай Вам Бог любимой быть другим». Искренне желаю ей такого же счастья, что посетило меня, когда она была рядом. И не смей! Ни одного плохого слова. Она ангел. Для меня ангел. Святая. Да! Святая! И молчи. Я… Она… Любовь и гнев не совместны…
— Ладно. Пора тебе угомониться. «Душа покоя просит». Пора и твоей душе. Впереди беспечальная жизнь. Живи и радуйся. Отрешись. Встань на путь…
— Ничего ты не понял. Мне не нужен покой. Я живу. Я старик и страдаю. Солнечное страдание… Благодарю за счастливые страдания. Любовь — вариант мазохизма. Тянет к этим страданиям. Ведь знаешь, что впереди страдания, но и счастье. Это блядство жизнь украшает и никаких страданий. А что ТАМ, ДАЛЬШЕ, ЗА ПОВОРОТОМ мы не знаем. Здесь знаю — потому и жду. Я весь во «вдруг» — вдруг позвонит. Она. Я не расстаюсь с мобильником — вдруг!
* * *
Ефим Борисович переходил от картины к картине. Он смотрел на эти абстрактные композиции и не вдавался в идиотские размышления, что бы они обозначали. Они рождали в нём какие-то чувства, что-то его непонятно волновало, как и когда он слушал музыку. Когда он последний раз был с Иланой в консерватории, что-то похожее возникало у него и в тот раз. А что? Да кто ж его знает — волнует. Картины ли, музыка ли — всё не стандартное вызывало у него сходные волнения. А, может, и страдания. Сейчас всё было в одну точку. Он и пошёл на эту выставку в надежде вдруг встретить… А зачем? Для продления, возбуждения, вроде бы, уходящей печали? Да нет — раз пошёл, стало быть, никуда они не уходят. Вот эти разноцветные углы фигур кололи душу и…
— Ефим Борисович. Здравствуйте. Какая встреча. Вас только и можно случайно встретить. Хоть бы позвонили когда-нибудь.
Ефим расплылся в улыбке, поцеловал руку относительно молодой женщине и мучительно вспоминал, кто эта, так сказать, прекрасная незнакомка. Он смутно припоминал её. Он явно знал её — но сопоставить её с какой-то жизненной ситуацией не мог. Его привлекли украшения в ушах и на пальце, которые он видел и на Илане. Уже этим она ему понравилась. Но где, кто, когда? Да, ладно — выяснится в процессе разговора.
— Судьба должна же сводить людей при случайных встречах. Вот и без звонков свело нас здесь.
— Юра мне говорил, что последнее время вас вообще мало кто видел. Вы скрылись в своей берлоге. Вы работаете ещё?
— Считаете, что пора на пенсию?
— Отнюдь. Вы прекрасно глядитесь. Никогда не скажешь, что возраст пенсионный. Я прекрасно помню, что когда был Юрин юбилей, вы сказали, будто ваш уже прошёл. Я и тогда не поверила.
Вспомнил! На юбилее своего товарища он сидел рядом с ней и даже на своей машине довёз её до дома, который где-то недалеко от него. Теперь бы вспомнить, как её зовут. Она взяла его под руку и подвела к картине, которую ей хотелось бы купить. И в его памяти возник тот эпизод, когда она было его пассажиркой. Звали её Лена. Она какая-то бизнесменша и в тот раз, как сказала, приехала без машины, чтобы можно было выпить. Ефим Борисович решил показать, что он всё прекрасно помнит и даже их совместную поездку в тот раз.
— Может, вы и сейчас, как и тогда, без машины?
— Именно. — Она засмеялась. — Помните наш выезд. Машина на техобслуживании. Мои ребята занялись ею.
— Какое счастье. Остаётся спросить, что за ребята. И могут ли помешать нашему сегодняшнему выезду.
— Не берите в голову лишнее. Сегодня нам никто не помешает.
— Это многообещающе звучит.
«Илана меня так никогда не подхватывала под руку. Илана меньше ростом. Только украшения почему-то такие же…»
Они ещё недолго походили меж картин и скоро пошли к выходу.
— Безусловно. Я очень рада, что вас встретила. Надеялась, что вы позвоните, как и обещали в тот раз.
«Хоть убей, не помню, что я обещал. Илана заполонила всё. Какие обещания. Я помнил только, если кто-то заболел и просил о помощи. Как у всякого начинающего маразматика, профессиональная память держится дольше».
Лена беспрерывно что-то говорила, а он мысленно вспоминал Илану и почему-то сравнивал их.
— Может, Леночка, поедем ко мне? У меня дома тоже есть картинки. Они вам могут понравиться. Но не для продажи.
— Вы думаете, я их смотрю сугубо меркантильно?
— Не думаю, но к слову пришлось. Так ко мне?
— Вообще-то я сегодня маненько притомилась.
— Кофием, так сказать, отпою. Большего, пожалуй, ничего нет. Алкоголь, впрочем, дома имеет место. Но пить тогда придётся вам в одиночестве. Иначе я вас не смогу отвезти домой.
— Ладно. Там разберёмся. Едем к вам.
Дома он подвёл её к стене, где расположилась небольшая его коллекция. Лена смотрела их, хоть и глубокомысленно по виду, но на самом деле весьма рассеянно. Они переступали от картинки к картинке. Ефим рассказывал, что, кто и откуда. Недолго. Пожалуй, они даже и не переступали — всё рядом. Не зал и не коллекция, а несколько картин. Лена придерживала его за локоть.
«Илана бы… Так то… А сейчас…»
— Сейчас кофе сделаю.
— Не надо. Дай лучше выпить. У тебя что?
— Коньяк, водка.
— Налей немножко коньячку. Может, ты тоже выпьешь? С поездкой разберёмся. Такси есть. Видно будет.
«Илана так и не перешла на ты. Разберёмся. Может, хочет остаться. Вот и разберёмся».
Сначала они приняли душ. Вместе. Под струями воды это получалось не хуже. Но всё же заканчивали они столь удачный вечер в постели. Руки у ней вначале были холодными, но после душа он прикосновение их просто не ощущал, пока она не перешла границы спокойных областей. Но тут уже не имело значения, теплы ли руки иль холодны.
«Как всё просто. И никаких лишних слов. Но о чём-то всё же надо говорить. Это с Иланой можно было молчать. С Ариной… А если бы Дина дожила до нынешних дней… А где Арина?».
Поскольку он выпил, то домой он её отвёз утром, перед работой.
* * *
Ефим Борисович прохаживался поблизости от входа в галерею и поджидал Лену. Он подошёл к углу дома, и вдруг из-за угла прямо на него вышла Илана с каким-то мужчиной. Ох, эта, вечно ожидаемая, система «вдруг»! Дождался. Ефим, будто не существует инерции, застыл словно столб. Сильный характер Иланы, видно, тоже дал сбой. Она изменилась в лице — то ли испуг, то ли растерянность, то ли… И всё же Ефим первый отреагировал на встречу:
— Здравствуйте, Илана Владимировна.
— Здравствуйте. — А теперь больше растерянность, чем испуг. Хотя… — … Поз…познакомьтесь… Доктор… Ефим Борисович. Григорий Анатольевич… Мой муж.
Ефим Борисович чуть поклонился и протянул руку. Григорий Анатольевич, видно, замешкался, что-то уронив, и нагнулся, поднимая какую-то бумажку, не заметив протянутой руки. Ефим разглядел — это был пригласительный билет, по-видимому, на этот же вернисаж, откуда только что вышел он.
Илана молчала, то ли выжидая начала разговора, то ли собираясь начать прощаться. Ситуация неловкая.
— Как наша больная, Илана Владимировна? — Спасительный, обычный для докторов, повод начать разговор. Не говорить же: «Какая хорошая погода. Конечно, в такую погоду приятно погулять». И вообще, какую же больную имел ввиду Ефим Борисович?
Илана тоже доктор, поэтому и ответила вполне профессионально:
— Спасибо. Благополучно. Не жалуется.
Вмешалась третья сила: А может, и первая:
— Кто, Иланочка? У вас общие больные?
— Да нет… — Илана чуть помолчала, как бы вспоминая имя больной, но, на самом деле, скорее всего, придумывая. — Доктор…
Ефим Борисович, имея больший опыт, чем Илана, нашёлся быстрее, хотя… Ведь, кто ж её знает, что она говорила. Так можно поставить её в неловкое положение.
— Я об Ашхен Кареновне.
— А, понял. Вы тот хирург, что оперировали нашу Ашхен? Очень рад. Очень рад. Приятно познакомиться. — Григорий Анатольевич протянул руку и они утвердили знакомство рукопожатием. — Тогда мне всё понятно. Имя ваше почему-то не произносилось. Страна должна знать своих героев. Спасибо вам.
— Большого героизма тут не было.
Илана переводила глаза с одного на другого. Молчала.
— Ну, как же, Ашхен мне говорила, что вас под вечер уже поймали. Вы уже домой уходили. В свободное время своё — значит уже героизм. Ашхен говорила, что вы дружите с Иланой. А имя не называла.
— Да мы с коллегой часто пересекаемся на почве человеческих недугов.
Ефим Борисович начал осваиваться с двусмысленной ситуацией. Илана молчала. Наверное, боялась сказать что-либо неточное. Не было у неё подобного опыта.
— Недуги, болезни, борьба с ними, в наше время важная и прочная основа для человеческих контактов.
Илана молчала.
— Да, конечно. Особенно в моём возрасте. Илана Владимировна обещала, что, когда придёт моё время, она возьмёт на себя бремя борьбы с моими старческими недугами.
Илана молчала.
— Вы не производите впечатление страдающего старческими недугами. — Григорий Анатольевич засмеялся. — Вполне мужчина в соку. Никак не старик. — Илана молчала. — Что ты молчишь? Я прав, Илечка?
— Хм. Как интересно вы создали это уменьшительное. Что-то вопросительное: или?
— Вопросительность имени этого мне в голову не приходила. Ефим Борисович, вы у Ашхен были? Или у нас? Наши квартиры на одной площадке. А она как раз сегодня говорила, что хотела бы вам показаться. Сам Бог нас сегодня воссоединил. Если вы свободны, может, сейчас и поедем.
— Гриша, нельзя же так, не предупредив Ашхен. Может…
— Если можно, чуть позже. Я отвезу даму, с которой я был на выставке и приеду.
Илана молча пожала плечами. Доктор видел — муж нет. Доктор пренебрёг пожатием. Муж на бумажке записывал адрес. И стал объяснять подъезд к дому. Ефим Борисович дом знал, а квартира была ему неизвестна. Он взглянул на Илану. Показалось, что выступили слёзы… Да, нет… Показалось. А может, ему этого хотелось… Может. Ждал.
Илана с мужем уехали, а вскоре и Лена подошла.
— Ты чего какой не такой?
— С любимой встретился.
— С Иланой?
— Откуда ты знаешь про неё?
— Да все знают. Секрет Полишинеля! И от этого такое лицо? Знаешь…
— Не надо Лена…
— Что не надо-то! Ну, давай, давай. Страдай, тюфяк. — Лена резко развернулась и пошла. Он не стал догонять.
Бензин не жалел. Проехал по всему Садовому кольцу. Прокатал время. Остановился на прежнем месте.
Ехать — не ехать. Как быть или не быть. Уже сколько раз за последнее время он воздвигал альтернативность бытовых проблем на уровень гамлетовских. Собственно, не бытовых — любовно-сексуальных. А что может быть выше в нашей повседневной жизни? Что строит жизнь? Не подготовка же к войне. «Любовь, голод, тепло. — Подумал он, почувствовав аппетит и с надеждой, что раз позвали, значит накормят. — Познабливает. Это-то от нерва».
Ещё недавно в ожидании Иланы он ни о какой еде и думать не мог. Все нутро его заполнялось ожиданием. А сейчас есть захотел. Холодно стало. Любовь… не ослабла, но как-то переиначилась. Появился муж, и в душе родилась какая-то игра. Это не чистая любовь безо всяких примесей. Так было. Игра — политика. Чувствовал ли он сам это? Он стремился сохранить дружбу с ней в любом качестве. Не терять же её полностью. Для чего жил, если любезные душе его люди будут уходить лишь в память?
И это уже была игра. Он думал — считал. Любовь ценна бездумностью. Чистотой чувства. Ум воспитывал отношения к чувствам, породил нынешнее, нынешнюю любовь… и уходи. Ум — ты сейчас не нужен.
Они мирно сидели за столом. Ашхен Кареновна задала уже все свои вопросы. Получила добро на самостоятельную жизнь без родственников.
— Если ведь что, то Илана Владимировна так же шустро, как и в тот раз, найдёт вам необходимую помощь.
— Конечно, конечно. — Весьма лаконично отреагировала Илана.
— Илечка сегодня у нас малословная. Погода что ли действует. А, Илечка?
— Возможно. — И пошла, по-видимому, хозяйничать на кухню.
— Вот и ходит туда-сюда. Я ж говорил, что лучше бы нам на кухне сидеть. Всего нас… ну с Ирой, с дочкой пять.
Илана входя, услышала и сказала:
— Ефим Борисович не любит на кухне.
— Вот хозяйка у меня. Уже успела узнать вкусы гостя.
Григорий Анатольевич также пошёл на кухню. Илана просила помочь. Дочка Ира сидела у окна в кресле, читала и не принимала участия в разговоре. Но Ефим Борисовичу очень хотелось включить её, послушать, что и как она говорит. Он неплохо освоился в сложной этой ситуации. Видно, помогал ему весь его прошлый опыт. Пока они с Иланой были, так сказать, один на один, вся его прошлая жизнь как бы улетела без всяких следов. Но чуть вернулась неправедная ситуация, чуть его нравственность вошла в прямое соприкосновение с моралью, как тотчас вернулась изворотливость опытного блядуна.
Но тяга видеть Илану оставалась и он, вперившись в дверь, замерев, словно охотничья собака в стойке, ждал возвращения его бывшей деточки. Ещё и ещё раз увидеть её. Сказать он ей ничего не мог, услышать мог почти односложные звуки, так хоть насмотреться…
И молчаливая девочка его смущала. Почему она молчит? Она ж почти свидетель. Эх, рассказала бы, да стала бы его … сообщником что ли? Мечтал, мечтал доктор о несбыточном и невозможном.
Он решил включить и Ирочку в орбиту их жизненной толчеи.
— Ирочка, а чей это портрет висит на той стенке?
— Это фотка бабушки Иры. Она сейчас в Канаде со своим вторым мужем. Там и сестра её с сыном. Как дед умер, они вскоре и уехали.
— А вы?
— Мама говорила, что она папу будет ждать. Что он придёт, что она верит… Ну, и… а что на самом деле, это у мамы спросите точнее.
— Мне плохо видно издали. Что-то знакомое. Она где жила? В Москве?
— Конечно. Мы уже несколько поколений москвичи. А вы подойдите поближе, посмотрите.
Ефим Борисович подошел. «Боже, как похожа на постаревшую Арину. Та рыжая, а эта серая какая-то. Наверное, седая. Очень похожа».
— Ирочка, а как зовут бабушку?
— Как и меня. Баба Ира.
— Ну, ты-то не баба, а просто Ира. — Попытался улыбнуться. — Её всегда и дома так звали? Или вот папа зовёт маму Илей. А бабушку?
— Дед её звал Ариной. Она и сама это имя любила больше.
У Ефима Борисовича защемило сердце.
«Я ведь не знаю, сколько лет Илане. Боже мой! А когда это было у нас. Сейчас я не высчитаю. Да нет — не может такого быть».
— Ирочка, а бабушка рыжая была?
— Ефим Борисович, я её знаю уже седой. Говорят. А что это у вас.… А вот и мама. Мам? А баба Ира рыжая была.
— Да. А чего тебе вдруг …
— Ефим Борисович спросил.
Илана повернулась к нему:
— Что с вами, Ефим Борисович? Покраснели. Вам плохо?
— Нет, нет. Сейчас пройдёт.
— Что пройдёт?
— Покраснел — значит, давление поднялось, наверное.
— Сейчас померим. — Илана пошла в другую комнату. Наверное, за аппаратом.
«Я же не могу спросить, сколько ей лет. Я не вспомню, когда это было. Вот Дина все даты помнила. Но про это она не знала. Наверное, сорок лет уже… Седая. И спросить про неё нельзя. Илана совсем тогда… Как же я так… И не знаю, сколько ей лет! Ни к чему вроде бы… Знобит. От нервов… Давление и подымается от… Чёрт с ним… Неудобно… Панику поднял… О какой любви… Старик, а туда же… Неужели, это могло быть?… Нет, нет. Она струйкой дыма пыталась проткнуть моё колечко. Тогда не получалось… Как приятно, когда она прикасается… Конечно… Сейчас намерит… Не то… Вижу. Как нехорошо…»
— Илана… Сейчас пройдёт, пройдёт… сейчас.
— Возьмите эту таблетку. Под язык.
— Вижу, знаю. Я доктор, Иланочка. Помнишь? А мама пишет, звонит?
— Причём тут мама?
— Так, к слову пришлось. А сколько ей лет?
— Ефим Борисович… — Она отошла к телефону. И говорит то ли мужу, то ли дочери. — Он не адекватен. Причём тут мама!
— Илечка! Надо скорую. Или пусть до утра у нас…
— Не называй меня, пожалуйста, Илечкой… Надоело…
— Ты что?! Ты-то чего не адекватна. Надо его уложить на диван.
Ефим Борисович поднялся.
— Я поеду. А то совсем развалюсь. Доченька… Это я… Нет…
Григорий Анатольевич придержал его и вновь усадил.
— Ефим Борисович, надо «скорую» вам.
— Да вы что! Я сам. Домой…
— Ефим Борисович, в какое положение вы ставите меня, врача? Ну, давайте, я вас отвезу к себе в больницу. Там сделаем электрокардиограмму и решим.
— И я с тобой. — Поддержал Илану муж.
— Нет, нет. — Замотал головой Ефим Борисович.
— Нет. Гриша. Я сама отвезу.
— А если…
Илана так резанула его взглядом, что он не продолжил.
Включилась доселе молчавшая Ашхен:
— Меня довезла прекрасно. А как я узнала, было опасней…
Ефим Борисович и Илана усмехнулись оба, но уж очень по-разному.
«Да. Пусть отвезёт. Если одна. Узнаю, сколько ей лет. Ничего себе… Ну, болит немного. Ерунда. Сейчас пройдёт. Да, да, да. Пусть отвезёт сама. Да, да, да, — это я помню. Ой, да, да, да… Зачем нам этот марафон. Ой, а ведь и Арина поминала марафон. Как вчера. Почти полвека… Да, да. Поехали. Именно так. Увезёт. Увезу…»
И поехали.
И увезла.
И увёз. — Система «вдруг» сработала.


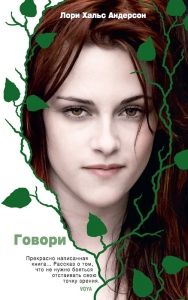



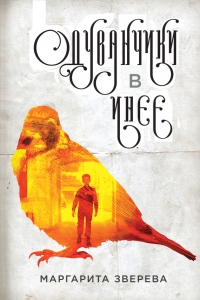
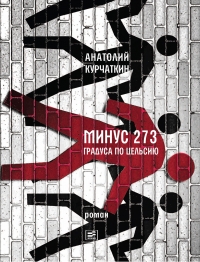
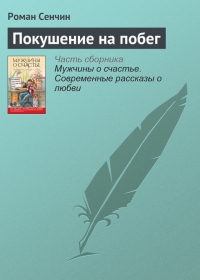
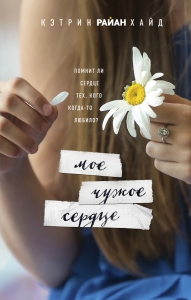
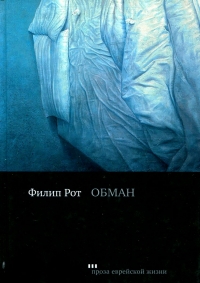
Комментарии к книге «Любовь. Бл***тво. Любовь», Юлий Зусманович Крелин
Всего 0 комментариев