Мир по Стасюку
Чтение «Дукли» Анджея Стасюка — это передышка. Оно дает возможность отдохнуть от обременительных причинно-следственных связей, в которых мы запутаны с начала и до конца жизни. Раскрывает нам глаза и показывает объективный мир, который существует рядом с нами, вокруг нас, без нас, независимо от нас, мир, несомненно, более подлинный. Новый сборник художественной прозы Стасюка создан природой, воображением и помойкой цивилизации. У автора безошибочный взгляд и мастерская рука художника, живописца. Пока я не начал читать его, я и не предполагал, что возможно так живописать словом. У Стасюка необыкновенно богатый ресурс слов, но он бережлив и не бросается ими, как это делают молодые, которые только что дорвались. Все взвешено и обдумано, и я не знаю в прозе более метких и поразительных метафор. У него абрис облака на закате солнца «тлеет, словно бумажный свиток», дикий виноград осенью «краснеет и стекает со стен домов, словно густая кровь», съеденная волками лань «похожа на развороченную груду палок и грязных лохмотьев», мороз «замораживает даже время, сплавляя его в единое целое с воздухом и светом». Чем эта проза отличается от поэзии? Прежде всего безыскусностью: «Люди капля за каплей вытекали из домов», «свет автомобильных фар лизал стекла часовни», «деревня осталась внизу. Дождь пытался смыть ее с карты», «дворники» машины «скребли о лобовое стекло, словно хотели пробраться внутрь».
Стасюк — писатель настоящего, которое он улавливает всеми пятью чувствами, ненасытно, едва ли не отчаянно, потому что знает, сколь оно хрупко и слабо, как быстро «ветшает и изнашивается». Он намеренно избегает прошлого, перед которым мы еще более беспомощны, но иногда не может перед ним устоять, и в «Дукле» бесценна такая, например, минута его слабости: «Дрожки однолошадные из Ивонича 3 кроны, двухлошадные 7 крон, дилижанс крона пятьдесят. (…) Спать можно на постоялом дворе Лихтманна за крону пятьдесят, откушать в покое для завтраков у пана Хенрика Музыка. Три тысячи жителей, из которых две с половиной — евреи. Год, скажем, 1910-й. Все вместе напоминает фотографию, тонированную сепией, или старый целлулоид — и то и другое легко горит и оставляет после себя пустое место. Это как если бы сгорело время». Стасюк сознательно отрекается от памяти («этого выродка времени, над которым никто никогда не имел власти»), но иногда вынужден сам признать, что память — это единственная «идея о воскрешении», и в «Дукле» она очень ему пригождается, когда он возвращает к жизни своих бабку и деда.
Стасюк — свидетель настоящего, которое он достоверно описывает. Великолепно запечатлел он прибытие в Дуклю Папы Римского, представив красочную картину ярмарочной, дионисийской атмосферы с 24-строчным перечислением всего того, из чего она сложилась. Не обязательно соглашаться с выводом, что «мир — это бесконечный перечень», но можно целиком положиться на абсолютное зрение и слух автора, который видит и слышит все — даже то, чего Папе не захотелось бы услышать: «Наконец-то и к нам приехал. Проветрит этот жидовский смрад».
Главным героем у Стасюка является материя, одушевленная и неодушевленная, более важная по сравнению с человеком, которого она «стряхивает с себя, точно собака, стряхивающая воду». И поэтому я совершенно не понимаю, как рецензент М.Ч. (Перевал на ту сторону // Gazeta Wyborcza. 1997. 18 ноября) мог углядеть в «Дукле» «жуткий эгоцентризм». Я не вижу там даже антропоцентризма, ведь то, что «художник пережил, о чем вдруг вспомнил, что выпил и куда поехал», это лишь необходимая человеческая точка отсчета, без которой не было бы видно масштабов мира, образа. Рассказчик Стасюка не субъект, а объект, даже в его встрече-инициации с Красотой, в ее эротическом языческом облике. Он — это глаз, ухо, камера, магнитофон, он регистрирует ценные подробности, которые обходят вниманием обычные ухо и глаз. На этом как раз и строится искусство, а то, к чему рецензент относится пренебрежительно, как к «потоку зрительной памяти», является особенным достоинством Стасюка, его исключительным талантом, ставящим его в ряд мастеров. Точно так же не понимаю я, как можно считать «Дуклю» «сентиментальной до мозга костей». Для меня она прежде всего объективная и материальная, каждое воскресенье теряющая «смысл полезности, хлопот и даже элементарной очередности причин и следствий». Стасюк подсматривает действительность, обнажает ее и иронизирует над ней — где же тут сентиментальность?
«Переживания» рассказчика в «Дукле» по большей части банальные, тривиальные, незначительные, поскольку так видит автор существование рядового смертного обитателя Земли. Однако наградой являются эстетические ощущения, которыми одаривает нас художник, и в этом смысле «Дукля» — щедрый дар. И это касается не только оживленных воображением встреч с саркофагом, но и совершенно безличных картин, в которых вроде бы нет никакого действия и фабула за ненадобностью отсутствует, поскольку они сами — действие. «Поток визуальной памяти» Стасюка — регулируемый и контролируемый, намеренный и вымеренный, и обрывается он потому, что, по мнению автора, наша действительность не имеет причинно-следственной непрерывности (с чем, кстати говоря, я не могу согласиться, как и не поощряю беспорядка).
Стасюк находится под влиянием философии Востока, которую понимает, как мало кто другой на Западе. Вот бесценная картинка: «Никто ничего не покупал, а эти, из Львова или, может, Дрогобыча, не меняли позы, окунутые в молочный свет невидимого солнца, затопленные ожиданием, словно истинные люди Востока, которые подозревают, что время не имеет конца и поэтому надо экономить движения, из которых сделана жизнь, чтобы хватило на дольше». Это, вне всякою сомнения, заслуживающая внимания альтернатива для планеты, которую пожирают истеричное предпринимательство и суетливость родом с Запада. Стасюк пишет, что «граница между атмосферой, предметами и людьми сглаживается». Я бы сказал, что в его картинах — так как это прежде всего картины — граница эта стирается и исчезает, и если у него была задача «попытки доказательства первоначального единства всего сущего», то эта попытка ему удалась.
Я удивлен, почему критик, сам признавая, что большая литература может быть «большим собранием миниатюр», не видит при этом, что сборник «Дукля» — в котором даже одноименная 80-страничная повесть также представляет собой цепочку миниатюр — является тому доказательством, а не опровержением. И хоть сам я предпочитаю прибегать к фабуле, не соглашусь, что бесфабульная трагедия «невообразима, как и трагедия буддийская». Стасюк, у которого есть нечто общее с буддийским стоицизмом, доказывает, что такая трагедия (вмонтированная в форму бренности человека и мира) существует, и он убедительно ее описывает. Я не принадлежу к той же школе, что Стасюк, однако не согласен, будто писатель «перешел на худшую сторону прозы» (у литературы может быть несколько одинаково хороших сторон), и не уговариваю его изменить направление, имея в виду «массы людей с их судьбами, надеждами и обманутыми мечтами». Если я и могу что-то поставить в упрек восточной философии Стасюка, то единственно излишний оптимизм, потому что, боюсь, земля не успеет «стряхнуть» нас с себя, и это скорее мы ее прикончим, как бактерии, как неизлечимый вирус.
Стасюк — писатель, с которым не надо соглашаться, чтобы читать его с удовольствием. Возможно, он и не для широких масс, но в мире так называемой массовой культуры (которую он видит и описывает как никто другой) это является скорее достоинством, чем недостатком. Впрочем, я вовсе не вижу препятствий, чтобы «Дуклю» прочел — и внимательно — каждый.
Хенрик ГринбергСередина лета, Погуже
Под утро, часа в четыре, ночь неторопливо приподнимает свой черный зад, так, словно бы, объевшись, вставала из-за стола и шла спать. Воздух похож на холодные чернила, он стекает по асфальтовым дорогам, разливается и застывает черными озерами. Воскресенье, люди еще спят, вот почему в этом рассказе не должно быть фабулы, ведь никакая вещь не может заслонять собой все остальное, когда мы тяготеем к небытию, к констатации, что мир — это лишь минутная помеха в свободном течении света. Лутча, Барыч, Харта, Малы Дул, Татарска Гура, выцветшие зеленые таблички указывают направления, но там ничего не происходит, ничто не шевелится, кроме снов, которые, как кошки или летучие мыши, видят во мраке, и кружат, кружат, задевая стены, святые образа, паутину и все, что там понакопилось за годы. Солнце пока еще где-то глубоко, оно пробуравливает другой мир, но через час выйдет на поверхность, выберется, словно древоточец из полена. Тарахтенье машины слыхать, наверное, за несколько километров. Шоссе бежит по хребтам холмов, падает, снова взбирается вверх, все выше, выше, и в этой полутьме, среди призраков домов и деревьев, создает видимость спиральной башни.
В эту пору небо почти неотделимо от земли, и граница еще не определена; это лишь разные степени темноты, в которой есть где разгуляться воображению. Но что такого может вообразить себе человек — кроме всех тех вещей, которые видели здесь другие, вещей банальных, сложившихся из мутных и расплывчатых форм действительности; это лишь разновидность куриной слепоты, комедия испорченного телефона. Но сказать по правде, взгляд прикасается к темным, холодным и влажным краскам точно так, как ладонь — к гладкому бархату, к теплой подкладке пальто, когда на дворе зябко, так же бессознательно и с таким же удовольствием.
Не будет фабулы, не будет истории, и уж тем более ночью, когда пространство лишено ориентиров, когда мы едем из Рогов до Рувно и дальше, через Мейсце Пястове. Путешествуем среди названий в растворе чистой идеи. Действительность не сопротивляется, так что всякого рода истории, всякая последовательность, старые супружеские связи причин со следствиями одинаково лишены смысла.
Комборня. Откуда берутся эти названия? Сколько времени прошло с той поры, когда они хоть что-то означали! Поднимающееся к небесам фырчанье автомобиля напоминает стрекотание швейной машинки. Темнота расползается по швам, и наметка путешествия ничего не дает. Горизонт на востоке блестит, будто серебряная змея, которая замерла, растянувшись на вершинах холмов. Этот холодный цвет предвещает жару и пыль, и нужно торопиться, нужно взбираться на эти застывшие волны, соскальзывать вниз, на дно мертвого моря, где дома стряхивают с себя темноту, словно собака воду, и белеют, похожие на черепа в черных поблескивающих очках. И они все там. Лежат навзничь или на животе, спиной кверху, и видят свои сны. Безмятежно или вспотевшие от волнения, укрытые или в смятой, всклокоченной постели, а некоторые в субботней своей одежде. И понятия не имеют, что кто-то о них думает. Собственно говоря, они не существуют. Сознание отдыхает, болезнь жизни утихла; они похожи на клочки тяжелой материи, почти мертвой и почти счастливой. Ян, Станислав, Флориан, Мария, Цецилия — литания, обращенная к древним святым. Еще секунда — и время задует их, словно ветер свечу. Они перенесутся в минувшее, и ничто уже не будет угрожать им, ни встающий рассвет, ни знойный день. Тени во мраке.
Домарадз. Мгла уходит в небо. Обнажает стога сена, черные заборы и островерхие крыши. Воздух темно-зеленый. Плотное небо отрывается от горизонта. Сквозь трещину виден свет другого мира. Те, кто умирал, думали, что направляются именно туда.
* * *
Середина лета, Погуже, рассвет набирает воздуха в легкие, и каждый следующий выдох светлее предыдущего. Еще целый час можно будет воображать себе жизнь других людей. Мертвая пора, когда мир постепенно становится видимым, но еще безлюден. Свет имеет оттенок расплавленного серебра. Он тяжелый. Разливается по горизонту, но земли не освещает. Здесь все еще царствуют полумрак и домысел, а вещи — не более чем собственные тени. Небо набухло сиянием, но сияние все еще замкнуто в нем, как воздух в детском воздушном шарике. Они лежат в своих домах, и история каждого из них могла бы покатиться в любую сторону, кабы не судьба, которая живет с ними под одной крышей, держит за пазухой некоторое количество вариантов, но никогда не перешагнет через самое себя. Святые с образов не смыкая глаз присматривают за ними. Они недвижны, свое уже выполнили. Их идеальные облики — это зеркала, к которым теперь прикасается время в своей чистейшей ипостаси. Ни жест, ни поступок не могут его замутить. Так выглядит небо: жизнь здесь хоть и существует, но на всякий случай не принимает никакой формы.
Я должен стать духом, должен проникать в их дома и выискивать все, что они укрывают. Воображение бессильно. Оно повторяет лишь виденное и слышанное, повторяет измененным голосом, пытается совершить грехи, которые давно уже совершены.
Еще минута — и заря взметнется выше, и будет видно собак, что стоят у своих будок или у дороги, но не лают. В эту пору обоняние и слух постепенно утрачивают значение, а зрение его пока не обрело, так что лучше считать все сном, собачьим видением. Кот примостился на парапете кирпичного дома. Он выбрал место, куда упадут первые лучи солнца.
Не будет фабулы, с ее обещанием начала и надеждой на конец. Фабула — отпущение провинностей, матерь глупцов, но она исчезает в занимающемся сиянии дня. Темнота или слепота придают вещам смысл, тогда как разум должен искать дорогу во мраке, он сам себе светит.
Видны уже заборы, деревья, весь этот бардак, свалки хлама во дворах. Зарытые в песок остовы машин рассыпаются терпеливо, подобно минералам; колья, жерди, холодные печные трубы, дышла телег; мотоциклы с понуренными головами; притаившиеся за углом сортиры; столбы в трауре провисших проводов; воткнутый да так и оставленный заступ — все это есть, все на своих местах, но ни одна из этих вещей пока не отбрасывает тени, хотя небо на востоке напоминает серебряное зеркало, свет отражается в нем, но остается незримым. Так, верно, выглядел мир прямо перед самым запуском: все было приготовлено, предметы застыли на пороге своих предназначений, как замершие от страха люди.
* * *
Пару месяцев назад мы проезжали здесь с Р. Была середина дня, апрель, и ехали мы в противоположном направлении. Между деревьями лежал снег. Облака застыли на одном месте, свет был разреженный и неподвижный, он расступался перед взглядом, и самые далекие хребты, дома и лесные гребни видны были так отчетливо, словно находились близко, но в слегка уменьшенном варианте. Мы не встретили ни единой машины, не видно было и людей. Раз только мелькнуло за темным стеклом чье-то лицо. Желтоватые пропитанные водой луга стекали с пригорков, и на дне долины их поглощал набухший поток. И надо всем повисла неподвижность. Занавески на окнах, затворенные двери, калитки, ворота, пустые автобусные остановки — и хоть бы одна глупая курица. В движении были только мы, вода внизу да клочья дыма над избами. Безлюдный по самые границы пейзаж выглядел декорацией, в которой только должно было что-то произойти, или уже произошло. Пространство господствовало над окрестностью, заполняя собой каждый закоулок мира, словно жидкое стекло. Мы разговаривали. Но во всех этих домах были люди, и сюжет все ускользал от меня, ведь все они — дети, женщины, мужчины — имели свои имена, и кровь текла по их венам. Пусть и невидимые, они жили каждый своей жизнью. Десятки, сотни, а по всей трассе тысячи тел и душ пытались каждый на свой лад справиться с днем. Сидели вокруг столов, около печей и телевизоров. Их головы были населены всеми теми, кого они когда-то знали или помнили. Ну а те, в свою очередь, знали и помнили своих, и так далее… Мы с Р. разговаривали, но сюжет у меня все обрывался, потому что бесконечность всегда ужасает.
Временами поднимался ветер, гнал тучи, и начинал падать снег, который тут же таял. Был Страстной Четверг, мы возвращались окольным путем из Ярослава. Нам хотелось увидеть Пшемысль, но там кружила вьюга, зеленые таблички дорожных указателей были облеплены снегом, так что посетили мы только холодное помещение магазинчика в какой-то периферийной деревушке, где Р. купил минеральную, а я что-то там еще — очень хотелось пить. Мы вырвались из этой белизны, она швыряла нам вдогонку горсти снега, но мы оказались быстрее. Впереди было светло, далеко и пусто. Жизнь не собиралась себя проявлять. Холмы, дома, вода, тучи имели четкость какой-то нечеловеческой фотографии. В таком пейзаже мысли звучат механической музыкой. Их можно рассматривать, можно слушать, но смысл их всегда враждебен, словно эхо в колодце. Стеклянный колпак неба плотно накрывал землю, воздух куда-то подевался, уступив место чистому пространству, и наше путешествие, движение нашего автомобиля становились все менее очевидными.
* * *
Но сейчас — середина лета, скоро будет Дынув, и я вспоминаю эту дорогу год назад, когда мы ехали туда с В. Стога сена гуськом вскарабкивались на пригорки, исчезали за ними и появлялись уже на новых возвышенностях, и наконец их поглощали темно-зеленые сумерки. Потому что был вечер, да еще вечер субботний. Краем дороги, пошатываясь, шли парни, ночь выходила им навстречу и была так огромна, что каждый из них надеялся на исполнение всех своих желаний. Под деревьями, у магазинчиков, в садах стояли пластмассовые столики и стулья. Они походили на стада маленьких скелетов. Люди пили пиво «Лежайское» или вязкое, напоенное зноем фруктовое вино. Женщины сидели, скрестив руки на животах, мужчины жестикулировали, дети ели чипсы, образовывая собственные кружки, — точно копировали в миниатюре отдых взрослых. Бело-красные зонтики «Prince», бело-голубые «Rothmans», пурпур на западе, на востоке темная синева. С холмов бежали к шоссе проселочные дороги. Люди спускались по ним, ища себе развлечений. Чистые рубахи белели, словно паруса или ду́хи. Мы ехали медленно. Местность могла напоминать ожившую карту, похоже, никто не остался дома, хотя окна светились серым светом телевизоров. Возможно, те одиноко стояли там в пустых избах в ожидании, словно верные псы. «Лежайское» и густое от зноя вино. Парни пропадали в темноте, девушки, постояв еще с минуту в светлом кругу, потом тоже исчезали. За витринами магазинов — продавщицы, которые уже переоделись в свою одежду, отправив халаты в стирку. Это был душный карнавал сумерек, когда из зарослей и фруктовых деревьев надвигается мгла. Это там собирается ночь и затем выходит в мир, а они — входят в нее, исчезают, идут сквозь темноту поодиночке, светят огоньками сигарет и встречаются где-то там внутри, подальше от глаз. Стекла у нас в машине были опущены. Я чувствовал тот запах, словно собака, умеющая думать.
На площадях перед костелами воздух был неподвижен. Как если бы вся пустота мира собралась именно там. Маленькая дворняжка бежала наискосок по вытоптанной сухой земле. Башня костела медленно дотягивалась до неба, опускавшегося все ниже и ниже, а собака, ее живое присутствие выглядели шалостью, крупицей безумия, занесенной из какого-то другого времени. Повсюду вокруг в пучине разогретого за день пространства люди высверливали себе проходы, словно черви в сыре, а на храмовых площадях тишина и холод оформлялись в нечто, напоминающее большие неровные аквариумы.
В. вел осторожно, потому что субботние вечера полны призраков. Люди раздваиваются на себя и собственные тайные желания и посылают свои почти невидимые изображения попробовать чего-то запретного. Парни вспоминают приснившиеся им сны, пока, возбужденные, идут обочиной шоссе и высматривают девушек, которые примеряли сегодня платья перед зеркалами, но ткань их одежды становилась невидимой, и они разглядывали свои обнаженные тела. Со скоростью пятьдесят километров в час мы плыли сквозь воздух, густой, как вода, полный множащихся отражений, мути и волн. Где-то под Дубецком небо наконец соединилось с землей, и окончательно наступила ночь.
* * *
Все эти путешествия напоминают прозрачные фотопластинки. Они накладываются одна на другую, как стереоскопические изображения, но образ от этого не становится ни глубже, ни отчетливее. Нельзя описать свет, его в лучшем случае можно снова и снова себе представлять. Мужчина в бурой рубашке и тиковых штанах выходит из дома и направляется в сторону конюшни. Семь секунд. И все. Мы уже дальше. Не исключено, что этой ночью он зачал ребенка, возможно, он успеет еще вывести коня на пастбище и, закурив первую за сегодня сигарету, умрет. Его существование сложено из великого множества минувших жизней, и каждая представляла собой целый мир. Действительность — это только неопределенная сумма бесконечностей. А ребенок в лоне добавляет к этому свое, и все начинается еще раз с самого начала. Семь секунд — прежде чем он исчез за красным углом. Рассказ не трогается с места, предохраняя от безумия.
Утренние тени стелются по земле, словно размазанные ветром. Черные, но нерезкие, так как роса рассеивает и преломляет свет по краям. Даже внутри этих пятен чернота не убедительна, она напоминает, скорее, отражение черноты. За Дынувом река Сан касается дороги своим согнутым локтем. Нужно опустить козырек перед стеклом, потому что солнце светит прямо в глаза. Висит над самым шоссе. Асфальт шелушится, точно старая позолота. Река внизу — цвета зеркала в темной комнате. Блеск пока что разливается поверху, а будущее возможно, но не обязательно. Перед Дубецком проезжаем мимо автомобиля. Видны его черное брюхо и четыре колеса сверху. Он напоминает животное, которому захотелось поиграть. Менты держат руки в карманах, как бывает, когда все уже закончилось. Голубой свет мигалки бессильно вращается в сверкающем утреннем воздухе. Несколько зевак висят на заборе у канавы. Глядят, курят, пускают сизоватый дым. Такая неподвижность всегда воцаряется на месте смерти. А солнце поднималось все выше, чтобы люди могли разглядеть мир.
Дукля
I
Мы приехали днем. Люди стояли на углах улиц и чего-то ждали. Было тихо, ни уличного гомона, ни особого движения, мужчины курили, женщины разговаривали приглушенными голосами. Полицейский в белой рубашке сказал нам, что это похороны, умер заслуженный пожарник.
Когда бы я ни оказывался в Дукле, всегда там что-нибудь происходило. В последний раз был тот морозный декабрьский свет в сумерки. В воздухе расстилалась темная лазурь. Она была прозрачна, но осязаема и тверда. Опустилась на квадрат Рынка и застыла, подобно замерзшей воде. Ратуша пребывала в толще хрупкого льда, который заострил грани башни и аттика, а люди заранее куда-то предусмотрительно разошлись. Ведь то, что мертвому камню нипочем, телу может представлять угрозу. Тени, временами скользившие по стенам, принадлежали пьяницам. Они были теплые внутри, так что никакая опасность им не грозила. Но ни один из них все равно не отважился срезать расстояние, пересечь Рынок наискосок и ступить на этот остекленевший звенящий участок.
А теперь вот похороны. Погребальное шествие проследовало по улице Церговской, задело пожарное депо и свернуло на Венгерский Тракт, чтобы растянуться под солнцем пестрой ленивой змеей, какой-нибудь анакондой или гигантской сороконожкой. Черная костельная хоругвь развевалась впереди, а за ней плыли другие цвета, темный гроб раскачивался на плечах шести пожарников в золотых шлемах, трудно вспомнить очередность, но следом шел вроде бы ксендз, служки и оркестр с трубами, блестевшими, как шлемы, а у тромбониста был длинный хвост, собранный резинкой, который свисал у него из-под пожарницкого убора. Так оно было. Ах да, еще вдова за гробом, семья и местная знать. А потом вереница пожарных машин: «жуки», «татры» с приводом на три моста, «ельчи», «УАЗЫ», все красное, как наижарчайший огонь, а последним ехал «стар 25», древняя модель эдак тридцатилетней давности, но живой, яркий и доблестный. Он напоминал игрушку, которая повзрослела. Когда пересекли улицу Мицкевича, отозвались колокола у Марии Магдалины и у монастыря Бернардинцев, а машины включили сирены. Оба этих траурных плача, церковный и светский, сплелись воедино и расплетались где-то в небесах, и было это столь возвышенно и прекрасно, что мы с Д. стояли онемелые, безмолвные, но я уверен, он тоже думал о том, чтоб когда-нибудь и у него были такие похороны. Траурный стон плыл над городом, автомобили расступались на тротуары, а полицейские естественно и непроизвольно вставали по стойке смирно. За кавалькадой противопожарных транспортных средств следовали простые обыватели. И если город Дукля насчитывает около двух тысяч жителей, то по меньшей мере половина провожала гроб на кладбище, а другая половина наблюдала за шествием. Ибо Рынок опять был пустым, разогретым, и только пыль и одинокий велосипедист пробовали хоть что-то сделать с этим четырехугольным вакуумом, прикрытым сверху голубой крышкой неба. Было это где-то в начале мая. Потом мы поехали в сторону Команчи, и солнце светило нам в спину.
А я все возвращаюсь в эту Дуклю, чтобы разглядывать ее в разном освещении и в разное время. Например, тогда, в июле, когда небо было затянуто душным молочным свечением назревающей бури. Пиво, выпитое в баре местного Пететка[1], мгновенно проступало на коже. Я был один и решил осмотреть все детально, чтобы уловить наконец дух города, поймать этот аромат, в существовании которого всегда был уверен, потому что все места и города, подобно зверям, имеют свой запах, нужно только упорно его выслеживать, пока не наткнешься на верный след, а в конце концов и на сам тайник. Нужно искать его в разные поры дня и ночи, а когда скука вышвырнет нас через одну дверь, надо пробовать войти в другую, или через окно, или со стороны шоссе из Жмигруда или Бубрки, покуда не случится это чудо: свет удивительным образом преломится, сплетаясь со временем в прозрачную ткань, которая на мгновение заслонит мир, и тогда дыхание замрет, как перед смертью, но страха при этом не будет.
Ну в общем Дукля, пара улочек крест-накрест, один костел, один монастырь и фундамент разрушенной синагоги, где на стене, вцепившись в нее, росли карликовые березки. Было воскресенье, и перед Марией Магдалиной ксендз святил стадо вымытых автомобилей. Чуть поодаль украинцы разложили свой товар на запыленных «жигулях» и, скрестив руки на груди, наблюдали эту языческую церемонию. Их машины измерили огромные расстояния безо всякого благословения. Товар у них был не ахти, и благородные верующие проходили мимо с чувством собственного превосходства. В воскресенье предметы становятся чуть менее реальными, а искушения сопровождают тебя, словно верные псы. Там были главным образом инструменты: дрели, молотки, пилы, слесарные приспособления, неудивительно, что сразу после службы все это выглядело несколько кощунственно. Никто ничего не покупал, а эти, из Львова или, может, Дрогобыча, не меняли позы, окунутые в молочный свет невидимого солнца, затопленные ожиданием, словно истинные люди Востока, которые подозревают, что время не имеет конца и поэтому надо экономить движения, из которых сделана жизнь, чтобы хватило на дольше.
Я пошел по 3 Мая. Меловой свет порошил сверху и замазывал тени. Люди были обособленные, одинокие и притихшие. Воздух перед грозой густой и мягкий. В зеленоватых водах Дукельки ничего не отражалось. Справа громоздились палисадники, сарайчики и тыльные стены каменных домиков, которые со стороны Рынка выглядят гладкими, пастельными и вызывают в памяти конкурсы кондитеров. Розовый, зеленовато-фисташковый, поблекший прянично-коричневый и кремово-пудинговый укладывались в эркеры, фризы, карнизы и солидные одутловатые балконы. Ну а с этой стороны жизненная энергия не знала удержу, и несмотря на июль, краски цветов были яркими, как огонь, малиновый сок и сера, может быть оттого, что язык речного холода лизал это урочище в самом центре городка. В раскрытых окнах можно было видеть мужчин в белых рубашках с закатанными рукавами. Они усаживались за столы, чтобы, попивая, глядеть в зеленую пучину дворцового парка по другую сторону потока, где пушки и самоходные орудия грели свои оливковые панцири в едва видимом солнце.
Так оно было. Но и в этот раз я опять уехал ни с чем.
Так же, как лет двадцать с небольшим назад, я ни с чем уезжал после летних каникул, наевшийся до отвала жарой, раздутый от безмерности голубого пространства, распростертого над прибугской равниной, словно дрожащий, колышущийся зонтик, и только теперь, через двадцать с лишним лет, я перевариваю все это, как старый удав, растворяю где-то в душе, разлагаю соком памяти на основные составляющие, чтобы почувствовать их вкус и запах, потому что время есть противоположность пространства и через его завесу вещи видны все более отчетливо, хотя бы потому, что никогда уже нельзя будет до них дотронуться.
Мы сидели тогда на пригорке за деревянным костелом, река внизу была серо-зеленой, словно луг поздним летом, а на другом берегу, где-то далеко на краю песчаной равнины, что-то горело в деревне Арбасы. Полдень обрушивался нам на головы, и яркий свет не позволял пожару распуститься петушиным гребнем. В расплавленном от сияния пространстве он выглядел этакой красноватой дыркой. Огонь не мог тягаться с погодой. Он тлел, словно уголек, у вара не хватало мочи раздуть его, ветер доносил лишь далекий вой пожарной сирены. Вороной конь пасся по ту сторону воды и даже не поднял головы. Это было очень далеко, но я мог поклясться, что его мокрая от пота шерсть лоснилась отраженным блеском солнца. Вокруг, куда ни глянь, не было ни деревца. И только на горизонт вырисовывалась ленточка зелени с красной пульсирующей точкой пожара.
А потом, вечером, высыпали мотыльки-однодневки, и это было похоже на снежный буран. Вокруг нескольких фонарей в центре деревни клубились мириады этих созданий. Ртутное сияние меркло, по мере того как с реки надвигались белые волны насекомых. Телесная материя сгущалась вокруг света, и в конце концов у рефлекторов зависли большие дрожащие шары. Темный воздух наполнился тенями. Нельзя было отличить людей от гигантских призраков насекомых. Воняло рыбой и тиной. Мотыльки плясали и падали на землю. И вскоре каждый шаг сопровождался хрустом. Дорога была словно присыпана живым снегом. И лишь там, где фонари кончались, ночь была обычной на ощупь и пахла как всегда.
Я все более отчетливо помню это. Красное пятнышко далекого пожара ширится, захватывая пейзаж, и пространство начинает там обугливаться, точно бумага, а из-под хрупкого черного пепла просвечивают другие события. Они тянутся до бесконечности, как анфилада комнат во сне.
Той ночью я возвращался домой, к дяде и тете. Песчаная дорога вела мимо места, где раньше стоял ветряк. К тому времени его уже не было, но для меня он существовал, вылепленный из дышащей ветром черноты, взмывающий над сыпучим трактом; он останется там навсегда, хотя мир наверняка проделает еще не одно сальто, как проделывает это сейчас, когда я сворачиваю с 3 Мая на дукельский Рынок, как сейчас, когда я пробую все это описать, эти луковичные слои, которые откладываются в голове и теле, просвечивают один из-под другого, как рубашка сквозь протершийся свитер, как кожа на заднице сквозь расползающиеся штаны. Потому что настоящее — самое ненадежное, оно быстрее всего ветшает и изнашивается.
Той ночью я на ощупь взобрался к себе на чердак. Пахло смолистой древесиной. Доски излучали зной, впитанный за время долгого дня. Я зажег в комнатке свет. Черные жужелицы прятались в зазорах пола. Они были как движущиеся капли смолы. В разогретом воздухе я чувствовал их запах.
Удивительно то, что я не помню ни мыслей, ни ощущений той поры. Не помню вещей по сути наиболее близких и вынужден воображать себе самого себя. Как если бы я был всего лишь дополнением к миру. Не помню страха, боли, радости. В голову приходят только события, которые могли вызвать то или другое или третье. И все. Ничего больше.
Но надо вернуться к Дукле. Она является, словно напоминание, всякий раз, когда я начинаю слишком много размышлять о себе.
Опять было лето, кажется август. С севера дуло. По небу скользили быстрые белые облака. Воздух имел тот холодный и прозрачный оттенок, который не задерживает взгляда. Конус Церговой вырастал, казалось, тут же за последними домами, и каждый кустик, каждое деревце на хребте горы отчетливо вырисовывались, словно вырезанные из бумаги. Облака то заслоняли, то открывали солнце. Люди благодаря этому обретали раздвоенное существование: тени то возникали, то исчезали, и каждая человеческая фигура то появлялась с черным пятном у ног, то оставалась в полном одиночестве. Нельзя было отделаться от впечатления, что это ветер сдувает с мостовой мрачные отпечатки тел, а свет, вернее его отсутствие, представлялся чем-то столь же материальным, как песок. Не только люди, но и сам городок отдавался этой нервозной, хотя, в сущности, монотонной метаморфозе, раздваиваясь, а затем опять возвращаясь к единичности. Игра исчезающих теней обнаруживала двойственность мира так убедительно, что я ждал, как вот-вот исчезнет Рынок, исчезнут приземистые домики, исчезнут двое пьяных, идущих из гостиничного бара прямиком в пустоту дня, исчезнет башня ратуши, исчезнет вся твердая материя, и останется только черное отсутствие света, эта оборотная сторона реальности, она каждодневно лишь метит края, но теперь разольется и затопит все в пучине тени, которая тянется за своим, кровным, словно блудный сын из притчи, возвращающийся домой через годы, и город Дукля провалится в какую-нибудь щель между измерениями, или туда, где пять человеческих чувств утрачивают свою власть и остается только предчувствие, что рельефный, выпуклый пейзаж обыденности может вывернуться наизнанку.
Но тут мой взгляд упал на вывеску «Кальварийская мебель»[2], и все покатилось обычным, установленным людьми чередом. Я пересек Рынок по диагонали и оказался у речки, чтобы как обычно подивиться огромным размерам застекленной деревянной веранды того дома, где со стороны фасада находится ювелирный магазин, а с тыльной стороны — вот это диво размером с железнодорожный вагон, зависшее над зеленоватым потоком, словно непрочная, расшатавшаяся от времени оранжерея. В тот день меня тянуло ко дворцу. Он стоял весь в зелени, светлый, почти белый, увенчанный черной крышей. Я обошел его со стороны спортивной площадки, которая без предупреждения превратилась в сырой парк. Густая вода стояла в этих прудах, должно быть, веками. Несколько уток пробовали плыть, но они едва перемещались по тяжелой поверхности, не оставляя за собой следов. В липовых аллеях конденсировался полумрак. Солнце сияло над окрестностью, но здесь его блеск погасал. В самом дальнем закутке, там, где стена заворачивала влево и взбиралась на откос, мне повстречался один-единственный человек. Вел он себя суетливо, в парке так может вести себя лишь какой-нибудь зверек — белка, кролик или сорока. Он рыскал в зарослях, и даже с такой дистанции я слышал его бормотанье. Добрую минуту наблюдал я за его спиной в бурой куртке, прежде чем понял, что он делает. Он выискивал в кустах пустые пластиковые бутылки от всех этих «кока-кол», «спрайтов» и «миринд», откручивал с них разноцветные крышечки и прятал в карман. Это было как раз то время, когда, найдя два подходивших друг к другу кусочка амулета, можно было обрести богатство. Мужичок чертыхался всякий раз, когда натыкался на емкость без крышки. В правой руке у него была пластиковая сумка, полная этих чудес. Он заметил меня и побрел в сторону берега, там в заливе ветер собрал флотилию упаковок. Один ботинок на нем был черный, другой коричневый. А мне вспомнилось, что двести лет тому назад Ежи Август Вандалин Мнишек[3] издал декрет, в котором обязал дукельских мещан обучать своих детей. Вспомнилось мне также, что в его дворце висели картины Лоррена[4]. Я пошел в ту сторону. Миновал часовню, миновал дворцовый ледник, который выглядел теперь лишь грудой камней. От Венгерского Тракта доносился шум автомобилей, едущих в сторону Кросна или обратно.
Мне давно уже кажется, что единственная заслуживающая описания вещь — это свет, его обличья и его вечность. Действия интересуют меня в гораздо меньшей степени. Я плохо их запоминаю. Они укладываются в случайные цепочки, которые обрываются без причины и возникают без всякого повода, чтобы неожиданно снова лопнуть. Разум хорошо умеет латать, сшивать, пригонять друг к другу эпизоды, но я не слишком премудр и недоверчиво отношусь к разуму, как деревенский мужичок не доверяет людям из города, потому что у них всегда все ловко укладывается в стройные и обманчивые ряды выводов и доводов. В общем, свет. Пронзительное темно-зеленое сияние парка уже закончилось, и по присыпанному мелкими опилками двору я направился ко дворцу.
Там внутри пахло скипидаром, как во всяком музее. Пани продала мне билет, а старый пес без особого интереса обнюхал меня. Я натянул войлочные тапки и пошел по стрелке, волоча за собой длинные шнурки. Мне хотелось добраться до Лоррена.
Но там ничего не было, ничего, кроме анфилады погруженных в полумрак залов, которые заполняло черное вороненое оружие. В абсолютной неподвижности и тишине ружья имели вид чего-то идеального и ни разу не использованного. Из стеклянных витрин сочился желтоватый свет, оттенком напоминающий старую древесину или комнату, в которой кто-то не погасил ночника. На круглой подставке стоял станковый пулемет Горюнова. Рифленый ствол расширялся в забавную воронку, а две деревянные рукоятки напоминали ручки старинных упоров. Рядом на раскоряченной двуноге почивал «дегтярев» с прикладом, точно треснувшее пополам весло. Я постучал по барабану магазина. Он был пуст и величиной чуть больше коробки для бисквитов. Под стеклом лежали два ТТ, произведенные в Туле, там, где самовары, правда, они вовсе не сияли. Серый металл просвечивал сквозь воронение, а звездочка на рукоятке давно утратила свой блеск от пота полувековой давности, вызванного смертным страхом. А около этих двух тульских «токаревых» покоился «люгер», то есть «парабеллум» Р08 с длинным стволом. Что-то подобное использовали немецкие артиллеристы. К этому оружию, как и к комиссарскому «маузеру» С/96, можно было приложить деревянный приклад. Но приклада не было. Мелкое рифление рукояти складывалось в узор, приводящий на мысль тело змеи или чулки в сеточку. А потом был ПП, похожий на немецкий «бергманн», потом МР40 и ряды обвислых, продырявленных снарядами мундиров. Были там противотанковые и противопехотные мины, груды шлемов и штыки, «маузер» 98 с раздутым стволом, и невзорвавшиеся гранаты, и простреленные фляжки, из которых выветрился запах спирта, и эбонитовые радиотелефоны с прожилками, как у мрамора, и смешной на вид MG34 с магазином, как бинокль, и прикладом, как рыбий хвост, и зеленые ящики раций с белыми глазищами индикаторов, стрелки которых застыли на каких-то смертельных или победных частотах, и еще тысяча других вещей, которые отслужили свое и должны были отдыхать до скончания веков в этом теплом и тихом склепе, в котором слышен был только шорох моих тапочек.
Я попробовал было оттянуть рукоятку затвора «горюнова», и тут почувствовал, что я не один. В дверях зала в золотисто-матовом свете стояла женщина в темном платье. Я ожидал нагоняя за свою смелость в обращении с экспонатом, но она лишь спросила:
— Вас интересует маршал Пилсудский?
Я не мог решиться на какой-то однозначный ответ, и тогда женщина, заметив, видно, мои колебания, произнесла:
— В таком случае я покажу вам кое-что другое. Пойдемте.
Мы вышли на лестницу. Тесемки завязок ящерками бежали за мной. По маленьким оконцам я определил, что мы во дворцовой мансарде. Женщина подошла к низкой массивной двери и открыла ее ключом. Я подумал о Лоррене.
Этот зал никак не напоминал мрачного лабиринта. Он был большим и светлым. На стенах висели десятки картин. Моя проводница стояла сбоку и внимательно смотрела на меня, ожидая мою реакцию. Я подошел к позолоченной раме. Женщина дала мне несколько секунд, а потом сказала:
— Это сделал пан…ский, местный колбасный мастер. Красиво, не правда ли?
Стебельки и петельки разноцветного гаруса укладывались в изображение дукельской ратуши. Это было похоже на многоцветное травяное поле. Косматое голубое небо топорщилось над белым зданием с граненой башенкой. Дальше в рамах представлены были каменные домики, Рынок, Мария Магдалина, Бернардинцы, и все это в дивных пастельных колерах, не запятнанное тенью и лишь местами обведенное черным контуром, как у Рауля Дюфи[5], но более чистое, более яркое и напитанное солнцем, словно красный луг.
— Это все его же? — спросил я.
— Да. Пан…ский сейчас на пенсии.
Потом были выжженные по дереву церквушки и часовенки, аппликации из разноцветных кусочков ткани, соломенные мозаики, плотные и шероховатые масляные картинки, и все это воспевало красоту земли дукельской.
Свет на картинах Лоррена горизонтальный. Горизонтальный или скошенный. Источник его расположен в глубине перспективы, и пока сияние добирается до того места, где заканчивается полотно и начинается мир, оно ослабевает, точно исчерпало себя, сожгло в той Лорреновой реальности. В «Пейзаже с танцующими» просцениум утопает в тени, и фигуры людей приобретают из-за этого удвоенную материальность. Их тела — цвета земли. В глубине пейзажа прозрачный воздух пронизывает формы, а граница между видимым и невидимым, реальным и вымышленным обозначена лишь ввиду неполноценности нашего зрения, ведь чтобы что-то узреть, мы должны куда-то смотреть. Все, на что падает свет, тяготеет к собственной идее, к миру, защищенному несовершенством наших пяти чувств. И это совсем не плохо, иначе мы еще при жизни умерли бы от скуки.
Да. Но все это не более чем подозрение. Позже, рассматривая репродукцию «Пейзажа с танцующими», оригинал которой висит в какой-то римской галерее, я заметил, что гора Соракте, венчающая композицию, идентична очертаниям Церговой. Особенно если ехать со стороны Жмигруда. Шоссе то поднимается, то опускается, и с каждым подъемом Цергова все выше выныривает над поверхностью пейзажа. Она похожа на вершину, стремящуюся опрокинуться. Ее северный склон необыкновенно обрывист, тогда как другие склоны спускаются вниз мягко, вполне по-бескидски. Гора будто ползет в сторону севера, волоча за собой тяжелое, расплывшееся тело, как какой-нибудь тюлень или человек, ползущий с помощью локтей.
Ну в общем, Цергова и Соракте, которую Лоррен рисовал множество раз, и множество раз она служила ему последним и наиглавнейшим словом рассказа. Далекая, серо-голубая, несимметричная, как и все в этом мире, в котором существование всегда является капризом света.
Но это сходство я открыл значительно позднее. Ну а тогда мы шли вдоль шеренги домотканых безумств, в которых наивность сплеталась с невинностью, любовь с беспомощностью, полное варварство формы с искренней чувствительностью содержания, а я, как всегда, размышлял о времени, то есть вещи банальной и вездесущей, об удивительной метаморфозе, которая вытеснила Лоррена и на его место поставила «горюнова» со «шпагиным», выжигание по дереву и коврики из разноцветных ниток. И я не мог установить, где здесь правда, не мог определить, к чему устремляется время, которое в Дукле начиналось лет, скажем, четыреста тому назад, когда ее приняли во владение Мнишеки из Моравии, а один из них, Ежи, был даже тестем царя, правда самозванца, Гришки Отрепьева, потому что дочь его Марина вышла за одержимого монаха, а когда его убили, стала женой Дмитрия Самозванца II, клянясь всеми святыми, что он — чудом оставшийся в живых Дмитрий Самозванец I, а когда и того убили, связалась с очередным алчущим шапки Мономаха, атаманом донских казаков Иваном Заруцким, но это был уже конец ее монарших мечтаний, потому что Ивана посадили на кол, ее саму утопили, а Трехлетнего ребенка Самозванца повесили. А через сто лет в дукельский дворец вселилась Мария Амалия, дочь Брюля, того самого, кто держал в своих руках скипетр Августа III и управлял как Саксонией, так и Польшей, дочь же была достойна своего отца в том, что касается интриг и красивых жестов, она проявляла равный интерес и к Рубенсу, и к театру, и к тайным убийствам; уверяли, будто Амалия приложила руку к тому, что в Хучве была уюплена Гертруда Коморовская, которая опрометчиво вышла замуж за Щенсны Потоцкого[6], тогда как Амалия именно его присмотрела себе в зятья и в мужья своей Жозефине. Так оно было.
Следы этих сумасбродств сохранены в склепе Амалии Брюль. На черной крышке саркофага покоится ее фигура, выточенная из розового мрамора. Амалия лежит навзничь, но голова ее повернут вправо, как если бы усопшая дремала. Розовый мрамор ее покрывала образует прихотливые живые складки. Похоже на всклокоченную постель. Эта смерть в стиле рококо сильно отдает будуаром. Возможно, под складками камня Амалия еще теплая и тело ее сохранило живую, упругую консистенцию, какую сообщает долгий сон. В черном саркофаге, на котором покоится фигура, ее кости постепенно превращаются в прах, в нечто все более минеральное, пронизанное вечностью, они превращаются в саму вечность, потому что ведь в конце останется только пыль, летающая в межзвездных пространствах. Но кому есть дело до этого мрачного ящика, наполненного сконденсированной смертью, хоть бы эта смерть и представала под видом вечности?
Я вышел тогда из дворца и очутился у Марии Магдалины. Было пусто, холодно и тихо, а я стоял перед саркофагом и был прямо-таки уверен, что под мраморным укрытием башмачков ее ступни теплые, а в твердой гладкости ногтей пульсирует кровь. Ведь эта вот фигура была не поверх мертвого скелета сооружена, ею прикрыто само существо, живой образ Амалии, которая прогуливалась по дукельскому дворцу, строила козни, отдавалась блаженству и ненависти; в камне заперты все составлявшие ее движения, от утреннего пробуждения вплоть до вечернего сна, и все ее поступки, грехи и прочее, и бессчетное количество тех мест в пространстве, которые она день за днем заполняла собой.
В общем, мне хотелось коснуться этой мертвой и вместе с тем тревожаще живой материи, проникнуть в нее, как проникают в органическую человечью плоть посредством насилия или любовного акта, но я услышал за собой шаги, и молоденький ксендз в очках тихо произнес:
— Извините, мы уже закрываемся.
— А если бы кто-нибудь решил вдруг прийти? — спросил я, но он, не поднимая глаз, повторил свое. И начал гасить свет. Я оставил его и вышел.
Ветер все дул. Я поравнялся с закрытым киоском. Встал спиной к Марии Магдалине. За витриной лежали глянцевые «Cats»-ы и «Playstar»-ы. Тела женщин были блестящими и недвижными. Их губы застыли в каком-то «о» или «у» — между насмешкой и удивлением. Смерть настигла их в одночасье да и бросила, словно у нее не было времени, видимо, поэтому глаза обнаженных были широко раскрыты. На них пялился малолеток с малиновым мороженым в руке. Розовая струйка текла по вафле и подбиралась к ладони. Он вздрогнул, словно очнувшись ото сна, взглянул на меня и передвинулся поближе к косметике, расческам и стиральным порошкам. Я пошел к автовокзалу. Изучил желтую таблицу с расписанием. В течение ближайшего часа не ожидалось ничего, чем я мог бы уехать.
В темной будке, напоминающей разрушенную арку, сидело семейство в ожидании автобуса. Все молчали. Дети воспроизводили покорную серьезность взрослых. Только ноги девочки в белых колготках и красных лаковых туфельках с золотыми застежками ритмично покачивались над землей. В пустоте воскресного дня, в неподвижности автобусной площади это колебание приводило на мысль беспомощный маятник игрушечных часов, не могущих справиться с тяжестью времени. Девочка сидела, подложив ладони под ляжки. Блестящие красные гирьки ее ступней двигались в абсолютном вакууме. Ничто не прибывало и не убывало от этого раскачивания. Это было чистое движение в идеальном, дистиллированном пространстве. Мать смотрела перед собой. Под синим жакетом пенилось желтое жабо. Отец сидел наклонившись, уперев руки в широко расставленные колени, и тоже смотрел в глубину дня, в то место, где встречаются все человеческие взгляды, не наткнувшиеся по дороге ни на какое препятствие. Женщина поправила сложенные на подоле руки и сказала: «Сиди спокойно». Девочка тут же замерла. И теперь все смотрели в пупок послеполуденной пустоты, а мне едва хватило сил, чтобы вырваться из этого неподвижного сна.
Вот тут-то я и пообещал себе, что больше никогда не поеду в Дуклю в воскресенье, когда люди проводят дневные часы дома, а на Рынок и улицы выползает апатия и материя предстает в своей самой первобытной, ленивой и сонной ипостаси, заполняет все дыры и щели, вытесняя из них свет, воздух, человеческие следы, вытесняя само время на эти несколько предвечерних часов, пока питейные заведения не заполнятся людьми, потому что дома мужчины уже сыты этим днем по горло.
Два словацких автомобиля тащились в сторону Барвинека. Две старые сто пятые «шкоды» с осевшими задами. Я пересек мостовую и с трудом шел сквозь отяжелевшую ауру воскресенья. Даже ветер постепенно затих. Ни намека на праздничный разгул. Ничего. Только густеющее, сжатое пространство. Оно бальзамировало городок, погружало его в прозрачную смолу, словно ему надлежало сохраниться таким на веки веков, как чудо природы или предостережение после окончательно зачахнувшего времени. И только черная дворняга с закрученным хвостом протрусила мимо, не подозревая о воскресенье. За ней волочилась тень, и они обе исчезли на улице Костюшки, так же внезапно, как и появились.
Я чувствовал, что мое случайное присутствие здесь является каким-то безобразием, оно возмущает установленный порядок вещей, что тело мое вторгается в пухнущее от самодостаточности пространство, от которого люди попрятались в комнатах, а иначе были бы раздуты и разорваны им, потому что воскресенье отняло у них самый смысл полезности, хлопот и даже элементарной очередности причин и следствий. Стоит лишь покинуть какое-то место, как тотчас там проклевываются семена безумия, и такой вот дукельский Рынок ничем не отличается от человеческой души. И то и другое в равной мере оказывается во власти вакуума, и тогда мысли и стены рушатся под собственной тяжестью. Поэтому я быстро вошел в Пететек. Там всегда пахло мужчинами, застоявшимся дымом и пивом. Столики были вымыты. Они блестели темным блеском и ждали вечера. Я взял «Лежайское» и сел под лиловой стеной, на которой красками нарисованы были желто-зеленые камыши и серебряная вода. Официантка лишь произнесла «два двадцать» и исчезла в подсобке. Я выглянул через приоткрытое окно. Колеблемая ветром занавеска приоткрывала краешек Рынка и тут же закрывала его. Было пусто, тихо и холодно. Я поджидал, пока кто-нибудь появится на пропитанной солнцем площади, как порой поджидаешь пешехода, чтобы он раньше тебя пересек место, где минуту назад пробежала черная кошка.
Ну в общем, только события. Но бывает, что они разрастаются в теле, подобно упрямым мыслям, которые со временем приобретают форму почти материальную. Кристаллизуясь, они выпадают в осадок, как соль. Субстанции деликатные, к которым следует причислить и мысли, и хранимые памятью образы, создают непредсказуемые сочетания, и природа этих связей никогда, по-видимому, не будет разгадана. Ну что, что из вещей реальных может объединять Дуклю и ту деревню двадцати с лишним летней давности, что, кроме общей буквы «у» в их названии?
Тем летом в деревне начали устраивать танцы под открытым небом. Вероятно, была суббота. Вокруг небольшой площадки, выложенной тротуарной плитой, царил зеленоватый полумрак. Иногда передвижное кино крутило тут свои фильмы. Мотыльки клубились в потоке светя из прожектора и бросали на экран гигантские тени, принимавшие полноправное участие в действии, так как картины бывали обыкновенно черно-белыми. Но сейчас здесь гремела музыка. Подростки стояли у края тени. Блестели пряжки купленных на барахолке ремней с бычьими головами, кольтами и мустангами. Из задних карманов джинсов торчали большие разноцветные гребешки — фирменный знак начала семидесятых. От бетонного настила валил жар. Мы втягивали его в ноздри, и нас охватывала дрожь. Мужчины обнимали женщин в ярких кофточках из букле, и смешанный запах речного воздуха, пота, парфюмерии и зноя расходился словно круги по воде, поглощая, затапливая нас, временами мне не хватало дыхания. Катушечный магнитофон «Tonette», подключенный к усилителю, играл, кажется, Анну Янтар или Ирену Яроцкую, а мы кружили вдоль границы света, словно дикие звери вокруг далекого костра, и, словно дикие звери, ничего не понимали из этого разговора жестов, из пантомимы вожделения, отпоров, капитуляций и тайных соглашений. Но запах не требовал понимания. Он входил в нас, наполняя кровь и сознание, в котором не рождалось никаких вопросов, лишь терпкое, непреодолимое удивление, в равной степени напоминающее наслаждение и стыд.
Желтые, оранжевые и салатные блузки придавали грудям вызывающую шарообразную форму. И расклешенные брюки до бедер от ловких портных из Соколува и Венгрува. Швы расползались на массивных задах крестьянских отпрысков. И ботинки-битловки на каблуках, с задранными носами и окованными золотом дырочками. Нейлоновые рубашки «non-iron» и настоящие, застиранные добела «райфлы» — знак, что у кого-то есть родственники в Америке.
Издали, с расстояния нескольких десятков шагов, летняя танцплощадка выглядела словно золотистый грот, вырытый в сине-зеленом мраке. Как будто ночь лопнула в этом месте и обнаружила свое теплое тайное нутро, из которого проливался душный, парализующий аромат, совершенно непохожий на все запахи мира. Прохладные, сладковатые дуновения с полей еще зеленой пшеницы, мускусный запах конюшни, банальные и вульгарные ароматы жасмина и цветущих лип — то были приметы спокойной повседневности. А там, в этой дыре, выдолбленной в темноте, дистиллировались ауры, которые смогли повседневность вывернуть наизнанку, на ее пульсирующую, живую и пугающую сторону.
Девушки отличались уродливостью. Семнадцати-восемнадцатилетки, сверкавшие золотыми зубами. Коротконогие, толстые, сисястые и задастые, они являли собой точные образцы того, что им было предначертано на роду. Легкие летние туфли открывали твердые растоптанные пятки. Мо́лодцы с бакенбардами напоминали порнографических любовников. Танцевали, прижимаясь все ближе, все теснее, пока танец не становился наконец столь интимным, что в нем отпадала необходимость — и пары исчезали в темноте.
Пожарные в гражданском сворачивали аппаратуру, запирали ее в депо, и наступал конец. С реки потягивало холодом, и все успокаивалось.
В одну из суббот появились отдыхающие. Деревня постепенно делалась туристической. Пара временных домиков, какая-то захудалая зона отдыха, палатка с пивом из Вышкува в патентованных бутылках. Местные привыкли к этому, и ничего не происходило. Магнитофон «Tonette» крутил песню Лясковского[7] «Семь девчат из Альбатроса». Парни еще не разгулялись. Они стояли кучками и курили сигареты «Старт». Несколько девушек танцевало парами. В зарослях сирени поблескивали винные бутылки и перстни-печатки. Никто не повышал голоса. Смешки вспыхивали и тут же гасли. Приезжие были смелее. Они выходили на площадку с эдаким выпендрежным городским шиком, с виду независимые, чувствуя, однако, напряжение под взглядами, коими одаривают чужаков. Они выделялись своей одеждой. Шорты, трусы, шлепанцы, куцые футболки, сандалии, бейсболки, ситец, хлопок, пляж и свободные сиськи. Но ничего не происходило. Закончился Лясковский, начался «Поп Корн», а может, «Локомотив GT», и осмелевшие кавалеры, отбросив в сторону бычки и бутылки, вразвалочку стали подходить то к одной, то к другой девице, чтобы похитить для танца, поначалу неуклюжего и робкого. Так это начиналось. С отдельных искр.
А потом из темноты вышла та девушка и втиснулась в круг танцующих. Не деревенская. Но и никто из приезжих не сопровождал ее. Она танцевала одна, но, должно быть, знала некоторых отдыхающих, потому что время от времени приветствовала кого-то взмахом руки или улыбкой. На ней было белое платье выше колен. Темные вьющиеся волосы падали на плечи. Она отбрасывала их со лба движением головы. Загорелая кожа рук и ног впитывала свет и становилась еще темнее, излучая в то же время удивительное сияние, как будто у нее внутри происходил процесс, преобразующий мутный электрический свет в магнетическое телесное свечение. Остальные танцующие женщины были похожи на припудренные трупы. Она скользила между ними ловко и равнодушно, найдя свободное место, делала оборот или два, и ее раскрутившееся платьице взлетало вверх. После чего она опять спокойно покачивала бедрами и плечами. Ее ладони поднимались и мягко опадали, словно она исследовала ими контуры собственного тела в пространстве или предавалась одиноким ласкам. В глубоком вырезе декольте поблескивал золотой крестик.
Прежде чем что-либо осознать, я заметил, что бессмысленно, точно во сне, блуждаю вокруг танцплощадки, стараясь ни на минуту не упустить ее из виду, что оказывалось совершенно излишне, потому что она доминировала над толпой, не ростом, а своей тяжелой, чувственной подвижностью. В ее движениях была некая изначальная инертность материи. Она напоминала теплую ртуть. Так ведут себя животные, которым безразлично, смотрит на них кто-нибудь или нет. Танцевала она босиком. Я смотрел на ее ступни. Мой взгляд естественно и неотвратимо передвигался выше, вдоль ее выразительных мускулистых икр, вдоль бедер, и хотя все остальное я должен был себе вообразить, не будучи еще знаком ни с одним оригиналом, я был уверен, что воображение мое совершенно точно, едва ли не идеально соответствует действительности. Пятна тени в углублениях под коленками были почти черные. Сквозь грохот музыки я слышал шлепки ступней о цементные плиты. Я чувствовал эти горячие и мягкие прикосновения, но страх и робость заставляли мое воображение создавать некие посреднические картины ласки, в которой принимают участие ее кожа и мертвый камень. То же самое с воздухом. Я видел, как он трется о ее плечи, как расступается, словно дым, и новые его слои задерживают на себе ее прикосновение, влагу пота, запах, а потом исчезают в темноте, на смену им приходят следующие, но у нее всего этого столько, что она могла бы наполнить собой целую ночь, весь воздух и остаться все той же, без малейшего ущерба, живой и равнодушной, как если бы обтерлась полотенцем после купания.
Я пытался разглядеть ее лицо, но черная туча кудрявых волос заслоняла его или прятала в беспорядочной тени. Время от времени можно было увидеть белые зубы или опущенные веки. Из этих обрывочных, коротких, как доля секунды, картин складывался портрет, находящийся в согласии со всей ее фигурой. Она была красива какой-то животной красотой, которую сама будто совершенно не сознавала, а если и сознавала, то скорее уж не красоту, а силу. У нее был низкий лоб, сонные миндалевидные глаза, широкие скулы и пухлые губы, выражение которых представляло собой тревожную смесь пренебрежения и грусти. Но все это я разглядел позднее. А в тот вечер я был абсолютно уверен, что лицо ее должно быть столь же совершенным, как и тело. Среди крестьянских дочек эта босая приблуда выглядела словно королевское дитя. И когда я вот так топтался вокруг да около, с пересохшим горлом и вспотевшими ладонями, когда прошмыгивал за плечами зевак, чтобы поймать вид ее высокой груди и момент, когда белое платье закрутится вокруг ног и откроет упругое бедро и безукоризненно овальный край белоснежных трусиков на бронзовой ягодице, когда охотился за взмахом руки, чтобы увидеть густую тень в углублении голой подмышки, — ее образ в конце концов становился таким близким, что я ощущал, как вхожу в ее тело, но не в банальном совокуплении, а в буквальном смысле, — как я проскальзываю в ее упругую бронзовую кожу и мои руки наполняют ее руки по самые кончики пальцев, которыми я шевелю, словно надетой перчаткой, а лицо мое блуждает в тепле гладких внутренностей, чтобы стать ее лицом, и язык мой сливается с ее языком, то же самое и с остальным, со всем этим красным королевством сухожилий, мышц и белых полосок жира, и вот уже вся она натянута на меня, я одет в нее по самые дальние уголочки ногтей и волос. В ее напряженном и ленивом теле материализовалась та душная атмосфера, что преследовала меня тем летом. Все запахи, все ароматы, все эфирные знаки и излучения, обнаружившие себя на той пронизанной воздухом танцплощадке, внезапно сосредоточились, объединились и, словно джин в бутылке, спрятались в ее теле, как будто она просто всосала их какой-нибудь из своих трещинок, втянула через пупок или попку, и в одно мгновенье мир стал плоским, отчетливым и лишенным смысла.
Мне было тринадцать, и я вконец охренел. Солнце тем летом не заходило. Оно беспрерывно стояло в зените, и крошечные тени были словно знаки вопроса, подвергающие сомнению действительность. Все вокруг съежилось под безжалостным светом. Пейзаж облупился, словно старая краска, и одно вылезало из-под другого, оказываясь ничуть не более реальным. Я шатался по всем тем местам, где мог ее встретить. Домики из цветной фанеры выгорели от зноя. Это был курорт для бедных. Голубые, желтые, красные будки на два койкоместа и общественный сортир по центру вытоптанного загона, где энтузиасты пытались играть в волейбол. Они повязывали головы мокрыми платками. Я пробовал ее выследить. Сидел под жестяной крышей столовой и пил зеленоватый лимонад. На бутылках не было этикеток. В лимонаде было много газа. И он взрывался. Однажды я ее высмотрел. Она вошла в красный домик и закрыла за собой дверь. Я допивал эту теплую мочу минут пять, словно ледяное шампанское. А потом пошел в ту сторону. В лачуге было тихо. На крохотном крылечке стояла пустая бутылка из-под вина «Мистелла» и больше ничего. На окне висела плотная занавеска. У меня дрожали ноги. Там был лишь полумрак. Никаких звуков. Я представил себе тысячу вещей. Подошел к окну и струсил. Снова взял лимонад, но ничего так и не дождался.
Июль небесно-голубым жестяным листом висел над деревней. От реки несло тиной. Я охотился за ее присутствием, словно полуслепой кот. Каждый намек на что-то белое и движущееся заставлял кровь ударять мне в голову. Я был потный, грязный и липкий от несчетного количества газировки.
В какой-то из дней я сидел на мостках, к которым швартовались лодки и байдарки, и плевал в воду. Белые островки слюны сплывали вниз по реке. Я смотрел им вслед. И вот откуда-то сзади появилась она. Миновала мостки и прошла дальше. С ней была худая женщина в купальном костюме. Они тяжело брели по серому пляжу. Худая проваливалась по щиколотки, а она сошла ближе к берегу и на мокром выглаженном песке оставила отчетливый отпечаток стопы. Минутой позднее они свернули в сторону лестницы, ведущей к домикам. Я видел, как она восходит выше и выше, бронзовые бедра шевелятся под зонтом платья, и наконец она зависла, абсолютно черная на голубом фоне, и исчезла. Это длилось не более полуминуты, но я словно очнулся после бесконечно долгого сна. По реке тянулась баржа с прицепленным мотором. Поднятые ею волны прокатились под мостками, лизнули берег и едва не достали до отпечатка ноги. У меня замерло сердце. Но водяной язык был короткий, и след остался не тронут. Мне хотелось подойти туда, но я был не один. Рядом сидел парнишка из деревни, смолил в кулак и время от времени делился со мной бычком. Он что-то говорил, но я ничего не слышал. Я всматривался в ямку на песке. Она все еще оставалась там. Я знал, что и тепло сохранилось в том месте, и запах, что тяжесть ее тела материализовалась, наполнив собой хрупкую форму, и стоит сделать всего лишь несколько шагов, чтобы овладеть этим сконденсированным присутствием. След был отчетливый. Я видел пятку и овальные углубления пальцев. Я проклинал своего дружка. Он сидел рядом и нес какую-то лабуду, лениво растягивая слова, как лениво текла и эта оцепенелая от зноя река.
А потом появилась шумная семья с надувным матрасом, подстилками и малышней в панамках в красный горошек. Они прошествовали по тому месту и разлеглись, выставив белые животы солнцу.
Когда через полчаса мы уходили оттуда, я замешкался на минуту и зачерпнул горсть песчинок с истоптанного пятачка. У меня болели глаза. Все это время я всматривался в несуществующий, оскверненный след, чтобы не потерять его. Я всыпал немного песка в карман. Мы пошли искать прохладное место.
Когда небо поражает пустотой, мы ищем знаков на земле. Так я думал, сидя и ожидая, пока кто-нибудь появится на Рынке. Но там стояла только ратуша с белыми стенами — правда, в погожий зимний день эта белизна синела, как и воздух за стеклом. У входа висел голубой череп телефона-автомата, а внутри вместо городского управления устроили тренажерный зал, чтобы парни не обязательно шли в «Граничную» или к «Гумисю»[8], а имели какой-то выбор и потом уж могли себе пойти хоть и к «Гумисю». Но сейчас все было закрыто, и только тени незаметно вытягивались.
Я попивал «Лежайское» и начинал понимать, что эта воскресная пустота берется из тишины и отсутствия отчетливых запахов. Ветер их выветрил, к тому же каменные города лишены ясно выраженного запаха. Перемены в камне происходят столь медленно, что если распад и наступает, то за пределами наших чувств. Он длится слишком долго, его трудно постичь, поскольку происходит он во внечеловеческом пространстве. Почти как с теми звуками, которых мы не слышим, а однако же они нас умерщвляют. Из подсобки неслись звуки «Трусов в полосочку» и звяканье кастрюль и тянулась тонкая нитка кофейного аромата. Почти видимая в воздухе, золотисто-бронзовая, она зависла на фоне лиловой стены, сплетясь с сероватым дымом моей сигареты. Минутой позже ее поглотил смрад пивной: смесь застарелого пепла, пота и перегара, выдыхаемого во время всех этих пьяных посиделок.
День постепенно размыл контуры ратуши, и на ее месте на Рыночной площади появилась усадьба, окруженная забором, а забор тот, гонтом крытый, местами починки требует. В усадьбе той трапезная, к коей трапезной двери на петлях железных, с рукоятями да крюками железными же. При дверях тех дымоволок каменный, печь зеленая недобрая, с одной и с другой стороны шкаф столярной работы, черный, сверху в нем дверцы решетчатые, снизу двое дверок тож, на петельках железных. Стол один, большой, раскладной. Окон трое, в свинец оправленных, у окон же ставень по двое, все деревянные. В палате той кладовыя, две, вторая палата — светелка девичья. Дале комната, в ней дверь. С комнаты той комнатка, без двери, однако, за коей ишо комнатка, третья. Горенка обок, насупротив палаты той, а в ней печь с кафели простой белой, столик липовый, окно одно, в свинец оправленное, большое. Меж палатой и горенкой теми кладовыя, две, с дверьми до них на полозьях. Горенка при дверях сенных, до коей дверь. Сени большие, до сеней тех врата великие, и с калиткою, у врат тех вверху кольцо железное. Из сеней же поварня, с поварни за дверной на полозе — кладовая меньшая для хранения утвари. При кухне збоку — чулан для провианту, в коем-то чулане окно в деревянной раме. Усадьба та вся гонтом крыта, местами крыша починки требует. Конюшен две, возовня — одна, под гонтом тож. Третья конюшня пуста стоит. Под усадьбою той анбаров каменных числом четыре. А ко двору от города врата великие тесовые, у врат тех кольцо железное и две скрепы железных для укрепления[9].
В общем, так оно было за этим не существовавшим тогда окном триста лет назад. Железо, дерево, прокопченные печи, гниющий гонт, дым, спертый дух, полумрак пасмурных дней, сырость, низкий бревенчатый потолок, мыши, стены, пропитанные запахами, и двери, множество дверей и дверок в очередные палаты, каморки, сени, шкафы, буфеты, кладовые, тайники, где пыль, паутина и стоячий воздух отданы были воздействию времени, его однообразному течению, оставляющему осадок на поверхности предметов. Все это так сильно напоминает память с ее непросчитываемой структурой и несчетным количеством пунктов, в которых все в очередной раз может начаться с самого начала, как в каком-нибудь безумном инвентарном списке, реестре вещей и возможностей, до самых глубин, но дна-то все равно не будет, потому что сразу же открывается что-то еще и еще, ведь и самое маленькое мгновение делится на что-то еще меньшее и разбрызгивается, точно фейерверк, сотнями звезд, и у каждой из них иной цвет, вкус и форма, и так по кругу, покуда сознание само не взорвется, и это — единственная бесконечность, которая у нас есть, а все остальное лишь ее крупицы, возведенные в квадрат и зафиксированные, а стало быть, мертвые.
Наконец что-то начало происходить. Вошли люди. Только двое, но этого было достаточно. Я встал и двинулся прочь из бара, стараясь попасть в тот тоннель, в тот проход, который они проторили своими телами внутри дня.
У Марии Магдалины дрогнули колокола. Мне хотелось туда пойти. Меня тянуло к Амалии Брюль, но я подумал, что сейчас время старых женщин и я буду в костеле не один. Меня тянуло к маленькой фигурке, одетой в платье с оборками. Эта смерть пахла рисовой пудрой, ангельской водой и ленивым обмороком. Так могла выглядеть Святая Тереза Бернини[10], когда ее экстаз подошел к концу. Над городом плыл звон колоколов. Тяжелая металлическая волна расходилась концентрическими кругами и отгораживала небо от земли. Люди капля за каплей вытекали из домов, выкатывались из ворот отяжелелыми шариками, останавливались, ослепленные яркостью Рынка, принимали решения или топтались по инерции, а потом собирались в группки и курили, стряхивали пылинки с одежды и советовались, как провести остаток дня. Начинались дукельские вечерни. У Марии Магдалины, у Бернардинцев, у «Гумися», в «Крист-баре» и «Граничной».
На площади у автовокзала стоял мой автобус. Мы поехали на Жмигруд. Водитель оставил двери открытыми. Больше никого не было. Только мы двое.
Звучало радио. За Ивлей вещи возвращались на свои старые места. Мне не хотелось размышлять о том, что прячут дома вдоль дороги. Они стояли ровнехонько, плотно прилегая к пейзажу, и ни мысль, ни мышь не могла бы там проскользнуть. Дукля бледнела с каждой остановкой. Теряла отчетливость, как сон после пробуждения, сон, от которого остается лишь контур, серые штрихи на буром фоне.
Вот почему я возвращаюсь к той истории более чем двадцатилетней давности. Я уверен, что она складывается из тех же самых основных элементов, которые круговорот времени укладывает в разнообразные констелляции, но природа их остается при этом неизменной, как у воды, соли и металлов, которые оформляются во всевозможные человеческие тела, чтобы спасать нас от скуки. Из этих же самых атомов складывается Дукля и то лето, когда я под знойным солнцем шел по ее следу с горстью песка в кармане джинсов «Одра», а горсть моя все уменьшалась, кварц протирал хлопчатую ткань, исчезая или превращаясь в неуловимую пыль.
Время от времени я засовывал туда руку. Вытаскивал несколько песчинок и смаковал их. Держал на языке, тер ими нёбо, пока наконец слюна не уносила крупинки.
Я заглядывал на пляж. Люди валялись на берегу, словно выброшенные волной. Можно было уловить запах подпаленного сала. Иногда они входили в воду и трепыхались в ней судорожно, словно рыбы на крючке. Никаких промежуточных состояний — или неподвижность, или истерия.
Но ее не было. Словно коричневость ее тела не зависела от солнца, словно она такой уродилась, или же ей удавалось по ночам впитывать лунный свет. Я слонялся в одежде между голыми людьми, точно стыдливый извращенец. Груди, ягодицы и бедра других женщин производили на меня не больше впечатления, чем куклы младшей сестры. Было что-то нелепое в этом мертвом усердии тел. Они лежали, словно вываленные языки, и едва дышали. Мне было тринадцать, и я не мог понять этой добровольной неподвижности. Я взбирался по крутым ступенькам. Рыскал среди фанерных будок. Ходил кругами вокруг ее домика. Он всегда выглядел одинаково. Открытое окно, плотная занавеска и тишина, столь глубокая, что в ней могло таиться все что угодно. Розовые стены в резком свете дня приобретали почти черный оттенок. Они были такими рельефными, такими отъединенными от мира и такими пугающе реальными, словно были сделаны из очень плотной материи, настолько плотной, что она поглощала солнечное сияние до последней капли. Такая зримая тьма случается только во сне или прямо перед солнечным ударом. Меня спасала жестяная крыша столовой, лимонад и страх разоблачения. Я уходил, тащась по пыли через опустевшую деревню, и обычно завершал свой путь в деревенском клубе, где всегда царила прохлада и стоял темный запах печенья с корицей. Выключенный телевизор дожидался вечера, продавщица в белом халате сидела, положив локти на стойку, погруженная в свои мечты. В полутьме зала она была так одинока, что я невольно проникался к ней уважением, чувствуя, что нас связывает нечто общее, в основе чего лежит безграничная меланхолия. Я получал свой фруктовый напиток без газа и пил его за металлическим столиком, повторяя движения и кривые ужимки, подсмотренные у мужчин, когда они с гримасой отвращения потягивают прокисшее пиво.
Я совершал свои мрачные обряды ежедневно, но все впустую. Я был уверен, что она исчезла. Куда-то выехала. Несмотря на это, я возвращался на все прежние места. Грусть одурманивает еще сильнее, чем надежда.
Но вот как-то после полудня у порога ее домика шевельнулось что-то белое. То, правда, была не она, а только ее белое платье. Оно висело на веревке, протянутой между двумя столбиками. Веял легкий ветерок. Рядом с платьем висели белые трусики, прицепленные двумя прищепками. Дуновением их сносило в мою сторону. Дуло наискосок с верхнего течения реки, то есть с востока. Зрелище это поглотило меня. Я забыл, где нахожусь. Белая, наполненная ветром, натянувшаяся и округлившаяся ткань воссоздавала формы ее тела. Жаркий невидимый полдень проскользнул в ее белье, чтобы поиграть с моим воображением. И тут я постиг, что она огромна, как весь этот день, как весь этот воздух и целый мир, и у нее нет ни начала ни конца, она окружает меня со всех сторон, я нахожусь в ней, а этот клочок белой материи является лишь знаком ее всеохватывающего присутствия, сигналом для слепца, уступкой несовершенству пяти чувств. Я ощутил легкое и теплое прикосновение ее бронзовой кожи. Ведь если ей удавалось быть настолько огромной, что аж невидимой, это значит ее бедро или колено могло дотянуться даже сюда, за эти несколько шагов. Я зажмурил глаза и посреди этой загаженной убогой дыры поддался нежности. Мои ухо и щека пылали. Я терся о воздух, словно кот. Ее сконденсированное неуловимое присутствие было настолько реальным, что заслонило собой действительность. Дуновение, проходившее сквозь трусики, оформлялось в живое, пульсирующее тело. Думаю, я даже подался в ту сторону и сделал несколько шагов, принимая предметы, разноцветные будки, флаг на пляже, верхушки деревьев и все остальное за сон или наваждение.
И тогда на крыльце ее домика открылась дверь, в ней стояла та худощавая подруга с пляжа. На ней был все тот же купальник. Она посмотрела на меня враждебно и фыркнула: «А ты чего здесь?» Забрала постиранное белье и, исчезая в недрах домика, бросила на меня злобный взгляд через плечо.
Я не пытался тогда выяснять природу отношений, которые связывали двух этих женщин. Было вполне естественно, что красота выступает в сопровождении уродства. У ее приятельницы было бледное бесцветное лицо и короткие мышиные волосы. Она напоминала подростка, который состарился еще до того, как вырос. В движениях ее бледного костлявого тела не было ни тени привлекательности, оно словно усилием воли преодолевало усталость или сопротивление сухожилий. Иногда я встречал ее в столовой, когда она покупала что-нибудь из питья, или с корзинкой в деревенском магазине. Шла она всегда очень быстро. Носила растоптанные сабо, которые на кривых булыжниках мостовой болезненно морщились. Мимо людей проходила опустив голову. Никогда ни с кем не разговаривала. Как-то в магазине к ней подкатил подвыпивший субъект. Она тут же вышла. Думаю, это она стирала вещи той, другой.
Время замирало между субботами. Оно теряло свою легкую прозрачную форму. Пухло, густело, парализовывало, цеплялось за тело, и жизнь моя становилась похожа на шагание против ветра. Я чувствовал себя так, будто пытался бежать по грудь в воде. Движения тянулись за мной еще долго после того, как я совершал их. Я был уверен, что оставляю следы в воздухе. Потому что время тогда очень напоминало воздух. Или воду. Зато в субботние вечера оно вновь обретало свойственную ему форму. Текло так быстро, что опережало меня. Я видел, как оно удирает. Так убегают пейзажи за окном поезда. И ничего не поделаешь. Вроде как они остаются позади, но есть ощущение, что это они покидают нас, а не мы их.
Она каждый раз приходила на танцы. Целый месяц. Всегда в одиночестве. Ее приятельница, должно быть, оставалась дома, хотя в окне не было видно света. Сидела во мраке и фосфоресцировала, словно старый скелет, ей, вероятно, этого было достаточно. А тем временем она кружила среди танцующих, бесконечно живая, стремительная, сжатая в своей роскошной оболочке, точно могла разбрызгаться, взорваться от избытка собственного существования. Взгляды парней тянулись за ней, словно привязанные ниткой, но ни одному не хватало смелости. Она отгадывала их мысли и время от времени атаковала кого-нибудь из них. Слегка отклонялась назад и напирала выставленной вперед грудью, ну а парень, один, потом другой, так и оставался, с придавленным шнурком, одурелый, замкнутый в образованном ею вихре воздуха, а она была уже где-то в другом месте, занятая собой, невинная и отсутствующая.
На эти вечеринки приходили и старшие. Особенно женщины. Они принесли этот обычай с вечеров в депо, когда сиживали на лавках у стены и, глотая пыль, точили языки или просто молча смотрели, проваливаясь в свою минувшую жизнь, словно в яркий сон с открытыми глазами. Здесь же не было ни пыли, ни стен, но по краям площадки стояло несколько скамеек. На них восседали пятидесяти-шестидесятилетние в зелено-коричнево-черных платках, напоминающих в темноте капоры. Когда женщины разговаривали, их золотые зубы посверкивали, словно зажженные спички. Это было похоже на судейское собрание. По двое, по трое, склонив друг к другу головы, они разглядывали толпу и переговаривались вполголоса, ни на минуту не спуская глаз с расплясавшихся парочек.
Я, как обычно, лавировал в погоне за ее белым платьем. Обегал танцевальную суматоху по краю, чуткий и настороженный и в то же время безнадежно беззащитный, с тайной, запечатленной на лице. Она описывала небольшие круги в центре площадки, то расширяя радиус, то вновь сужая до границ собственного тела, но даже когда она, по сути, стояла на месте, ограниченная и стиснутая толпой, то продолжала танцевать, танцевать без движения, но с тем же стихийным напором, само ее присутствие имело в себе нечто от скандала, вызова. Может, кровь так мощно пульсировала в ее теле, что пульс становился видимым? И вот, в момент короткой заминки, — пока Ирена Яроцкая набирала дыхание, — в секундном затишье я услышал голос старой женщины, донесшийся с соседней лавки. «Курва», — бросила она, а музыка уже набирала обороты с новой силой, увлекая сотни танцующих во всепоглощающий пляс.
Она не могла этого слышать. Этого никто, кроме меня, не слышал. Все катилось по накатанному пути. Некоторые удалялись в кусты.
Возвращались оттуда пошатываясь и растрепанные, или не возвращались вовсе, и лишь рассветная роса будила их в хлебных копнах, которые здесь называют «Менделями»[11], по числу сложенных в них снопиков. В общем, все оставалось по-прежнему. Желтый осенний лист давал пять минут расслабухи, он столько мне рассказал дала мне его ты молча но он прекрасно знал[12]. Некоторые парни были в штанах-колоколах с клиньями, по краям которых блестели золотые заклепки. И обтягивающие рубашки с рисунком из вертикальных зигзагов всех цветов радуги. А самые модные девушки форсили в узких брюках из кремового хлопка в очень мелкую коричневую клеточку. Что там еще? Наверное, большие разноцветные гедеэровские часы «Ruhla» на запястье и огромные перстни с прозрачной цветной пластмассой, имитирующей граненый камень: фиолетового, желтого, зеленого или белого цвета. На шеях — квадратные брелоки: деревянный брусочек на тонком ремешке с приклеенной и покрытой лаком фотографией группы «АББА». И, наверное, «Слэйд». В палатках, которые к храмовому празднику в августе торгуют всякими безделушками, добро это висело целыми гроздьями, было из чего выбирать, так что имелись, разумеется, и другие герои. Например, Хос, Бен и остальные Картрайты из американского сериала «Бонанза». В общем, ничего не произошло. Мир продолжал существовать в присущей ему переменчивости форм, и пиво не могло стоить больше чем 4 злотых, а сигареты «Старт» в оранжевых пачках из шершавой бумаги — 5.50, но передо мной раскрылось нечто вроде трещины в бытии, что-то наподобие манящей раны в оболочке обыденности. Я еще не знал точного перевода этого слова на язык реальности. Зато чувствовал его привкус: терпкий, темный, живой и горький, как у вещи, которой мы, помимо нашей воли, не можем воспротивиться и, вообще-то говоря, не хотим. Эти слова, произнесенные мертвым скрипучим голосом, распустились в воздухе и окружили ее фигуру ореолом. Теперь она танцевала в сиянии собственного тела — и в сиянии проклятия.
Мне было тринадцать, и я мало что понимал. Я лишь чувствовал, что в одно мгновенье моя любовь перестала быть невинной застенчивой игрой и оказалась чем-то запретным. Мне было тринадцать, и я чувствовал, что красота всегда заключает в себе опасность, что она, в сущности, является некой формой зла, той из его форм, каковую мы способны жаждать так, как жаждем добра.
Сейчас, проезжая Жмигруд, я вижу это очень отчетливо. Автобус забирает одного подвыпившего, разворачивается на площади и едет вниз, чтобы, свернув налево, проехать мимо молочного завода Лесека и покатить дальше той странной дорогой, что ровным разрезом отделяет горы с левой стороны и равнину с правой. Но тогда все было лишь игрой теней, запахов и звуков. Причудливым укладом физических манифестаций мира, которые оформились во временный проход, лазейку, ведущую на другую сторону времени и пейзажа. Этот реверс видимого был, в сущности, идентичен аверсу, но бесконечно более притягателен, ибо лишен всемирного тяготения и всецело отдан законам воображения. Одно это слово в соприкосновении с ее телом вывернулось наизнанку, превратилось в собственное отрицание, чтобы навсегда поколебать во мне веру в однозначность.
А как-то я поехал в Дуклю зимой. Был январь, но скорее он напоминал снежный ноябрь или перманентные сумерки. Небо не отрывалось от земли. Растянутый пригород Ясла, ангары складов, щербатые ряды снегозащитных ограждений, сомнительные фигуры людей в двадцати шагах от шоссе, дома с неподвижным дымом у труб и все остальные хорошо знакомые вещи существовали лишь частично. Нужно было вспомнить первообраз, чтобы открыть их истинный смысл и предназначение. Как в букваре: «Вот дом, вот пес, вот кошка Оли». Сплющенные мглой контуры едва прочитывались. Все, кроме решительной черноты, принадлежало этому полуснежному, полуводяному состоянию. Прямо-таки сон дальтоника или гаснущий от старости телевизор. Но даже эта чернота: вертикальные линии деревьев, горизонтальные штрихи балюстрад на мостиках, — даже они больше походили на собственные тени. Как если бы предметы пропали, оставив только свои мутные отпечатки в суспензии серого света. А вдобавок так случилось, что я не спал целую ночь и приветствовал этот день на ногах. Не нарушая границ пробуждения. Нереальность будто ополчилась на этот вторник. Еще в Горлицах, когда в семь утра я покупал в дорогу «Ред-булл», передо мной стоял тип в расклешенных штанах семидесятые годы с кантом и в таком улетном куртеце: черная болонья, рукава василькового цвета, толстая пластмассовая молния, в общем, ранний Герек[13] и базар Ружицкого[14]. Кореш стоял и аж трясся весь, хотя в магазине было вполне тепло. А когда подошла его очередь, показал на водку: «Мне „Ледяную“, ту с пингвином», — и потащился к выходу той известной походкой, когда ступня, оторвавшись от земли, не совсем уверена, что земля будет ждать ее обратно.
Прежде чем сесть в автобус, я еще встретил пана Марека, который, как всегда, рассказал мне историю о том, как он был когда-то богатым и угостил кого-то обедом. И я, как всегда, дал пану Мареку на билет, а он, как всегда, тут же отправился в магазин.
Но сейчас я миновал уже Ясло. Вислок под мостом был похож на асфальтовую дорогу. В нем ничего не отражалось. Автобус был длинный и удобный. Он покачивался, бормотал, а спереди под потолком висел телевизор, демонстрировавший фильм, цветной до безобразия, наверняка из Калифорнии, потому что там были пальмы, бассейны, длинные автомобили, голые женщины и лилась кровь. Этот экран походил на окно, открытое в жизнь куда более настоящую. Вокруг по самый горизонт все было бурым и неясным, а там сиял квадрат с райскими красками и люди отдавались богатству, любви и смерти. Гражданин, сидящий рядом, снял ушанку и посматривал то на экран, то за окно. И то и другое, должно быть, утомило его: в конце концов он сложил руки на животе и заснул.
В Кросне капало с крыш. Затейливые кросненские крыши просто созданы для оттепели и дождя. Вода кружит, звенит, делает меандры, постукивает внутри всех этих кровельных диковинок, словно в каких-нибудь метеорологических курантах, пока наконец не находит свой желоб, просачиваясь на улицу, а старики идут испуганные, локти их подняты, как крылья у растревоженных цыплят, ведь теплом веет пока что поверху, а здесь, на тротуаре, еще мороз, и из рыл желобов свисают стеклянистые языки. Так оно было. Я с трудом сохранял равновесие, до рейса на Барвинек оставался еще добрый час. Туман, вода и отчужденность бессонницы, когда даже в чистой рубашке и с наличными в кармане человек чувствует себя бродягой.
Я пробовал помочь себе пивом со ста граммами ликера «Cassis», но оно было столь же невыразительным, как и все остальное. Неопределенность просачивалась повсюду, и в живое, и в мертвое. Я подумал, что, пока доеду до Дукли, она исчезнет, расползется в воздухе, как состарившиеся воспоминания. Мне хотелось купить путеводитель «Дукля и окрестности» пана Михаляка. Я видел его когда-то в Дукле на витрине, но тогда было воскресенье. Теперь я искал его в Кросне. Я вошел в книжный магазин, на той улице, что за мостом сворачивает вправо и опоясывает подножие старого города. Внутри было тепло и тихо. Ксендз вполголоса консультировался с молодой продавщицей. В уголке журчало «Радио Мария»[15]. Пахло полиграфической краской и скипидаром. Книги стояли на полках у стен. В основном речь в них шла о святынях и чудесах, но были также книги о масонах и мормонах, Мэнсоне[16] и всемирном заговоре. О Дукле ничего не было. Я хотел подслушать разговор ксендза и девицы, но они шептались тихо, конспиративно, голова к голове.
Я даже не мог увидеть лица ксендза. «Радио Мария» передавало свой любимый опус с разухабистой гармошкой и смешанным хориком, голосившим, что одержит победу орел белый, одержит победу польский род. Весь в черном, склоненный, ксендз был чем-то похож на заговорщика. Он быстро вышел, через стекло я видел, как он бросает в серый «Опель» пачку книг и уезжает. В магазине витал запах девушкиных духов. Ароматные струйки по воздуху, стронутому с места священнослужителем, потянулись в сторону двери. Продавщица носила очки. Во всяком случае, должна была их носить.
А потом была беспредельность кросненского автовокзала. Площадь имела размеры аэропорта, с него отправлялись маленькие несчастные «автосаны» с табличками «Кремпна», «Вислочек», «Зындранова», тогда как должны бы стартовать реактивные самолеты. Мой автобус стоял где-то в самом конце — желтоватый и такой беспомощный, что хотелось взять его в руки, отнести на шоссе и, подтолкнув легонько, сказать: ну давай, малый, не бойся, в дорогу!
Я вовсе не ошибался. Дукле грозило небытие. Я пошел, как всегда, перешейком между фотоателье пана Щурека и витриной ветеринара пана Когута. Ратуша едва отделялась от неба. Она выглядела точно его вырезанный ножницами фрагмент, который чуть сдвинулся, упершись в мостовую. Плоская театральная декорация с картонными дверцами в щипце. Давление стремительно ползло вверх, но воздух был еще неподвижен. Горный ветер с Татр вот-вот должен был подняться. Теперь он, вероятно, брал разбег над Венгерской Низменностью, только-только вытягивая лапу, чтобы ощупать с юга Карпаты, ища расселин, низких горных перевалов и широких седловин, через которые мог бы вторгнуться и обрушиться на беззащитное Погуже, сея духовное опустошение среди жителей. Так что на всякий случай я вошел в Пететек.
Три типа за столиком молча пили водку. Просто поднимали стаканы ко рту и опрокидывали. Не обращая друг на друга внимания.
Перед горным ветром все бывает тихое и чужое. Внутри тел проскакивают искры, нервы делаются натянутыми и раскаленными, кожа перестает их защищать, и потому граница между банальностью буден и безумием делается тонкой, как волос. Человек не отделяет себя от мира и полагает самого себя реальностью, тогда как на самом деле у него лишь слабеет сознание, и вместо того, чтобы придавать видимость смысла царящему вокруг сумбуру, оно занимается собой.
Эти ребята были вполне нормальные, серо-бурые, с растительностью на лице. Они даже не взглянули на меня, но почуяли мое присутствие, как звери чуют чужака. К их столику вел мокрый след. Каждый из них выстукивал ногой какой-то свой ритм. Белый «адидас», черный «казак» на молнии и носок чего-то, что могло быть резиновым ботом или кирзовым сапогом. Из подсобки донеслось звяканье. Я постучал двузлотовым по стойке. Мне совсем не хотелось тут задерживаться. Подошла официантка, она наливала мне так, будто я был прозрачным, и не глядя сгребла деньги в ящик. Я выпил и вышел настолько быстро, что вкус почувствовал лишь в арке, которая вела с Рынка в маленький дворик, где летом под деревом стояли столик и три стула.
Ветра все еще не было. Перед горным ветром всегда бывает такое ощущение, будто ты набрал воздух в легкие и пытаешься задержать его как можно дольше. На углу улицы Костюшко женщина швырнула что-то под ноги мужчине в зеленой куртке и быстрым шагом удалилась. Мужчина поднял это нечто, стал приводить в порядок, упихивать, сворачивать, а потом побежал за ней. До сих пор не знаю, что это было. Что-то коричневого цвета. Я пошел туда, но на тротуаре не осталось никаких следов. Поругавшаяся парочка уже исчезла в «Граничной». Не за что было ухватиться. Мысль и взгляд расползались во все стороны, не встречая никакого сопротивления. Материя и память расступались перед ними, куда ни глянешь, о чем ни подумаешь, вокруг — ничего, только пучина географии, по самые границы кросненского пейзажа, и аморфная трясина прошлого, с околоплодными водами включительно. Так выглядят минуты перед ветром с гор. Невесомость, вакуум, расстройство рассудка, и кажется, будто ты проглотил весь мир и в животе грохочет эхо. Это просто недостаток изобар, и все сущее разбухает, накладывается одно на другое, и трансцендентность переходит дорогу имманентности. Тогда воображаемое перемешивается с реальным, гурали в Подхале[17] хватаются за ножи, в заведении, именуемом в народе «Под соском», льется кровь, и не стоит даже пытаться их разнимать. Удавленники ищут уединенных мест, любовь оборачивается насилием, а выпитая водка собирается в организме, будто бы не причиняя никакого вреда, и ты сидишь себе прямо, чопорно и скучно, пока вдруг мозг не взрывается, словно магнезия, и тогда в белом свете безумия неправдоподобное становится обычным. С крыш сползает снег, и коньки на крышах блестят, точно лезвия. Так и должно быть.
В общем, я решил отыскать дом, который мы обнаружили с Р., когда были здесь летом. Тогда уже опускались сумерки. Мы шли по Церговской, свернули к Городскому Валу, а потом на Зеленую. Это была неприметная хибара из почерневшего дерева. Она стояла в глубине запущенного сада. В окне горел желтый свет. Минут через пять должно было окончательно стемнеть, но остатки дневного света позволили заглянуть в этот не то сад, не то двор. Там царил весьма странный порядок: обрезки, пластины и надорванные куски ржавой жести были уложены в геометрически ровную кучу. Кто-то задал себе огромный труд, чтобы из бесформенных предметов сложить почти прямоугольник. Камни, щебень и обломки кирпича покоились в пирамидальной призме, выровненной до точного конуса. Осколки и камешки были заткнуты в просветы между более массивными обломками с такой аккуратностью, как если бы это делал каменщик. Целые и треснувшие пополам кирпичи лежали в элегантном прямоугольном штабеле. В другом месте были собраны остатки толя и пленки, свернутые в рулоны соответственно виду и размеру. Кульки и свертки лежали друг на друге в сужающейся кверху горке настолько изящно, что на вершине оказался один венчающий композицию рулон. Древесина тоже была приведена в порядок в соответствии с размерами и конфигурацией. Тут прогнившие трухлявые доски, там короткие обрезки толстых балок в груде, похожей на детский кубик. Рядом лежал лом. Хитросплетение проржавелых конструкций было распутано. Отдельно трубки, пруты, рельсы и железные профили, словом, вещи длинные и тонкие; отдельно многогранники и всякая мелочь неправильных очертаний, останки велосипедов, печной арматуры, металлических банок и черт знает чего еще. Эти бесформенные предметы, которые невозможно прилаживать один к другому, были ссыпаны в обтекаемый полукруглый холмик, да так, чтобы ничто не торчало и не нарушало его относительной округлости. Под навесом сарая из лесопильных горбылей было собрано стекло. Сотни, а может, тысячи ровно уложенных бутылок складывались в стеклянную стену — горлышками внутрь, донышками наружу. Здесь также царила элементарная гармония. Отдельно зеленые, отдельно коричневые и белые, к тому же растасованные с учетом конфигурации и вместимости: фляжки были изъяты из рядов круглостенных, а пол-литры не мешались ни с четвертинками, ни с литровыми из-под колы и лимонада «Птысь». Этот шифр был чрезвычайно сложен, ведь три цвета и несколько вариантов формы дают головокружительное количество комбинаций. А рядом банки, тоже рассортированные по размерам. А еще дальше росло старое дерево с раскидистыми ветвями, с которых свисали пучки веревок, связки электрических кабелей, куски, кусочки, обрывки, поперевязанные, поперетянутые, плотные, стекающие вниз конскими хвостами. И кроме того, еще набитые пластиковые пакеты. Более десятка разноцветных мешочков, наполненных незнамо чем, но наверняка чем-то легким, потому что они раскачивались при малейшем дуновении. Выглядело все это, словно сотворение мира. Между складами мусора была протоптана дорожка. Как если бы создатель этого порядка прохаживался среди сотворенного им, восхищаясь и время от времени подправляя.
Мы пошли в сторону развалин синагоги. Молодые березки вцепились корнями в фундамент стены в нескольких метрах над землей. Мы слышали шелест листочков. Тогда Р. сказал, что ему очень понравилось, как тот человек в старой убогой халупе, самой убогой на всей улице — обсаженной большими, богатыми и отвратительными домами, — как тот человек просто пытается придать смысл своему миру, и это нормально, что он не пытается его изменить, а только слегка упорядочивает, как порой упорядочиваешь мысли, и этого иногда достаточно, чтобы не сойти с ума. Так сказал Р., и я махнул рукой на все это сотворение мира, потому что, похоже, Р. был прав.
И сейчас мне хотелось пойти туда, чтобы зацепить на чем-нибудь взгляд и мысли, на чем-нибудь простом и очевидном, на чем-то, что было совершено ради самого свершения. Я так и сделал, но во дворе лежал снег, и белые холмики скрывали шедевр. Все это выглядело как нечто случайное и природное. К двери не вел никакой след. Из трубы не поднимался дым. На безлистом дереве висело несколько слинявших пакетов. Они напоминали безжизненные плоды. Наверное, они были набиты другими пакетами. С юга налетел первый порыв ветра и заколыхал кульки. Я быстро убрался оттуда. Автобус из Барвинека пах ветром.
По словарю «дукля» означает «маленький шурф, который служит вентиляционной скважиной при разведке ископаемых или используется для их добычи примитивным способом».
Все верно. Мой способ примитивен. Он напоминает долбление вслепую. Собственно говоря, делать это можно в любом месте. Какая разница, коль скоро мир-то круглый. Вот и память тоже начинается с какого-то пункта, с точки, а потом наматывается слоями, описывая все большие круги, чтобы поглотить нас и, наконец, сгубить в на фиг нужном нам изобилии, и тогда мы начинаем пятиться, поворачивать назад, притворяться, что вляпались во все это случайно, сами того не желая, что, вообще говоря, нас кто-то впутал, соблазнил, как ребенка, а сейчас нам лишь хочется к маме, чтобы под ее юбкой плакать от стыда и бессилия.
Тем летом, как и каждый год, июль незаметно сменился августом, и несмотря на непрекращающийся зной, воздух был пропитан напоминанием о конце каникул. Коровьи лепешки на лугах засыхали в мгновение ока. Можно было носком ботинка переворачивать их на другую сторону. Зеленые металлические жуки застывали в блеске солнца, а потом торопливо искали тени. Пыль постоянно висела над дорогой. Ивы над рекой пахли горелым. Вода опала, и посреди русла обнажились песчаные отмели. Можно было дойти до них вброд, по грудь в воде. А потом лежать на спине, чувствуя щекочущее прикосновение реки и шершавую, расступающуюся под тяжестью тела гальку. Некоторые перебирались аж на другой берег и, гордые, стояли там, подперев руками бока, изумленные зрелищем собственной деревни, которой никогда прежде не видели с той стороны. Вечерами к реке подъезжали телеги с жестяными бочками. Люди набирали воду для скотины. Колодцы начали пересыхать. Лошади по брюхо заходили в реку и пили.
Тем летом я впервые надрался до синих коней. Дружки дотащили меня к дому дяди с тетей и там оставили. Я проснулся на заре, весь мокрый от росы. Красное солнце вставало над черной полосой сосновых и осиновых перелесков. Было совсем безветренно, но тополя у дороги шумели как обычно.
Пожарные свернули лавочку и перенесли магнитофон «Tonette» в депо. Ночи были уже холодными. В одну из таких ночей устроили настоящую вечеринку. Буфет с водкой и пивом. И вертушка крутилась только в перерывах, когда гармонист, гитарист и барабанщик теряли силы. В помещении депо клубилась желтая пыль. Танцующие были мокрыми от пота. Перед полуночью подкатила милицейская «сиренка» и вошли двое в форме, высматривая кого-то. Найти-то нашли. Но тому удалось вырваться из их рук и даже вмазать одному менту по физии — я увидел на земле шапку с орлом. Парень убегал во тьму между овинами. Ему вдогонку несся собачий лай. Второй мент вытащил пистолет и пульнул в ночь. Тем летом я в первый раз услышал настоящий выстрел.
В какой-то из дней мы гоняли мяч на волейбольной площадке. В конце концов он укатился в кусты да там и остался. У крыльца ее домика ничего не висело. Около пустой бутылки от «мистеллы» стояла еще одна такая же. Мы вяло расползались в поисках тени. Коричневые от солнца и скучающие. Нас мучила жажда. У меня не было ни гроша. Я двинулся в сторону бетонного бункера, где находились умывальни и душевые. Внутри царили прохлада и полумрак. Свет просачивался из узких окошек под потолком и застывал там, словно у него не хватало сил спуститься. Я пил и дрожал от холода. На соседнем кране лежало свернутое в комок полотенце. В глубине в бок уходил коридор, в котором были душевые кабинки. Оттуда доносился шум воды. Временами он напоминал сухой треск. Я умыл лицо. Вода утихла, и я услышал голос: «Крися! Дай полотенце!» И через минуту еще раз: «Криська!»
Я взял полотенце. Оно было влажным. Взял его и пошел в ту сторону. Прямоугольник маленького окошка в конце коридора ослепительно сверкал, ничего при этом не освещая. В последней кабине шевельнулась полиэтиленовая штора. Я этого не видел. Слышал только шелест. Я шел с вытянутым перед собой полотенцем. Остановился очень близко, и тогда полупрозрачная занавеска отодвинулась полностью. Когда она забирала полотенце, ей пришлось легким движением выдернуть его из моей руки. То, что я видел, было лишь зарисовкой фигуры, темным контуром на фоне золотого сияния. Ее волосы были теперь почти прямыми. Они стекали ей на плечи, тяжелые и мокрые. Я подумал, что наконец увижу ее лицо, но видел только свет, солнечные потоки, процеженные сквозь грязное стекло, и отблески, дробящиеся вокруг ее головы.
Она сказала: «Все ходишь за мной», — и чуть шевельнулась, а вместе с ней — теплый парной воздух, насыщенный ее ароматом, металлическим запахом воды и аурой мокрой стенки. Меня окутывало душное осязаемое облако, было это так, словно я оказался в ней, словно дотрагивался до ее кожи изнутри. Я ощущал пружинистую, податливую оболочку мира и боялся пошевелиться, потому что каждое движение, каждое колебание возвращалось ко мне в виде какой-то бесконечно упоительной смертельной ласки. Я глубоко дышал. Воздух полз по венам. Он был пропитан ее существованием. Она дотронулась до моей щеки, передвинула ладонь на шею, и я почувствовал капли воды, стекающие по спине. И в этот момент где-то вдалеке мы услышали мертвый стук сабо. Она отдернула руку. Я развернулся и выбежал на улицу. Ослепленный солнечным светом, я остановился лишь на середине деревни. Старая женщина вешала ведро на изгородь. На западе над старым холерным кладбищем появилось белое облачко, но через минуту исчезло.
Ну в общем, Дукля. Странный городок, из которого и ехать-то уже некуда. Дальше только Словакия, а еще дальше Бещады, а по дороге все мерещится черт со своими куличками, и ничего сколько-нибудь стоящего не попадается, ничего, лишь хрупкие домики примостились у шоссе, как воробьи на проводе, а между ними полные ветра выгоны, неизменно заканчивающиеся небом, которое взмывает вверх, а потом загибается, нависая над головой, чтобы упереться в противоположный край горизонта. Именно так — Дукля, увертюра пустого пространства. Куда поехать из Дукли? Из Дукли можно только возвращаться. Эдакий прикарпатский Хель[18], урбанистическая Ultima Thule[19]. А дальше уже только деревянные лемковские хижины, «хыжи», и бетонные обломки бастардов Ле Корбюзье — со всем этим пейзаж кое-как справляется. На автовокзале никогда не бывает больше двух автобусов. Грузовики из Румынии сбавляют скорость на минутку, на эти пятьсот метров, а от Бернардинцев давят уже до упора.
Ты выпиваешь пиво в «Граничной», выходишь на середину Рынка, и фантазия раздувается, словно шарик на уроке физики, положенный под колпак вакуумного насоса. И тогда Дукля представляется центром мира, omfalos universum[20] — некой вещью, в которой берут начало все другие вещи, стержнем, на который нанизываются все новые слои подвижных явлений, необратимо превращенных в неподвижные фикции: дрожки однолошадные из Ивонича 3 кроны, двухлошадные 7 крон, дилижанс крона пятьдесят. Дилижанс отходит в 6.00, 7.30 и в 2 пополудни. Спать можно на постоялом дворе Лихтманна за крону пятьдесят, откушать в покое для завтраков у пана Хенрика Музыка. Три тысячи жителей, из которых две с половиной — евреи. Год, скажем, 1910-й. Все вместе напоминает фотографию, тонированную сепией, или старый Целлулоид — и то и другое горит легко и оставляет после себя пустое место. Это как если бы сгорело время. Когда разрушаются вещи, существующие в пространстве, после них остается вакуум, который мы заполняем другими вещами. А вот как со временем? Похоже, оно срастается, как нечто органическое, и тянется себе дальше, потому что мы привыкли к непрерывности, которая немного похожа на бессмертие. А что, если после Мнишек, евреев и дрожек остались какие-то места, какие-то незанятые пространства, какие-то дыры, подобные тем, что прожжены сигаретой в выходном костюме?
Но в общем, когда я возвращаюсь в Дуклю, мне нет дела ни до дилижансов, ни до евреев, ни до чего. Меня интересует только, является ли время продуктом одноразового употребления, как, скажем, гигиенические платочки «Povela Corner» из Тарнува. Только это.
Вскоре она уехала. Домик был заперт наглухо. Окно, лишенное занавески, которую они, должно быть, привезли с собой, блестело черным стеклом. С крыльца пропали пустые бутылки. Исчезла веревка для сушки белья. Курорт вымирал. Байдарки из крашеной зеленой фанеры перетащили с берега под навес, где целое лето работал парень с зашпиленным английской булавкой рукавом рубахи и за два злотых сдавал их напрокат вместе с веслами. У мостков осталась только белая пластиковая лодка на цепи. Иногда мы залезали в нее. Цепь была длинная, но течение прибивало лодку к берегу. Мы там курили. Иногда пили вино. Теперь я делал это с осторожностью. Мне хватало терпкого привкуса и тепла в желудке. В ста метрах отсюда вниз по реке швартовались деревянные баржи. Туда ходили те, что постарше, и расстегивали кофточки девушкам. В сумерках бывало слышно хихиканье. Вода разносила его далеко. Мы подслушивали разговоры. Я понимал из этого не много. Около барж на берегу лежали большие груды раскрытых раковин, оставшихся от речных моллюсков. Ребята сказали мне, что раньше люди кормили моллюсками свиней.
В какой-то из дней, совсем незадолго до конца, незадолго до отъезда, я пошел туда. Из одного крана капала вода. Я закрутил его. Мне хотелось, чтобы стало абсолютно тихо. Слышал только скрип резины на сухом полу. Я вошел в последнюю кабину и задернул за собой полиэтиленовую шторку. Солнце, как и тогда, светило сквозь узкое горизонтальное окошко. Покрытые трещинами кафельные плитки поблескивали, как полупрозрачное золото. Казалось, что за ними что-то есть, что там простирается другой мир. Пахло мокрой стеной и печалью места, где перебывало множество чужих голых людей. Здесь словно остались их осиротелые остывшие отражения. В отверстии слива стояла жирная вода. На поверхности плавал белый лепесток мыла и пучок волос. Память обо всех. Деревянный помост был светло-серый и почти сухой. Сюда давно уже никто не заглядывал. В углу лежала желтая подушечка от яичного шампуня. Я поднял ее. В ней был только воздух и немножко запаха. Мне стало страшно. За стеной кто-то прошел и что-то кому-то сказал. Я и не думал снимать одежду и делать вид, будто моюсь. То есть я думал об этом, но такой план представлялся мне слишком дерзким. Чтобы тринадцатилетний подросток вот так просто вошел в чужую душевую? Но гораздо большим беспокойством наполняла меня мысль о том, что своим телом я мог воссоздать ее существование. Я стоял в этом жалком кубическом пространстве, позволяя себе одни лишь прикосновения. Кафельные плитки были холодными и липли к пальцам. Зазоры и трещинки заполняла тень. Черная сетка — или контурная карта — сопротивлялась свету. Мне не нужно было напрягать воображения. Я знал, что вода падала на нее сверху, стекала по плечам и груди, капли отскакивали и попадали на стену, а некоторые из них навечно впитывались в пористую структуру материи, я знал, что вода, прежде чем навсегда исчезнуть в мерзком квадрате слива, должна была коснуться дерева, пропитать его и оставить в нем какие-то элементарные частицы. Ведь в конце концов, тело ее, как и память, собирало из мира невидимые, но присутствующие в нем элементы, поглощало их знойными днями и душными ночами, удерживало с помощью пота, увлекало куда-то внутрь и усваивало, пока они не становились ею самой: пыль, взгляды, чужое прикосновение, цветочная пыльца, запах простыней, спертый деревенский дух и запахи других людей, свет, и даже пейзаж, изображения предметов, которыми она пользовалась и мимо которых проходила, — все это проникало в нее, проходило сквозь упругую ненасытную кожу, чтобы затем, преображенным и уже ненужным, выступить обратно на поверхность в виде грязи, усталости и стечь в тот же день в золотом сиянии вечереющего солнца, разбрызгаться и возвратиться в мир, который точнехонько уместился в кубическом пространстве душевой кабинки. Ведь мир должен принимать какие-то формы, доступные мыслям и чувствам, потому что в противном случае мы умирали бы от тоски, не понимая, почему, собственно, умираем.
Ну в общем, я стоял там почти не шелохнувшись и разыгрывал кощунственную пародию на ее существование. Краны были черные, эбонитовые и ничем не отличались друг от друга. На пластмассовой полочке для мыла лежала сломанная спичка. Коричневая головка слиняла, окрасив древесину в розоватый цвет. Я стоял почти не шелохнувшись. Я боялся, что всколыхну воздух, а воздух потревожит все остальное. Ведь все это было словно живая гробница, словно что-то, усыпленное насмерть.
И тогда послышался колокол из маленького деревянного костела. Звонили к шестичасовой вечерне для нескольких старушек в темных платках, для которых зажигали всего две свечи на алтаре, а прислужников заменял церковный сторож. Я вышел очень медленно, задом, задернув за собой штору, и пятился, пока не почувствовал стену.
Снаружи у дверей стояла женщина в буром фартуке, с ведром и щеткой, а рядом толстый мужчина. Я прошел между ними, прервав их разговор. Когда я уже отошел на несколько шагов, то услышал взвившийся голос уборщицы: «Ну, что я говорила?! Что я говорила?! Они ссать сюда приходят, товарищ начальник, ссут они здесь…»
Мужчина что-то ответил, но женщина не дала себя переубедить и повторяла свое, хотя я уже не мог понять слов. Я шел медленно. Под жестяным козырьком пивной стояли только местные. На следующий день я должен был уехать. А сегодня должен был собрать вещи.
В тот день, прежде чем двинуться в сторону Команчи, мы с Д. еще обошли дукельскую рыночную площадь. Там не было ни души. Все либо участвовали в погребальном шествии, либо ждали дома, пока вернутся остальные и будет с кем поговорить. Д. заглядывал через темное стекло в мастерскую по ремонту велосипедов. Он позвал меня. «Там какая-то труба», — сказал он. «В велосипедах?» — спросил я и тоже посмотрел. Действительно, на стене ателье, между рамами, педалями и прочим золотилось нечто, то ли тромбон, то ли валторна — непонятно. Во всяком случае, золотилось таинственно и как-то одиноко и грустно, поскольку все медные духовые отправились с похоронами. Как если бы его оставили в наказание или по старости.
А потом я хотел показать Д. ту большую веранду и дворец, и мы направились по кварталу, чтобы выйти к узкому проходу из пары ступенек, ведущему к Дукельке. И когда мы проходили мимо невысокой стены на самом углу Рынка, на нас словно с неба свалилось некое существо, приземлившись на обе ноги прямо перед нами, и попросило курева. Мы даже не успели разобраться, парень это или девушка, потому что было оно заросшее, лохматое и какое-то неотчетливое от алкоголя. Стрельнув четыре сигареты «для подруги», существо столь же пружинисто и нереально исчезло за белой стеной, и лишь качание кустов по другую сторону помогло нам поверить в действительность происшедшего.
А потом меня соблазнили ступеньки, ведущие словно бы под землю. Это было то, что осталось от общественной городской уборной. Серая деревянная дверь была выломана и болталась. Я вошел. Там ничего не было. Лишь полумрак и осколки. Ничего целого, одни фрагменты. Пустые отверстия на месте кранов, ржавые следы установочной арматуры, фаянсовые обломки унитазов и повсюду краска, отслоившаяся от стен. Пыль, паутина, обрывки газет, битое стекло, рыжее распадающееся железо, щебень и засохшее говно. И серый свет из маленького оконца на уровне земли. За ним был ясный день, но здесь его блеск умирал. Есть такие места, но обычно они случаются во сне. Меня охватил испуг. А пожалуй даже ужас, ледяное прикосновение древнейшего страха. Нечто подобное должны были испытывать люди, когда осознали существование времени, когда поняли, что они неподвижны, что они остаются позади, и с этим ничего не поделаешь.
Я стоял не шевелясь, у меня немели конечности. В этом заброшенном, полном эрозии сортире я увидел материю в ее окончательном упадке и запущенности. Попросту минуты и годы вошли в эти вещи и взорвали их изнутри. Как всегда и везде. Мне надо было прожить тридцать шесть лет и оказаться здесь.
С душой, забившейся в пятки, а может и куда подальше, я двинулся обратно. Шел очень медленно, ступенька за ступенькой поднимаясь на поверхность. У Марии Магдалины звонили колокола. И тогда я решил все это описать.
II
Мне всегда хотелось написать книгу о свете. Я не мог бы назвать ничего, что в большей степени напоминало бы вечность. Никогда не мог представить себе того, что не существует. Всегда казалось это пустой тратой времени, как и упорство в поисках Неизвестного, которое в конце концов выглядит мозаикой, сложенной из старого и хорошо известного в слегка подправленной версии. Предметы и события или приходят к своему концу, или исчезают, или разваливаются под собственной тяжестью, и если я разглядываю их и описываю, то потому лишь, что они преломляют свет, овеществляя его и наделяя формой, которую мы в состоянии воспринять.
Станция в Ясле была пуста и светла. Впервые за много недель сияло солнце. Поезда выглядели добродушно. Так почти всегда бывает на провинциальных вокзалах. Составы приводят на память узкоколейки из детства, на сверкающих локомотивах — живые изначальные цвета: зелень, черное и красное на колесных спицах и табличках с орлом и номером.
В теплую погоду от коричневых шпал исходит ностальгический запах, вызывающий тоску по бесцельным путешествиям: неспешной, однообразной езде в неподвижных декорациях пейзажа. Можно сойти, пересечь путь в неположенном месте под самым носом железнодорожника в малиновой фуражке, и ничего не изменится. На боках вагонов — белые таблички с названиями местности. Загуж, Загужаны, Крыница или Хырув за украинской границей, где толстые бабы, навьюченные водкой «Кубанской» и «Гайдамацкой», спиртом и пачками безакцизных «Pall Mall», ждут встречного рейса, чтобы продать все это в Кросценке и в тот же день вернуться.
Воздух имеет золотистый оттенок. Цветут тополя и березы. Пыль носится над перронами, как легкий наркотик. Билет стоит два злотых с грошами, и за эту цену — тридцать километров езды и почти час дороги.
В купе да и как будто во всем вагоне было пусто. Пахло застарелым сигаретным дымом, а в открытое окно несло выхлопными газами от локомотивного дизеля. На севере, по другую сторону долины Ясёлки стелились хребты Стшижовского Взгорья. Безлистые буковые леса рыжим мехом лоснились под лучами солнца. Я опять ехал в Дуклю. На полях шли работы. Вспаханная земля напоминала шоколад. Сеяли, боронили, сажали. Попадались одинокие фигуры женщин, которые привалившись на мотыги, провожали взглядом поезд. Некоторые просто сидели, выставленные солнцу, отдыхали полулежа, раскинув ноги и обопрясь на локти, или растянувшись, точно холоднокровные твари, в этом несколько преждевременном зное. На пригорки взбирались повозки-насекомые, сделанные из старых мотоциклов: три колеса, двигатель, ревущий на больших оборотах, сзади кузов, скорость пешехода. Наполненные зерном или селитрой кирпичного цвета, они ползли под синью неба по вязкому грунту, словно покорные домашние животные новой породы. «Механизация» нищих районов. У некоторых вместо кузова были обычные телеги. Переходный гибрид упряжи и трактора. Они останавливались на вершинах пригорков, мужчины подтыкали под пояс холщовые торбы и шли вниз, сея от руки, как в стародавние времена, в ритме танца: шаг, широкий взмах, шаг, захват горсти, шаг, широкий взмах. Я ехал, курил и, несмотря на расстояние, слышал хлопки резиновых голенищ, которые при тяжелом шаге издают довольно громкий звук, немного шлепающий и немного телесный.
Так оно было. Неполный километр в минуту, так что все это держалось в воздухе достаточно долго, чтобы запасть в память, отпечататься, как миллионы других образов, которые потом носишь с собой, отчего человек напоминает свихнувшийся кинетоскоп, а жизнь его похожа на галлюцинацию, — ведь на что ни посмотри, все оказывается не таким, как есть. Что-то всегда изнутри просвечивает, всплывает на поверхность, как масляная капля, мерцает, переливается и манит — дьявольская обманка, блуждающий огонек, бесконечный соблазн. Ни к чему нельзя притронуться, не потревожив чего-то другого. Как в старом доме, где и беззвучных шагов достаточно, чтобы впереди, через две комнаты, зазвенели стекла в буфете. Вот так функционирует сознание, и так оно хранит от помешательства, ведь что бы это за жизнь была, если бы события застревал и во времени, словно гвозди в стене. Паутина памяти оплетает голову, и настоящее из-за этого тоже расплывчато, и ты уверен, что оно перейдет в прошлое почти безболезненно.
В Тарновце над станцией стояли белые облака. Из горизонтальных просветов между ними золотой туман сплывал на стену с надписью какого-то футбольного фаната: «Сандеция — жиды». Семафор выглядел осиротело и старомодно. Мне захотелось выделить какой-нибудь случай из своей жизни, но ни один пока что не казался мне лучше остальных.
А потом в соседнее купе сели четверо мужчин. Я видел, как они шли по пустынному перрону. Выглядели они как рабочие, которым удалось свалить до окончания смены. Похожи были на прогульщиков. Сквозь тонкую стенку я слышал, как они проталкиваются, шумно, не церемонясь, устраиваются, может даже и с ногами на сиденьях, и сразу потянуло дымом от дешевых сигарет. Прежде чем поезд наконец тронулся, они уже были заняты оживленной беседой. Говорили о телевизорах, как мальчишки обычно говорят о машинах и легендарных фирмах, воображаемых достижениях и недостижимых чудесах. «Sony», «Samsung», «Curtis», «Panasonic», «Philips»… Это, однако, не звучало как разновидность современной абракадабры. Парни разговаривали о видах света, излучаемого разными типами экранов. Этот — слишком холодный, фиолетовый, тот — чересчур резкий, ненатуральный, нездоровый для глаз, другой, в свою очередь, излишне пастельный, слащавый, оскорбляющий натуральное благородство красок света. Они искали идеала, смешивая характеристики разных электронных механизмов, как смешивают краски или часами устанавливают прожекторы на киношном плане, чтобы на короткий миг ухватить действительность в одном-единственном неповторимом эпизоде, когда она на мгновение совпадет с фантазией. Они пытались найти компромисс между видимым и отображаемым. Ни слова о технике, ни тени кретинского идолопоклонства. По крайней мере, до станции Едличе, где они вышли, посреди серебристых ректификационных колонн, обвитых лабиринтами перегонных трубопроводов. Может, они вовсе и не отлынивали от своей работы? А только еще направлялись туда, посреди этого технопейзажа, на границе которого безмятежно паслись коровы и работали лошади, а стародавняя убогость постепенно превращалась в сельский ландшафт.
И так было до самого Кросна.
Вдалеке двигались огромные грузовики с возбуждающими надписями на красных и желтых брезентовых тентах, блестящие снаряды цистерн «volvo», травянистые фургоны «мерседесов», тягачи «DAF», холеные польские «ельчи», белоснежные «scania», а между ними мелюзга легковушек, словно мелкие камушки в ожерелье капитализма: аметисты, изумруды, рубины, опалы, сапфиры — и все это в солнце сверкает и мерцает, с востока на запад и обратно, поперек Европы, с липким резиновым визгом шин по разогретому асфальту, с толстыми парнями за штурвалом — кожаные куртки, «Мальборо» в зубах, врубленная на полную катушку автомагнитола «Blaupunkt» и педаль в пол, будто их гонит дьявол или они дьявола (кто это может знать?), будто посреди старых неподвижных холмов время выдалбливало себе узкий туннель, в котором должно было набрать ускорение, словно намереваясь наверстать целое столетие, оставив все за собой, и оказаться где-то за границами материального и обитаемого пространства. Так все это выглядело.
На пригорках, на ровных полосках земли вдоль шоссе, на опушках ольховых рощ стояли местные жители и смотрели, как их мир отрывается, словно кусок суши или льдина, и дрейфует назад, хотя с виду и пребывает на своем месте. Железные бороны на телегах, вилы, упряжи, резиновые сапоги на босу ногу, симбиоз запахов конюшни и дома, извечное и крепкое сплетение человечьей и животной экзистенции, простокваша, яйца, картошка, сало, и никаких тебе дальних походов за трофеями, никаких чудес и легенд за кромкой сытости и спокойной смерти. Так вот и стояли, опершись о деревянные рукояти инструментов, вросшие в землю, которая вскорости должна была стряхнуть их с себя, точно собака, стряхивающая воду. Дрожащая пестрая линия шоссе бежала по дну долины. В сущности, это была тектоническая трещина, теологический сдвиг на границе эпох. А они стояли и смотрели. По крайней мере, должны были это делать. В действительности, однако, они были заняты своими делами, без тени заинтересованности, без страха, всецело захваченные материальностью мира, его тяжестью, благодаря которой могли ощущать свое существование как нечто реальное.
Так было, когда в апреле я ехал на поезде в Дуклю, а свет снова и снова пробуждал к жизни все сущее и подвергал его уничтожению со сверхъестественным ледяным равнодушием. Кросно начиналось плоско и промышленно. Ангары, бараки, склады и полный отстой. Около путей было что-то навалено. Может, это должны были погрузить и забрать, но сейчас оно не выглядело чем-то заслуживающим усилий. Ответвления рельсов пропадали среди низких строений. Их покрывала ржавчина. Заросли, закоулки, запах нагретых смоленых крыш — место в самый раз, чтобы сидеть себе, потягивая фруктовое вино, и вглядываться в поезда дальнего следования, в которых ты никогда не окажешься. Напитанные солнцем бетонные ограждения, скамеечки из доски да пары кирпичей, зелено-коричневые переливы битого стекла, белые колпачки от бутылок, стекающие с насыпей пестрые языки мусора и девочка на маминых шпильках с лакированной коляской пятнадцатилетней давности. Железнодорожные окраины всегда напоминают бесхозную землю — никто там не живет, не бывает, не работает, так что там все можно, а ленивые, едва набирающие ускорение или сбавляющие ход составы распространяют ауру нереальности, и все тонет в полусне периферии между детством и зрелостью, когда мечты и действительность невозможно разделить.
«Magnum Disco-Night Club Ротонда» внутри был пустым. Ажурная стеклянная постройка разделила судьбу окрестностей. От времен ее хозяйственной деятельности осталась только вывеска. Впрочем, неизвестно, происходило ли вообще здесь что-то когда-нибудь. Или, может, только должно было начаться? Это было одинаково похоже на демонтаж и на ремонт. Стеклянный мыльный пузырь вырастал из земли, испещренной кусками железа и бетона. Легкий щелчок — и от него останется пустое место. Я пробовал представить себе вечеринку под этим жалким колпаком: болезненное дрожание ламп стробоскопа и грохочущие за спиной поезда. Получался террариум или пляска скелетов.
Пришел кондуктор, но билета не потребовал. Сказал только, что «сейчас будет город». Словно я выглядел приезжим, кем-то, кому требуется помощь.
До дукельского автобуса оставался еще час. Слишком много, чтобы ждать, слишком мало для нормальной прогулки, но в самый раз для котлеты в закусочной «Смерф», где до сих пор я не видал ни одной живой души за трапезой, хотя там дешево и чисто, а средний по вкусу обед в пределах тридцатника; в самый раз для пива в том магазинчике с одним зонтом сразу за почтой направо, в компании гражданина с велосипедом, который тот завел за оградку и прислонил к столику, хотя это был старый «урал» с кожаным сиденьем, похожим на казацкое седло, и пружиной в форме кипятильника.
А потом, уже в автобусе, я подумал, что Дукля заслужила собственную железную дорогу. Если и не настоящую, большого калибра, то хотя бы узкоколейную. Раз или два в день маленький паровозик выкатывал бы на посыпанный гравием невысокий перрон где-нибудь между Венгерским Трактом и автовокзалом. Железнодорожные пути отделяли бы старую часть городка от выпендрежной буржуйской имитации сериалов и воспоминаний о сезонных работах в Германии. Даже не пути, а всего один железнодорожный путь и разъезд, ну скажем в Мейсце Пястове. Жесткий упрямый стук, деревянные сиденья в узких вагонах с окнами, где вместо ручек кожаные ухватки, похожие на чемоданные. Курить можно во всем поезде, что не имеет значения, потому что южный ветер из-за перевала и так вдувает угольный дым сквозь все зазоры. От Кросна добрых два часа едешь подпрыгивая, среди лязганья прицепов, в этом болтающемся из стороны в сторону едва ползущем составе, так что каждый час нужно выходить в тамбур, чтобы размять косточки, а в некошеных рвах пасутся тощие коровы, за которыми присматривает детвора, ведь это разгар лета, каникулы, и пейзаж без пастушка был бы чем-то из ряда вон выходящим.
Словом, совершенно самостоятельная линия — билеты можно купить только у кондуктора в мундире с лацканами, на которых вышит герб Дукли: три черно-золотых рога на белом фоне. Вагоны непременно темно-зеленые, выцветшие и старые. Паровоз, конечно же, черный, слегка порыжевший, замасленный, с красными спицами, вспученный от усилия и украшенный гербом Дукли на передней части котла. Все как когда-то, все как в прозрачном сне, где ленты времени и памяти накладываются друг на друга, служа утехой в этой слишком короткой жизни. Сигареты без фильтра, с мундштуком, в твердых картонных коробочках со сфинксом на крышке, или без мундштука, зато спрессованные и плоские, как венгерские «Мункаш». Брюки непременно в полоску, естественно широкие, а в кармане пиджака плоская фляга с выгравированной на дне надписью: «Фабрика водок и денатуратов Бачевский Львов». И соломенная шляпа. Что еще? Наверное, то, что путь заканчивается в Дукле. Как раз около того места, где сейчас стоит хлебный ларек. Рельсы преграждает массивное деревянное заграждение на железных балках. Дальше ничего нет.
Забавно, что, пытаясь справиться со временем, мы обыкновенно возвращаемся к минувшему, к тому, что уже имеет очертания, к готовой форме. Фантазия не в состоянии ничего выдумать. Зависшая в пустоте, она обрушивается вниз камнем или занимается собой, что в конечном итоге то же самое.
Этот сентиментальный узкоколейный сон в стиле fin de siècle снился мне в набитом битком автобусе до Ясёнки. Люди выделяли запахи. Две девушки сзади разговаривали о прыщах: «Вот, видишь? Выскочил сегодня утром». — «А ты выдави его». — «Даже не знаю». Справа на пригорках музейными экспонатами торчали старинные буровые Бубрки[21]. Потом, где-то около Рувно, вынырнула Цергова. С северной стороны она очертаниями напоминала зверя: массивная вздымающаяся голова и напряженный хребет — словно сейчас встанет на ноги. Ничего общего со спокойной Соракте. Невольно ждешь тяжелого стона или сопения. Прямо-таки животное из легенды — ленивое, непредсказуемое, покрытое жесткой щетиной хвойного леса. «Не будешь же ты ходить с такой белой гадостью!» Сразу после этого была остановка, и девушки вышли через заднюю дверь, поэтому я не смог их разглядеть.
Сначала я увидел, что около Бернардинцев исчезла «стопятидесятка». Большая сорокатонная самоходная пушка пропала вместе с пьедесталом. Стояла себе тридцать лет, а теперь вот исчезла без следа. Вместо нее около монастыря копошились бульдозеры и экскаваторы. Они надгрызали кладбищенский бугор. Автобус помчался дальше, но я дал себе слово, что найду мою самоходку. Позже я узнал, что она исчезла по решению общенародного референдума. 77 голосов «за», 11 «против». Невеселый конец.
У фасада ювелирного магазина стояли леса. Шел ремонт. Тротуар был выровнен. В некоторых местах совсем новый. Дети красили зеленой краской школьный забор. Я чувствовал, что земля начинает слегка ускользать у меня из-под ног. Напротив развалин синагоги по-прежнему паслись козы, но и там что-то происходило. За сеткой забора, окаймляющей массивный фундамент, лежала свеженапиленная древесина, доски, балки, все так, словно кто-то собирался тут что-то делать. Я обошел Рынок вокруг, но все было не так, как всегда. Было совсем по-другому, хотя мне не вполне удалось бы объяснить, в чем дело. Афиша извещала, что в воскресенье состоится матч, билеты по два злотых, льготные по одному, «дети и женщины — вход свободный». Рядом висело объявление, что в кинотеатре в 10.00 должен пройти конкурс чтецов, посвященный благословенному Яну из Дукли. В своем путеводителе я вычитал, что Ян «обратил в лоно католического костела многих иноверцев. В этом отношении он опередил свою эпоху, ощущая потребность в экуменизме».
Было жарко. Я искал прохлады и пошел к Марии Магдалине. Внутри дети отрабатывали процедуру первого причастия. Родители сидели сзади и смотрели, как мальчики и девочки по очереди подходят к ксендзу и понарошку зажигают от ксендзова огня воображаемые свечи. Священнослужитель предупреждал, что в день празднества они будут иметь дело с настоящим огнем. Я вышел. У арки стояла женщина в лилово-розовом платье и из лилово-розовой сумочки вынимала лилово-розовую пачку сигарет «Weston light». Я не мог найти себе места. Я приехал явно не вовремя. Даже не посмотрел на Амалию.
Перед Бернардинцами двое в белых воротничках расставляли экскурсию мальчиков для съемки. Я проскользнул стороной, чтобы не войти в кадр. Внутри работали две камеры, а монах в коричневом облачении что-то объяснял. Один объектив целился в него, другой бродил под потолком, где были представлены сцены из жизни благословенного Яна. Я вышел во двор. Белый нагретый камень пах воском и бензином. Экскаваторы и бульдозеры замерли. Рабочие ели и запивали из пластиковых бутылок. У почты стояли новые телефоны, которые были синее неба. Мальчики садились в икарус с жешувскими номерами. Я медленно шел вниз по улице. Остался только Пететек.
А там было пусто, так пусто, как никогда, и очень странно как-то, всё вроде на своих местах, но словно ждет чего-то, а полное отсутствие чего бы то ни было превращало это ожидание в нечто идеальное, пустое и холодное, как иероглиф. Казалось, что даже пыль перестала оседать, а трактирные шумы загустели в воздухе и зависли. Я сел там, где частенько сиживал Анджей Невядомский[22]. Пани принесла мне пиво, будто самообслуживания уже не было. Как всегда в Дукле, я пил «Лежайское». Оно входило без сопротивления, но не более того. И притаивалось именно в том месте, где ему положено. Только холод в животе. И все более ощутимое отяжеление, будто я должен остаться в этом деревянном зале навсегда, остаться в Дукле, стать ее частью, ее собственностью, так же как и ежедневные тени от предметов, от деревьев на Рынке, от домов и людей, спешащих на утренние автобусы до Кросна.
И среди ясного дня я ощутил еретичность бытия, невероятно странную отклеенность, волдырь между кожей мира и мной, волдырь, в который, как в плазму крови после ожога, впитывается сознание, и никогда, до самого конца, рана не подсыхает, разве что во сне, но тогда мы не имеем об этом понятия. Отяжелелый и неподвижный, с гаснущей мыслью, я все больше тяготел к материальности. Я представлял себе, как стыну и окончательно застываю, и свет начинает обволакивать меня, как и другие сформированные раз и навсегда вещи. Целиком погруженный в это благостное сияние, свободный, избавленный от каких бы то ни было возможностей, я пребывал за этим столиком, с ладонью на опустошенном стакане, такой же пустой, как он; и через двести лет кто-то меня здесь отыщет на свою беду, ибо должен будет плести сеть догадок, сшивать петли повествования, чтобы заполнить свою голову, чтобы избавиться от этого эха внутри, чтобы использовать то, что ему дано, то, на что он обречен, — а я уже далеко вне всего этого, вне необходимости какой бы то ни было альтернативы, я всего лишь вещь, с которой должны будут справиться, так же как сам я сейчас должен препираться с каждой минутой, образом и мгновением этого мира в 15.15 апрельского дня, используя все доступные способы, потому что единственно подходящего просто не существует.
А потом вошел дед в сером замызганном пиджаке и уселся за соседним столиком. Больше он ничего не сделал, ничего не заказал себе, и наверняка не существовало никого, кто мог бы прийти на условленную с ним встречу. Он закурил сигарету и смотрел в окно сквозь струйку дыма. Он принадлежал к тому сорту людей, что похожи на минералы. Движение не есть их натуральное состояние. Они перемещаются из неподвижности в неподвижность. Будто все уже совершили и теперь тратят время, в буквальном этого слова значении. Позволяют ему проплывать мимо, а может даже течь сквозь них.
В общем, дед сидел, а официантке не было до него никакого дела. Время от времени он чмокал губами, посасывая мундштук. Не похоже было, чтобы он погрузился в раздумья. Из прошлого, вероятно, наплывали обрывочные образы, затопляли его сознание и уберегали от настоящего. В минуты идеального покоя никогда не видно будущего, чтобы вообразить его, необходимо усилие воли. Только минувшее приходит непроизвольно, потому что старые события кажутся прозрачными и уже не могут ранить тела. Они берегут его от внезапного падения в будущее.
Солнце за окном переместилось. Нежные золотые лучи лизнули бурую ткань пиджака, и вскоре фигура деда зависла в пространстве, точно вот-вот должна была исчезнуть. Прошлое воспоминаний и вечное настоящее света овладели им и деликатно уничтожили.
Итак, увеличительное стекло Дукли, отверстие в земле, теле и времени. Темное пространство между окуляром и объективом подзорной трубы. Мрак, в котором затвердевают события и вещи, чтобы бросить на отшлифованные поверхности начала и конца свои отражения.
Я собрался с силами и вышел из Пететека. Разбухший от тепла день лопался тут и там, а в трещинах появлялись предвечерние тени. Люди выходили из ворот просто так, безо всякого повода, чтобы поболтать, подымить да посмотреть, как их городок изменился с сегодняшнего утра или со вчерашнего вечера. Послеобеденная сытость, распахнутые окна с музыкой из радиоприемников и тихие, сгорбленные фигуры бомжей на углах, полушепотом совещающихся по поводу вина «Бещадское» с черным медведем в профиль[23]. Меня тянуло к Амалии.
На этот раз получилось. Никого не было. Пустая Магдалина еще пахла детьми, но воздух уже вернулся на свое место в углублениях свода и застыл там, словно стоячая вода. Деревянные скамьи были цвета слоновой кости.
А она лежала, как обычно. Маленькая, хрупкая, утопленная в оборках и спящая. Вообще-то ее можно было принять за девочку, если бы не изящная взрослая форма туфельки. Два больших зеркала на стенах часовни отражали лежащую фигуру — будто кто-то когда-то испугался столь явного женского присутствия и решил сделать ее чуть менее реальной, более принадлежащей сну. Такая попытка размножить святыню была чем-то несомненно слишком светским. Она вызывала ощущение какой-то ошибки, иллюзии или прямо-таки легкого сумасшествия. Я подумал, что этот костел со своей патронессой, отражениями, миражами и Амалией гораздо более человеческой, чем на первый взгляд могло бы показаться.
Да. Я прикасался ко всему, что пробуждало мое любопытство. Я был один. Свет из высокого окна, мерцающий отблеск стеклянных плиток и благовонная полутень нефа лишали мои движения реальности. Черный мрамор саркофага был теплый и гладкий.
И тут мне на память пришли все костелы, в которых я бывал. Отчетливее всего видел я самые старые, первые, те, в которых тайнам сообщались доступные зрению формы. Богоматерь из костела в Шембеке, в лазурной синеве, с безучастным розовым ликом, была первым изображением женщины, которое я запомнил именно как изображение. Но она была и первым изображением сверхъестественного существа. В моем шестилетием сознании все это соединялось каким-то причудливым образом, творя одурманивающую микстуру, которая анестезировала меня на время нудной часовой мессы. Полуобнаженная алебастровая фигура распятого Христа казалась абсолютно спокойной. Несколько деликатных ран на точеном восковом теле утверждали меня в уверенности, что Его смерть была актом мягким и чуть ли не изысканным.
По Гроховской ходили трамваи. Над улицей ржавели балконы. Кузова у машин не блестели. Тот и этот свет были сделаны из очень похожей материи. Отличались они только исполнением. Святой Дух в образе голубицы в размноженной пролетарской версии витал над трущобами Кавчей, Осецкой и Заменецкой. На крышах голубятников стояли люди с тряпками на палках и гоняли свои стаи с одного конца неба на другой. Все в те годы обрело свое воплощение раз и навсегда, и теперь уже никакая мысль, никакая даже самая изощренная схоластика не в состоянии ничего подвергнуть сомнению, эту вот кровь из крови и кость из кости, потому что действительность поглотила символ, а символ оброс перьями реальности. И стоя у гробницы Амалии, я понял в одно мгновение, что тогда, в древнейшие времена, все невидимые вещи были втиснуты в деревянные и каменные, пространственные и цветовые формы, а все остальное потом было лишь фикциями, нанизанными на реальный стержень, как сахарная вата навивается на деревянную палочку и в конце концов, после всего, остается единственно деревянная палочка, а в животе — только сладкая пустота и чувство голода. И в конце концов все сводится к формам самым близким, к собственному телу и его разновидностям в виде тел других людей, и никакого иного выражения не найти, потому что оно было бы непонятным или неправдоподобным.
Так что костел в Шембеке был из того же самого, что и все остальное. Выходя из него, ты попадал в пространство более разреженное, но тождественное. И это кощунственное единство было условием будничной чудесности. По большому счету, чувственность той религии делала ее доступной для животных и растений, с этим причудливым ритмом теплых и холодных зон в нефе храма, с медленной и торжественной последовательностью света и тени, по мере того как воскресенье передвигалось над Гроховом. Знаки нисходили с небес и искали входа в человеческое тело. Так было.
Возвращались мы пешком. Заглядывали в кондитерскую, где на стенах были нарисованы мускулистые коричневые мужчины. Быть может, негритянские невольники с плантации какао, а может, рабочие песчаного карьера с Вислы[24]. Эта проблема не дает мне покоя вот уже тридцать лет. Каждый раз, когда я ем пончик, возвращается образ сернистой стены и шоколадных фигур. Я уже никогда не узнаю, что там было на самом деле.
Потом мы заходили в наш двор. Я снимал воскресную одежду и был свободен до обеда. Помойка, закоулки, смоленые крыши сарайчиков для угля, щебень, хлам, крапива, духота городского лета под лазурной крышкой неба. Одно и то же солнце освещало Шембек, костел и деревянный сортир в углу дворика, лучи его пронизывали витражи и нашу кожу. То же солнце оживляет в моей голове труп Амалии, тот же свет растирает события на стеклышке памяти, перемешивает их, словно капельки разноцветной жидкости из детских игр — зеленый делался из травы, голубой из соскобленной со стены краски, а желтый из песка. Итак, я был один. Разогретое серебряное сияние зеркал перемешивалось с густым светом дня. В складках платья собиралась теплая тень. Где-то у входа послышались шаги и сразу же стихли. Кто-то опустился на колени или, может, присел на скамью. Пружинистое мягкое пространство переносило звуки в ненарушенном виде. Они напоминали предметы. Обутая в серую туфлю ступня была такой маленькой, что я чуть не целиком мог спрятать ее в ладони. Я подумал, что через пару дней, в мае, когда развернутся листья на деревьях, растущих за окном часовни, каждое дуновение ветра будет менять этот интерьер: стеклянистые лепестки светотени, дрожание солнечных прожилок, потягивающийся в тепле пятнистый воздух усилят нереальную ауру светозарности и смерти до самых границ иллюзии, где рождаются наиболее подлинные желания. Да, еще неделя, подумал я. В мае все будет другим. Еще более призрачным и манящим. Так же, как и в те дни тридцать лет назад, когда мы всходили с матерью по железной откидной лесенке в крытый брезентом грузовик где-то на Виленской. Это называлось «рабочая машина». На рассвете «люблины» и «стары»[25] забирали мужчин из-под Радзымина, Пилавы и Вышкува для работ на машиностроительном заводе, а после обеда развозили по их деревням. Сиденьями служили деревянные скамьи без спинки. Нас трясло и подбрасывало, пахло бензином, потом и сигаретами. Через час мы были на месте.
Очень долго мне казалось, что я хожу к самой настоящей реке. Я вставал на берегу и смотрел на противоположную сторону, заросшую ивняком. Мой берег был краем огромной песчаной равнины. Чем ближе к воде, тем становилось пустыннее. Где-то вдали паслись коровы со всей деревни, и там должна была быть трава, но на берегу можно было найти только острые ланцетовидные стебли, которые ранили до крови. Деревня лежала за дюнами. Некоторые дома взобрались на вершину хребта. Они были деревянные, коричневого цвета, некоторые крытые соломой. В знойные дни от воды несло болотом и рыбой вперемешку с терпким дубильным запахом ивы. Несколько гигантских тополей на краю деревни регулярно притягивали к себе молнии. Горячий вязкий песок превращал каждую прогулку в утомительный поход. От дворов тянуло сосновым и осиновым дымом. Он соединялся с влажной аурой реки и надолго зависал длинными горизонтальными лентами — даже ночью, когда потушены были все печи. Нужно было взобраться на пригорок, пройти между черных плетней, стерегущих героически возделанные огороды, и тогда ты попадал на тракт, где горячий сквозняк всасывал испарения всех крестьянских хозяйств, запахи гнили, зверья и скотины, перемешивал их, настаивал, и даже в полдень, когда на большаке царили тишина и неподвижность, нельзя было избавиться от присутствия всех этих людей, животных и предметов, густо наполнявших дома и дворы. Это присутствие распростиралось, протискивалось между небом, землей и разнокалиберными постройками, словно тяжелая и сытая змея-невидимка.
Мой дед был пожарником. У него была старинная золотая каска с гребнем. А еще он был сельским старостой. На доме висела красная табличка. За образцово-показательное исполнение своих обязанностей он получил толстую книжищу под заголовком «Парижская Коммуна». В ней было полно гравюр. Их подъедала плесень. Так же как и полотняный малиновый переплет. Книга лежала в дровяном сарае. Я никогда не видел, чтобы дед читал ее. Только я ее разглядывал. Вероятно, она никогда не удостоилась чести стоять на этажерке, как другие книги. Их было очень немного, но ни одной я не могу вспомнить. Вообще-то я помню все, по крайней мере могу себе все представить. Но не книги, хотя они точно там были. Видимо, они не издавали достаточно отчетливого запаха.
Мой дед был очень религиозным. В его доме проходило что-то наподобие майских богослужений, посвященных культу Богоматери. В комнате на комоде был установлен небольшой алтарь: пеларгонии в горшках, обернутых белой папиросной бумагой, гофрированные цветы, массивные металлические подсвечники с желтыми свечами и темная задымленная икона Ченстоховской Божьей Матери. Сюда сходились одни женщины. Мужчин я никогда не видел. Они приходили в платках, в растоптанных мужских ботинках на босу ногу или черных сандалиях на ремешках. Деревня была небольшая, так что женщины как-то размещались в комнате. К тому же приходили ведь не все, и уж конечно не те, кто помоложе. Дед зажигал свечу, крестился, прочитывал молитву, а потом начинал литанию. Он был суровым и работящим человеком. Постоянно в движении, в неизменном синем своем комбинезоне из бумажной ткани в косую полосочку, вечно поглощенный занятиями без начала и конца — его память, по-видимому, не фиксировала ничего похожего на бездействие. У него было сухое продолговатое лицо и поджарое тело. Я любил его и боялся взрывов его гнева. Мне казалось, что жесткость — черта всех пожилых мужчин. Так же как и шершавая патриархальная нежность, которую он позволял себе изредка по вечерам, когда уже не было других занятий. Он брал меня на колени и смеялся. Возможно, его забавлял сам факт существования столь маленького, хрупкого и ни к чему не пригодного создания.
Его тиковая рубаха была так крепко пропитана всевозможными запахами мира, что его самого становилось трудно отделить от этого, и я не мог себе представить, чтобы он куда-нибудь уехал, покинув серо-зеленые пределы пейзажа. Когда вечером он сидел в летней кухне, его фигура была напитана целым прошедшим днем. За ним следом входил сухой пыльный воздух риги, горячий конский пот, душный аммиачный смрад коровника, земляной холод погреба и смолянистая мгла соснового перелеска — если как раз в тот день он привозил дрова для топки. Все это соединялось с запахами тех мест и вещей, которых касалась моя кожа: темный проход между домом и плетнем, где густая зелень не пропускала свет даже в полдень, но если раздвинуть вертикальные прутья сирени, открывался ослепительный вид на двор соседа, по которому двигались ничего не подозревающие люди. Хотя я и знал их, они выглядели как-то резко и незнакомо, как будто бы я заглядывал в потусторонний мир. Земля была песчаная и холодная. Потом, если идти вправо, тень кончалась, разогретый огород издавал съедобный дух, перемешанный с металлическим запахом сорняков, которые врастали в плетень, и тогда их оставляли в покое, так что они взбирались все выше, огораживая сад поясом прохлады. Калитка была колченогая и шаткая. Остекленная веранда собирала зной подобно линзе, но достаточно было трех шагов вглубь, и уже воцарялся холод деревянного дома, в котором с весны никто не топил. В маленьких окнах стояли пеларгонии, отдавало полумраком и гнилью, а свет был таким разреженным, что все вещи, казалось, жили только благодаря собственному слабому свечению. Зеркало на стене висело под углом и никогда не отражало того, что в нем ожидалось увидеть. Как и свадебная фотография: она наклонялась надо мной шестилетним, глядела не прямо, а немножко сверху. На черной кровати копной громоздилась постель с Цыганкой наверху, — в платье с блестками, под которое я заглянул однажды, но обнаружил только грубый шов по краю набитого опилками мешочка. Пол скрипел влажно и мягко. Ящики мрачного комода были внутри неожиданно светлыми, оструганными, пахли нафталином и бельем, в котором можно было учуять тинный привкус реки — ветру не удалось окончательно удалить его с простыней. Воздух был неподвижен. Стены зеленые. Даже когда входили люди, ничто не менялось в этой раз и навсегда обретшей форму атмосфере.
Как раз в этой комнате дедушка отправлял свои миниатюрные майские службы. В белой рубахе стоял на коленях перед украшенным комодом, и эта неестественная для его подвижной фигуры поза будила во мне беспокойство. Загорелые руки выступали из тесно затянутых манжет и бездействовали. Я слушал его хрипловатый голос, которым он в обычной жизни отдавал распоряжения, ворчал и ругался. «Башня из слоновой кости», «Дом златой», «Ковчег завета», «Престол премудрости», «Матерь предивная», «Дева пречистая»… Он выговаривал эти небывалые, экстравагантные и экзотические слова так же, как названия из будничного мира. Жестко, без модуляций, как будто представлял старые, хорошо знакомые предметы. В его глазах стояли слезы. Женщины отвечали своим «Молись о нас» многоголосо и свободно, устремляясь к последнему слогу, который определял ритм. Я стоял на коленях у стены и размышлял над значением образов башни, ковчега, престола и девы. Мне не удавалось распутать противоречия. В устах деда эти слова звучали фривольно, почти неприлично. И я краснел, ощущая такую раздвоенность: его конкретной экзистенции и фикции, которую он облекал в свой насквозь материальный голос. Мне попросту было неловко, ведь я-то считал его серьезным и суровым человеком, а между тем он обращался к чему-то в высшей степени нереальному, да еще и бывшему, судя по всему, женщиной. Я чувствовал, что действительность предает меня.
Я ждал, пока все закончится, и бежал к реке. На горизонте узкая зеленая полоска склеивала небо с землей. Песок был еще теплый и вокруг — ни души. Над равниной вставал голубой воздух вечера. Здесь, под огромным небом, вещи держались своих мест и предназначений. Две плоскодонные баржи неподвижно отдыхали на воде. Где-то ревела корова. Я сикал в песок и смотрел, как он темнеет. Я был маленький, и на мне были коротенькие штанишки без ширинки. Я шел прямо на восток, тень моя тянулась впереди. И зашел так далеко, что вдруг испугался и обернулся.
Солнца уже не было. Оно пропало за спиной деревни, которая стала теперь черной и плоской, как декорация. Где-то сзади пылал неподвижный огонь, ничего не освещая. И я почувствовал темный страх, потому что не мог разглядеть ни одного отверстия, ни одной щели или трещины, через которую мог бы вернуться. Словно бы весь пейзаж, кроме меня, превратился в некую антиматерию и дедушка, дом, двор и все остальное оказались у нее в плену или, что еще хуже, стали ею самой. Я знал, что потерял все это, и не мог пошевелиться. Только когда ночь двинулась от домов и, как теплая вода, затопила меня, я побежал в ту сторону.
Теперь я пытаюсь уложить все это в какую-то последовательность, хотя помню лишь обрывки, отпечатки вещей в том пространстве, а не сами вещи с их неповторимой структурой царапин, морщинок и трещин. Мне доступны лишь их следы, фантомы десигнатов, остановленные на полпути между их существованием и обретением названия. Они напоминают идеализированные посмертные фотографии.
Во всяком случае, в те последние длинные каникулы я как-то со всем этим справлялся. Перемешанное с песком гусиное дерьмо напоминало зеленоватый пластилин. На узенькой тропинке за конюшней пахло крапивой. Стена нагревалась, поэтому запахи густели в течение дня и около двух-трех часов пополудни достигали галлюциногенной концентрации. Трудно становилось отделить запах от обжигающих прикосновений. Я приходил туда понаблюдать за двумя девочками-подростками. Они жили за забором. Младшая из них была белая, мясистая и какая-то бесформенная. Словно родилась раньше срока и воздух раз и навсегда сковал ее недоконченные черты. Она была вполне нормальная, только будто слегка не доделанная.
У другой было смуглое худое тело. Она была похожа на мальчика и еще на карандашный рисунок. Ее фигурка на светлой плоскости двора выглядела как подвижный лаконичный знак. На ней была простенькая красная одежка: короткие штанишки и куцая блузка на тонюсеньких бретельках. Она кормила кур, носила дрова и воду и препиралась с матерью. Этого было немного. Я рассматривал ее пружинистое тело, не слишком понимая зачем. Никто никогда не поймал меня за этим и не объяснил причины. Каким-то непонятным, но отчетливым образом это соединялось в моем неоформившемся жадном сознании с окружающим миром. Дедушка читал свои литании. В траве под дверями летней кухни сохла счищенная рыбья чешуя. Выставленная на солнце треугольная сеть была жесткой и шершавой. Ореховые удочки, обмотанные бледно-зеленой леской, стояли за углом веранды. Потемневший свинец грузил можно было поцарапать до серебристости. Крючки были золотые, такие же, как «дом» из молитвы. Другого примера я найти не смог. «Башня из слоновой кости» навсегда осталась чем-то гладким, стройным, притягательным. Мысль спасалась от исчезновения, обретая форму в соответствии с наукой о душе и теле, а вакуум метафор тотчас всасывал элементы и стихии, вымешивая их и вылепливая по своему подобию. Таким вот образом смуглая девушка-соседка так компактно заполнила своим телом «деву пречистую и предивную», что я находил ее черты в картинках, выпадающих из черных книжечек для богослужений, которых в доме дедушки было пять или шесть. Красные обрезы страниц имели цвет ее простенькой одежки.
Спугнул меня все тот же молодой ксендз, что и когда-то. Я не услышал его приближения. Он остановился на пороге часовни. Мое присутствие, кажется, удивило его. Я не был похож ни на туриста, ни на прихожанина. Моя ладонь еще касалась башмачка Амалии. Он кашлянул и поднес руку ко рту. Он так же смешался, как и я. Подождал, пока я выйду, и прикрыл решетку, отделяющую часовню от нефа. Не исключено, что он приходил сюда посмотреть на Мнишек. На его месте я именно так бы и делал. Чувствуя, что он провожает меня взглядом, я только на улице вздохнул свободнее. Перешел мостовую и в качестве алиби купил у украинки пачку молдавских сигарет за один злотый. Красно-кремовая коробочка из Кишинева содержала надписи на двух языках. На молдавском: Fumatul dauneazasanatatis dumneavoastra и на русском: Курение опасно для вашего здоровья. Она проехала пятьсот километров, чтобы отдохнуть на дукельском тротуаре. Мир полон деталей, с которых начинаются истории.
Я пошел себе на Рынок, уселся на скамейке и вытащил одну сигарету из пачки. Она была какая-то сомнительная и полуискрошенная. Вкусом напоминала все те старые сигареты, которые курили взрослые мужчины. «Вавели», «Дукаты» и «Гевонты» в дрянной папиросной бумаге, в упаковках, напоминающих бездарные сны о далеком мире. Мы подворовывали их или подбирали бычки. По краям они были слегка коричневыми и потемневшими от слюны. Взрослость имела свой вкус, в буквальном смысле. Наша слюна соединялась со слюной мужчин. Очень возможно, что это действовало как вакцина, как вид экзистенциальной гомеопатии, защищающей нас впоследствии от слишком внезапного падения в зрелость.
Но речь шла о Дукле…
Года два уже я пытаюсь определить, в чем заключается ее удивительная сила. Мои мысли рано или поздно прилетают именно сюда, словно на паре ее улочек крест-накрест они должны были бы найти удовлетворение, но пока что повисают в пустоте. Церговская, Зеленая, Прибрежная, Парковая, Городской Вал, Рынок. Три забегаловки, два костела, два моста, автовокзал, пара магазинов и музей братства по оружию. Фотограф и два ветеринара. Всего как раз столько, чтобы человеческое пространство не утратило непрерывности, как раз столько, чтобы у путешественника было ощущение, что он идет в освоенном направлении, а чистая география едва просвечивает из-под топографии.
В общем, Дукля как напоминание, как ментальная дырка в душе, ключ, который невозможно подделать, дух, поросший поблескивающими перышками реальности. Дукля, заслуживающая литании, Дукля с истлевшим телом Амалии вместо сердца, Дукля, наполненная пространством, в котором рождаются образы и настигает прошлое, а будущее перестает быть интересным; и я мог бы сидеть на западной стороне Рынка до отупения, до окончательного помешательства, словно какой-нибудь деревенский дурачок, буддист-простофиля, трефовый шут, выброшенный из колоды и контекста, словно пьянчуга перед витриной закусочной, в которой высвечиваются чудеса мира и самые дурные мысли, о существовании которых час тому назад ты и не подозревал, — я мог бы так сидеть, а за моей спиной, пассажем, образованным безлистой кленовой тенью, семенили бы по своим делам обыватели, между магазинами с кальварийской мебелью, книжным и продуктовым. Собственно, так и было, пока я не докурил свою «Дойну» и не принял решение возвращаться через Жмигруд, потому что мне хотелось в заднее окно автобуса поглядеть на Цергову в косом медовом свете и поразмышлять о Соракте, Лоррене и о маленьких человеческих фигурках под большим небом, о безнадежном упрямстве, с которым они цепляются за пейзаж, хотя сам он не обращает на них внимания, несмотря на то, что они долбят его, роют, изменяют очертания, обдирают и затачивают линию горизонта.
Так я и сделал. В Глойсцах зашли контролеры. Парень в фарцовой куртке слегка сопротивлялся, но его выволокли в Лысой Горе и запаковали в полицейский «полонез», который ехал за автобусом. Люди подняли крик, но с места не двигались. Громче всех были женщины. «Как так можно с человеком!» Кто-то несмело заметил, что у того не было билета. «И что с того, что не было! Уже не те времена! Я их сдам куда следует, я номер запомнила». Но перед Жмигрудом все было уже как обычно. От водителя тянулись полоски синеватого сигаретного дыма, того же оттенка была далекая цепь Вонтковской.
По жмигрудскому рынку топтались белые куры. Прохаживались между ногами ожидающих автобус до Ясла. Старый одетый в черное мужчина с большой седой бородой кормил их хлебными крошками. Чуть раньше он поздоровался со всеми. Кланялся и подавал руку. Девушки хихикали. Старец выглядел очень благородно. Полгода назад я встретил его в деревне Лосье, в пятидесяти километрах дальше на запад. Он вошел тогда в магазин, так же церемонно приветствуя всех, и спросил, нет ли у кого коня на продажу. Мужики в беретах и резиновых сапогах, переступая с ноги на ногу, виновато объясняли, что они не хозяева и что вообще-то с лошадьми в Лосьем плохо. Такое вот впечатление производил этот похожий на Уолта Уитмена старик с черной бархоткой вместо галстука.
Теперь он сел на скамеечку, сдвинул шляпу на затылок, куры окружили его веночком, а дед в картузе завязал с ним разговор.
— Издалека?
— Из Кремпной. За лошадью. Посмотреть вот приезжал.
— И что, не было?
— Да быть-то было. Мерин. А мне бы кобылку.
— Теперь лошадей мало. Настанут времена, когда и вовсе не останется.
— И что же это за времена будут, скажите?
Но ответа он не дождался. Хлеб тоже кончился, и куры пошли себе с остановки, чтобы покопаться в скверике, между скамеечками с молодежью, у которой для них ничего не было. Ребята угощали девочек «спрайтом» в зеленых бутылках и выстреливали бычки, на которые куры и не смотрели даже. Проехал Лесько на своем серебряном «шевроле», но меня не заметил, а я не успел ему помахать. На западной стороне рынка легла широкая полоса тени. От нее тянуло холодом. Старец и дед вели спор о том, сможет ли мир без лошадей вообще существовать.
Однажды выяснилось, что это не была настоящая река. Мы с дедушкой переплыли в лодке на другой берег и зашли в ивняк. Земля была подмокшая, а нагретая вода стояла в неподвижных лужах. Ивы загораживали мне обзор, но дедушке доставали только до плеч, так что он вел прямо и уверенно. Время от времени он лишь поглядывал назад, чтобы проверить, не провалился ли я в какую-нибудь илистую яму. Голенища его резиновых сапог ударялись друг о друга тихими шлепками. На голубой рубахе темнели горячие пятна пота. Мой взгляд дотягивался лишь на высоту потрескавшегося коричневого ремня на его брюках. А потом я увидел блестящее зеркало воды, и это была самая большая беспредельность в моей короткой жизни. Меня ослепила огромность серебряной глади. Я стоял на берегу, как над пропастью. В воздушном вакууме носились птицы. Смотря на них, я чувствовал головокружение. Небо отодвинулось в невидимую высь. Я не мог его увидеть. Так выглядела настоящая река. Та, к которой я до сих пор приходил, была лишь узким рукавом, отделенным от основного русла плоским ивовым островком. Она текла несколько километров сама по себе, а потом ее вновь захватывало настоящее течение. Это называлось «Разрыв», «ходить на Разрыв». Она никогда так не блестела. Она влачила свои воды зеленовато и лениво. Настоящая река была живой, сверкающей и пламенеющей, хотя ее огромность вообще-то не позволяла разглядеть, движется ли она, потому что дрожащую границу между водой и пространством удавалось установить только в воображении. Дедушка вытянул перед собой руку и сказал, что там его крестили. Но я не видел ничего, ничего, кроме вибрирующего света. Место, на которое он показывал, нигде не начиналось и нигде не заканчивалось. Его заполняло разреженное сияние. Я подумал, что дедушка имеет в виду небо или что-то в этом роде, и, собственно говоря даже не удивился, ведь тот, кто верховодит молящимися женщинами и прославляет вещи необыкновенные, не может быть обычным человеком. Я пробовал следить за его рукой, но он не был удовлетворен и глядел недоверчиво. И все допытывался, вижу ли я. Поддакивал я, видно, не слишком убедительно, потому что он наконец крикнул: «Да не там, а там! Там!» — но уже через минуту постиг мою беспомощность. Грубовато притянул меня к себе и взял на руки. Только тогда я увидел далекую, узкую полоску суши. Я блуждал взглядом вдоль синеватой линии, чтобы в конце концов наткнуться на острый, похожий на очиненный карандаш контур костельной башни. Она едва приподнималась, не отличаясь цветом от расплывчатой полоски горизонта. «Там?» — спросил я. «Там, — ответил он. — Там я принял святое крещение», — прибавил он веско. После долгой паузы, словно желая вознаградить меня, сделать для меня что-то особенное, он прибавил почти весело: «Меня привезли на лодке».
Я долго не мог освободиться от этого образа: двое незнакомых людей садятся в лодку. Они одеты бедно и празднично. На мужчине темный нескладный пиджак и белая застегнутая под горло рубашка. Пахнет нафталином. Женщина одета в скромное платье цвета фотографической сепии. На голове у нее платок. В руках она держит сверток. Лодка раскачивается. Женщина испугана. Мужчина успокаивает ее и велит сесть на низенькую лавочку. Сам же берет длинное узкое весло с обитым жестью концом и отталкивается от берега. Оба они босые. Башмаки покоятся на скамейке возле женщины. Лодка протекает. Возможно, мужчина снял пиджак. Жарко. Солнце в самом зените. Их берег вскоре становится таким же далеким, как и тот, к которому они плывут. На середине поймы они становятся почти невидимыми. Женщина боится все больше, потому что никогда еще так далеко не удалялась от всего мира. К тому же она боится за двоих. Мужчина знает о ее страхе, но на этот раз отдает себе отчет, что не может ее выбранить, поэтому повторяет только, что уже близко. Сам он тоже испытывает страх, которого раньше не ведал. Он наклоняется совсем низко и погружает весло по самый конец рукоятки, но все равно теряет равновесие и вынужден грести узким, приспособленным для мелководья пером. В эти длинные, как вечность, минуты они так одиноки, как не были еще никогда и, наверное, никогда не будут. Он стоит сзади и видит только ее спину и согбенные плечи. У нее нет смелости ни пошевельнуться, ни обернуться. Она беззвучно шевелит губами. Лодка оказывается в центре течения, пространство вокруг них замирает, и они убеждены, что не доплывут никогда, хотя на белой рубашке мужчины выступают темные пятна. И когда наконец нос лодки утыкается в камыши, они не могут в это поверить. На обратном пути они на один страх спокойнее. Ребенок теперь крещеный, угроза уменьшилась. Солнце скатилось на запад, и с левой стороны их сопровождает тень.
Когда мы пересекали остров на обратном пути, я спросил дедушку, зачем они плыли через реку, если костел был на той же стороне. Правда, в десяти километрах, но стоял он на земле и к нему вела обычная дорога. «Не знаю, — ответил он. — Может, у них тогда не было лошади, а по воде ближе. Тогда умирало много детей, и люди боялись. Нужно было торопиться».
«Разрыв» мы одолели за несколько минут. Он стал очень маленьким. Едва мы оттолкнулись, как были уже на другой стороне. На берегу собрались коровы со всей деревни. Некоторые пили, по колено в воде. Помимо запахов тины, рыбы и ивняка был еще один запах у этой полумертвой воды: коровы — от них пахло молоком, теплой шерстью и зеленоватым дерьмом. Они стояли на мелководье с поднятыми хвостами и выпускали редкие, шлепающие струи. За ними присматривал старый дед. Его называли «пастуш». Ел он по очереди в каждом доме на деревне. Получал ли деньги — не знаю. Похоже, они были ему не нужны. К тому же его престранная обтрепанная одежда, кажется, не имела карманов. У него был посох и плащ с капюшоном, который он не снимал даже в самую сильную жару. На рассвете он собирал со дворов скотину, а вечером приводил ее. Гнал стадо через деревню, и каждая корова безошибочно находила свой загон. Достаточно было оставить открытой калитку. Так же и утром, никем не подгоняемые, они присоединялись к процессии, перекликаясь мычанием. Этакий медленный живой маятник. Он приходил в движение два раза в день, то в одну, то в другую сторону вдоль плетней, отмеряя деревенское время. Часовой механизм из мяса, крови и костей, ленивый, вытянутый на большое расстояние, от него нельзя было спрятаться. Бой и тиканье часов на тумбочке в темной комнате никого не занимали, хотя дедушка ежедневно заводил часы специальным ключом. Возможно, он воспринимал их как еще один предмет инвентаря, который требовал пунктуального ритуала, а вызваниваемое ими время не имело ничего общего со временем реальным, то было всего лишь баловство, фанаберия и забава, как радио «Пионер», передающее из столицы популярные песенки Стэни Козловской.
Когда мы высадились из лодки, дедушка среди нескольких десятков коров нашел свою. Подошел, осмотрел ее и сказал что-то, чего я не понял. А на «пастуша» даже не взглянул.
Теперь же в предвечернем апрельском Жмигруде я был взрослый и мог делать все, что захочется. Я пошел на площадь возле почты. Она была пуста. Торговцы уехали. Забрали свои конструкции, на которых развешивали разноцветные электростатические творения. Когда дул ветер, между блузками и рубашками с треском проскакивали искры. Блестящие цветные оболочки наполнялись воздухом, а женщины прикасались к этим фантомам, прихватывали ткань двумя пальцами, потирали ее со вкусом, знанием дела и восхищением, представляя свое собственное тело на месте этой шевелящейся нежной пустоты. Зелень, пурпур, лазурь, золотые пуговки, складочки, рюшечки, брошки из пластика, цепочки, красный лак, хрупкие пластинки застежек, туфли с узкими носами и каблучками тонкими, как острие зонтика, пенистые жабо, флора и фауна аппликаций, стекловидные крапинки блесток, полимерный блеск ящеричной лайкры и энтомологическая прозрачность буфастых нейлонов с пирогенными кружевами, звезды, далекие земли, печальные планетарии, люциферическая фикция фильдекоса, луноподобные клипсы, солярные притязания пряжек, змеиная кожа и другие фантастические цацки.
Все это напоминало мне литанию моего дедушки. Когда он преклонял колени среди гофрированных цветов, тело его освобождалось от пытки безостановочного движения, чудесные образы растворяли его и мысль обращала плоть в сияние, а «дом златой» замыкал деда в своих стенах и уносил во внедеревенское, внеземное пространство, где действительность оказывалась преображенной, где преображенной оказывалась мука обыденности и преображенными оказывались даже членство в добровольной пожарной команде и должность старосты. Не исключено, что он витал там со всей деревней, имуществом, лоскутком сосновой рощи, со своими «ебучими сынами», как называл он моих дядьев, и всем остальным миром, с пожарным депо, бывшим дворцом помещика, возможно даже «Парижская коммуна» тоже удостоилась этой милости, поскольку ведь материя неделима, и если уж ты сказал «а», то не можешь повернуться задом к «б».
В общем, стоя в Жмигруде и представляя себе утреннюю торговлю шмотками, я видел своего дедушку, смакующего очередные апострофы молитвы так же, как женщины смаковали сегодня на этой маленькой площади перед почтой чудеса модного искусства, в которые были заколдованы их сны об отдохновении, о внезапной перемене судьбы, о чуде света, чистоты и блеска, которое вылечит, вознесет, успокоит их грустные тела, замкнутые в круговом безнадежном блуждании между разного рода действиями, между началом одного и концом следующего — концом, которого не видно.
Под номером два на Рынке в Дукле есть магазинчик, «шварц-мыдло-повидло»[26], с витриной размером с кассовое окошко на маленькой станции. Травяной шампунь, зеленые гребешки, жидкость для мытья посуды «Людвиг», масло для загара, льняные кухонные полотенца, розовые губки, проволочные заколки для волос, ажурная корзинка из золотой пластмассы, бледно-голубой фаянсовый заяц с коробом на спине, в который насыпают сахар, и три обтрепанных рулона туалетной бумаги, сложенные пирамидкой. К этому нет никакой вывески, и вещи являются тем, чем они являются. Выгорают под солнцем, потому что окно на юг. Стареют, потому что редко кто сюда заходит. Люди предпочитают заглядывать в магазины, а не в места, напоминающие их собственный дом.
Это было уже летом. Я стоял и смотрел на эту более чем странную экспозицию, а моя тень сгибалась пополам на тротуаре и стене. Банальные предметы за стеклом внезапно обрели значение, о котором всегда мечтали сюрреалисты. В результате отсутствия вывески и вообще какой-либо надписи будничность окончательно их осиротила. Они были карикатурны и трагичны. Мне не хватило смелости войти вовнутрь и посмотреть в глаза владельцу этого героического бизнеса. Мир в этом месте словно прекратил свое развитие, застыл, чтобы показать, что такое остановленная переменчивость, что такое жестокость настоящего, распятая между завтрашними желаниями и вчерашними возможностями. Это было как макияж шестидесятилетней женщины, или матч ветеранов, или побитый драндулет, который гордится тем, что едет самостоятельно, не зная, что его направляют на свалку металлолома.
И когда я стоял так спиной к солнцу, мне вспомнился наш пес Негр, который, когда уже ослеп и оглох и с трудом узнавал нас, в один прекрасный день исчез, пропал и, хотя мы искали его много дней, так и не нашелся, будто хотел оставить нам надежду, что он просто ушел, как десять с лишним лет назад самым обыкновенным образом приблудился. И я подумал, что если бы звери выдумали религию, то почитали бы они чистое пространство — точно так же, как наше безумие постоянно вращается вокруг времени.
Ну в общем, было уже лето и опять Дукля, но на этот раз я добрался к ней с юга. За нами остался словацкий Спиш. Мы пробыли там два дня. Синий зной слегка блекнул в долинах, но, когда шоссе взбиралось выше, на широкие и вытянутые в длину хребты, где не было никакого прикрытия, он вновь обретал свою стеклянистую структуру, и где-то там, вдали видны были пригорок за пригорком, струящиеся золотыми хлебами, с красными жучками далеких комбайнов, как в коллективистском краю изобилия, потому что не было там никаких разделительных границ, ни межей, ни деревенских тропинок, ничего, только золото внизу, синева вверху и голубые знаки с названиями местности.
Ближе к вечеру мы припарковались на Рынке в Подолиньце между четырьмя старыми машинами. Дома стояли на своих местах уже лет двести-триста. Немногие попадавшиеся люди выглядели одинаковыми. Двое цыган проводили нас взглядом, после чего вернулись к своему молчаливому курению. Кроме них, было еще двое или трое. Один толкал мопед, груженный скошенной зеленью. Мы встретили его на длинной улице у Рынка. На ней были одни риги. Большие, покосившиеся, обращенные торцами к дороге. И еще стадо белых индюков. Кроме мопеда, не было ни единой живой души, ни тебе шороха, ни намека на звук, ничего, одни постройки. Мы ощущали присутствие чего-то, но оно было какое-то разжиженное. То тут, то там что-нибудь шевелилось в перспективе улочек, что-то происходило, но этого было слишком мало для городка довольно-таки немаленького. Какое-то вневременье зависло надо всем. М. сказала потом, что это было такое место, где хотелось остаться навсегда, безо всякого на то повода, а я подумал, что есть места, в которых все, чем мы являлись до сих пор, глубоко и деликатно подвергается сомнению, и мы ощущаем себя так, как, скажем, птица, которой не хватило воздуха под крыльями, только вместо катастрофы нас ждет бесконечно долгий отдых, некое беспредельное и мягкое падение. Так было в Подолиньце. Он выглядел городком, у которого исчерпался запас происшествий. Даже Ц. говорил только о прошлом, хотя всю поездку его поглощали прагматично-эротические планы.
Но в конце концов мы поехали дальше, так как хотелось до ночи раздобыть какого-нибудь питья. Не исключено, однако, что это сработал инстинкт самосохранения, страх, что наша жизнь захочет подшутить над собственными мало-мальски упроченными формами.
Нас спасла Спишска Бела. Был там такой не то закоулок, не то рыночек, где на ступеньках у домов сидели женщины и смотрели на своих мужчин, которые в паре шагов отсюда, на лавке, в синей предвечерней тени распивали «Смадный Мних» или простой «Шариш» в зеленых бутылках. Рядом, в угловом доме, был магазинчик. Внутри светил желтый свет, не слишком ярко и, словно бы во сне, таинственно, как в былые времена, как перед войной какой-нибудь, но там внутри все было реальным. И черный, как смола, «Фернет», и «Велькопоповицкое» — правда, только десятка, и «Честерфильды» в укороченной словацкой версии.
Мы ехали и ехали, а день все не мог закончиться. За стенами маленьких городков было уже поздно, но, как только мы оказывались в открытой местности, свет набирал силу. Архитектура и география играли с нами в ментальные жмурки.
По дороге в Кежмарок в чистом поле жили цыгане. Вокруг, насколько простирался взгляд, тянулись километры лугов, и где-то в их воображаемом центре стоял одинокий бетонный блок. Больше ничего, только он: серый, угловатый и облезлый. Смуглые дети приветливо махали нам. Мужчины стояли группками, сушилось белье, и было видно, что там царит спокойствие свободы, свойственной людям, привычным к ожиданию. Они завладели этим кубическим продуктом Ле Корбюзье, и его уродство сгладилось, поскольку он утратил все признаки долговечности. Запущенный, грязный, обвешанный тряпьем, облепленный будками, окруженный грудами хлама, он потихоньку превращался в нечто минеральное, поддающееся эрозии. Таким вот образом продукт высокой цивилизации заселило архаическое далекое племя, для того лишь, чтобы вернуть его равнодушному миру природы.
А потом был Кежмарок. С непременным гнездом аиста на высокой трубе, с улочками и каменными домиками с фасадами — во всем этом отменно разбирался Ц., а я видел здесь лишь различные стадии распада — продвинутую и задержанную, незавершенную, до поры до времени приостановленную руками маляров и штукатуров.
Мы съели чесночный суп в летнем кафе, где сидели солдаты в зеленых рубашках. Увы, пьяны они не были и песен не пели. А больше напоминали несовершеннолетних с запретным пивом. Я подумал, что это очень спокойная армия. В конце концов, она ведь не проиграла и не выиграла ни одной войны. Потом мы взяли еще колбасы, потому что Ц. очень понравилась официантка и он все порывался что-нибудь заказывать, без конца о чем-то забывал, и после третьей порции пива мы вынуждены были напомнить ему, что он за рулем. Он полностью согласился с нами и в виде компромисса в четвертый раз заказал маленькое. Мы ждали, пока сумерки упадут на Кежмарок, чтобы все вокруг исчезло и наступила темнота, которая везде одинакова и позволяет сделать передышку.
На следующий день мы были в Левочи, потому что кто-то сказал нам, что у «Трех апостолов» можно хорошо поесть, но там царила нарочитая изысканность, так что мы пошли к Янусу на Клашторскую. Люди за столиками напоминали гиперреалистические портреты. Было светлее, чем в Польше в это же время. Женщина рядом запалила сигарету, но я не заметил огня, а сразу дым. Мы пересекли Карпаты, убежали от их северной тени, и свет внезапно стал вездесущим. Его излучали стены, небо, мостовая, словно бы солнце утратило свою монополию и освобожденные от его зависимости вещи вырабатывали собственный свет или, по крайней мере, могли его аккумулировать. Кнедлики, соус, картошка, колбаса и капуста принадлежали еще северу, но все остальное больше напоминало об огне, чем о земле. Сернистые стены домов, красные, оранжевые и розовые цветы в окнах трухлеющих каменных домиков на Высокой, пот и загар, скука голубоватой бездны с сизым шоссе на Попрад, шоссе, напоминающим дохлую змею кверху брюхом, забегаловка без вывески, где смуглокожие татуированные мужчины в майках пили «Шаришское» и щелкали стрелками электрического бильярда, а единственной женщиной была худая и бледная официантка. Чуть поодаль на ступеньках сидела еще одна девушка: смуглая, темноглазая и крашенная перекисью. Она держала младенца, а рядом лежала пачка «ЭлЭмов», и когда мы появились там час спустя, ничего не изменилось, только эта пачка была уже почти пуста, и именно так выглядел полдень на улице Высокой. Полдень на юге города, на прогретом и выжженном склоне холма, спускающегося к Левочскому Потоку, с его желтыми домиками, которые казались хрупкими, сухими, легковоспламенимыми. И хотя были они из камня и выглядели красиво, невозможно было побороть впечатления, что они лишь временные, вот уже лет триста временные, потому что не было в них особой тяжеловесности северных строений, которые служат единственным и необходимым укрытием.
Мы свернули на Жиацкую, а там была сиеста. Цыгане смотрели на нас недоброжелательно, хоть мы и не сильно от них отличались. Мы тоже были бедные и тоже убивали время. Они сидели на карнизах, ступеньках, скамеечках и слушали свою музыку из магнитофонов. Блеск солнца падал на их тела и пропадал. Они были похожи на созревшие фрукты. Рабочие ломали дом на углу, но цыгане на них и не взглянули. Прямо у них под боком близился к концу некий мир, и им это нисколько не мешало. Музыка заглушила шум сыплющихся стен. Белое вертикальное сияние полудня стирало тени, и Жиацкая выглядела как закоулок вечности или икона.
Мы пошли к святому Якубу. Знаменитый алтарь Мастера Павла из Левочи был явно маловат. Эта игрушечная готика выглядела так, словно алтарь появился здесь минуту назад. Люди блуждали туда-сюда с задранными головами. За две кроны можно было послушать историческую лекцию из жестяного шкафа. А вот исповедальни были очень притягательными: не только исповедник, но и кающийся мог закрыться в массивной деревянной коробке. Не то что у нас, где грешник вынужден стоять на коленях на виду у всего костела, думая только о том, как бы поскорее встать и скрыться в толпе порядочных людей.
От святого Якуба мы двинулись по Сиротинской в сторону оборонительных стен, а потом к монастырю францисканцев. В каменной тени было холодно и пусто. Мы увидели старую женщину. Присев на корточки у стены, она писала. Мы помедлили, чтобы дать ей время. Ничуть не торопясь, женщина подтянула длинные плотные розового цвета рейтузы и опустила платье. На голове у нее был платок. Даже не взглянув на нас, она невозмутимо исчезла за углом. Минуту спустя мы увидели ее в святилище. Она присоединилась к бабкам, сидевшим на скамьях. Они читали в пустом храме литанию к Святому Духу. Наша знакомая ускользнула в перерыве между двумя апострофами и теперь вернулась на свое место. Она напоминала тех женщин, что сходились в доме дедушки, а в воскресенье отправлялись за семь километров в костел. Песчаная дорога вела среди сосен. Было жарко, в воздухе носилась пыль. Лошади в упряжке шли тихо и тяжело. Вспотевшие вороные и гнедые зады лоснились на солнце. Женщины порой присаживались на одну из телег, но большинство шло пешком. В руках они несли простые черные сандалии на низком каблуке и лакированные сумочки, в которых покоились молитвенники с крупным разборчивым шрифтом. Их шаг был такой же, как шаг лошадей: растянутый, напряженный и сильный. Они по щиколотки проваливались в песок. Время от времени какая-нибудь из них опиралась ладонью о край телеги и отдыхала, не прерывая ходьбы, так пловец отдыхает, ухватившись за борт лодки. Они не потели. Шли быстро, чуть наклонившись вперед, словно бы дорога вела против ветра, и у них еще хватало силы, чтобы, собравшись в кучки, разговаривать. Они шутили, посмеивались, а золото и серебро их зубов поблескивало с детской шаловливостью. На их загорелых ногах оседала пыль. После твердой, неровной земли крестьянских дворов и острой стерни мягкая и теплая дорога была просто отдыхом. Только перед костелом они надевали обувь. Те, что постарательнее, вынимали платочки и торопливыми движениями стирали пыль со ступней и икр. Некоторые скрывались в зарослях и писали, почти стоя, подбирая праздничные платья. Лошади остывали в тени. Мужчины подвешивали им на головы мешочки с зерном. Запахи животных и людей перемешивались над разогретой площадью. Сильные струи конской мочи пенились, словно пиво, и тут же впитывались в землю. Вонь пропотевших ремней, конских газов, сигарет и мыла сплавлялась в единое целое, словно воскресенье было в равной степени праздником и для людей, и для животных. Погода одаряла храмовую площадь равнодушной милостью. Соседская девочка вместо куцего красного костюмчика была одета во взрослое платье. Она походила на всех остальных женщин и не пробуждала интереса.
Какое-то время спустя мы в первый раз заговорили друг с другом. Я встретил ее на песчаной дюне, отделявшей деревню от реки. Она присела рядом и играла осколками ракушек. Ее худое бронзовое тело ни секунды не оставалось без движения. Сунув босые ступни в песок, точно в постель, она насыпа́ла над ними холмик, потом его раскапывала, чтобы тут же заняться рытьем глубокой ямы. Рука ее, похожая на гладкую веточку, ввинчивалась в песок до плотного и влажного его слоя. Она рассказывала мне, как один парень рассек себе косой ногу до самой кости, прибежал сюда, зарыл ногу в песок, а потом вытащил целой, сросшейся, без следов раны. «Земля все вытянет, — говорила она. — Даже молнию, и тогда можно человека закопать, и он встанет как ни в чем не бывало». Она сидела, погруженная по бедра в сыпучей волне, и, казалось, все глубже и глубже проваливается в песок. Она была похожа на куклу-цыганку, каких сажали на гору подушек и перин, только вот вместо распростертой юбки был песок — вся дюна до самого берега реки. Но это длилось лишь минуту, тут же, высвободившись из этого наряда, она встала на колени, присела на пятки и спросила напряженным сдавленным голосом: «А знаешь ли ты, что когда идут к баптистам, то нужно плюнуть на крест и растоптать его?» Я не знал, кто такие баптисты. Она тоже не знала, но страх обосновался между нами, небо потемнело, и я почувствовал горячий запах ее пота. «Чего ты так смотришь, я правду говорю», — сказала она. И начала шарить вокруг себя. Нашла две палочки, скрестила их и положила между мной и собой. «Ну что, боишься?» — спросила она, а я сидел, вытянувшись, словно пес, и сжимал песок в ладонях. Тогда она выдавила изо рта каплю слюны, которая, прежде чем упасть вниз, на мгновение превратилась в пузырь. Потом вскочила на ноги и босой пяткой довершила начатое. Зашлась в хохоте и внезапно снова опустилась на колени. Она шептала мне прямо в лицо: «Но это не считается, потому что он был ненастоящий, понятно? Он был не из костела и не освященный. Его уже нет, видишь? — Она раскидала песок во все стороны. — Видишь? Ничего нет! — Поднялась, отряхнула колени и ладони и смотрела на меня сверху. Я видел лишь контуры ее фигуры. — А расскажешь кому-нибудь, я тогда скажу, что ты тоже это делал и что это ты подговорил меня».
И все. Мы виделись время от времени, но она всегда оставалась равнодушной и высокомерной. Как если бы имела надо мной какую-то власть. Я издали наблюдал, как она перебегает свой двор, кормит кур, носит ведра и огрызается на мать, смуглая и угловатая, как мальчишка, выключенная из обычной действительности и неприкосновенная.
Из Левочи мы поехали на Спишский Град, но замок был слишком большим, а пространство вокруг него слишком бездонным, чтобы размышлять об этом. Ц. вел машину быстро, стремясь наконец оставить позади все эти чудеса Словакии, которые опустошили наши головы по самые кости черепа. Широке, Прешов и весь Спиш внезапно кончились, кончились и ренессансные аттики храмов, и гнезда аистов, чтобы где-то за Капушанами их сменили плоские крыши госхозовских построек, а место аистиных гнезд заняли развешанные на столбах матюгальники. В Свиднике, неподалеку от параноидальной церкви в форме космической тарелки, мы сдали пустые бутылки из-под «Велькопоповицкого» и взяли несколько полных, чтобы не въезжать в свою страну, как законченные туристы. Через пару километров все уже было как дома. Вдоль шоссе на цоколях из тесаного камня стояла различная военная техника. Была и пушка, и советский истребитель, и добродушные, похожие на мишек Т-34. Один особенно крупный монумент представлял фашистский «тигр», сокрушаемый гусеницами советского танка. Пахло Дуклей и родиной.
III
Памяти 3. X.[27]
И снова я здесь. У неба молочный оттенок, и людей все прибывает. Они везде. Идут по Зеленой, по 3 Мая, Мицкевича и Савицкой, подъезжают Венгерским Трактом, улицей Жвирки и Церговской. Женщины несут пластиковые сумки. Они в капроновых гольфах, в шлепанцах, в босоножках. Высаживаются из автобусов, сбиваются в тесные стада и движутся в сторону Рынка, только там становясь смелее, ведь это, в конце концов, такая же деревня, похожая на те, откуда приехали они. Будет дождь. Свет с трудом рассеивается в воздухе. Тени слабые. Мир безнадежно стар. Лоточники раскладывают свой товар. Около Марии Магдалины можно достать флюоресцентные четки, фосфоресцирующих Божьих Матерей и Египетско-Халдейский Сонник, а на Парковой жарят мясо на решетках. Ветра нет. Движение медленное. Русло Дукельки выложили камнями, но за плотиной речка течет по-старому. Ленивая вода, запах гнили и болота. День скользит по поверхности времени. Маленькая старушка в черном рассматривает благословенных Янов в разных позах. Они стоят шеренгами на ламинированном столике. За ними присматривает кореш с сигаретой и печатками на пальцах. Большие по стольнику, те, что поменьше, по восемьдесят, все из бронзы, примерно десятка четыре, еще тепленькие. Мир стареет, и вещи становятся невыразительными, неопределенными. Вскорости их уже не отличишь друг от друга, и тогда наступит конец. Останутся одни десигнаты.
Перед монастырем ментовские мундиры мешаются с облачением священнослужителей. Монахи гладко выбриты. Полицейские — с усами. Зной обнимает их всех и прижимает к липкому брюху. В парке еще царит прохлада. Трое мужчин пьют вино. Они купили его вчера, а может, сегодня по-тихому. Курят, как обычно. В густой воде ничто не отражается. На черной грязи липовой аллеи видны следы велосипедных шин. Люди бегают сюда, чтобы отлить. Хорошее место. Пары, держась за руки, исчезают в зелени. На деревьях подсыхают серые дорожки улиточьих траекторий. Все состоится по другую сторону Венгерского Тракта на кладбищенском бугре. Деревянные оградки делят глинистый склон на сектора. Еще пусто. Облака стоят над кладбищем, незаметно исчезают и неизвестно откуда вновь появляются. Словно выплывают из глубины небес. В Пететек без особой надежды заглядывают мужчины, официантка разводит руками. Приезжие пьют чай и едят бутерброды с яйцом. Мегафоны у монастыря объявляют, что «весь мир смотрит сегодня на нашу маленькую Дуклю». Уборщики — в новых зеленых комбинезонах и на пижонской машине. Они стоят около развалин синагоги, где устроен склад старого бордюрного камня и тротуарных плит. Дети гоняют туда-сюда на велосипедах, а в новом кафетерии в ратуше подают дармовой кофе «Lavazza» с маленьким печеньем. Все словно бы как прежде. Струйки толпы застывают в дукельском пространстве, и это напоминает декорацию. Скворчание шашлыков, автоматы с «колой» и «спрайтом», гамбургеры, автокары, парад регистрационных номеров, кордоны, десять новых голубых телефонов с карточками, красная брусчатка, транспаранты, хоругви — все это издает печальный запах человечества. Не удалось разрушить Дуклю и выстроить ее наново.
Ну, в общем, опять я здесь. Идет дождь. Люди прошмыгивают под прозрачными плащами. Газовщики из аварийной службы сидят в пикапе и играют в очко. Я приехал рано утром, чтобы все рассмотреть. Сейчас сижу в машине и слушаю мировые новости. В стране тоже дождь. Я не смог удержаться. Все должно как-то заканчиваться. Как завтрак, книга или сигарета. Пилигримы с зонтиками несут складные скамеечки. Свисают хоругви. Местные выглядят, как приезжие. У пластиковых бутылок с минералкой серо-голубой оттенок. Все это несомненно куда-то устремляется, как кровь в наших телах, как воздух, как остальная физиология, с помощью которой можно все видеть и чувствовать запахи. Белый венгерский грузовик осторожно движется между пешеходами. Водитель сигналит. На него смотрят, как на пришельца. В магазине на автовокзале люди покупают хлеб, сыр и консервы. Одеты по-разному, кто как харцеры[28], кто как старомодные туристы, а кто как на воскресную прогулку. Парадоксальная граница обыденного и из ряда вон выходящего. Камуфляжные куртки, рюкзаки, выходные сумочки, туфли на каблуках, охотничьи ножи на поясе, «мыльницы» за восемь сотен злотых из магазина игрушек. У каждого второго такая камера. Перед ювелирным магазином мужик поставил лоток с фотопленкой. Теперь соорудил целлофановое прикрытие и все это время торгует. Желтые «кодаки» и зеленые «фуджи». Действительность замирает в сотнях кадров, в тысячах фрагментарных воплощений. Я пробую представить себе мир до фотографии и не могу. Вероятно, он вообще не существовал, то и дело исчезал, поглощенный стремительными, ненасытными чувствами, от него ничего не оставалось. А теперь — эти бессчетные щелчки затвора, мозаика, секунда за секундой, взгляд за взглядом, мамочка, папочка, сыночек, каждый из них одним пальцем совершает бесповоротный выбор, и если хорошо постараться, то даже отдельная капелька дождя не ускользнет, не исчезнет, не вернется туда, откуда появилась. Возможно, придет такая пора, когда весь мир и время окажутся скопированы с помощью соединений серебра. Кадр за кадром, снимок за снимком, и не исключено, что это будет единственное исполнение и конец.
Примерно через час дождь заканчивается, и можно выйти. У Марии Магдалины висит картонная вывеска «Билеты в Дуклю». Даю злотый и получаю сектор В2, но еще есть время, и я иду в сторону дворца. Моя самоходная «полуторасотенка» стоит в дворцовом парке около пустой заржавевшей теплицы. И она, и оранжерея выглядят одинаково ненужными. Я хожу и смотрю на людей. Они все похожи на моего деда, на мою бабку, на мою мать, на моего отца, на тех, кого я знаю и кого встречал в жизни. У них тесная обувь, они прихрамывают, потеют в немнущейся одежде и разглядывают предметы на лотках, медали, белые бюстики, радужные олеографии, пляжные полотняные креслица по четыре с половиной сотни злотых, нюхают еду на решетках, куриные грудки, сардельки, грудинку, лоснящуюся черную кровяную колбасу. Временами выходит солнце и заключает их фигуры в расплывчатые ореолы. Занятые своим мороженым, «пепси», минеральной и детьми, они не замечают этой равнодушной нежности. Они входят в пояс парковой тени и вдоль шеренги пожарников бредут к монастырю. Там вместо моей отвергнутой пушки стоит сейчас фигура благословенного Яна. «Какой-то он весь облезлый», — говорит девушка с камерой и водит объективом вдоль бронзовой фигуры. А потом фотографирует устрашающий крест, из основания которого растет несколько десятков обрубленных ладоней. Пушка все-таки была лучше, впрочем, как и любые вещи, которые не хотят быть ничем сверх того, что они есть. Из синего лимузина вылезают сановники в элегантных сутанах. На голубых рубашках полицейских выступают пятна пота. На кладбищенском взгорье стоит несколько исповедален. Люди встают в очередь. А потом выстраиваются перед цветными полевыми туалетами из пластика. Три исповедальни и три уборных. Цвета — темно-коричневый, желтый, голубой и красный. Остальные, кто не в очереди, словно бы вышли на променад. Доходят сюда, разворачиваются, идут обратно в городок, чтобы через некоторое время повторить эту дорогу. День проходит спокойно и монотонно. Суспензия влажного тепла перемещает тела людей, будто предметы. Это словно парад присутствия, праздник заполнения пространства, словно демонстрация доказательств существования. Тела трутся, касаются друг друга, объединяют запахи и тепловые ауры. Большой аквариум дня заканчивается где-то за границами воображаемого, и если кто-то на нас смотрит, он должен испытывать сострадание. В конце концов, единственно, что мы смогли выдумать наперекор неограниченному пространству, это умение собраться, сгруппироваться, занять как можно меньше поверхности. Так, чтобы чувствовать сквозь кожу существование других, раз уж мы не уверены в собственном. Полицейский «лендровер» из Устшиков подъезжает к монастырю. Сегодняшняя необычайность имеет вкус концентрированной будничности. Это как с запахом: мы чувствуем его, когда его делается много. Кто-то снимает пустую перспективу Кросненского шоссе, словно производя позитивистскую[29] документацию чуда. Свет входит внутрь аппарата и замирает в нем, так же как образы замирают внутри наших черепов, чтобы потом служить отговорками, оправданиями и объяснениями на любой случай. Пока они живы, мы ничего не сможем с ними сделать. И только когда они становятся вещами, мы умеем их как-то использовать. Вот появляется «лендровер» из Ясла и обычный «полонез» с молчащей сиреной.
Вообще, я только и делаю, что описываю собственную физиологию. Изменения электрического поля на сетчатке, перепады температуры, различные концентрации элементов запаха в воздухе, колебания частоты звуковых волн. Из этого складывается мир. Остальное — лишь формализованное безумие или история человечества. И когда я стою вот так напротив почты в Дукле, курю и разглядываю здоровенных парней в зеркальных очках, мне приходит в голову, что бытие должно быть фикцией, если у нас есть хоть какой-то шанс. Что мясо, кровь, свет и вся остальная очевидность должны в один прекрасный день оказаться всего лишь забавными грезами, потому что в противном случае что-то здесь не сходится, и прощай, Памела[30], мы уже закрываемся, приходите завтра. Именно эта наивная мысль сейчас настигла меня в Дукле, неподвижность которой позволяет грезить относительно того, как именно все может быть. Латерна магика, камера-обскура, стеклянный шар, в котором медленно падает снег, кинетоскоп последней надежды и метафизическое пип-шоу.
Мелкая старушка в черном появляется то тут, то там. Она одинока и внимательна. Рассматривает город так, словно видит его в первый раз, хотя она здешняя. Мир вдруг взял и приехал к ней, и это — как путешествие в далекие края, со всеми епископами, сутанами, лаком лимузинов, флагами, хорами из мегафонов, прелатами и тротуарами из новой красной брусчатки, это — внезапная, в одночасье, материализация святости, и потому она ходит как в раю, как ребенок в магазине игрушек, как узник в первый день свободы или как новобрачная в свадебном платье. На ногах у нее маленькие мужские ботинки, лоснящиеся черным полированным блеском. Она приостанавливается там и сям, маленькая, словно девочка, и такая же несмелая, пытается что-то разглядеть в этой толчее, среди вялых, любопытствующих и уверенных в себе людей. Она похожа на черную птичку или персонаж из сказки. Руки у нее сложены на животе и прижаты к телу, будто она хочет занять как можно меньше места. Молодые монахи пробегают, хлопая своим длинным облачением. Быстроты ради они подтягивают его повыше, и тогда видны штаны. Их лица мало отличаются от лиц молодых городских специалистов. Один несет клавиатуру «Ямахи», другой — элегантный кейс с цифровым замком. Зато лица пожарных — точно из раннего Формана. Когда я был здесь два года назад, они шагали в похоронной процессии. А теперь стоят в кордоне и беспомощно наблюдают, как толпа просачивается сквозь неровную синюю цепь их мундиров. Время от времени они раскидывают руки, словно хотят прижать кого-то к груди, но это лишь жест безнадежности, и, чтобы не уронить себя, они закуривают и ждут, когда на помощь подойдут полицейские.
У обритой налысо малолетки надпись на футболке «I hate religion». Religion приходится как раз на ее маленькие груди. В этой толпе отцов с детьми, женщин с сумками, пар в белых носках и босоножках ее фигурка так же мала и беспомощна, как фигурка черной старушки. Побрякушки на шее, армейские ботинки на ногах и ожесточенная серьезность шестнадцати лет делают ее присутствие здесь окутанным невероятно красивой грустью. Девочка идет вдоль парковой стены так, словно она голая, но никто не обращает на нее внимания.
Под деревом на проволочном ящике с голубями сидят два парня в пиджаках. Курят «Популярные» и болтают, передавая друг другу бутылку минеральной. Пластиковая емкость циркулирует между ними, и они, перед тем как глотнуть, поднимают бутылку вверх, как бы чокаясь. Матрона в розовом платье и фиолетовом жакете осматривает белые гипсовые бюстики. Поднимает их по очереди, вертит, взвешивает на ладони, будто ищет, какой потяжелее. Наконец выбирает один из множества идентичных, платит, кладет в пакет и говорит лоточнице: «Наконец-то и к нам приехал. Проветрит этот жидовский смрад».
Еще здесь полнотелые девицы с массивными икрами. У них рюкзаки, пятнистые штаны до колен, горные ботинки, гитары и большие кресты на ремешках. Девицы ищут тени, чтобы усесться и попеть в безопасном окружении. Их короткие волосы слиплись от пота, а рубахи под мышками влажные и темные. Найдя прохладное местечко, они достают пожелтелые странички и заводят: «…в жизни пример наш, о Благодетель, благоразумия свет нам зажги ты, и нас минуют все беды на свете…»
Среди людей, среди их тел воображение замирает. Они фланируют, как наглядные примеры из социологии и психологии. Жизнь принимает готовые формы, отражает, преломляет свет, и я беспомощен. Лица, плечи, груди, ягодицы — абсолютное фиаско анализа. Сигареты, наряды, драгоценности, каблуки, кружевные жабо, сотовые телефоны на поясе, брелочки, голь перекатная, секонд-хенды или гипермаркеты Макро в Кракове, дома, квартиры, Матерь Божья, хрусталь, блеск стеллажей с «Хроникой XX века», диваны под кожу, папоротники на парапетах, запахи спальни, кристаллические дисплеи времени и функций, освежители в сортирах, линолеум, Сердце Иисуса в рамочках стиля рококо, черный «Панасоник», «…предлагаем в рассрочку…», «святой Кшиштоф, молись о нас» над зеркалом, кассеты с венчанием, кассеты со свадьбой, кассеты из Испании, вязанная крючком салфетка на видеомагнитофоне и стеклянная собачка сверху, микроволновка, печь, резиновые сапоги в сенях, картошка в ящике, бейсболки, серьги, подделки «Пумы» и «Адидаса», щелочные батареи, лампа в абажуре из газеты, штурвалы из золотого пластика с барометром, пустые стены, в которых отражается звук телевизора и тени далеких событий, эхо и сырость новых домов, «куда ты положил ключи», воскресенье, блеск автопокрышек перед костелом, браслеты, цепочки, лосьон после бритья «Консул», лосьон после бритья «Самсон», антиперспирант «Жилетт», бедра, лайкра, красные ногти, букли, приподнятые бюсты, парфюмерный и галантерейный паноптикум, старость, костяные гребешки в седых коках, бамбуковые ручки угловатых сумок, вымытая и выстиранная разноцветная детвора, обручальные кольца, навсегда вросшие в артритные пальцы, животики мужчин, высокомерие, наручные часы, кисточки на мокасинах, важность, сытость, как было в начале, сейчас, всегда и во веки веков, пышность, мавританские арки, корова за стеной, глинобитный пол, «Популярные», порножурналы, частушки, Богоматерь Зельная и Севная[31], «трусы в полосочку», приди Святой Дух. Мир — это бесконечный перечень. По-другому его постичь невозможно, потому что вещи внедряются между идеями и рвут острыми гранями их деликатные края, и все общие понятия в конце концов оказываются на свалке в окружении подробностей. Caro salutis est cardo[32].
Ну вот. Я снова сюда приехал. На этот раз в синем двадцатилетием «мерседесе». Уже стояли кордоны, но мы прицепились к темно-голубому полицейскому «фольксвагену» с мигалкой, и нам удалось проскочить. Сейчас наступает вечер, и свет становится густым, как кровь, и золотистым. Бернардинские башни черны. Краснота пожарных машин тоже померкла. Я смотрю с севера на юг. С правой стороны над кладбищем абрис облака тлеет, словно бумажный свиток. С левой стоит Цергова и источает мрак. Темнота живет в земле. Она выходит из нее и возвращается — как глубокое дыхание. Дети строят город из камушков и пустых бутылок. Складывают стены, устанавливают башни. Из палочек и мусора делают людей. Взрослые бросают на все это длинные тени. Они шевелятся, меняют места, топчутся в квартале секторов, замкнутых шеренгой полицейских. Мужчины уходят в близлежащие кусты. В стене зелени видны их выпрямленные спины. Двухметровый фотограф с маленькой «Лейкой» на груди ищет молящиеся толпы. Молоденький ксендз стоит у барьера вот уже часа два. И не сдвинулся ни на шаг. В руках он держит «Практику» и целится в темное горло Венгерского Тракта. Мальчики расстилают куртки, девочки садятся. Прохаживаются парочки. Единственная забава — смотреть на виляющие девичьи попы и представлять себе совместную жизнь, разговоры по утрам, квартиры и родителей на обеде. Кто-то выпустил красный шарик. Люди оживляются на несколько минут, пока он не исчезает в небе. У мужчины в оббитой мотоциклетной каске сзади на куртке большой орел. Птица нарисована ручкой. Вокруг орлиной головы блестит нимб из серебряных кнопок. Мегафоны сообщают, что прелат Янковский уже на месте. Пузатые мужики держат в массивных пальцах «Клубные» и размышляют, кто заберет доски, отгораживающие сектора. «Можно бы ночью», — говорит один. «Будут освещать», — говорит другой. «Завтра, может, уже не будут». — «Кто их там знает». — «Хорошее дерево. Десятка. Пошло бы на стропила». — «Какое там, восьмерка самое большее». — «Тоже бы пошло». Идут проверить. Нет ни одной собаки. Поэтому такая неподвижность, хотя люди ходят, ищут себе местечко. Карабкаются наверх, потом спускаются, чтобы быть поближе, но там уже стоят более терпеливые, сбитые в длинный ряд, застывшие.
За кладбищенским пригорком полыхает желтое пламя, а здесь уже мрачно и холодно. Фигуры теряют отчетливость. Они похожи на собственные тени. Играет транзистор. У монастыря поют хоры. Там не так темно. Видны пятна света, и что-то шевелится, как в далеком окне. Некоторые отрывают взгляд от шоссе и смотрят в ту сторону. Их утешают мегафоны. Сейчас мы выглядим старее и потихоньку перестаем отличаться друг от друга. В сумерках пространство замирает, остается только время, и поэтому мы сбиваемся еще теснее. Кто-то зовет кого-то по имени. Отцы берут детей на руки. От Церговой ползет чернота. Видны огоньки сигарет. Спички, прикрытые ладонью, напоминают фонарики из розовой кожи.
Я смотрел на него издали. Он белел в темноте и был почти недвижен. Он обращался к людям, удалявшимся в сторону городка. Усиленный мегафонами голос был хрупким и тихим. С такого отдаления он напоминал птенца в гнезде. Вокруг темнота, и лишь там пятно света. Ночь начиналась в двух шагах от него и тянулась в бесконечность. Люди шли по домам, чтобы зажечь лампы и что-нибудь съесть. «Мне бы хотелось его автограф», — сказала девушка в леопардовой курточке своему парню. За ними шли другие и тоже разговаривали. Несли спящих детей. Слышен был стук каблуков и шум воздуха, потревоженного их телами. В Дукле никогда не было столько пешеходов.
Мне не хотелось подходить ближе. Да я бы и не смог. У простых людей не было шансов, хотя, наверное, он приехал ради них. Но парадоксы меня не занимали. Я старался думать о бессмертии, но думал о его теле, его фигуре, о форме, в которую он был заключен, о его материальных очертаниях. Я представлял себе, как он просыпается утром и чувствует усталость, которую сон не в состоянии снять. Кости, мышцы и кровь тяжелы и непослушны. Они все больше живут собственной жизнью. Это заменяет доказательство существования души — сознание, что тело нас покидает, отходит в сторону. Пробуждение, подъем, шлепанцы, зеркало в ванной и холодные, остывшие с последнего раза предметы. Всякие человеческие занятия, прием пищи, хлеб, чай, повседневная литургия, воспроизводящая жизнь как она есть. Я представлял его себе без толпы и без одежды. Одинокого и почти голого в чахлом свете утра, когда он повторяет те же самые движения, что и весь мир в этот момент. Бреется, чистит зубы, причесывается, сосредоточенно отмеряет сахар или отказывается от него, как ограничивает и жиры, плохо перевариваемое мясо и белый хлеб, как ограничивает движения до необходимого минимума, избегая лестниц, скользких полов и слабо освещенных мест, где легко оступиться. Бережет себя от холодного воздуха, сквозняков и от синусоиды эмоций, шума, бессонницы и дурных вестей. Я представлял себе минуту, когда он в тишине прислушивается к собственному телу.
Мне вспоминается моя бабка, которая верила в духов. Она частенько их видывала. Дом стоял в старом саду на краю деревни. Она рассказывала о своих видениях совершенно спокойно и естественно. Духи являлись днем или ночью. Входили на кухню, просто открывая дверь. Заставали ее за будничными занятиями во дворе или на кухне. Они вполне походили на людей, разве что сотворены были из чуть более легкой субстанции. Чаще всего бывали похожи на кого-то из родных. Все верили в эти рассказы. Я тоже. Это была настоящая вера, ведь ее не подкреплял никакой опыт. Но она не имела ничего общего с религией. В рассказах бабки мир потусторонних существ не соприкасался никоим образом с миром святых, костелом и обрядами. Первый был повседневностью, второй служил мерилом времени, материалом для молитвы и воскресной передышкой. Духи приходили как зримое доказательство того, что в своей основе реальность неделима и в ней все обстоит несколько иначе, нежели нам представляется. Я очень любил свою бабку. Она была спокойная, прагматичная женщина без следа ханжества, религиозной мании, без склонности к мистике. «Он вошел туда, встал тут, выдвинул ящик, ложки забренчали, но все оставил на месте». Меня завораживала такая конкретизация. Происшествия эти всегда имели свое время и свое место. «В шесть часов, как раз когда я проснулась и села на кровати. Только светало. Но он не из сеней пришел, а из чулана». Эти свидетельства отличала абсолютная бескорыстность. Они ничего не стремились ни доказать, ни посулить. Я верю в них до сей поры, никогда потом я не сталкивался со знаками столь простыми и столь непосредственными. Единственной уступкой в пользу чудесности, которую делала бабка, бывала невольная риторическая констатация по ходу рассказа: «Ну и перепугалась я!» Но этого страха не было видно. Звучало, скорее, как «Ну и удивилась я» или «Вот тебе раз». Родные и знакомые просто навещали ее. Приходили из прошлого, стояли минутку у окна или белого буфета и выходили, оставляя за собой приоткрытую дверь, которую ей надо было закрывать, потому что делался сквозняк. Иногда она приводила даже фрагменты разговоров, но я не помню, чтобы они сообщали нечто, подтверждающее исключительность их кондиции. Я представлял себе, что они серого цвета, чуть более прозрачные, чем люди, не пахнут и носят обычную одежду. Наверное, так и было. Бабка никогда не описывала их самих. Она говорила только о том, что они делали, о том, как они заполняли пространство и время своим несколько вневременным и внепространственным существованием.
Потом бабка умерла. Я проснулся в соседней комнате, и тетки, которые при ней дежурили, сказали мне: «У тебя уже нет бабушки». Я любил ее, и мне было грустно. Она лежала вытянувшаяся, выпрямленная. Ее лицо вдруг сделалось очень серьезным и суровым. Я стоял совсем близко, смотрел, и в утренней тишине мне было слышно, как тетки хлопочут за моей спиной, словно это было еще одно обыкновенное утро в деревенском доме, и я чувствовал, что эта смерть, а может быть смерть вообще, явление — как бы это выразиться — чересчур разрекламированное. Я чувствовал, что бабки только немножко нет. Уверен был, что она потихоньку выскользнула из этой избы и из этого мира, но пребывает где-то совсем близко, что она просто перенеслась к тем фигурам, которые ее навещали, и если она только захочет, то появится точно так же, как являлись они. Другими словами, я знал, что она жива. Но только не может забрать с собой своей оболочки, покоящейся сейчас на кровати. Скорее всего, она ей была не нужна.
Поэтому я не чувствовал страха. Ни тогда, ни потом, когда празднично одетую и положенную в гроб ее нужно было поцеловать, перед тем как закроется крышка. Я чувствовал себя глупо, потому что все плакали, а я не мог. Я знал, что это все неправда. При жизни, видно, ее слушали невнимательно. В конце концов я тоже заплакал, но только потому, что впервые в жизни увидел слезы на глазах отца.
И только черный траурный флаг, водруженный на доме, вызвал во мне настоящий ужас. Он хлопал на осеннем ветру, и это было дуновение настоящей мертвой смерти. Я никак не мог соединить этого символа с живым присутствием бабки. Это был абстракт, кошмар пустоты, черная дыра литургии и безымянная бесконечность забвения.
Ну вот. Я стою у парковой стены в Дукле и приобщаюсь к культу предков. Гляжу на торжественный церемониал там вдалеке и пробую представить свою бабку, как она стоит на этом вот месте или чуть подальше, около почты, там, где начинается кордон и ходят парни в пуленепробиваемых жилетах. Она всегда испытывала восхищение перед епископами и кардиналами, но определяла им абсолютно земные задания, вроде почтенного облика, достоинства и представительности. Просто мир лучше выглядит, когда у него есть свой прелат. Никогда не навещали ее ни святые, ни приходские ксендзы. А пережила она на своем веку, кажется, троих. Я думаю о ней, о ее добром морщинистом лице. Идущие Трактом в сторону города пожилые женщины повторяют ее образ. Многие из них приехали издалека. Жаждавшие увидеть живой портрет, теперь они уходят удовлетворенными и сытыми или разочарованными. Наиболее частые слова в толпе: «ты видела», «ты видел», «я разглядел», «загородили», «только мелькнул», «слишком далеко было». Они пришли посмотреть на тело, потому что это нечто почти столь же верное, как прикосновение, которое действует даже в тишине и темноте. Слова нужны умникам и бездельникам, страдающим от бессонницы. А мы обнюхиваем друг друга, как звери. В этом нет ничего плохого. Это лучше, чем ничто.
Под крестом из триллера стоит кучка молодых монашков. Они дотрагиваются до металлической поверхности, а потом трут себе ладонями лоб. Дотрагиваются и переносят благословение на свои головы, словно втирая его в свою кожу, внутрь черепа, словно это можно ухватить, упрятать или трансплантировать. Гротескное и варварское зрелище. Впору рассмеяться, но ведь и сам я не делаю ничего иного. Разве что руку деликатно удерживаю в кармане, пользуясь только зрением. Монахи в сандалиях. Похоже, будто они моются или вбивают себе крем в кожу перед сном. По существу, это лишь радикальная разновидность фотографии и сенсуальная телепатия. Поэтому я даже не пытаюсь слушать его слова и предпочитаю размышлять о его теле, о том, что нас объединяет неопровержимым образом. Мы испытаем то же, что и все. В том же воздухе, в том же пространстве, которое справилось со всеми, кто жил до нас. Листья под фонарями блестят и дрожат, точно это декорация. Торговцы сворачивают товар. У меня все тело разбито от хождения и приседания то тут, то там. В освещенных окнах школы видно полицейских в полевых мундирах. Они лежат на столах и отдыхают. Курят, стряхивают пепел на пол, шевелят губами. Его голос дрожит, но возносится и падает в спокойных каденциях, в центре бесконечного одиночества, и возвращается, отраженный от темных гор. Машины включают фары и двигатели, ползут сквозь толпу, на выезде из города прибавляют скорость и исчезают в темноте красными искрами. Все уже произошло. Пространство поглотило звуки и жесты. Замкнулось, срослось без следа, так же, как оно замыкается и срастается каждую минуту, с самого начала, и его хватит всем, до самого конца. В теплом и темном воздухе догорают угли грилей на Парковой. Девушки в белых халатах складывают в картонные коробки то, что осталось. Какой-то малый считает деньги под желтой лампой. Двадцатки отдельно, отдельно десятки и пятидесятки. Распихивает их по карманам охотничьего жилета и в сумочку на поясе, какие носят торговцы. Два пожарника доедают последнюю колбасу. У одного из них в свободной руке зажженная сигарета. Никто не попрошайничал в тот день, не было, кажется, и воров.
Я пью кофе из белой чашки и наблюдаю, как замирает ритм повествования. Вот все и кончилось. Двери закрылись, гаснут огни. А завтра все будет как ни в чем не бывало. Останутся десять новых телефонных будок голубого цвета и красные камни брусчатки. Мужики засядут в Пететеке, в «Граничной» и у «Гумися». В сущности, события совсем мало разнятся со временем, в котором они происходят. Если даже известно, откуда они берутся, трудно сказать, куда они уходят. Все время нужно совершать что-то новое.
В тот вечер, а точнее, уже ночью я пошел к Марии Магдалине. Она была открыта, пуста и едва освещена. Амалия покоилась в тени. Зеркала ловили приглушенный свет уличных фонарей, но каким-то удивительным образом не отсылали его в пространство часовни. Он оставался в серебряных плоскостях, зажигая в них холодный огонь. Но светлее от этого не становилось. Наоборот. Мрак еще более сгущался, конденсировался над лежащей фигурой, проникал в капризное мраморное облачение, просачивался глубже и укладывался в очертания спящего тела. Было тепло и душно, как в спальне. Листва за окном чуть шевелилась. Из-за этого темнота была тревожной. Хлопья полумрака дрожали, кружили, колебались, словно блуждающие огоньки между относительной освещенностью зеркал и глубокой чернотой воздуха. Никого не было. Временами заблудившийся свет автомобильных фар лизал стекла часовни и очертания ее интерьера оживали с мертвой, гиперреальной отчетливостью.
Там внутри лежали ее останки, занимая мои мысли: пыль на дне черного саркофага, немного фосфоресцирующих минералов, кальций, соль, калий, первичные элементы и остатки кружев, в которых она ходила при жизни и в которых ее погребли. Сейчас все это имело вид пылевидной сухой субстанции, которая лишь немного тяжелее воздуха, субстанции почти духовной, потому что ветер мог бы унести ее вдаль, как призрак, как прозрачный эскиз неизвестно чего.
Я пытался разглядеть в зеркалах свое отражение. Его не было. Там лишь перемещались клочья тени, разные виды тьмы и воздушные фантомы. И в этот момент я услышал шелест и увидел, что Амалия села в своей постели. Я почувствовал движение воздуха и теплый аромат, проникающий сквозь древний запах костела. Она потянулась. Чепец сполз с головы, и длинные волосы сплыли на плечи. Она откинула их назад, оперлась ладонями о край постели и повернула лицо к узкому окошку, где догорал блеск праздника. Я хотел что-то сказать, но, казалось, она меня не видит. Занятая собой, еще сонная, она медленно запечатлевала свое очертание в глубине июньской ночи. Ее магнетический остов притягивал из пространства элементарные частицы, восстанавливая прежнее тело. Люди в Дукле и во всем мире засыпали, проскальзывали под одеяла и падали на дно времени, а она выходила из него, присаживалась на его краю и вслушивалась в нарастающую пульсацию крови, в сгущающееся тепло материи, от маленьких ступней через икры, бедра, через центр живота, через разветвление рук и до самой макушки головы. Все, что я в жизни видел, все, что видели другие, входило в нее и обретало очертания. Она росла, крепла, становилась тяжелой и горячей, как физический облик маниакальной мысли или ответ на древнейшие вопросы. Наполнялась сокровеннейшими подозрениями. Они придавали ей идеальную и законченную форму, в которую можно было войти, не оставив никаких следов. Она была как черное небо над самой землей, когда пространство перестает существовать и замолкают все звуки. Воскрешение должно из чего-то складываться. Это было как воздух, который загустел до консистенции человеческой плоти. Все умершие люди, все, что минуло раз и навсегда, все потерявшиеся и отзвучавшие обрывки мира, стружки времени, прежние виды из окон, все, что было и никогда не вернется, становилось сейчас ее телом. Смерть отступала, соскальзывала, как перчатка, как лопнувшая оболочка повседневности, а там, под ней, внутри, память, надежда, воображение и вся остальная масса невесомых, невидимых и не существующих явлений воплощалась в нечто живое и осязаемое. Амалия не была ни духом, ни привидением. Она была сконденсированным присутствием того, что извечно отсутствовало. Она была образом, который возвращается к прототипу, чтобы превзойти его. Туфелька соскользнула с ее ноги и стукнулась о плиту. Я слышал, как она дышит, как входит в нее иллюзорная материя мира и преобразуется в тело, мягкое и гладкое, как вечность. Она будила желание. Я чувствовал ее запах: тяжелый, густой и упругий. Он касался меня со всех сторон, как мысль может касаться предмета — без нежности и без жестокости, с равнодушной снисходительностью чего-то неисчерпаемого. Ее кожа поблескивала в темноте. Она напоминала влажный камень, уложенный в дуги плеч и бедер. Дукля переставала существовать там снаружи. Она вошла в нее, вместе со всеми событиями, которые я пережил, наблюдая, как они поочередно отходят к своей спокойной гибели. И ни разу ни одна идея о воскрешении не приходила мне в голову — ни одна, кроме памяти, этого выродка времени, над которым никто никогда не имел власти.
Я сделал шаг вперед. Мне не было страшно. В конце концов, трудно бояться чего-то, что не знает о твоем существовании. Под пальцами в кармане я чувствовал пачку сигарет и нагретые монетки.
И тогда я услышал шорох со стороны притвора. Из полумрака вышла маленькая фигурка. Это была та обритая налысо девушка с надписью на майке. На плече она несла небольшой рюкзак. Девушка прошла мимо, вглубь нефа, но мне пришлось как-то шевельнуться, поскольку она обнаружила мое присутствие. Обернулась. Теперь на ней была военная куртка с поднятым воротником.
— Я думала, никого нет, — сказала она тихо.
— А никого и нет, я уже ухожу, — ответил я.
— Интересно, они запирают на ночь? — сказала она громче, с деланной непринужденностью.
— Не знаю, наверное.
— Я хотела тут переночевать. Сегодня уже ничего не поймаю до Кросна. В парке все-таки страшно, а в городе полно ментов. — Она подошла к последней скамье в ряду, влезла туда и пропала. Я услышал лишь глухое эхо, когда ботинки ударились о дерево. Ничего не было видно. Все затихло.
Когда я выходил, то наткнулся на ксендза. Сказал:
— Слава Иисусу, — а потом добавил: — Все уже ушли. — Он вошел внутрь, через минуту погас свет. Я услышал звук поворачиваемого ключа, и темная фигурка быстро проскользнула к дому священника.
Василь Падва
Василь Падва был бедным. Он никогда не ел ничего горячего — так говорили те, кто его помнили. В магазине на полке стояли светло-золотистые ведерки с мармеладом. Два раза в неделю привозили хлеб. Падва был один как перст и пас госхозное стадо. На заре летом луга тяжелые, блестящие, словно ртуть. Солнце отдает еще подземным холодом. Резиновые сапоги Василя лоснились, как офицерские, когда он шагал в окружении коров, греясь в облаке рыжего тепла. Может, именно при виде этого безбрежного серебра завладела им упрямая мысль: быть богатым, иметь больше, чем имел до сих пор.
Ел он все меньше и меньше. Его костюм из грубой ткани становился все более серым и обвис так, что в нем, пожалуй, поместились бы двое.
* * *
Раз в месяц к магазину подъезжала горбатая «варшава», и там, под вишневым сиянием банок с джемом, в аромате грудинок, прямо на глазах у человека в феске с упаковки кофе «Турок», кассир медленно слюнявил палец и производил выплату. Продавщица тем же самым движением переворачивала страницы тетради с записью кредитов. Василь Падва стоял всегда последним, словно боялся, что кто-то заглянет ему через плечо и заколдует растущее сокровище или сотрет взглядом один из двух записанных в его рубрике нулей.
Банкноты с рыбаком, с рабочим и с шахтером напоминали ему открытки из дальних стран. Море, завод, шахт — все это он знал только по рассказам. Те, что туда уходили, не возвращались уже никогда. Пропадали, словно смельчаки на пути к Эльдорадо.
Он брал свою тонюсенькую пачечку, складывал пополам и прятал на груди, в кармане, застегивающемся на пуговицу, а люди смеялись: он, мол, и на ночь не снимает одежды. Василь не пил, не курил, никого не угощал, на рассвете выходил с коровами и исчезал в белой мгле.
И вот как-то в июле случилась гроза. Те, кто работали на сене, сбежали вниз, и все попрятались кто где смог. Василь остался наверху, там, где начинался Сладкий Лес. Коровы стояли под дождем с опущенными головами, а он присел под кустом лещины. Громы, как всегда, лупили по верхушкам, раз тут, раз там, в домах звенели стекла в разболтанных оконных рамах, а лица детей при лиловых вспышках молний выглядели так, будто кто-то сфотографировал страх.
И тогда загорелся старый сарай под соломенной крышей. Он стоял высоко в лугах у самого леса. Люди рассказывали, что Василь бежал так быстро, словно его нес ветер, он бежал в ту сторону сквозь дождь и сквозь вспышки молний. Но с грозой ведь дело такое, в ней больше огня, чем воды, и пока он добежал, стреха превратилась в красный стяг, потом затрещала, разломилась и рухнула вниз. Вместе с гнездами стрижей сгорело и сокровище Василя — он годами засовывал его под стреху. Сотенные бумажки цвета пламени, пятидесятки зеленые, как вода, и двадцатки бурые, как дым.
* * *
Но это еще не конец истории, потому как над истинной любовью и огонь не властен. Василь Падва начал все сначала. Теперь он все банкноты менял на монеты. На серебряные с рыбаком и на те, что с Костюшко и Коперником, цвет потускневшей бронзы. Ходил позвякивал, а время от времени затихал, и все думали, что где-нибудь он это богатство зароет. Однако натура у него была простая, незатейливая, и, пострадав от огня, он решил довериться воде. Под Банне ручей вьется, как змея, и стекает вниз, как зеленая ковровая дорожка по выщербленным ступенькам. Полным-полно в нем темных и глубоких местечек. Василь складывал десятки и пятерки в банки от вишневого джема и осторожно опускал в самую глубину. Металлические кругляки напоминали ему ордена далеких войн. Продавщица иногда гнала его от стойки, тогда он шел пять километров до другого магазина и там менял бумажные фантомы на несокрушимый металл.
Но вот как-то летом пошел дождь, такой сильный, что в трех шагах ничегошеньки не было видно. Васильев ручей, который можно было перемахнуть одним прыжком, нес деревья, тащил камни, а вода загустела от бурой грязи. Василь Падва день и ночь ждал на берегу, пока ручей не вернется в свое русло и снова обретет прозрачность. Но, кроме ила, он ничего не нашел. До осени ходил он вдоль берега и искал свое богатство. У камней был потускневший цвет «коперников», а маленькие форели блестели на солнце, словно серебряные пятаки. До самой осени бродил он вверх и вниз по берегу, а стадо коров, которых он, однако же, не мог оставить, в этом месте превратило луг в голую землю.
* * *
На третий раз Василь Падва доверил свое сокровище земле. Выбрал потайное место где-то в Сладком Лесу. Об этой истории известно меньше всего. Точное место знал только он — и тот, кто через год обнаружил и ограбил тайник. Люди смеялись, как всегда, а Падва, утомленный под конец стихиями, стал таким, как все.
Воскресенье
Здесь растет всего несколько деревьев. И в знойные дни — проблема с тенью. В полдень горячий свет заливается во все трещины, словно вода. Это похоже на наводнение. И тогда они прячутся на пригорке под молодым ясенем. Земля, на которой они сидят, голая и вытертая, словно старая мебель.
Все начинается после мессы. Ксендз уезжает на своем маленьком автомобильчике, а они два километра идут по пыльной дороге. В десять часов тень становится длиннее человека и держится левой ноги. Они садятся в широкий кружок, совещаются, а потом двое идут в магазинчик, что в нескольких десятках шагов отсюда. Покупают фруктовое вино, одалживают там стакан и берут еще сигареты. Небо твердое и чистое, а вино называется «Di’Abolo».
В полдень они едва помещаются на своем островке тени. Когда идут за следующими бутылками, золотые пряжки на их ботинках и серебряные цепочки на шеях нагреваются, как в огне, и все вокруг охватывает ясность, какую некоторые видят в минуту смерти: пустые большие коровники, черный дом без окон, частокол, поля крапивы, горизонт, белые бараки под Кровавой Крышей, дети, бегущие с железными обручами, собаки, мертвое белье на веревке, пыль за мотоциклом и прочие будничные вещи. Все это лижет невидимое пламя. Предметы дрожат, колышутся и выглядят так, словно их минуты сочтены. Они напоминают шевелящиеся зернистые фотографии, в которых больше черноты, нежели света.
Но они этого не видят, потому что прямые лучи уже вошли в их черепа, и внутри все такое же, как снаружи. Один говорит другому: «Теперь ты сходи возьми». — «Нет. Теперь ты». Наконец кто-нибудь из них встает и идет. Очень темный на фоне неба. Вино называется «Di’Abolo». У него красно-черно-оранжевая этикетка.
Если в три пополудни они позовут тебя выпить с ними, не заблуждайся, что зовут именно тебя. Когда ты усядешься в их кругу, окажется, что они разговаривают с кем-то совсем другим.
Потом наступает вечер, и сон застает их на середине фразы или жеста. Они принимают старые любимые позы: на спине, на боку или калачиком. И немного напоминают путешественников, которые забыли разжечь костер. Когда солнце скроется за хребтом горы, они начинают остывать, так же как и остальной мир, и вскоре в голубом свете сумерек яснеют лишь белые рубахи.
Потом приходят их дети. Копошатся между телами в поисках мелких монет. Забирают пустые бутылки и обменивают в магазине на желтую газировку.
Праздник весны
Когда лягушки выходят из-под земли и отправляются на поиски стоячих вод — это знак, что зима уже обессилела. Белые языки лежат еще в темных расселинах, но дни их сочтены. Вода едва вмещается в русла ручьев, и даже сквозь стены дома слышен этот подвижный и монотонный шум. Из четырех стихий только у земли нет своего голоса.
Но речь о лягушках, а не о стихиях. Так вот, вылезают они из своих нор и держат путь к канавам и лужам, к неподвижной, более теплой воде. Их тела похожи на комья лоснящейся глины. Если день солнечный, луг оживает: десятки, сотни лягушек тянутся вверх по склону. Собственно, увидеть этого нельзя, потому что кожа их имеет оттенок, близкий к цвету бурой прошлогодней травы. Взгляд улавливает единственно свет и движение. Они еще полусонные и холодные, так что прыгают медленно, усилие от усилия отделяет долгий отдых. Если солнце светит под соответствующим углом, их шествие превращается в вереницу коротких вспышек. Они загораются и гаснут, словно блуждающие огоньки среди дня. Уже тогда они объединяются в пары. Температура лягушачьей крови, как известно, такая же, как у окружающего мира, и когда в ясное, но припорошенное инеем утро лягушки копошатся внутри пятен тени, не исключено, что по их жилам перемещается красный лед. Но и тогда уже они ищут друг дружку и прилипают одна к другой таким причудливым двухголовым и восьминогим образом, что Тося кричит: «Смотрите! Лягушка несет лягушку!»
* * *
Все это происходит в придорожной канаве. Целый день солнце нагревает воду, и только во второй половине дня безлистые вербы бросают на ее гладь нерегулярную сетку тени. Здесь нет стока, ветер сюда не добирается, и ни один ручей не впадает, но поверхность воды живая и тягучая. Она напоминает спину большой змеи: сверкает, переливается, отражает свет, холодный блеск скользит, растекается, дробится и не застывает даже на миг.
Сначала — только лягушки. Одни темно-коричневые, бурые, почти черные, с тигровым узором на бледно-желтых лягушачьих ляжках; другие более крупные, цвет высохшей и покрытой пылью глины — эти в воде слегка краснеют, приобретая теплый тон, и тогда видно, что они сделаны из мяса. Пары соединяются в четверки, одиночки пристраиваются к парам, потом из этого образуются восьмерки, десятки, возникают лягушиные шары о несчетном количестве ног. Похоже на диковинных животных начала времен, когда формы жизни не были еще упорядочены, когда еще продолжался эксперимент над материальным выражением бытия.
Вскоре появляется икра. Сначала прозрачная, будто водяной сгусток, потом ее делается все больше и больше, и она приобретает сверкающий темно-синий опенок. Вода исчезает совершенно, бесформенная инертная субстанция добирается до самого дна канавы. Вспугнутые тенью приближающегося человека, лягушки ныряют, неуклюже, с трудом. Скользкая, ленивая и тяжелая, словно ртуть, материя выталкивает их обратно на поверхность. Сопровождается это звуком, похожим на бульканье в животе.
* * *
Когда все уже закончено, небо остается голубым от края и до края. Так же неподвижна поверхность воды. Лягушки ушли, осталась только икра и тела тех, что не выжили. Они всплывают, белея своими брюшками, из их мордочек тянутся бледно-розовые нитки внутренностей, точно какие-то изощренные разновидности водорослей. И это знак того, что весна уже наступила.
Комната, в которую заглядывают редко
Поздней осенью они появляются в доме. Больше всего их на чердаке. Некоторые замирают и ждут до весны, те, что постарше, просто засыпают и уже не просыпаются. Их коричневые крылья матовы и бархатны. Желтизна павлиньих глазков наполнена теплом и светом, какой можно видеть в окнах деревенских изб, когда опускаются морозные и погожие сумерки, — смотрится это так, будто в оконные фрамуги вставлены куски пылающего закатного неба.
«Павлиний глаз», бабочка с крыльями из сосновой коры (как детские кораблики), прожженными солнцем насквозь. Края крыльев черные, обугленные, а солнечные уколы окружены лилово-голубым сиянием. Такой цвет приобретает металл, разогретый добела, а затем остуженный: в нем застывает радуга, огонь расщепляет свет раз и навсегда.
Некоторые из них попадают в ту комнату, где холодно и куда заглядывают редко. Но стоит растопить печь, как из углов начинает долетать шелест. Они пытаются оторваться от пола, вырваться из пыли и темноты. Можно услышать серый сыпучий звук, который издают эти сотканные из воздуха и света создания. Самые сильные порой вспархивают вверх и устремляются к окну.
На дворе холод, белизна простирается до бесконечности, но они упрямо бьются о стекло. Если выпустить их наружу, мороз сразит их в одну секунду, подобно тому как пламя свечи в мгновение ока уничтожает мотылька.
Они умирают, трепеща в холодном солнце декабря. Этот звук имеет нечто общее с шорохом, какой издает истлевшая от старости бумага, — разотрешь ее в пальцах, и она рассыпается на мелкие кусочки.
Наконец солнце заходит. Комната остывает, воцаряется тьма, и становится тихо. Теперь можно рассмотреть их получше. С тыльной стороны сложенные крылья своей фактурой напоминают хрупкий минерал. Темная синь пронизана черными жилками, кое-где видны золотые крупинки — подобные находят в кусочках угля. Такое соединение минерала и света вызывает ощущение нереальности их смерти; ведь не может так внезапно перестать существовать то, чего время, собственно говоря, не касается.
Но кроме этих в целости сохранившихся бабочек — сложенные пополам, они тихо лежат на боку — в темных закутках можно обнаружить десятки отдельных оторванных крыльев. Может быть, это самоубийство или некая разновидность крайнего самопожертвования.
Званый прием
Когда в ночи веет ветер, темнота шевелится, а звуки обретают форму. Их не видно, но они попадают в ухо, словно материальные предметы. Череп внутри должен быть огромным, как целая околица, чтобы вместить все это.
Он уже собрался выбросить сигарету и вернуться домой, как вдруг что-то услышал. Воздух, словно черный гигантский бумажный змей, пронесся над кронами деревьев. Ветки разодрали тугую оболочку, и из-под нее, откуда-то со стороны узкого ущелья или вершины горы, припорхнули рассыпавшиеся отголоски эха. Словно бы оттуда, из-под небес, из середины мрака сбегала вниз орава расшалившихся ребятишек: ауканье, восклицания, боевые индейские кличи. Полотнище ветра заколыхалось, растянулось и внезапно начало свертываться, как натянутая штора. Он остался в полной пустоте. Воздух погнал туда, наверх, и добрался до вершины горы. Он понял это по грохотанию старой буковой посадки. Порыв ветра перекатил через хребет, и в минутном затишье он услышал высокий истеричный женский смех, который, достигая самой высокой ноты, переходил в рыдание. Потом к этому голосу присоединились другие, похожие, и лишь очередной удар холодной массы воздуха помчал украденное эхо в глубину ночи. Он щелчком отбросил окурок. Красная искорка мгновенно исчезла. Неизвестно, упала ли она в снег, или же порыв унес ее вне поля зрения.
Временами ветер отрывался от земли, перемещаясь над вершинами гор, высоко, далеко, а грохот не утихал ни на секунду, словно бы там, на невидимой границе неба, прорвался водопад, словно бы в очередном потопе воду должен был заменить воздух.
И тогда он услышал это снова. Гораздо ближе. Где-то на середине склона. Точно свора псов, у которых перехватывает дыхание, подумал он. Псы, которым ветер запихивает лай в пасти, и они могут лишь издавать высокое, прерывистое скуление. Псы, которые не могут лаять. А потом он услышал еще один голос и почувствовал, как у него мороз пробежал по коже.
* * *
На следующее утро он пошел к тому месту. Ветер утих. Снег и туман были цвета молочного стекла. Деревья выглядели как тонко выписанный рисунок, на который пролилась вода. Кровь уже потемнела, но когда он отгреб немного снега кончиком ботинка, то обнаружил, что внизу она была светлая и живая. Он огляделся по сторонам. От леса его отделяла обширная пустая плоскость. В конце концов, сейчас день, подумал он, но не мог избавиться от беспокойства. Присмотрелся к следам. Вот здесь животное упало, но еще имело силы, чтобы встать и продолжить бегство. Отпечатки волчьих лап были отчетливыми. На разметанном снегу остались обрывки темно-коричневого меха с серой подпушкой. Дальше его проводили вороны.
Это была лань. Она была похожа на развороченную кучу палок и грязных лохмотьев. Он нашел разбросанные кости с остатками мяса. Волки хватали каждый свой кусок, отходили чуть выше и ели, на безопасном расстоянии друг от друга, образовав широкое полукружие с основным блюдом в центре. Потом спускались вниз, снова отрывали кус и возвращались на свое место. Длилось это, видимо, до утра.
А сейчас здесь царило такое безмолвие, будто уже никогда и ничто не могло случиться. Он подумал о ночном шуме, и ему припомнились все эти званые приемы, когда люди возбужденно разговаривают, перекрикивают друг друга, их руки заняты жестами и приборами, и лишь насмешливый свет зари восстанавливает неподвижность.
Он пошел обратно. Вороны только этого и ждали.
Раки
Рыбы уже были мертвыми. Вода куда-то исчезла. Небо выжгло зеркало, в котором отражалось весь последний месяц. Яркий разреженный огонь добрался до камней. Выглядело это словно дорога из белых костей, что-то наподобие этого. Русло извивалось по рыжему лугу, глубокое, абсурдно изогнутое, его наполняло жужжание мух. Бледно-зеленые и чернильного цвета насекомые имели жесткость металла, подвижность и блеск ртути. Все остальное — воздух, лес на склоне, кружащий вокруг солнца сарыч — было неподвижным.
Мы шли вверх по течению. Потревоженная галька издавала деревянный треск. Короткое эхо вспархивало вверх и тут же затихало. В излучине под обрывом росло более десятка ольховых деревьев. В том месте, где поток прежде скатывался по порогам, царила тишина. У луж был цвет грязного бутылочного стекла. Камиль сказал, что неплохо бы выпить пивка, а я ответил, что лучше подождать до вечера, потому что какой смысл так вот пить и пить.
И тогда мы увидели их. Только глаза. Круглые коричневые бисеринки еще сохраняли блеск. Все остальное тело уже уподобилось минералам. Панцири были покрыты подсыхающей тиной. Они шевелились вяло, даже не пытались убегать. Лишь пятились среди камней, таща за собой клешни. Слышен был тихий хруст. Они шевелились, точно глохнущие механизмы, точно замирающие заводные игрушки. Некоторые уже были неподвижны. Как и река.
Мы вернулись домой. Взяли розовое детское ведерко. По дороге проехал открытый газик. Пожарники были в темных очках и раздетые до пояса. «Патруль», — сказал я. «Да», — ответил Камиль, и мы вошли в облако горячей пыли.
Они не сопротивлялись. Мы брали их в руки. Они шевелили клешнями. В каком-то бесконечно замедленном темпе резали густой зловонный воздух. Мы бросали их в ведерко. Они шуршали, словно горсть мелких камушков. Этот высохший теперь ручей впадал в более широкий, который еще тек. Мы пошли туда. Вода была прохладной и прозрачной. В солнечных пятнах вились маленькие форели. Мы выпускали раков по одному. Мелочь удирала сразу же, а те, что покрупнее, падали медленно, широко расставив конечности, и застывали на дне. Серый цвет пропадал. Они напоминали сейчас те илистые камни, которые, если их окунаешь в воду, вновь обретают живой зеленоватый опенок. На согнутых суставах просвечивала краснота. Они ползли медленно, ошарашенные внезапной прохладой, приостанавливались, снова трогались с места, чтобы наконец исчезнуть в переплетении свисающих с берега корней. Мы отравились за следующими, а потом еще раз. На дороге нам попалась ящерка желтопузик. Плоская и затвердевшая, совершенно сухая. Мы взяли все, что шевелилось. Даже самых маленьких, не больше кузнечика.
А вечером пошли пить пиво. Солнце уже свершило свое и спряталось за гору, оставляя на небе красные лохмотья, похожие на клочки мяса. Пожарники тоже попивали.
Потом и то, другое русло тоже высохло.
Птицы
Зимой этой дорогой никто не ходил.
Январь был солнечный и почти бесснежный. Мы брели в снегу по щиколотку, и тут Василь сказал:
— Ты посмотри, как вьются!
Пока мы подошли, все они упорхнули. Вороны, белозобые грачи, сойки-трещотки и сойки с крыльями, тронутыми голубизной.
И еще какая-то мелочь. Там, откуда они сорвались, мы нашли серну.
Вместо глаз у нее были красные дыры в белом гладком обрамлении кости.
Василь хотел найти какую-нибудь рану, но шкура была разодрана во многих местах. Вокруг валялись кучки бурого меха.
— Может, сдохла, а может, подстрелили, — сказал он, и мы пошли обратно.
Неделю спустя мы вернулись на то место. Еще издали был слышен предупредительный стрекот сорок. Последним вспорхнул ворон. Мы слышали, как маховые перья его крыльев с шипеньем разрезают воздух.
Серна превратилась в сложную белую конструкцию. Ребра прикрывали пустоту и были похожи на балки, на крепление крыши какого-нибудь цеха или ангара. Я подумал о павильонах Международной ярмарки, может, в Осаке, а может, где-нибудь еще. Ни следа мяса, ни следа крови, только клочья шерсти, отогнанные ветром на границу зарослей в паре шагов отсюда. Сухая ость, украшенная коричнево-белым пухом.
— Посмотри, — сказал Василь и пнул снег около скелета. Его ботинок соскользнул по белой скорлупе. Птичьи лапки утоптали свежевыпавший снег, и он стал подобием глиняного пола, белого камня. Даже внутри, под костяным шатром, все было твердое и блестящее. Скелет и снег сплавились в единое целое. В сосновом молодняке неподалеку отсюда вороны и сороки шумно перелетали с ветки на ветку, ожидая, чтобы мы подивились их тяжести.
Аисты
Они появились в начале апреля, когда в стоячих лужах уже копошились лягушки. Сумерки были погожими, клочки облаков убегали на юг. Погода изменилась в ночи.
Утром их собралось около сотни. Под серым зябким дождем они выглядели как остатки снега, практически неотличимые среди хлопьев грязной белизны, залегающей в рвах и под кустами. Они стояли неподвижно, и выдавала их только краснота клювов и лап. На голых веточках замерзала вода. Даже самый мельчайший стебелек был закован в ледяной панцирь. Время от времени какая-нибудь из птиц расправляла крылья. Я не слышал этого, но неловкие взмахи должны были сопровождаться треском. Самые стойкие брели к лужам. Шлепали по льду. Слегка гипотермированные лягушки сидели едва ли не в сантиметре.
К вечеру ничего не изменилось. Ветер нес попеременно волны снега и мелкой измороси.
На следующий день было еще холоднее. Такой ветер зимой всегда несет вьюгу. Многослойное покрывало облаков иногда прорывалось насквозь, на минуту показывалась синева или проблеск солнца, а потом опять наступала темнота.
Самые сильные пробовали лететь — длинный разбег, неестественно быстрый взлет против вара, — но тут же падали. Словно неудавшиеся бумажные голуби. Когда ветер немного стихал, они перемещались на несколько сот метров дальше, чтобы усесться среди точно таких же замерзших лужиц. И хотя ольховые заросли были рядом, ни один из них там не спрятался.
Третьего дня на рассвете ветер прекратился и выглянуло солнце. Я не видел, как они улетали. Остался один. Он был похож на перевернутую игрушку.
Златоокий
Моя мать называла таких «стеклянышами», — сказал Весек и сдул насекомое с ладони.
Летом они попадались нам время от времени. Их отличала редкая для перепончатокрылых красота. Прозрачные крылья имели нежный, но вместе с тем очень живой оттенок зелени. Глаза вовсе не были золотыми, а напоминали, скорее, крупинки меди или зрачки ящерицы. При ярком солнце соединение двух этих цветов производило впечатление необыкновенной чистоты: металл, драгоценный камень и свет. Сияние пронизывало их насквозь, они даже не отбрасывали тени.
Проползая по столу, они гибкими усиками изучали дорогу. Больше всего нравились им рассыпанные кристаллики сахара. Может быть, их привлекала структура, близкая к их собственной.
Осенью они стали подтягиваться к дому. Тогда оказалось, что кроме принадлежности к миру минералов есть в них нечто родственное с растениями. По мере того как убывало солнце, зелень их крыльев начинала блекнуть. В ноябре они уже напоминали, скорее, тончайший рисунок.
Вечерами, когда мы зажигали свечи, эти едва видимые эскизы выпархивали из углов и щелей в деревянных стенах и неслись к огню, чтобы, вспыхнув на прощанье, утратить даже контур.
Ласточки
С началом сентября все переменилось. Совершенно так, как если бы у неба было нутро. Однажды утром синева прорвалась и выпустила ветер, смешанный с ледяным дождем.
Погода была — в самый раз для водки. Дом дрожал от порывов ветра, а стропила скрипели, будто корпус какого-то парусника. Нас раскачивало, и требовались большие усилия, чтобы не уронить ни капли из маленькой, наполненной до краев стопки. Мы пили за холод и за ветер.
Серые нити дождя тянулись с севера и терялись где-то на юге, будто вовсе не касаясь земли. В этом буром вихре исчезли формы и очертания. Лес и реку можно было распознать по нарастающему шуму. Но могло быть и так, что их сорвало с места, и теперь они носились по свету, сплетенные в клубок.
— Будто с цепи спустили, — сказал Весек. Наверное, он подумал о ветре.
На второй день появились ласточки. Они были всегда, поэтому мы не обратили на них внимания. Только вот количество… В два, в три, в десять раз больше обычного. Они тяжело летали над самой землей, будто хотели спастись от ветра, вырваться из него, спрятаться. Некоторые укрывались под навесом крыши, вцепившись лапками в стену. Это было единственное сухое место.
На следующий день утром мы находили их мертвые тела. Они весили всего-то ничего. Мы поняли тогда, сколько сил должен иметь такой вот комочек перьев, чтобы противостоять буре.
Дождь не переставал ни на секунду.
После обеда мы приоткрыли окно. Пять ласточек влетели внутрь. Они уселись на печке под потолком. Мы могли брать их в ладони. Они не пытались улететь. Сердца их отстукивали частую барабанную дробь.
Утро наступило солнечное. Мы выпустили птиц. Собрали мертвые тела, рассеянные вокруг дома. Когда огонь хорошо разгорелся, осторожно засовывали их в печь.
Река
Мы были измотаны. И звери, и люди. Вот уже два месяца стоял зной. Июль и август сплавились в тягучий двойной месяц, а мы бродили в этом бесконечно долгом и разогретом времени, точно мухи в банке с медом. Солнце исчезало за горизонтом, но его жар оставался до зари. Гасила его лишь роса, выпадавшая за час до восхода.
Мы пробовали пить пиво, но оно приносило краткое болезненное оживление, чтобы затем сразу же ввергнуть нас в сонливость.
— Хренов метаболизм, — говорил Весек и мотал головой при виде очередной бутылки.
Мы возвращались домой вдоль реки, которая с каждым днем все больше напоминала мощенную белыми камнями дорогу. В зарослях не было слышно птиц. Полинявшие овсянки взбивали облачка пыли на тропинке. Деревья вдалеке, утесы и большой каменный крест на холме обретали сверхнатуральную отчетливость. Благодаря прозрачности воздуха мир увеличивался в размерах, но зрение наше, заточенное об острые края предметов, казалось, полностью над ним господствовало. И еще насекомые. Несмотря на безветренную погоду, воздух непрерывно дрожал. Зеленые и голубые стрекозы, осы, шершни и шмели были причиной того, что неподвижный пейзаж пронизывала неуловимая, терзающая вибрация.
В посерелой траве мы находили вялых лягушек. Их золотые зрачки мутнели, а кожа становилась матовой. Вскоре мы стали натыкаться на их трупики. Вспученные и сухие, они издавали такой звук, словно это были коробочки из тонкого и твердого картона.
В какой-то из дней — было чуть за полдень, мы как раз возвращались после нашего пива — оказалось, что река исчезла.
— Посмотри, — сказал Весек, и мы тут же свернули с тропинки.
Русло выглядело белым шрамом. Меж раскаленных камней вились мухи. Мы почуяли вонь гниющей рыбы — последние из уцелевших извивались в грязных лужицах. Небо было как твердый голубой фарфор.
Ничто не прикрывало жестокости этой минуты.
Дождь
В пять утра снова начинается дождь. Первые капли ударяют о камни с мягким звуком лопающихся шариков. Пламя зари еще сияет над черным краем горы, и ливень наполнен серебряным светом. Но это продолжается лишь минуту. Пелена туч скользит беззвучно, снизу виден ее мохнатый край. И опять все, как обычно. Вот уже неделю мы пребываем в этом странном мире, где свет словно лишился сил. Он крадется по углам, пытается оторвать предметы от поверхностей, но предметы будто намагничены. Они поглотили не только сияние света. Они и сами постепенно исчезают, уменьшатся, проваливаются в себя. В середине дня нужно зажигать лампу, чтобы их найти.
Мы смотрели, как серый гребень дождя расчесывает заросли. Высокие травы ложатся набок, а вода просачивается между стеблями в пористый грунт, журчит в туннелях, прорытых насекомыми и мышами, находит дорогу к подземным озерам, которые увеличиваются с каждым днем, поднимаются — и на плоскостях лугов начинают блестеть темные зеркала. Но в них ничто не отражается. Из воздуха исчезли все крупицы света. Пейзаж хотя и пребывал на своем месте, но краски сблизились, и весь мир умещался между черным и мрачно-зеленым.
Мы тоже постепенно исчезали. Не помогали ни сигареты, ни кофе — одна чашка за другой. Кровь наша была разжижена. Она текла все медленнее. В какой-то из дней я поранил палец, и из него стала сочиться прозрачная жидкость, похожая на сок растения. Ведь человек состоит главным образом из воды, и двух недель дождя хватает, чтобы тело его превратилось в то, чем было изначально. Водяная пыль, туман и изморось проходили сквозь кожу и оставались внутри. Даже водка, обычно горячая и быстрая, сейчас догорала в жилах с грустным шипением: стопка как отсыревшая спичка, и только.
Во время коротких прояснении на заре или за минуту до заката свет приобретал болезненную интенсивность. Он тогда стремительно увеличивался в объеме и искал выхода. Слышно было шум и свист, а надорванные края туч оранжево раскалялись. Но это длилось лишь минуту, и снова сгущалась шелестящая дождистая тьма.
Однажды приехал почтальон в резиновом плаще. Конверты были похожи на мокрые носовые платки. «Все пропитывается, — сказал он. — Приходит уже размякшим». Ничего нельзя было прочесть. Слова расплылись, наверное, еще до того, как были написаны. Тогда мы окончательно потеряли надежду.
Конец сентября
За калиткой — поворот направо. Деревенская улочка узка и бежит берегом ручья. После дождей вода имеет цвет матового, подбитого тиной изумруда. Дома по большей части довоенные и деревянные. Со стеклянными верандами. Если кто-нибудь хлопнет дверью, маленькие квадратные стеклышки звенят, как у старого буфета. К домам, лежащим на другом берегу, ведут спрятанные в зарослях мостики. В просветах между высокими деревьями можно увидеть горы. Их отдаленное и в общем-то декоративное присутствие заставляет улочку приобретать чуть сказочный или курортный вид. В самом ее конце — детский сад. Поэтому встретить тут можно главным образом детей и черно-белого пятнистого пса. В солнечные дни здесь господствует тень, смешанная с дрожащим зеленоватым сиянием, в котором золотой свет растворяется, словно в воде, и тогда воздух становится видимым. Граница между атмосферой, предметами и людьми сглаживается. Этакая невинная попытка доказательства первоначального единства всего сущего.
Но к концу сентября все меняется. Достаточно выйти из дома, пройти двадцать шагов, и вместо сельского уголка, вместо шпалеры старинных деревьев — пожар, столбы огня и пылающие кусты. Пламя выныривает из глубины земли и сквозь толстые стволы яворов, лип и конских каштанов бьет в небо раскаленными огненными султанами. Когда дует ветер, воздух полон тлеющих лоскутьев. Даже темные, напоминающие полированный уголь ягоды черной бузины выглядят так, будто они светятся, будто прячут во влажном своем нутре частички жара. Листья кружат, с шипением падают в воду и там обращаются в пепел. После первых заморозков дикий виноград краснеет и стекает со стен домов, словно густая кровь.
И в восемь утра во вторник отовсюду выползает искушение. Сигарета имеет тот же вкус, что обычно, дети перекатываются, как разноцветные шарики, бренчат бидоны с молоком, ничто не изменилось, но все свидетельствует о том, что душа является фикцией сознания, которое с ее помощью пытается стать равным видимому миру. Однако ничего не выходит, потому что даже мысль теряется в раскаленной ауре утра. Небо — голубое, далекое и холодное. По ржавым прутьям заборов с треском проскакивают искры. Желтые взрывы, пурпур, косые проблески, расплавленные и разлившиеся в воздухе, словно золотой воск, магма и горячка, страх и трепет, слава и хвала материи, красный язык которой вылизывает действительность до костей.
Мороз
Ночью температура упала до минус тридцати. Круглая луна висела под темно-синим сводом, и все напоминало сон, в котором видны едва лишь контуры событий, вводящих в искушение. Мы знаем, что это опасно, но не хотим пробуждаться.
Воздух был неподвижен и натянут до предела, и никакой звук не мог в нем укрыться. То, что обычно затихало через минуту, сейчас длилось до бесконечности, потому что такой мороз замораживает даже время, сплавляя его в единое целое с воздухом и светом. Эта новая материя имела звучность металла.
Мы шли старой трелевочной дорогой, наезженной санями для перевозки древесины. Даже самые крошечные предметы и формы отбрасывали тень. Льдинка, след полоза, отпечаток зимней подковы, сломанная веточка — у всего этого имелся свой черный двойник. Кора буков отливала стеклянным блеском. Белое, серебряное и черное соединялись в изысканные сочетания, которые ставили реальность под сомнение. А если и не реальность, то, во всяком случае, цель и смысл восприятия. Дыханием смерти веяло от этого пейзажа. Реки промерзли до самого дна, птицы гибли на лету, в лесу раздавался треск лопающихся деревьев. Это был лютый звук, потому что тишина продолжала его в бесконечность. Мертвые, жесткие хлопки длились в пространстве, словно в вечности, длились, словно совершенная модель беспросветной печали.
Потом дорога закончилась, и мы по едва протоптанному следу вышли на голый перевал.
Внизу лежала земля. Опрокинутая навзничь, распростертая и отданная леденящему свету. Невидимая неподвижность сочилась с небес и заполняла все укромные уголки, дупла, ямки под корнями, расщелины в скальных обрывах над Завоей, внутренности деревьев, тела зверей, человечью плоть, пористую структуру камней, стены, дома, стебли сухих трав, снопы, запасы еды, собачьи конуры, кошачьи чердаки, мысли, сны и страхи перед засыпанием; все вдруг теряло свою изменчивую природу, стремилось к неизменности, к воплощению грез, туда, где альфа сплетается с омегой, а сущность пронизывает существование, как сладостная дрожь — ступни и ладони пьяного на морозе.
Снег люциферически искрился. Соблазн всегда облекает себя в одежды эстетики. Звезды мерцали сверкающими иголочками. Вещи беспредельные, равнодушные и прекрасные зовут нас к самому своему краю и, быть может, наблюдают, как мы колеблемся над пропастью, одинаково одолеваемые желанием и страхом. Ртутный свет луны стыл и дрожал в долине у наших ног. Выразительность темного пейзажа преодолевала его реальность. Мы слышали собак. Гавканье доносилось с юга, но никакой деревни там не было, так что этот лай, очевидно, блуждал среди замерзших просторов воздуха, словно обратившаяся в звук фата-моргана. Возможно, застывшее пространство сохранило эти отголоски с прошлой зимы, и наша вялая беседа полушепотом тоже должна быть сохранена, и нас услышат люди через год или через сто лет. Наконец усилием воли мы заставили себя двинуться дальше. Было что-то трусливое в этой нашей суетливости. Мы пытались ускользнуть черным ходом. Вроде каких-то усердных земляных созданий, занятых сохранением крупицы тепла в теле, в то время как весь остальной мир просто существовал и великодушно расточал себя.
Дождь в декабре
В понедельник начал идти дождь. Уже несколько дней продолжалась оттепель. Мы возвращались домой. Дарек чертыхался, крутил баранку, а машина буксовала на мокром льду. Мы пробовали ехать по обочине, там хотя бы выступали камни. Дорога была пустая и прямая, полого поднимаясь в гору на протяжении семи или восьми километров. Дома и с той и с другой стороны выглядели заброшенными. Стекла отражали черноту, хотя небо было цвета грязной воды. Сверху приближался мотоцикл. Мужчина скользил по глади с широко расставленными ногами. Он напоминал застывшего наездника, конь которого вдруг съежился до размеров двухколесной тарахтелки.
Мы ползли выше. Деревня осталась внизу. Дождь пытался смыть ее с карты. За километр до горного перевала Дарек сказал: «Холера, капает и замерзает». Дворники скребли о лобовое стекло, словно хотели пробраться внутрь.
А потом начался этот лес: странный, прозрачный, точно из сна. Молодые ольховые деревья клонились над дорогой. Верхушки их крон бились о крышу автомобиля. Кусты бузины, ивы, лещины стелились, словно пучки серебряных водорослей, застывших в подводном волнении. Все покрывал лед. Каждая ветка, малейший стебелек были в прозрачной сорочке. Когда-то очень давно продавали такие разноцветные конфеты в длинных стеклянных трубочках с затычкой. Что-то в этом роде: стеклянные трубочки, а в каждой — растительный побег, усик, даже сосновые иглы тщательно были одеты, каждая по отдельности. Заледенелый куст терновника был похож на живое, из плоти, существо, захваченное врасплох рентгеновской вспышкой.
Мы остановились. Мы никогда не видели ничего подобного. Снег покрывала твердая кожура. Капли дождя падали с чуть слышным звуком. В неподвижном воздухе деревья гнулись во все стороны. Верхушки больших елей на перевале склонялись в клоунском танце. Это было так, словно здесь дул сильный ветер, а потом вдруг остановился. Остановился, но дуть не перестал. Застыл. Я подумал, что перья птиц, если вообще в этот день были какие-нибудь птицы, должны хрустеть в полете, потому как их покрывает промерзший панцирь.
Мы поехали дальше. Серо-зеленые стволы молодых ясеней имели стеклянистый блеск вещей, сделанных человеческими руками.
Дождь шел всю ночь. Мир должен был превратиться в сосульку. Напоминать стеклянный шар, внутри которого стоит маленький домик и снеговик, а с голубого неба падают маленькие хлопья. И только гудение в темноте никак не вязалось с этим образом.
Ночь
Он выглядит так, словно еще минуту назад раскачивался, и лишь взгляд привел его в неподвижность. Острие, или стружка от серебряного диска, висит над горбом Убоча, словно половинка изогнутых ножниц над бараньим хребтом или крючок перед пастью большой рыбы. Первая ночь первой четверги октября, когда месяцу остается пробыть на небе не более часа. А потом его поглощает земля где-то в районе Грибова, и человек остается один в темноте.
Не видно ни собственной ладони, ни других людей, не видно предметов, в которые обычно облекается существование, не видно даже того, как воздух проходит сквозь пальцы. Чтобы поверить в собственную жизнь, нужно потрогать себя или обратиться к своей памяти. Без мира, без разнообразия форм вокруг человек есть только зеркало, в котором ничто не отражается. Днем этого не видно, потому что свет легче и реже воздуха. Он проникает в каждую щель, он метит все, что имеет форму, — осязаемое, видимое, а порой и невидимое. Сейчас совсем иначе. Первичная субстанция темноты проникает в вены и циркулирует по ним, словно кровь.
Где-то лает собака. Люди в своих домах с помощью телевизоров и ламп продлевают день. Они хотят видеть свою жизнь, свои вещи, все, что было накоплено в четырех стенах от Сотворения мира, с тех времен, как был разожжен первый огонь. А ночь все надвигается. Сверху, с большой высоты города и деревни похожи на тлеющие костры.
В начале была тьма, и сейчас, в шесть сорок вечера 1996 года, господствует древнейшее время. В моем кармане сигареты «Мальборо» и другие вещи, какие носят с собой люди под конец двадцатого века, однако если бы не фанаберия памяти, я был бы лишь куском едва одушевленной материи, погруженным в доисторический мрак. Не исключено, что тело есть теплая плотная разновидность темноты, и ночь в такие минуты, как эта, претендует на него, как на свою собственность. Чернота длится до бесконечности. Больше ничего в голову не приходит. Так должна чувствовать себя капля, когда она растворяется в воде.
Остатки света над Убочем беззвучно гаснут, и гора пропадает в темно-синей глубине. Гмина Ропа заставляет представить какую-нибудь легенду о затопленном мире, в котором люди, чтобы что-нибудь увидеть, должны излучать собственный свет.
Темнота и время — легкие, невидимые субстанции, обнажающие человеческую хрупкость. Сознание лишь огонек спички на ветру. Душа из страха перед мраком вжимается в тело, а оно, чтобы удостовериться в своем существовании, касается собственной кожи. В общем, под конец остается примитивнейшее из пяти чувств, благодаря которому червь передвигается в земле, а мы можем отделять живое от мертвого, и не более того.
За порогом
Достаточно выйти за порог. Сквозь приоткрытые двери из дома выплывает теплый воздух, запах сигарет, еды, и спокойный аромат последних часов подхватывается ветром, прилетевшим с юга. Вот так жизнь перемешивается с остальным миром, и круг замыкается. Примерно то же происходит и с иными людьми. Летучие растворы их присутствия просачиваются сквозь щелистые окна, сквозь старые стены, сквозь труху брусьев и соединяются с первичным царством элементов. Оксиген, натрий, гидроген, нитроген, феррум… Сначала — спертый воздух изб, потом холодные порывы вара за околицей, потом воздушные массы над Убочем, стратосфера и созвездия, и так до головокружения, когда я глубоко вдыхаю все это в легкие через пару минут после полуночи, — а все уже спят, и им по фигу, что сейчас они циркулируют меж твердым, жидким и газообразным состоянием.
В общем, я выхожу за порог, полнолуние, и видно далеко-далеко, до самого Хелма, хребет которого напоминает зверя, бегущего ровной рысцой, и я знаю, что ничего сверхисключительного не циркулирует по моим венам и не отлагается в моих костях. Феррум, кальций… То же, что в черных скелетах оград, в черепах разрушенных домов на пустыре, в реке подо льдом, в самом льду, изрезанном коньками детворы, с которой обстоит абсолютно так же. И как ни крути, каких умственных сальто ни выделывай, все возвращается к своему изначальному образу, а он переменчив, он выворачивает формы наизнанку и тянет сознание за волосы, чтобы оно отражало все это, словно зеркало.
В общем, я возвращаюсь обратно, закрываю дверь и сажусь за стол, но через четверть часа сомнения выгоняют меня, и я опять выхожу, чтобы проверить, действительно ли все именно так.
Созвездия кружат и порошат свет на избы. Островерхие крыши рассекают сияние пополам, и оно, стекая вниз, впитывается в землю, словно дождь. И ничего больше нет в этом пейзаже, кроме него самого, а я пробую найти доказательство своей отдельности, однако посреди ночи, когда все спят, это невозможно. Тогда я в очередной раз ступаю, чтобы с помощью кофе и сигареты — этих несомненных признаков принадлежности к человеческому роду — как-то прийти в себя. И уже через две минуты замираю на стуле венцом творения с пепельницей в руке.
* * *
Но первоэлементы и созвездия, словно войдя в сговор, искушали, терлись о стекла и просторы над гминой и хотели выманить меня, лишив спасения, потому что не красота земли Горлицкой была сутью этой игры, но существование души как субстанции не субстанциальной и не умещенной в периодической системе элементов. Суть была в том, выведу ли я бытие из небытия или же уравняю небытие с бытием, и космос поглотит логос, как гусь проглатывает галушку.
Так я и не вышел в третий раз, потому что обуял меня страх. Проще говоря, я сдрейфил. Но как иначе дистиллировать невидимое из видимого, если не посредством рискованного эксперимента с интегральностью — пардон — собственной когерентности?
Небо
Когда все минет, останется еще небо, которое сейчас распростерто над городком Дукля, над деревней Лосье, над южной Польшей и над всем миром. Не будет уже никого, но это отражение человеческой души, ума и личности будет длиться во времени, постепенно становящемся вечностью, пока наконец оно само не исчезнет, как и все остальное. В любом случае, одно утешение можно считать надежным: изображение, брат-близнец нашего сознания, переживет нас.
В некоторые дни метеорологическая метафора тяготеет к реалистическому копированию. Набухшая материя облаков напоминает тогда изборожденный складками мозг. Безветренная, теплая и влажная погода укладывает водяной пар в регулярные извилины и насыщает его серо-лиловым светом тоски. Мы тогда ходим из угла в угол, слоняемся по дому, мысль выходит из головы, но встречается лишь сама с собой.
Или когда дует ветер с востока и несет воздушные массы из Украины, Сибири и Аляски, гонит их вокруг света, а облака рвутся, лопаются, снова срастаются, и ни одна форма не длится дольше минуты, ни одна не повторяет другую, как не бывает и двух одинаковых волн в море или двух одинаковых снежинок, но огромность этого хаоса имеет вселенский масштаб, а то, что происходит над Токарней, Бердом и Убочем, — это лишь малая частичка шарообразной земной атмосферы, но и этой малости достаточно, чтобы понять, что безумство, изменчивость и бесконечность форм приобретают в конце концов вид космического однообразия, и это напоминает человеческое сознание, независимость и живость которого сменяются оцепенением и ужасом в миг, когда оно постигнет, что все, что было, — не более чем игра и погоня за собственным хвостом. Бывший госхоз Мощанец слева от нас жил своей нереальной жизнью, а мы продолжали ехать на остатках бензина. Заправка предполагалась только в Команче.
Или когда заходит солнце и кромки облаков напоминают раны. Шоссе из Тулавы взбирается по хребту Слонной, и весь юг пылает, словно аллегория жестокости. Кровь светла, она сияет собственным светом. Зрелище приводит на ум все то, чего мы жаждем и чего боимся, ведь золото — это всегда свет, а красное — всегда кровь и огонь, то есть самые заманчивые формы смерти. Разумеется, съезжая к Залужу, мы движемся на границе хорошего вкуса. Но невозможно избежать чего-то чудовищного, когда все чувства открыты бесконечности. Время — это только идея, пространство, увы, напоминает факт. Да к тому же не имеющий границ. Потому-то оно приводит в дрожь воображение, которое, хоть и считает себя неограниченным, не существует в реальности. К счастью, сразу потом будет Санок.
Или высокие ясные полудни. Синева напоминает тогда крашеное стекло. Со дна Чехани поднимается горячий воздух, между Чумаком и Чертежем не увидишь живой души. Лишь на старой серой дороге греются гадюки. Но они, как известно, состоят только из тела. Если как раз тут пролегает атмосферный фронт, в лазурной бездне появляются длинные белые облака. Они похожи на кости, на рассыпавшийся и размытый в очертаниях позвоночный столб. Потому что так будет в самом конце. Исчезнут даже облака, останется только голубая безбрежная зеница, взирающая на останки.
Примечания
1
Пететек — от аббревиатуры РТТК (польск.). Польское туристско-краеведческое общество, сеть общежитий по всей Польше. (Здесь и далее прим. пер. — Т.И.)
(обратно)2
Кальварийская мебель — особый стиль мебельного дизайна, возникший в городке Кальвария Зебжидовска на юге Польши (который с XVIII века является центром по производству мебели).
(обратно)3
Ежи Мнишек (?—1613) — польский воевода, поддерживавший Дмитрия I Самозванца, отец Марины Мнишек.
(обратно)4
Клод Лоррен (1600–1682) — французский живописец и график
(обратно)5
Рауль Дюфи (1877–1953) — французский живописец и график.
(обратно)6
Станислав Щенсны Потоцкий (1752–1805) — генерал, один из организаторов заговора магнатов (Тарговицкая Конфедерация), приведшего к разделу Польши.
(обратно)7
Януш Лясковский — автор популярных в 70-е годы шлягеров, таких, например, как «Это ярмарки краски», хорошо известный в исполнении Марыли Родович русским любителям эстрады.
(обратно)8
«Граничная» и «Гумись» — питейные заведения в городе Дукля. Гумись — персонаж мультфильмов Уолта Диснея, в русском варианте известен как Мишка-Гамми.
(обратно)9
Использован текст старинного документа из книги Э. Свейковского «Studia do historii sztuki i kultury wieku XVIII w Polsce, tom I, monografia Dukli» Krakow, 1903 («Изыскания по истории искусства и культуры XVIII века в Польше, том 1, монография Дукли»).
(обратно)10
Имеется в виду скульптура итальянского архитектора и скульптора Лоренцо Бернини (1598–1680) «Экстаз Святой Терезы».
(обратно)11
Мендель (польск.) — единица счета, пятнадцать.
(обратно)12
«Желтый осенний лист» — песня Лясковского.
(обратно)13
Эдвард Герек — в семидесятые годы XX века 1-й Секретарь ЦК ПОРП.
(обратно)14
Базар Ружицкого — популярная варшавская толкучка на площади Ружицкого, возникшая после Второй мировой войны. В социалистические времена считалась «территорией свободы» — там можно было купить дешевые подделки западной модной одежды.
(обратно)15
«Радио Мария» — ультранационалистическая католическая радиостанция Польши.
(обратно)16
Чарльз Мэнсон, убийца и безумец, классическая фигура поп-культуры.
(обратно)17
Гурали — польские горцы, Подхале — местность на юге Польши.
(обратно)18
Хель — песчаная коса на балтийском побережье Польши, у ее северной границы.
(обратно)19
Ultima Thule (лат.‚ греч.) — Далекая Фула, полумифическая северная страна, считавшаяся краем света.
(обратно)20
omfalos universum (лат.‚ греч.) — центр вселенной, пуп земли.
(обратно)21
Бубрка — село, известное своим музеем под открытым небом. В середине XIX века стало местом рождения нефтяной промышленности.
(обратно)22
Анджей Невядомский — современный польский писатель.
(обратно)23
Бещадское — самое дешевое вино, медведь — символ Бещад.
(обратно)24
Рабочие песчаного карьера с Вислы — здесь обыгрываются два названия: «Рабочие песчаного карьера» — картина польского художника-импрессиониста XIX века А. Герымского и «Гондольеры с Вислы» — популярная в 50-60-е годы песня Ирены Сантор.
(обратно)25
«Люблины» и «стары» — польские автомобильные марки.
(обратно)26
«Шварц-мыдло-повидло» — прижившееся в обиходной речи название маленьких пунктов продажи дешевых хозяйственных товаров. В частности, крема для обуви, мыла и т. д.
(обратно)27
З. Х. — Зыгмунт Хаупт (1907–1975), польский писатель-эмигрант XX века.
(обратно)28
Харцерство — польская разновидность движения бойскаутов.
(обратно)29
Позитивизм — философское направление, возникшее в XIX веке, согласно которому предметом научного познания могут быть только факты, опыт.
(обратно)30
«Прощай, Памела» — популярная эстрадная песня 60—70-х годов.
(обратно)31
Богоматерь Зельная и Севная (Злачная и Сеятельная) — польские католические праздники. Праздник Богоматери Зельной совпадает с Успением Пресвятой Богородицы (15 августа по старому стилю). Праздник Богоматери Сенной — с Рождеством Пресвятой Богородицы (8 сентября).
(обратно)32
Caro salutis est cardo (лат.) — Основа всего — здоровое тело, фраза из «De resurrectione camis» 8,2 христианского богослова Квинта Септимия Тертуллиана (160–230)
(обратно)

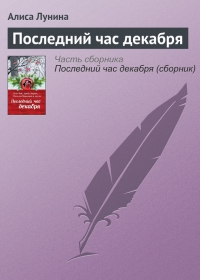
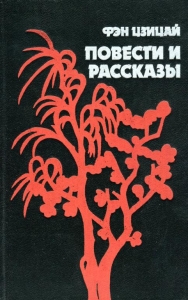








Комментарии к книге «Дукля», Анджей Стасюк
Всего 0 комментариев