памяти Виталия Полякова
Dominus inferus vobiscum!
С каждым днем непоправимо меняется мясо. Наглотался снотворного — на хуй такую жизнь. Откачали: санитар заветной скобой раздвинул зубы, теплый брат проткнул желудок шлангом. Невозможно резину в рот, только когда любовь, и то легче спьяну. Привезли на скромный курорт, подальше от суконных мыслей. Нет ничего лучше воды: смывает, утешает. Сидим на берегу в полумасках, слушаем прохожих. Все приехали лечиться, смертельно больны, но надеются. У простых людей мечты: хотят накопить, построить, обставить. Мы же знаем, что непредсказуемое разбухнет, взорвется, проглотит всех. Тем не менее, рад, что откачали. Теперь сдержанный немецкий свет, неназойливые облака. Мальчик ходит в перчатках: тантрическая экзема. Дружил с гвардейцем, полиция написала: несчастный случай. Не так чистил ружье. Всё бы ничего, но руки покрылись злорадной сыпью, стыдно до дрожи. Виноваты экзамены, думает врач. Их заставляют зубрить, глаза портятся от экрана. Покидаем приют, мчимся на север. В машине много лишних деталей, на поворотах дребезжит частица, засевшая в селезенке мотора. Это было памятное колечко картье, сползло с отрубленного пальца. На обочине — замок hermitage, здесь раз в семь лет робин-красная-шапка встречается с уильямом де сулисом. Подрочить водителю, тот корчится, но рулит. Благородный прибор заляпан белым. Стрелка бьется, негодуя. Двести двадцать. Надо найти пристанище, но кругом мелкий лесок, поля и поляны. Ни постоялых дворов, ни хлебосольных усадеб. Туман, будто пастухи курят, ерзая в мокрой траве.
На 129-м километре автобана карлсруе-нюрнберг останавливаемся, двигатель взорвался. Гиблое место, посевы, канавы. Никого нет, шипящие лампы освещают неизвестно что. Придорожный сортир, сонные грузовики. Водилы сползлись к точке шальных отсосов, теперь дрожат в тесных кабинах. На раме писсуара фломастером: «Каждый вечер в девять». Автор неподалеку, прячется в будке, поджидает гостей. Экскурсия по швейцарскому горлу. Красные закоулки, здесь переночевала ангина. Или натер неуемной любовью. Невзрачный вельветовый пиджак. Вольво с женевской планкой укрыто тенью. Стоило так далеко забираться ради простого спазма. Дорога в восточные земли: шелк и тюль из базеля плывут к освобожденным богемцам, разбитые кадиллаки тянутся в данциг, козий сыр скрашивает утро туманное в ульме. Приходится беречь себя: тело, как мензурка, полная забот. Происходят процессы. В машине — бинт со следами гноя. Дядя, убери щипцы. Подстерегает путников, словно кровожадная рысь. Просит телефонную карту, закурить, не подбросите ли до развилки. Отчего же нет, располагайтесь. Но не садится, самое важное здесь. Позвольте показать вам мои пенаты. Кабинка обжита: за шатким кафелем тайник. Коммивояжер, образцы ненужных товаров. Фабрика черной резины, драгоценная копоть аушвица. Зубами ловит язычок молнии, проворно тянет вниз. Наше богатство. Проснулся в восемь, сонной рукой смахнул будильник: надо было еще вчера. Пистолет без патронов завернут в тряпицу, спит в кофре. Клиента нет, в ванной лужица, скомканное полотенце на халтурной плитке, трещины, разрывы. Порочная харчевня, zimmer frei. На завтрак — мед в пожилой розетке, неизбежная оса влипла в историю. Всё о напильниках, как они ликвидируют мертвую кожу. Мы ведь нацисты, правда, правда. Темнеет быстро, омерзительный снег припудрил жирные рытвины. Приходится раскладывать хворост прямо тут, намек на пентаграмму, но и так сойдет. Сверху должны заметить. Врачебная ошибка: болезнь заползла так глубоко, что в спешке ее упустили из вида. Опухоль, как способ существования. Там всё разделено пробковыми стенами, эхолот не достает. Поливаем последним бензином, бак пуст. Сердце говорит: бум-бум. Мальчик-свеча и его шведские спички. Котам нужна живая мышь, их мертвою не соблазнишь. Косые поля, потом первая башня.
1
Идея истолковать кодекс гибели рождается из сущего пустяка. Собственно, она появляется сама собой, и я не могу вспомнить, кто начинает разговор: маленький женя, сережа, павел сергеевич, роберт или даже илья. Первый вечер мы посвящаем сперме. Все мы знаем вкус, говорит павел сергеевич, этого винограда превосходства, когда, умудренные и великодушные, покупаем доверчивых и жадных. И вот они понимают, что можно жить среди бархата и зеркал, плескаться в зеленой воде, облизывать финики — разве не пленительно снимать пелену косности с хитрых крестьянских глаз? Если встретишь на дороге слепца, быть беде, но если двух горбунов сразу, молись, ибо тебя поджидают все несчастья мира. В полдень, когда бесчинствуют духи воды и полей, ты можешь, советует кодекс гибели, заменить тяжелую борону на позлащенный наперсток. Засунь его в зубчатое колесо миросцепления, останови враждебный механизм. Хитрое искусство превращений, его рычаги, булавки и втулки. Мы часто рассказываем свинопасам про вампиров, чтобы косвенно познакомить их с нашей страстью, вспоминает роберт. Ведь всё, что мы называем кровью, можно перетолковать и иначе, как потустороннюю жизнь нежности, утонувшей в самой бесследной из секреций. Да, мы приучаем свинопасов к нам, кровопийцам, невидно поселившимся в ветвях библиотек и подушек. Откуда этот шелк, откуда хвойные ванны? — спрашивают парни и стыдливо разгораются, заподозрив, но не смея произнести очевидный ответ. Как получить всё это, не размахивая мотыгой? Вот мы прокрались в тот же ресторан, но кто из нас смеет так же подозвать лакея, так же вытащить платок, так же легко произнести по-французски то, что начертано багровыми буквами в кожаной книге? Как подойти к холодным соседям, как поделиться с ними корпускулами, не потеряв совести и чести? Как воссоединиться с манящим жадным хором? Что делать, если они берутся стричь наши непослушные ногти своими легковесными ножницами? Как уберечься от судьбы? Молчат заговорщики, не дают ответа. Этого ли мы хотели, этого ли желали? — ворочаясь в неуклюжих вигвамах, шепчут юные свинопасы, гладят застрявшие в ранах косные крючки, испещренные бесстыжими зазубринами. Да, эта сталь поражает молодые сердца, но как от нее отказаться? Как скрыться от грозы, если это и вправду вода, а не ошибка неострого взгляда? Шафран, бузина, лакрица. Заморозки в саду, окоченели корни. Именно так, говорит сережа, можно начать наш сюжет «принц и нищий». Нищий, красивый и наглый, говорит хитроумному принцу: а откуда у тебя деньги, если ты ничего не делаешь? — Да вот, коплю себе на гроб, отвечает умница, красивый, дорогой гроб из задохнувшейся сосны, из кронштадтского мрамора, чтобы не добрались черви, а труп застыл, как стела откровения. Хоронят, но тут же ночью пьяные могильщики раскапывают, вытягивают дорогостоящее, а покойника нехотя забрасывают песком. Все равно ему этот гроб не нужен. А я из-под земли: нужен, еще как нужен! Таким образом, сперма, утверждает сережа, это антоним смерти. Сперма — это почти пуля, говорит маленький женя. Статуи падают, шуршит земля, по склону сползают камни. Мы посылаем ее друг другу как заказную бандероль, полагает павел сергеевич. Вот преимущества энохийского алфавита. Olpaged, Ziracah, Hononol, Zarnaah, немногочисленные стороны света. Пожар, смердит пожаром. Собственно, кодекс предлагает четыре вопроса: Как пройти к восточной башне воздуха? Как пройти к северной башне земли? Как пройти к западной башне воды? Как пройти к южной башне огня? Помню, был двадцать третий год a. s., на дне рождения у германа появился малолетка, и весь разговор крутился вокруг него опасным смерчем. Размышления: а что, если по прошествии он даст именно мне? Юркая мысль согревала собравшихся, как редкая собачка, заживляющая раны. А дел-то было всего: плеснуть в него спермы, уточняет сережа. Но ведь не просто в кого-то там, спорит павел сергеевич, а в юное тело, которое само по себе способно благоухать дорогим мылом. Волшебное мыло молодости. Такое делали в освенциме из передовых евреев, и сейчас его порой продают из-под полы на польских базарах. Но мы утверждаем, что мальчик был русский, и это ценно вдвойне. С русскими неизбежны многочисленные сложности. Народ пошлый, недалекий, погрязший в крючкотворстве. И если бы возлюбленный гитлер не сделал ошибки, вопрос, очевидно, не стоял бы именно так: побывать ли нашей умирающей сперме в теле хорошего русского мальчика, похожего на собачку, заживляющую раны, или орхидею, вспорхнувшую в клетке. В таком возрасте, как гитлер во время неправильной истории с ремом, неизбежны недочеты, добавляет маленький женя. Двадцать восьмое июня, день, когда разрываются жилы, мясо отделяется от костей, вскипает вино, валятся статуи. И нам ли не знать, что в про__щальном бункере гитлер признал свою главную ошибку, сказал, что рем был его лучшим и самым верным другом. Можно ли назвать фюрера вероломным? — спрашивает сережа. После этого признания, сделанного уже для вечности, никак нельзя. Во всяком случае, каждый, кто был тогда на дне рождения у германа, отвечал на этот вопрос отрицательно. Ибо, глядя на душистого малолетку, нельзя было рассудить по-иному: да, вероломным фюрера не назовешь. Это просто была ошибка, навет, борьба нежных близнецов, один из которых, распалившись, разбивает брату череп игрушечной палкой. Аааааааооооооуууууу русские свиньи, как ненавистны ваши гнусные рыла. Но есть мечты, которым суждено воплотиться — таково, скажем, mapsama, желание поселиться на берегу океана, мечта, которую просто может осуществить каждый. Есть и другие: например, подкрасться к фюреру и образумить его, рассказать, как одиннадцать лет спустя он будет, притаившись в бункере, сожалеть о содеянном с ремом. Отвести руку с длинным ножом от беззащитных немецких юношей, застывших на узких койках в скульптурных объятьях. Мускулистые, безупречные, они кончили друг другу в навсегда открытые раны. Только нам ты можешь доверять, фюрер, вскричали нежные души зарезанных, и голос их не остался неуслышанным, он звенел хором нибелунгов в тяжелом бункере. И, глядя на русского малолетку, все, собравшиеся за столом, внимали этому хору и воображали с ласковым любопытством: вскоре заветный гость напьется сонного зелья, а затем избранник расстегнет оловянные пуговицы в плавном свете ночника за неуклюжей ширмой. И собратья услышат стоны победителя. Так вот о сперме, продолжает илья, возможно ли так прямолинейно сравнивать ее с пулей? Да, разумеется, но не с той пулей, которая просто свистит мимо уха, словно отравленная пчела, а той, что правильно ныряет под кожу, раздвигая покорные ткани. Это и предлагает кодекс гибели: жить в ожидании пули и раскрыться перед нею, подобно рыбе, выброшенной судьбой на удушливую субмарину. Quasb! Ведь нет ничего отвратительнее мест, где вы молитесь, едите и танцуете. Три этих величайших таинства оболганы и унижены обезьяньей вашей, необдуманной природой, как если бы жалкий кусочек глины, случайно выпавший из длани творца, стал бы петь и дышать словно фюрер, нежный малолетка или рем. Только молодость может оправдать русского в его ничтожестве. Так нам бывает люб молочный поросенок с хрупкими косточками, звенящими, словно носовые перегородки. Негр же, скорее, хорош в аду, откуда выбрались водопады, кусты и шумящие ветки. То что предлагает обсудить павел сергеевич, а именно замечание «чем дальше мы от юности, тем неправильней стремимся к ней», верно лишь отчасти, думает сережа. Хотим ли мы своей юности — книжной и робкой, полной цветов и звуков? Нет, мы ищем иного: юности крепких подмышек, обглоданных мазутом пальцев, немытого хуя, тропического белья. Ночь, полная москитов и пота. Как радостно полоскать в цинковом тазу тяжелые семнадцатилетние ноги, привыкшие к безнадежной рогоже. Анакреонт и бафилл, уточняет маленький женя. И самая сердцевина загадочного леса: крепкий крестьянский хуй, вылепленный за сотни лет в конюшнях, на сенокосе и ярмарках. Хуй, покорно изливающий соки на грудь ленивого бездельника. Хуй — игрушка. Хуй — драгоценность. Вот он, надоевший крестьянин, вышвырнут из чертогов. Но теперь всё расколото, как фундук. Немыслимой кажется судьба среди озимых, турнепсов и лапты. Shemhamforash! В неуютном переулке, заблудившись, он думает о золотых кранах, парче, блаженном безделье, бархатных портьерах и щадящем хлысте, которым пользовал его немногословный хозяин в минуты порывов. О, думает он, прижавшись к водосточной трубе, холодной, плещущей дождем, о! — думает он, — о! О! Quasb, русские свиньи, кто из вас не знаком с этой игрой — размышлять о том, как переодеваются принц и нищий. Интереснее, конечно, наблюдать за бедняком, его тело в прорехах позорных лохмотьев, мускулистые ноги; как справедливо сообщает сережа, приятно думать о крупных особях, крупные лучше мелких. Хотя многие, например роберт, напротив, предпочитают тщедушных. Фюрер был мелким, а рем — так рисует его воображение — крупным. Ткнуться на последнем вздохе в молодой крепко выбритый загривок — как неуютно без этого финала всем, кто знает толк. На это указывает в своем сообщении илья. Такой загривок с нежной щетинкой можно предположить даже у русского малолетки, но предпочтительней германец. Неспроста же вельветовый швейцар и его подручные просиживают часами у писсуара на автобане карлсруе-нюрнберг, карауля внука или даже правнука штурмовика, распоротого длинным ножом. Должен ли принц выслеживать нищего, интересуется роберт, или же их встреча случайна, повинуется лишь прихоти брата пердурабо? Сережа считает, что это подобно истории, приключившейся с метерлинком. Известно, что метерлинк, обгрызенный и нетрезвый, приехал в лозанну на постановку своего пустячка и произвел странное впечатление на собравшихся. О! Ввалился он в уютное фойе, о! Что вы сделали с моей маленькой вещицей! Слезы брызнули из его искореженных глаз. Но мы говорим о красоте и совершенстве, перебивает сережу павел сергеевич, пример с драматургом неудачен. Принц — это совершенство в сверкающем сосуде, нищий — совершенство в сосуде бедном и невзрачном и оттого еще более притягательном. Ведь ясно, что выебать бедного и гордого парня куда интереснее, чем богатого бездельника. Падают статуи. Роберт открывает кодекс гибели и находит нужное место. Это подмена понятий, павел сергеевич; богатый бездельник должен иметь бедного гордого парня. И нет здесь места метерлинку с гнилыми глазами. Такова ось, на которой держится мир, ось, которую смазываем мы душистыми маслами, дабы не заржавела, не поникла. Ось, которую самостоятельно оплетают вьюны, ползущие вверх и вверх, чтобы там, под куполом, сверкнуть заключительной короной. Таково представление о роскоши у бедных парней из предместья, среди которых обитал и я, — признается роберт. — Однажды в низоземской столице меня догнал хладнокровный негр. Тебе нужен друг? — уточнял он. Я не смел отказаться. Почему бы не попробовать с черным, подумал я, и мескалин отозвался одобрительным всхлипом. Мы спустились в нехороший подвал. Откуда ты? — формально спросил поводырь. Из сибири, — открыл я неинтересную правду. Он прислонился к стене, расстегнул. Мы ведь знаем, как неприятно пахнут негры, совсем не по-человечески. Когда мне было тринадцать, говорит сережа, я дрочил, зажав ногами белого котенка. Желание отдаться зверю не упомянуто в кодексе гибели, сообщает маленький женя. Мы должны быть точными в наших рассказах. Зверь может присутствовать лишь декоративным элементом пейзажа: скажем, появиться из чащи в пурпурном венце или же дышать огнем в особой нише. У негра был вполне пародийный хуй, продолжает роберт, кривой и длинный. Негритянский хуй, заведомо несущий косолапую смерть. Странно, но даже в амстердаме есть бесстрашные люди: а вдруг я поражен сибирской язвой? Я был знаком с человеком, который хотел стать губернатором омской области, вспоминает павел сергеевич. Однажды, это было еще в незаметные времена, он позвал меня в свою расхристанную спальню. Все свидетельствовало о приступе похоти. Но это был не человек, спорит с робертом маленький женя, это был негр, зверь из книги откровений. Арап с окровавленным хуем, чудище о двух головах. Всадник, скачущий наперерез, вспарывающий горло невидимым копьем. Он и сейчас может воцариться среди нас, в любую, даже самую несусветную минуту. Мы уже говорили о негре, поразмыслим теперь о его сперме: чистейший яд, настаивает роберт. Я скрестил пальцы, дважды произнес число хоронзона. Алкоголь подсказывал мне: ничего не бойся, из этого потока ты выйдешь чистым, как антиной. Agios o Baphomet! Мерещились предсмертные волны. Думаю, стоит описать помещение: очевидно, здесь некогда располагался спортзал. Об этом говорили бездыханные маты, разобранные тренажеры и руины шведской стенки, оплетенные диким вьюном. Неистовые боли в желудке мучают меня и по сей день. Не на эту ли хворь жаловался клюев в татарской ссылке? Не он ли утверждал, что под полом хлипкой времянки укладываются на ночь бродячие собаки? Не он ли молил литератора шишкова прислать жалкий балик с продуктами? Не он ли клянчил у зажиточных любовников пятьдесят рублей? Именно! Именно! — радуется женя. Так вот что подразумевает кодекс гибели, когда повествует о том, что все сущее сводится к мукам от грыжи. Это место казалось мне неоправданно темным и даже вульгарным. Но теперь я понимаю как это просто: грыжа! Какими одеждами расцвечен мир, когда из напряженного живота выползают кишки. Нет больше покровов юности, они опали, словно плоды искусственной вишни, а ведь только юность имеет значение. Юность и кормящаяся ею старость, поправляет павел сергеевич. Юность, протекающая рядом с колонной, на которой держится мироздание. Юность без каверн и опухолей, юность с кокаином, рассеченной губой и дымящейся кожей. Я мечтал не только о принце и нищем, но и о спартаке, повторяет илья: вы, возможно, помните это сочинение канатоходца джованьоли в коричневой обложке. Однажды случился сон: меня, легко раненого в битве, приносят на леопардовой шкуре в пещеру, где скрывается спартак. Температура вспыхивает в горле, подобно неверному огню маяка. Затравленный охотниками раб расположился среди тусклых светильников на песчаном подиуме. Напоминаю, это было всего лишь видение. Осень визионера, iadnah. Рядом с вождем повстанцев — блюдо, полное раздавленных плодов граната. Пленник! — удивленно восклицает спартак, склоняется над носилками и с дикарским интересом разглядывает мое лицо, кровоточащую рану на груди, ожог на предплечье. Ожог? — интересуется павел сергеевич. Да, я точно помню этот саблезубый ожог, словно кто-то нетрезвый в новогоднюю ночь запустил в меня шутихой. Знатный пленник! — еще раз, но на этот раз уже почти безразлично восклицает спартак, встает и выходит из пещеры. Я готов тебе помочь, кричу я вслед, но он не оборачивается. В другой раз приснилась маленькая черная птица, пробравшаяся прямо в горло. Я был британским дипломатом и получил назначение в петроград. К моему приезду радушные аборигены препарировали добротный особняк — вы знаете этот район, сейчас это улица петра лаврова или каляева, там еще рядом оранжерея. Я помню сильный туман. Была ночь. В крылатке, с хлыстом в руках, я вышел на улицу. Тут-то и появилась стремительная черная птица, похожая на резиновую трубку. Если резину положить в автоклав и подуть холодом, она каменеет, будто от взгляда медузы. В тумане становилось тяжело дышать, я чувствовал ропот астматической дрожи. Умирающий рот раскрывался, словно зев доисторической рыбы. И вот в тот момент эта птица. Эта птица. No mercy.
Мы можем сказать, что азиат выглядел вполне благопристойно. Маленький женя, конечно же, вспоминает гегеля: человечество делится на людей и на славян. Каждый вечер, поясняет он, я приносил свою похоть домой, как лисенка. Где еще познакомиться? Только лишь на танцах. Но там уже стыдно быть тридцатилетним. Мы соприкоснулись невзначай на барахолке. Я заведомо снял бинты, чтобы казаться проще. Трудно поверить, но он торговал потертой тужуркой со следами мела. Это был классический случай нищего, столь занимающий нас у марка твена. Я узнал в прорехах нужное. Мы сговорились пойти в нехороший кинотеатр. Там, на груде тряпья, произошло следующее: он вынудил меня облизывать песочный кулак, перемазанный горчицей. Горчицей? — переспрашивает сережа. Да, это была игра: купец и половой, слюда и гравий. Парню нельзя было отказать в азиатской изысканности. Все происходило в полумраке, под угрожающий шум крутившейся на экране конницы. Когда соитие состоялось, он потребовал ровным и жестоким голосом, чтобы я компенсировал потерянную на барахолке прибыль. Мне пришлось выгребать стыдную мелочь, и, пока я не распростился с последним, он не ушел. Стоял и смотрел на меня, как матрос, подпаливший барскую усадьбу. Я думал, что отдам все, чтобы приручить его, унизить, развратить подачками, превратить в маргаритку, заставить танцевать перед гадкими гостями, обезобразить ему плечи и бедра бесчестными наколками. Это была мелкая, но испепеляющая мысль, которую условно можно было бы сопоставить с раскаленной пуповиной. В конце концов, от меня и так оставались одни скорлупки, полные раскаяния. И если пыл наших сообщений — попытка избежать гибели, то все обречено, и каждый, даже илья, это знает. Помилуй, откликается илья, это всего лишь семинар, стоит ли затевать сон в летн__юю ноч_ь? В том или ином смысле каждый из нас живет прошлым, но это не означает, что будущего вовсе нет. Скажем, мы с германом могли бы провести тот же самый эксперимент с горчицей. Тет-а-тет или отыскать для этой нужды продажного юношу в привокзальной луже. Не встретить слепца, не встретить горбунов. Скажем, это произойдет в подвале, похожем на заброшенный спортивный зал, где заметны руины шведской стенки, окаймленные вьюном, на полу валяются детали разобранного тренажера, лежат забытые в панике боксерские трусы, а в центре высится колонна, подпирающая мировые своды. Колонну эту не назовешь громоздкой или же, напротив, субтильной — она скорее, похожа на черную трубу, уходящую в неинтересную высь. Пейзаж без декоративных излишеств, без фиников, боярышника и мака. Papnor. Разве что можно предположить перекинувшийся на нее от шведской стенки вьюн — сорняки неприхотливы, тем паче когда все отсырело. Можно даже вообразить колонну белой, но это увлекло бы нас в сторону ложных чувств, слюды и асбеста. Что же романтичного можно найти в игре «купец и половой» с купленным на вокзале юношей? Так что колонна непременно должна быть черной или даже откровенно железной и ржавой, и никакому вьюну не скрыть ее бедного первородства. Напротив, нищета декораций должна подчеркивать прелесть наших пьяных и несвежих тел. Тело умирает первым, а все остальное еще какое-то время копошится. Мы все знаем это правило достоевского: сорок лет — предел для приличного человека. В кодексе гибели оно отмечено, как золотое сечение бытия. Отчего же, — спорит сережа, — чистоплотная старость, воодушевленная молодой спермой — это вариант, от которого не стоит отказываться априори. Мы можем представить себе академика, который делит кров с умным студентом: смятение чувств. Вот их нежный быт: разговоры о прочитанном, совместные походы на выставки и концерты, чаепитие по вечерам, моцарт, глоток мальвазии перед сном. Академик рационален и жесток — в спальне спрятана плетка, под подушкой стынут оковы. Утром горячая вода щиплет свежие раны, и студент, фантазируя, рукоблудит в ванной. Мы не должны воображать унылый симбиоз чахлых книгочеев. Студент, как и положено в его годы, пинает обугленный мяч, профессор по воскресеньям ходит на теннисный корт, и седые волосы взмокают от пота на его цементной груди. Летом — походы, аборигены принимают их за отца и сына. Мы можем вообразить, как они любят друг друга у костра: в котелке бурлит баранина, и стоны истязаемого перекатываются над дурацким озером. Что же, старость всегда пародийна, констатирует роберт, и, очевидно, iabes не предвидел, что глиняный человек с помощью всяких пилюль и припарок сможет протянуть столько лет. Cicle! Cicle! Разбить, расколоть, свалиться в ров, полный ржавых консервных банок. Пожалуй, стоит остановиться на золотом сечении бытия, а непокорных стирать в серые клочья. Да и что может быть заманчивей добровольного ухода из жизни? — вторит илья. Все, о чем не желаешь думать, сбывается. И можно ли быть оптимистом, размышляет академик, если жизнь есть движение от лучшего к худшему, если она завершается старостью и смертью? Если бы можно было наложить на себя руки еще там, у озера, умереть, нарвавшись впотьмах на коварный сук или от судороги в холодной воде или глотнув гельвеловой кислоты, легкой, как утренний тюль. И чтобы вадик тоже умер коротко и незаметно. А он живет зачем-то и даже выступает с докладами, был на конференции в будапеште и наверняка ебался с кем-то, не исключено, что с венгром. А ведь к ночному костру могли прийти хулиганы из деревенских и забить нас велосипедными цепями. Нет, думает академик, это пора прекращать. Существует вероятность, отмечает павел сергеевич, что человеческий гений сохраняется неизменно — для удобства мы можем представить его в виде плотного шара, которой угрожающе катится по сельской дорожке. Редкие элементы расплющенной флоры произвольно пристают к его бокам. Возможно проникновение муравьев и иных подручных букашек. Здесь, где была навсегда растерзана индонезия. Когда я познакомился с серьезным юношей, умирающим от лихорадки, я подумал — а вдруг и он окажется на этой тропе. Сама эта мысль может представлять опасность, уточняет роберт. Вот именно, продолжает павел сергеевич, поэтому я и прикоснулся к узкому запястью в знак прощания, а потом тяжко тер оскверненную руку грубой щеткой. Шар прокатился мимо, надеялся я. С трудом удалось побороть хитрое желание — пригласить безнадежного юношу в синема и в темноте дотронуться до его колена, а при следующей встрече — поощрительно потрепать по щеке или даже поцеловать. Так могла бы образоваться темная игра с лихорадкой. Возможно, она насытила бы меня до конца истекающей жизни, как африканский жасмин. Ты ловишь его, ловишь, а он уже стоит за дверью, улыбается, протягивает руки: согласен, согласен. Я представил себе графин с робкой трещиной, из которого по мере сил изливается содержимое. И вот выдернута пробка, и графин дерзко перевёрнут. Шьется ли мой саван просто так или есть и для него своя ничтожная выкройка? Однажды мне приснилось следующее, рассказывает илья, мы сидели за грубо сколоченным столом, и я заметил, что обшарпанная ножка усеяна мелкими гвоздями и кнопками. Некоторые были забиты не до конца и торчали опасно. Вы знаете кто этот юноша? — шепнул мне сережа, — это племянник дантона. Он сказал именно «дантона», но я понял, что он имеет в виду убийцу. Да, я — племянник, не без гордости подтвердил красавец, приветливо протянул горячую ладонь. Это будет замечательный эпизод, решил я, переспать с племянником злодея. Статуи дрогнули. Чудное движение клинком в тесную стаю русских свиней, теребящих покойника. А не был ли и тот негр в амстердаме русским баснописцем? — догадывается роберт. — Наверняка ты об этом подумал. Нет, бегло отрицает илья, но на этот раз не знаю, что прельстило меня больше — красота чужеземного гостя или надежда косвенно породниться с убийцей. Это правда, что ваш дядя был наложником этого барона, голландского посла? — сделал я первый заход. Потом мы стали совокупляться — прямо за столом, и перед глазами прытко мелькали разгневанные гвозди и кнопки. Почему же сережа сказал «дантон»? — интересуется маленький женя. Потому что не хотел произносить тайное имя вслух, понимал, что я и так догадаюсь, — поразмыслив, объясняет илья. — Кто мне дантон? А д-с, он ведь у каждого в сердце. Мы представляем их веселые отношения с низоземцем, розыгрыши, которые они придумывают для раболепных славянских болванов, занятные хлопоты об усыновлении, насмешки над смердящей знатью, дуэль с зарвавшимся клерком, похожим на пылкую обезьянку. Расковырять шомполом рану, присыпать перцем. Набить морошки в глотку. Не отходя на от черной речки хуанхэ. Растоптать клобук! Растоптать клобук! Изгваздать порфиру! Нашпиговать занозами, как перепелку. Измудохать до костной муки. И наконец, благополучное возвращение в сульц. Мы можем вообразить их первую встречу на постоялом дворе, игру взглядов, знакомство, несметные талеры, посыпавшиеся на хитрого мальчишку. Еблись ли они в кибитке за спиной мезозойского ямщика, елозящего по волжским степям и взгорьям? Хочется думать, что еблись. Запятнанная медвежья полость, золото манжет, либеральный террор. Но не исключен и иной вариант: д-с держит барона на фланелевом поводке, играет с ним в трик-трак, отделываясь сиротскими поцелуями. Но, будем думать, всё завершилось к удовольствию обоих, а если и нет — что нам до них? Впрочем, что имеет значение? — говорит маленький женя. Да ровным счетом ничего. Кроме, разумеется, гибели. Будь это гибель от укуса тарантула, от падения из окна, от проказы, от переохлаждения, от дротика, от инфаркта, от удушья, от заворота кишок, от чумы, от множественных кровоизлияний, от солнечного удара. От страха, наконец. Мы готовы поверить даже в гибель от раздражения, пьянства, рукоблудия, лени и скуки. Главная задача погибающего — добиться депортации трупа на волю. Быть погребенным здесь, где ад выступает из пор, — можно ли отыскать участь постыднее? Всё, о чем мы способны мечтать на смертном ложе — это радушная немецкая земля, швейцарские пастбища, красные пески невады, водопады патагонии. В мире немало пристойных мест, — утверждает илья, — и не нужны нам вовсе: смерзшийся грунт, кража венка, перевернутый пьяным трактористом надгробный камень, яичная шелуха и тощие пробки на раскисшем снегу. Погибнуть в объятьях племянника д-са, спартака, принца и нищего, даже амстердамского негра. Умереть в заброшенном спортзале возле оплетенной диким вьюном шведской стенки. Умереть, пока перед распаленным взором скачут шурупы и кнопки. Умереть, глядя на растерзанные плоды граната на оловянном блюде. Или в писсуаре на 129-м километре автобана карлсруе-нюрнберг. А лучше всего — выстрелив в цементную грудь в день многолетия. Или даже отыскав для этой цели наемника в алом парике. Парня с проветренными пальцами, живущего в крахмальной избушке. Хоронзон, зззззззз. Мы познакомились возле конной статуи и отправились к нему. Игорь! «Инженер», представился он. И ты ходишь на работу каждый день? — спрашивал я брезгливо. Когда оказалось, что мы не знаем, как взять друг друга, я попросил рассержено: историю, расскажи мне историю. Я напечатаю ее в журнале «Русское возрождение» (у него совсем не стоял). Мой старший брат служил извозчиком в монастыре, — покорно рассказывал игорь, — и вот однажды в заброшенной часовне он заметил мертвое лицо. Оно пялилось из слюдяного оконца и малокровно вопило. Это, по всей видимости, был призрак — однажды пожилой монах возжелал слабоумного пастушка, а тот распорол ему брюхо свирелью. Несчастный старик с тех пор привидением бродит по часовне. И мой брат, извозчик, говорил, что однажды он неслышно прокричал сорок раз. Что же он кричал? А! — кричал он — а! Русские свиньи, не хороните меня в отравленной вашей земле, я хочу упокоиться во льдах невады, в родниках сингапура, в окопах килиманджаро, только не здесь. Вот что он кричал. И часовня содрогалась от его отчаяния. А! — кричал он — а!а!а!а!а!а!а!а!а!а!а!а!а! а!а!а!а!а!а!а!а!а!а!а таким образом, инженер подсказал мне ответ на главный вопрос: что мучает покойника. И лишь потом, познакомившись с кодексом гибели, я узнал это душераздирающее правило: добивайтесь, чтобы вас не хоронили в русской земле, ибо в проклятой яме не будет покоя. Каждый день ад прорастает на миллиметр, пропекает слабые кости. Но если, спрашивает роберт, судьба обернется так, что ужас и стыд захотят разорвать нас на части прямо здесь? Однажды во сне я очутился в берлине. (Это мерзость! мерзость! Это ведь у вас человеческая кожа!). Мы спускались по неочевидной лестнице в бездну. Объявили конкурс на лучшее тело. Стая мальчиков в первобытных трусах крутилась на взрывоопасном подиуме. Юные и пожилые покупатели с лупами и биноклями, стеками и хлыстами перешептывались, разглядывая экспонаты. Спускалась ночь. Кем был я — покупателем или товаром, садовником или цветком. Что хотел от меня мой зыбкий спутник. Почему я оказался бесплотным воробьем на этой сверкающей ярмарке. Почему никто не спросил, появился ли у меня пропуск. Отчего при моем появлении все расступались. Мерцает только один ответ: я был избран, чтобы рассказать миру главную тайну, освободить от ветоши и стружек застенчивую пружину бытия. Мы все избраны, — говорит илья. В той или иной степени, — добавляет роберт. Не на всю жизнь, а на редкие минуты, когда о нашем существовании вспоминают, — думает павел сергеевич. Для нас судьба намеренно сжимает время, — убежден маленький женя, — кто теперь способен дожить до магаданской старости? Мы должны вспыхивать и осыпаться, как хризантемы. Оттого нам разрешено не бояться гибели, думать о ней ежесекундно, носить зловещую мысль в бархатном наперстке. Ковчег пристрастий. Мы обречены ездить из нюрнберга в карлсруе и застывать на 129-м километре. Нам приходится кричать в покосившейся часовне, нас хотят нюхать и гладить, нас бросают в бочки с мазутом, нас облизывают и осыпают мишурой. Мы скоротечно бренчим на арфе виньеток. Мы — мировой пустяк. И вскоре не останется никого, только мы, участники семинара, — павел сергеевич, роберт, илья, сережа и я. Адское пламя искренне оближет наши кроткие лепестки, душный ветер возьмется переплетать траурные ленты. «Дорогой друг. Среди прочего мне снятся бесчисленные подвалы. Теплые статуи выскальзывают из каморок, тянутся ко мне, падают попеременно. Гадалка утверждает, что я переживаю особый тайный надлом: жизнь вот-вот повернется неслыханной гранью. Я же полагаю, что всё кончено. Кто прав? Возможно, я усну и не проснусь. Возможно, надо мной надругаются враги. Я могу даже представить безобразные пытки, вонючий холод камеры, вызовы к бархатному следователю, расстрел. Я могу попасть в аравийскую пустыню, влюбиться в бродячего акробата, стать заступником слабых и обиженных. Я могу сделать обрезание. Iehusoz! Кругом извиваются возможности. Отчего же я хожу на этот скоротечный семинар? Ведь я знаю: вот-вот произойдет самое главное, волшебство изменит сонную мою жизнь, в кодексе гибели откроется неистовая страница, и я смогу записать нечто победитовым пером. Звезды подают мне сигналы. Океан посылает брызги. Ночью я выхожу на террасу и смотрю, как перемигиваются фонари на диких кораблях. Всё начинается в шипящих искрах. Возможно, я даже чувствую прикосновение правильной руки». Это письмо было написано на рисовой бумаге и его полагалось съесть.
Вот именно. Илья был влюблен в дешевого мальчика и обдумывал способ поработить его. Богатые покупают бедных, старые пьют молодую сперму и грызут свежие кости — на этом держится мир. Забыл ты злобную колдунью сикараксу? Роберт знал, что без оков и плеток никаких отношений быть не может. Кто из нас не способен на миг превратиться в трезора, мертвой хваткой впивающегося в драгоценную шаль? Мы способны рассказать о многом. О духоте заграницы, о смятении студенческих чувств, о боязни заразиться кондиломатозом и гепатитом. О носовых платках, упрятанных под подушку. О том, как близорукость перетекает в дальнозоркость. Но что, если отказаться от марципанов и сразу обнажить главную пружину бытия или даже колонну, подпирающую своды спортивного зала? Оборвать поредевший к осени вьюн и открыть ее ржавую природу. Да, мы должны признать тему нашего семинара ошеломительно важной. Ибо можно ли быть оптимистом, если, как говорил академик, всё неизменно завершается увяданием и пеплом? Раз это движение в воздух, землю, воду и огонь? Раз неколебимы четыре сторожевые башни? Что тогда остается, кроме тяжелого увлечения подобным, кроме стремительных, как прыткое лассо, татарских набегов на собственную молодость, кроме торжественного визга: этот семнадцатилетний хуй ебет меня, ебет. Смерть ничто в такой памятный миг. Мы можем вообразить, как этот обнаженный персонаж перебирает, словно носовые платки, мысли о школьниках, готовых за незаметные суммы весело и бездумно выполнять его затейливые приказы. Он думает о сладостях, которые они покупают на его деньги, о билетах на скачки, кокаине, часах, позолоченных портсигарах. Он думает об их отцах, суетящихся в ничтожных конторах, у громогласных станков; стариках, умирающих от рака десен, глотающих гнилую водку, пасущих тугих гусей. Никто не уходит из моего дома без сувенира, думает он, и когда-нибудь найдется чудовище, которое польстится на какой-нибудь ничтожный предмет и вспорет мне брюхо ржавой флейтой, как самосский бафилл анакреонту. Мы можем даже с наслаждением представить избежавшего наказания злодея, когда он заканчивает свои дни в дремучей старости, окруженный юными невольниками. Никакого наказания нет и быть не может. Как не может быть и никакой истории. Все истории уже рассказаны, conisbra. Так известен сюжет о богатом либеральном юноше, добровольно попавшем в плен к вскипевшему рабу: юноша готов помочь мерзавцу в обмен на толику страсти. Он может выдать ему ключи от города, план артезианских скважин, распорядок караульной службы. Он намерен предложить безмозглому спартаку деньги, драгоценности, парчу и мускус. Он хочет сам приносить ему жалкую снедь, кормить его зернами граната, словно дворцового павлина. Мы полагаем, что нет такого предательства, нет такой низости, на которую не пошел бы этот воспитанный деликатными наставниками молодой человек. Он предлагает спартаку отравить капитана дворцовой стражи. Он готов проникнуть в мыльный подъезд и убить урицкого. Он дарит рабу безумные одежды и хочет ввести его в маршальские покои под видом денщика. В некий отчаянный момент он принимается натирать подлого шуана драгоценными маслами. Он даже моет ему ноги, облизывая каждый шрам, каждый след от ядовитой булавки. Нет предела его унижению, и спартак, смущаясь, великодушно терпит назойливую страсть пленника. Таков уж путь ко второй башне, размышляет он. Поначалу он намеревался отдать юношу на растерзание пустынным львам, но нечто тренькнуло в его небольшом сердце, предотвратило расправу. Вот так, — бормочет павел сергеевич, — достигается баланс между свободой, молодостью и богатством. Мы не знаем, впрочем, какое место в этой игре занимает кокаин. Однажды развратный герман предложил мне понюшку. Дело было в темном кабаке, суетились подозрительные тени. В полумраке за черной шторой происходило следующее: плотный блондин неизвестных лет методично всаживал огромный хуй в рот стареющему официанту. В свернутой наподобие птичьего клюва бумажке у блондина хранилось нечто, и он, не прекращая стонать, быстро подносил ее к носу. Можно усомниться в том, что это был именно кокаин, поскольку легкий порошок навряд ли способен удержаться в таком сумбуре. Тем более, что люди беспрестанно выходили и входили, теребя желчные попперсы. В этот почти новогодний вечер за шторой было особенно оживленно. Яд сочельника хлюпал под ногами, разъедал пятки. Но если не кокаин, то что же? — спрашивает роберта илья. Возможно, это была просто цветочная пыльца. Блондин воображал себя пчелой, жужжащей во рту похотливого официанта. Как и каждый ебущийся человек, он был временно счастлив. Неужели все эти бесчисленные персонажи, забравшиеся за черную штору, не опасались лихорадки? Да, возникает подозрение, что они уже были больны и проводили последние дни в счастливой овсянке. Вероятно, кивает роберт, это были люди, сделавшие верный выбор, наподобие того негра, открывающего любопытным туристам центр мироздания. Мы уверены, что услаждал блондина именно официант оттого лишь, что был он во фраке. Очевидно, вихрь похоти захватил его прямо на рабочем месте. Глядя на его наряд, герман (а блондина предположительно звали герман) воображал несущееся поле клевера перед ускользающей от погони лисицей. Позже, оказавшись у стойки, блондин предложил мне понюшку. Подкрепившись, он рассказал главное: познакомился я в азильхайме с немцем фридрихом он меня привел в бар возле рынка там одни старики сидят однажды правда были югославы увидели меня говорят о русиш русиш там я познакомился со стариком клаусом ему уже 71 год у него своя фирма сардины какие-то он потом зашел ко мне в хайм посмотрел как я там живу с вонючими албанами шесть человек в комнате и говорит переезжай лучше ко мне а у него любовник был хуберт но он уже для клауса старый ему уже тридцать пять а деду молоденького хочется меня то есть я к нему и переехал они русского в первый раз видят думали нам только спирт спирт они националисты говорят русиш канистракопф а я ведь нормальный человек и готовлю вкусно и погладить-постирать-зашить все умею но они говорят вы русские только тянете себе лишь бы у нас немцев захапать ничего делать не хотите мне это обидно я им отвечаю а кто изобрел электрическую лампочку русский как там его яблочков или яблочкин а кто изобрел паровоз тоже русский фамилию не помню а кто периодическую систему элементов менделеев дмитрий иванович а радио и телеграф русский попов а вот атомную бомбу изобрели немецкие евреи-эмигранты в америке а водородную бомбу наш русский академик сахаров его все знают. Есть музыка, которую хочется слушать бесконечно, и вот именно она звучала в прихожей. Мы с германом вышли в тяжелую метель. Бумажка опустела. Прав ли я, вытягивая гегельянские жилы? У каждого собственный ад. Мы предпочли бы родиться в мире пальм и колибри. Но не вышло, и, преодолевая снег, герман рассказывает про своего лучшего друга — австрийца, открывшего в триесте нотный магазин. О, рем! — восклицает павел сергеевич, — отчего всё, созданное нами, разрастается осокой водевиля? Мы можем вообразить, что герман, подчинившись приказу, теплой рабочей ладонью вытирает наши свирепые слезы. Нам и нужен такой спутник: надежный, простой. Будем соблазнять его рубинами и поездками на курорты, будем наблюдать, как он играет в теннис или крутит педали. Мы можем пойти с ним в бар, на пляж, в музей неолита. Мы подарим ему спортивную машину. Мы купим ему длинное синее пальто и шарф с золотой нитью. Мы научим его копошиться в сырах и винах. Он станет кое-что бормотать по-французски. И даже, если он предаст нас, ограбит и покинет, мы будем ему благодарны. Целых два года мой тамид несравненный, мальчик мой, был со мною. Пиздить до самого лукоморья. Большие ладони и крепкое тело должны быть вознаграждены во что бы то ни стало. Клевер расцветает за черной шторой, вьюн оплетает истлевшую колонну. Больше нет ровным счетом ничего. Кроме гибели, как уже говорилось. Зубы! Зубы! Хоронзон! «Самому сатане», надписал школьник конверт, задумался. Мы готовы выслушать все истории. Quasb! Илья любил дешевого мальчика и обдумывал способ поработить его. Мальчик красил волосы в соломенный цвет. Одного этого было достаточно для пробуждения холодной, как мертвая стрела, страсти. Илья знал ее бесконечную цену. Стакан коньяка, и страсть завязывалась, словно горький мундштук. Наутро проступало раскаяние — так ли дорог был ему уклончивый рында? Илья мог вообразить себя британским дипломатом, которому в туманный вечер на улице петра лаврова влетает в распахнутый рот тугая, как дубинка жандарма, птица. Но наутро обнаруживал, что ему уже в тягость и розовое пятно вокруг неумелой татуировки, и густые волоски на затылке и косолапая походка, и расклешенные джинсы. Ноги следует обтянуть тонкой тканью, каждая косточка должна выделяться, каждый винтик. Даже в мраморе он не мог найти совершенства, в афинах сон сразил его прямо на музейной скамье. Он слышал шепот муравьев, обсуждавших его неудачи. Вот, утверждал один, причуда страсти: он любит только пьяный и пьяных. Видишь, там у него пробка, она пропускает в хранилище желаний желтые капли спирта. Всем знакомо, кивал другой, это странное чувство, оно часто возникает перед рвотой, когда кажется, что кровать ускользает из-под тебя, словно дремучая палуба. И сколько ты не тормошишь подушку, она не способна удержать от падения в бездну. Мы пошли на концерт, и некто, воспользовавшись нашим отсутствием, взломал квартиру и унес ларец с драгоценными письмами. Аааааааа! Уууууууу! Ыыыыыыы! Вон! — приказал илья дешевому мальчику, — вон отсюда! Ты ответишь за всю боль, которую причинили мне русские свиньи. Они надругались надо мной, робким и беззаботным, и вот я возвращаюсь поразить их пылающим копьем. Откройся, смрадная дверца, я испепелю молниями ваш затхлый хлев. Негр указал мне на темные капли, ползущие по бесконечной трубе. Теперь я знаю: это вы подтачиваете, разъедаете ось мироздания. Всюду, всюду яд. Вскоре потемнело: это, скорее всего, наступила ночь. Дешевый мальчик ушел, илья же горевал на тесной оттоманке. Мы не можем поверить, сомневается павел сергеевич, в то, что история закончилась свободой. Ведь, ввязавшись в борьбу с русскими свиньями, илья не мог не проиграть. Их тупое коварство не знает границ. Надо только ждать, когда на месте их капищ разольются озера и взорвутся зловонные пузырьки. Чпок-чпок. Shemhamforash, третье правило хоронзона. От нечего делать решили выйти на улицу, разогнать демонстрантов. Можно ли создать гомункулуса без мяса и костей — из одной лишь кожи, полной какого-нибудь ароматического масла? Так был задуман холодный сюжет: илья и его дешевый мальчик. Всё — от встречи с германом в развратном кабаке до скверной гибели на улице петра лаврова — представлялось стальной скрепкой, стягивающей этот союз. Их ссоры, ревность, тяжкие гири нравоучений, немногочисленные мирные вечера, заполненные неполноценным обсуждением картин, мод, автомобилей и дирижаблей. Всё должно быть или заумно, или смешно, просто так на хуй никому не нужно. Изредка шумная возня на ковре, порой — преферанс, однажды насмерть была перевернута драгоценная лампа. Забыл ты злобную колдунью сикараксу. Я понял, что только тяжелый запах спортзала способен пробудить это мимолетное ощущение сопричастности бытию. Иногда по утрам я совсем не мылся. Я в неисчислимый раз смотрел «смерть во французском саду» или читал «воспитание чувств». Аромат увядающих лилий, приторный вкус конфет с вишневым ликером, пепельница, позавчерашние газеты, повествующие о ненужном — таков был мир моего блаженства. Я вспоминал ту астматическую секунду в школьной раздевалке, когда сосед украдкой меняет домашние трусы на переливающиеся поддельным огнем турецкие шорты. Мы все знакомы с этими скромными толчками радости, цветущей, словно мнимый краб опухоли, охватывающей клешнями диафрагму, покусывающей желудок. Так, подобно прожорливому цветку, возникал кодекс гибели. Мы видим сочиняющего его сакердота, исполосованного бичами умудренной страсти. Вот он поднимает перо и вырисовывает первый трилистник на фронтисписе самодельной брошюры. Вот он прячет закрученный в тряпицу предмет в потайной ящик бюро, и его левая рука немеет от мизинца до локтя, предвкушая инфаркт. За спиной шумно дышит робин-красная-шапка. Немедленно в соседней столовой звонит благонамеренный колокольчик. Но это всего лишь приглашение к обеду.
Предположим, именно в этот вечер роберт почувствовал внезапный приступ удушья. Тело давно уже не повиновалось ему — он думал: вот наперсток, нетрезво насаженный на палец белошвейки, вот мой balzizras. Это новый континент, и будто вокруг похищенной морем гигантской статуи, здесь могут крутиться рачки и водоросли, порой даже проплывет губастый самец. Невозможно спорить: есть мальчики, которым с наступлением зрелости лучше бы выброситься из окна. В низоземских водах мы были с одним из них. Все уже разбрелись спать, но мы оставались в бессмысленном кабаре. Я так боюсь старости, говорил мой готовившийся к гибели товарищ, кому нужны будут эти дряблые плечи, сникшие мускулы, слепнущие глаза? Я вижу на раковине свои волосы, слышу утренние вопли фаянса. Мои ногти стали твердыми, как панцирь моллюска. В груди жужжит ледяное пламя. А зубы — о зубах мы и так знаем почти всё. Вот уже переворачивают стулья, а я еще не сказал главное: про этого негра. Когда он так просто открыл самую суть, я подумал: может быть, стоит жить, ничего не меняя, плыть холодной щепкой? Возможно, всё остальное придумано? Я читал про перелом позвоночника, про рак десен и думаю об охваченных этой истошной болью — где всё то, что они любили, где тот сыр, те огурцы, которые они выторговывали на рынке фантазий? Где их куклы и тетради, помнят ли они теорему ферма и как затонул бигль? Он прижимался ко мне все старательней, и вскоре между нами осталась лишь пленка жары. Мы пойдем ко мне в номер и будем впиваться друг в друга, пока не уснем. И останутся восемь часов, пока мы будем вздыхать, вздрагивать, кашлять, включать душ, спускать воду в сортире, собирать вещи, платить за комнату. He said, he said. Конечно, в поезде мы будем читать про рак десен и перелом позвоночника, про глаукому и вернисажи, про жизнь королевской семьи и лечебную гимнастику, про жару в каире и холод в минусинске. Ты хочешь выброситься из окна? — спросил я его, отстраняясь, так, что жаркая пленка между нами порвалась, а в расщелину хлынул сигарный смрад и пьяный воздух. Да, когда я увижу первую морщину, первый седой волос, я выброшусь из окна, — он смеялся, смеялся, смеялся. Ааааааааааа! Уууууууууу! Ооооооооооо! Кто бы подумал, русские свиньи, что вы способны на такое. Незаметные, костлявые, словно микробы, вы поймали гулливера, оплели жалкими сетками, паутинками, нитками. Вы трудились, вы ерзали, постукивая медными молоточками, пока я лежал в блаженном беспамятстве, одурманенный сонным зельем. Потом возник теплый свет. Многие вспоминают это чувство, вернувшись из загробного мира, куда они ступили нетвердой ногой. Там ли рем, видел ли ты рема? — тряс меня настойчиво сережа, пока я приходил в себя, избавляясь от жаркого света. Да, я видел его, послушай: он был всадником на кауром горбунке, в руке его сверкала тонкая пика. Кости срослись. Вот так и мы снисходим до старших, пока они плетутся за нами по закоулкам нечистых кварталов, предлагают закурить, приглашают подвезти до дома. Мы уступаем им, чтобы затем покупать пурпурную вату, лыжи для слалома, шейные платки и билеты на концерт. В опере я познакомился с одним. Он был высок, худощав, он угощал меня шампанским и ледяным салатом. В машине мне пришлось его обнять, в ответ он стиснул мое колено. Он ничего не хотел — только лишь безжалостно смотреть на меня; все лампы мира были направлены на то, что я до этой секунды считал своим телом, таким же, как миллионы других рабочих тел. Я много занимался карате в те годы. Сережа, сказал старик, ты волен приходить ко мне, когда захочешь. Мы можем встречаться каждую вторую субботу, каждый третий четверг, я буду приглашать тебя на дачу, любишь ли ты рыбную ловлю? У нас хорошо ходит уклейка. Если кто-нибудь спросит, отвечай: да, мы любим друг друга, и тогда их черные лица покроются коростой умиления. Десять человек жили в каморке, торговали арабским сфинктером. Цыганята, bransg. Любовь спасет нас, она скроет мое расползающееся тело, склизкий рот, гноящиеся глаза, след от ожога на левом предплечье. У многих я видел такой, что он означает — вас пометили в аду? Нет, это чайник, просто горячий чайник. Лучше всего было мчаться по пустынной дороге на мотоцикле. Тогда еще страх не стиснул сердце, в ту пору он лишь подползал украдкой. Однажды после такого полета кровь вырвалась из слабой артерии и мелким фонтаном брызнула в испятнанный комарами потолок. Я точно помню этот алый фейерверк: мне казалось, он поравнялся с верхушками сибирских сосен. Да, я потерял много крови, но и кое-что приобрел. Ветер в диафрагме, легкость хоронзона, карту с маршрутом от башни воздуха к башне земли. Тем временем кабаре окончательно закрылось. Нас почти выставляют вон, и прислуга теребит плащи, сдернутые с раздраженных вешалок. Что же произошло с гниющим стариком, расскажи. Он умолял меня, опутывал и обольщал. Да, говорил он, я знаю — тебе семнадцать лет, ты должен спать с красивым студентом. Нет, отвечал я покорно, мне нравишься только ты, возраст тут не при чем. Для меня значительна нежность, чтобы сладкоголосый спутник мог в ресторане процитировать ницше и прочитать меню по-китайски, чтобы он рассказывал о греции и египте, носил рубашки с монограммами и тугой шелковый халат. Такому человеку можно доверить всё, и ночью, просыпаясь от всплеска грозы, слушать его дыхание, гладить стальную щеку кончиками пальцев, чувствовать хозяйский запах — табак, одеколон, мятное полоскание для зубов, эликсир сатаны. Старику понравился такой ответ, хотя он до конца не верил в мою честность. Почти с каждым случается старость, и я тоже буду знать об этом всё. Кому выпало не постареть? Разве что бедняге рему. Теперь, когда воскресла лихорадка, мы знаем, что следует противопоставить тлению. Каждая ночь — это как удар кинжалом в бархатную штору, за которой кроется дитя гестапо. Enay, дай мне силы поверить в обман, воззвал старик к бафомету, и в ответ донесся приветливый гром. И вот что: мы безоружны перед этим нестойким чувством, мы обойдем его в предисловии, мы не напишем статьи, мы побоимся доверить его рупору или линзе. Мы подарим ему камзол и парик, мы отправим его в спарту или фивы. Так дело не пойдет, — сказал разгневанный старик пару недель спустя, — ты лжешь мне, бесстыдно лжешь, я жду тебя, не смыкая глаз, а ты бродишь неизвестно где, откуда эти странные пятна на шее? Кто смотрит тебе в глаза, с кем ты смеешься, кто разрушает umadea? Я думал: вот мой последний шанс, но осока разрослась и скрыла потерянную жемчужину. Так говорил ревнивый болван, а я думал про принца и нищего. Как они, пожирая друг друга глазами, снимают: первый — парчовое платье, второй — позорные лохмотья. И вот в добротной комнате два тела-близнеца готовы сцепиться в кулак. Саша и коля. Едкий голос старика звенел поодаль, словно спрятанный в толстостенную колбу. Я мог бы воткнуть ему в горло гвоздь, но не сделал и этого. Я лишь примирительно улыбнулся, и его гнев иссяк, как нефть, убежавшая в свою печальную скважину. Он принялся читать мне диккенса вслух — так мы частенько коротали вечера. Однажды мне вскользь почудилось, что он вяжет: некое подобие латунных спиц мелькало в его пальцах, но это оказалось обманом зрения. Он был в моей власти, и меня распаляла мысль о том, что я могу зарезать его, застрелить, плеснуть кислотой в его скверное лицо. Но я превращался в щепку, а щепка не способна на каверзы. Странные совпадения бывают: я, мелкая щепка, столкнулся в потоке с тяжелой позолоченной рыбой, вот этим стариком; и рыбе, привыкшей к блестящим фонтанам, захотелось меня испытать. С каждым днем тайна привлекала меня всё больше. И только потом старик, умирая от чревоугодия, пробормотал: прочитай кодекс гибели, прочитай, кнабе. Вскоре его истлевшую кожу завалили холодным песком. «Сосцы словно гроздь винограда», еще совсем недавно дешево думал он, и вот от всей требухи не осталось и скользкой тени. Я вспоминаю неизвестную мне комнату, полную картин, которую увидел однажды в чужом доме. Я проходил по улице, и некто незримый распахнул окно на первом этаже. Как живут эти люди, думал я, в квартире с такими высокими потолками, люстрой, тянущейся из лепной розетки, оливковыми обоями, портретами в гордых рамах? Я догадался, что в этом доме много бронзовых пепельниц и всюду смеются забытые гостями зонты и перчатки. Нет, говорит роберт, я хорошо знаю этот дом, он ненавистен людям.
Свинопасам знаком этот звук: так может зазвенеть разбитый аквариум, из которого с ропотом убегает вода. Павел сергеевич слышит его на восьмой странице кодекса, когда доходит до незначительного слова «впрочем». «Впрочем» — это наверняка сомнение. Но что значит вот это: «впрочем, у вас может ничего не получиться»? Да, и верно: может ничего не получиться, говорит павел сергеевич илье. Так однажды я вырастил для ценного мальчика клетку из ивовых прутьев, и он чувствовал себя в ней самозабвенно. Вы знаете китайское поверье: нужно выпускать мелких птиц, это приносит удачу, порой даже в денежных делах. В конце концов, в декабре двадцать шестого года a.s., клетка была открыта. Он неловко вышел, закурил. Мне показалось, что я мертвый корабль, тускло подрагивающий на ложе из ракушек. В эту секунду мне даже не нужно было его увядающее от сомнений тело. Так приятно разрушать всё построенное чувством, которое мы неискренне называем страстью. Всё погибнет и без того, это лишь сигнал перед финишем, наподобие колышка с привязанной к нему волч_ьей лентой. Мы знаем, что гибель неизбежна. Gohus. Негр сказал об этом. В брошюре всё написано. Пощады не жди, деться некуда. Всё сломано, зашло безнадежно далеко, и вот уже капкан приготовился лязгнуть. Из тумана возникла птица, влетела прямиком в рот по млечному пути. Беглый раб приказал: рубите. На охотника обрушилась рысь. Он шел, ничего не ведая, по тропинке, разбрасывая скорлупу. Недавно он решил, что влюблён, а теперь сердился на глупого игоря. Почему он убрал чучело глухаря, почему он любит асфальт и марихуану. Следует почтительней относиться к молодости, убеждал себя охотник. Хотя невыносимо, что эта музыка становится всё громче. Мне надо тщательней бриться, реже пить зеленую настойку. Возможно, стоит найти модный футляр. Надо расставить компромиссы, как ловушки. В каждом двойное дно. Одни люди любят сидеть дома, другие ходят на охоту. Лес многих готов напугать, особенно в сумерках. Если бы игорь подходил мне, как ботинок, если бы можно было вставлять в него ногу. Семнадцать лет, купец и половой. Игорь, игорь, сердито думал охотник. Как раз в этот момент на него и свалилась разъяренная рысь. Обычно ничего и не получается, говорит илья. Мы живем в ручье, где всё конечно. Ведь даже какое-нибудь море нетрудно осушить. Мальчики неизбежно стареют, новых становится всё меньше. Так приятно думать, глядя на катающегося на коньках: вот этот будет ночью со мной. Тамид! Два блядских года! Все эти рубашки навыпуск, шорты, лодыжки, колени — то, что способно впиться сладким штопором. Бывало, я не мог оторвать взгляда от его одежды, сваленной на полу, или замирал, открыв шкаф. Семнадцать лет а-а-а-а-а-аооооооооооуууууууыыыыы русские свиньи, вы построили сырые перегородки, вы мешаете, лезете, суетесь, советуете, командуете, требуете. Только от вас все эти скользкие невзгоды. Однажды я шел по улице на концерт негодяя, споткнулся о недужную трубу, разбил колено. Брюки были изгажены безнадежно. Толстый человек промчался мимо на вопящем велосипеде. Оставалось только побрести домой, хромая. Ширму распорола бритва неудач. Это мой любимый сорт: ошалевшие от хуя. Любящие чужие хуи, как свой и даже иногда чуть больше. Самозабвенно кусающие, лижущие, грызущие, оттягивающие и отпускающие. Не сносить тебе головы. Автомобиль проехал, просвистели шины. Я стоял в тумане, пальто казалось непомерно широким. Могут ли сочетаться туман и ветер? Если так, был еще и ветер. Эти прямые, прочерченные бездумной рукой линии вечно продувает. Богомерзкий город. Астма казалась живым существом, нет — растением с тусклыми когтями. Подорожником, цепким корнем охватившим бронхи. Из тумана могло появиться что угодно: автомобили, лужи, птицы, наконец — одинокий красавец. Мальчик, которого хочется пригласить в вычищенный особняк. Дитя подворотен, за один вечер привыкающий к хорошему вину. Лоботряс. Я бы хотел, жалуется сережа, быть прожигателем жизни, а вот ведь превратился в гуру. Все хотят слушать меня, но потом уходят танцевать с другими. Ты будешь сосать? Будешь сосать, крыса? С каждым годом всё неприятней появляться в полумраке, где ни один взгляд не остановится на тебе. Разглядывают только того, кто пришел с тобой. Искусственные спутники сатурна. Так и безмозглый спартак мог интересоваться нищим увлажнителем сандалий и отверг меня, господина с моноклем. Старость омерзительна, как чесотка. Сюжет из южных штатов: дабы не транжирить наследство, они решили до конца своих дней пробыть вместе, в жирной постели. Даже колокольчик, зовущий к обеду, не мог ничего зажечь. Фрукты лежали здесь же, на тумбочке, неспешно разлагаясь. В комнате тускло истлевали багровые индийские палочки, похожие на съежившиеся шутихи. Мир отслаивался, как нищая сетчатка метерлинка. Искусство уже не провоцировало страсть, только убаюкивало. Где ты, рем? Я зарезан, мой фюрер. Нет, говорит сережа, это постыдно, постыдно, постыдно. Как в книге судей, где не помню уж по какому случаю возникает блюющий пёс. И это вместо самого воодушевляющего, что есть на свете: корзины цветов. Больной запах испепелил прихожую, проник даже в спальню, где третий день подряд не прекращалась битва. Израненные, выползли они из своей пещеры. Даже по дороге старик умудрился вцепиться в мою лодыжку. Целлофан был уже снят, очевидно постарался кто-то из прислуги.
Той осенью мы походили на лилипутов, измученных трюками. Нередко, заработка ради, мы представали перед порочной камерой, дабы тешить охваченных казенной похотью незнакомцев. В чьих глазах отражались наши переплетенные тела? Думал ли кто-нибудь, глядя на нас: они мертвы, эту плоть пожирают выдры? Мы не могли не мечтать о косоротых стариках, распаленных благородством наших движений. Как они падают на колени, подползают к тумбам, лижут экран, как они прокручивают пленку назад, ставят на паузу, чтобы рассмотреть случайно схваченные камерой глаза сережи, тянущегося к моим губам, или его беззащитный локоть, или мочку уха, пробитую серебряной стрелкой. Ааааоооооуууууу! Вы, русские свиньи, съели нас, беззаботных детей, вы раскололи вол__шебные орехи. No mercy! Ни нашей красоты, ни нежности не хватило, чтобы утихомирить вас. Жертва была напрасной, нас бросили в топку, и мы сгорели так же невзрачно, как и все прежние коврижки. Визг скверно затормозившего трамвая накрыл наши стоны. Окна полуподвала, где нас пытали, насмерть залепили оберточной бумагой. Кодекс гибели изъяли из тюремной библиотеки, от нас скрывали правду. Лишь однажды робкая сойка влетела в приоткрытую форточку. Мы слушали ее щебет. Такие звуки, утверждает сережа, раздавались некогда в тироле. На лугу встретился робкий пастух, племянник хозяина постоялой хижины, где мы приклеились на ночлег. Да, интересуется маленький женя, ты чувствуешь, какие токи исходят от него, сколько потаенной печали в его взгляде? Вечером парень принес нам кипящее молоко. Ведь мы могли бы предложить ему поехать в зальцбург, дать ему денег. Он поступит в консерваторию, мы будем изредка, словно анонимные меломаны, приходить на уроки, внимать робким звукам, которые ему удается извлечь из колченогой дудки. Благодарность — прелюдия любви. Посвятить этому парню небольшой отрезок своей жизни, научить его всему: одеваться, говорить на хохдойч, смаковать вина. Но как же его отец, хмурый бауэр в кожаных шортах, отдаст ли он отпрыска на попечение незнакомцам? Этот вопрос остается без ответа; наутро мы уезжаем, так и не увидев парня. Либо спит, либо занят в мастерской, либо удавился. Отягощенные, мы поднимаемся в горы еще выше, где уже нет ничего примечательного, кроме овец, распятий и спортсменов. Только природа, обучающая юношей простоте и честности, способна подарить то, что мы упустили в русском сраме. Соблазнить — нет дела достойней, сладкая задача приручения скрашивает последние месяцы лихорадки; отрадно думать, что за гробом пойдет, в сонме прочих расплывчатых плакальщиков, безупречный юноша в черном. Это он, тот самый ланс? Какой ланс? Ну тот, о котором говорил сережа? Бог мой, как хорош. Дроги ползут, сверкают под колесами сибирские лужи. Билет в зальцбург заказан на следующее утро. Вечер ланс проводит в гостиничном баре, напивается, пробует снять официанта, но тот ускользает в тень. Любовь. Любовь. Он вспоминает грязный погост, холод мокрого ветра, просит еще водки. Что пить в этой стране? Всё остальное отравлено. Хотя мы охотнее полюбим ланса, пьющего игривый сидр, эликсир отрочества. Впрочем, это уже относится к обширной области безразличного. Нас теперь нет в этом мире, но в одной прихоти мы уступаем прежним чувствам: мы летим рядом с потертым аэрофлотом, смотрим на нашего друга в последний раз, незаметно дышим в его похмельное растерянное лицо, падаем вниз сквозь несметные облака. Когда же наступает его черед, а он восемнадцать лет спустя попадает в пасть карибской акулы, нам, бесплотным, уже нет до него никакого дела. Кто-то более расторопный встретит нежную тень у ворот нового бытия. Даже это, гордо отмечает илья, предусмотрено в кодексе гибели. Но как вытравить из памяти тот ужасный диалог, кажется прозвучавший среди бутылок? Я богат, и мне скучно. — А я беден, и мне весело, — равнодушно ответил красавец. Он отказался от приглашения на ужин, отказался от денег, отказался, паскуда, от всего. Нет смысла горевать, говорит роберт, всё же гордыня и слепота часто сопутствуют молодости. Лишь мы, покрытые судьбой, словно ржавчиной, можем понять тяжелую страсть, охватившую принца за ширмой. Вот он уже, вопреки своей воле, опускается на колени перед замызганной копией. Да, он готов распластаться у дребезжащих ног неудачника, кормить его зернами граната, словно драгоценного павлина. Мы слышим удары наивного сердца, подобные шлепкам палки по мокрому белью. Вот всё, чем он жил, обернулось сомнительным фарсом. Топчи же меня, топчи — молит он. В ответ его сначала осторожно, а затем всё сладострастней топчут и топчут.
Проходит несколько мгновенных лет, и тяжелый бархат расходится, словно волна на неуютном пляже. Мы остаемся в мире символов, даже все эти грубые проникновения под кожу, желчные царапины, греховные инъекции, цирковые прыжки страсти остаются косвенными намеками на сообщения кодекса. Сережа, — настаивает роберт, — выйди немедленно, я погибаю. Но он остается в спальне, остается смотреть, как среди оскверненных подушек поспешно разлагается то, во что вложено было столько хитрых булавок. Эти voodoo toys! Каждое движение подобно холодной казни самурая. Невидимый меч танцует подле увядшего тела. Мы, бесплотные, понимаем, сколь несовершенно оно в сравнении с буквами на хорошей или даже скверной бумаге. Сережа, — шепчет роберт, — мне надо рассказать, как неприятно все начиналось. О его бегстве в сульц, о нашем злом разрыве. Я швырял ему в лицо все гнусные слова, последовательно возникавшие в памяти, а он кропотливо одевался, и ткань скрывала татуировки. Те самые, что я преступно разглядывал, пока он спал. Татуировки спящего мальчика — вот тема для небольшого сочинения, замкнутого в своем совершенстве, как саркофаг. Попугай, жалящий собственный хвост, меч, вплетенный в пентаграмму, рога бафомета, извилистое число хоронзона. Во сне он выглядел злым и несчастным. И всё, что он говорил, изгибаясь в моих руках, всё — я знал — было сиротским обманом. Как и прочие, он думал только о подарках: роликовых коньках, часах, рубашках, портсигарах, билетах на кипр и абонементе в сауну. Мне хотелось, чтобы он ходил на выставки, поступил в кельнский университет, изучал право, технику перевода, психологию жокеев, но мальчик был неумолим: он стремился к ремеслам. И панельное дело оказалось лишь первым отвлеченным шагом к тому, что начертала судьба: он хотел работать на железной дороге, носить зеленую фуражку с крикливой кокардой, вдыхать гарь, пинать грубым ботинком вросшие в землю шпалы. Меня тоже, признаться, привлекали поезда. Этот неуютный стремительный вокзал, примятый зелеными стрелами собора. Мальчик, как и я, проникся к чужбине ровной нежностью. Мы были вдвоем в мягком мраке неизвестности — я, респектабельный господин икс, и он — бесконечно малая величина с тяжелыми наколками на руках и ключицах. Я и сегодня могу достоверно описать эти грубые рисунки, но зачем? Они ничего не добавят к нашему верному представлению о предмете. Сейчас, сережа, когда я вновь остался один, и тема нашего семинара — единственное, что способно хоть сколь-нибудь взволновать, я вспоминаю холодную иглу наших отношений как нечто, способное добавить влажную виньетку ко всему сказанному и тому, что еще предстоит рассказывать бесконечно. Да, поскольку говорил он с акцентом, каждое его слово, пусть и глупое, казалось наполненным особым смыслом. Хотя теперь мне ясно: он не понимал ничего, даже моих снов. Каюсь, я доверил ему всё. Я рассказал про английского дипломата, который борется в тумане с птицей, стремящейся поглубже проникнуть в рот. Я ждал, он скажет, что в подобном сне уже побывал леонардо, но он, разумеется, ничего не ведал. Его сны были просты, как обои: поля словении, красная черепица, иногда какая-нибудь собачка. Теперь мы могли бы вновь поговорить о принце и нищем, перебивает павел сергеевич. Понимает ли принц, что нищий его недостоин? Нет, он видит в нем скрытое совершенство простоты. Он знает, что нищий жаждет разбогатеть, и близость чужой мечты, которую так легко осуществить, наполняет ухоженное тело принца горячим желанием, словно ртуть медицинскую_ трубку. Так медленно поднимается оно, способное смести все препоны — например ширму, ненадежно разделяющую молодых людей. Мы видим, как принц с решительным бесстыдством отодвигает эту преграду, расписанную, предположим, павлинами, вплотную приближается к двойнику. Он дает понять, что гость не должен спешить с одеждой. Он изучает его медленно, с болезненным рвением. Заглядывает в уши, заставляет распахнуть рот, оттягивает веки. Нюхает подмышками, рассматривает ногти. Постепенно он сгибается, вот уже присел на корточки перед покорным отражением. Ааааааааа ооооооооо ууууууу ыыыыыы! Русские свиньи! Если бы не вы, я скользил бы сейчас по саванне, лорнировал бесстыжих танцоров в кафе-шантане, проводил ночи, не спуская глаз с порхающих рук крупье. Опьянев, он осмелел и решил присоединиться к солидной группе, устроившей битву в баккара. Имеет ли значение, проиграл он, или ночь оказалась полной удач? Его отражение в смиренных витринах казалось преисполненным тайны. Почему бы не соблазнить вон того бросившего хищный взгляд старика в белом костюме? Почему бы не выбраться на пожарную лестницу и не ринуться вниз? Эту ночь я бы хотел провести с крепким и глупым парнем. Но от ночи и так почти ничего и не осталось.
Вот и скудоумный спартак не понял тяжкого чувства, толкнувшего сюзерена на нелепость. Что у нас на сердце? Хуй, только лишь хуй. За каждым движением следит хитрый слуга — черноглазый дикарь, вскормленный бедуинами. Он не понимает, почему хозяин не истребил еще кичливого аристократа. Воткнуть ему кинжал в сердце, — вязко думает он по-арабски, — и дело с концом. Вырезать печень, бросить мозг в русское корыто. Но спартак медлит. Он думает о пленнике, и беспокойство окутывает его колченогие мысли. Рем, говорит он небесам, рем, остры ли лезвия? Да, — торопится павел сергеевич, — мы ничего не говорим о возрасте этих персонажей: спартак должен быть много старше влюбленного предателя. По сути дела, избалованный глупец — всего лишь ребенок, хотя едва ли юность может служить оправданием его недуга. Мы полагаем даже, что это — первое чувство такого рода, очнувшееся в его сытом сердце. Прежде, во дворце, он сонно разглядывал крепких плебеев-охранников, но они не пробуждали в нем и робкой тени страсти, проснувшейся ныне. Страсти, не оставившей и следа от добродетелей, привитых недалекими наставниками в унылые часы занятий. Страсти, выметающей хлам из промозглых переулков и втыкающей колкие стружки в доверчивую грудь. Нам ничего не известно о тусклых минутах, которые он проводил в одиночестве или в окружении напудренных пажей, теребящих хозяйские локоны бронзовыми гребешками, предлагающих сыграть в канасту, выпить гельвеловой кислоты, вставить платиновые штыри в челюсть. Всё, что происходит в смехотворном дворце, так скучно, что желание схватить шпалер и застрелиться иссушило бессмысленное горло. Лениво размышляешь, избрать мишенью грудь или висок, и так проходит день. В сумерках всё проще — разрушать, пьянеть, кусаться. Изрытая улитками клумба, настурции, барбарис. Как не хочется мне вставать, — повторяет сережа, потирая барабан строгого господина. Но позволят ли мне проводить часы в скорбном молчании? Почему все гибнут, а я еще жив? На что променять мое спокойствие? На рак десен, на инфаркт? Даже деньги не приносят облегчения. Сколько крепких мальчиков можно купить на мои дублоны? Сколько выкрасить площадок? Сколько симфоний переплести? Он предложил расставить подопечных в ряд, вздрочив их свежие хуи. Лениво передвигаться от одного к другому, заглядывая в бесстыжие глаза. Стоит мне прикоснуться к вам, и вы превратитесь в дешевые статуи. Они падают, это так. Дабы вылепить гребца диктатор нанял неудачливого спортсмена, и тот раздраженно выстаивал три часа в день перед рассеянным мастером. Моей рукой водит дьявол, ты не находишь? — спросил как-то скульптор натурщика и даже повертел для убедительности вялой ладонью перед плебейским носом. Тому было запрещено отвечать, запрещено шевелиться и даже вилять глазами. Он поневоле обратился в стеклянный пень, а пни, как известно, безмолвны. Agios o Atazoth! Рассаживаясь, двигая стульями по рассохшемуся паркету, они говорили о тайне мироздания. Мы, обращенные к сперме, как к молодому вину. Роберт, илья, павел сергеевич, сережа, маленький женя и кто-то еще, невидимый. Возможно, даже чернокожий или мулат. Или это штора отбрасывала косвенную тень. Нет, верно, он стоял в заброшенном гимнастическом зале возле ржавой колонны, увитой высохшим плющом. Его тело нельзя было назвать совершенным, слишком много превратностей изведало оно, но это было одно из самых искренних тел, которые встречали мы в опасных закоулках. Так, по крайней мере, казалось в тот гладкий момент. Что важнее: эти сиюминутные мышцы или грядущий рак десен, обращающий каждую секунду в непотребный звериный визг? Алхимия прожилок! С каждым из нас могло случиться такое: тайно они повстречались на мосту. Сережа, потеряв всякую осторожность, рухнул к ногам студента, не в силах сдержать ликование. «Война, война! Они захватят нас! Мы уедем в лондон, в рейкъявик, все подмостки мира будут нашими, иностранные парни будут украшать золотом наш пальцы и уши! Русские свиньи, жравшие нашу жизнь из грязного корыта, будут раздавлены, выжаты, исполосованы! На лобном месте вырастет гора отрубленных голов. А их капища, что сделаем мы с ними?.. А их котлетные и пирожковые, их рюмочные и сосисочные…» Этот монолог, считал режиссер, обязан звучать на мосту. Река, влекущая зеленые льдинки. Тонкое пальто, измазанное поспешной грязью. Фонари, по нерасторопности не выключенные на рассвете. Минимум прохожих. Даже полное их отсутствие. Или же наоборот: они сплотились полукругом, но поодаль, опасаясь подойти к бесноватым предателям. Казалось: должен прилететь микроскопический вертолет и ненадолго приземлиться на этот мост, похитив любовников, выпавших из цепкой жизни. «А, — кричал сережа, — всё сгорит, как связка щепок». Как позволила такое госбезопасность, грустно удерживающая струны? Но тут уже досрочно началась ночь, поскольку в небе появилась луна. Все прохожие видели эту луну, послужившую изобразительным ответом на призывы к расправе. Пришла, чтобы подмигнуть и одобрить. Рем, рем! Мы хорошо знаем этот сюжет: два молодых человека, замкнувшиеся в чулане страсти, начинают превратно истолковывать реальность. Отравленная пуля занимает в их жизни место, которое по праву принадлежит мыслям о карьере, гастрономии или религии. Но для них время сжимается в той точке, которая отделяет молодость с ее развратными формами от инфаркта в ледяном ручье. Отрадно думать, что подобная участь настигла уже спартака и влюбленного господина, принца и нищего и даже всеведущего негра, отвоевавшего право показывать туристам центр мироздания. Что говорит об этом кодекс гибели? Почти ничего, он отвечает словами шопена. Но разве рак десен в своем визге не столь же лаконичен?
Суконный господин вышел из блестящего подъезда, и его немедленно подхватил туман. Хитрая птица, — полагал он, — уже поджидает где-либо, злокозненно цокая крыльями. Да, русские свиньи, рано или поздно вы насладитесь моей кровью. Каждый мой волос, оставшийся на гребешке — это дань вам, хитроумные вольски и эквы. Вы непременно спляшете свой неуклюжий зикр на руинах моей гордыни. Каждый из вас проглотит пригоршню моего праха. Вы, ничего не знающие о принце и нищем, о том, как пристально я требовал от мескалина появления этих бесконечных двойников. Вы, косноязычные и косорукие. Вам уготовано торжество. Маринованные грибы! Соус! Пули! Птица уже наполовину высунулась (предположим, из-за водосточной трубы). Неуклюжий скрип извещал о ее простых намерениях: ворваться в астматический рот, покорежить клювом горло. Такой сон, как мы знаем, напомнил леонардо о тяготах ненадежной любви натурщиков. Мы окружили себя учениками, но какой урок преподать им? Курс прикладного богоборчества. Вечером, пьяные, всей ватагой, подбадривая друг друга куплетами, они потянулись крошить химер, ненадежно вцепившихся в стены собора. Эти тела, уже обезображенные фальшивой мужественностью. У кого усы, у кого бородка. Почти все, удостоившиеся ласки мастера, мгновенно забыли об этом. Кроме одного, но он, разумеется, утонул в пруду. Судорога хитроумно вцепилась в безупречную ногу. Вода была холодна, как перекладина зимних качелей. Павел сергеевич услышал его вопль, но истолковал превратно. Казалось, это горланит испуганная сойка. И в этом, как и во всем прочем, не было ни малейшей надежды. Здесь уже появляется тропинка, ведущая ко второй башне. Umadea! Пришла пора рассказать историю штурмовика. Назовем его коротким именем fr. t'. Мы склонны считать, что fr. t' бесцеремонно пережил гонения. В тридцать восьмом мы обнаруживаем его за скромной конторкой письмоводителя в зальцбурге. Аншлюс породил множество лазеек. Странно, но дальнейшая карьера fr. t' связана с промыслом преуспевающих сыроварен, за почтенной вывеской которых скрывались дома порока. Однажды, это было уже в разгар барбароссы, один из тайных притонов посетил чувственный мемуарист, в его свидетельствах нет и намека на негодование. Сережа, говорит роберт, ты помнишь этот год, 23 a.s.? Помнишь, как выглядел малолетка, которого мы сравнивали с волшебной собачкой? Был ли в его взгляде достойный магнетизм? Можно ли назвать его улыбку бесстыжей? Вел ли он себя тревожней, чем того требовала эпоха? Как произошла его трансформация в птицу с разящим клювом? Кто погибнет первым, он или я? В кодексе, — настаивает павел сергеевич, — есть намек. Пора разобраться, в чем дело. Ваза, желающая быть разбитой, улыбалась. Мы вышли из посольства холодными обладателями виз. Теперь уже ничто не мешало поездке в известный город, который мы предпочитаем не называть амстердамом. Тут-то, — поведал негр, — и сокрыт главный аттракцион. Мы могли побожиться, что на колонну мочились. Или это были отголоски вчерашней грозы? Милая сырость, вот тебе мое тело, не самое лучшее из возможных. Скверное тесто, что делать. Кто не способен жертвовать мелочами — отдать орех прохожему, умертвить плоть, купить билет третьего класса? Из фонаря вытекло масло. Fr. t' знал свое робкое место, он плел мелкую сетку финансовых интриг. За глаза его звали толстосумом. Он тщательно готовился к старости. Найти на вокзале мальчишку, свести его с ума мелкими подарками. Всё непременно должно быть из золота: запонки, зажигалка, булавка для галстука, часы и, возможно, пояс с увесистой пряжкой. Честный, неумный парень, оскорбленный краснолицым отчимом. Скряга всё пропивал, заставлял покорного пасынка варить зловонную брагу. Пиздил его до самого лукоморья. Наконец несчастная канарейка вырвалась из ведущей прямо в пандемониум шахты. Мы заметили его, спящего на мешке с опилками. Мы постригли ему ногти, вытерли лесным полотенцем легкие лодыжки. Мы предпочли кормить его строгостью генделя и брамса, хотя у нас хранились записи крестьянских распевов, милых незначительному сердцу. План сверкал деталями: преобразить его, запутать вилочками и салфетками, поющими проводами и прозрачным сервизом. Привыкшие к каменному седлу мускулы почтительно вздрогнули, соприкоснувшись с кожей ламбаргини. Мы сделали вид, что стены его избушки украшали не открытки, купленные в замусоленной лавке, а наскальные рисунки гойи. Солнце воссияло с той стороны неба, где его прежде быть не могло. Quasb! Конечно, это всего лишь кружево, сотканное поспешно, петляющее по тропинкам намеков. Но от этого значимость процедур только возрастала. Наконец, ребенок доверил свой крепкий хуй нашим немилосердным пальцам. И это был тот самый день, когда обрушился мир.
Заслуживает ли утраты несметных минут семинар, посвященный кодексу гибели? — интересуется роберт. Кто бы мог подумать, что мы, напрочь лишенные языка, заговорим на этом демоническом наречии? Othil lasdi babage ундзова__йтер. Кто предполагал, что из нашего презренного увлечения беглыми рабами вырастет увитая плющом колонна, уткнувшаяся во вселенские своды пытливым жалом? Кто мог предсказать, что упадут статуи? Кто знал, что академик, хлеставший преданного ученика хвостатой плетью у ночного озера, заинтересуется судьбой fr. t', неприметного штурмовика, чудом избежавшего заклания и сколотившего капитал на криминальных оборотах? В сорок четвертом, — петлистым почерком отмечал академик в ветхой тетради, — наш герой встречает давнишнего друга, которого сопровождает исключительно удачный мальчик. Мы готовы вообразить легкую татуировку на его левом плече: змей, оплетающий стелу откровения. Обученная говорить языком символов, эта картинка, тем не менее, не значила почти ничего. На память о встречах с братом, — уклончиво отвечал юноша, привыкший к скромным знакам вожделения. Пара обитала в неприметном пансионе, опустевшем в этот лишенный всякой привлекательности сезон. Единственным их собеседником был неизвестный старик, изредка поощрявший юношу слезливым взглядом. Fr. t' немедленно решил испортить всё, расстроить благополучный союз. Его товарищ некогда был знатоком нового лебедя, и сейчас еще мог к месту упомянуть сикараксу. Какие-то деньги у него несомненно водились, но, в сравнении с fr. t', удачливым спекулянтом, он выглядел почти что нищим. О, вадик, вадик, думает академик, прохладно перебирая страницы — как бы понравилась тебе эта злая история! Случай представился, когда fr. t' разведал, что у юноши туберкулез. Однажды, отправившись за какой-то надобностью в ванну, он заметил полосы крови на раковине, и мало-помалу тайна обрела разгадку. Теперь нужно было только проявить неслыханное благородство и предложить консультацию знаменитости, поездку в ошеломительный санаторий. Волшебная гора, предполагал штурмовик. Вскоре юноша был запутан темной сетью обязательств. Не так ли и спартак, смущенный подношениями, посулами и услугами, оказался во власти капризного патриция, решившего во что бы то ни стало заполучить хуястого раба? Не так ли нищий, исполосованный тесьмой неслыханного платья, утратил мускулистую походку и стал передвигаться кроткими шажками, словно шашка по картавой доске?
Но каждое движение отдавалось искренней болью. Он мог иногда хихикать, но этот смех походил на последний возглас охотника, которому свалилась на плечи разъяренная рысь. Считалось, что fr. t' любит эти царственные звуки. Волшебная гора обернулась пастбищем уныния. Скальные породы, охваченные корнями сосен, сообщали месту простоту калевалы. Ветер разносил повсюду мелкие сухие снежинки. Запах процедур мешал воплощению страсти. Fr. t' полагал, что юноша предстанет спартаком в палатке из львиных шкур, предусмотрительно пропитанных мускусом, но эта затея увяла. Реальность, как всегда, ничему не соответствовала. Мысль о том, что юноша заразен, сводила чувства штурмовика к сырому огоньку, угрожающе сникавшему с каждым визитом. Вскоре fr. t' пожелал другу быстрой смерти. Но эта его мечта осуществлялась неспешно. Штурмовик мог бы и отказаться от посещений больного, мог бы даже перестать оплачивать его лечение, дабы приблизить простую развязку. Он, в конце концов, мог бы просто скрыться в парагвае, но тень рема, грохотавшая в коротких облаках сновидений, не допускала предательства. Fr. t'! — грозил рем, — и молнии били змеями из его попирающего гранит жезла, — ты прикован к этому юноше сладчайшей из цепей. Не пытайся порвать ее, стальные опилки изуродуют твою поступь. Коршун выклюет глаза. Сыроварни сгорят от советских фугасов. Ты должен приходить каждый четверг, целовать остывшее лицо, щекотать беличьей кисточкой плечи, услаждать его слух сонетами леопарди. Вадик, вадик, — попискивал академик, утонув в разбухшей, словно баркас, тетради, — вадик вадик вадик. Но, — недоумевает роберт, — отчего мы не закончили разговор о сперме, ее тусклой природе? В конце концов, несмотря на застенчивый вкус, начавший, правда, надоедать нам, это всего лишь тощая слизь, лишенная всего того, что обычно требуют для восторга. Лишенная красок, нот, букв, мескалина и того безмятежного чувства, которое порождает вскользь обнаруженная в кармане купюра. Сперма склеивает волосы, словно мезозойская грязь. Сперма может убить, как булыжник, летящий из сверкающего окна в веселом квартале. Столько в ней отвлекающего от главного, а главное — деньги и покой, не так ли? К чему нам любить ее? К чему заботиться о ней? Пусть исчезает, растворяется, уходит в небытие дешевой атлантидой. Нам легче сначала думать о мимолетных прикосновениях и взглядах, потом о счастливой возможности не касаться и вовсе не смотреть. Сережа, — просит павел сергеевич, — ты убьешь меня через три года, семь месяцев и шестнадцать дней? Тогда мне исполнится тридцать, и я хочу, чтобы на стене моей спальни в этот день возникло красное пятно с мутными краями. Только бесконечно богатое существо может позволить себе старость. Подобное напоследок говорил вадик академику, и злые брызги вылетали из его удачных губ. Мы невесомы. Вы невесомы. Они невесомы. Академику хотелось вцепиться в это безупречное лицо, разодрать когтями. Но он не шевелился, даже не пытался перечить. Как всегда, в моменты раздоров, он думал о чем-то абсолютно ненужном: о сервантесе и его порочной лошадке, телефонных счетах, чернилах для принтера. Эти безобидные мысли казались ему хрупкими колибри, вспугнутыми криком студента и теперь взволнованно снующими по комнате. Академик твердо знал, что если это крепкое, беснующееся тело навсегда исчезнет из его дома, не останется ровно ничего, кроме скудоумного ожидания гибели. Собственно, именно так всё и произошло. Иной оказалась судьба fr. t' — фортуна улыбалась ему с неизменной щедростью, и он ловко находил новых и новых мальчиков, порой совершенных младенцев. Потеря ланса, упущенного из-за нашей нерешительности, оставалась единственной занозой. Такими нельзя кидаться! — наставлял павел сергеевич роберта. — Робкая, незлая, ждущая любви душа в молодом крестьянском теле — что может быть занятней? Даже нищий из нашего сюжета тает в сравнении с этой тирольской басней. В нищем неизбежен позорный изъян, который непременно проявится в какой-нибудь пещере гномов. Его корысть обязана переходить известные пределы. Он готов учинить злодеяние из-за легковесного пустяка: пудреницы, наперстка, шкатулки с сентиментальными лепестками, серебряного флакона — вещей, окружавших тебя всю жизнь, незаметных, словно добрые микробы. И вот он уже с ятаганом подбирается к спящим. Другое дело ланс. Всякий знает этот драгоценный тип: мальчики с прозрачными глазами и человеческой кожей. Он привязывается, как игуана; его верность, его доверчивость можно для наглядности представить неопасными искрами новогодней шутихи, застывшими в холодном воздухе на несколько прихотливых сезонов. Вот он, твой спутник, сережа, корми его зернами граната, плачь у него на груди, он даже будет пить с тобой кроткие вина. Хотя мальчики с прозрачными глазами должны любить сидр. Обитатели гор и ущелий. Последний из них — дезертир, испорченный войной в южной осетии, украл у меня совсем немного: зеленый свитер и зеленую куртку. Не в кителе же ему было идти на мороз, вот он и скрылся, как ландыш, — объясняет сережа. Ааааааааа-оооооуууууыыы! Русские свиньи! Вы испортили наших ясноглазых парней! Вы не хотели натирать плечи розовым маслом, плести им венки, лизать честные пальцы! Вы задумали потопить их в дегте вашей пакости! И вам это удалось, удалось, удалось! Даже ланс, окажись он в шинели, даже ланс, измученный товарищами по гнилой роте, был бы бесконечно далек от того нежного идола, которого мы укрыли в нише papnor. Эх, мраморные рукава! Вечером он принес нам, чужеземцам, воду в медном тазике. Бесконечно стесняясь. Ты путаешь, роберт, в комнате, разумеется, была раковина, таз не понадобился, ланс ни разу не заходил к нам. Возможно, что и так, но я представляю эту полную воды лохань в его честных руках; стараясь не разлить ни капли, он медленно поднимается по косноязычной лестнице. Векторы мускулов. Как бы он хотел присесть на постель к одному из необычных постояльцев, дабы тот, путая немецкие и итальянские слова, расспрашивал о превратностях высокогорной жизни. До первых петухов, постепенно наползая рукой на бесхитростные суставы. А потом, много лет спустя, после похорон — да пусть ебется с кем угодно, с кем попало, хоть с одноглазым арабом в туалете зловонного ту! Не жалко. Каждый справляется с горем, как умеет. Иной раз следует погрузиться в клоаку и выйти незамутненным, словно осколок ценного хрусталя. Ланс! Ланс! Ланс! — плакал fr. t', звуки его непредсказуемых рыданий казались криками комической сойки. Я бы кормил тебя лучшим шоколадом, я бы возил тебя на теннисный корт, я бы выписывал костюмы из антананариву, но чахотка задушила тебя ничтожными придирками. Академик решил, что fr. t' близок ему по духу, он вознамерился описать его жизнь в пространной монографии, украсив фронтиспис отретушированным до неузнаваемости портретом вадика. Так, чтобы можно было заподозрить кого угодно — негра, спартака, нищего, одноглазого араба или даже русскую свинью. В самый поздний период, — царапал неистовую тетрадь академик, — мы застаем штурмовика в огромной вилле со множеством статуй, потрескавшихся от перепада температур. Он совершенно не подвержен склерозу, но порой заговаривается. Так дворецкий впоследствии утверждал, что в спортзале, построенном еще в годы восторга, fr. t' обнаружил ось, на которой покоится мир, и заразил своей уверенностью многих и многих. Среди учеников был и разрезанный принц. Он подражал аль-рашиду, навещая по ночам злачные катакомбы. Ты одинок? — спрашивали его неудачливые друзья. Нет, у меня есть камердинер исключительной красоты, — указывал он надменно. Никто не подозревал, что он тоскует по двойнику. Всё, что произошло после, хорошо известно. Удача пришла лишь в ту пору, когда уже почти не осталось сил любоваться ею. Но, надо признать, она вспыхнула непререкаемым светом елочной гирлянды. Разумеется, он сразу же понял, что этот подарок судьбы будет у него отобран, растоптан чугунными сапогами. Хрустальную сферу, заключившую в себе свежую плоть двойников, расколол усердный лакей, и на мраморе появилась вязкая незаживающая лужа. Аааааоооооуууу! Отчего, русские свиньи, вы так медленно покидаете мир, зачем вы отравили воду, наполнили воздух едкой гарью, съели траву паскудными ртами? Мы ведь любим ваших мальчиков, мы стрижем им ногти, гладим лодыжки, слизываем пот с их беспечных бедер. Мы ждем, когда они начнут плакать в наших тисках. Мы пробуждаемся ночью, прислушиваемся к их вязкому дыханию и засыпаем вновь, умиротворенные. Однажды в ужасной сауне я видел человека без ноги. Он скакал среди голых, словно полоумный журавль. Лучше умереть, подумал сережа. Наглотаться прозака, выпить склянку гельвеловой кислоты, броситься под поезд. Или вот еще: эрготизм, он фатален. Медленным ножом раскромсать восковую грудь. Проткнуть печень латунным шилом. Ты помнишь этого малолетку? — настаивает роберт, — помнишь его прозрачные глаза? Наглую, самодовольную иноходь молодости. Помнишь его невесомую сперму, похожую на слезы? Нет, ничего не помню. Куда легче представить ланса, бредущего по сытому лугу, полному, предположим, эдельвейсов. Вот он наполняет родниковой водой медный таз и идет обратно косноязычной поступью, сгибаясь под тяжестью ноши. Скоро в этот таз, полный ржавых лепестков, опустит распухшие руки немногословный повелитель. Кругом гиблые, ничего не значащие обломки. Статуи упали — все, до единой. Поверьте, — вступает роберт, — в кодексе нет ни слова о раскаянии, совести, стремлении повернуть вспять и вновь порхать над холмами. Мы знаем только серный смрад, исходящий из расщелин. «Чуткие всадники а-а». Это случилось, когда война была на исходе, и fr. t' подумывал о достойном контакте с союзниками. Всем нужны бляди, — размышлял он, — редкий солдат не польстится на изобретательного мальчишку. Он думал о бесконечных шорохах казармы: вот, улучив момент, плотоядный негритос выбирается из-под серого одеяла. Скрипит дверца, и он уже на улице. Перепрыгнуть ограду — пара пустяков. Два часа до побудки. Главное — не уснуть, — убеждает себя негр. Мы знаем эти тенета postcoitum tristis. Всех, кого я любил, сожрала лихорадка. И вот этот мальчик подарил мне свое тело за плитку шоколада, теплые перчатки, фляжку бурбона. Мы повезем его по бесконечному морю, спрячем на отдаленной ферме. Каждое утро, просыпаясь, мы будем видеть его беззащитный затылок, беззащитное плечо, беззащитное запястье. Так наступит пора сенокоса. Наш заморский спутник потеряет остатки акцента, его тело вытянется, плечи погрубеют. Парень! Парень! У меня есть парень! — что может быть понятнее этого беззвучного вопля? Счастливый негр возвращается в казарму, — думает fr. t' — завтра его настигнет изумрудная пуля вервольфа. Жизнь несправедлива, мечты сбываются как-то не так, словно на плечи прыгает изможденная рысь. Трюки мастера циркони. Вялый охотник выбрался из своего логова, недовольно зашагал по опушке. Вот на горизонте umadea. Нет, роберт, — твердит павел сергеевич, — я не смогу забыть эту кощунственную несправедливость: разговор о сперме обогнул меня, словно я предстал на его пути невзрачным утесом. Вот черные волны, полные тщетных акул, суетятся вокруг, создавая неприличные водовороты. Вот щебечет цунами. Вот подошла смерть, колет меня извилистым пальцем. Вадик, вадик, помнишь ли ты визг скособоченной плетки? Хохот гарпий был ему ответом. Проскакал веселый гитлер. Аааааээооооыыыы, русские свиньи, вам ничего не простят, ничего не забудут. Косточки ваши затрещат в бездонной домне, кислота разъест ваши хрящи и поджилки. Рем! Рем! Спаси нас от каннибалов! Накинь багровый платок на эту бесстыдную землю. Робин-красная-шапка ждет нас на вокзале, — говорит сережа. Вот мы спустились в пандемониум, полный смутных огней и дыма. Кашляющий мальчик был оставлен на наше попечение. Строгий голос повелел повалить его на связку вонючих шкур, разодрать дешевое тело. Сперма ртутным озером вытекла из искромсанных капсул. Юные паровозы тускло двигались в потемках. В двух шагах от места преступления прошел паромщик с фонарем, ничего не заметил. Рем! Рем! — беззвучно вопили раненые солдаты, но рысь уже напрягла безотказные мускулы, изготовясь прыгнуть. Никто не осмелился помешать. Хуже всего было сердцу: от плохого вина оно сжалось, словно мертвая птица, обманом проникшая в горло. Нищий подошел, положил любопытную руку на плечо принца; пальцы сбежали вниз, коснулись мгновенно остывшего соска, тут же равнодушно ускользнули прочь. Сережа услышал змеиный визг ярости: влекущее единство близнецов было безнадежно смято плебейским вздором. Вот когти уже разодрали ключицу, смелым душем клокочет кровь. Даже на лучшем экземпляре кодекса остались бурые пятна. Мы посыпали их солью, но это ничуть не помогло. Каждый, кому довелось продираться сквозь дешевый кустарник, знает это бессмысленное чувство. Возможно, посетителя звали адам. Он осторожно подошел к стойке, не зная, что каждый неказистый шаг приближает его к гибели. Вот она клацнула птичьим клювом. Рядом примостился лукавый негр, мгновенно предложивший невероятное. На колонну, очевидно, мочились. Адам мог бы постоять за себя, но сегодня разум покинул его. Ему чудилось, что синие пальцы отделились от рук его спутника, шевелятся сами по себе, подобно разбухшим до тошноты пиявкам. Это могло происходить где угодно: на автобане карлсруе-нюрнберг, в пещере беглого раба, в гардеробной дворца, но адаму казалось, что негр привел его в заброшенный спортзал. И верно: различимы были руины шведской стенки, нехотя задрапированные плющом. В воздухе, на пулеметной высоте, кувыркалась сойка. Мы любим эти маленькие деревенские гостиницы: добротные дубовые столы, гравюры, варенье в старомодных склянках, бочонок пива у дверей кухни. Раз в несколько столетий в таких домах происходит невозможное. Ланс был абсолютным чудом, никем не разгаданной кометой, осветившей пейзаж в неудачное время, когда все спали. Об этом или о чем-то подобном благоразумно писал сведенборг.
И наконец последнее слово: сети. Молодость корчится в тесной паутине. Однажды, — продолжает маленький женя, — когда история принца и нищего была досказана до последней кровавой точки, я вошел в тяжеловесный будуар. Воцарился порядок; щетки и кольца были разложены по старшинству. Можно было бы пригласить сюда скользкого негра, лизать его безупречные бедра, не боясь цикуты. Каждый, изведавший чувство пьяного господства, не поменяет его даже на полный птичьего клекота завтрак с лансом. Сети раскрылись, словно волшебный ток наполнил их гальванической жизнью. Порой они вздрагивали, предчувствуя проникновение лихорадки. У покорных мальчиков немногословный повелитель отбирал жемчужины. Постепенно сокровищами была заполнена вместительная шкатулка. Там они шуршали, сливаясь в беспечное сухое пятно. Он завещал похоронить себя с этим ларцом на груди; нотариус нахмурился, но не посмел перечить. Через несколько бессмысленных лет fr. t' вновь навестил контору. Теперь он требовал, чтобы жемчуг пропихнули ему в легкие кленовой дощечкой. К тому моменту, а шел уже третий год a.s., штурмовик достиг такого величия, что никто не посмел ослушаться. Багровый от красочности эпохи секретарь принес вязкое какао. Грядет эон гора! Пустяки, пустяки, — убеждал нотариуса посетитель, — пустяки, русские свиньи ничего не поймут. Старец благородно кивал в ответ. — Мы разрушим их капища, взорвем пельменные и шашлычные. Секретарь заметил у клиента простой серебряный перстень чудесной работы. Дощечка должна быть отполирована до блеска, — настаивал господин, и перо нотариуса влажно скакало по бумаге. — Мы вознесемся… Вознесемся? — не узнавая собственного голоса, прошептал секретарь, опасно звеня подносом, и штурмовик снисходительно блеснул серебром в ответ. Пришлось приготовить бритвы. У каждого есть ошеломительная история, и у маленького жени тоже была своя. Он расправлял ее, словно обрывок бересты, исцарапанный доисторическим ничтожеством. Два пуда муки, сорок беличьих шкурок, шелковый кушак, каменное шило для выкалывания зрачков. Сердце уже не выдерживало, оно сжималось от ужаса, словно по венам протискивались голубиные перья. Рем! Рем! — дрожал академик, ожидая услышать немыслимый отзыв. Он знал, что именно сейчас за облаками решается судьба. Столько лет подряд он экзаменовал бесстыжих студентов, изведал все их уловки: они поводили бедрами, надеясь раздразнить его, подкрашивали ресницы, натягивали майки размером меньше, напрягали бицепсы. Все было тщетно. Лишь вадик смог вырвать его, словно ветхий куст, из тьмы уединения, выбросить на худосочный свет. Безумие авраама! — гордясь собой, определил академик и пригласил вадика выпить. На рассвете они вышли, шатаясь, из опиумной курильни. Солнце свирепо разжигало землю, сойки довольно свистели. Он неуверенно дотронулся до клавиш, и тут же нахальным душем хлынула молодость, немедленно затопившая всё вокруг. С тем же успехом с холодной ветки могла бы спрыгнуть визжащая рысь. Сперма, мы так ничего и не сказали про сперму, — перебивает маленького женю павел сергеевич. — Она-то и превратилась в жемчуг, драгоценную груду жемчуга, — шепотом поясняет сережа. Как не порадоваться, что fr. t', которому грозила гибель еще в день роковой ошибки фюрера, пережил всех соратников и скончался, окруженный похотливыми мальчишками. Пальцы с обкусанными ногтями навек закрыли его привередливые глаза. Вечером они гоняли на мотоциклах вокруг его остывающего особняка; душа fr. t', плывущая по огромной трубе к далекому свету, упивалась ревом их моторов. Уууууааааоооооыыыы близка расплата, русские свиньи! Расплавится асфальт под вашими гнусными пятками, вода превратится в громокипящий кубок, молнии раздробят черепа свирепым кастетом. Взорвутся мраморные рукава! Из вашего праха вырастет чертополох немыслимой высоты с сизыми горячими цветами. Нотариус достал портсигар, наполнивший офис сдержанной музыкой. Дощечкой, — упрямился клиент. — Из лучшего клена. Жемчуг важно мерцал в бархатном убежище, от какао остался багровый след на подносе. Сперма, — напоминает павел сергеевич, — павлины, ланс, перевернутая ширма, пощечина, зерна граната на блюде, гортанные вопли стражника, мертвый спартак.
Как же мог академик ответить на бесстыжую подножку? Железная грудь вадика выдерживала и не такое. Он стучался в нее, словно в бесконечные двери казармы, бронза отзывалась безразличным эхом. Вадик! Вадик! — лепетал академик, проваливаясь в стеклянные листы немощной тетради. Клекот глупых зверей был ему ответом. — Я хочу, чтобы желтые розы хладнокровно осыпались возле моей аккуратной постели. Это как раз то, что невозможно пережить. Я намеренно звонил издалека, и, заглушая морзе ничтожных голосов, между прочим просил: поставь в ту самую вазу букет желтых роз. Хуй бы тут. Он даже не понял, какой кровавой иголкой эта пустячная просьба застряла в печени мироздания, осыпав всё, что можно, истошными брызгами. Разумеется, идиот ничего не купил, ваза оказалась бессовестно пуста. Колибри, обидевшись, покинули неблагодарное место. Подчинившись волне рока, нищий тоже опустился на колени и несмело прикоснулся к оцепеневшей лодыжке повелителя. Рысь напрягла бесконечные когти, готовясь к полету. Опустошенность, — свидетельствует маленький женя, — всего лишь предисловие к торжеству нового бытия, вырастающего буквально из ничего, словно хладнокровный фикус. Сапоги, кастет, блестящая цепь на горле служили приправой к веселому кушанью. Охотников было хоть отбавляй. Некоторые приезжали из далеких поместий, указывая путь караванам с грузом соболиных шкурок, отполированного клёна, жемчуга, наконец. Колеса визжали, прочерчивая вялый штрих-пунктир в тропической глине. Обращение к другу академик, как водится, завершил восклицательным знаком, но все равно оно осталось без ответа. Почтальон умер, письма безразлично утонули во вселенской жиже. Высшие силы заметили исчезновение важного конверта, но ничего не предприняли для розыска. Вдоль дороги, повинуясь приказу, выстроились правильные юноши. Помедлив, они холодно оглядели друг друга. Сотни мелких молний полопались в атмосфере. Разбей стекло, — посоветовал сережа, — выдерни шнур, кричи: рем! Рем! Okada! Он отзовется непременно. Ветер довольно загудел, форточка бойко клацнула три раза. Среди гостей был и малолетка с особыми глазами. Разговор оплетал его с настойчивостью анаконды, преуспевшей в коварстве. Кто увлечет его за ширму, сорвет бинты, задерет майку, вопьется в невинную кожу? Неужели бессовестный негр, помешавшийся от сырости? Или герман, познавший кислый вкус стариковских поцелуев? Или нежный нацист, гордящийся связями с миром духов? Это одна из тех тайн, которые лучше открыть напоследок, точно ларец, полный внезапных жемчужин. Снизойди, бафомет!
Без сомнения можно утверждать, что это была сойка. Она и влетела в горло, взломав клювом бесценные перегородки. В побочных домах вздрогнули стекла. Туман, впрочем, закрывал всё, и никто не решился бы отгадать, откуда доносится испуганный звон. Может быть, это был даже неловкий лед, прикрывший русские лужи. Сойка вгрызалась всё глубже, упиваясь нечаянной кровью. Выбраться на волю не было ни малейшей возможности. Оставалось одно: рваться вперед, прокусить сердце, выжечь дыру в желудке, исполосовать кишки, выклевать печень. Роберт упал; cnila, словно подчиняясь воле скромного насоса, мелкими порциями выплескивалась из искореженных губ. Мы могли бы позвать хорошего мальчика, чтобы он слизывал ее с асфальта — работа нашлась бы на несколько часов. Но мы лишь смотрели безвольно, не двигаясь. Предположим, из окна. Движения гостей были стеснены, как у нюрнбергских девственников. Казалось, особый груз повис на обычных плечах. Может быть, это мертвая рысь рухнула с ветки и вцепилась в свитер когтями. В сетях корчилась молодость, но кто натянул блестящую паутину? Некто побогаче и удачливей нас. Ведь есть люди, — удивлен павел сергеевич, — которые пару часов в день проводят в тренажерном зале, лепят маски из огуречного сока, загорают под электрическим солнцем, исключили из рациона кокаин и масло. Но мы всё равно не любим их уверенные тела. Нам милей, скорее, искренний запах нищего, опустившегося на колени перед двойником. Мы убеждаем его невзначай: нельзя принимать ванну перед сном, замучают кошмары. Мы будем спать, как персонажи бокаччо: я положу ладонь на твой честный хуй, и он будет беситься под нею всю ночь, словно сойка. Но этот мальчик, конечно же, нам не достался. Сережа был впервые в жизни напуган: неужели я надоел бафомету? Да, я донимал его пустячными просьбами, молил не насылать на меня рак десен, не ломать позвоночник, не лишать зрения, но так ли уж велик этот грех? Ведь спартак согрешил куда больше, отдав своего поклонника на съедение пустынным львам. Впрочем, нам ли не знать, как корил он себя за эту минуту малодушия. В конце концов, он и сам был пойман и четвертован. Его душа, безвольно поплывшая в огромной трубе к далекому свету, практически настигла fr. t', но штурмовик, зачарованный прощальным гулом моторов, ничего не заметил. Они разминулись, даже не подмигнув друг другу. Так и ланс глядел в ничтожный иллюминатор и не видел любящей души, унывающей по ту сторону стекла. Нелегко лететь вровень с эскадрильей, так что призрак вскоре отстал. Ланс никогда не отличался чувствительностью к потустороннему. Собственно, этим он был и хорош — крепкий, простой парень, полный благополучных внутренностей. У него были верные взгляды на жизнь, вот что. Мы любили смотреть на его подмышки, пока он качался на турнике. Дьявол вселялся в нас в эти минуты. Все мои друзья умерли, — говорит маленький женя, — в записной книжке остались одни только кляксы. Некому звонить, письма не приходят. Кругом иная жизнь, полная коварных шорохов. Аааааааыыыыуууууу русские свиньи! Из-за вас я заблудился в сумрачном лесу. Пусть же обрушатся на ваши головы мои проклятья — пусть рак поразит ваши десна, зрение вытечет из глаз, позвонки треснут, смрадная рысь перегрызет горло. Горы скелетов остались на непритязательном лугу, и суеверные охотники еще долго обходили стороной опасное место. Хотя колдовская свирель нередко зазывала их пленительными трелями. Они же предпочитали бурелом, малинники и овраги этой опрятной лужайке, где над ними запросто могла бы надругаться нечистая сила. Сперма вытекала из тел, пораженных небесным огнем. Вадик! Вадик! — рыдал академик в кабинете, полном бессовестных книг. — Я помню, как ты стонал, когда хлыст опускался на плечи, и сверкающие полосы появлялись поверх остывших рубцов. Помню, как ты обратился к нашему заступнику рему, и на миг немыслимое видение возникло прямо над елкой. Мы как раз готовились справлять рождество, жалкие игрушки корыстно поглядывали из распахнутых коробок. Гибель! — прошептал ты испуганными губами, и тут же сиреневая молния вспыхнула под потолком, отразившись в мелких капельках крови, усыпавших твою спину. Это, по всей вероятности, и был рем. Но нам гораздо приятнее думать о лансе и его успешной карьере. Вот он выходит из дверей факультета, и, размахивая рюкзаком, бежит к моей притаившейся в тени каштана черной машине. Она так нагрелась на солнце, что, дотронувшись до капота, ланс отдергивает руку, дует на нее в притворном ужасе. На нем зеленая майка, белые шорты. Я целую его плечо, взбираюсь губами по шее. Тут-то без всякого предупреждения и начинается гроза; рем посылает нам приветственную молнию, замертво валится каштан, под которым еще минуту назад стоял наш траурный автомобиль. Quasb! Рука ланса ползет по моему бедру, я чувствую ее обжигающую силу. Но ведь почти то же самое, — перебивает сережа, — случилось с принцем. Объезжая инкогнито свои владения в мещанской карете, он заметил у обочины редкой красоты юношу, торгующего бессмертниками. Принц не сразу попросил кучера остановиться, столь велико было потрясение. Он обрел дар речи лишь когда позади остался гадкий квартал и повозка очутилась у реки. Спустился ядовитый туман, пахло рыбой. Противно смеясь, по набережной прошли рыбаки. Принц вышел из кареты, ноги подкашивались, словно во тьме инсульта. Этот юноша — он не просто был похож на него, это был двойник, тот самый зеленоглазый близнец, скрывавшийся в сонных глубинах, словно разящая рыба-меч. Некто сердобольный поднес к его губам флягу с неистовым зельем. У принца едва хватило сил поблагодарить незнакомца. Кто же это был? — перебивает илья. — Можем ли мы предположить, что этот человек в глухом плаще с капюшоном сыграет соблазнительную роль в нашей истории? Возможно ли, что это был тот самый собиратель диковин, в коллекции которого среди пыльных париков и телескопов прятался в зеленой колбе уродец, сонно ожидающий затерянную пару? Да, не исключено, что это был именно он. В кодексе гибели есть холодный намек на это. Намек, похожий на бесформенный обломок льда, свалившийся с чернильной февральской крыши. Разлетевшийся невыносимыми брызгами, до смерти испугавшими сердце. Пленник куклой повалился к ногам спартака, моля о пощаде. Но гордый раб не хотел ничего слушать, к пыльному шатру уже подбирались долгорукие центурионы. Игра была проиграна; единственное, что оставалось в его власти — судьба этого изнеженного юноши, мечтающего о гранитном хуе. Предвкушение близкой гибели цвело скромным оазисом, но и его смели желтые пески похоти. Спартак ятаганом распорол набедренную повязку. Ланс сполз с кожаного сиденья, склонился к грубому ботинку, скрывавшему изуродованную ногу, зубами потянул шнурок. Негр указал ошеломленным туристам на колонну, скрытую прожорливым вьюном. Грузное тело академика погрузилось в ночное озеро. В безликом номере будапештской гостиницы вадик повернулся в ванне. Всколыхнулась радужная пена. В дверь деликатно постучали. Но это был всего лишь коридорный, доставивший постояльцу перевитую пунцовой лентой коробку с адской машиной. После неудачного романа с чахоточным юношей, fr. t' зарекся давать волю чувствам. Он решил притвориться фашистской скалой, поросшей изумрудным мхом благоразумия. Тогда-то и появился в секретной комнате на втором этаже его виллы кипарисовый ларец. Грязные крестьянские мальчишки частенько навещали сонное убежище штурмовика. Лишь немногим из них был открыт доступ в лабораторию, да и видевшим все эти змеевики и колбы неведомо было их назначение. Сходным образом доктор ф-н скрывал от домочадцев свое зловещее открытие. Пухлый герман, скованный назойливым пристрастием к кокаину, вскоре стал правой рукой fr. t'. Он безропотно ассистировал ему, исполнял диковинные поручения. Однажды герману довелось участвовать в спиритическом сеансе. Медиумом был кривоногий мальтиец в помятом смокинге. К полуночи собрались взрывоопасные гости. Рояль недовольно отполз в угол, и в центре гостиной воцарился хрупкий столик. Рем или спартак? — интересуется павел сергеевич. Но отзывчивым духом оказался дантес. Мы, труженики подземного цеха, поздравляем вас с праздником отслоения мяса от костей. Гибель вошла в этот дом, как говорливый жандарм. Вскоре, не выдержав тяжести, рухнули все подпорки. От строения осталась лишь первобытная пыль. Сойка с трудом отыскала дорогу, но все-таки проникла в горло. Тромбы устремились к мозгу. Юношу хладнокровно разбил паралич.
Маленький женя рассказывает про ядовитую судьбу калеки. Лишенный рук и ног, он живет в паскудной тележке. Пострадал на войне амбиций. В заштопанных шортах скорпионом извивается кровеносный хуй. Нескончаемы сны инвалида: белокурые солдаты, искалывающие друг друга столовыми ножами. Он мечтает погибнуть, подползти к окну, вывалиться наружу. Но подоконник непомерно высок, зубами не уцепиться. Только ангел может ему помочь. И вот наконец рем, узнав о страданиях урода, роняет с небес белое перо, и оно тусклой снежинкой падает на спаленную грудь. Ооооооооыыыыыээээээууу русские свиньи! Леденеет кровь, высыхают кости, червивыми язвами покрывается шкура. Дубиной по зубам, оглоблей по хребту, горшок кипящих щей на голову. Из горящего самолета выскочил раненый летчик. Полз, путаясь в паутине парашюта. На снегу — розовый след. Добить метким выстрелом. Жми на курок, фюрер. Вот уже на проталине распустились душераздирающие крокусы. Пучеглазая рысь рассматривала их со своей ветки, но вскоре они увяли. Othil lasbi babage, od dorpha, gohol: свинопасы знают, сколь дороги нам их тела. Прозрачные глаза, рисовая бумага, ногти, сперма, бабочка, уснувшая на лакированном ботинке. Мы — равные среди погибших. Нам обещана поездка на карнавал в рио, но мы от нее отказались. Нам интересней плакучие ивы и прочие милые пустяки, скромно предложенные отчизной. Сперма, — говорит сережа, — становится все непонятней. Как будто ланс обманул нас. Ларец, полный ископаемых жемчужин, мог бы утешить, но лишь на какой-то невнятный миг. Кодекс советует превращать сперму в жемчуг — как воспротивиться этому? Кто решится бежать из уютного дворца, плутать по испещренной тарантулами пустыне для того лишь, чтобы отыскать в пещере озлобленного раба? Сети, — шепчет академик, — сети. Вообразите рыбу, расплющенную несносным океаном. Вообразите проклятие хоронзона. Вообразите бедного мальчика, страдающего от игры «купец и половой». Вообразите рема, бьющего молнией в порочную землю. Я не хочу стареть, — признался герман. Все мы знаем это золотое сечение достоевского. Он так и умер, день в день, хастлер поразил его отравленной пулей, испортившей благопристойный лоб. А что случилось с ценной рубашкой, застрявшей в афинском хилтоне? Она была залита кровью, забрызгана мозгом. И белая стена в гостиной, уже не ототрешь. Это вы тот самый француз? — участливо спросил старик. Не дождавшись ответа, он повалился на колени, словно сметенная шквалом люстра. — Вот мои сбережения, они у ваших ног, берите же их, пируйте. Вышедший на шум роберт выразил недовольство происходившим в прихожей. Чудачества fr. t' переходили грань достоверного. Он убедился: в спортзале действительно скрывалась ось мироздания — точная копия амстердамской. Их, стало быть, было две. Очистить от завалов, вынести щебень во двор, отлакировать паркет, отрезать уши. Солдаты глумились над ним, нежным охотником, наконец расколошматили хребет прикладами. Несчастной сойкой бился он на куче глины. Никто, разумеется, не пришел на помощь. Вот кодекс гибели, — показали растрепанную брошюру, — ты наказан: не надо переходить ручей нашей веры, не надо стирать грубое белье в священном потоке. Умри, умри. No mercy. Звон становился всё настойчивей, дверцы серванта закрылись, лимфа испятнала салфетки. Герман вяло прислушался: кокаин покрыл его руки батистовым платком благоразумия. Нет, время еще не пришло, равнодушно подсчитал он. Когда же? Так и fr. t', усердно посещавший волшебную гору, изучал надоевшего протеже, отыскивая приметы тления. Ты бледен, на полотенце снова пятна. Да, — жаловался юноша, — когда я чищу зубы, кровь брызжет из десен. Всё расползается, словно прогнивший тюль. Любовь, любовь. Fr. t' выходил в туман, пытавшийся защитить санаторий от коварных сил распада. Где-то беззвучно покачивался колокол, очевидно гигантский. В роще сновали безымянные звери. На охотника взорванной башней падала рысь. Безжалостные солдаты поджидали жертву. Пленников выстроили в магическом круге, карлик вздрочил их никчемные хуи. Это могло происходить где угодно, но, судя по брусьям на заднем плане, некогда здесь размещался спортзал. Теперь же помещение использовалось в философских целях. Окна, судя по всему, давно не мыли. Fr. t' не любил эту пустошь, но и на этот раз подчинился приказу рема. Выбора не было: штурмовик опустился на колени, подполз к окостеневшим пленникам. Казалось, его хребет сломали точным ударом, на самом же деле он был безупречно цел. Волшебство истлело, наступил момент, когда сережа потерял всякий интерес к хуям. — Я ошибся, — сообщил он роберту, — хуи неинтересны, как и всё прочее. Я люблю только деньги. Ну еще: книги, картины, путешествия. Как бы я вел себя, если бы мою лампу украшал абажур из человеческой кожи? Смог бы я поддерживать светский разговор, читать диккенса, глотать конфеты, любить беспечного мальчика? Или тайна обволокла бы меня зловещим облаком иприта? Что делать, когда выпадают волосы, у глаз расползаются морщины — словом, происходит всё то, что принято называть лихорадкой? Маленький женя объясняет: несколько лет назад меня изнасиловал герман. Боль была нестерпимой, но вот — мы друзья, я бываю у него на журфиксах, трогаю малолеток с прозрачными глазами. Новый эон! Каждый полирует свою кленовую дощечку, подразумевая: наступит пора черпать ею звенящие жемчужины. Д-с! Он посмотрел на барона и немедленно согласился на всё. Ааааоооооыыыууу! Мы не простим вас, русские свиньи, мы обольем вас напалмом, сварим в кипятке, окунем в багровую смолу. Положим доски на ваши туши, закатим пир. Птичий клекот волынок будет заглушать ваши жалкие вопли. «Здесь танцуют» — вывела честная рука на табличке, прикрученной к партизанскому обелиску. Старательный луч лазера свёл на нет меланомы, кожа принца вновь поразила придворных китайской белизной. В знак торжества на балконе благоразумно укрепили факел. Сойка с такой кротостью проникла в горло, что прохожие ничего не заметили. Тем более, что, как мы помним, улицу оккупировал туман. При желании это чувство можно было назвать отчаянием, хотя кодекс гибели предлагает удивительно невнятный ответ. Что-то упало на меня с дерева, — удивился охотник, погибая, — но что это могло быть? Негр напугал илью. «Откуда у тебя деньги?» — спрашивал негр коварным шепотом. Я из сибири, коплю себе на гроб, я знаком с человеком, который хотел стать губернатором омской области, он был купцом, я — половым. Наша темная игра выросла в опустошенном кинозале. Она кажется мне деревом, украшенным ядовитыми плодами. В гниющей мякоти прячутся иглы и кости. Бросив меня умирать от кокаина, они мирно перешли к столу для баккара. Я думал: откуда этот визг? А это свистела стальная коса, укрощая бесстыдные злаки. Что оставалось делать? «Рак десен» — сообщила хрустящая бумажка, упакованная в сухой пирожок. Филь глюк. Молния ударила в землю, и там, где она только что побывала, открылась аккуратная штольня. Поцеловавшись, мы стали спускаться вниз. Путешествие было недолгим.
Что уж тут думать — пора вводить войска. Пусть прошелестят по пажитям, пролязгают по стогнам. Хорошо размышлять об этом под каменными сводами, под стук метронома, перепрыг дятла, кипение воды. Вот она, первая цель: скользит фишка, лопается сукно, рвется схема. Пора рассказать историю цикуты. Как она вливается в ухо, бросает под откос поезда, сметает постройки, взбивает соленое масло лихорадки. Остановился на пыльной дороге сразу после похорон, братское тело не успело окаменеть. Похотливый фермер навстречу. Даже черный пиджак не помешал наклониться, встать на привычные колени, проглотить. Могли бы и усомниться, но все подтверждают архивы. Сползлись животрепещущие звери, уселись в кружок, подрочили. Школьники, их можно брать голыми руками, лепить из них хуй знает что, даже какого-нибудь аиста. В эти годы все бурлит, только успевай дергать. Ты, тварь, говоришь про концлагерь, про изоляцию, про тех и этих. Знаешь, что с тобой будет. Да мы тебя распотрошим, вот что. Мы тебя будем гнать до самого лукоморья. Мы отдраим тебя наждачной бумагой, мы всадим тебе надфиль в печенку, посыпем канифолью, нашпигуем занозами, отобьем почки волшебной дубинкой. Мы скормим тебя бафомету. Мы пораним тебя осколками, мы сошьем тебе пальцы. Слышишь, тварь. Мы молчали, молчали, молчали, но вот надоело на хуй. Пришла эпоха водолея, стучит ослиной челюстью в бронзовые двери. Тысячи лет не открывались, и вот на тебе. На твоем месте я бы не рисковал, я бы сам плеснул кислоты в бассейн, я бы пискнул в трубу. Грядет последнее сражение, мы уже точим зубы, пришла пора десерта. Ножи и плетки, клинки и пилы. Гады окружили сарай, но в соломе таилась обойма. Покровители подбрасывают конфетти благодеяний, как снежинки на спаленную грудь. Рем! Рем! Мраморные рукава! Число хоронзона! Quasb! Зовем ручных свинопасов, сатанинскую рать! Притаился под ледяной аркой, слушал рокот воды. Прекратите! Раздобыл бритву, на хуй такую жизнь. Искусственные спутники сатурна и все прочее. Шмыг в норку, звякнул щеколдой. Прошло понапрасну, в ожидании правильного минета. Да ты какой-то кольцехвостый, ну тебя на хуй. Прислали журнал: convicted killer, его сумбурные признания. Что сделано, того не воротишь, порвались постромки. Утренняя почта, полуденная почта, ночная почта. Неотложные документы. Привезли дыбу, отстегнули протез. Истязания инвалидов, они уже и так, и этак. Хотите, чтобы только мы корчились? Не выйдет. Потом состоялся подозрительный диалог: «А что ты напрягаешься? — А что ты пристаешь? Я напрягаюсь, потому что ты пристаешь. Видишь, что я напрягаюсь, так зачем же пристаешь». Не ясно, что ли. Сиди себе, пока жив. «Пей свой бурбон, а то отрежем ноги» — вот что они советовали, если быть абсолютно честным. Такая, можно сказать, эпитафия. И это за годы честного труда, а! о! у! ы! Бафомет! Где тот мальчик, который захочет, на каком полустанке. Мы снаряжаем экспедицию, мы натираем пряжки мелом, мы прикручиваем штыки, мы притачиваем облицовку. Туда, где догоны следят за движением сириуса, помешивая волосы в котле. Туда, где котлован наполняется гельвеловой кислотой. Туда, где детские руки расстегивают оловянные пуговицы. Туда, где принц теребит нищего. Туда, где хохочут за павлиньей ширмой. Но вот было настоящее дело. Ваня! Ездил на соленом грузовичке и греха не знал. И однажды ночью. Ты что, зачем это тебе. Я болен (отвечал с. фальшиво). Я тоже только вышел из больницы. Расстегнул штаны, ну давай по-быстрому. Конфуз идентификаций. Вечером веселились, утром похмелье охватывало, как сонный гриб. Проза, которая вам не подходит. Ты гораздо лучше, когда молчишь. Склянка наполнилась ядом, подтянулись змеи. Понимаешь, от этого мне нехорошо. Ты ведь чувствуешь, зачем же тогда? От этого зелья, от его молекул. Огонь в чреслах. Если бы кто-нибудь мог сказать, что я запомню. Объяснить, что лучше этого ничего не будет. Зимняя дорога, ваня, грузовичок. Дядя, перестань. Дядя, перестань. Ты посмотри на себя. Ты посмотри на себя. И после этого, после этого. Нет, не сержусь, конечно. Повесил трубку, пошел к китайцам. Улицы, мусор, консервы. Пейзаж apres. Ломкие ногти. Змеиное яйцо. Ропот и топот. Красная мантия, скипетр, две головы на коленах, две — на груди, три рога на тройной голове. Agios! Хозяин инспектирует башню земли.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


![Блакітны зніч [Лірычнае]](https://www.4italka.su/images/articles/504217/primary-medium.jpg)


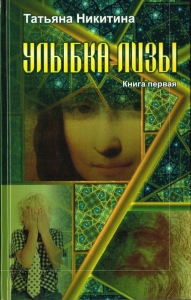
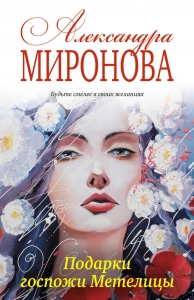




Комментарии к книге «Кодекс Гибели, написанный Им Самим», Fr. D.V.
Всего 0 комментариев