От издательства
Имя болгарского писателя Камена Калчева уже известно советским читателям. С героями его книги «Семья ткачей» мы познакомились в 1959 году.
Камен Калчев принадлежит к среднему поколению болгарских писателей. Он родился в 1914 году. Окончил Софийский университет. За участие в антифашистском движении был арестован царской полицией. Сейчас Камен Калчев — секретарь союза писателей Болгарской Народной Республики.
Печататься Камен Калчев начал в 1935 году.
В 1938 году вышла его повесть «Путина с гор», в 1941 — сборник рассказов «Годы уходящие», в 1945 — роман «В конце лета» и драма «Партизаны». Большой и заслуженный успех имела книга К. Калчева о Георгии Димитрове «Сын рабочего класса» (1949). За нею последовали романы: «Живые помнят» (1950), «На границе» (1958), «Семья ткачей» (1957) и повесть «Влюбленные птицы» (1961). Калчевым также написан ряд книг для детей и юношества.
В предлагаемом читателям романе, вышедшем в Болгарии в 1960 году, автор продолжает рассказ о жизни и труде рабочих-текстильщиков. Это вторая книга дилогии о ткачах. Однако по характеру повествования, по завершенности изображаемых событий она представляет собой вполне самостоятельное произведение. В русском издании вторая часть «Семьи ткачей» с согласия автора названа «Новые встречи».
1
Прошло три года, а может быть, и больше с тех пор, как Борис Желев и Гита Коевская сели в поезд и уехали из города неизвестно куда.
Все это время, вопреки предсказаниям и угрозам рассерженного молодого человека, жизнь текла по-прежнему — словно река, словно облака в небе, будто ничего не произошло и ничего не изменилось в этом маленьком провинциальном городе. Ткачи на фабрике «Балканская звезда» продолжали посменно работать в установленном порядке, и с тяжелых станков, вытянувшихся рядами, ежедневно стекали все новые и новые ткани, которыми гордились и продавцы, и покупатели, и те, кто их производил.
Как прежде, перекликались в общежитии звонкие девичьи голоса. Парни и девушки деловито спорили на собраниях, смеялись, а порой и плакали, мечтательно вздыхая на вечеринках, в буковой роще и на берегу реки, шум которой оглашал всю окрестность. По вечерам до поздней ночи аккордеоны и громкоговорители разносили веселые мелодии, трепещущие, как мотыльки, как крылышки влюбленных птичек, и взлетающие к самым звездам.
Случилось ли что за минувшее время? Создано ли что-то новое?
Да, новое — это городской парк, разбитый и засаженный по плану добровольческими бригадами городского народного совета, и, словно снежный сугроб, поднявшийся на берегу ресторан с красной крышей и такими террасами, каких не было даже в Охотничьем домике. У входа в ресторан — цветник из роз и петуний, в саду — столики и стулья с красными спинками. Новое — это круглый бассейн, где плавают разноцветные рыбки, холодные, как стекло. В середине бассейна бьет фонтан, и брызги его долетают до террасы ресторана. На этой высокой террасе, до половины затененной деревянным навесом, также расставлены столики, стулья и вазы с цветами, особенно красивыми в лучах солнца… По праздникам и в короткие летние вечера публика веселится и танцует здесь в восторге и от вина, и от джазовой музыки, и от выступлений известной певицы.
Есть еще какие-нибудь нововведения?
Да, в той же стороне, где теперь ресторан, выросло несколько кооперативных домов — светлых, с балконами, — которые сразу изменили облик старого города. Появились и новая гостиница, и новая автобусная линия. Завершено строительство стадиона, поглотившее много труда и средств.
Дед Еким не спеша расхаживал по новому парку. Все созданное здесь за эти годы радовало его сердце.
Что ему еще нужно?
Чуть поодаль бежит вприпрыжку его внучка — девочка в красном платьице с белым бантом на голове. В одной руке у нее ведерко с песком, в другой — лопатка. Время от времени она останавливается и испуганно спрашивает:
— Ты тут, дедушка?
А старик отвечает:
— Тут я. родненькая, тут! Никуда не денусь! — И, преисполненный умиления, заложив руки за спину, он оглядывается с таким видом, будто и парк вместе с березками, и все, что заново выросло вокруг, принадлежит ему.
Было, разумеется, и такое, что вызывало его суровое осуждение. Глядя, например, на балконы новых домов, где сушилось белье, он начинает бубнить сердито:
— Сколько раз говорил, чтоб не развешивали простынь на балконах. Нет, неймется им!.. Штрафа ждут, что ли? — И извлекает из внутреннего кармана старенький блокнот.
— Ты тут, дедушка?
— Тут я, родненькая, тут.
— Собака перепрыгнула через ограду, дедушка!
— Вот как? — старик перелистывает блокнот. — Остается только коз сюда пригнать, тогда уже будет полный порядок… в новом парке.
Нахмурившись, он продолжает в том же духе, а вопросы девочки нанизываются, словно четки.
Была весна, конец апреля. Высоко в горах и в глубоких ущельях совсем недавно белели сугробы и свистел резкий ветер. Но с неделю назад подул «южняк» и разорвал облака, громоздившиеся над горными утесами, как белые стада. Как-то сразу потеплело, зазвенела капель, зацвели сливы и персики, а следом за ними побелели черешни и груши, и весь город наполнился благоуханием. Было радостно, словно кто-то праздновал свадьбу. Стало еще веселей, еще нарядней, когда однажды утром буковый лес совсем неожиданно покрылся нежно-зеленой листвой. На другой, на третий день листочки развернулись больше, а через неделю лес зашумел, откинув густую тень до самой реки, и потемнел. После этого «южняк» утих. Только солнце припекало, согревая землю. И тут стали пробиваться травы, зацвели гиацинты и тюльпаны, опережая другие цветы. Ласточки принялись вить гнезда под стрехами. Воробышки же по старой своей привычке рассаживались на телефонных проводах, поджидая, не упадет ли откуда какая крошка, чтобы ринуться за ней и склевать. Горлицы уже разместились на высоких вязах и неумолчно ворковали по целым дням. Множество птиц собиралось в новом парке. И больше всего — прирученных голубей. Дед Еким по-мальчишески увлекался ими. Прибавлялись к этому и другие, уже идейные соображения, ведь голубь не простая птица — во всем мире она служит символом мира. Вот почему, еще когда только закладывали парк, дед Еким подал мысль разводить голубей и сам занялся этим делом. За три года в парке и на городских площадях расплодилось столько голубей, что Горсовет не знал, как от них избавиться. Но старик радовался и всегда имел про запас крошки в кармане, чтобы подбросить птицам и посмотреть, как они борются у его ног. Голуби клевали прямо из рук старика, поглядывая на него то одним глазом, го другим. Порой вспархивали и садились ему на плечи, и тогда он становился похожим на чудотворца.
В это воскресное утро парк был еще пуст, голуби не слетелись. Может быть, они и вправду перебрались под старые часы. Там каждое утра насыпают им крошек жители соседних домов. Старик знал, что голуби вернутся сюда к обеду, когда откроется ресторан и в парке соберется народ.
Да, все идет как по часам. Все в порядке. Глаза деда Екима смеялись. Он был доволен. Так вот и должны жить люди — согретые солнцем, среди цветов и голубей. Он читал об этом в книжках, которые брал у библиотекаря Минковского, да и сам понимал, что так должно быть. Цветы и солнце!
Но что это? Одна из березок наклонилась, она сломана! «Кто осмелился на такое злодеяние?» Глаза старика потемнели. Он подошел к деревцу и осторожно потрогал его, будто боясь причинить ему боль. На траву посыпались сухие листья. «И в новом саду начались опустошения!» Старик с трудом выпрямил поникшее деревцо, попытался подвязать его, но оно опять склонилось к земле, будто ища в ней опору.
— Зачем ее сломал», дедушка?
Старик ничего не ответил. Он увидел, что и другая березка завяла, и принялся сокрушаться.
— Черт знает, что с ними делается… И унавоживаем, и поливаем, и солнце их греет…
— Дедушка, дедушка! — голосок девочки, занятой теперь голубями и курами, доносился уже издалека.
Дед Еким сел на скамью — он любил отдохнуть после дальней прогулки. Так приятно погреться в ласковых лучах апрельского солнца. Но кругом не видно было ни души, хоть день сегодня праздничный. Старику некому было излить свою досаду из-за поврежденных деревцов, это злило его и мешало полностью насладиться апрельскими лучами. Он, пыхтя, озирался и поглядывал на памятник.
Народ позаботился о том, чтобы все было сделано в соответствии с заслугами героини. Памятник был из серого гранита, добытого в самом сердце горы, где Валя Балканова провела прославившие ее дни. Твердый, как партизанская воля, гранитный постамент походил на скалу, из которой был высечен, покатый и взгорбленный, как морские волны; из них и выступал самый образ Вали. Скульптор вырубил его несколькими ударами молотка, пренебрегая деталями, и тем не менее сходство было поразительное — волосы чуть вились над высоким лбом, взгляд, устремленный вперед, словно отыскивал и ждал кого-то. Около памятника зеленела выложенная дерном курчавая полянка с посеянными на ней горными маками. Других цветов не было. Неподалеку от памятника склонил свои ветви явор, обещающий стать настоящим великаном. Березки, толпившиеся в стороне от него, трепетали на солнце, как белые кружева, будто желая ему понравиться.
Раздосадованный старик пришел в смятение, Все, казалось, было в порядке, а вот выходит, что не совсем так… Нарушение гармонии убивает в нем восторг жизни. Часы не всегда идут как надо… Возьмем, к примеру, последние собрания на «Балканской звезде». С февраля и до сих пор, до апреля, словно буря какая-то, сильная и грозная, но в то же время животворная, волнует партийные ряды, испытывает их крепость, сгибая их, как ветер сгибает деревья. Устоят или не устоят? Все говорили, спорили, волновались, и все ссылались при этом на решения XX съезда КПСС. Молчал только дед Еким — не потому, что не волновался, и не потому, что не хотел ничего сказать о партийной демократии, а просто потому, что не мог мириться с нарушением гармонии.
Что сказала бы дочь, будь она жива? Что бы сделала? Наверняка и ей было бы не по себе, потому что нелегко расстаться со старой одеждой, пока не привык к новой, хоть она и удобней, и красивей. Привычка, ошибки, заблуждения. Одни допускали их чистосердечно и с добрыми намерениями, другие потому, что так было легче управлять… Эх, кое-кому крепко досталось, но ничего не поделаешь, времена такие: лес рубят — щепки летят… Слава богу, что хоть Чолаков посыпал главу пеплом в угоду некоторым отчаянным любителям самокритики… Фу!
Солнечные блики, пробираясь сквозь листву явора, играли на сером граните. Лицо героини как бы ожило. Дед Еким вздрогнул и, потеряв нить мыслей, опять загляделся на памятник. И вдруг глаза его снова потемнели. Кто-то начиркал мелом в самом низу постамента. Написанное было едва видно за разросшимися маками. Чьи-то шалости? Старик осторожно прошел на полянку. На камне коряво, но четко было выведено: «Придет и вам конец». Дважды, трижды прочитал надпись дед Еким и почувствовал, как его точно железным обручем охватила бессильная ярость. «Смотри ты, до чего додумался, паршивец!» И дед Еким, опустившись в траву на колени, принялся торопливо стирать мел платком.
— Дедушка, дедушка! — звала девочка, но он не обращал на нее внимания, торопясь уничтожить возмутительную надпись, пока ее не заметили другие. И чем старательней он тер, тем глубже проникала ему в сердце злоба на неизвестного, потому что многое он мог простить, но кощунства над своей дочерью и партийной честью — никогда!
Он стер все, до последней буквы, отряхнул платок и поднялся, хмурясь и криво усмехаясь. «Вон кто им ненавистен!.. Мерзавцы!..» Задыхаясь от волнения, он топтался около памятника, бормоча и все отряхивая платок, словно хотел, чтоб на нем и пылинки не осталось от возмутительных слов. «Знаю, кто вы такие!.. Не нам, а вам конец пришел! Бездельники!.. Негодяи!.. Сегодня же займусь расследованием… Прохвосты!.. Мерзавцы!.. Нашли кого задевать…»
Он долго кружил возле памятника и оглядывался, не увидит ли кого из этих «бездельников» и «негодяев», но кругом все еще никого не было. И он принялся нервно расхаживать взад и вперед по аллее, громко разговаривая, будто видел злодеев перед собой. Гнев его все разрастался, и он решил, что необходимо действовать и как можно скорее, пока следы преступников не исчезли. Взяв внучку за руку, он заторопился домой, раздосадованный и возмущенный тем, что так печально закончилась его воскресная прогулка. А поскольку воображение его было крайне возбуждено, он уже нашел скрытую связь между засохшими березками и осквернением памятника. И все больше и больше убеждался, что необходимо немедленно сообщить о совершенном преступлении в милицию, потому что эти распоясавшиеся мерзавцы могут посягнуть и на чью-нибудь жизнь.
Дед Еким не заметил, как очутился на улице Героев Труда. С утра и до обеда по воскресным дням люди здесь с головой уходили в домашнюю работу, и потому никто не обратил на него внимания. На галереях и балконах, во дворах и палисадниках, а то и прямо на улице выбивали половики, ковры, одеяла. На длинных веревках висело только что вынутое из корыт белье, дымились очаги, разносился аромат жаркого, кукарекали петухи, кудахтали куры, в загончиках под лестницей визжали поросята. Одним словом, стоял такой шум и гам, а хозяйки так были заняты домашними хлопотами, что появление деда Екима не только осталось незамеченным, но и показалось совершенно излишним. Жена еще в дверях сердито окликнула его:
— Что прикатил? Тебя только тут не хватало!
Не бросая слов на ветер, дед Еким молча обошел корыто с бельем и устремился к телефону в передней. Он снял трубку и как всегда закричал:
— Альо-о! Альо-о-о!
Даже на улице было его слышно.
— Дайте мне милицию!.. Милицию разыскиваю!
Оторвавшись от стирки, бабушка Деша озадаченно слушала.
— Нет вашего начальника? — кричал старик. — Как так нет? Дайте мне тогда помощника его, Фотева… Да… И Фотева нет? Хорошенькое дело!.. Милиция празднует, а враг в это время разгуливает по всему городу… Браво!.. Поздравляю вас с бдительностью, товарищ милиционер!.. Ничего не скажешь, хорошо вы оберегаете спокойствие населения… Отлично!.. Да, да, я не из пугливых… Запишите себе в блокнот — говорит с вами Еким Балканов… Рядовой гражданин… Вы его не знаете, зато народ знает!.. Да, да. Запишите: Еким Балканов… Что вам еще угодно? Вы дежурный, так? Спросите завтра у своего начальника, кто такой гражданин Еким Балканов. Он вам объяснит… Да, до свиданья!
Ужасный день!
Мало того, что его оскорбил какой-то пакостник, так еще и милиция, родная милиция, заступница народная, упование его и надежда, и та осталась глуха и безучастна к его просьбе! Все смешалось на белом свете! Проходимцу, негодяю, фашисту, извергу легче намарать разные глупости на памятнике в парке, чем тебе добиться того, чтобы справедливая просьба была услышана и принята во внимание…
Нет, господа, не бывать этому! Ваш номер не пройдет!.. Кошка перебежала вам дорогу!..
Он снова взялся за трубку и набрал номер «Балканской звезды».
— Альо-о! Кто это? Мне нужна Ружа Орлова!
— Я у телефона.
— У телефона? — оживился старик.
— Да, дедушка Еким. Что ты хочешь?
— Так это ты, Ружка?
— Я, дедушка Еким, я самая.
— Ха, как же это ты сразу меня узнала?
— Да кто тебя не узнает! Ты человек знатный!
Усы его опустились к трубке — не любил он лести и все же испытал удовольствие, особенно после унизительного разговора с милиционером. И он сказал тоном обиженного ребенка:
— А я уж думал, что все меня забыли.
— Ничего подобного, дедушка Еким. Что случилось?
— У вас не выходной? Не отдыхаете сегодня?
— Нет, не отдыхаем.
— Слава богу, что нашлось хоть одно место, где еще стоят на своем посту.
— Да.
— Так нельзя ли заглянуть к тебе ненадолго… потолковать об одном важном деле?
— Пожалуйста, дедушка Еким! Сейчас пошлю за тобой машину. Ты дома?
— Дома. Куда мне деваться!
— Ну тогда жди!
Старик положил трубку, и усы его снова встопорщились. Он вышел во двор и стал расхаживать по вымощенной дорожке, словно петух, не глядя на жену у корыта с бельем, не глядя на внучку, которая тоже засучила рукава, готовясь заняться стиркой.
2
Машина пришла скоро, и старик тут же поехал на «Балканскую звезду».
Двери фабрики всегда были для него открыты. Он приходил сюда, как к себе домой.
Старик сроднился с жизнью фабрики, как ветвь со стволом большого дерева, пустившего корни глубоко в землю. Соки, которые дерево впитывало из земли, текли и в его жилах. Стоило ему ступить на фабричный двор и услышать шум ткацких станков, руки у него сразу «начинали чесаться». Он чувствовал себя по-юношески молодым, и ему казалось, что, стань он сейчас среди станков, — не с одним, не с двумя, а с шестью сразу управится.
И потому всякий раз, когда старик по делу или без дела попадал на фабрику, он не упускал случая зайти б ткацкий цех, не забывал осмотреть станки, на которых работал когда-то, охотно давал советы новичкам и хвалил за успехи, видя красный треугольный флажок передовика. «Браво, браво! — говорил он, ласково гладя жилистой рукой вытканное полотно, точно головку своей внучки. — Ткете, как в наше время, а пожалуй, и лучше».
Он переходил от станка к станку, прислушивался к жужжанию челноков, осматривал шпули и основу и всегда отмечал, что хорошо, что плохо. Ткачихи привыкли к его замечаниям и не сердились на старика. Их радовало присутствие старика, и каждая старалась подольше задержать его у своего станка. «Дедушка Еким, дедушка Еким! — кричали ему в самое ухо. — Постой еще маленько, не торопись!» Он улыбался так широко, что смеялись даже его брови.
Но теперь старику было не до станков, не до ткачих и шутливых разговоров. Из машины он прямиком двинулся в директорский кабинет. Охваченный волнением, он не замечал рабочих, которые издали приветствовали его, снимая кепки. Очень быстро для своих лет он взобрался по цементной лестнице и сразу же нетерпеливо постучал в дверь с табличкой «Директор».
Эта комната с простыми деревянными стульями и затянутыми красной материей стенами, на которых висели календарь, портреты и диаграмма выполнения квартального плана, была ему хорошо знакома. Но сейчас, отворив дверь и увидев множество собравшихся здесь женщин, старик подумал, что ошибся.
— Входи, входи, дедушка Еким, — послышался голос Ружи, сидевшей где-то среди женщин.
Дед Еким нахмурился — его план срывался. Он вдруг решил, что ему не следует вникать в эти женские дела, и попятился было назад.
— Входи, дедушка Еким, — загалдели женщины, — входи, а то на веки веков обидимся на тебя!
А Савка Раменова и Райна-аккордеонистка прямо-таки силой втащили деда Екима в кабинет. Старик полушутя, полусерьезно отругал их за насилие, заявив, что не намерен терять время попусту; он хотел переговорить лично с директором по одному серьезному делу. Но наперекор своим словам послушно сел на стул, который ему подвинули.
— Делать вам нечего, что ли? — ворчал он, усаживаясь поудобней. — На худой конец взяли бы кудель да прялку и спряли бы что-нибудь для ребятишек… Э-э, смотри ты, и наша сношенька заявилась… А тебе-то что тут понадобилось?
Яна спряталась за спину Ружи.
— Мало у вас хлопот по хозяйству? — продолжал отчитывать старик, поворачиваясь то в одну сторону, то в другую, но под ласковыми взглядами женщин ярость его постепенно угасала. Утихомирившись, он уже забыл, зачем пришел.
Жизнь его — как уток с основой — была столь прочно переплетена с жизнью фабрики, что он не мог бы оторваться от нее, если бы даже и захотел. Радость или огорченье какое — он всегда был тут, среди своих, разделял с ними все, что бы ни случилось. И тогда, когда сбежал Борис, и теперь, когда уволили Чолакова, дед Еким был здесь, на посту, как старый солдат, не расстающийся со своим оружием и амуницией.
Бегство Бориса он переживал не менее остро, чем смерть своей дочери Вали Балкановой, хоть и проклял его и изгнал из своего сердца. Но страдание оставалось страданием, и оно еще сильнее состарило деда Екима, снегом припорошило его волосы.
Увольнение Чолакова, обусловленное, правда, совсем другими причинами, также глубоко ранило сердце старика, несмотря на то, что бывший директор не был ему ни родней, ни приятелем. Дед Еким присутствовал на том памятном собрании, и много ночей после этого тревога не давала ему спать. Такова была логика событий: старик понимал ее, но не мог воспринять спокойно. Апрельский пленум партии встряхнул здоровое дерево, и повядшие листья облетели. Кто может предугадать и измерить силу грома и силу народного гнева? Чолаков сопротивлялся сверх всякой меры. Он думал, что, если он стукнет по столу, все падут ниц, а потом будут смотреть ему в глаза, как смотрели раньше. Однако он ошибся в расчетах. Вместо того чтобы покорно склониться перед ним, люди, как один, выступили против него и многое ему припомнили. Сначала он слушал, стиснув зубы, а потом, после того как целых два часа его хлестало словно градом, стал каяться.
Дед Еким не принимал участия в этой битве, но все время был на стороне рабочих, хоть сердце его и сжималось от жалости к незадачливому директору. Чего, однако, стоит сочувствие одного, когда кругом бушует буря? Выходя после собрания, он шепнул секретарю Горкома: «Сильно гайку закручиваете, паренек! Как бы не притиснуло его!» Что произошло дальше, он в подробностях не знал. Слышал только, что руководство предприятием возложили на Ружу Орлову, а Чолакова отправили на низовую работу в том же хозяйственном секторе. И с тех пор дед Еким не встречался с ним.
Старик не знал, кого он должен упрекать, — люди были дороги ему, но партия, к которой он принадлежал, что называется, с детства, была еще дороже. И он решил отойти в сторонку, пока не улягутся тревоги и сомнения, и по-стариковски пожить спокойненько на пенсию. Но утаится ли шило в мешке? На другой же день он принялся названивать по телефону: «Ну как теперь дела идут без Чолакова? Выполняете ли план? Не опозорьтесь, смотрите, с самого начала, чтобы потом, черт побери, не рвать на себе волосы!..» И так далее и тому подобное. Да и те постоянно звонили ему. Бабушка Деша телефонисткой заделалась. Каждый день его разыскивали по два-три раза. Особенно новый директор — Ружа Орлова, словно у нее и дела другого не было: «Дед Еким, не заглянешь ли ненадолго к нам? Пришлю за тобой машину». Так и курсировала фабричная машина между «Балканской звездой» и улицей Героев Труда, а в ней — мудрствующий дед Еким, иногда один, иногда со своей внучкой.
Бот и сейчас, как видно, директорский совет опять рассчитывает на его помощь. По доброте своей он и на этот раз решил вывести их из затруднения.
— Рассказывайте теперь, — объявил он, переводя взгляд с одной на другую, — объясните, в каком месте вам жмет башмак… Идти ведь надо. И меня дело ждет!
Женщины смолкли. Как всегда, первой взяла слово Ружа.
— Дедушка Еким, — заговорила она, — бьемся мы над решением одной задачи. Все утро ломаем головы, вертим, крутим, а ответ никак не получается…
— Раз не получается — двойка! — прервал ее старик. — Таким ученикам я двойки ставлю.
— Правильно, — продолжала Ружа, — но не обидно ли получить двойку ни за что ни про что… Вон мы какие тут собрались — все со средним образованием и ударницы… Райна в этом году окончила вечерние курсы… Савка стала слесарем… Яна окончила курсы повышения квалификации и теперь о вечерних подумывает… Иванка Маринова, наш бессменный секретарь парторганизации, накопила опыта не меньше, чем Стара Планина…
— Знаю, знаю, — замахал рукой дед Еким, — я и таким высокопоставленным личностям могу закатить по двойке, на всю жизнь меня запомнят!
— Вот и хорошо, — улыбнулась Ружа, — а теперь скажи, как нам быть? Задумали мы перестроить работу и с самого начала наткнулись на препятствие. И кто, ты думаешь, виноват? Ваша Яна! Полюбуйся вот на нее!
Дед Еким вскинул голову, как от удара.
— Как это так?
— А так! Перлась, словно рак на стремнине, — ни вперед, ни назад. Мы решили больше с ней не церемониться. Но прежде нашли нужным посоветоваться с тобой.
— Ничего не понимаю, — дивился старик.
— Сейчас поймешь.
— Руби напрямик, Ружка! — нетерпеливо заметила Савка Рашенова. — Расскажи ему, о чем речь.
— И расскажу!.. Мы решили доверить Яне ответственную работу, дедушка Еким.
Старик напряг слух, чтобы не пропустить ни слова.
— Предложили ей стать бригадиром в ткацком цехе. Возглавить бригаду, с тем чтобы повысить производительность. До сих пор эта работа лежала на мне. И хорошо ли, плохо ли, но дело двигалось. А теперь этим должен заняться кто-то другой. И мы все убеждены, что Яна прекрасно справится. Только она одна держится обратного мнения. Вбила себе в голову, что провалит дело. Ну ладно, тогда и я откажусь, и Иванка оставит партийную работу, и Савка бросит профорганизацию, и Райна… Что же получится? Аспаруха Беглишки призвать в руководители, так, что ли?
— Тот, конечно, только и ждет этого, — вставила одна из женщин.
— Глядишь, и братья Гавазовы подоспеют к случаю, — добавила другая.
Дед Еким молчал, устало склонив голову. Он не понимал, зачем эти разговоры, когда все так просто и ясно. Но он с тревогой думал о Яне; вот уже три года живет она у него в доме, похожая на вытоптанную траву, которая так и не может подняться. Напугана, измучена, словно бегом спасалась от бешеных собак. Иногда ему казалось, что она сляжет в постель, сломленная каким-то недугом, и больше не встанет.
Страдания Яны были, понятно, не всегда одинаково сильны, как не одинакова сила ветра в природе.
Первый год после того, как Борис покинул ее, Яна думала о нем днем и ночью: звала его во сне, умоляла, но он будто умер — не подавал о себе никакой вести, никакого знака, что где-то существует.
Когда родилась Валентина, Яна немного поуспокоилась — потому ли, что ребенок заполнил ночи своим требовательным плачем, или потому, что принес материнскую радость, — она сама этого не понимала, но ей удалось изгнать Бориса из памяти, вернее, оттеснить куда-то подальше во мрак воспоминаний, где порой годами дремлют пережитые страдания. Но, подрастая, девочка все больше становилась похожей на отца — глаза, нос, подбородок, — и Яна вновь ощутила, сколь жестоко наказана. Горе охватило ее с той же силой, как во время бракоразводного процесса. Она не явилась тогда на слушание дела, а поручила адвокату довести до сведения суда, что согласна на развод и ничего больше ее не интересует. Удивленный и тронутый этим поступком, Борис дал сто левов на ребенка.
Какой подлец! Сто левов! Она швырнула их в физиономию адвокату, хотя тот был совсем ни при чем, сказав, что она не нищенка, ибо впервые почувствовала, как глубоко оскорблена, обманута этим человеком… Тогда она решила взять ребенка и навсегда покинуть дом, где испила горькую чашу до дна. Но старики — дед Еким и баба Деша — со слезами на глазах молили ее остаться, и без того они убиты горем из-за бегства Бориса. И ома осталась, позволив им ухаживать за ребенком, радоваться на него.
Затерянная среди станков и грохота машин, Яна походила на былинку — так старательно избегала она света, льющегося из окон. А вот теперь ее опять хотят ввести в поток света и показать людям: «Взгляните на нее, это вовсе не былинка, как вам казалось, а прекрасный цветок, правда еще не совсем распустившийся. Посмотрите, как она красива! Пусть ее согреет солнце, и вы увидите, как она расцветет!..»
Но не станет ли она опять предметом разговоров? Не лучше ли оставаться в сторонке, никем не замечаемой, чем оказаться у всех на виду и на языке?
Яна сидела сейчас, опустив голову, за спиной у Ружи и молчала. В присутствии деда Екима она еще больше смутилась. Его мнение, которого все ждали, Яна знала заранее. И потому, услышав голос старика, отозвавшийся в ее сердце как давно знакомое эхо, она ничуть не удивилась.
— Во-первых, — говорил он, по порядку загибая пальцы, — я ничего против не имею. Во-вторых, выражаю ей полное доверие!.. В-третьих… Скромного человека всегда заметят, рано или поздно.
Старик кончил, и женщины повернулись к Яне, ожидая ее решения. В комнате наступила такая тишина, что стал отчетливо слышен мелодичный бой стенных часов в коридоре. Обеденное время. Это усилило нетерпение женщин.
— Ну как, Яна?
Яна неожиданно вскочила и, схватив пыльник, лежавший у нее на коленях, кинулась к двери, красная, как пион. Из глаз ее лились слезы.
Все в растерянности смотрели на нее. Дед Еким попытался было ее остановить, но Яна, не слушая его, выбежала и с силой захлопнула за собой дверь.
— Что с ней такое, а? — спросила Савка, удивленно качая головой. — С ума, что ли, она сошла?
Никто ей не ответил. Только Ружа, которой были известны тайны Яниного мирка, сказала, положив руки на стол:
— На этом сегодня закончим, товарищи. До завтра. А ты, дедушка Еким, останься ненадолго, хочу потолковать с тобой.
Старик согласно кивнул. Женщины вышли одна за другой, и в кабинете опять водворилась тишина. Ружа подошла к окну и широко распахнула его. За окном тоже было тихо. Она глубоко вдохнула свежий воздух и загляделась на цветущие яблони. Лужайка была застлана розовым благоуханным покровом. Над цветами роями кружились мохнатые пчелы. Сад походил на улей, и жужжанье пчел сливалось с шумом реки и ручьев, клокотавших где-то поблизости. Пришла весна. Ружа смотрела и не могла насмотреться. Пришла весна! (Не оттого ли плачет Яна?) Пышные рыжие волосы Ружи горели как пламень, как расплавленное и застывшее золото — не было даже легкого дуновения ветерка. Солнечные лучи пронизывали их, отчего волосы горели еще сильней, точно их и в самом деле кто-то зажег.
Старик не хотел нарушать этого спокойного созерцания — пусть отдохнет, пусть порадуется на цветы и солнце. А потом он расскажет ей по порядку, от начала и до конца обо всем, что вызвало его тревогу, которая привела его сюда. Расскажет и о березках, и о том пакостнике, который глумился над памятником его дочери, и о дежурном милиционере, никогда не слыхавшем имени Екима Балканова! Как коротка человеческая память, как она изменчива!
Неожиданно Ружа обернулась и прервала ход его мыслей.
— Дедушка Еким, — сказала она, — извини, что мы докучаем тебе нашими заботами. Но я хотела еще кое-чем поделиться с тобой.
Она подошла к столу и, выдвинув ящик, достала конверт, уже вскрытый.
— Речь идет о Борисе.
— О Борисе? — встрепенулся старик. Этого он не ожидал.
— Да, о Борисе.
Старик побледнел и только глядел на нее, не решаясь ни о чем спрашивать. Быть может, с Борисом случилось что-то недоброе? Непоправимая беда? Или еще что?
Ружа спокойно вынула из конверта письмо и, развернув, положила на стол перед дедом Екимом.
— Вот прочти.
Старик начал смущенно ощупывать свои карманы.
— Забыл очки.
— В сущности, — сказала Ружа, — я и сама могу передать тебе содержание письма.
Старик просительно вскинул на нее глаза.
— Борис хочет опять поступить к нам на фабрику, дедушка Еким, — сказала Ружа, — хочет вернуться в наш город.
— Вот как? Но, ведь он… ведь у него где-то там есть работа?
— Не знаю. Письмо адресовано директору. Борису, очевидно, не известно, что его приятеля уже нет здесь. И написано оно совсем в духе Бориса Желева — ультимативно: или вы, или я!.. Прямо-таки приказ! Или вы примете меня на ту же работу, которую я выполнял, и на прежних условиях, или идите ко всем чертям!.. Такова суть его письма.
Дед Еким сидел с поникшей головой, бледный, потрясенный услышанным. И недавние его тревоги рассеялись как туман. Они показались ему ничтожными по сравнению с этой новой.
Он почел за благо отказаться от жалоб, с которыми шел сюда. И лишь спросил:
— А другие знают?
— О чем?
— О том, что он собирается вернуться?
— Нет, пока только я… Впрочем, Яна знает. Сказала ей, чтоб это не явилось для нее неожиданностью.
Старик потянулся было за письмом, но сейчас же от< дернул руку.
— Ультиматум, а?.. Смотри ты… ультиматум!
И он засмеялся, но смех его, глухой и надрывный, походил на плач.
3
Миновал апрель.
Пестрой лентой потянулись веселые майские деньки. Одни цветы распускались, другие отцветали — гиацинты и тюльпаны, ландыши и пионы, вишни и яблони. Зацвела сирень. Луга побелели, усыпанные маргаритками и кувшинками. Все менялось и преображалось, будто спешило как можно лучше украсить чудесный венок весны.
Менялись и люди.
Поначалу Яна «ни за что на свете» не соглашалась взяться за работу, которую ей поручали, но видя, что и дед Еким вмешался, уступила, как ни боялась ответственности.
Вообще-то она не страшилась работы. В конце концов, чуть побольше напряжения — и дело наладится. Это весть о возвращении Бориса вновь сковала ее волю. Потому что человек, чье место она должна была занять, превратился для нее в страшилище. И как будто уже превозмогла себя, а теперь вот снова все всколыхнулось. Не оказаться бы опять игрушкой в его руках. Есть от чего прийти в отчаяние. Лучше оставаться по-прежнему ничем не примечательной или даже скрыться куда-нибудь, чем снова стать посмешищем в глазах людей из-за своей глупой и безнадежной любви. Да и любовь ли это или называется как-то иначе? Кто знает! Она не задумывалась над этим, потому что презирала Бориса и одновременно плакала о нем; потому что ненавидела его и часами всматривалась в его фотографию, которую хранила в альбомчике, спрятанном среди белья. И за эту свою долголетнюю раздвоенность она себя ненавидела до того, что порой была готова наложить на себя руки. Но столько нитей связывало ее с людьми, что оборви она одну-две, ее будут держать еще двести. Потому она и не пыталась их обрывать — все равно не отделишься от людей, с которыми суждено жить и работать.
И после того, как, расплакавшись перед всеми, она постаралась скрыться, пристыженная, ее нашли и не позволили предаться горю. В тот же вечер Ружа отыскала ее, вытащила из дома, словно утопающего из реки, увлекла за собой и не оставляла в покое до тех пор, пока не растормошила. О чем толковали тогда эти женщины, сидя вдвоем в автомобиле, которым Ружа управляла сама, осталось неизвестным. Знали только, что они побывали высоко в горах, ужинали в корчме, даже выпили там по бокалу вина, потом укатили в Сокольские леса и вернулись в город лишь заполночь, к удивлению своих близких. Ружа Орлова, хмурая и недовольная, не нашла нужным рассказать, о чем они говорили. Но по ее настроению, которое никак нельзя было назвать хорошим, безошибочно угадывался результат их длительных переговоров.
Для Ружи всего важнее было вывести несчастную из заслонявшей ее тени Бориса и показать людям, какой она была и может быть.
— Почему бы тебе в самом деле не выйти замуж? — как бы вскользь спросила ее Ружа по дороге. — Ты что, уродина? Калека? Или дурочка?
Яна молчала. Мысль о замужестве, как видно, приходила ей в голову и раньше. А оживившись от выпитого вина, она заметила как бы в шутку:
— Все мужья, Ружка, на один покрой. Пожив с Борисом, я их возненавидела. Смотришь — красивые, хорошие, а что за этим кроется, не знаешь.
— Рассуждаешь как мещанка, — перебила ее Ружа. — Сколько мужей у тебя было, чтобы так судить о них? Не лучше товарец и мы, женщины.
— Да, но мы бессильны.
— Сомневаюсь в этом, — усмехнулась Ружа, вспомнив о своем многоуважаемом супруге Колю Стоеве, который нянчил сейчас дома ребенка, то и дело поглядывая в окно, не блеснут ли фары машины. — Не всегда мы бессильны. Вот, например…
Сумела же Гита завлечь в свои сети Бориса, хотела она сказать, но побоялась произнести ее имя. Потому что лучше все же не наступать человеку на больную мозоль.
Долго катались они, рассуждая о разных житейских делах; разговор о замужестве глубоко запал в сердце Яны, хотя она не призналась бы в этом даже самой себе. Но у шофера — директора «Балканской звезды» — тоже было женское сердце. Отлично зная, куда попадают ее намеки, Ружа только забросила удочку и умолкла, будто подобные интимности мало ее интересовали.
Расставаясь в городе, Ружа протянула Яне руку и сказала, как бы подводя итог всему разговору:
— Ну ладно, до свиданья, Яна. Значит, с завтрашнего дня начинаем новую жизнь! Так?
На лице Яны мелькнула улыбка. И тут же угасла.
— Брось шутить, Ружка, скажи лучше, верно ли, что от него пришло письмо?
— От кого?
— Сама знаешь… Правда ли, что он хочет вернуться? И на то же самое место… Разве это его место, а, Ружка?
Ружа выпустила ее руку.
— Пошла ты к черту! — заявила ома. — Все равно что с чурбаном целый вечер проговорила, а не с человеком.
И, круто развернув машину, оставила Яну посреди дороги. даже не взглянув на нее больше.
Долго еще продолжала она сердиться на Яну, и никто теперь не знал за что, потому что Яна заняла уже свои новый пост бригадира.
В первые дни, как водится, работа подвигалась туго. Одно дело — отвечать за четыре станка, другое — за сорок. Яна знала машины, знала и ткачих, которые на них работали, и все же, когда, выйдя на середину цеха, она прислушивалась к шуму станков, ей казалось, что она впервые очутилась на фабрике.
Да и Ружа вела себя как своенравный директор — не разговаривала с ней целую неделю, будто совсем ее не замечала. «Я ей не нянька», — ответила Ружа однажды на вопрос, почему она сердится на Яну. А та начала стараться еще больше. То и дело собирала ткачих своей бригады и давала им разные наставления. Даже график какой-то прикрепила под часами, пытаясь привлечь внимание недовольного директора.
Сама того не замечая, Яна стала во всем следовать примеру Ружи. Прежде всего, рассуждала она, надо подтянуть трудовую дисциплину. От старой гвардии осталось лишь несколько ткачих, а новенькие пришли из села или из текстильного техникума. И с новичками и со старыми приходилось воевать за дисциплину.
И странное дело, пока она рядовой ткачихой тихо-мирно работала на своих четырех станках, такие вещи, как порядок, дисциплина, планы, ее не занимали. Больше того, она наравне с другими очень обижалась, когда Ружа делала замечание опоздавшим. А теперь вот получилось так, что сама превратилась в «надзирателя». И это казалось ей не только необходимым, но и совершенно обязательным. Девушки начали даже коситься на нее. «Рож< кн свои показывает», — ворчали пострадавшие.
Оставаясь по-прежнему молчаливой, Яна уже не ходила с поникшей головой, а держалась прямо, с тревогой поглядывая на руки ткачих, на таблички, где отмечалась ежедневная выработка, на часовую стрелку, которая показывала окончание смены.
По примеру Ружи Яна последней покидала цех и приходила раньше всех — осмотреть, в порядке ли станки. И хоть повсюду на стенах, даже над станками были развешены плакаты и лозунги, призывавшие содержать рабочее место в чистоте, выполнять норму и заботиться о качестве продукции, она все хотела видеть своими глазами, ощупать собственными руками. Некоторые ткачихи действительно отлично знали свои станки, но были и такие, которые все еще беспомощно топтались возле неисправного рычага. Одни старались не допускать брака, другие норовили нарочно ослабить натяжение основы, чтобы пустить ткань пореже и таким образом выгнать больший метраж. Яне, знакомой с подобными ухищрениями, совсем не трудно было их обнаружить. Известны ей были и так называемые «объективные» и «технические», и разного рода другие причины, когда выпускают ткань с большим количеством «поясов», путают основу или часами копаются со щетками. Девушки в таких случаях обвиняли, конечно, узелки или же секционного мастера. Каждый бракодел старался свалить вину на кого-то другого… Все это Яна превосходно знала, и обмануть ее было трудно. Постепенно она превратилась в учителя с указкой в руке, который насквозь видит своих учеников и легко разгадывает их намерения. Девушки побаивались ее строгости. Иногда даже перешептывались: «Эта брошенная на нас вымещает свою злобу!» Но дальше не заходили.
Директору, разумеется, это нравилось. «Хорошо взялась, — сказала она секретарю парторганизации, — люблю строгих людей». И незаметно ее отношения с Яной опять наладились. Ружа, как и прежде, стала вызывать Яну к себе, беседовала с ней о планах, нормах, дисциплине. Увлеченные работой, они не вспоминали больше о Борисе. Ружа не хотела заводить об этом разговор, а Яна не решалась спрашивать. Жизнь текла и без него, без Бориса. И, казалось, все к лучшему. Борис, возможно, не вернется. Кто знает, чем было вызвано его письмо. Он и раньше любил переполошить людей, чтобы придать себе важности.
То ли вернется, то ли нет. И Яна все больше успокаивалась, обращая свои помыслы на другое.
Как-то Ружа сказала ей:
— Получила приглашение от Манчева, в гости зовет.
— Манчев? — удивленно спросила Яна. — Кто этот Манчев?
— Директор «Победы Сентября», наш конкурент.
— А-а, — вспомнила Яна, — высокий такой, медведь…
— Он самый, — улыбнулась Ружа.
И они умолкли, словно стараясь получше припомнить Манчева, слывшего большим оригиналом.
— Хорошо бы обменяться опытом, — продолжала Ружа. — Говорят, Манчев ввел у себя всякие новшества. Его и на городском совещании ставили в пример.
— Поедем, — согласилась Яна.
— Ладно, я позвоню ему.
На этом и кончили разговор о Манчеве. А на другой день, под вечер, сели в машину и покатили во «дворец» Манчева, находившийся за городом, в буковом лесу.
Был хороший, теплый вечер, какие нередко выдаются в это время года. И хоть солнце уже скрылось за холмами, отблески его долго еще озаряли ущелье, тонувшее в синих тенях орешника. Склоны и облака над ними долго светились, прежде чем покрылись алыми бликами заката. Но и после того, как солнце опустилось за горизонт, ощущалось чудесное сияние дня. Долго еще пламенели в небе пожары, пока наконец не сгустился синий вечерний сумрак.
В такой вот летний вечер Ружа и Яна ехали горной дорогой, вьющейся по берегу реки среди сумрачного ущелья.
Ружа сидела за рулем, а Яна, спрятавшись в полумраке старой «победы», опасливо поглядывала в окошечко. Дорога шла лесом, и чем выше они взбирались, тем быстрее сгущались сумерки. Ориентироваться помогал свет фар. Умелый и опытный шофер, Ружа ловко брала повороты, зорко глядя вперед. Яна молчала. Не до разговоров было и Руже. Они уже обсудили все, что касалось встречи с Манчевым.
Прислонившись головой к стеклу, Яна незаметно задремала, убаюканная монотонным гуденьем мотора. Сквозь сон ей казалось, что она, подхваченная сновиденьями, летит поверх деревьев, поверх скалистых пиков, возвышавшихся по обеим сторонам ущелья.
Очнувшись, — она увидела, что машина стоит. Ружа сердито махала кому-то рукой и кричала:
— Почему не посторонитесь? Что за безобразие? Стали, да еще на крутом повороте!..
Она дала продолжительный гудок, но мотоциклист, стоявший в свете фар посреди шоссе, тоже что-то кричал, чего женщины в «победе» не могли расслышать.
— Дайте дорогу! — требовала Ружа. — Не понимаете, что надо посторониться?.. Нахал какой!
Ружа торопливо вылезла из машины. Дорогу загородил громоздкий двухместный мотоцикл, на заднем сиденье которого помещался большой чемодан, привязанный куском провода. И мотоцикл, и чемодан, и сам водитель были густо осыпаны пылью.
— Извините, что побеспокоила вас! — послышался неожиданно звонкий женский голос.
Ружа опешила — она была уверена, что перед ней мужчина.
— Прежде всего вы нарушаете правила движения, — строго заметила Ружа. — Или в аварию захотелось попасть? Что у вас случилось?
Она говорила сердито, с удивлением оглядывая стройную фигуру в брюках.
Женщина с большим трудом отвела мотоцикл к кювету, чтобы освободить дорогу, и очень просто объяснила, что кончился бензин и она вынуждена была остановиться.
— Только бы до города добраться, а там пара пустяков. Там все меня знают. Важно отсюда сдвинуться. Выручите меня. Я заплачу! Наличными!
— Мы бензином не торгуем, товарищ, — сказала Ружа, — но в виде исключения дадим немного, чтоб вы могли доехать до города. Есть у вас какая-нибудь посудина?
— Да, конечно.
И мотоциклистка отошла к своей машине.
Ружа продолжала недоуменно присматриваться к ней. Незнакомка возилась в полумраке около своего мотоцикла. Чтоб легче было двигаться, она сбросила кожушок, который был на ней надет. Под темным пуловером, облегавшим ее тонкую талию, обрисовалась маленькая грудь. И брюки, и пуловер придавали ей совсем мальчишеский вил. И если б не прическа — взбитые и завязанные сзади наподобие конского хвоста волосы, — трудно было бы сказать, парень это или девушка. Вся ее фигура, стройная и гибкая, выражала уверенность и какое-то чисто спортсменское удальство, и это делало ее еще более привлекательной. Даже строгое сердце директора смягчилось при виде этой по-мальчишески ловкой девушки, которая с полным пренебрежением к опасности, рискуя попасть под колеса, остановилась посреди дороги, да еще на таком крутом повороте.
— Я могла доехать еще засветло, — без умолку говорила мотоциклистка, — если бы малость не задержалась в Сокольских лесах… Ах, какие же там перемены! Рестораны, отели!.. И все это вы понастроили?
— Да.
— Так и должно быть… Простите, дайте я сама налью… Незачем вам пачкаться.
И с маленьким бидоном в руках она решительно шагнула вперед, но, попав в полосу света, вдруг удивленно отступила.
— Ха, да ведь мы знакомы с вами, а?
Она поставила бидон и с распростертыми объятиями кинулась к Руже.
— Что же ты молчишь, товарищ Орлова?
Ружа будто одеревенела.
— Не узнаешь меня?
— Как тебя не узнать!
— Почему же ничего не скажешь? Как ты изменилась! Такой важной дамой стала! Прямо не узнать.
— И я не узнала тебя, товарищ Коевская! — сказала Ружа, кинув тревожный взгляд на машину, где, скрытая темнотой, сидела Яна.
— Я тоже изменилась, правда?
— Ну, конечно.
— Нравятся тебе мои брюки?
— Замечательные.
— Сшила их перед отъездом сюда. Да и вообще я часто хожу в брюках. Удобно и шикарно.
— Да, это шикарно, — с усмешкой повторила Ружа, но Гита не заметила иронии, взволнованная неожиданной встречей. Порывисто схватив Ружу за руку, она завопила:
— Ах, я умру от радости! С каких пор не виделись! Как я рада! Это твоя машина?.. Как я рада! А я вот мотоцикл купила. Год тому назад. Но он мне уже опротивел.
Хочу продать и купить другой. Теперь появились новые, итальянские.
Она тараторила, захлебываясь, как будто всю жизнь только и думала об этой встрече. Ружу коробило от ее нежностей, и она нетерпеливо ожидала, когда кончатся все эти излияния. Но Гита не знала удержу.
— Помнишь нашу Минковскую? — сыпала она. — Что поделывает это диво? Как вспомню ее, прямо валюсь от смеха! Роскошно, роскошно!.. Помнишь ее?
— Помню, конечно. Она и сейчас воспитательницей работает.
— Да? До чего же я рада. А что другие товарищи делают?
— Все в порядке. Работают.
— Очень рада.
Вырвавшись из ее объятий, Ружа с дрожью в руках стала наполнять бидон бензином. Гита, вертясь возле нее, продолжала болтать, охваченная внезапным приступом лирики.
— Помнишь, какие чудесные лунные вечера мы проводили вместе?
— Помню.
— И всем этим мы обязаны тете Маре… И музыка, и танцы!.. Помнишь?.. Хорошее было время… Согласись… А теперь разлетелись, как птенцы… Но мы еще опять соберемся… Платьице на тебе шелковое, да? Поди ж ты, как красиво стали у нас шить! На заказ сделано или готовое?
— На заказ.
— Скажешь потом, кто шил… И мне хочется заказать себе платье… Смотри ты, какой шикарной расцветки платья стали делать наши… Лучше заграничных…
Ружа наполнила бидон и пошла к мотоциклу. Гита последовала за ней, забыв, что вызвалась сама заправить машину. И лишь после того, как это сделала Ружа, принялась извиняться, всплеснув руками:
— Ах, какая же я бессовестная! Ты, наверно, выпачкалась! Очень извиняюсь… Ну да ведь вон как давно не виделись…
Она опять надела свой кожушок, застегнулась, нацепила защитные очки и оседлала мотоцикл.
’ — Прошу прощенья, сколько с меня?
— Ничего.
— Пожалуйста, Ружка! Не могу же я даром…
Гита запустила мотор, и старая машина заскрежетала, как испорченная лесопилка. Едкий синеватый дым распространился вокруг. Шум мотора заглушал голос Гиты. Белели только ее зубы.
— Чао, Ружка! — прокричала она. — Чао!
Ружа ничего не поняла. Незнакомо ей было это «чао», хотя в устах Гиты Коевской оно прозвучало вполне естественно. Она взмахнула рукой.
— До свиданья!
— До завтра! На «Балканской звезде»! Жди меня! Я зайду туда!
И, слегка наклонившись над машиной, тоненькая и стройная, она с громом и треском понеслась вниз по шоссе. Какой-то лоскуточек весело развевался за ее спиной, пока мотоцикл не скрылся за поворотом.
Ружа долго стояла, вглядываясь в темноту. Наконец все стихло.
— До того глупо, что дальше некуда! — проговорила она, подойдя к машине.
Яна сидела, вся сжавшись, стиснув руки на коленях, бледная и неподвижная. Ружа взялась за руль, и машина медленно двинулась. Летняя ночь была темна и холодна в этом ущелье. Ничто не радовало взгляд. Было так глухо, словно они проезжали через тоннель.
— Узнала ее?
— Узнала.
И вновь наступило тягостное молчание; слышался только рокот мотора-.
4
Вскоре на шоссе замелькали первые электрические фонари. Машина подъезжала к «Победе Сентября». Еще несколько поворотов, и перед глазами возникла кирпичная стена фабрики. Высокие тополи и развесистые осины скрывали часть здания. «Победа» подкатила к главному подъезду, и женщины увидели продолговатое здание с множеством окон и стеклянной крышей.
— Вот и дворец Манчева, — сказала Ружа, давая гудок.
Из будки вышел старик в форменной одежде и заулыбался, увидев знакомую машину. Он открыл ворота., «Победа» медленно въехала во двор, свернула на обсаженную высокими деревьями асфальтированную аллею и неожиданно оказалась у самого входа в административный корпус.
Ружа быстро выбралась из машины. И сразу ее охватил холодный горный воздух, словно она окунулась в ледяную воду. Поплотнее запахнув пальто, Ружа открыла вторую дверцу.
— Ну, Яна, давай поскорее, замерзну.
— Нельзя ли без меня? — нерешительно спросила Яна.
— Не говори глупостей.
Ружа наклонилась в темную глубину машины и чуть не силой вытянула оттуда Яну.
— Что ты скорчилась? Распрямись!
Взяв Яну за подбородок, она заглянула ей в глаза.
— Смелей! Смелей!
Потом подхватила под руку и, прижав к себе, быстро зашагала по гладкому асфальту, чтобы согреться и ободрить подругу.
Все было тихо кругом. Раздавался только по-военному четкий шаг Ружи. Но, подойдя ближе к фабрике, они ясно различили знакомый шум ткацких станков. А где-то неподалеку послышался плеск воды из незакрытой колонки. Возле каменных ступеней у входа била высокая струя и, рассеивая брызги, падала в цементный бассейн. Яна подошла к колонке и начала умываться, стараясь угасить сжигавший ее огонь… И чем дольше плескала она себе в лицо ледяной водой, тем яснее становилось случившееся. Нет, то был не сон, не наваждение.
Из чесального цеха вышел высокий, чуть не в два метра ростом, человек, полный и массивный. За ним следовал низенький рабочий, может быть мастер, который что-то объяснял высокому, отчаянно жестикулируя. Высокий молчал.
— Товарищ Манчев! — крикнула Ружа. — Товарищ Манчев!
Высокий остановился, всем корпусом повернувшись на голос. Он напряженно хмурился, словно собираясь с мыслями.
— Гостей принимаете? — продолжала Ружа. — Извините, что заявились в такое неурочное время, но…
Пристально посмотрев на подошедших женщин, Манчев протянул руку.
— Пожалуйста, пожалуйста, без извинений! Милости просим!
А своему спутнику, все еще разводившему руками, сердито заметил:
— Все-таки, Цветан, чесальные машины — это легкие текстильного предприятия! Ясно тебе?
— Ясно, товарищ Манчев.
Кивнув головой, рабочий вернулся в цех. Манчев пригласил женщин в свой кабинет.
— Постоянно приходится разъяснять самые элементарные вещи, — пробормотал он, вытаскивая из кармана тяжелую связку ключей. — Трудно, трудно, товарищ Орлова!
Он открыл дверь и неуклюже склонился в вежливом поклоне. Кабинет был тесный, вытянутый, с одним окном, обращенным к лесу. Казалось удивительным, как Манчев помещается в этом коридоре. Кроме письменного стола и деревянной скамьи для посетителей, никакой другой мебели в комнате не было. Манчев сел за стол, перебирая в руках ключи. Он явно чувствовал себя смущенным.
— Много времени мы у вас не отнимем, товарищ Манчев, — проговорила Ружа. — Просто проезжали тут и решили заглянуть к вам.
— Я не стану жалеть о потраченном времени, если смогу быть вам полезен.
— Заранее благодарим.
— Пожалуйста.
Он несколько озадаченно посмотрел на Яну.
— Вы не помните меня, по-видимому?
Яна вспыхнула, даже не расслышав его вопроса. Она все еще не могла как следует прийти в себя.
— Вы человек заметный, товарищ Манчев, — вмешалась Ружа, чтобы выручить подругу, — вас все знают.
Манчев засмеялся и тоже покраснел. Действительно, его высокий рост стал легендарным в городе. Досадно, если люди запоминают его лишь по этому признаку. Он звякнул ключами и продолжил:
— Всяк по-своему прославляется. Одни умом, другие габаритами.
— Вы славитесь и тем и другим, — прервала его Ружа, — потому мы и пришли сюда. Хотим поучиться у вас. Моя спутница горит желанием поближе познакомиться с организацией комплексных бригад, которые вы создали на своем предприятии. Хотелось бы поговорить и о поточном методе, также широко у вас применяемом. Как видите, у вас есть чему поучиться.
Манчев опустил ключи в карман и облокотился о стол. Плетеный коврик, наброшенный на спинку кресла, обрамлял его могучую фигуру, как на портрете. Бледное, чуть припухшее лицо отчетливо выделялось на темном фоне.
— Вот уж не помышлял, что смогу служить примером для других, — сказал Манчев, — но с удовольствием поделюсь с вами опытом.
Он опять потянулся за ключами.
— Могу дать подготовленный мною доклад об организации производства.
Но уже начав было открывать ящик, вдруг передумал.
— Впрочем, пройдемтесь-ка лучше по цехам. Это гораздо полезней, чем читать разные доклады.
Он поднялся и спросил, ободряюще глядя на Яну:
— Правда ведь, так лучше?
— Да, конечно.
И он повел женщин через коридор в чесальный цех, развивая в беседе уже высказанную им мысль, что «чесальные машины — это легкие текстильного предприятия». Женщины внимательно слушали его.
При своей мешковатой внешности Васил Манчев был человеком образованным и умел себя держать. Рассуждал умно, просто и дельно. Туманные и отвлеченные понятия были чужды его ясной и практической мысли. Установившимся навыкам и вкусам соответствовали и его спортивные увлечения. В молодые годы Манчев был вратарем сельской команды, и с тех пор любовь к футболу перешла у него в неизлечимую болезнь.
В городке он появился два года тому назад и сначала работал счетоводом на «Победе Сентября». Всего за какой-то месяц он стал известен всем. Две причины обусловили столь быструю популярность Васила Манчева: высокий рост и неистребимая страсть к футболу. Какие бы команды ни играли на городском стадионе, Манчев неизменно был там — с бутербродом в одной руке и бутылкой лимонада в другой.
Еще учась в коммерческом училище в Тырнове, Манчев возненавидел «черную реакцию» — господ, кичившихся своей «голубой кровью». Квартирная хозяйка заставляла его ходить по комнате в носках, чтобы он не запачкал ее пестрых ковриков. Это и подобные унижения подтолкнули сельского паренька вступить в общество трезвенников и стать врагом буржуазии, которая, по его убеждению, неудержимо разлагалась. Позже, уже став студентом Свиштовского высшего коммерческого училища, Манчев еще сильнее возненавидел аристократов и, участвуя в манифестации, бесстрашно нес плакат «Союз с СССР!». Его высокий рост придавал большую внушительность процессии, не бог весть какой многочисленной. Когда конная полиция стала разгонять студентов, Манчев сломал плакат о твердоголового свиштовского аристократа, который поспешил закрыть свои самшитовые ворота под носом у преследуемых манифестантов. С тех пор Васил Манчев «левел» все больше.
Девятое сентября Манчев встретил рядовым солдатом запаса, которому была доверена пара лошадей и повозка. После разгрома фашистов обозный немедленно вступил в артиллерию, сражался за народную власть при Страцине и был награжден орденом, но вскоре заболел. Только поэтому он не участвовал во второй фазе войны. И все же слава бойца за Страцин высоко подняла Манчева в глазах его односельчан — он был избран кметом в своем сельце.
Через год, когда народная власть окрепла, кмет Манчев решил подыскать себе работу по специальности. Сначала он поступил в районный кооперативный союз, затем работал счетоводом в банке, откуда и перешел на «Победу Сентября».
Его манили горы. Буковые леса были для него так же привлекательны, как для медведя темный овраг. И это не случайно: поболев после страцинских боев, Манчев вообразил себе, что у него туберкулез. Напуганный «затемнением в легких», он стремился жить в горах. Страх перед болезнью был, между прочим, одной из причин того, что он остался холостяком.
Заняв пост директора фабрики, он повел жизнь еще более уединенную. Кроме как на футбольные матчи и совещания, на которых он обязан был присутствовать, Манчев почти не спускался в город. Он имел квартиру при фабрике, где его никто не беспокоил. Всякий, кто хотел повидаться с ним или обсудить важный деловой вопрос, должен был ехать сюда, потратив полдня на дорогу. Разумеется, между фабрикой и городом курсировали автобусы, но Манчев редко отлучался с фабрики. Он предпочитал принимать гостей, а не ходить в гости. И поэтому он привык к частым посещениям. Тем не менее появление Ружи вместе с этой молчаливой особой, упорно глядевшей в землю (будто она клад там зарыла), слегка озадачило Манчева.
Умудренный долголетним опытом, он знал, что всех женщин — замужних и незамужних — очень волнует то обстоятельство, что он живет холостяком. Они просто спят и видят, как бы его женить. И где бы ни встретили Манчева, обязательно заводили речь о женитьбе. Ему уже наскучило давать объяснения. Вот и сейчас, водя женщин по цехам и с гордостью показывая фабрику, он был все время начеку, ожидая надоевшего вопроса: «Ну как, товарищ Манчев, скоро ли мы вас женим?» Это выводило его из равновесия. Прямо в дрожь бросало, когда кто-нибудь спрашивал его, хотя бы только взглядом. Крупные капли нота выступали на лбу. Убежать хотелось. Ну в самом деле, что тут можно было ответить? Ведь вопрос звучал примерно так: «Ты жив еще? И как только земля носит тебя до сей поры?»
Манчев в подобных случаях обычно часто-часто моргал, сконфуженно улыбаясь. Может быть, он и впрямь виноват перед женщинами, оставаясь холостяком, чему нет оправдания? Полюбуйтесь на него, какой эгоист выискался, топчет землю, даже и не помышляя о продлении рода человеческого!.. Дожить до тридцати пяти лет и заботиться лишь о собственной утробе — это действительно никуда не годится! Смотри ты! Женщины-то ведь правы!.. И Манчев, претерпев очередную серию пыток, все чаще и чаще задумывался над этим.
А вот Ружа ничего не спросила, даже не намекнула. И он был сердечно благодарен ей за снисходительность к нему, холостяку грешному. Это приободрило его, как-то даже воодушевило. Он стал пошучивать, стараясь развеселить своих гостей, которые посматривали на него с восхищением.
Из чесального цеха они перешли в ткацкий. Здесь поражал размах наглядной агитации. Даже на цементном полу был написан призыв: «В 6 часов противоатомная защита! Все на занятия!» Заметив удивление на лицах женщин, Манчев наставительно сказал с улыбкой:
— Если чесальные машины — легкие предприятия, то агитация — его душа! Вот, посмотрите!
Он показал на множество плакатов и диаграмм, развешенных по стенам и кричавших на все голоса. «Душа» «Победы Сентября» была, как видно, беспокойная и буйная.
— Видите?
— Да, вы на высоте, товарищ Манчев… А как вы комплектуете ваши производственные бригады, чтобы иметь возможность поощрять не только индивидуальную, но и коллективную инициативу? — спросила Ружа, поглядев на него с уважением.
— Это уже в основном вопрос кадров, — ответил Манчев, — все зависит от подбора людей в бригаду и от того, кто ей руководит. Я могу познакомить товарища с нашими бригадирами. Было бы желание. Мы всем готовы поделиться, лишь бы на пользу пошло. Заходите завтра ко мне, и я все устрою.
Яна сдержанно поклонилась.
— Согласны, значит?
— Почему бы нет? — вмешалась Ружа. — Мы ведь за тем и приехали сюда, а не для прогулки. Яна может и на месяц здесь остаться, если потребуется, а вы в свою очередь пришлите нам своего работника. Такой обмен полезен для работы. Слишком обособленно мы живем, товарищ Манчев, оторванно друг от друга! И вы тут засели, словно отшельник какой! Сами согласитесь!
Манчев рассмеялся и даже похлопал Ружу по плечу, довольный ее замечанием.
— Вы правы, товарищ Орлова, совершенно правы. Маши коллективы должны теснее сблизиться, слаженность в работе — залог успеха.
— Можем даже породниться, — продолжала Ружа, — подвернется случай, и свадьбу справим… Часто ли вы ходите на прогулки в Сокольские леса-? Нет? Почему?
— Там ваши владения.
— Милости просим.
— Ну, коли позовете, мы не откажемся, — с улыбкой подхватил Манчев, — не знаю вот только, ко двору ли придемся.
Он кивнул на Яну, рассеянно глядевшую по сторонам, и подмигнул Руже. Та ответила ему тем же и приложила палец к губам, как бы говоря: «Не будем играть с огнем!» И они молча прошли через ткацкий цех в аппретурное отделение, а затем спустились в красильню, где было очень душно и жарко. Зеленоватый пар, подымавшийся от громадных котлов, заполнял помещение. Манчев быстро вывел женщин из этого «пекла» во двор; горный воздух обласкал и освежил их.
— Вы видели все, что стоило посмотреть, — сказал он, — а теперь вернемся в мою келью и выпьем по рюмке коньячку!
— Я за коньячок, — согласилась Ружа, — хотя нам, шоферам…
— Всего лишь по глотку.
— По глотку можно, вот только моя подруга…
— Подружка ваша что-то сердита на меня, — вставил Манчев. — Но рюмочка коньяку не повредит ее здоровью. А?
Он испытующе посмотрел на Яну. Потом, неожиданно подхватив ее под руку, повлек к дому. Яна совсем потерялась рядом с ним. Она пошевелиться не смела, не то что вырваться. Манчев покрепче притиснул ее локоть, стараясь шагать в ногу, что было не легко при его неуклюжести и высоченном росте. Прижатая к его плечу, Яна покорно шла рядом, а Ружа поглядывала на нее с лукавой улыбкой.
Она живо представила себе, как эта пара, окруженная родными и друзьями, отправляется в народный совет регистрировать брак. А выйдя оттуда, заходит в фотографию «Сюрприз». Манчев и его молодая жена улыбаются с охапкой цветов в руках. Снимок удачный. Манчев счастлив. Родные и друзья ликуют. Всей гурьбой отправляются пировать в Охотничий домик, нет — в новый ресторан, чтобы послушать певицу…
Но об этом могли мечтать лишь Янины доброжелатели. Сама же Яна в страхе чуралась собственного счастья. Она шла как на ходулях, не чувствуя ни рук, ни ног. Старый холостяк, изменив своему обыкновению, безуспешно пытался расположить к себе ее недоверчивое сердце.
В кабинете пробыли недолго. Выпили по рюмке коньяку, поболтали о том о сем и вышли. Яна опять примолкла, но от выпитого у нее будто глаза раскрылись. Она заметила, что Манчев то и дело на нее поглядывает.
— Э, вам необходимо встряхнуться! — неожиданно обратился он к Яне. — Делаете гимнастику по утрам? Следуйте моему примеру!
— И то правильно, — согласилась Ружа, садясь в машину.
Пожимая Яне руку, Манчев сказал:
— Жду вас! Слышите?
Яна улыбнулась.
— Браво, — одобрил Манчев, потрепав ее по плечу.
Потом помог ей усесться и с силой захлопнул дверцу машины.
— Всего хорошего.
Женщины не расслышали его слов, видели лишь его лицо, расплывшееся в приветливой улыбке. Совсем недавно такой недоступный наставник, он как-то сразу превратился в милейшего добряка.
— До свиданья! До свиданья!
Расставив ноги, он стоял посреди площадки и смотрел вслед машине. Выехав на аллею, она скрылась за высокими, погруженными в темноту деревьями. Только теперь Манчев повернулся к фабрике и вздрогнул — фабричные окна глядели на него своими горящими глазами и как бы смеялись над ним. Показалось, будто свет их проник ему в душу до самых сокровенных тайников. И он опять почувствовал, как на лбу у него выступил пот.
Опустилась летняя ночь. Луны не видно было, но сиянье ее пробивалось сквозь листву. Любуясь этими бликами, Манчев думал совсем о другом. Мучило его ощущение, что он допустил какую-то глупость. И чтобы избавиться от неясных угрызений, решил немного прогуляться. Тяжело ступая, он пошел через лес к речке. Там была беседка, а возле нее большущий камень, который он каждое утро поднимал по три раза. Полезно, пожалуй, и сейчас, среди ночи, слегка поразмяться… Он ринулся напрямик, и сучья затрещали под его ногами, словно зверь продирался сквозь темную чащобу.
5
Когда Яна вернулась домой, старики и ее маленькая дочка уже спали. Осторожно открыв дверь, чтобы не разбудить Валю, она зажгла ночник.
Девочка спала на большой постели у стены, на месте отца. А бабушка Деша — на кушетке, где она всегда укладывалась до прихода Яны. Перебираться из одной комнаты в другую было неудобно для стариков, но ради внучки они готовы были на всяческие жертвы. Несколько раз они пытались взять ее на ночь к себе, но Яна не соглашалась. «Если и ее у меня отнимут, что мне тогда останется?» — как-то сказала она и настояла на своем.
В комнате почти ничего не изменилось. Все те же картины на стенах. Не хватало лишь мандолины — дед Еким убрал ее в сундук, с глаз долой. Не было, конечно, и альбомов с фотографиями и разными открытками «на память», которые Борис увез с собой. Остался только увеличенный портрет его матери, погибшей партизанки, укрепленный высоко над кроватью. Других видимых перемен не было, но по существу тут изменилось все, потому что в доме появился новый человек. Этот человечек властно и требовательно приковал к себе внимание всех, и все в доме перевернулось вверх дном. Маленькой Валентине — чтоб росла привольно, как серна в лесу, — посвятили себя и дед, и бабка. Ради Валентины жила и ее мать, сколь ни тяжела казалась ей эта жизнь. С того самого дня, как принесли завернутое в пеленки розовое, сморщенное, плачущее живое существо, в доме деда Екима стали раздаваться звуки, — то нетерпеливые и настойчивые, похожие на лягушачье кваканье, то нежные и тихие, как песня горлинки.
Дед Еким оказался превосходной нянькой. Целыми часами он топтался и крутился возле корзины, где устроили постельку для малютки. Он следил за каждым самостоятельным проявлением оформляющегося человечка и, ликуя от радости, кричал: «Смотрите-ка, смеется! Ой, открыла глазки, пальчиками шевелит!.. Агу-у!.. Агу-гу-у!..» И, присев около корзинки, старик гукал и причмокивал, стараясь вызвать у ребенка улыбку. Бабка Деша подталкивала его в бок и ворчала: «Хватит, ну тебя! Не даешь нам накормить ее! Иди отсюда!» Дед Еким уходил из дома часа на два, а возвращался, настроенный еще более восторженно. Порой он до того увлекался, что нарушал установленный женщинами порядок и даже позволял себе журить их. Частенько порывался сам выкупать ребенка, уверяя бабку Дешу, что очень ловко это делает. Такого счастья, разумеется, ему так и не выпало. Главным распорядителем при купанье оставалась бабушка. Она совершала этот обряд со всевозможными церемониями. Самое большее, что позволялось деду Екиму, — пробовать пальцем температуру воды в корыте и сколько душе угодно приговаривать: «Чип-чип-чип! Агу-гу!» Но старик был благодарен и за это.
В первый год, кроме кормления грудью, у Яны не было других забот по уходу за Валей. Девочка росла, не доставляя ей ни забот, ни тревог, и из-за этого материнская ревность Яны с каждым днем обострялась. Малютка, казалось ей, ускользает из ее рук, а может и совсем отдалиться от матери. Это вызывало у нее неожиданные приливы нежности, особенно по вечерам, когда она возвращалась с работы, усталая и расстроенная.
Чувство ревности усилилось в последнее время. Распространившийся слух, что Борис намерен вернуться, очень тревожил Яну. У нее не было оснований ни упрекать стариков, ни сомневаться в их бескорыстии, но, поскольку кровь не вода, она не могла отделаться от мучительного опасения, что, если Борис вернется, старики отдадут предпочтение ему. И это вполне естественно, потому что он их родной внук, а к тому же отец этой крошки, в которой они души не чают. Стоит ему выразить желание взять ребенка, старики не смогут ему отказать. При этом они, конечно, не захотят расстаться с девочкой, а потому примут все условия Бориса. Жертвой в угоду ему опять окажется Яна.
Борис поселится здесь и, несомненно, потянет за собой и Гиту. Старики примут ее как свою сноху, как когда-то приняли они и Яну. И вот, хочешь не хочешь, Яне нужно будет бежать из этого дома, бежать куда глаза глядят. Тогда она потеряет и ребенка, как потеряла мужа. Камень на шею да в омут — ничего другого ей не останется… Да, да, именно таковы расчеты Бориса! Таковы его планы! Проскитался где-то, а теперь решил вернуться в старое гнездо. Но, поскольку в этом гнезде нет места для двух жен, Яна, конечно, должна вылететь отсюда. А не лучше ли вылететь раньше, до того как ястреб бросится на них? Не лучше ли забрать Валю и переселиться куда-нибудь? Вот над чем раздумывала молодая женщина, возвратившись в тот вечер с «Победы Сентября».
Как ни старалась Яна сохранять хладнокровие и «рассуждать здраво», она понимала, что дни ее относительного спокойствия сочтены. Появление Гиты окончательно подтвердило это. И, заранее зная, что потерпит поражение в состязании с Гитой, Яна сочла наиболее благоразумным своевременно покинуть поле боя. Еще не входя в комнату, она решила осмотреть чемоданы, стоявшие на платяном шкафу. В них она сложит свои пожитки. Потом погрузит кушетку на какую-нибудь тележку, на кушетку посадит Валентину и махнет в общежитие, к девчатам, к тете Маре… Но как только она представляла себе эту печальную картину переезда, глаза ее наполнялись слезами.
Баба Деша дремала на кушетке, укрывшись легким одеяльцем. Заметив Яну, она поднялась, протирая спросонок глаза. Яна коротко сообщила, где была, и упрекнула старуху за то, что та перебивает себе сон, оставаясь с ребенком.
— Сколько раз я просила тебя, мама, оставлять Валю одну… Надо ее приучать, пусть привыкает.
— И то дело, — проворчала старая, — а случись что, станем волосы на себе рвать!
Яна ничего не возразила — ей хотелось поскорей остаться одной. Бабка взяла одеяло, еще раз глянула на спящую девочку, улыбнулась ей, хоть та этого и не видела, и пошла, шлепая туфлями. Прежде чем открыть дверь, посмотрела на Яну. Хотела как будто что-то сообщить, но колебалась. Яна ей помогла.
— Что-нибудь случилось, мама?
— Надо сказать тебе кое-что.
— Скажи, скажи!
— Опять приходили эти, из детского сада. Тебя спрашивали, лично.
— Ну и что же вы им сказали?
— Что я могла сказать… Наша девочка не для детского сада, вот что я сказала… Мала еще, глупенькая… Да у нас есть кому за ней ходить… «Я тут детский сад, — крикнул им дед, — зачем мне разлучаться с ребенком?» И с миром выпроводил их.
Яна даже побледнела.
— Все вы напутали, мама! Вале как раз пора в детский сад. Напрасно вы так ответили. Завтра же пойду и поговорю с заведующей садом. Зачем беретесь решать без меня?
— Предоставь это дело нам, невестушка! О ребенке не беспокойся! Это уж наша забота. Ты знай свое дело. Видим мы ребят из детского сада. Каждый по одной, а то и по две болезни принес оттуда: и оспа, и свинка, и корь. Не хотим мы, чтоб болезни на нее навалились, на такую здоровенькую. Вишь разрумянилась, как пасхальное яичко. — Бабка открыла дверь и повторила еще более настойчиво: — Выкинь из головы! Не допустим мы такого!
С этими словами старуха вышла. Яна крикнула ей вслед, что она не права, но старуха уже не слышала. Впервые Яна решила взбунтоваться, и бунт ее остался безрезультатным. Досада ее разбирала. Быстро раздевшись, она машинально накинула ночную рубашку и подошла к постели. Но тут заметила на шкафу чемоданы и потянулась за ними. С поднятыми руками она казалась выше и стройней, хоть и располнела слегка после родов. А в этой розовой шелестящей рубашке с шелковым бантом, завязанным у шеи, она была похожа на девушку, ожидавшую жениха. Доставая большой чемодан, она успела разглядеть себя в зеркале. И еще сильнее разозлилась — и на старуху, и на всю их семью, отнявшую у нее радость.
В чемодане нечего было перебирать, все гам оказалось в порядке. Яна закрыла его и загляделась в зеркало. Зажгла даже большую лампу, чтоб лучше видеть. И с удовольствием отметила, что совсем недурна собой. Скорее, пожалуй, красива. Особенно хороши большие карие глаза, пролившие столько слез! Темные ресницы и тени под глазами только подчеркивают их глубину. И все в ней просто, естественно, безыскусно, как и ее добрые мысли. Она чуть отступила от зеркала, чтобы видеть себя целиком; лицо залило румянцем. Вспомнила почему-то Манчева и очень рассердилась на Ружу — так глупо она все подстроила. «Для обмена опытом», а на самом деле… Но что на самом деле? Может быть, Ружа правильно поступила? Может, она, Яна, и впрямь дикарка?.. Все же Манчев слишком высок! Она ему едва по плечо, как-то нескладно получается… А что нескладно?.. Она то отходила, то приближалась к зеркалу, мысли ее витали где-то там, в цехах и коридорах «Победы Сентября»… Если ей удастся устроить Валю в детский сад и подыскать квартиру подальше от улицы Героев Труда, то все уладится, исчезнет из памяти, будто ничего и не бывало, и сразу станет легко… А еще лучше было бы не встречаться ни с кем из знакомых, покинуть эти места, куда может вернуться Борис. Перебраться, например, на «Победу Сентября», спокойно жить в лесу. Общежитие там есть, наверно, есть и детский сад. Так все разрешится. Валя будет играть с детишками рабочих в саду, возле речки; там и футбольная площадка, и качели, и все, что хочешь… А самое главное — Валентина будет в образцовом детском саду! Все надо сделать для того, чтобы ребенок был здоров и правильно воспитывался. И сделать до приезда Бориса. Довольно колебаний и страхов.
Яна погасила лампу, и в комнате снова воцарился полумрак. Слабый свет ночника освещал только постель. Яна вступила в светлый круг и склонилась над ребенком. Картина обычная — одеяльце сброшено, подушка в ногах, Валентина, разметавшись, спит. Волосы ее, черные и блестящие, кудряшками покрывают плечики. Щечки пунцовые, словно нарисованные. И это маленькое, трехлетнее существо, раскинувшее ручки поверх простынки, было самостоятельным и независимым человеком, который крепко держит в своих руках и деда, и бабку — всех.
Яна водворила подушку на место, укутала спящую одеяльцем. Девочка не проснулась. Потом Яна спрятала ей ручки под одеяло — она только почмокала губками и сейчас же, вытащив ручки, раскинула их по-прежнему. Так ей было удобно. Яна опять спрятала ручки, но девочка снова высвободила их. Яна отступилась. Маленькое личико с тонко очерченным ртом, длинные ресницы, мягко прикрывающие большие глаза, черные волосы… Все уже говорило о самобытном характере, не склонном покоряться.
Яна молча любовалась своей хорошенькой дочкой. «Мамина красавица! — подумала она. — Кого-то ты осчастливишь?» И улыбнулась, словно комплимент относился к ней самой. Потом наклонилась и поцеловала девочку в розовые щечки. Но тут же отпрянула, сердце заколотилось так сильно, точно за ней кто гнался. Представилось ей, что не ребенка она поцеловала, а Бориса. Валентина была похожа на него. Вдруг по какой-то нелепой ассоциации девочка показалась ей похожей на Гиту, и это привело Яну в ужас. Она попятилась, но чем дальше отступала от красивого личика, тем яснее и отчетливее оно напоминало ей ту, красотку, отбившую у нее мужа. Словно видоизменяясь, детские черты приобретали другую форму, другой знакомый облик. Яна смотрела широко открытыми глазами и не могла прийти в себя. «Что со мной делается, боже ты мой! — думала она, не в силах избавиться от назойливого виденья. — Господи боже, с ума я сошла, что ли? — твердила Яна, не отрывая взгляда от преображенного детского лица. — Как это можно?» Она ухватилась за спинку кровати и, медленно соскользнув на пол, приникла к холодному железу. Дрожь пробежала по всему телу. На лбу выступил пот. Как долго пробыла она в таком состоянии, она не помнила, но когда очнулась и поглядела на постель, галлюцинация уже исчезла. Поднявшись, Яна укрыла непокорную одеяльцем, заботливо подоткнув его со всех сторон. Потом расчесала волосы, погасила лампочку и легла. И только теперь почувствовала, как сильно устала. Чтобы скорей заснуть, она прикрыла глаза рукой, стараясь забыть обо всем, что пережила за этот ужасный день.
Разбудила ее воркотня рано поднявшихся стариков. Они шептались в кухоньке, препираясь между собой. Девочка была уже там и, как всегда, выводила их из терпенья. Яна прислушивалась время от времени, зная во всех подробностях, что там происходит. Вот сейчас, должно быть, Валя оттолкнула мисочку с молоком, заявив, что молоко горячее. Дед Еким водит ложечкой около ее рта и старательно дует, чтобы остудить молоко, но оно, по всей вероятности, все еще очень горячо и вряд ли скоро остынет. Дабы умилостивить капризницу, старик принимается рассказывать ей разные небылицы. Уверяет, например, что как только Валя возьмет в рот молоко, оно сразу же выльется у нее из ушка и это будет так забавно. Валя слушает, хотя еще и хмурится и не смотрит на ложку. Валя предпочитает, чтоб дедушка налил молоко ей в ухо, а она посмотрит, как оно выльется изо рта. Дед, продолжая уговаривать, подносит ложку к полуоткрытым губкам, и тут Валя неожиданно вышибает ее у него из рук. Ложка со звоном падает где-то под дверью. Дед сослепу долго ищет ее. Валя хохочет. Ей очень смешно, что у деда на усах повисла капелька молока. Она просит еще раз зачерпнуть ложкой молоко, но теперь дед настороже…
Уговоры не помогают. Вмешивается бабка Деша, и опять слышится голос деда Екима. Валя наконец разражается громким плачем. Между стариками вспыхивает ссора. Дед Еким ругается, бабка шлет проклятья. Можно подумать, что произошло нечто непоправимое…
— Положи ей в молоко какао, какао положи, говорят тебе, — кричит старик, раздражаясь все сильнее, — сколько нужно тебе твердить, что какао во сто раз полезнее твоего дурацкого чабреца!.. Какао положи, слышишь?
Валя притихла. Наверно, занялась разглядыванием ребенка, изображенного на коробке с какао. Но матери известно, что и какао не поможет.
Яна вслушивается, приподнявшись на локте. Новые просьбы и увещевания. «Ничего путного не выйдет из моей дочки!» — вздохнула она, сбрасывая с себя одеяло. Было уже совсем светло, солнце рвалось в комнату, спущенные белые шторы его не пускали. Но сияние летнего дня чувствовалось и сквозь преграду.
Яна быстро оделась и вышла в кухню. Как она и предполагала, Валентина оккупировала весь стол. Старики суетились около нее, не зная, как угодить. Молоко было разлито на клеенке. Бабка Деша вытирала его своим фартуком, сердито поглядывая на деда. Выходило, что тот был кругом виноват. Валя считала, что лужицу вытирать не следует. Из нее потечет речка через весь стол. В этот момент в кухне появилась Яна. Старики притихли, кричала только Валя — ей не позволяли водить пальцем по луже. Яна подошла молча, взяла дочку за ушко и поставила к стенке. Девочка раскричалась сильнее. Яна дернула ее за ухо. Потом ударила по руке, которой Валя отмахивалась.
— Ах ты поросенок, настоящим поросенком стала, — ворчала Яна, с трудом сдерживаясь, — стой смирно, а то как следует надеру уши!
Старики пробовали прийти на помощь, но Яна была неумолима.
— Будешь слушаться? — спрашивала она. — Нет? Ступай в чулан! Ступай в чулан! Иди и не оглядывайся. В чулан! — Зажатое ушко горело, девочка поплелась в чулан рядом с кухонькой. Там было темно, водились мыши! И Валя горько заплакала:
— В чулане мыши! Там темно! Ничего не видно!.. — Но мать была беспощадна.
Закрыв девочку в чулане, Яна вернулась в кухню и заявила обескураженным старикам:
— Завтра же отведу ее в детский сад, поняли? Совсем избаловалась!
Дед Еким и бабка Деша виновато помалкивали.
— А на днях и я уйду отсюда.
Дед Еким вздрогнул и шатнул к ней.
— Не могу я больше, — продолжала Яна, — не могу.
— Чего не можешь? — хмуро спросил старик.
— Ты знаешь!
— Ничего не знаю.
— Не могу больше тут оставаться. Ни для меня не будет добра от этого, ни для ребенка, ни для вас самих. Особенно когда вернется Борис.
Старики молчали.
— Жена его уже приехала, — сказала Яна, — а раз она здесь, значит, и он скоро явится. Я не могу стоять у вас на пути, он как-никак внук ваш, ваша кровь… Я не имею права оставаться тут и разъединять вас.
Глаза Яны налились слезами; чтобы не расплакаться, она торопливо ушла в свою комнату.
Валя плакала в чулане. Внимание стариков раздваивалось. но они не смели освободить ее без разрешения матери. И страдали еще больше.
Наконец сердце старика не вытерпело, он пошел и выпустил пленницу. И сразу во всем доме водворилась необычайная тишина.
6
С некоторых пор бывший бродячий лоточник Филипп Славков, поселившийся в домике Хаджи Ставри, по соседству с дедом Екимом, приспособился по утрам бить во дворе воробьев. Он сделал себе резиновую рогатку, заряжал ее острыми камушками и с изумительной ловкостью стрелял в неосторожных птичек. Очень часто он попадал с первого же выстрела, и это исполняло его мальчишеским восторгом. «Каково!» — говорил он про себя и снова нацеливался. Обычно он подстерегал жертвы, спрятавшись в густых самшитовых кустах. Воробьишки стайками располагались на деревьях, на крышах, на телеграфных проводах, и потому утренняя охота всегда была удачна. Но Филипп, надо отдать ему справедливость, убивал по одному, от силы по два воробышка — лишь бы накормить кошку, ставшую очень прожорливой в ожидании потомства. Филипп бил воробьев только из сожаления к этому ленивому, но ласковому животному с черной лоснящейся шерсткой, потрескивавшей и рассыпавшей искорки, когда ее гладили. Но тем не менее стрельба по воробьям, как и всякая охота, постепенно превратилась в страсть. Подстреливал Филипп и других птиц, залетавших во двор. За это дед Еким и возненавидел его на всю жизнь. Они не здоровались и не разговаривали между собой, хоть и жили в одном дворе.
Филипп Славков не слишком страдал от этого. Он заботился только о своих удобствах, соблюдал собственные интересы. Он пользовался всем двором, невзирая на то, что половина его принадлежала деду Екиму. Филипп везде чувствовал себя хозяином и вел себя так, как ему заблагорассудится. В любое время забирался в сад, мял цветы, обламывал побеги на ветках, чтобы сделать себе тросточку, выливал помои где попало, разбрасывал по дорожкам арбузные корки и следил, не растянется ли кто, поскользнувшись. Словом, «не расстался еще с ребячествами», как говорил его дед Хаджи Ставри.
Сам дед Ставри не жил больше на улице Героев Труда, а потому эти «ребячества» только забавляли его. Год назад дед Ставри перебрался на жительство к Виктории Беглишке, в ее собственный дом вблизи соснового бора, вступив с этой вдовицей в законный брак. Женитьба семидесятилетнего старика на пятидесятилетней женщине хоть и не явилась неожиданностью, но вызвала в городе сенсацию. Собственно, не сенсацию, а дала повод для шуток и намеков в адрес старика и вдовушки, которая вышла за него, как утверждали клеветники, не по любви, а по расчету. Возможно, так оно и было, но, чтобы доказать свое благородство и добрые намерения, Виктория предложила старцу перебраться к ней в дом, жить там в спокойствии и дышать свежим лесным воздухом.
Сразу после женитьбы деда Ставри на «проклятой вдове» Филипп переселился на улицу Героев Труда и за скромную плату завладел всем домиком. Сделал он это по разным соображениям, а главное потому, что тоже женился и захотел обзавестись хозяйством. Обе свадьбы состоялись в одно время, в одном и том же монастыре. Как люди религиозные, молодожены после гражданской регистрации совершили и церковный обряд — вернейшее, по их убеждениям, средство для прочности брака. На обеих свадьбах присутствовали избранные гости, такие, как Сокеровы, Беглишки и даже Мантажиев, бывший царский офицер, а ныне страховой агент, приехавший по приглашению Аспаруха Беглишки из Софии. Много было выпито старого вина, извлеченного из погребов Сокерова, много, разумеется, и стоило. Много было высказано благих пожеланий и супругам, и всем приглашенным господам. Разгорячившись от выпитого, пели песни и рассказывали анекдоты, которых никто в обители не слышал, кроме пирующих да игумена, человека испытанного.
На обеих свадьбах, поощряемые страховым агентом, хором спели «Милая родина» и всплакнули. А потом, вдохновляемая тем же агентом и Аспарухом Беглишки, компания воинственно пропела бунтарскую песню времен борьбы с турками: «Хватит рабства, тирании, все, все за оружие». При этом как один поднялись, чокнулись наполненными бокалами и со слезами на глазах расцеловались. Гак справили эти две свадьбы. И каждый из удостоенных приглашения долго вспоминал о них как о самом выдающемся событии в своей жизни после Девятого сентября.
Свадьба Филиппа Славкова была, конечно, более веселой, шумной и богатой. Филипп вступил в первый брак, а дед Ставри женился вторично. У Филиппа и приятелей было много, у деда меньше. К тому же люди все пожилые, степенные, а у Филиппа — молодежь.
Филипп любил поддразнить старика, когда речь заходила о свадьбе. Расхвастается дед, как гуляли в монастыре, сколько выпили вина, какие песни пели и все такое прочее, а Филипп только снисходительно улыбается и, похлопывая старца по плечу, повторяет: «Не так ли? Не так ли?» Старик, однако, не сдавался и продолжал хорохориться с франтовским видом — в крахмальном воротничке, в начищенных до блеска ботинках. «Ты, парень, не смотри, что мне семьдесят, мы еще держимся, хо-хо!.. Мог бы и тебя повалить на лужайку и наступить тебе на живот!» Филипп благодушно хихикал. Неудобно ему было похваляться перед стариком своей молодецкой резвостью.
Жена Филиппа, дочь сельского священника, работала в сберегательной кассе. Филипп распоряжался ее зарплатой. Он бросил мелкую торговлишку и занялся операциями покрупнее — какими именно, никто точно не знал. Продавал и перепродавал квартиры, посредничал при передаче и продаже сельского инвентаря, еще не включенного в кооперативно-трудовое хозяйство, поставлял игрушки и мартенички[1] частным лицам и даже кооперации. Бахвалился, что недавно ему предложили заняться сбытом мартеничек, но он еще не дал согласия. Не хотелось ему лишаться свободы. К тому же он ждал наследника. А при нынешних ставках, рассуждал Филипп, и на две зарплаты наследника не прокормить. Другое дело, если перепадет что-то сбоку. Филипп привык «зашибать деньгу», и месячная зарплата его не удовлетворяла.
Он вступил в солидный возраст и, хоть не отрешился еще от сумасбродств, внешне сильно изменился. Это был уже не тот молодой человек, который шатался по ярмаркам с маленьким, как у врача, чемоданчиком. И не бравый холостяк, круживший голову двум-трем девушкам сразу, с одинаковой страстью влюбленный во всех. Мало что напоминало прежнего Филиппа, который с неповторимой галантностью танцевал моднейшие танцы и отправлялся в Софию лишь затем, чтобы присутствовать, на международных футбольных состязаниях. Нет, нет, он был уже не тот, хотя прошлое и оставило на нем свой след, как прожитая жизнь оставляет морщины на человеческом лице.
Филипп окреп, раздобрел, отрастил живот и толстую шею. Бакенбарды и усы сбрил — чтобы выглядеть моложе. Ходить стал медленней и с большей торжественностью. Отказался от былой суетливости и только любил, как раньше, повторять свое «не так ли», похлопывая собеседника по плечу. Не ввязывался в споры, как в былое время. Предпочитал тихо и спокойно наживать деньги. Нажива стала главной целью его жизни.
в это утро, привлеченный чириканьем воробьев, он вышел во двор в пижаме. Неосмотрительные птички прыгали по цементной площадке возле дома деда Екима, но, потревоженные каким-то шумом, вспорхнули со свистом, как от множества веретен, и уселись на айве против филипповой квартиры. До чего коротка память у этих несчастных пичужек! Они уже забыли, что на этой самой айве совсем недавно погибли три воробышка! Спасаясь от голубиной тени, они не заметили человека в полосатой пижаме, с безобидным видом вылезшего из своей берлоги!.. Но в такое солнечное утро, когда роса еще блестит на листьях дикой герани, насаженной вдоль забора, и розы еще не раскрыли своих чашечек, а цементная плита возле колодца мокрая и холодная, трудно ожидать от людей злодеяния. И потому воробьишки со щебетом сражались друг с другом, перелетали с места на место, радуясь солнышку и крошкам, которые находили возле домов.
Филипп спустился на вымощенную дорожку и сейчас же свернул на клумбу с розами, стараясь не шлепать туфлями. Самшитовые кусты высотой чуть не в человеческий рост еще тонули в тени. Это было удобное укрытие для охотника. Филипп присел на корточки, хотя мог бы и стоя оставаться незамеченным, и замер.
Воробьи, напуганные его неожиданным появлением, взлетели с айвы и переместились на соседнюю крышу. Но лишь на несколько минут. Скоро они беспечно вернулись на прежнее место. Филипп терпеливо подстерегал их, обдумывая удар. Он заранее запасся камушками, подготовил рогатку и ждал лишь удобного момента, чтобы сразить первую жертву. Воробьи сели теперь на железную крышу колодца, а некоторые пытались даже окунуться в желобе. Филипп положил в рогатку камушек. Целясь, прищурил глаз. И только хотел спустить резину, как услышал перебранку в доме деда Екима. Кто-то стукнул окном, раскрывая створку пошире. Голос Яны долетел яснее:
— Я забочусь о ее воспитании!..
— А мы что, не заботимся?
— Тогда зачем же ты выпустил ее из чулана?
— Не могу видеть, как истязают ребенка.
— Если не можешь, предоставь мне воспитывать девочку. В детском саду ее не станут истязать.
— Ты знаешь.
— Знаю.
— Я не отдам.
— И спрашивать тебя не буду.
Дальше слов нельзя было разобрать, но опять что-то стукнуло — раскрыли вторую створку, и теперь совершенно отчетливо прозвучало:
— Хулиганку я не собираюсь растить. Довольно с меня, что от отца ее натерпелась.
Филипп слушал, застыв от любопытства. Он просунул голову сквозь заросли и затаил дыхание. Ему хотелось и слышать и видеть. Однако увидеть ничего не удалось. Яна умолкла. Зато раздался голос деда Екима.
— Я просил тебя не говорить мне про Бориса. С ним мы покончили счеты. Ты наша дочь, и Валя наш ребенок. Других детей у нас нет.
Что-то упало на пол, старик оборвал свою речь, но затем опять донеслось:
— Об этом нечего толковать! Борис либо придет, либо не придет. Знаю я его фокусы.
— Но ведь Гита здесь!
Треснула самшитовая ветка, и Филипп присел ниже, боясь, как бы его не заметили. И замер.
— Меня не интересует ни Гита, ни Мита, — продолжал старик, — она для меня не существует.
— Э, как повиснет у тебя на шее, признаешь сразу.
— Хватит!
— Да, да, еще сегодня может нагрянуть на своем мотоциклете! Прямо в комнату к тебе вкатит!
Створки открытого окна поблескивали на солнце, легкий ветерок развевал занавески. Филипп забыл и о рогатке, и о воробьях. «Значит, она здесь уже, приехала? А я и не знал!» Он отполз и сел поудобнее, потому что рука у него онемела. Старик долго кашлял, потом зазвонил телефон, и начался длинный разговор, который совсем не интересовал засевшего в кустах охотника.
«Здесь, значит, она!» — повторял Филипп, не переставая удивляться, как могло это произойти без его ведома. И, чтобы проверить новость, решил сейчас же отправиться к Виктории Беглишке. Кому же, как не Виктории, знать о таком важном событии? Филипп осторожно выбрался из кустов, пересек цветник и, шлепая туфлями по каменным плиткам, скрылся в доме, никем не замеченный.
Жена его ушла на работу, и он мог спокойно удалиться, не давая никаких объяснений. Он наскоро умылся, причесал остатки волос на голове и облекся в белый летний костюм. Повертевшись перед зеркалом, он не на шутку огорчился, увидев, что живот уже подпирает к груди, как у молодого банкира. Насилу застегнул брюки. Филипп поразмялся немного, потом взял флакон и обрызгал себя одеколоном — к полудню жара стала невыносимой.
Завершив туалет, раздушенный и прилизанный, он сунул в карман чистый платок и торопливо вышел. В комнате остались раскиданные вещи — носовые платки, туфли, носки, пижама, бритва, грязная кисточка для бритья, и над всем стоял густой запах одеколона, который потянулся за ним невидимым хвостом.
В воротах Филипп столкнулся с Яной и ее дочкой. И они куда-то спешили. Он слегка растерялся от неожиданности, но, как человек воспитанный, уступил дорогу женщине с ребенком и вежливо поклонился. Яна не взглянула на него. Она презирала его с давних пор. Но Валя спросила про воробышков. И это дало ему повод для разговора. Девочка сообщила с гордостью, что у нее новое платьице.
— Кто тебе сшил его? — принялся он расспрашивать, но Яна быстро положила этому конец — она перешла на другую сторону улицы, потянув за собой дочку. Филипп ничуть не смутился. Он приложил палец к губам и многозначительно сказал девочке:
— Тс-с, мама не позволяет! Бо-бо сделает… И папа бо-бо!
И пошел в другую сторону, вызывающе и весело посвистывая.
7
Филипп Славков был весел и доволен, потому что жизнь его складывалась хорошо.
Он и не заметил, как подошел к Сосновому бору. Прежде чем подняться по аллее к дому Виктории Беглишки, он присел на скамейку отдохнуть. Отсюда был виден весь город, расположенный в долине по обоим берегам реки. Фабричные трубы терялись среди густых тополей; на солнце поблескивали только крыши да окна прятавшихся в зелени домов. Филипп не имел обыкновения любоваться городом, и только одышка заставляла его посидеть тут на скамье. Вот и сейчас, вынув носовой платок, он принялся вытирать свой лоб с залысинами, осматривая городскую панораму. Неожиданно за спиной у него раздались шаги, и веселое «гав-гав» заставило его вздрогнуть. Он обернулся с бьющимся сердцем и, к великому своему разочарованию, увидел деда Ставри с корзинкой в руках. Старик, смеясь, подмигивал ему.
— Напугал я тебя? А?
— Пожалуйста, пожалуйста, — пробормотал Филипп, глядя на докучливого старика, продолжавшего ухмыляться. — Откуда ты взялся… да еще с корзинкой?
— В лес ходил за цветами.
— За какими цветами? — удивился Филипп и поглядел на корзинку, полную ромашек.
— Цветы для Вики, — с важностью объявил старик, ставя корзинку у себя в ногах.
— Интересно… Похлебку вы, что ли, варите из них?
— Что-то в этом роде, — усаживаясь на скамью, отозвался старик.
Филипп нахмурился — он ждал Гиту, а на него свалился этот старик. И сунув платок в карман, он спросил с легкой насмешкой:
— Ну как же вы варите эту похлебку?
— Варим ромашки в кастрюле, а отваром Вики моет себе голову.
Филипп удивленно уставился на него.
— Что это случилось с Вики? Помешалась она, что ли?
Старик рассмеялся.
— Волосы светлеют от этого, глупый!
— Ага, блондинкой захотела стать! Неплохо на старости лет.
Филипп хлопнул старика по плечу, и тот, покачнувшись, едва не упал.
В самом деле, с некоторых пор Виктория Беглишки твердо решила стать блондинкой и с этой целью хранила в погребе целую груду ромашек. Каждое утро старик отправлялся на не скошенные еще полянки за сосновым бором и часами, словно утенок, щипал ромашки, напоминавшие ему серебряные монетки. Потом варил их в котелке во дворе. Впрочем, Хаджи Ставри удачно выполнял и другие поручения по хозяйству. Раз или два в неделю он спускался на базар и покупал грибы, которые Вики готовила с неподражаемым мастерством. Будь он помоложе, ходил бы и в лес по грибы, потому что отлично их распознавал — и шампиньоны, и подосиновики, и опята. Но в его годы трудно было карабкаться по холмам да сквозь кусты продираться.
— Эх, Филипчо, Филипчо, — вздохнул вдруг старик, ладонью отерев пот со лба, — смеешься, бездельник, а не спросишь, каково мне, до смеху ли.
— Что это ты?
— Да что… Помыкает мной, как прислугой. И ладно бы Вики, а то и Аспарух повис на моей шее, черт бы его взял. Да вдобавок глумится надо мной: «Зятек, — говорит, — сделай это, зятек, сделай то!» И я бегаю из последних силенок. А Вики только посмеивается. Теперь вот насчет дома принялись меня обхаживать, чтоб я переписал его на Вики.
— Если спятил, перепиши, — отрезал Филипп.
— Как же, так я ей и перепишу! Спятишь тогда! Выкинут меня на улицу. Ни в тех, ни в сех окажешься. Никогда!
Старик откинулся на скамейке и тоже загляделся на долину, возбужденный, побагровевший.
— Уф, дурно мне стало от жары.
Он расстегнул воротник и повертел тонкой своей, цыплячьей шеей, чтобы охладиться. На груди открылись седые лохматые волосы. Годы выпили из него все соки, и теперь он походил на старую отжатую тряпку — таким он выглядел немощным и облинявшим.
— Береги дом, дед! — назидательно сказал Филипп. — Дом береги! Мы поговорим с Вики, когда ты умрешь. И золото никому не давай!
— Филипчо, — встрепенулся старик, — неужели и ты, душа моя, веришь этим выдумкам? Какое у меня золото, какие деньги? Ничего нет!
— Тс-с-с! — оборвал его Филипп. — Мне ты об этом не рассусоливай! Смотри только, не отдай концы, пока не сказал мне, где их спрятал.
Старик насупился и снова обратил взоры на долину. Тихо и мирно жил город, купаясь в лучах солнца и зелени садов, окруженный высокими зелеными холмами с полянами и рощицами, с темными оврагами и крутыми серыми скалами, над которыми вьются орлы. Тихо и мирно сияет солнце, отражаясь в окнах, краснеют крыши, выделяются белизной новые здания. Старик будто впервые видел все это, будто не прожил семидесяти лет в этой долине, среди этих домов. И, оглядываясь кругом, он думал: «Сколько денег израсходовали люди на дома! Как много средств ушло! Смотри ты — крыша к крыше, стена к стене. И за каждый дом денежки отсчитывали, левами расплачивались! А теперь зарятся на готовенькое: дай, перепиши на меня… Никогда! Даром ей отдай! Подождешь!»
Старик наклонился за корзинкой.
— Куда тебе торопиться? — сказал Филипп. — Посиди маленько, полюбуйся на природу.
Старик сконфуженно ответил:
— Вики воду приготовила для мытья головы, надо ей полить.
— Вот несчастный! — вздохнул Филипп, тоже поднимаясь.
Оба не спеша двинулись к дому. Сильно припекало, мухи надоедливо жужжали и кусались, что, по мнению старика, предвещало дождь. Филипп не обращал внимания на его болтовню, пристально оглядывая знакомый дом. Все ему казалось, что в одном из окошек появится Гита. Почему-то он думал, что она непременно должна быть здесь. Окна были широко раскрыты, но никто из них не выглядывал. Вокруг было тихо и пусто, лишь только бабочки порхали над изгородью, исчезая в знойном мареве. Дед с внуком шли молча, держась в тени. Но вдруг Хаджи Ставри поставил корзинку на землю и весело возгласил:
— Ха, забыл самое важное!
Филипп тоже остановился. Старик хитро смотрел на него.
— Догадываешься?
— Нет, — ответил Филипп, хотя ему все было ясно.
— Могарыч с тебя! Вобла с пивом!
— Ставлю.
Старик придвинулся и многозначительно прошептал:
— Наша старая знакомая приехала.
— Кто? — с удивленным видом спросил Филипп.
— Кто!.. Вроде бы не знает, спрашивает кто… Ну, догадайся!
— Не могу догадаться.
— Да ну же!
И старик принялся поддразнивать, хлопая в ладоши.
— Догадайся, догадайся!
Филипп продолжал прикидываться недогадливым. Наконец, не выдержав, дед Ставри сообщил новость: Гита Коевская прикатила на мотоцикле.
Филипп сохранял полное хладнокровие.
— Меня это не интересует, — заявил он, — и прошу тебя, дед, не говори глупостей! Я человек семейный.
Старик погасил улыбку, но все еще лукаво поглядывал на Филиппа.
— Брось ты!
— Честное слово, дед! Как ты мог подумать про меня такое? Стыдись, ты человек старый. Ради бога!
Старик опять поднял корзинку и смущенно последовал за внуком, удивленный неожиданным оборотом разговора, но стариковская память коротка, и он продолжал:
— В брюках была… О тебе не спросила. Только вертелась туда-сюда, и пук волос за ней метался, как конский хвост.
— Долго она здесь пробудет? — не вытерпел Филипп.
— Вот этого не знаю, не поинтересовался. С Вики весь вечер проговорили. У нас ночевала. А утром забралась ка свой мотор и опять укатила куда-то. В село, кажется, отправилась. Работу ищет.
Филипп благосклонно слушал болтливого старика. Когда подошли к дому, Хаджи Ставри, пыхтя, побежал вперед и открыл железные ворота. Во дворе была тишина. Старик откашлялся. Из кухонного окошка донесся голос Виктории:
— Мацко!
— Я здесь, Вики, здесь, — откликнулся дед Ставри.
— Иди скорей!
Старик оставил корзинку и доверительно подмигнул внуку.
— Моет голову!
Филипп прошел на веранду и уселся в глубокое плетеное кресло перед круглым столиком. Было очень приятно посидеть так и полюбоваться на виноградник.
Прошло не больше получаса, и на веранде появилась в пестром халатике, надушенная и напудренная, с вымытыми и причесанными волосами, которые действительно приобрели цвет недозрелой пшеницы, торжествующая Виктория Беглишка. Увидев Филиппа, она заулыбалась и, будто ветром гонимая, понеслась к нему навстречу, заговорив почему-то по французски, может быть от избытка чувств.
— О, mon cher! Comment ça va?[2]
Филипп встал и с вежливым поклоном приложился к надушенной ручке.
— Садись, садись, мой дорогой! — продолжала Виктория, указывая ему на стул. — Ты совсем забыл старых друзей, с тех пор как женился. Вот уж не думала, что ты окажешься рабом брака. Но факт налицо.
— Ради бога, ради бога!
— Ты расширил торговлю, как я слышала, и даже посылаешь товары в Софию через Мантажиева.
— Пустяковое дело, на хлеб насущный.
— О тебе рассказывают фантастические вещи!
— Не так ли? Выдумки Аспаруха — он постоянно меня преследует неизвестно за что.
— Ничего подобного! — Виктория вынула из кармана халатика пачку сигарет, щелкнула зажигалкой, и кругом разнесся голубоватый дымок. — Аспарух всегда тебя любил…
Она глубоко затянулась, выпустила дым через нос и спокойно продолжала:
— Вот у Сокерова есть основания сердиться на тебя, потому что ты перехватил у него идею насчет мартеничек.
— И это неверно, — возразил Филипп, рукой отгоняя дым, который Виктория пускала прямо ему в лицо. — Всё мы промышляем по мере сил. Но довольно об этом. Ты что поделываешь, Вики? Молодеешь, хорошеешь. Просто глазам не верю, глядя на тебя… Слушается ли тебя старик?
По сияющему лицу Виктории пробежала тень.
— Жаловаться не могу, но возраст берет свое, Филипп. Капризничает в последнее время. Приготовишь ему грибы — желает рыбы. Рыбу приготовишь — желает грибов. Но я ведь кроткая Мария, угождаю ему во всем. Ношусь с ним как с писаной торбой. Пусть живет и здравствует, потому что без мужчины плохо в доме.
— Не так ли?
— Нет, нет, не могу на него жаловаться! Что верно, то верно. И на рынок ходит, и по дому помогает. Бывает трогательно мил, когда с корзинкой возвращается из леса!.. A propos[3], чтоб не забыть: из налогового управления пришла повестка, требуют внести налог за домик, надо уладить этот вопрос, Филипп.
Филипп с удивлением воззрился на нее.
— Какой налог?
— За домик. Разве мы не договорились, дорогой Филипп? Все ты забываешь. Впрочем, нам следовало бы продать эту развалюху, но Мацко не согласен — от отца, мол, он ему достался — и прочие сентименты разводит.
— Нет, нельзя его продавать, — возразил Филипп.
— Если не сумеем оправдывать расходы на него, придется и это сделать. Да. Вот какие дела с нашим стариком. Хороший человек, не могу на него пожаловаться. Только бы не эта астма, очень она его изводит. Решила нынешним летом повезти его на воды, но предварительно хочу посоветоваться с врачом. Хлопочу и о пенсии для него, да где там. Не признают труды тех, кто в прошлом занимался торговлей. А ведь человек трудился всю жизнь. Должен он получать пенсию или нет? На что же ему жить? Это в самом деле жестоко.
Филипп задумчиво смотрел на виноградник. Откуда-то, из ванной наверно, доносилось позвякивание посуды. Хаджи Ставри убирал туалетные принадлежности Виктории. А та, покуривая, говорила с таким увлечением, словно с давних пор ждала этого случая. И вдруг, пристально глядя на Филиппа, объявила, окутав его табачным дымом:
— Да, не успела тебе сказать: твоя бывшая приятельница здесь! И даже спрашивала о тебе!
— Ради бога, Вики! Я знаю все, но это уже давно прочтенный роман.
— Хорошие романы читают и по второму разу!
Он улыбнулся, но сейчас же скорчил серьезную мину.
— Я женат, Вики, и незачем напоминать мне о минувших слабостях. И речи быть не должно.
Виктория глубоко затянулась и прищурилась, пуская легкие струйки и колечки. Сквозь дым она с иронической усмешкой наблюдала за Филиппом. Тот явно избегал ее взгляда.
— Речь идет не о романе, Филипп, а о том, что женщина ищет работы и ей надо помочь.
— Для этого существует бюро по трудоустройству, — зло заметил он. — К тому же у нее есть муж, который должен заботиться о ней, как я забочусь о своей жене!
Виктория бросила сигарету и поудобнее устроилась в плетеном кресле. Она любила поговорить по душам. А Филипп всегда располагал ее к таким разговорам. Скрестив руки на своем пышном бюсте, она продолжала:
— Откровенно говоря, Филипп, эта особа пугает меня своим нахальством. Предчувствую, что она доставит мне кучу неприятностей из-за квартиры. Я предложила ей переночевать на веранде, и она, представь себе, согласилась! Завтра пожелает в спальне у меня устроиться. Это ужасно! Таких нахалок я еще не встречала! Интимничает со мной, словно мы с ней подруги закадычные! Помоги мне, пожалуйста, поделикатнее сделать ей от ворот поворот во избежание скандала. Ты знаешь, я ведь тоже не из трусливых.
— Знаю, Вики. Только у меня нет ничего общего с этой особой, и я слышать не хочу о ней. Между прочим, где она сейчас?
— Собиралась в село.
— На мотоцикле?
— Наверно.
Филипп посмотрел на нее удрученно. Жалел, что потерял добрых полдня. Но Виктория, как человек гостеприимный, предложила ему пообедать с ними, у нее есть маринованные грибы и еще кое-какие деликатесы. Филипп попробовал было отказаться, но, поскольку в нем жила еще надежда встретить Гиту, решил остаться.
Обедали на веранде — там было попрохладней — втроем: Виктория, Филипп и старик. Трапеза была богатая. Ели бульон, цыплят с рисом, зеленый салат и красный редис, маринованные грибы и крупные, сочные вишни, какие редко выносят на рынок. Ели молча, с аппетитом, каждый обдумывал свое. Только старик, снявший белую манишку, чтобы не закапать, шумно чавкал и время от времени хвалил искусные руки поварихи. Виктория и Филипп не обращали на него внимания — привыкли к его обжорству.
Они только что кончили обедать и потянулись к корзиночке с вишнями, когда во дворе послышался шум. Виктория вскочила и подошла к окну. Удивление ее было столь велико, что она невольно приложила ладонь к губам, подавляя готовый вырваться крик. Филипп и Хаджи Ставри смотрели на нее вопросительно.
— Что там?
Не вытерпев, Филипп тоже кинулся к окну. А за ним и дед Ставри — и ему не терпелось узнать, что случилось.
В сущности, ничего и не случилось. По аллее, ведущей к городу, спускались Аспарух Беглишки и Гита Коевская.
Филипп и Виктория переглянулись.
— Но она ведь сказала мне, что едет в село!
— Чтобы пасти овец в теказеэсе[4], — с кислой миной отозвался Филипп.
Сели за стол, но настроение было уже испорчено.
8
Прошло несколько дней. Как ни старался Филипп сохранять безразличный вид, все же он то и дело находил повод заглянуть к Виктории, чтобы осведомиться «о ходе дел».
Бывшая вдовушка, прекрасно изучившая мужские слабости, нарочно возбуждала его воображение.
— Подозреваю кое-что, но сдается мне, они еще не дошли до крайности.
Филипп выпячивал свой животик.
— Надо следить за нравственностью.
Филиппу передавали, что видели Гиту там-то и там-то, говорила она то-то и то-то. А вот ему, как ни странно, все еще не удалось с ней встретиться. Обвинял он в этом Аспаруха Беглишки. Только он с его пресловутым хитроумием мог так ловко ее прятать, бывая там, куда Филипп давно не заглядывал. Только он! И Филипп все сильнее распалялся. Он уже готов был увидеться с Гитой при любых обстоятельствах, и лишь для того, чтобы раскрыть ей глаза на этого лукавца. Ни для чего больше!
У Гиты не было постоянного пристанища. Иногда она ночевала у Виктории, потом опять исчезала куда-то на своем мотоцикле и не показывалась дня по два, по три. Виктория не без основания боялась ее назойливости, потому что в первый же вечер, когда Гита возникла здесь, она заговорила о комнате.
— Пустишь меня, Вики?
Виктория ничего не ответила, а Гита приняла молчание за согласие и расположилась, как у себя дома. При этом с первой же минуты начала откровенничать.
— Как поживаешь, Вики? У, совсем забыла меня! Что это, нет для тебя старости, Вики? Что ты с собой делаешь?.. А пеньюар у тебя новенький? По случаю свадьбы? Эх, Вики, как это ты решилась, душка, на такой шаг? Хотя ты вроде меня — глазом не моргнешь. А люди пусть говорят, что хотят! Верно? У каждого человека свои расчеты. Браво!
И, схватив Викторию за руки, не отпускала ее, порываясь расцеловать.
Какой ужасный был вечер — они проболтали до полуночи. Гостья весь дом вверх дном поставила, даже старик вылез из-под одеяла, чтобы взглянуть на нее и поздороваться. Гита шумно носилась по комнатам, мылась, притиралась и даже попросила деда Ставри выбить на улице ее брюки, пропылившиеся за долгий путь.
— Пять дней добиралась, Вики, от самого Рудозема! В такие передряги попадала! Посмотри, я вся седая от пыли, словно на меня мучной мешок вытряхнули.
— Да, в самом деле, — уныло усмехнулась Виктория. — Ты бы хорошенько почистилась, прежде чем входить. Мацко, принеси веник и щетку!
Старик, будто того и ждал, с готовностью бросился помогать усталой и запорошенной пылью путнице. Принес веник, щетку, вычистил брюки. Пособил поставить мотоцикл в сарай. Сделал все, что от него требовалось. Он давно питал втайне симпатию к Гите. Виктория хмурилась, но из вежливости воздерживалась от резких слов. Гита, разумеется, улеглась не сразу, счастливая, что добралась до старого своего гнезда. Она предпочитала выкурить несколько сигареток и поболтать с госпожой Викторией, вместо того чтобы заваливаться спать вместе с курами. Отчаявшаяся Вики насилу уложила ее в постель.
— Не пора ли тебе спать, дружок? Довольно болтать, ложись иди!
— Отвыкла я, Вики, я ведь медицинской сестрой работала, ночи напролет приходилось дежурить.
— Медицинской сестрой?
— Да, да.
— Ты — медицинская сестра?
— А почему бы нет? Лучшей была во всей больнице. Люди пальцем на меня показывала. Даже на доску почета угодила… И премии получала. Не будь Борки, я бы очень выдвинулась.
Услышав имя Бориса, Виктория оживилась — она и забыла о нем. Где он теперь, что делает? И Виктория спросила:
— Вместе живете?
Гита улыбнулась.
— А как же? Думаешь, развелись уже? Нет, до этого еще не докатились. Борка, правда, сорвиголова и злит меня порой ужасно. Но и я ему номера откалываю — будь здоров!
— Где он сейчас?
— В Рудоземе.
— Что делает?
— Этого не опишешь!.. Во всяком случае, деньги у нас есть! Жаловаться тут не приходится.
— Почему же он не приехал с тобой?
— Да как тебе сказать, Вики, оставила его — пусть поживет холостяком. Не так уж он доволен этим, да кто его спрашивает! Я вскочила на мотоцикл — и нет меня. Поругались малость, ну да ничего, пройдет. Мы и раньше цапались, случалось, и дрались, а потом все улаживалось. Он, Борка-то, очень добрый, сердце у него мягкое.
Виктория стояла, держась за ручку двери, готовая каждую минуту выйти, и слушала надоевшую болтовню, не зная, как от нее избавиться, не обидев гостью. А Гита и не замечала этого. Она все говорила и говорила, куря одну сигарету за другой. Старик ушел спать и, наверно, уже сладко похрапывал под теплым одеялом. Вики позевывала, деликатно прикрывая рот рукой.
Так было в первый вечер. Потом отношение к гостье изменилось коренным образом. Виктория каждый раз давала ей понять, что тяготится ее присутствием и рекомендует подыскать квартиру. Пробовала даже запирать на ночь калитку, но не знающая преград Гита перелезала через железную ограду и оказывалась во дворе. А ключ от двери у нее был. И утром изумленная Вики опять находила Гиту на диване; она спала, укрывшись своим макинтошем, а рядом валялись окурки, губная помада, пудра, круглое зеркальце.
— Вики, — сказала она как-то утром. — Не запирай, пожалуйста, на ночь калитку. В крайнем случае я могу и через ограду перебраться, но это ни к чему, правда?
Викторию взорвало.
— Вон отсюда! — крикнула она, стукнув по столу. — Убирайся вон, нахалка! Кто тебе дал право врываться ночью в мой дом без разрешения?
Гита круто повернулась, вильнув своим «конским хвостом».
— Прошу прощенья, но я уже подала заявление в жилищную комиссию, так что незачем на меня злиться! Жду решения!
Этого было достаточно, чтобы окончательно разрушить идиллию. Виктория выгнала Гиту, но на другой же день Гита, как ни в чем не бывало, заявилась вновь.
— Ты что, Вики, шуток не понимаешь? Могла ли я так поступить с тобой? За кого ты меня принимаешь?
Бывшая вдовушка только рукой махнула:
— Делай, что хочешь! Ну тебя к черту!
Все же Гита реже стала показываться у Виктории Беглишки, вот почему старания Филиппа Славкова встретить ее в этом доме оставались безуспешными. Но, как часто бывает, случайность вмешалась в их судьбу.
Как-то вечером Филипп, отправившись в Охотничий домик полюбоваться луной и съесть порцию кебапчета[5], встретил Гиту на улице. Он был в белом костюме, с неизменной красной розой в петлице. Там, где дорога ответвлялась к новому парку, Гита выросла перед ним, будто с неба свалилась. Она была в платье без рукавов, с большим декольте, открывавшим красивые плечи, и со своей знаменитой прической «конский хвост», привлекавшей всеобщее внимание.
— О, кого я вижу! — изумленно воскликнул Филипп.
— Старые знакомые, — с улыбкой отозвалась Гита, протягивая руку.
— Очень рад.
— Ты изменился, Фео, — продолжала она, осматривая его.
— Стареем, Гита, стареем.
— Зачем ты сбрил усы? Нет, так ты мне не нравишься, Филипп. С усами было шикарнее.
— Совсем напротив.
Он чуть посторонился, чтоб не мешать движению, и взглянул на часы.
— Торопишься?
— Да, на кебапчета… туда, в Охотничий домик.
Она посмотрела на него с подозрением.
— А где твоя жена?
— Дома.
— Мне бы очень хотелось с ней познакомиться.
— Почему же нет?
— Блондинка она или черноглазая?
— Брюнетка.
Гита замолкла. Филипп опять взглянул на часы.
— Где работает?
— В сберегательной кассе… Имеет высшее образование.
— Поздравляю тебя.
— Спасибо.
Отвернувшись, она устремила взгляд на аллею, ведущую в парк.
— Ты что делаешь?
— Работаю медсестрой.
— Поздравляю тебя.
— Не с чем.
Теперь она посмотрела на часы и повторила:
— Все же с усами было элегантней, Фео. Так ты виду не имеешь.
Он улыбнулся, пытаясь что-то возразить, но она прервала его:
— Приходи после кебапчета в новый ресторан на танцы.
— С кем там будешь?
— Один трезвенник составит мне сегодня компанию.
Филипп испытующе заглянул ей в глаза. Она ответила ему улыбкой.
— Гита!
Она сумочкой ткнула ему в живот.
— Растолстел.
Он поморщился.
— Кругом народ, Гита!
— Не так ли? — она подмигнула ему и еще раз ковырнула в живот. — Следи за поведением своей брюнетки, а нас предоставь трезвенникам.
Филипп отскакивал всякий раз, когда Гита пробовала ткнуть его в живот, и испуганно озирался, не видит ли кто-нибудь. Но в сгустившемся вечернем сумраке никто из прохожих не обращал на них внимания. И все-таки Филипп держался на приличной дистанции, которую Гита должна была соблюдать.
Они расстались друзьями, условившись встретиться в тот же вечер в новом ресторане, где чудесный оркестр и божественная певица. Филипп поклонился и поцеловал Гите руку. Приятно удивленная этим, она послала ему на прощанье свой волшебный взгляд. Он ответил легкой улыбкой, не забыв погрозить пальцем. Она еще больше развеселилась и уже издали махнула ему платочком. И, пока не скрылась, продолжала подавать какие-то знаки, которых нельзя было понять. В сущности, эти шутки не имели никакого значения, потому что, как только Гита свернула по аллее к ресторану, мысли ее тотчас же обратились на другое.
Оркестр играл, певица, позируя, разливала перед микрофоном свой низкий альт. Электрические лампы сияли, как множество солнц; все столики были заняты; высоко бил фонтан, освещенный красно-синими огнями. Плеск воды заглушался шумом оркестра.
Сердце Гиты уже стучало в такт музыке. Она торжественно вступила в зал и двинулась между столиками, кивая направо и налево. Так много было у нее тут знакомых.
В глубине зала ее нетерпеливо ждал Аспарух Беглишки, заблаговременно занявший круглый столик на две персоны.
9
Только этого приятеля Гиты, казалось, не коснулось время. И плешивая, с выпуклым теменем сократовская голова, и бескровное, сухое лицо, и острый взгляд голубых глаз, который часами мог быть устремлен в одну точку, и вся его низенькая, словно сплющенная, фигура, бесшумно шныряющая среди людей, — все было прежним, будто законсервированное.
И в жизни его не произошло серьезных перемен. Он остался, как был, завхозом общежития при «Балканской звезде» и не имел намерения покидать это место. Он занимался закупками, доставкой, ремонтом — делал все, что входит в обязанности завхоза. По-прежнему составлял «инвентарные списки» и «правила внутреннего распорядка», которые расклеивал по стенам общежития. С людьми предпочитал объясняться письменно, дабы не разводить излишних дрязг. Многословие и ненужная жестикуляция раздражали его. Он держался золотого правила — не доводить конфликты до крайности, если к этому не принуждают обстоятельства. А когда, случалось, впадал в ярость, бледное лицо его покрывалось красными пятнами, а в глазах зажигался зеленый, демонический огонь. В таких случаях он мог часами стоять как истукан, тупо глядя перед собой. О чем он думал в эти минуты бешеного озлобления, никто не гнал, как не подозревал и о том, какая буря бушует в его груди. В конце концов он брал себя в руки и вновь обращался к людям с улыбкой.
Оставаться незамеченным в ненавистном тебе мире было его заповедью, которой он придерживался терпеливо и неуклонно, никогда ей не изменяя. Конечно, он следил за событиями с огромным интересом, но и с еще большей осторожностью, потому что «противоборствующие», как изрек один из его учителей, должны или победить, или быть раздавленными. Сейчас он все еще находился в стадии ожидания победы, хотя чутье подсказывало ему, что час расплаты для него приближается. Больше, чем коммунистов, его волновал вопрос культа личности. На собраниях и заседаниях, в разговорах, в докладах и статьях — везде и постоянно употреблялось это новое выражение, эта доселе никому не известная формула. И это очень устраивало Аспаруха, ибо в старых книгах, к которым он любил обращаться, он вычитал, что среди избран-дых порой находятся недовольные, люди, жадные до перемен, они-то и открывают дорогу к власти, облегчая тем самым победу… Среди этих «избранных» Аспарух наметил себе одного, но годы подшутили и над Аспарухом и над его жертвой. Не успел Аспарух порадоваться победе и воспользоваться ее плодами, как произошло падение Бориса Желева. На что нужен теперь этот отвергнутый? Самое большее — служить своей жене, если, разумеется, она красива. И то ненадолго.
Времена решительно изменились. Аспарух Беглишки увереннее смотрел в будущее. Быть может, уже недолго ждать, когда он извлечет кинжал, чтобы отомстить за свои мытарства и страдания. У него на мансарде имелся радиоприемник, который связывал его с другим миром и по вечерам вливал в него бодрость. «Еще немного, еще немного, и власть коммунистов развалится!» Аспарух с явным торжеством выключал приемник и долго потом не мог заснуть. «Возможно ли? — спрашивал он себя. — Возможно ли?.. Однако одежка трещит по всем швам». Даже и в этом захолустном провинциальном городке. Он уже смелей и с некоторым вызовом оглядывался вокруг. Мантажиев, таскавший сумку страхового агента и периодически навещавший его, и тот не сомневался в победе. С Мантажиевым они строили планы, вычерчивали стратегические схемы, подсчитывали последние дни коммунистов. И надо же было в разгар этого политического ажиотажа на горизонте появиться Гите. Сначала Аспарух не обращал на нее внимания, как и на всех, кого он вычеркнул из своего блокнота. Но когда мотоцикл стал то и дело тарахтеть под окном мансарды, а «конский хвост» назойливо мелькать перед глазами, он понял, что наступил и его черед попытать счастья в любви. И эта мысль до умопомрачения взволновала его.
Как-то утром он вышел на веранду поздороваться с Вики, но остановился, пораженный представившимся ему зрелищем. На диване, слегка прикрытая одеялом, лежала Гита с обнаженными руками, в распахнутой на груди ночной рубашке, с сигаретой во рту. Гита любила по утрам выкурить в постели сигарету «для настроения», а потом уже приниматься за дела. Она курила, устремив взгляд в потолок, когда в дверях показался Аспарух. Он попятился, увидев ее, но не ушел.
— О, Аспарух! — воскликнула Гита. — Здравствуй! Как поживаешь? Входи!
Аспарух пробормотал извинения, но продолжал стоять, издали любуясь голыми плечами.
— Все еще холостяком живешь? Не женили тебя?
Он промолчал, но уже прикидывал в уме, что из себя представляет эта веселая собеседница. Порасспросив о том о сем, Гита велела ему удалиться, чтобы она могла привести в порядок свой туалет. Аспарух вышел в кухню. Через несколько минут Гита явилась туда, шумная и болтливая, и между ними как-то очень просто завязалось нечто вроде дружбы.
Сначала Аспарух, по выражению Гиты, составлял ей компанию. Из вежливости он сопровождал ее всюду, куда бы она ни пожелала. Однажды даже пригласил Гиту к себе на мансарду, но ничего лишнего себе не позволил. Показывал очень понравившиеся ей модные журналы, которые выписывал из-за границы. Гита все с большим доверием относилась к нему, чувствуя в нем свою опору. А она нуждалась в такой опоре — пойти в ресторан, в кино, в театр… И потанцевать, и прогуляться по городу поздним вечером. Мужчина необходим для женщины, любящей развлечься. Из инстинкта самосохранения Гита не отпускала Аспаруха. В первые дни он и был ее настоящим кавалером. Гита жить не могла без кавалера, она не знала, что значит дружба с женщиной. Это казалось ей непонятным и смешным.
Аспарух предложил свои услуги. Он бережно ухаживал за Гитой и всякий раз, оставшись наедине с ней, бывал подчеркнуто внимателен. А внимание — первое качество, отличающее влюбленных. И в доказательство готовности жертвовать для нее всем он нарушил некоторые свои принципы. Простился с воздержанием, позволив себе выпить газированный пелин[6], потому что так хотелось Гите. Пренебрег репутацией серьезного мужчины, протанцевав с ней танго и объявив, что способен и на румбу. Веселая болтушка сказала ему на это:
— Никогда не танцевала с философом, и вот теперь довелось.
Аспарух снисходительно улыбнулся, потный от напряжения.
И в этот вечер он подвергся испытанию. Не дав ему опомниться, Гита заявила, что он должен протанцевать с ней танго, до того как подадут кебапчета. Аспарух огляделся. Он считал неудобным для себя открывать танцы и попытался вежливо отклонить предложение своей дамы, пустив в ход поговорку, что голодного медведя плясать не заставишь. Но Гита настаивала. И мудрость вынуждена была подчиниться легкомыслию. Он поднялся, и они открыли танцы.
Еда в тот вечер не представляла для Гиты ни малейшего соблазна. Она почти не прикоснулась к жаркому, опьянев от танцев и вина, которое Аспарух усиленно подливал ей. Она решила досыта натанцеваться, пока не приехал Борис (ей ли было не знать, какой он ревнивец).
Время подвигалось к полуночи, танцы были в разгаре, и Гита почти не покидала переполненный дансинг. Она, можно сказать, переходила с рук на руки — от хорошего танцора к лучшему. Все наперебой приглашали ее — и знакомые, и незнакомые. И всем она самозабвенно подавала свою обнаженную руку. Она была так увлечена, что не заметила Филиппа, который зашел сюда последить за «ходом вещей». Гита была пьяна от танцев. У нее не было другого желания, как кружиться в объятиях партнеров до полного изнеможения. И она кружилась, забыв и о себе, и обо всех, кто смотрел на нее с насмешливой улыбкой.
Гита и Аспарух оставались до закрытия ресторана. Было уже за полночь, когда они вышли. Подымаясь по крутой аллее к дому Виктории, они поддерживали друг друга, усталые и слегка охмелевшие. Аспарух пошатывался, хотя выпил всего один бокал. Он не привык, и теперь чувствовал себя пьянчугой. А это поднимало его в собственных глазах.
У Гиты было единственное желание — уснуть. Поэтому неосторожные намеки Аспаруха раздражали ее. Ей не терпелось избавиться от него и поскорее лечь.
Еще издали они увидели, что ставни на окнах закрыты. И очень удивились, потому что раньше Виктория этого не делала. Подошли к ограде — калитка оказалась запертой. Тут не было ничего страшного — Гита могла перелезть через ограду, но и этого не потребовалось — у Аспаруха был ключ. Он открыл калитку, и они прошли во двор. Было тихо. Дом словно вымер. Гита попробовала открыть дверь своим ключом, но она была заперта изнутри на засов. Гита решила позвонить. Она нажала кнопку, раздался резкий, продолжительный звонок. Отпустив кнопку, прислушалась. Никто не отозвался. Подошел Аспарух и тоже позвонил. Никакого ответа. Гита взобралась на камень возле окна в спальню и принялась барабанить по ставню. Все было тихо, мертво, безнадежно, и она сказала:
— Посидим. Крепко спят эти старики.
Аспарух молча последовал за ней.
Скамья стояла в винограднике, а рядом с ней стол, за которым летом обедали. Гита осмотрелась и объявила с усмешкой:
— Ян тут могу спать.
Аспарух подошел к ней и обнял за голые плечи.
— Ты вся заледенела. Как можно так говорить?
Гита ничего не ответила, потому что руки у него были горячие, и от этого по всему ее телу разлилось тепло. Еще сильнее захотелось спать. Гита попросила оставить ее в покое. Аспарух наклонился к ней, как бы желая что-то сказать, и она ощутила запах — смесь вина и лука. Эго заставило ее отстраниться. Аспарух опять потянулся к ней, теперь уже к губам. Она с отвращением отвернулась. Но Аспарух не отчаивался. Он обхватил ее за плечи и сказал тихонько:
— Не волнуйся.
— Я и не волнуюсь, — ответила она.
— Мне кажется, — продолжал он, ободренный, — что из любого затруднения есть выход.
Она вопросительно посмотрела на него.
— Я не могу оставить тебя на улице, — объяснил он, сжимая ее плечи. — Я должен тебя приютить.
Она улыбнулась смешному слову «приютить». И тут же вздохнула, разгадав гнусные намерения. Подумав, что его одобряют, Аспарух крепче прижал ее к себе и сказал:
— У меня в комнате есть вторая постель.
Она не ответила.
— Там очень уютно, — настаивал он. — Да или нет?
Гита задыхалась от тошнотворного запаха и впервые почувствовала себя несчастной в объятиях мужчины.
— Да или нет? — повторял он, как заученный урок, вцепившись ей в плечи. Она готова была закричать от боли. Ей противно было глядеть на него. Он словно задушить ее собрался. Повторяя «да или нет», он наклонился, пытаясь ее поцеловать, но не сумел: Гита уже приготовилась к защите. Сжав кулак, она ткнула Аспаруха в подбородок так сильно, что тот лязгнул зубами. Инстинктивно схватившись за подбородок, он выпустил Гиту и отскочил от скамейки. Сразу лишился и рассудка и дара речи.
— Я была лучшего мнения о тебе, товарищ Беглишки! — зло сказала Гита и поднялась со скамейки, оправляя платье. — Ты очень ошибаешься, если думаешь, что я уличная девка!
Аспарух удивленно смотрел на Гиту, не видя ее. Было не так уж темно благодаря пробиравшемуся откуда-то из-за холмов лунному свету. И все же Аспарух не видел Гиты, а если б даже и видел, не смог бы узнать в тот момент ее лицо и глаза. Страшная она была и чужая, словно какое-то другое существо, вышедшее прямо из леса, дикое и настороженное. «Завтра же растрезвонит обо всем, — первое, что подумал Аспарух, придя в себя, — завтра же растрезвонит!» И это было главное, что подавляло его. С таким трудом созданная репутация скромного и воспитанного человека могла мгновенно рухнуть. Поди потом восстанавливай ее. Он лихорадочно соображал, как быть. Своенравное животное укрощают лаской. Коню дают сахар, медведю — мед. Смиренно склонив голову, Аспарух сказал печально, с оскорбленным видом:
— Жаль, но я поступил совершенно искренно.
Гита не поняла, что он хотел этим выразить. Он продолжал:
— Естественно, что, не найдя ответа на свои чувства, я должен нести свой жребий, как бы тяжело это ни было. Я поступил вполне искренно.
— Когда предложил переспать с тобой? В этом твоя искренность?
— Ничего подобного я не требовал. И я желал бы объясниться, прежде чем выслушивать разные обвинения. Иначе я буду считать себя оклеветанным.
— Считай, как хочешь. Такие номера со мной не пройдут. Если Вики нарочно заперла ворота, чтобы заставить меня спать с тобой, то она жестоко ошиблась! Я порядочная женщина, хоть и люблю повеселиться!
Гита тщательно оправила платье и стала спускаться под гору.
— Найдется, надеюсь, и для меня местечко, где я смогу преклонить голову без того, чтобы меня принуждали… Не так ли?
Глядя на нее, Аспарух непрерывно твердил про себя: «Только бы не разболтала эта дура, только бы не разболтала!» И сделал последнее отчаянное усилие.
— Нам нужно объясниться, Гита, — крикнул он ей вслед.
Гита не ответила, скрытая темнотой.
10
Ружа Орлова и Колю Стоев жили в новом квартале, который имел то преимущество перед другими городскими кварталами, что был новый, чистенький, еще пахнущий красками и известкой. Но и недостатки вы смогли бы обнаружить в первый же день, если бы вам, не дай бог, понадобилось сходить в овощную или бакалейную лавку. Долго до них добираться, и мало их. Эти неудобства не имели, однако, значения для молодой четы. И раньше и теперь, когда уже появился Мартин, они питались в рабочей столовой на «Балканской звезде» и были вполне довольны.
Ружа не испытывала ни малейшего влечения к домашней работе. С первых же дней их семейной жизни, когда домовитый Колю начал, словно муравей, таскать с базара веники, кастрюли и сковородки для «обзаведения хозяйством», стало ясно, что дело на лад не пойдет. Все будто чего-то не хватало, чтобы почувствовать уют в гнездышке, как говорила их посаженная мать Мара Минковская. То в кухонном буфете не было должного порядка, то столик в гостиной забывали накрыть кружевной скатеркой, а случалось, и оконные стекла были до того пыльные, что на них можно было расписаться. И полушутя, полусерьезно Мара, на правах матери, оставляла иногда на стекле свою подпись, а сверху два восклицательных знака. Колю и Ружа краснели от стыда и как встрепанные принимались засучив рукава убирать в квартире. Чистили так заботливо и усердно, что в сверкающих стеклах начинали отражаться, словно в зеркале, небеса с облаками. Этот пароксизм чистоты порой овладевал ими с такой силой, что они весь дом переворачивали вверх тормашками: выбивали ковры, мыли, натирали паркет, вода лилась даже по лестнице. Все делалось торопливо, сгоряча, с каким-то ожесточением. Мара дивилась их усердию, и все же этот хозяйственный пыл молодой четы не удовлетворял ее. Какая-то нервозность чувствовалась во всем этом. Не хватало системы, порядка и постоянства в домашней работе. Этим людям хотелось, очевидно, сделать как-то все сразу — вымыть, выбить, вытереть, чтобы раз и навсегда отвязаться от бесплодной, глупой и утомительной суеты. Да так оно и было — целый месяц после этого они не обращали на свое хозяйство никакого внимания, пока снова не появлялась подпись тети Мары на одном из окон. И тогда — давай все сначала!
— Нет, дорогие мои, — заявила однажды Мара. — Так не хозяйничают в доме. Нужны система и постоянство.
— Нужно время, тетя Мара, — вспыхнула Ружа, — понимаешь? Время нужно!
— И любовь к хозяйству.
— Это дело второстепенное.
— Знаю, ты и раньше развивала такие теории, еще когда была в общежитии. Подружки твои и готовить научились, и кружева вязать, а ты так нескладной и осталась.
— Да, но я вечернюю школу окончила, прошла авто-и мотокурсы, я…
— Довольно хвастать.
— Ты принуждаешь меня к этому. Думаешь, я не могла бы накинуть халатик, как другие, и расхаживать в мягких туфлях по квартире? Смотрите, мол, какая я хозяйка!.. — Она презрительно повела бровями. — Люди мне целую фабрику доверили, и чтоб я с квартирой не справилась… Большое дело!
— Ладно, ладно, — проворчала Мара, — и ты начала хвалиться, как Борис Желев.
Ружа осеклась — ее в жар бросило от такого сравнения.
Вопрос о времени, которое необходимо уделять хозяйству, и о правильном распределении этой действительно докучливой работы не сходил в молодом семействе с повестки дня. Каких только правил и систем не измышляли и не разрабатывали они для наиболее удачного решения неизбежных повседневных забот: то брали обед из столовой, то приглашали уборщицу, то по очереди ходили на рынок. Неурядицы продолжались до тех пор, пока, привыкнув, они не перестали обращать на них внимание. Даже Мара редко теперь нападала на них.
Больше всех страдал Колю. Как всякий труженик пера, он был крайне беспомощен в бытовых делах. Не умел ни брюк как следует выгладить, ни пуговицу пришить вовремя и на место, ни купить что-то съедобное. Словом, он только увеличивал беспорядок, и не раз в кухне велись затяжные споры относительно пуговиц, тарелок, брюк, ботинок. Споры мелочные, но резкие и неприятные. До того иногда доходило, что они заново начинали обсуждать проблему равноправия мужчины и женщины. И Колю склонял знамя, признавая, что женщина равноправна и домашняя работа должна быть распределена по справедливости.
Но жизнь развивалась как-то очень сложно, и все во вред Колю. Он стал помощником главного редактора газеты «Работническа дума», а Ружа все равно не хотела признать, что он очень занят. Он должен был просматривать кучу материалов, писать передовые статьи, отвечать на письма читателей, присутствовать на разных совещаниях и конференциях, следить за своевременным выходом номера. Втайне от всех он приступил к сочинению романа, но застрял на десятой странице.
Все шло кое-как до появления Мартина. Когда родился Мартин, в доме воцарился неписаный закон, не признающий никаких дискуссий, никаких схем. И Ружа и Колю целиком ему подчинялись.
В первый год приходила помогать одна старушка, на другой год — девушка, но все это временно, а дитя явилось на свет, чтобы жить долго. И отец постепенно превратился в няньку. Только когда ребенка поместили в ясли при фабрике, Колю освободился от обязанностей няньки. Всю неделю Мартин пребывал в яслях, а в субботу вечером родители брали его к себе на воскресенье. Радовались они, как дети, и у них не оставалось уже времени для споров о равноправии.
Ружа действительно была очень занята. Помимо административно-организационной работы, которая пугала ее в какой-то степени из-за нескончаемой переписки, была и другая работа, самая важная — выполнение плана. Этому были подчинены все ее заботы, все старания. Утром, едва открыв глаза и умывшись, чтобы развеять сон, она начинала мысленно обходить цеха и припоминать показатели выработки ткачих. Ряд цифр, бесконечно длинный, вливался в русло вытканных шерстяных тканей с маркой «Балканская звезда». Это было лицо коллектива, вкладывающего в бесчисленные ткущиеся нити свое сердце и душу. И совершенно понятно, что везде, куда бы ни попадали эти ткани, в Болгарии или за ее пределами, лицо это должно привлекать своей красотой, ласкать взгляд, притягивать руки, очаровывать. И часто, проходя по цехам и глядя на станки, Ружа говорила: «Не для других, для себя ткем!» Этим она играла на самолюбии работниц. Охваченная беспокойством, она прямо с фабрики отправлялась по магазинам — узнать, велик ли спрос на их материалы, услышать мнение покупателей. И порой возвращалась расстроенная. «Нет, не нравятся наши рисунки… Все еще выпускаем брак… плохая основа», — говорила она и вызывала на совещания художников, ткачей, красильщиков, мастеров и техников, главного инженера… Обсуждения, перестановка людей, борьба за улучшение качества, подтягивание дисциплины… И в центре всего — она, ибо остановись она в своих поисках, автоматически остановится и движение вперед, все пойдет по проторенным дорожкам. А тогда появятся представители партии, профорганизации, молодежи — потребуют отчета, напомнят об ответственности. И прежде всего ей самой, а потому, зная это, она крепко держала кормило в своих руках и управляла «Балканской звездой» так же искусно и умело, как своей персональной машиной. Честолюбивая настойчивость ее росла день ого дня. «Балканская звезда» должна стать передовым предприятием в городе, во всей стране; она издали должна быть видна, как видна сияющая над долиной красная звезда, укрепленная на высокой башне. Вот какими мечтами жила Ружа Орлова, молодой директор фабрики, вот с какими желаниями она просыпалась и заканчивала свой трудовой день иногда далеко за полночь — фабрика работала в три смены.
Вот почему помощнику главного редактора газеты «Работническа дума» часто приходилось сидеть дома в одиночестве, писать статьи да поглядывать в окно, не сверкнут ли фары «победы». Хорошо еще, что Руже предоставили машину, чтобы она не тратила время на дорогу.
Но сегодня Колю был сильно обеспокоен. Давно перевалило за полночь, скоро уже два, а ее все нет. Случалось, конечно, и такое, но редко. И Колю то и дело подымался с постели и выглядывал на улицу.
Летняя ночь была светлая. Луна сверкала, как маленькое солнце. Ветерок, дующий с гор, откидывал оконную занавеску, словно кто-то хватал ее руками снаружи. Река шумела вдалеке, квакали лягушки, будто дети играли деревянными трещетками. Было что-то торжественное в этом монотонном звучании летней ночи. И все же она не волновала молодого супруга, как волновала когда-то в Сокольских лесах. Он с грустью вспоминал минувшее время, сколь ни безнадежной казалась тогда его любовь. Он достиг своей цели — Ружа стала его женой, у них есть ребенок, а для полноты счастья все чего-то недостает. Конечно, обывательские недоразумения не могут помешать, не могут расплескать чашу любви. Но какие все-таки недоразумения мешают? Что за чертовщина! Колю лежал, откинув одеяло, глядел на кусочек неба, усеянного звездами, и корил себя за го, что не может справиться с волнением, которое его охватывало всякий раз, когда Ружа опаздывала. Он ревновал ее, в чем-то подозревал и сердился, сам не зная за что. Но как только она открывала дверь, валясь с ног от усталости, спокойствие вновь возвращалось в его сердце. Он даже не спрашивал, где она была, что делала. Правда, в первое время он пытался задавать какие-то необдуманные вопросы, но был жестоко наказан за это. Разве он не знает, где она была? Сомневается в ней? И что это за прокурорский допрос? Почему он не подождет, пока она сама расскажет ему все с начала и до конца, а торопится задавать вопросы?
В конце концов он отвык от расспросов. Рад был тому, что она вернулась, пусть и поздно.
Лежа у окна и напряженно прислушиваясь, Колю любовался звездным небом и размышлял о жизни. Что это за звуки, что за шумы, там, за окном? Как спокойна и в то же время тревожна ночь! И насколько излишни вопросы: почему светит луна, почему поют сверчки, почему квакают лягушки. Романа он все равно не напишет, не удержит счастья в своих руках, как не мог бы задержать звезду, что скатилась с неба и угасла за крышами домов… Ружа идет своим путем, он — своим, скоро и Мартин изберет собственный путь. И когда представляешь себя затерянным среди великого многообразия жизни, понимаешь, что тобой управляет, в сущности, та же сила, подчиняясь которой звезды движутся во вселенной. Лучше не думать об этом, не тревожить себя… И все же грустно становится, когда смотришь на ее фотографию, сделанную три года тому назад. Почему, собственно, на фотографию? Он ежедневно видит Ружу — каждый вечер, каждое утро. И теперь, закрыв глаза, он представляет себе, как она изменилась, хотя три года — небольшой срок в жизни чело-пека. Правда, она окончила за это время гимназию, стала директором, родила ребенка и, ко всему этому, вынуждена заботиться о мужчине, который вечно укоряет ее за то, что она не пришила ему пуговицу, не почистила ботинки и предоставляет ужинать одному. Совсем не удивительно, что она изменилась, тут и поседеть можно… Да, да, Колю не имеет права вздыхать у раскрытого окна, как влюбленная гимназистка! Пора покончить с этим!
Он закрыл глаза и попытался заснуть. На городской площади пробили часы, и он сосчитал удары. Только два. Это успокоило его. Значит, она дождалась третьей смены и, наверно, скоро вернется — усталая, изнемогающая от желания спать. А все же не забудет припудрить лицо, чтобы стереть следы утомления. Колю вздохнул и отдернул занавеску — она мешала ему обозревать улицу.
Снизу послышался какой-то шум. Колю высунулся в окно. Тень от их дома протянулась через всю улицу, ничего нельзя было разглядеть. Может быть, Ружа забыла ключ? Колю спросил:
— Это ты, Ружа?
Никто ему не ответил. Или он не расслышал?
— Иду, иду, — крикнул он на всякий случай, стараясь попасть ногами в домашние туфли. Ночь теплая, можно выйти в пижаме. Да и брюки неизвестно где. «Слава богу, — улыбнулся Колю, — пришла наконец!» И стискивая ключ в руке, он сбежал по лестнице. Дверь действительно оказалась запертой. По близорукости он долго возился с ключом, а когда открыл дверь, попятился. Перед ним стояла Гита, которую он не узнал сразу. Сконфуженный тем, что был в пижаме, Колю принялся извиняться.
— Пожалуйста, пожалуйста, — сказала Гита, — не стесняйтесь, мы люди свои.
Колю смутился еще больше, но все же нашел в себе силы спросить!
— Вам кого?.
— Ружу Орлову.
— Она еще не вернулась с работы.
— Ничего, я подожду.
— Как хотите.
Колю отступил, пропуская ее. Гита проследовала мимо него и начала подыматься по лестнице, даже не оглянувшись. Колю двинулся за ней.
11
Войдя в квартиру, Гита зажгла в передней свет и спросила с улыбкой:
— Припоминаешь меня?
— Не может быть! — отозвался он.
— Да, я Гита, — отрекомендовалась она.
— Теперь ясно.
— Я одна, — продолжала она, проходя в комнату, — и прошу простить, что побеспокоила тебя среди ночи, но в гостинице нет мест.
— Живете в гостинице?
— И да и нет.
Он взглянул на нее удивленно.
— Чему ты удивляешься?
— Я не удивляюсь.
— И я не удивляюсь, просто мне спать хочется, глаза слипаются.
Она зевнула сонливо и села на кушетку, застланную белым пушистым ковриком.
— Как мягко, — сказала она и прилегла, подсунув себе под голову подушку. — Извини, но мне до смерти хочется спать.
Колю растерянно смотрел на нее.
— Хорошая у вас гостиная… широкая, просторная, хоть на велосипеде катайся.
— Да, хорошая.
— Одни живете?
— Одни… с Мартином.
Гита нахмурилась. Мартин почему-то представился ей с бородой и с усами. И сейчас же в ее усталой голове возникло другое.
— Квартира ваша собственная?
— Как же это возможно?
— А почему?
— Разве частная собственность допустима?
Гита опять сдвинула брови. Она не поняла его возражения. Слишком, видно, устала. Она старательно натянула платье на свои голые колени.
— Очень извиняюсь.
Она оглянулась со вздохом, и взгляд ее неожиданно остановился на столике, где стояла пепельница с пачкой сигарет.
— Можно закурить?
Колю подал сигареты.
Поблагодарив, Гита торопливо закурила. Густой сизый дым скрыл ее лицо. Колю глядел на нее с опаской, от стеснения не зная, куда деваться.
Она жадно затягивалась и, слегка прищурясь, молча разглядывала потолок. Утомленное лицо ее, окутанное дымом, казалось призрачно далеким и привлекательным. Длинные ресницы поблескивали при свете, черные брови будто углем нарисованы, волосы рассыпались по плечам. Чем-то неуловимо приятным и соблазнительным веяло от всего ее тела. Колю удивленно и с испугом смотрел на лежавшую женщину. Вдруг, заметив, что он все еще в пижаме, Колю совсем смутился и, извинившись, вышел переодеться. А когда вернулся в брюках и клетчатой блузе, Гита уже встала с кушетки, докурив сигарету.
— Прошу прощенья, что я так нахально поступила… Но вы, писатели, разбираетесь в подобных делах, я знаю…
Она устало улыбнулась.
— Где я могу лечь?
— Распоряжайтесь моим кабинетом.
И Колю проводил ее в комнату, дверь в которую была открыта. Гита звонко застучала по паркету своими высокими каблучками.
— Это твой кабинет?
— Да.
— Тут ты и сочиняешь?
— Да.
— Как хорошо.
— Что?
— Что сочиняешь.
— Почему?
Гита не ответила, села на кушетку рядом с письменным столом и спросила:
— Как это сочиняют?
Колю усмехнулся.
— Очень просто, — сказал он, садясь за письменный стол, — вот так.
Гита с любопытством уставилась на него.
— Как?
— Так.
Колю подпер голову и вперил взгляд в стену.
— Что там?
— Сочинение.
Гита хлопнула его по плечу.
— Шутник какой!.. Ты и с Ружей так шутишь?
— Нет.
— Почему?
— Она серьезная.
— А я?
Колю смущенно умолк.
— Я не серьезная?
— Нет, почему… Серьезная… Но все же…
Она лукаво смотрела на него.
— Да или нет?
Колю покраснел. Она не сводила с него испытующего взгляда, потом расхохоталась и шлепнула его по коленке.
— Очень уж ты застенчив.
Она протяжно зевнула и проговорила:
— Боже, как я устала… Спать хочу.
Колю сразу поднялся.
— Спите, пожалуйста, спите.
— Спасибо. Хотелось бы дождаться Ружи. Неудобно улечься до ее прихода. Что она скажет, увидев нас вдвоем?
— Ничего.
— Ревнивая она?
— Нет.
— Повезло тебе.
Она опять зевнула и огляделась.
— Мне и спать хочется и поговорить с тобой приятно. Ты такой славный. Если б все мужья такими были…
Она снова обвела комнату взглядом.
— Честное слово, у вас очень тихо… Тихо, верно?
— Не всегда.
Гита оперлась на подушку.
— Прости за болтовню.
Колю растерянно глядел на нее.
— Каждый вечер Ружа так запаздывает?
— Нет, иногда возвращается рано… Особенно когда Мартин здесь.
— Какой Мартин?
— Сынок наш.
— Боже, вот пустая голова! — всплеснула она руками. — Я забыла, что у вас ребенок. Мартином его окрестили?
— Мартином.
— В честь кого?
— Да так просто… по книге.
Она хитро глянула на него.
— Не заливай.
— Почему?
— Раньше ты не был таким комиком… Разве можно по книге окрестить сына?
Колю усмехнулся.
— Не по книге, а в честь героя книги.
— Ну, это другое дело. Какого героя? Социалистического труда?
— Нет… — промямлил Колю. — А вы спите, спите, я уйду.
— Мне уже расхотелось.
— Нет, нет! Спите, я ухожу.
Он пятился спиной, повторяя «спите, спите», пока не стукнулся о дверь.
— Пардон, — проговорил он, хватаясь за дверную ручку.
Гита совсем развеселилась. Она закурила новую сигарету и принялась разглядывать книги, расставленные на этажерке. Колю стоял на пороге, переминаясь с ноги на ногу.
Надо бы погасить свет в передней, но он не решался оставить гостью.
А та рассматривала книги, вполне освоившись в чужой квартире. И вдруг спросила, не отрывая взгляда от книг:
— Все их прочел?
— Все, — отозвался Колю.
— Удивительно. До единой?
— До единой.
— Боже ты мой! — схватилась она за голову.
— А вы любите читать?
— Я работала медицинской сестрой, и тогда, вполне понятно…
Он сконфузился из-за того, что заподозрил ее в невежестве.
— Жалко, что у меня нет медицинской литературы, не могу вам предложить.
— Ничего, ничего, — успокоила его Гита. — Увлекаешься романами?
— Да.
— А я вот нет. Как медицинской сестре, мне часто приходилось дежурить, и не оставалось свободного времени для романов.
Она опять подошла к кушетке.
— Достаточно вам одного одеяла? — спросил Колю.
— Да, я не мерзлячка. Ух, как мягко!..
— Старая кушетка.
— А вообще-то на мягком не следует спать. Негигиенично.
Гита откинула одеяло и добавила:
— Так и не дождалась я Ружи.
Наклонившись, она начала снимать туфли. В это время раздались шаги. Колю обернулся и увидел свою жену. За ее спиной стояла Яна.
— Кто тут? — спросила Ружа, заглядывая в открытую дверь.
Колю посторонился.
— А-а, гостья? У тебя гостья?
Она вошла в комнату, а Яна, услышав голос Гиты, быстро повернула назад.
12
Гостья сбросила уже и вторую туфлю, когда появилась хозяйка. У Гиты была привычка, приобретенная, может быть, еще в детстве, разбрасывать вещи по всей комнате; обувь валялась в одном месте, чулки — в другом, платье — в третьем… Она до сих пор не избавилась от этой привычки, несмотря на многочисленные скандалы, которые ей устраивал супруг. А он, надо отдать ему должное, любил порядок и приличие.
Порядок и приличие любила и Ружа, но не это было сегодня главным.
Остановившись посреди кабинета, Ружа удивленно и сердито смотрела на гостью и никак не могла понять, почему Гита босая. И что значит эта смятая постель, перевернутая подушка, съехавшее на пол одеяло. На столике полно окурков! В комнате сизо от дыма!
— Задымлено, как у барсука в норе, — воскликнула она, кидаясь к окну, чтобы его открыть, — задохнуться можно.
— Скажи сначала «добрый вечер», Ружка, а потом уж окошками занимайся! — с улыбкой остановила ее Гита, натягивая платье на голые колени.
Ружа с трудом овладела собой.
— Скорее доброе утро, чем добрый вечер, — ответила она, взглянув на ручные часики. — Не понимаю все же, почему не предупредила меня? Поставила в неловкое положение…
— Пожалуйста, не обращай внимания, Ружка, мы же свои!
— Неловко все-таки.
— Да нет, нисколько. Мы тут поболтали с Колю.
— Болтайте хоть всю ночь, если хотите. Не в этом дело.
Она собирала раскиданные вещи, Колю с виноватым видом следил за каждым ее движением. Очень хотелось ему помочь Руже, но та ни разу даже не взглянула на него. Он отлично угадывал ее настроение, не предвещавшее ему ничего доброго. Он достал из-под стола зашвырнутую туда туфлю, но Ружа вырвала ее у него из рук, давая понять, как он неуклюж и как много у него других недостатков, о которых речь впереди. Колю опять остановился в дверях, чувствуя себя преступником.
Ружа быстро навела порядок, туфли — на очень высоких и очень тонких каблуках — поставила одна к другой и обратилась к мужу:
— Уходи отсюда, дай женщине раздеться! До чего недогадлив… Повис на двери, как фонарь.
Колю немедленно исполнил приказание жены. Он кинулся вон, забыв пожелать «спокойной ночи». Но ни Гита, ни Ружа не обратили на это внимания. Как слепой, прошел он через гостиную — забыл в кабинете очки; обидное сравнение с фонарем только усугубляло его растерянность.
Пробираясь в кухню, ударился головой о полураскрытую дверь и, конечно, не погасил свет, за что будет еще отруган. Но на этом испытания его не кончились. В кухне он увидел Яну, которая стояла у двери, готовая каждую минуту уйти.
— Ты что? — приступила она к Колю. — Решил комедии со мной разыгрывать?
— Какие комедии?
— Не увиливай, пожалуйста! Не ожидала я от тебя такого. Хоть бы Ружу предупредил, что у тебя гостья.
— Яна!
— Не оправдывайся передо мной!
— Все это случайно, поверь мне, Яна, — принялся он заклинать, — поверь. Я ни в чем не виноват.
— Известны мне ее штучки…
Она смешалась, покраснела и, уткнувшись в ладони, заплакала. Уговаривая Яну сесть и успокоиться, Колю осторожно взял ее за плечо, но Яна оттолкнула его так сильно, что бедняга едва не упал.
— Не трогай меня! Оставь!
Она выкрикнула это так, будто ее оскорбили.
— Ступай к своей гостье… Ухаживай за ней… Я тут лишняя. Надо мной только издеваться можно…
Она бросилась в переднюю, Колю за ней.
— Ради бога, останься, Яна! Куда ты пойдешь среди ночи? Как я оправдаюсь перед Ружей?
— Меня это не интересует! Посторонись! Дай мне ключ!
— Не дам.
— Нет, дашь!
Началось препирательство из-за ключа. Повторяя, что не даст ключа, Колю для верности прислонился к двери, опасливо поглядывая, как бы его опять не толкнули, потому что здесь, на мозаичном полу, и голову разбить недолго. Но гнев Яны постепенно утихал; бросив на Колю уничтожающий взгляд, она вернулась в кухню.
— Ты нарочно все подстроил, я знаю, — заявила она, садясь к нему спиной. — Фельетон собрался написать или еще что-нибудь задумал… Для чужой спины и ста палок мало… Воображаешь, что можешь помирить меня с ней? Никогда!
Яна стукнула кулаком по столу.
— Никогда!
Потом умолкла, прислушиваясь. Через полуоткрытую дверь из гостиной долетал веселый смех, потом послышалось: «спокойной ночи, спокойной ночи», хлопнула дверь и раздались быстрые, энергичные шаги. В кухню вошла Ружа. Она словно преобразилась. Утомление и недовольство как рукой сняло. Колю смотрел на нее, окрыленный надеждой, Яна потупилась.
— Такая сумасшедшая, что дальше некуда! — сказала Ружа, положив на стол свою сумочку. Потом подошла к умывальнику и, глядя в зеркало, принялась чистить зубы. Колю и Яна удивленно смотрели на нее. Ружа умылась и начала объяснять, что произошло. Оказывается, Гита до того расчувствовалась, что кинулась ей на шею, осыпая поцелуями и приговаривая: «Какая ты хорошая, какая ты добрая, какая милая!» А когда заметила, что накрасила ей щеки губной помадой, расхохоталась и закричала: «Почему не румянишься, Ружка? Знаешь, как тебе идет? Дай я тебе подкрашу губы, у меня есть несмываемая помада… Следа не оставляет, когда целуешь. Очень удобно!» И все хотела подкрасить, Ружа насилу вырвалась.
— И сумасшедшая и наглая, — вздохнула Ружа и села. — А вы чего уставились друг на друга?
Колю и Яна молчали.
— Давайте-ка спать, светает уже.
Колю поднялся, обрадованный тем, что буря миновала, но Ружа сейчас же его срезала:
— В наказание ты будешь спать в кухне, а мы с Яной займем спальню. Ясно?
— Так и следовало ожидать, — ответил Колю и, помолчав, добавил: — Во всяком случае, я не виноват.
— Знаю все, — нахмурилась Ружа. — Любая женщина может повиснуть у тебя на шее не по твоей вине. В один прекрасный день ты окажешься жертвой собственного безволия — не сумеешь отказать… Ах, перестань!..
Она щелкнула его по носу и, смеясь, показала язык.
— Надень свои очки, не видишь ведь ничего.
Колю засиял от радости — буря действительно миновала. Ружа шутит — значит, все в порядке. Как, в самом деле, он сглупил сегодня!
— Ладно, постели себе на диванчике! А мы с тобой, Яна, пойдем в спальню.
Яна опять кинулась в переднюю.
— Откройте мне, я пойду. Не могу я оставаться с ней под одной крышей!
— Ну, ну!
Ружа подхватила ее под руку и потащила за собой.
— Под нашей крышей тебе всегда найдется место! Ты ко мне пришла, а не к ней.
— Лучше пусти, я уйду, Ружка! Не мучь меня!
— Куда ты пойдешь?
— Куда глаза глядят.
— Когда-то можно было так говорить, а сейчас нет. Тебе не семнадцать лет, и ты не выжившая из ума старуха.
Они вошли в спальню и начали раздеваться.
— Конечно, Колю еще получит от меня вздрючку, сейчас не хочу его конфузить. Если бы он предупредил меня, что к нам пришла такая высокопоставленная особа, и ты не попала бы в такое положение.
Она быстро разделась и приготовила Яне постель.
— Ты уж извини, у нас такой беспорядок.
— Все равно у вас уютно.
— Э, по мне, и так можно жить, — со вздохом заметила Ружа, укрывая Яну одеялом, — а вот Колю не нравится.
Ружа погасила ночник и подошла к окну. Длинная белая рубашка на ее располневшей фигуре казалась туникой при свете луны. Лет Руже было немного, но малоподвижный образ жизни уже наложил свой отпечаток. Гита, пожалуй, права, советуя ей слегка румяниться и пудриться. Может быть, и волосы надо завивать? Может быть… Она посмотрела на свои руки и огорчилась — загрубели.
Луны не было видно из окна, но свет ее заливал всю фигуру Ружи. Невольно нахлынули воспоминания. Вспомнилась такая же вот ночь в Сокольских лесах, только она была тогда моложе, красивее и беззаботней. Влюбленный молодой человек ходил за ней следом. Умолял взглянуть на него, улыбнуться и согреть одним-единственным словом, чтобы не зябнуть ему всю ночь возле озера. И тогда так же сияла луна, пели цикады, рыдала чья-то гитара, плакал аккордеон, жалуясь, что любовь не знает в этом мире ничего другого, кроме вздохов. Сейчас этот человек, ее муж и помощник главного редактора газеты, спит в кухне, забыв о луне и цикадах, об озере в Сокольских лесах. Как лунный свет, течет, приходит и уходит эта короткая пора вздохов в нашей жизни.
Горько ей стало. Откинув одеяло, она легла, но сон бежал от ее глаз. Приезд Гиты, судьба Яны и эта луна, пробудившая воспоминания о Сокольских лесах, — все собралось в ее сердце в какой-то запутанный клубок, будто стараясь вернуть ее к чему-то давно забытому. Кто счастлив, кто несчастен? Где любовь? Где безразличие? Где счастье и что сулит несчастье? Она помнила только, что до появления Колю был в ее жизни военный, который пытался покорить ее. Может быть, с ним, с этим военным, она нашла бы настоящее счастье. Но тот обманул ее, а Колю согрел сердце, обещав любить всю жизнь! Она поверила ему и не ошиблась в этом, но почему все же какая-то частичка ее сердца осталась у обманщика? Может быть, в этом несчастье? Редко объединяются два сердца, одинаково полных, как луна; какой-то кусочек, пусть маленький, бывает оторван хотя бы от одного. И этот оторванный кусочек просится иногда, как живой, вернуться на старое место, откуда его оторвали, чтобы зазвучала, как полнолуние, как река в половодье, как океан во время прилива, истинно великая любовь, о какой пишут поэты. Как могло случиться, что она забыла поэтов? Стихи самого любимого своего поэта она декламировала на вечеринках, засыпала, повторяя про себя его песни. Потом забросила поэзию, будто никогда не увлекалась стихами; забросила и книги; все реже стала бывать в кино и театрах. Старость, что ли, на нее навалилась или безразличие? Как огрубела она за эти годы, нельзя себе этого простить! Как отдалилась от поэзии, от солнца, от любви! И еще больше подурнеет и огрубеет, а через год-два станет похожа на старуху, сморщенную и страшную, сердитую и вечно недовольную, придирчивую и сварливую.
Появление Гиты вызвало у нее беспокойство, но одновременно напомнило о молодости, которую она забыла. Может быть, где-то там, посередине, между ней и Гитой находится счастье?
Она не шевелясь лежала на спине, чтобы не тревожить Яну. Но Яна, как бы угадав ее мысли, неожиданно заговорила:
— Знаешь, Ружка, хочу сказать тебе кое-что, но только между нами.
— Что такое?
— Манчев предложил перейти к ним на работу. Встретил меня на улице. Увидел и через дорогу прямо ко мне.
«Ждем, говорит, вас, товарищ, чтоб поделиться опытом… Ну как, приедете?» А потом, когда мы поздоровались, озабоченно нахмурился и сказал уже серьезно: «Впрочем, если пожелаете, можете и совсем у нас остаться. О «Балканской звезде» не беспокойтесь, у них есть кадры. А вот нам надо усилить фронт…» И проводил меня до самого дома. «Тут, спрашивает, вы живете? Не очень-то здесь гигиенично. Эти старые домишки необходимо снести. Только болезни в них гнездятся. Перебирайтесь к нам на жительство, воздух у нас кристальный». Я ничего ему не ответила, но он говорил серьезно. Похоже, они очень нуждаются в кадрах.
— Похоже… — усмехнулась Ружа. — Ах, эти кадры, все-то их не хватает. Ни на что не хватает.
— Так оно и есть.
— Да, так и есть.
Они замолчали. Но Яна не выдержала.
— И что ты скажешь?
— Что я скажу? Решай сама.
— По-моему, там будет лучше. Особенно для Валентины. Там чудесный детский сад. И общежитие замечательное — удобное, чистое.
— Да, и кристальный воздух, — шутливо добавила Ружа.
— Очень, очень там хорошо, — воодушевилась Яна. — И этот Манчев порядочный человек.
— Очень порядочный.
— Ты хорошо его знаешь?
— Знаю.
— Ну?
— Что ну?
— Какой он?
— Хороший.
— И мне кажется — хороший.
Ружа вздохнула.
— Ты чего? Не одобряешь?
— Одобряю.
— И все же вздыхаешь. Скажи, если не согласна, я не пойду. Но пойми, Валентине там будет лучше. Речь не обо мне.
— Почему не о тебе?
Ружа протянула руку и погладила Яну по голове.
— Милая моя, я ничего, как есть ничего не имею против. Лишь бы ты была счастлива. Все равно, где ты будешь ткать — на «Балканской звезде» или на «Победе Сентября». Важно, чтобы работала с радостью, без слез, чтоб была счастлива. Об остальном не думай. Это забота директора, секретаря парторганизации, разных там мастеров, инженеров, бригадиров.
Она затихла и долго молчала, а вместо нее заговорила Яна — возбужденно, с каким-то необычным подъемом. Луна скрылась за холмами, и комнату заполнил предутренний сумрак. Женщины наконец заснули и проспали чуть не до полудня.
Колю отстукивал на машинке передовицу для газеты. Озаглавлена она была: «Обеспечим трудящимся приятный и культурный отдых». Первые строчки были уже готовы: «Животворные лучи солнца раскрыли в жилищах двери и окна, оживили природу. В такие чудесные дни трудно человеку оставаться в стенах дома…» Наклонившись, Ружа прочитала первые три строки и поморщилась. Проза дня началась. Она подошла к зеркалу и стала причесываться.
— Гостюшка-то встала?
— Давным-давно, — отозвался Колю, продолжая стучать.
— Позавтракала?
— Я не видал.
— Как же так?
— Проспал, — сказал он. — Записку вот тебе оставила.
Ружа взяла листочек. Крупным, размашистым почерком было написано: «Извиняюсь за беспокойство. Тысячи поцелуев. Гита». А на обороте добавлено: «Поскользнулась на паркете и сломала каблук, из-за этого надела туфли, что в прихожей стояли. Завтра верну. Тысячи поцелуев».
Ружа смяла записку, огляделась и поспешила в переднюю. Слава богу — туфли Яны стояли на месте.
13
Никто не уполномочивал ее быть судьей людских поступков и выяснять разные недоразумения. К этому, как видно, обязывал ее авторитет «серьезной женщины». Он утвердился за ней как-то сам собой, без обсуждений. «Кто? Ружа Орлова? Это человек серьезный, с ней не шути!» Или же: «Говорил с ней? Ну как? Срезала тебя?
Ее, брат, не проведешь, серьезная женщина!» Иногда перешептывались многозначительно: «Говорят, эта женщина любого мужчину за пояс заткнет! С плеча рубит!» И постепенно Ружа выделилась из общей среды, на ней, будто в фокусе, сосредоточивались взгляды всех. Ее поведение не могло быть иным, как только поведением серьезной женщины. Позволь она себе какую-нибудь вольность — фокус сместится. «Нет, Ружа Орлова не может так поступить! Ружа Орлова серьезный человек! Это исключено!» И взгляды всех с еще большим вниманием останавливаются на ее поступках, следуют за ней, словно лучи прожектора и, как отражение в зеркале, не пропускают ни одного ее жеста. Иногда ей хочется скрыться от этого света, исчезнуть, погасить «ореол», созданный людьми.
Оглядываясь на пройденный путь и анализируя свое поведение, Ружа видела, что особых оснований для ее возвеличивания нет. Да, она сдержаннее, серьезнее, а главное — настойчивей других. Но довольно ли этого, чтобы поставить ее в особое положение? В вечерней школе, где она училась, были более способные ученики, и все же учителя говорили про нее: «Очень собранная, внимательная, дисциплинированная!» И по неписаным законам сложившегося мнения охотно возлагали на Ружу разные задачи: организовать празднование Первомая, участвовать в мотогонках, нести знамя школы… Ружа бралась за все, как учили ее в молодежной организации, и все доводила до конца. И людям запомнилась ее настойчивость. Руже стали доверять, все чаще обращались к ней за содействием. «Достаточно ей вмешаться, и все наладится, она женщина серьезная», — таково было общее мнение.
С каких пор это началось? Может быть, передалось по наследству? Ее отец, работавший когда-то здесь же, на текстильной фабрике, был, как она слышала, весьма серьезный человек. Люди, рассказывавшие ей о тех временах, расхваливали отца, отзывались о нем с уважением и всегда подчеркивали это его качество, неуловимое, по ее мнению.
Он появился в их городе нежданно-негаданно, обосновался тут и в скором времени стал широко известен. Был он молчалив, сосредоточен, словно бы сердит на род человеческий. Он принадлежал к числу тех людей, которые много не говорят, не шумят, однако им уступают дорогу при встрече. Орлов не подавлял людей каким-то величием, но своей манерой общения с ними умел заставить считаться с собой. Он обладал необыкновенным свойством быть внушительным, даже не вступая в разговор. И за это его уважали. Рассказывали, что он обратил на себя внимание, впервые придя узнать относительно работы. Ему ответили, что работы нет, а он продолжал молча стоять у окошечка. Его прогнали от ворот, но на другой день он вернулся и прошел в фабричный двор, даже не взглянув на привратника. Прошел спокойно, как в собственные владения. А когда запыхавшийся старик догнал его и ухватил за пиджак, он вырвался и заявил: «Я Орлов, ты что, не узнал меня? У меня с фабрикантом особый разговор!» И проследовал в канцелярию, оставив озадаченного старика позади. Войдя в канцелярию, он снял кепку и спросил: «Можете ли вы потратить на меня две минуты своего времени?» Хозяин удивленно посмотрел на него. «Скажите раньше, как вы сюда попали?» — «В установленном порядке. Я Орлов. Вам уже докладывали обо мне». Дабы не заподозрили, что у него склероз, хозяин хмуро проговорил: «Да, да, припоминаю. О работе идет речь». Орлов чуть склонил голову, не промолвив «да». Это было в его характере. Он стоял неподвижно возле стола, прямой, как столб. Фабрикант мямлил насчет безработицы, досадуя, что к его особе допустили какое-то безвестное ничтожество, но не мог выбросить его из канцелярии. Орлов продолжал стоять, беззвучно кивая головой. А когда фабрикант умолк, сделал вывод: «Значит, завтра я на работе». Хозяин нажал звонок. Вошел полицейский. «Выведите этого господина! И в другой раз пусть меня предупреждают, когда…» Он не договорил, потому что Орлов, поклонившись, покинул комнату прежде, чем полицейский шагнул в его сторону.
Так, сохраняя достоинство, переходил он от одной фабрики к другой. «Вы должны дать мне работу, — говорил он. — Я Орлов, вы уже знаете меня. Я приехал сюда работать, а не гулять. До каких пор я буду вас беспокоить?» Такие и подобные разговоры вел он около трех месяцев, пока его не приняли наконец разнорабочим в скорняжную мастерскую, но там ему не приглянулось, и он перебрался на ткацкую фабрику братьев Гавазовых, где и работал долгое время. Там он женился, там у него родилась единственная дочь, которую назвали Ружей, там он заболел туберкулезом, там его арестовали и отправили в концентрационный лагерь, в лагере он и скончался. Все знали Орлова, но мало кому была известна его родословная.
Близким его приятелем был только дед Еким: они состояли в одной нелегальной партийной организации, вместе занимались вопросами партийной жизни на фабрике. Дед Еким, хоть и был постарше годами, всегда питал к нему уважение. Раз Орлов, секретарь партячейки, дал какое-то задание, значит, его необходимо выполнить. Для каждого это было ясно. Орлов не ругался, но достаточно было его молчаливого взгляда, чтобы почувствовать свою вину. Он неизменно участвовал в стачках и мужественно переносил голод. Случалось, по целым неделям ни одного лева не попадало в их похилившийся домишко. Как они существовали — одному богу известно! И потому никто не удивился, когда жена его, избитая в полиции, умерла вскоре от туберкулеза, словно так тому и следовало быть. Орлов очень тяжело переживал эту утрату — он крепко любил свою жену, а еще больше дочурку, которая осталась совсем крохой. И этот удар он принял молчаливо. Месяц он промучился, а потом отправил ребенка к своей сестре в маленькое сельцо за Балканами. Там она и жила до тех пор, пока не выросла и не начала работать. На ткацкой фабрике она унаследовала славу отца, человека умного и серьезного, а это ко многому ее обязывало.
Такие огненно-рыжие люди редко встречались в городе. Откуда они пришли? Ружа пыталась иногда проникнуть в их прошлое, но, кроме своей тетки да какой-то старухи, жившей в равнинном городке по ту сторону Балкан, никого не обнаружила. Родословное дерево имело всего две-три ветви — и все. А она слышала от тетки, более разговорчивой, чем отец, что род их ведет начало со времен Дибича Забалканского[7] — в ту пору много болгар ушло с русскими войсками, спасаясь от турецкой резни. Годами скитались несчастные по Бессарабии и другим краям России, а потом — одни от тоски, другие в силу необходимости — вернулись на родину. Некоторые, породнившись с русскими, опять поселились на Балканах. Среди них были и Орловы. Именно от этой ветви Орловых оторвался рыжеволосый юноша, появившийся здесь в поисках работы. С течением времени он стал хорошим ткачом, верным товарищем и достойным коммунистом, боровшимся за установление нового строя. К сожалению, ему не довелось дожить до того времени, когда в Болгарии на смену старому обществу с его волчьими законами пришло новое общество. Товарищи, окружавшие Орлова перед смертью в лагере, обещали не оставлять его дочь и хранить о нем память. И они сдержали свое слово.
Ружа Орлова выросла, оберегаемая дедом Екимом, а после Освобождения сама избрала свой путь. Все словно долгом своим считали сказать ей, каким серьезным человеком был ее отец. Как он был добр, умен и честен! И она радовалась. А порой задумывалась: не от человеческого ли сострадания идет его слава? Люди любят оказывать погибшим почести и уважение. Возможно, они преувеличивают? Но ведь он отдал за них жизнь. И им не грех быть щедрым к нему.
Ружа не была уверена, что идет точно по его стопам. Может быть, доживи отец до наших дней, он действовал бы иначе в той обстановке, с которой она вынуждена сталкиваться ежедневно? Ясно одно, что и теперь, как и тогда, он не впадал бы в панику, не приходил в отчаяние из-за людских поступков. Да и люди к нему, а не к кому-либо другому обращались бы за помощью, за советом, потому что он был «серьезный человек», как дочь его теперь «серьезная женщина».
У Ружи вызывало досаду это мнение, которое за ней упрочилось. Она его чувствовала, как кольцо в ухе. Не могла отцепить его и отбросить, но не могла и оставаться равнодушной — к ней были обращены взоры людей, бесконечно обязывающих ее своим доверием. Она должна быть серьезной и всегда находить выход из затруднений. А кто разрешит ее тревоги? Ее волнения? Ведь и ей порой хотелось, чтобы ее «воспитывали», «вовлекали». Разве не живой она человек? Разве она не может ошибаться?
Ружа пыталась осмыслить прошлое, анализировала условия, поднявшие ее так высоко; иногда ей казалось, что силы изменят ей, она сорвется и упадет, как сорвался Борис, как сорвался Чолаков. И ее охватывал ужас. Не оттого, что она потеряет свой пост, а оттого, что не сможет глядеть людям в глаза. Они заранее страхуют ее, приписав ей всякие добродетели. И гордость, и достоинство, и доверие — все полетит к черту. Вот почему она обязана быть серьезной, внимательной, доброй, умной, воспитанной, исполнительной, справедливой… — обладать всеми другими достоинствами, которыми ее щедро наградило общество. Потому что общество нуждается в достойных людях, как нуждается в опоре ребенок, делающий свои первые шаги.
Все чаще приходили ей в голову такие мысли, особенно с тех пор, как она стала директором. Вот и сейчас эта история с Яной, письмо Бориса, неожиданное появление Гиты… Все волновало ее и заботило, потому что от нее ждали решающего слова. В свое время, когда она, оставаясь в стороне, наблюдала жизнь фабрики, ей легко было критиковать и упрекать Чолакова и других руководителей. Тогда она часто напоминала им, что за машинами стоят люди, о которых надо думать и заботиться. А как обстоит дело сейчас? Человек стоит в центре ее внимания? Или план? Она отвечала: и то и другое. А жизнь готовила ей все новые и новые неожиданности… Гита, Яна, Борис. Что с ними делать? Как им помочь? И кто ей поможет в этом?..
Ружа медленно спускалась новым кварталом и чувствовала, как у нее разбаливалась голова. Может быть, от того, что она не выспалась, может быть, от дум, ни на миг ее не отпускавших. Чтобы рассеяться и освежиться перед работой, она решила пройти пешком до самой фабрики, хоть это и было далеко. Но у поворота улицы заводская «победа» преградила ей путь. Из машины махала рукой Иванка Маринова, секретарь парторганизации.
— Ружа, Ружка!
Ружа подошла к машине.
— Что случилось?
— Садись скорее! Хорошо, что тебя встретила.
Ружа села в машину.
— Куда мы едем?
— В Городской комитет. Вызывают по очень важному вопросу.
Машина загудела, и Ружа не расслышала дальнейших объяснений.
14
Они молча вошли в трехэтажное белое здание в самом центре города. Много раз приходили они сюда: посоветоваться, отчитаться, пожаловаться, попросить помощи и защиты, когда путались нити.
Обычно их принимал какой-нибудь инструктор или работник аппарата. На этот раз вызывал Горанов, первый секретарь Горкома. Что произошло? Они терялись в догадках и сомнениях.
Ружа, более быстрая, шла впереди, а Иванка пыхтела сзади, крепко держась за перила лестницы. Трудно взбираться по таким лестницам, особенно если ты не один год состоишь секретарем партийной организации.
В кабинете первого секретаря было тихо и уютно, быть может, благодаря опущенным белым шторам, которые смягчали льющийся снаружи солнечный свет. Первый секретарь, пожилой, сильно облысевший человек, томившийся когда-то в концлагере вместе с отцом Ружи, встал при появлении женщин, потом с улыбкой направился им навстречу, протягивая руку.
— Здравствуйте, здравствуйте!
Это его приветствие, неоднократно слышанное, сегодня показалось им многозначительным.
Ружа и Иванка сели в кресла, стоявшие у письменного стола. Первый секретарь сел рядом, поближе придвинув стул. Так он поступал, когда предстоял дружеский разговор. Почувствовав это, женщины сразу успокоились. Все же Иванка привычно извлекла блокнот и начала его перелистывать. Первый секретарь сказал, улыбнувшись:
— Нет нужды записывать, постарайтесь запомнить то, о чем мы будем говорить.
Иванка поспешно спрятала блокнот. Она готова была исполнить всякое распоряжение. Ружа слегка пригладила волосы — ей представилось, что они распушились, как облако. Это позволило Горанову сделать ей комплимент по поводу того, что она еще не поседела и могла бы одолжить часть шевелюры тем, кто успел облысеть. Ружа, вся вспыхнув, сказала:
— С удовольствием, товарищ Горанов, если только вам по вкусу такие рыжие патлы, как у меня.
— Сытый голодного не разумеет, — рассмеялся Горанов и потянулся за сигаретами, которыми любил угощать посетителей. — Курите?
— Нет, — в один голос ответили женщины.
Тогда он поднес им коробку с конфетами. Женщины взяли, и только после этого начался настоящий разговор.
— В последнее время, — сказал Горанов, — замечается значительное оживление среди реакционных элементов в городе. Очевидно, критика и самокритика, развернувшаяся в рядах нашей партии, начиная с Центрального Комитета и кончая низовыми парторганизациями, дала повод кое-кому из «бывших» вообразить, что пришло время браться за восстановление старых порядков. Мы не стали бы уделять этому особого внимания, если бы не отдельные тревожные явления в нашем городе, на которые своевременно обратила внимание милиция и кое-кто из граждан. Я имею в виду такие факты…
Он достал из своего стола и принес зеленую папку. Женщины напряженно следили за ним. Вынув смятый и испачканный листок, исписанный химическим карандашом, он сказал:
— Вот эта листовка найдена у входа на фабрику «Победа Сентября»…
Перебирая бумаги, Горанов говорил:
— Вот угрожающее письмо, полученное директором инструментального завода… Это брань по адресу рабочих, которые выступили с призывом повысить нормы… Вот еще одна угроза — убить милиционера, который позволил себе арестовать группу хулиганов… Это — клевета на партийных руководителей…
Он закрыл папку и спрятал в стол.
— Как видите, они всерьез решили забросать нас «агитационной литературой». Гораздо хуже то, что имеются попытки саботажа на некоторых наших предприятиях, где бдительность не на должной высоте. Я не могу сказать, что эти попытки представляют большую опасность, но они указывают на известное оживление реакционных сил.
Время от времени Горанов вскидывал брови, и лоб его прорезали морщины, словно кто-то чертил на нем изогнутые нотные линии.
— Отмечены, — продолжал он, — и другие безобразия. Не так давно какие-то мерзавцы во второй раз осквернили памятник Вали Балкановой… Третьего дня кто-то нарисовал фашистский знак у входа на почту. На дверях домов в разных местах появились и такие надписи: «БЖ» — будущая жертва. Организованно ли тут действуют или это дело рук отдельных озлобленных элементов — я не знаю, но факты остаются фактами, и мы не можем закрывать на них глаза. Решения Двадцатого съезда и нашего Апрельского пленума направлены на ускорение движения вперед, а не на то, чтобы вернуть нас назад, как того хотят наши враги. Я не собираюсь читать вам лекцию, но полагаю, что вы, как ответственные руководители «Балканской звезды», примете срочные меры, и прежде всего для сплочения рядов коммунистов!
Горанов обратился к Мариновой.
— У вас, правда, стало меньше оснований для беспокойства после снятия Чолакова. Возможно, это охладило у некоторых пыл. Тем не менее именно у вас прижились такие элементы, как Аспарух Беглишки, Гатю Хаджи Ставрев по прозвищу Цементная Голова… да и другие, к которым нельзя относиться терпимо.
— Мы их уволим, товарищ Горанов, — отозвалась Ружа, — вышвырнем… нам это ничего не стоит.
— По крайней мере спокойны будем, — добавила Иванка.
— Подождите, так не годится. Сначала надо обезвредить их. А уж после этого можно и уволить, послать ко всем чертям.
Он взглянул на часы.
— Перед нами поставлена задача сформировать на каждом предприятии крепкие рабочие дружины. Вам надлежит обдумать этот вопрос и через неделю представить списки. В дальнейшем эта работа наладится. Я вызвал вас, чтобы сообщить решение бюро. Вы должны незамедлительно заняться его выполнением без лишнего шума и парадности.
Горанов встал и перешел на свое место за письменным столом. Женщины поняли, что разговор окончен. Подняв штору — солнце уже скрылось за соседней крышей, — он распахнул окно. В комнату хлынул людской говор, шум машин, гудки.
Уличные будни однообразно проносились на крыльях суеты и забот. Люди проложили себе жизненную колею, и ничто не в состоянии было свернуть их с нее. Но это не успокаивало первого секретаря. Он знал, что законы жизни общества гораздо сложнее. Бутылка откупорена. Духи выскочили вон. Необходимо каким-то способом обуздать их. Еще раз взглянув на часы, он спросил:
— Я слышал, что Борис Желев собирается вернуться. Правда это?
— От него получено письмо, — ответила Ружа, — но давно уже… Жена его здесь.
— Жена? Кто такая?
— Гита Коевская… Сестра Петра Коевского.
— А, да, да! Сестра Пецы… Вспомнил. Ну?
— Разъезжает туда-сюда на мотоцикле.
— Не работает?
— Черт ее знает.
— А где живет?
— И этого не знаем.
Подумав, он испытующе посмотрел на них.
— А кто же знает?
Женщины молчали. Они почувствовали укор. И не нашли ответа. А когда уже выходили, Горанов почему-то повторил:
— Значит, разъезжает туда-сюда на мотоцикле… А мы любуемся на нее…
Женщины покраснели, но времени для объяснений не осталось — они были уже за порогом.
— До свиданья, до свиданья.
Сели в машину взволнованные, долго не могли собраться с мыслями. Решили сразу же по приезде к себе обсудить услышанное от первого секретаря Городского комитета партии.
«Победа» несла их к «Балканской звезде». Желание попасть туда поскорее нарастало с каждой минутой. Ружа то и дело поглядывала на стрелку спидометра. Все ей казалось, что они медленно двигаются. Вот наконец и фабрика. Железные ворота широко раскрылись, и дед Станчо приветствовал их, сняв фуражку.
— Товарищ Орлова! — еще издали крикнул он.
Машина въехала во двор и остановилась. Ружа сразу вышла.
— Что, дедушка Станчо?
— Посетитель тут один с полчаса ждет тебя, потерял терпенье и на меня напустился… Поднялся в бухгалтерию.
— Вот как? Нервный, значит… Кто же такой?
Дед Станчо наклонился к самому ее уху и сказал, понизив голос:
— Борис… Желев… Помнишь его? Борка.
Ружа нахмурилась, по лицу ее пробежала тень.
15
Она живо представила себе картину встречи, и от этого ей не стало веселей. Долгожданный день наступил раньше, чем успели воздвигнуть триумфальную арку.
Но почему он хорохорится? К чему это высокомерие? Думает, что его боятся?
Есть люди, перед которыми другие всегда почему-то чувствуют себя должниками, и высокомерие их начинает тяготить общество еще до того, как они в нем появятся. Словно надвигающаяся туча, которая угрожающе гремит издалека. К разряду таких людей относился и Желев. Сначала отправил письмо, чтобы напомнить о себе, а теперь вот явился собственной персоной и отчитал деда Станчо за то, что директор опаздывает! Воинственно настроен!
Ружа молча подымалась по лестнице, сжимая сумочку, и плохо понимала, что хочет ей сказать идущая за ней следом Иванка. Скоро обеденный перерыв, а директора еще не видели сегодня на фабрике.
Вместо того чтобы выполнять указание Горкома партии, она должна заниматься этим Желевым. Ружа раздражалась все больше. Трудно ей было разговаривать с ним, и она боялась, что у нее не хватит выдержки дать ему достойный отпор. Подходя к своему кабинету, она старалась принять спокойный и невозмутимый вид. Но второпях забыла, что дверь заперта, и напрасно дергала за ручку. Будто кто-то нарочно старался вывести ее из себя. Ружа начала торопливо копаться в своей сумочке. Но чем больше суетилась, тем меньше было толку. А от этого она еще сильнее горячилась. Лицо пылало от напряжения. Иванка молча наблюдала за ней, стоя в сторонке. Как раз в этот момент подошел молодой парень, служащий бухгалтерии, и с таинственным видом сообщил:
— Товарищ Орлова, к нам гость пожаловал.
— Что за гость? — машинально спросила Ружа, наклонившись за ключом, который уронила на пол.
— Да вот Борис Желев…
— Никаких гостей я не принимаю, — заявила она, не поднимая головы. — У меня столько работы, что…
— Но товарищ Желев поручил доложить ему о вашем приезде.
Ружа выпрямилась с ключом в руке и удивленно посмотрела на незадачливого паренька, взиравшего на нее с почтительным уважением.
— Доложить ему?
Паренек, как видно, не уловил иронии.
— Да, сказал, что будет в главной бухгалтерии.
— Ладно, ладно. Доложи поди — пускай подождет.
Открыв дверь, она вошла в кабинет.
— Передам, товарищ Орлова.
С этими словами он повернул назад и увидел шедшего навстречу Бориса Желева. Он был в белой нейлоновой рубашке и короткой ярко-оранжевой куртке; клетчатую кепку он не потрудился снять с головы. Габардиновые брюки и белые парусиновые туфли завершали его изящный туалет. Всем своим обликом — выбритый, разутюженный и надушенный, с тяжелой кожаной сумкой в руках — Борис напоминал преуспевающего комивояжера в расцвете карьеры, еще до посадки в тюрьму.
— А, вот кстати! — воскликнул он, останавливаясь в дверях директорского кабинета. — Я уже собрался уходить!
С минуту они молча смотрели друг на друга, затем Борис повторил:
— Еще немного, и ты не застала бы меня.
Ружа нетерпеливым жестом поправила прическу и сказала:
— Входите, входите! — И, обратившись к Иванке, добавила: — Оставайся и ты, если хочешь, конечно.
— Спасибо, я лучше займусь подготовкой материалов по вопросу, о котором мы говорили в Горкоме.
Проходя мимо Бориса, она смущенно протянула ему руку. Тот небрежно ответил на приветствие, как бы не заметив протянутой руки, и вошел, озираясь по сторонам с таким видом, словно занимал когда-то этот кабинет или должен был занять.
Ружа закрыла дверь, прошла на свое место за столом и сказала уже более спокойно:
— Ну вот, теперь здравствуй и садись, где понравится.
— Благодарю! — ответил Борис, усаживаясь в самое большое кресло у стола. — Тут все по-прежнему, — продолжал он, переводя взгляд с одного предмета на другой, как бы оценивая их, — за исключением некоторых портретов, следы Чолака сохранились. Разумеется, особых перемен и не могло быть, но все же я не простил бы вам, если б вы пошли по его стопам. Он был типичный носитель культовщины на «Балканской звезде». Не раз я бил тревогу по этому поводу, пока за него не взялись. Но что было, то было. Теперь нужно смотреть вперед.
Он говорил не спеша, обследуя взглядом директорский кабинет. Тут вот где-то, слева от стола, высоко на стене висел его увеличенный портрет — гордость фотографии «Сюрприз». Вместо него, по-видимому с целью заполнить пустой квадрат, повесили географическую карту. Борис не сделал никакого замечания, но глаза его часто обращались в эту сторону.
Ружа слушала его молча, не прерывая. И упорно смотрела на листок календаря, стараясь сдержать раздражение, которое Борис вызывал у нее своим высокомерным гоном. Заметив ее нетерпение, Борис сказал сочувственно:
— Похоже, и у тебя нервы не в порядке, как у меня. Я, конечно, не стану тебя задерживать. — Он посмотрел на свои часы. — Время дорого для всех нас. И меня ждет куча срочных дел. Не люблю откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.
Борис опять взглянул на часы — золотой хронометр с множеством цифр и стрелок, блестевших при малейшем движении руки. Сквозь нейлоновую рубашку просвечивала майка. Куртка застегивалась спереди на молнию. Такие же молнии были и на карманах. Борис то расстегивал их, то застегивал. И часы, и молнии, и нейлон, и усики, тонким шнурочком выведенные над верхней губой, — все говорило о том, что Борис Желев вкусил цивилизации в той среде, где он жил и подвизался последние три года. Вынув из внутреннего карманчика своей куртки никелированный портсигар, Борис попросил разрешения закурить. Получив согласие, он запалил сигарету и с наслаждением стал затягиваться, каждый раз слегка жмурясь от удовольствия.
Одет он был действительно хорошо, имел, казалось, все, что полагается, даже золотые часы, и тем не менее лицо его выражало какую-то растерянность и недовольство, чего он при всем своем самолюбии не мог скрыть за развязной манерой поведения. Он говорил, что счастлив, а глаза его светились холодно и остро, словно искали, кого бы уколоть. Близко сидящие около тонкого, заостренного носа, они глубоко запали, что делало его похожим на хищную птицу, выгнанную из гнезда.
Ружа заметила эту озлобленность, ясно написанную на лице Бориса, и подивилась, как может измениться человек за какие-то три года. Будто не Борис сидел перед ней, а лишь жалкое его подобие. Раньше он производил впечатление более спокойного и благодушного человека. Взгляд его не был таким колючим и бегающим; на лице не было столько морщин, особенно возле рта и глаз. Волосы поредели и поседели на висках. Не хватало переднего зуба, и это тоже старило его. Да, он постарел, исхудал, выглядел измученным — то ли от чрезмерного труда, то ли от душевных переживаний. Конечно, при подобных обстоятельствах такое может случиться со всяким: и постареешь, и потеряешь прежнюю привлекательность, и зуба лишишься, и морщины исчертят лицо… Но откуда эта дерзость и самонадеянность? Это высокомерие? К чему эти нейлоновые тряпки, часы и этот дурацкий никелированный портсигар, издающий, как камертон, высокий протяжный звук, когда его открывают? Откуда эти купеческие выражения и затуманенный, надменный взгляд? Ружа пристально смотрела на него, и отвращение к этому человеку постепенно сменялось жалостью, претензии его казались смешными. Ничего не замечая, Борис завел речь о своей машине, которую продал перед отъездом.
— Это, собственно, не автомобиль, — говорил он пренебрежительно, — а таратайка какая-то, именуемая «фольксваген», немецкое изобретение, которое я чуть не даром отдал моему приятелю доктору. Из-за этого я и прибыл сюда позже, чем собирался. Вы получили мое письмо?
— Да.
— Оно было написано под напором особых чувств… Между прочим, я думал тогда, что директором здесь по-прежнему Чолак. Потому и позволил себе в начале некоторые остроты. Да. Чуть позднее я узнал о провале Чолака. И это совсем меня не удивило. Но дело прошлое. Посмотрим, что будет!
Борис снова раскрыл портсигар, и по комнате разнеслось уже знакомое «ля». Закурил новую сигарету. И, окутанный табачным дымом, принялся разглагольствовать о том, каким должен быть руководитель предприятия, чтобы повысить жизненный уровень рабочих и наладить производство.
Ружа слушала его рассеянно. Порой теряла нить рассуждений и с испугом вскидывала на него глаза — не понял ли он, как надоел ей этот разговор. А он продолжал упиваться собственным красноречием, пока не исчерпал весь запас высказываний на эту тему. Тогда, взглянув на часы, он как-то неожиданно встал.
— Надо идти. И у тебя, наверно, много дел, и я не успел еще ни с кем повидаться. С поезда — прямо сюда.
И он опять увлекся рассказом: как ехал, когда прибыл, о чем думал, какие планы строил. Ружа не узнавала его. Вместо утраченной славы буйно разрослись ораторские способности, заглушившие скромность и приличие. Зачем понадобилось ему выдумывать, что пришел прямо сюда? Разве он не отправился с вокзала в гостиницу снять номер, а потом к Виктории Беглишке — узнать, где Гита, и, лишь обескураженный полным неведением, прикатил на «Балканскую звезду», где начал, как бывало, распоряжаться? Зачем он прикидывается перед Ружей, стараясь произвести на нее выгодное впечатление? Он пришел сюда, чтобы выяснить, на что он может рассчитывать, и между прочим расспросить о своей жене, отсутствие которой весьма его тревожило. Тем более что он отправил ей телеграмму с просьбой встретить его на вокзале, на которую она никак не отозвалась, словно сквозь землю провалилась.
— Да, — заключил он, чувствуя, что надо все же как-то объяснить свой визит, — я пришел сюда потому, что не получил ответа на письмо. И, во-вторых, я дорожу своей репутацией!.. Что касается денег — деньги у меня есть!
— Товарищ Желев! — резко поднявшись, заговорила Ружа. — Не кажется ли вам, что вы слишком нянчитесь со своей репутацией?
— Почему вдруг «вы»? — удивился Борис.
— Разве вы не догадываетесь, что мы давно перестали заниматься вашей репутацией? К чему все эти разговоры?.. Скажите прямо — желаете вы работать или не желаете… Если желаете — пожалуйста, никто вам не мешает!
— Вот как? — сказал он, пораженный ее тоном. — А я и не знал, что могу работать, если захочу… Смотри ты, это ново для меня… Интересно, я и не подозревал… Потребовалось прийти сюда, чтобы узнать об этом.
— Не прикидывайтесь.
— Странно! Не понимаю, однако, зачем нервничать, когда все уже выяснено… Некрасиво!
Он повернулся к выходу. Но прежде, чем уйти, нашел нужным добавить:
— Я понимаю, конечно, что мой вопрос очень сложен и не в твоих силах разрешить его. Им займутся в Горкоме партии, если не повыше… Но я, во всяком случае, считал, что для соблюдения порядка надо прежде всего зайти сюда.
Уже переступив порог, Борис спросил:
— Моя подруга не приходила сюда?
— Нет.
— Так я и предполагал. Я сказал, чтобы до моего приезда она ничего не предпринимала.
Борис закрыл за собой дверь, оставив Ружу, как он полагал, в полном недоумении, озадаченную и, конечно, разозленную. Одним ударом он ошеломил свою жертву, не пожелав добить ее. Пусть потом, поразмыслив на свободе, поймет его превосходство. Может быть, она ожидала увидеть перед собой жалкого нищего, протягивающего руку за милостыней? Или раскаявшегося неудачника, который пришел искать ее благоволения? Как она заблуждается! Ей невдомек, что теперь он куда сильнее и опытнее, чем был раньше. Она и не подозревает, какие он поведет с ней разговоры! Не так легко забудет он страдания, которые довелось ему вытерпеть за эти три года. И уж никак не простит им самоуправства!
Борис вернулся в бухгалтерию и распорядился вызвать такси — ему необходимо скорее попасть в город, где его ждут исключительно важные и неотложные дела. Тот же молодой человек, подпавший под его власть, начал добиваться по телефону такси. Борис мрачно курил и только поглядывал, как услужливый парень отчаянно вертел телефонный диск. Наконец машина была заказана.
Повергнув в изумление бухгалтерских работников, Борис не спеша спустился во двор и торжественно прошествовал по аллее, оглядываясь, нет ли поблизости знакомых. Но никого из знакомых не увидал, кроме деда Станчо, который сидел в своей будке. Завидев Бориса еще издали, дед Станчо торопливо захлопнул окошечко и сделал вид, что пишет.
Через несколько минут прибыло такси. Борис ловко открыл дверцу и сел рядом с шофером.
— Гони в новый ресторан!
Машина стала плавно спускаться к городу. Дед Станчо, высунув голову в окошечко, долго смотрел ей вслед.
16
Борис решил пообедать в новом ресторане. Охотничий домик, как он уже слышал, превратился в пристанище для престарелых и для многодетных семейств. Новый ресторан — нечто в другом роде, там джаз, певица, фонтан… Там встречаются культурные люди — артисты местного театра, врачи, директора и даже члены литературного кружка при городском клубе.
К этому времени — было половина второго — волна обедающих уже схлынула. Лишь несколько столиков занимали какие-то молодые люди, жарко спорившие перед пустыми бутылками. Больше никого не было, если не считать посетителей, заглядывавших на пять-десять минут — выпить за стойкой кружку пива.
Днем в будни, особенно в послеобеденное время, новый ресторан почти пустовал. Зато уж по вечерам он бывал до отказа заполнен молодежью, жадной до веселья и танцев. Оркестр и певица творили чудеса!
Борис выбрал столик в самом центре зала, под пестрым зонтиком, отбрасывавшим легкую, приятную тень. Официант немедленно подал ему меню и остановился в вежливой позе ожидания. Борис устало окинул взглядом пышно оформленный лист и пренебрежительно отложил в сторону.
— Для начала принеси один аперитив, а потом увидим. Эвксиноградское имеете? Нет? Что же у вас есть? Карловский мускат? Выдержанный? Дай тогда бутылочку, только во льду! Обязательно во льду! Из кушаний посмотри там что-нибудь посытней, потому что я голоден. Цена значения не имеет… А сначала — салат и стопку анисовой, но тоже со льда.
Официант старательно записывал заказ в свой блокнот. А Борис вынул из набитого банкнотами бумажника расческу и принялся причесывать свои поредевшие волосы. Искоса глянув на пачки денег, официант стал перечислять самые дорогие яства и напитки, которых посетитель, возможно, не заметил. Борис, разумеется, не торопился сделать выбор; молча причесываясь, он рассеянно слушал, чтобы дать возможность официанту подольше полюбоваться бумажником. Когда перечень был завершен, Борис заявил:
— Дай мне тушеную рыбу с луком, жареного барашка, салат из огурцов и редиски… Нарежь и помидор.
Скороговоркой отдав распоряжение, он спрятал расческу в бумажник, закрыл его и не спеша сунул в задний карман, даже не застегнув куртку, чем хотел показать, что не придает значения деньгам. Сняв куртку, повесил ее на спинку стула, поправил воротничок своей нейлоновой рубашки и только после этого соблаговолил взглянуть на молодых людей, которые внимательно за ним наблюдали.
Борис вел себя так, словно вокруг никого не было. Вынул никелированный портсигар и небрежно раскрыл его. Благозвучное «ля», как-то неожиданно прозвеневшее над столиком, удивило даже самого Бориса. Молодежь перешептывалась. Некоторые смеялись, но Борис невозмутимо смотрел перед собой, окруженный легким облаком табачного дыма.
Он еще не докурил сигарету, когда на подносике, накрытом белой салфеткой, подали водку и закуску. Борис продолжал курить с самым небрежным видом, хотя подшучивания и насмешки молодых людей раздражали его. Почему-то ему вспомнилась Гита, и раздражение усилилось. Возможно, эти парни знают Гиту и каждый вечер притаскиваются сюда, чтобы потанцевать с ней, в то время как ее благоверный добывает деньги, заботясь о ее будущем. Его чувствительное воображение, расстроенное длительной разлукой, рисовало такие картины, что Борис заранее возненавидел всю эту компанию. Он потянулся за водкой и отпил большой глоток. Алкоголь сразу бросился ему в голову, а вместе с ним и злоба на парней. Может быть, Борис поднялся бы и устроил им скандал за неумение держать себя, если бы одно непредвиденное обстоятельство не дало совсем другое направление его чувствам. В ресторан вошел старый знакомый Бориса — Гатю Цементная Голова.
С тех пор как открылся новый ресторан, Гатю через день-два наведывался сюда, чтобы «пропустить для охлаждения» кружку пива. Летняя жара была непереносима для Гатю, постоянно страдавшего от жажды. Стойка с пивными кружками неудержимо влекла его к себе всякий раз, когда он проезжал через парк. И всякий раз он давал себе слово воздержаться, но летние дни такие длинные, что устоять было трудно. Он прямехонько шел к стойке, где, нагнетаемая насосом, лилась из крана густая, пенистая и холодная влага, и с ходу заказывал кружку. Паренек, наливавший пиво, знал его привычки и, едва завидев Гатю, подставлял под кран большую кружку. Гатю осушал ее единым духом и, бросив деньги на мокрую жесть, отправлялся дальше.
Он все еще работал на «Балканской звезде» — развозил товары. Склады были разбросаны по всему городу, иногда и на вокзал приходилось ездить. И Гатю ездил — в жар и в стужу, в дождь и в метель. А потому не жалел денег, когда представлялась возможность поесть и выпить. В конце концов, кружка пива в обеденный перерыв не бог знает что. Особенно принимая во внимание, что жена кормит его соленой и острой едой… «Хорошо готовит, убей ее бог!» И Гатю с ожесточением выпивал вторую кружку, а то и третью, потому что совесть его была чиста.
Гатю не изменился, если не считать того, что одутловатое лицо его собралось в морщины, как недубленая кожа. Носил он все ту же кепку, словно сросся с ней, все те же люстриновые штаны, будто и не снимал их никогда, а кнут стал как бы частью его руки. Ничего не изменилось, даже пристрастие Гатю к пиву и сливовице, даже ненависть к Виктории Беглишке — к этой негодяйке, которая в силу законов именуется теперь его матерью! Господи боже мой! Какое несчастье свалилось на Гатю! Не только голова — душа его поседела с горя! Что поделаешь? Кукушка выпила разум у старика, и Гатю должен смириться. И на «Балканской звезде» произошли перемены, которые были ему совсем не по душе, а тут еще нового директора назначили. Что ни день, то новые распоряжения, новые требования. И разные там «проверки исполнения»! Мог ли Гатю привыкнуть к таким порядкам? Начали даже ставить ему в вину, что во время обеда он заходил в ресторан хлебнуть пива, а по вечерам останавливался у «забегаловки» напротив «Балканской звезды», выпивал стопку ракии, что, бывая на станции, заглядывал в буфет, а лошадей оставлял на припеке… «И кто им только рассказывает, откуда они все узнают?» — дивился Гатю. Невтерпеж ему стало от этой критики. А тут еще и самокритики от него требуют! На сердце у Гатю скопилась такая черная тоска, словно дегтю туда налили! Так бы и хлестал кнутом направо и налево, пока не истребит всех до одного. Но тюремные решетки еще мелькали у него перед глазами. И он, стиснув зубы, стегал фабричных лошадей.
Все тот же был Гатю. И Борис узнал его с первого взгляда, когда Гатю, повесив голову и насупившись, проходил через зал к стойке.
Борис хотел было окликнуть его, но счел неудобным подымать крик в ресторане и послал за Гатю официанта, указав на его широкую спину. Гатю только что отхлебнул из кружки. Лицо его в такие моменты расплывалось от удовольствия, на глазах выступали слезы, и он терпеть не мог, чтобы кто-нибудь мешал ему.
— Позови его ко мне! — сказал Борис и чуть приподнялся, чтобы дать знак Гатю, когда тот обернется.
Официант моментально исполнил поручение. Гатю удивился — кто мог заинтересоваться его особой? Поставив кружку, он мрачно оглядел столики. Борис поманил его пальцем. Гатю насупился еще больше. Не любил он, когда его подзывали таким способом, но, видя, что его настойчиво зовут, допил пиво и неуклюже стал пробираться между столиками к незнакомцу. Подойдя к пестрому зонтику, остановился в недоумении.
— Извините, — пробормотал он, — произошла, по-видимому, ошибка, насколько я понимаю.
— Никакой ошибки, товарищ Гатю! — с широкой улыбкой отозвался Борис.
Гатю вгляделся в щербатую физиономию, напрягая память.
— А-а, Борис! Товарищ Желев!
— Товарищ Желев, да! Садись, — пригласил Борис, — садись за стол!
Гатю мялся в нерешительности — и сесть хотелось, и на работу боялся опоздать.
— Садись, садись! — скомандовал Борис, указывая на стул. — Эй, официант, кружку пива!.. Или, может, водочки выпьешь?
— Нет, нет, — поспешил отказаться Гатю, — пива, я ведь уже пообедал.
— Понятно, — все еще сияя улыбкой, сказал Борис. — Ну как? Все там же работаешь?
— Там же, товарищ Желев, — несколько официально ответил Гатю, пораженный вызывающим видом Бориса.
Но скоро он оправился от смущения, положил кнут на стул и осторожно оперся о стол, боясь задеть какой-нибудь бокал. Борис подвинул ему портсигар. Гатю взял сигарету, Борис тоже; закурили. Беседа потекла неожиданно легко и непринужденно.
Борис, очень щедрый на речи и угощения, предложил Гатю есть и пить, что только он пожелает. Гатю, однако, соблюдал приличие, по старой памяти относясь к Борису как к начальству.
Разговор вертелся вокруг работы на «Балканской звезде», крутого нрава нового директора и тяжкой доли возчиков вроде Гатю, который вынужден жить на одну зарплату и содержать целое семейство. Борис внимательно слушал его, вставляя время от времени:
— Не так, как в ту пору, когда я был здесь?
— Не так, товарищ Желев! Большая разница.
— Да, конечно. Но нечего сожалеть о прошлом. Будем смотреть вперед!
— Э, что там увидишь впереди, — расчувствовавшись, Гатю стукнул по столу. — Что там увидишь, когда все черно у меня перед глазами. Голова идет кругом. Все-то норовят тебя учить. Так делай, так не делай… С толку сбивают. Кого слушать?
Борис смеялся. Радостно ему было слушать этого мрачного человека. Он ведь считал себя его покровителем. А покровители всегда снисходительны к тем, кто у них под крылом.
Поведал Гатю и о страданиях из-за Виктории Беглишки. Борис совсем развеселился. Больше всего насмешил его рассказ о том, как они с Викторией судились из-за места на кладбище, которое та считала своим, а Гатю, — своим. Потянулся процесс. В конце концов выиграла Виктория, подкупив адвоката… Вообще не везло Гатю в эти годы. Ничего хорошего не видел он и впереди.
— Не беспокойся, — заверил его Борис, — раз я тут, все наладится. И Виктория сядет на свое место, я наведу порядок, хоть меня и холодно встретили сегодня, когда я заходил справиться насчет моей Гиты.
Возчик встрепенулся, услышав имя Гиты. Это не ускользнуло от внимания Бориса.
— Не встречал ее? Подругу мою, Гиту, а? — спросил он, пристально поглядев на Гатю. — Она давно уже здесь… Я раньше ее отправил.
Гатю нахмурился.
— Нынче видел ее, — сказал он. — К нашему Филиппу приходила… узнать относительно квартиры.
Борис положил вилку и откинулся на стуле.
— Что, что ты сказал?
Гатю осекся. Он не ожидал, что упоминание о сыне произведет такое впечатление. Гатю и не подозревал, что наступил кошке на хвост. Он потянулся за кепкой и начал поглядывать на выход.
— Ты ведь знаешь Филиппа, шалопая моего.
— Какая квартира? — недоумевал Борис. — Какие…
— Комнатка на мансарде, где одно время жил Филипп. Не знаешь? На мансарде… О ней и речь… Я сдавал ее Геннадию, тележнику… А ему предоставили комнату из жилищного фонда, так мы решили опять сдать нашу мансарду своему человеку. Я поручил Филиппу подыскать кого-нибудь… Ну и вот…
Борис напряженно слушал несвязный рассказ возчика и мрачнел все сильнее. Тяжелые и неприятные предчувствия наполнили его сердце. То, чего он больше всего боялся, превращалось в подлинную опасность. Толстокожий возчик почувствовал что-то неладное. Он откашлялся и взял в руки кнут. Задержись он тут подольше, Борис, чего доброго, начнет ругаться, а то и похуже что-нибудь выкинет. Лучше убраться отсюда, не дожидаясь скандала.
— Запоздал я очень, — сказал он. — Надо идти, работа меня ждет.
Гатю встал и поглядел на Бориса с высоты своего роста. И почему-то он показался ему жалким и смешным за этим столиком, заставленным разными кушаньями и напитками — слишком уж их много для одного.
— Ну, до свиданья! — сказал Гатю, подавая руку. — Забыл я, что эта… ну, Гита… твоя жена… Прости!
Это «прости» вконец разозлило Бориса. Почему прости? Что хотел этим сказать Гатю? За что прости?
Борис смотрел на возчика, стараясь прочесть его мысли, но тот оставался непроницаем.
— Прощать тебя не за что, — отрезал Борис. — Ступай!
Он постучал пальцем о стол, подзывая официанта.
Пока Борис платил деньги, Гатю исчез, как злой дух, явившийся только затем, чтобы сообщить гнусную весть.
Борис расплатился, не закончив обед, поднялся и, бросив десять левов «на чай» растерявшемуся официанту, спешно покинул ресторан.
17
Он пошел прямо в гостиницу. Хотелось собраться с мыслями, прежде чем предпринять что-либо. Нужно во что бы то ни стало найти Гиту, забрать ее, пришпилить к ноге, если можно, и ни на шаг не отпускать одну.
Борис подошел к телефону и принялся названивать повсюду, где она могла оказаться. После долгих и бесплодных переговоров он вернулся к себе в номер, устало лег и, пытаясь заснуть, крепко стиснул веки, будто хотел остановить поток мыслей, которые лезли ему в голову.
Тяготила его эта двойственная жизнь, какую он вел в последние годы. Он играл роль счастливого и довольного, а жил как отвергнутый и униженный. Он походил на разорившегося торговца, которого уже давно подстерегают кредиторы, хотя тот не объявил еще себя банкротом. Не вся ли его жизнь проходит под знаком такой двойственности? Он богат и беден одновременно. Сильный и в то же время беспомощный. Одни и те же люди любят и презирают его. Когда-то он ночевал под городскими мостами, как последний нищий, как бездомный цыганенок, а его развратный отец кутил с полицаями и науськивал их на мать, потому что та была коммунисткой! Он скитался как голодный оборвыш, хотя деньги сами текли к нему. Достаточно было протянуть руку — и он мог набить ими карманы, мог утолить голод. Но при этом ему ставилось одно условие — уйти от матери, забыть ее, а он не мог этого сделать, потому что это была его мать. Когда колесо истории повернулось и выкинуло, как комья грязи, торгашей и полицаев, перед юным Борисом открылся путь к вершинам успеха. Он стал знатным, добился почета и уважения, но раздвоенность не исчезла, потому что отец и вся эта свора бывших дельцов начали кружиться около него, уповая на его помощь и защиту. И так как они были дерзки и бесцеремонны, а он сочувственно относился к свалившемуся на них несчастью, раздвоенность вновь дала себя знать. Он считал себя представителем нового, а суетня обломков старого мира не давала ему дышать, лишала покоя; осаждавшие его льстецы и лицемеры мешали разглядеть почву, на которую он ступил… Так было и с первой его любовью, с женитьбой. Не любил Яну, а женился на ней. Потом влюбился в Гиту и вообразил себя счастливым, дошел до того, что бросил работу, порвал с партией, которая подняла его, и бежал из родного города. И вот теперь он, как ярмарочная позолоченная брошка, надут, жалок, ничтожен, грош ему цена. А душа его засохла и почернела, как дерево с ободранной корой — без радости и без надежды.
Иногда он порывался сбросить всю эту мишуру, которую нацепил на себя, но у него не хватало сил расстаться с ее соблазнительным блеском. Вспоминались ему долгие и неприятные разговоры с дедом, от этого становилось еще обиднее и горше, и, сам того не желая, он принимался спорить с ним, отстаивая свою правоту. Трудно было ему склонить голову и сказать: «Вы были правы, а я ошибся». Не мог он забыть сказки об осле с иконами, которую давно и не без задней мысли рассказывал ему дед Еким. Замечательная сказочка! Осла нагрузили иконами и повели по селам творить чудеса. Стекающийся отовсюду люд поклонялся иконам, а осел, таскавший эти иконы, подумал, что кланяются ему, и возгордился… Что хотел тогда сказать старик? Борису кровь бросалась в голову, как только он вспоминал об этой сказочке. Часами спорил он с дедом, а боль в сердце все разрасталась и терзала его до того, что ему хотелось плакать от одиночества. «Нет, вы не правы! Я прав! И еще докажу это!»
Вытянувшись на небольшой пружинной кровати, Борис лежал на спине, подложив руки под голову и стиснув зубы, чтобы не закричать от боли, вызванной воспоминаниями.
Его не удивило, что Гита неожиданно уехала. Не раз она устраивала подобные сцены за время их скитаний. Например, капризное желание стать софиянкой! Или слезы из-за легкового автомобиля!.. Сколько это стоило тревог, волнений и бессонных ночей Борису, только он один знает.
Вот как оно было… Не успели они с двумя большими чемоданами сесть в поезд, как Гита заявила, что поедет только в Софию. У Бориса не было в столице никаких связей, но воспротивиться настойчивому желанию Гиты он не мог. Она прямо истязала его своими мольбами, сжимала ему руку, глядя на него влюбленными глазами. А поняв, что его не так легко склонить, стала сердиться и вздыхать. Потом и слезы появились. Бог ты мой, как легко она умела плакать! Словно не глаза у нее были, а источники слез. И, конечно, он сдался: они пересели в софийский поезд, вместо того чтобы ехать в Сливен, как условились сначала.
Борис походил на строителя, который днем возводил по кирпичику стены их семейного очага, а ночью Гита обрушивала их и разбрасывала с легкомысленным наслаждением. Эти ее странности, вернее сумасбродства, очень волновали и тревожили Бориса. Но и он порой заражался чудачествами жены и потворствовал ей, боясь потерять ее. Гита разгадала эти его страхи и повела себя еще более вызывающе.
— Очень я люблю, Борка, когда ты меня ревнуешь. Настоящий петух!
Он заключал ее в объятья и шептал на ухо:
— Смотри, задушу тебя!
После долгого, утомительного пути беглецы приехали наконец в Софию. Остановились в какой-то дешевой, третьесортной гостинице неподалеку от Львиного моста. А поскольку связь их не была узаконена, им не разрешали ночевать в одном номере.
Это был первый серьезный отпор со стороны общества. Гита попробовала устроить скандал, но гостиничное начальство осталось непреклонным: эти двое провинциалов должны вести себя благопристойно и соблюдать правила морали!
Дни и ночи в столице ничем не радовали измученных путешественников. После долгих скитаний по городу они возвращались вечером в пропахшую половой мастикой гостиницу и в изнеможении валились спать. Но и спалось им плохо от дурных предчувствий.
Они побывали на нескольких текстильных предприятиях, но устроиться не могли, потому что первая попавшаяся работа была неприемлема для Бориса, да и Гита имела немалые претензии. Никого, разумеется, не приводили в восторг ни самомнение Бориса, ни красота Гиты. Они болтались, как щепки в воде, и не знали, на какой берег их выбросит. Было от чего прийти в отчаяние, и однажды Гита предложила смиренно:
— Уедем в Сливен, Борка, опротивело мне все. Таскаешься по этим проклятым софийским улицам, как побитая собака. Каждый от тебя нос воротит и взглянуть не хочет! Хватит!
— Я давно тебе говорил, а ты…
— Мало ли что было!
Они слегка повздорили, но быстро помирились, сломленные усталостью. Борис увязал чемоданы, взвалил их себе на спину, и они двинулись к трамвайной остановке. Уморились и пали духом. Как назло (такова уж судьба всех неудачников) пропустили первый трамвай, во второй не успели забраться, а в третьем их оштрафовали — не было уплачено за чемоданы. Заплатили штраф, хоть и поспорили, в отчаянии дав себе слово никогда не ступать на улицы негостеприимной столицы. Рассерженные и разобиженные, добрались они до вокзала, сели в поезд и отправились в Сливен — город их надежд.
В Сливене у Бориса были знакомые, которые сразу пришли ему на помощь и поместили в семейном общежитии при текстильной фабрике. Позже попытались осторожно вмешаться в его жизнь, повлиять на него. Вызвали в профком и посоветовали наладить семейные отношения, предупредив, что так дальше продолжаться не может. Борис взъелся на них и пригрозил уйти с фабрики, если они не оставят его в покое. Профкомовцев удивила эта вспышка, но все же его попросили поторопиться. Борис обещал. Так тянулось с полгода. Наконец он получил развод и оформил брак с Гитой. Как раз в это время произошло одно обстоятельство, которое нельзя было назвать приятным. В этот вечер Гита дежурила у себя в цехе и домой должна была вернуться поздно. Ничего плохого тут не было. Борис зашел за ней, чтобы, захватив ее, поужинать с друзьями.
Он явился в самом радостном настроении, от которого не осталось и следа после того, как, заглянув в боковую комнатку, где стоял учебный станок, он увидел Гиту в объятиях одного паренька. Паренек давно уже ее преследовал, и Гита как-то сказала — то ли в шутку, то ли всерьез, — что у него интересная внешность. Борис застыл на месте, а парень выскочил в открытое окно. Гита попыталась объяснить, почему он тут оказался, но Борис не слушал ее: учебный станок явно не имел ничего общего с объятиями парня. Какой ужас! Какое бесстыдство! Борис был вне себя. Ему хотелось бросить этого парня под колеса, сварить в котле красильного цеха, сунуть головой в чесальную машину, в клочья разорвать его «интересную внешность»!
Чтобы укротить его гнев, Гита со слезами стала уверять, что по-настоящему любит только его, Бориса, и никогда больше не позволит подобных глупостей… Она просто пожалела этого парня, который постоянно приставал к ней, и не смогла ему отказать… Но у него только внешность привлекательная, а не душа, как у Бориса. Она же ценит в мужчине душу гораздо больше, чем внешность… И никогда не променяет Бориса на какого-то смазливого нахала, если только Борис сам ее не оставит, потому что имеет сейчас на это полное право… Если, конечно, он разлюбил ее…
Она отчаянно теребила его за лацканы пиджака.
— Брось меня, Борка! Я не буду на тебя сердиться. Очень я скверная! Не заслуживаю тебя! Брось меня-! Вернись к Яне! Я знаю, что недостойна тебя больше! И уж, конечно, не смею навязываться тебе, Борка!
Из глаз ее по раскрасневшимся щекам катились крупные слезы, она была очаровательна. Каким-то милым теплом веяло от ее нежных губ и мокрых щек. Сам того не желая, Борис принялся успокаивать ее, вытирать неудержимо лившиеся слезы. Гита спрятала лицо у него на груди и разрыдалась еще сильнее. Борис стал тихонько гладить ее по голове.
— Ну ладно, довольно плакать, перестань!
— Не могу, Борка! Мне надо бы выгнать его, я так и хотела, а тут как раз ты вошел…
— Но он ведь обнимал тебя… Верно? Это же факт!
— Нет, Борка, он только пробовал обнять, но я увернулась… И второй раз… Правда же… Второй раз…
— Все-таки…
— Нет, он наклонился ко мне… Ты не видел… Я схватила его за руки и оттолкнула, когда ты вошел… Не заметил разве, как я его оттолкнула? Не видел?
— Да, но он тебя поцеловал?
— Нет! Не успел! Он только собрался, а я его оттолкнула…
— Значит, не целовал он тебя?
— Ну что ты, как это можно? Я как двинула ему!
— Ни разу?
— Конечно. Я его оттолкнула, ты тут и вошел. Не видел? Он хотел было, да не успел… Неужели не видел?
— Нет, этого я не видел.
— Он собирался меня поцеловать, но я не позволила… Я по делу туда зашла, и он откуда-то взялся… Все же я виновата, что раньше давала ему повод… Признаюсь. Нужно было сразу его осадить, как я других осаживаю!
— Все-таки он целовал тебя.
— Бог с тобой, Борка!
— Правда?
— Допущу ли я? Так ли уж легко я раздаю поцелуи? Борка! Очень жаль, что ты плохо меня знаешь!
Он смотрел на нее, терзаемый сомнениями, но глаза ее были чисты, улыбчивы и прозрачно ясны, словно и тень лжи не коснулась их.
— Правда? — повторял он, готовый поверить ей — так хотелось ему обрести покой.
В ту ночь он напился до полусмерти, а на другой день обратился в профком с жалобой на молодого человека с «привлекательной внешностью». Потянулось расследование, завязалась переписка, но Борис ничего не добился, кроме насмешек и оскорблений. Выяснилось, что Гита сама поощряла парня, в чем многие упрекали ее. Честолюбивый супруг протестовал под влиянием Гиты — это бросало тень на его семейную честь — и, возмущенный, перешел вместе с женой на прядильную фабричку. Там они продержались с полгода, но поскольку работницы «из зависти развели склоку», перебрались на вязальную фабрику. Оттуда опять на ткацкую. Так они побывали чуть не на всех городских предприятиях. Наконец Борис заявил:
— Довольно, уедем отсюда. Меня зовут в Родопы.
— В Родопы? Где это?
— В Рудозем… В Балканах… Встретил двоих наших — бешеные деньги зарабатывают.
Гита кинулась ему на шею и осыпала поцелуями. Цыганская кровь в ней закипела.
— Борка! Милый! — вопила она. — Как я люблю тебя! Буйная ты головушка! Укатим отсюда! Не могу больше!..
И до тех пор ластилась и тормошила его, пока они не тронулись в путь. Упаковали чемоданы и отправились в Родопы. Пожили недолго в Мадане, затем переехали в Рудозем. Новая обстановка, новые знакомства, а к тому же хорошие заработки содействовали их семейному счастью. С работы они уходили вместе, всегда под руку и влюбленно глядя друг на друга, будто впервые виделись. Рабочие подтрунивали над ними:
— Хватит вам любоваться друг на дружку, оставьте немного под старость!
В то время они купили мотоцикл, оделись с иголочки и опять стали строить планы насчет квартиры в Софии. Увидев как-то у мужа набитый деньгами бумажник, Гита снова впала в беспокойство. Снова заговорила о том, что надо переселиться в Софию и подумать о будущем. Она не оставила надежды стать софиянкой. У нее завелись деньги, а что хорошего тут можно было купить? И вот в один прекрасный день они помчались в Софию.
На этот раз столица встретила их более приветливо. Может быть, потому, что они поселились в лучшей гостинице, ближе к центру. А может, потому, что стояла весна, бульвары зазеленели, в садах цвели розы и людям было веселей — кто знает… Мечта Гиты сделаться столичной жительницей разгоралась с каждым днем. Она таскала Бориса с одной стройки на другую, толковала с подрядчиками и строителями, торговалась, требовала, чтоб комнаты выходили на восток, чтоб в квартире были ванна, кладовые, душ… Гита до тонкостей постигла строительное дело. Борис сопровождал ее и лишь молча кивал головой, уверенный, что вся эта канитель напрасна, все равно ничего не выйдет. И он не ошибся. Оказалось, что в силу каких-то непонятных законов и правил договор на строительство нельзя было заключить, не будучи жителем Софии. Борис остался доволен таким исходом — ему не хотелось тратить деньги на кирпич и цемент.
— Я поняла, — сказала Гита, — что такой ротозей, как ты, не сумеет устроиться в Софии. Но решительно заявляю, что уйду от тебя, если ты вздумаешь остаться в глуши. Так и знай.
— Подумай, что ты говоришь, Гита!
— То, что ты слышишь… Тебе, как видно, очень по вкусу жить среди помакинь[8]… Так и зыркаешь глазами туда-сюда… Хоть бы меня постеснялся!
— Гита!
— Извини, что доставила беспокойство! Сделай милость!
Она поклонилась Борису, неожиданно охваченная ревностью и злобой. Месяца на два, на три хватило этой ревности — достаточно для того, чтоб в волосах у него забелела седина. Он осунулся, похудел, словно после лихорадки. Но ни с кем не поделился своей мукой, никому не пожаловался. Рыл, копал в рудниках, трудился и зарабатывал деньги.
Мысль вернуться в родные края все чаще приходила ему в голову. Капризы Гиты невольно обращали его к прошлому, где он оставил не только честь, но и крошечное существо, о котором вспоминал с тупой, неосознанной болью, гнездившейся в глубине его сердца. Валя, которую он никогда не видел, представлялась ему очаровательной в розовой дымке отцовского воображения. Что бы ни случилось, размышлял он, пусть хоть весь белый свет забудет о нем, все же останется ниточка, связывающая его с жизнью. Вот почему в тяжелые минуты он цеплялся за эту ниточку, надеялся на нее.
Но прежде, чем вернуться и начать сводить счеты, он хотел побольше заработать, разбогатеть, чтобы ни от кого не зависеть. Тогда и Гита переменится, и радость свидания с дочкой вольет свет в его горестное житье.
Перебирая сейчас в памяти все события, одно за другим, Борис пришел к выводу, что жизнь сделалась для него невыносимой с тех пор, как Гита стала работать санитаркой в местной больнице. Как все это произошло, он еще не сумел разобраться. В один прекрасный день Гита предстала перед ним в белом халате и белой, похожей на тюльпан, накрахмаленной шапочке.
— Что это, Гита?
— Как я вам нравлюсь? — спросила она вместо ответа, не отрывая взгляда от зеркала, где видела себя во весь рост. — Сегодня главный врач два раза принял меня за доктора… Похожа я на доктора, как по-твоему?
Борис смотрел на нее в недоумении.
— Ты что же, санитарка?
— Все принимают меня за медицинскую сестру.
— Это главный тебя назначил?
— Нет, назначил меня товарищ Минков из гинекологии. Большой души человек!.. А по секрету сказал, что переведет меня в медицинские сестры, как только утвердят новые штаты… Не веришь?
— Почему же не верить.
— Да, а пока я помогаю роженицам… и разные там другие дела… Правда, мне идет халат и шапочка?.. Сразу преобразилась, будто другой человек… Согласись!
— Да, да… — рассеянно отвечал Борис. — А этот, из гинекологии… Минков… он что…
Гита отскочила от зеркала и строго посмотрела на него.
— Что, опять тебя укусило?
Борис промолчал.
— Ревнуешь? — она повысила тон. — Подозреваешь? Меня подозреваешь? Да, другого от тебя и ждать было нельзя! Жаль! Однако на сей раз ты ничего этим не добьешься! Не раба я тебе больше. Понимаешь? Точка, конец! Я ведь тоже хочу продвигаться!
— Ничего плохого я не сказал, — извинился Борис. — Спросил только, разве этот доктор…
— Я прекрасно понимаю, о чем ты спрашиваешь, — прервала его Гита. — Прежде всего этот доктор вполне благородный человек… Нет у него никаких задних мыслей, как ты воображаешь… Душа-человек! Идеалист, а не материалист, как все прочие мужчины… Уж я-то их знаю!..
— В конце концов, и он мужчина, а не душа!
— Да, но идеалист.
— Безразлично.
— Что ты хочешь этим сказать? Объясни.
— Объяснять нечего. Все сказано.
Несмотря на недовольство Бориса, Гита взялась за работу с воодушевлением. Каждое утро она отправлялась в гинекологическое отделение, с удовольствием надевала белый халат, белую шапочку и расхаживала по палатам и коридорам, часто останавливаясь перед зеркалами и раскрытыми окнами. Орудовала Гита метелкой и тряпками, обтирая столы и шкафчики, и тем не менее редко кто звал ее в больнице санитаркой. За короткое время она успела сдружиться со всеми, и хоть знали, что она простая санитарка, но, обращаясь к ней, называли — кто в шутку, а кто и всерьез — сестричкой. Гита вертелась всюду, где надо и где не надо — и среди докторов, и среди сестер — и дольше, чем нужно, задерживалась в кабинете «благородного» доктора. Это был молодой человек с русыми усиками и голубыми глазами, которые всегда загорались улыбкой, как только «сестричка» появлялась у него в кабинете.
— Ну как дела, Гита? — спрашивал он.
— Очень хорошо, товарищ Минков! Отлично!
— Радуюсь.
— Правда?.. Уж больно мало у тебя зеркало, товарищ Минков, не могу как следует посмотреться… Хочется всю себя увидеть, а то…
— Зеркало маленькое, зато сердце у меня большое, Гита! Что смеешься, не веришь?
— Верю.
— А почему смеешься?
— Приятно мне.
Увлеченная такого рода разговорами, «сестричка» забывала о своих служебных обязанностях, бросив тряпки где-нибудь в коридоре. Это возмущало других санитарок — они не намерены были убирать за нее. Потребовали, чтоб Гита не болталась попусту, а больше следила за веником и тряпками. И наконец ее серьезно призвали к порядку, сделав строгое указание на производственном совещании.
— Да что ей это строгое указание, братец, — рассказывал потом завхоз. — Приняла как похвалу… Помимо всего прочего, она ставила в неловкое положение и доктора Минкова — постоянно торчала у него в кабинете. А то взялась таскать его на экскурсии в горы и мужа своего как свидетеля водила… Эх, да что тут говорить, братец ты мой!.. Неплохая она девчонка, только взбалмошная какая-то… Даже со мной принялась было заигрывать! Поймала, понимаешь, меня за усы и говорит: «Срежь усы или я их выдеру!..» И дернула, понимаешь, не в шутку… «Отстань, ну тебя», — говорю ей, а она все дергает. «Как, — говорит, — тебя жена терпит с такими замусоленными усами! Я на ее месте и не взглянула бы на тебя!» Взяла, озорница, да как щелкнет меня пальцем по носу, у меня аж искры из глаз посыпались! Легонько я толкнул ее, а она наклонилась и поцеловала меня в лоб, так себе, шутки ради… Рассмеялась и ушла. А я остался не то на небе, не то на земле! Усы-то мне больно, но и сладко так от ее поцелуя. Нежные, горячие губы, прямо обожгли меня, понимаешь… И где только уродилась такая, в толк не возьму… Нашим женам, понимаешь, трудящимся женщинам, братец ты мой, и на ум не придет такое озорство.
Около полугода Гита с победным видом расхаживала по больнице, пока ее не вызвали в отдел кадров и не сообщили вполне вежливо, что ей придется оставить работу ввиду сокращения штатов. Гита не рассердилась, не обиделась. Впрочем, у нее уже другое было на уме: как и Борис, она стосковалась по родным местам.
— Прямо тебе скажу, Борка, — заявила она однажды своему мужу, — надоело мне здесь… Уедем! Нет людей культурнее, чем в нашем краю! Совсем тут одичаешь с этими помаками… Да и соскучилась я о наших. Съезжу, посмотрю, что там делается.
Борис молчал.
— Ты не согласен?
— Согласен, только надо обдумать.
— О чем тут думать?
— Все-таки.
— Понимаю! Ты опять меня ревнуешь! Прости, пожалуйста, но сейчас я тебе не подчинюсь. Довольно! Поступлю так, как я хочу. Ясно тебе?
— Я не сказал тебе ничего обидного.
— Еще бы. Остается только назвать меня развратницей…
Борис молчал.
— Развратница, да?
Борис все молчал.
— Хорошо. Спасибо! Развратница, значит. Благодарю тебя!
Гита выбежала и с такой силой захлопнула за собой дверь, что вылетело оконное стекло и вдребезги разбилось у ног Бориса. Он долго стоял посреди комнаты в каком-то оцепенении. Почему он не догнал ее? Почему не схватил за горло и не удушил? Что еще связывает его с ней? Гибкий стан? Нежные губы? Или необузданная страсть?.. Детей нет, она упорно не хочет их иметь, желая пользоваться свободой, пока молода. Что же тогда связывает его с ней? Ревность, может быть? Честолюбие? Или желание казаться счастливым мужем красивой жены? Но не обманывает ли он сам себя? Зачем ему эта видимость счастья?
…Думы, думы! Одна страшнее другой! Он ворочался и никак не мог успокоиться. Необходимо найти ее сегодня же и выяснить, что у нее с Филиппом Славковым! С этим типом!..
Ярость вновь овладела Борисом, как только он вспомнил о бывшем любовнике Гиты! Закричать хотелось!
Подгоняемый сомнениями и тревогами, он встал, быстро привел себя в порядок и решил опять пойти в город на розыски Гиты. В крайнем случае он побывает у Славкова и покончит с этим раз и навсегда.
В тот самый момент, когда он собрался выйти, дверь широко распахнулась, и на пороге остановилась Гита. На ней было платье, купленное перед отъездом из Рудозема. Глаза ее горели, на губах трепетала веселая улыбка. И сердце его, как всегда, мгновенно смягчилось. Ярость отступила, ушла внутрь, исчезла, растопилась, как воск.
— Борка! Милый Борка! Как я ждала тебя!
Она бросилась ему на шею, уронила голову на плечо и зарыдала от счастья, словно не виделась с ним долгие годы.
— Скучала обо мне?
— Очень, очень, — всхлипывала она, придирчиво оглядывая его.
Борис обеими руками повернул ее лицо к себе и стал нежно целовать его, счастливый тем, что держит наконец ее в своих объятьях.
18
Позади них на открытом окне развевалась занавеска. Потянуло прохладой. Погода резко изменилась, собирался дождь — в летнюю пору здесь часто налетали дожди во второй половине дня. Под ветром, пригонявшим с гор тучи, гнулись к земле деревья и травы, вихрилась пыль на мостовых, стучали и звенели створки незакрытых окон. С реки, гогоча и хлопая крыльями, тянулись гуси, спасаясь от надвигающейся бури. Пахло пыльным сухим бурьяном. Небосвод рассекали молнии.
Борис стоял спиной к окну. Он не видел, как ветер трепал занавеску, не чувствовал сырости, проникавшей в комнату. Первые капли уже стучали по карнизу. Летний дождь зашумел с нарастающей силой. Судорожно корчились плети молний, сверкая фиолетовым огнем. Над городом проносились раскаты грома, будто кто-то срывал крыши с домов.
Шум дождя усилился, но ветер перестал трепать занавеску, поутих немного. Капли барабанили все громче, сырость заполнила комнату.
— Озябнешь, Борис. Накинь пиджак!
Борис поморщился. Вспышка молнии ослепила обоих. От страшного удара содрогнулось здание, и дождь хлынул как из ведра. Капли настойчиво били по железному карнизу, словно из туч сыпались пули. Гита подошла к окну и крикнула испуганно:
— Град!
Дождь лил теперь сплошной стеной из ледяных нитей. Крупные зерна ударялись о черепичные кровли и отскакивали, дробясь на мельчайшие брызги. За несколько минут крыши и улицы побелели. Потоки уносили обломленные зеленые ветки. Гита стояла у раскрытого окна, в страхе сжав кулачки.
— Боже мой, какой град! Борис!
Он молчал, досадуя на то, что дождь занимает ее больше, чем он. И это после столь длительной разлуки!
— Какие большие ветки обломало! — продолжала Гита, высунувшись наружу. — Смотри, все искромсал град!
Новая вспышка молнии озарила ее лицо. Она отшатнулась и невольно ухватилась за Бориса. Он легонько отстранил ее.
— Отойди, пожалуйста.
Гита посмотрела на него с удивлением.
— Ты дуешься? — спросила она. — Что с тобой?
Борис хмуро глянул на нее.
— Неужели ты не чувствуешь, что обязана дать мне объяснение?
— Какое объяснение? Отчет?
— Пусть будет отчет. Какая разница? Ты мне жена, и, следовательно, я должен знать, где ты была все это время и что делала. А про град нечего мне толковать.
Гита отодвинулась от него.
— Неужели град тебя не интересует?
— Столько же, сколько и тебя, — отозвался он и язвительно добавил с усмешкой: — Но если ты решила отвлечь меня от самого главного, тогда, конечно, другое дело.
— А что это такое — самое главное?
— Ты знаешь.
— Нет, не знаю.
— Тогда нечего дурить мне голову этим градом.
— Глупости болтаешь, — оборвала она его.
Грохот заглушил ее слова, и они стояли молча, пока не утихли громовые раскаты. Дождь лил не переставая. Молнии раскалывали небо, а тучи все ползли с гор одна за другой и громоздились над городом, как бы собираясь вылить на него весь свой запас дождя. На улице стемнело, как вечером.
— Мне не в чем отчитываться, — продолжала Гита, — моя совесть чиста. А ты все подкапываешься! Смотри только, беды себе не откопай.
— Я имею дело с фактами, — ответил он, искоса взглянув на жену.
— Меня не интересуют твои факты.
— А Филипп Славков тебя интересует? — внезапно отпарировал Борис, пытаясь сохранить на лице ироническую усмешку.
Гита выпрямилась, выставив грудь, словно приготовилась отразить очередной удар.
— Интересует, — заявила она.
Он вспыхнул. Не ожидал такого ответа.
— В самом деле?
— В самом деле, — вызывающе повторила Гита и, подойдя к окну, отдернула занавеску, чтобы шире открыть его. Дождь встретил ее веселым шумом, но она уже не радовалась ему больше, хотя град и перестал. Какой толк от того, что он перестал, если деревья поломаны, цветы помяты?
Скрестив на груди руки, Гита долго смотрела на улицу, забыв и про дождь и про град. Знакомые семейные будни возобновились. И так скверно. Не помогла даже временная разлука. На этот раз, однако, Гита чувствовала себя сильной и гордой, ибо совесть ее действительно была чиста. Чиста ли? Разве Филипп Славков ее уже не интересует?
Дождь шумел монотонно и настойчиво, будто стараясь — на пользу обоим — отвлечь их от враждебных мыслей. У Гиты не было желания спорить с Борисом. Подавленная его ревностью, Гита села со вздохом, облокотившись на подоконник. Она еще надеялась, что все как-нибудь уладится. Брызги покрыли ее руки, обнаженные до самых локтей. Дождь был теплый, и ей захотелось, как в детстве, подставить лицо под сплошные струи и до само-забвенья насладиться их свежестью. Но детские порывы глохли в присутствии этого человека, который постоянно упрекал ее, словно никогда не любил.
В сущности, кто ее любил, Гиту? Чье сердце трепетало искренне и бескорыстно от любви к ней? Любил ли кто-нибудь ее сердце? Душу ее, о которой она часто говорила с легкомысленным безразличием? Кто любил Гиту по-настоящему? Тот, кто стоит сейчас у нее за спиной? Или тот, кто первый обманул ее? Или тот врач, что подшутил над ее наивной суетностью? Она напрасно старалась припомнить хотя бы мгновенье настоящей любви, о которой только слышала. Все до единого думали о ней одинаково, у всех было одно намерение — завладеть ею. Даже старый холостяк Беглишки возымел желание откусить от яблока, не обломав своих гнилых зубов. Почему все подходили к ней с такими помыслами? Она виновата? Или глаза ее горят соблазном, который обвораживает мужчин? Почему любовь к ней никогда не начинается с красивых писем, с песен? Почему ей не поют серенад? Не провожают вздохами? Почему не говорят ласковых, красивых слов, которые хотелось бы слушать, закрыв глаза? Кому она причинила зло? Неужели так пройдет вся молодость?
Глаза Гиты невольно наполнились слезами. Еще больше захотелось подставить лицо под дождь. Вода успокоит ее, поможет избавиться от страданий, от назойливых мыслей, которые впервые осадили ее с такой страшной силой. Она пришла к Борису поделиться своим горем, а он встретил ее все той же подозрительностью. И вот она опять одинока, никто ее не понимает.
Слезы жалости к самой себе потекли по ее пылающим щекам. Вороша воспоминания, она старалась найти в своей жизни островок — красивый и чистый, — где бы можно было отдохнуть от скитаний. И не находила такого островка.
Пока Гита под шум дождя предавалась размышлениям, Борис внимательно изучал ее. Да, все у нее, бесспорно, красиво: и это платье, и плечи, и волосы, обрызганные дождем, и удивительно стройные ноги… Но что это за туфли? Он пригляделся попристальнее — туфли на низком каблуке совсем простого фасона. Не было у нее таких. Ревность снова сдавила ему горло. Он подошел и, дернув ее за руку, спросил:
— Его подарок?
— Его, — спокойно ответила Гита.
— Не думал, что у него такой убогий вкус.
Гита посмотрела на мужа, презрительно прищурившись. Ей захотелось и дальше обманывать его, изводить и мучить. Вот о туфлях, взятых у Ружи Орловой, он напомнил очень кстати. Мысленно она перенеслась в тот дом, где так хорошо и спокойно провела ночь. «Вот люди, — подумала она, — которым я обязана. Надо отдать туфли. Какая же я растрепа!» Она обрадовалась, что вспомнила о Руже и Колю. Не такой ли муж был бы для нее самым лучшим? Не такой ли человек должен был полюбить ее? Он слал бы ей красивые письма и стихотворения… А она гладила бы его по курчавой голове… И целовала бы за доброе сердце… Он счастливо моргал бы и краснел, целуя ее. А она смеялась бы и ласкала его, как ласкают мальчиков, которые, еще не зная, что такое любовь, уже носят ее в сердце.
Гита улыбалась, а по щекам ее катились слезы — она вспоминала о Колю, о Руже, о всех других, похожих на них, и была довольна тем, что еще не утратила веру в людей.
Борис думал, что она плачет, сознавая свою вину перед ним, и старался держаться еще строже — так ей и надо за все ее безрассудства и порочную жизнь. Откуда, в самом деле эти туфли? Таких он у нее не видел.
— Нам надо поговорить серьезно, Гита, — начал он. — Дальше так продолжаться не может.
— Я тоже так думаю, — ответила она.
— И все же идешь старой дорогой.
— Какой старой дорогой? У меня одна дорога.
Он смотрел на нее в недоумении, пытаясь разгадать скрытый смысл ее слов, которые и обнадеживали и обескураживали его одновременно.
— Да, да, — продолжал он. — Так дальше нельзя.
— Что ты имеешь в виду?
— Многое. Прежде всего этого… Филиппа Славкова. Мне бы не хотелось вступать с ним в объяснения. Ты знаешь, на что я способен, если решу разделаться с кем-нибудь. Переверну всех до десятого колена.
Гита гневно сжала губы… Он каждый вечер приносил бы ей цветы, ведь поэты любят цветы и звезды, все красивое. И говорил бы ей такие слова, каких она никогда не слышала. Ничего, что он близорук… Смешной — станет спотыкаться на каждом шагу, когда захочет найти ее и обнять… А в саду благоухают розы и гудят пчелы, как его гитара. Интересно, играет он на гитаре или нет? Едва ли… Может быть, на аккордеоне? Все равно. Его душа нежней гитары и добрее пчел, собирающих с цветов мед… Какие они забавные были, и Ружа и он, когда она явилась к ним среди ночи!.. Да, Ружа могла рассердиться, но не рассердилась — такая она добрая… Даже туфли свои дала! И платье отдала бы, и чулки!.. А вот она, Гита, стыдно вспомнить, украла когда-то чулки в общежитии! Тетя Мара, Ружа, Савка… Это Савка изобличила ее перед всеми!.. И все же тогда было веселей, радостней! Разве не так? Они забыли об этом и все ей простили! Может, простят и на этот раз? Сегодня либо завтра надо обязательно вернуть туфли!.. Но о чем он говорит? Ах, да, о Филиппе Славкове. Необходимо выслушать его, а то опять разозлится. Нехорошо злить его. В конце концов, это их первая встреча после такой долгой разлуки!..
Она вытерла слезы и уже ясно услышала его слова:
— Мы должны снова работать на «Балканской звезде». Тогда ты увидишь, на какие чудеса способен твой Борис. Понимаешь? Это самое главное.
— Тебе обещали?
— Зачем мне их обещания? Я имею на это право. И не намерен ни от кого ждать обещаний. Сами должны попросить, да еще извиниться передо мной. Не я, а они обязаны меня просить.
— А потом?
— Потом, дело ясное, потребую, чтоб меня восстановили в правах. О деньгах разговора не будет. Они у меня есть, могу завалить их деньгами… Честь важна для нас, честь! Понимаешь? Вот в чем вопрос! Я должен занять место по заслугам, да и ты тоже. Поэтому сейчас нам следует держаться умно и с достоинством. Верно? Вот о чем я хотел тебе сказать. С достоинством.
Он подошел к ней и тронул за плечо. Она вздрогнула, но не двинулась с места.
— Очень сыро, правда? Отойди от окна.
Гита посмотрела на него с удивлением.
— Я понял, что ты разыграла меня насчет туфель! И все же хочу, чтоб мы доверяли друг другу во всем. Посоветовалась бы со мной. Я мог купить тебе более приличные. Ты мой вкус знаешь, он пока ни разу меня не.
подвел.
Борис закрыл окно и заметил:
— Ив самом деле похолодало. После града. Не прилечь ли тебе? Согреешься. А то как бы не заболеть. Ангина там и всякое…
Гита села на кровать и накинула на плечи одеяло.
Он продолжал:
— Я опять всех приберу к рукам, пусть только меня реабилитируют. Ты мой характер знаешь, мне лишь бы развернуться.
Он присел на край кровати.
— Ты все-таки лучше ляг да согрейся, а то действительно можешь простудиться. Смотри, как ноги у тебя посинели, даже коленки. Дай-ка я тебе помогу!
— Я сама, Борис, — сказала она, снимая туфли. — Не надо мне помогать.
Эта неожиданная нежность смутила ее.
— Шелест летнего дождя за окном навевал тихую дрему.
— А знаешь, мне тоже захотелось соснуть, — сказал Борис, прикорнув возле нее на кровати. — Я порядком устал в дороге.
Гита натянула одеяло до самого подбородка и закрыла глаза, стараясь оградить себя, спрятаться от нахлынувших на него нежностей.
— Я всегда тебя слушался, Гита, — вернулся к своим рассуждениям Борис. — Хочу, чтоб и ты меня слушалась. Тогда увидишь, что будет.
Он бормотал что-то, склонившись над нею, а она все больше погружалась в дремоту, ослабевшая в тепле, проваливалась в какой-то другой мир, забыв обо всех неприятностях. Время от времени отдельно схваченные слова заставляли ее вздрогнуть и, сливаясь в общем словесном потоке, исчезали бесследно. Лучше не вникать в смысл его бормотанья, так скорее уснешь.
— Больше друзей у меня нет, — говорил Борис, — а Аспаруху Беглишки можно довериться… Человек он с умом. А грехи у каждого есть. Он колюч, но я все же попробую на него опереться… Вот что мне нужно. Найти поддержку. Самое главное… И моральную…
Ей хотелось возразить на это, но от слабости и одолевавшего ее сна она даже рта раскрыть не могла. Последнее его слово будто в бездну кануло, и, отвернувшись к стенке, она уже ничего больше не слышала.
Борис продолжал возбужденно разглагольствовать. Поняв наконец, что Гита спит и он попусту тратит слова, нахмурился, махнул рукой и долго молча глядел на ее спокойное красивое лицо, покрывшееся легким румянцем. Затем встал, подошел к окну и выглянул на улицу; убедившись, что дождь не перестал, решил никуда не ходить в этот вечер. Ведь Гита с ним, — вот она, вся в его власти. В его власти? Он взволновался при этой мысли и, повернувшись, загляделся на ее свежее, порозовевшее лицо, на губы, чуть приоткрытые, как бы в ожидании поцелуя. Он ненавидел ее порочность, но никогда не мог устоять перед искушением. Разве не она укрощала его бешеную злобу? Разве не ради нее он запутал всю свою жизнь?
Дождь прекратится не скоро. Раскаты грома утихли, молнии погасли, но вода до тех пор будет литься и шуметь, пока все не разойдутся по домам и не уснут. У него нет дома, но с этой женщиной, которая сейчас так сладко спит, и в гостинице уютно, как дома.
19
Перемирие наступило так же быстро, как возникла война. Узнав, чьи это туфли, Борис уверился, что совесть Гиты чиста, и стал реже напоминать ей о Филиппе Славкове. Его осаждали другие мысли и заботы.
Первым долгом он отправился в Городской комитет партии и заявил, что теперь, когда миновали годы, не пощадившие и его, он вернулся в родной город, чтоб жить тут и работать. Напомнил, что настали другие времена и что он, хоть и выпал из рядов партии, продолжает верить в ее отеческую заботу, направленную на торжество попранной правды. Добавил, что согласен работать на «Балканской звезде» на прежних условиях и никого ни о чем не просит.
В Городском комитете его выслушали внимательно. А в конце посоветовали терпеливо ждать ответа на заявление, не сомневаясь в справедливом разрешении поднятого им вопроса. Борис кивнул на прощанье и значительно повторил, что больше никого беспокоить не станет.
Из Горкома он пошел представиться Аспаруху Беглишки. Тот был сдержан в разговоре, осторожно подбирал слова и приглядывался к Борису так, словно опасался внезапного нападения, Борис держался по-приятельски, дружелюбно, стараясь подчеркнуть, что предпочитает водить дружбу с людьми интеллигентными. Похвалился, что заработал кучу денег, завел было легковую машину «фольксваген», но потом продал — не захотелось возиться с такой таратайкой; а эти золотые часы — так себе, пустяковина, купил по случаю у одного иностранца, попавшего в затруднение.
Беглишки узнал обо всем, не расспрашивая и не прибегая к изворотливости.
Борис остался недоволен встречей. И уже собравшись уходить, откровенно заявил:
— Прямо тебе скажу, я рассчитываю на твою поддержку!
— Всегда в твоем распоряжении, — заверил Беглишки и, торопясь расстаться с ним, проводил до самой двери.
С мансарды Аспаруха Борис спустился к Виктории. Она встретила его в кокетливом пеньюаре. Борис, здороваясь, так стиснул ей руку, что она вскрикнула от боли. А Хаджи Ставри, супруг ее, принялся увиваться около Борки, вынюхивая, не разбогател ли тот. Нейлоновая рубашка и куртка на молнии не произвели на него особого впечатления.
— Банкнотики, банкнотики-то есть у тебя? — с ухмылкой допытывался старик. И Борис, фамильярно хлопая его по плечу, отвечал:
— И банкнотики имеются, дедушка Ставри! Все есть. — И опять заводил разговор о своем легковом автомобиле да о мотоциклах.
Выйдя от Виктории, Борис отправился было на улицу Героев Труда навестить стариков. Но, поразмыслив, отказался от этого посещения, таившего всякие неожиданности. Надо сперва переговорить по телефону, а там видно будет. Торопиться не следует, потому что от строптивого старика, присвоившего себе право быть совестью города, всего можно ожидать.
Борис зашел в Охотничий домик и оттуда позвонил. Впервые за три года он услышал голос своего дедушки. Как ни храбрился Борис, уверяя себя, что не боится деда, все же сердце у него заколотилось, когда он услышал в трубке знакомый голос.
Дед Еким кричал:
— Альо-о, альо-о! Кого вам надо?
— Мне нужен товарищ Балканов.
— Я у телефона.
— Ах, вот как? Здравствуй, дедушка! Борис тебя приветствует.
— Кто, кто?
— Здравствуй, говорю, здравствуй! Борис у телефона.
— А-а, Борис…
Наступила длинная пауза. Борис собрался с духом и сказал более уверенно:
— Хочу увидеться с тобой, дедушка.
— Что ж… Милости просим. Мы все там же, на прежнем месте.
— Меня скорее Валентина интересует, — наставительно заговорил Борис, позвякивая мелкими монетками в кармане брюк. — Я, конечно, очень занят, но все-таки это мой ребенок, и я должен о нем заботиться, верно? Родительский долг и прочее… Да, да. Я не хочу навязываться, но долг заставляет меня. Что, что ты сказал? Говори громче! Телефон, наверно, испорчен. Да, слышу, в детском саду. Все же надо было у меня спросить. Ну, конечно. Моего согласия. Бесспорно. Долг. Да, долг!.. Я так понимаю. Нет? Отлично! Если надо, я и с матерью встречусь. Почему бы и нет? Ребенок не должен страдать из-за родительских капризов.
Поняв, что из разговора со стариком мало толку, Борис решил на следующий день сходить на улицу Героев Труда и выяснить все как следует.
Было воскресенье, близилось время обеда. Борис побрился, надел новую рубаху и пошел. По дороге он зашел в кондитерскую у городских часов и купил несколько плиток шоколада для Вали. Мысль о ребенке, которого он еще не видел, волновала его все сильнее. Почему-то он представлял себе девочку с длинными кудрявыми волосами, с умным, мечтательным взглядом и грустной улыбкой — сама того не понимая, она тоскует по отцу… Валентина, должно быть, похожа на него, распевает песенки и танцует, будто бабочка, порхающая над цветником. Он уже видел, как подхватит дочку, поднимет высоко, расцелует в щечки и посадит ее к себе на колени.
В таком настроении он шел по улице Героев Труда, не подозревая, что «бабочка» в этот момент не дает свободно вздохнуть своей матери где-то в Сокольских лесах, куда Манчев увез их на неделю отдохнуть.
Борис прошел по вымощенной дорожке, поднялся по лесенке и постучал в дверь. Окно на кухне было открыто, но никого не было видно.
— Эй, есть кто-нибудь в доме? — крикнул он, раздражаясь на то, что звонок не работает. Кричи тут, словно почтальон какой-то.
На стук и крик из окна соседнего дома высунулась некая личность в пижаме и с любопытством уставилась на Бориса. Хотела, как видно, объяснить что-то гостю деда Екима, но по каким-то соображениям тут же юркнула обратно, будто лисица в нору. Это был Филипп Славков, Борис не заметил его. И продолжал кричать:
— Эй, люди! Есть тут кто-нибудь?
Но вот дверь медленно открылась, и на пороге появилась бабка Деша. Обеими руками старуха несла таз с помоями. Не ожидая в такую пору гостя, она очень напугалась. В растерянности уронила таз и, чтоб не облиться, метнулась назад.
— Ой, ой, что же я натворила! — запричитала бабка, узнав наконец внука. — Борис, Бориска! Ты ли это, внучек? Почему не предупредил… Шагай сюда да смотри не испачкайся!
— С каких уже пор стучусь, — хмуро заявил Борис, и, перешагнув через лужу, вошел в кухоньку. — Туга, что ли, на ухо стала?
— Плохо слышу, сынок, плохо. А как проводили Валю в детский сад, совсем оглохла.
Бабка кинулась ему на шею и стала обнимать. Хоть и не любил Борис стариковских нежностей, все же стерпел. Потом, усевшись на трехногом стульчике, поданном бабкой Дешей, спросил:
— А где дедушка?
— Разве я знаю? Каждое воскресенье уходит в парк на прогулку.
— Да, любит он прогулки… А ты как? Стиркой занялась?
— Стираю, внучек.
— Стирай, стирай, а он пускай прогуливается. Так оно и бывает, других мы осуждаем, а за собой грехов не признаем.
Бабка не расслышала, а если бы и расслышала, все равно не поняла бы смысла сказанного. Опустившись перед Борисом на корточки, она обняла его колени и заплакала. Не потому, что ей приходилось стирать в то время, как дед Еким разгуливал по парку, а потому, что Внук ее вернулся наконец живой и здоровый, празднично одетый, каким она его видела когда-то. Сбылись ее надежды увидеться с ним.
— Где же ты был, внучек? Где скитался? — причитала старушка, ладонью вытирая слезы. — Почему так долго не возвращался? Почему не давал о себе знать?
— Ладно, бабушка, ладно! Что было, то прошло. Надо смотреть вперед!
— Плохо я вижу, внучек, плохо слышу.
— Я другое имел в виду, говоря, что надо смотреть вперед.
— Не пойму я тебя, внучек.
Борис насупился. Злило его, что культурный разговор с бабушкой не клеился. Зря только время тратит. Он достал из кармана шоколадки и положил на стол.
— Это для Вали. Скажи ей, папка, мол, принес.
Увидев шоколад, бабка снова залилась слезами. Борис растерялся, не зная, что делать. Встал и начал нервно расхаживать взад и вперед. Потом прошел в спальню, где они жили с Яной. Многое вспомнилось ему, и стало горько от сознания, что молодость пошла прахом. Оглядывая комнату, он вдруг заметил фотографию Яны вместе с Валентиной. Яна сидела на стуле, а девочка стояла рядом. Обе были очень серьезны и задумчивы. Борис взял фотографию и подошел к окну, чтобы рассмотреть получше. Валя была в трикотажном костюмчике, полненькое круглое личико полумесяцем обрамляла вязаная шапочка. Борис не мог определить, на кого похожа дочка. Ему очень хоте" лось, чтоб у нее было сходство только с ним, но как ни вглядывался, он не мог найти в детском личике ни одной своей черты.
— Когда это они снимались? — недовольным тоном спросил Борис.
— Вале было тогда полтора годика.
— Что это за наряд? Разве нельзя было надеть платьице на ребенка?
Он бросил карточку на стол, но сейчас же снова взял. Глаз не мог отвести от ребячьей мордочки.
— Да, жизнь течет, — вздохнул он, вновь принимаясь расхаживать по комнате. Бабка, словно вестовой, следовала за ним по пятам и что-то говорила, но он ее не слушал.
— А другой карточки нет?
— Молодуха забрала с собой. Она, молодуха-то…
— Что молодуха?
Бабка смутилась и посмотрела на него виновато.
— В чем дело? — с любопытством повторил Борис.
— Вроде бы надумала что-то. Поймешь нешто?
— Что?
— Да говорят люди.
— Ну, что говорят-то? Замуж выходит?
— Разное толкуют… Откуда мне знать.
— Велика важность! — махнул рукой Борис, шаря взглядом по стенам. — А эта фотография, она все еще тут? Я ее заберу.
Он встал на стул И снял со стены портрет матери. С рамки и со стекла посыпалась пыль. Обидно ему стало и больно, словно он услышал голос матери, погребенной в пыли забвения. У него задрожали руки, в сухом блеске его глаз, будто в зеркале, отразилось и затрепетало, как далекое сияние, воспоминание о матери, которое исчезло было из сердца Бориса на целые годы. Он представил ее себе молодой, красивой, печальной и строгой, готовой простить сыну все. И ему стало еще мучительней и горше от того, что красивое лицо на портрете потемнело от пыли и паутинок. Вспомнилось, с какой сыновней заботой заказывал он когда-то рамку для портрета, как выбирал образец, дожидался, пока в магазине застеклили ее, прикрепили колечко, чтоб удобнее было вешать… Вспомнилось и то, как, придя домой, он написал чернилами на оборотной стороне (чтоб все знали и не забывали), что портрет этот — его собственность. Тогда он долго ломал голову над тем, где его повесить. Сперва поместил на стенке между двух окон, а через несколько дней укрепил над шкафчиком. И наконец — у себя над кроватью, чтоб постоянно чувствовать ее рядом. Но прошло немного времени, и в головокружительном вихре забот он забыл о портрете, будто его никогда и не было в комнате, не существовало совсем. Серой, противной пылью запорошило и легенду, и любовь… Как горько, как тяжело сознавать это!
— Совсем забросили, — сказал он, чтобы свалить с себя вину. — Это же портрет моей матери, а не… молодухи! Молодуха выйдет замуж, других забот у нее нет… Глупости одни!
Вытирая краем скатерти пыль, он продолжал с угрозой:
— Раз вы о нем не заботитесь, я возьму.
Изумленная бабка не сводила с него виноватых глаз, считая упреки внука вполне справедливыми.
Борис завернул портрет в газету и сунул под мышку.
— Попрошу переснять для вас, а этот возьму себе. У вас не оставлю.
Борис уже хотел было идти, но в дверях остановился и, указывая на гвоздь в углу, спросил:
— Где моя мандолина?
Бабка пригнулась, чтоб лучше слышать.
— Мандолина, мандолина где? — крикнул Борис ей в ухо.
Старухе почему-то показалось, что речь идет о Валентине, и она снова начала горячо объяснять, что девочка в детском садике, что мать следит за ней и так далее, и тому подобное. Борис махнул рукой и прекратил расспросы. Он все еще оглядывал комнату, не увидит ли что-нибудь из детских вещичек. Но не было ни одной игрушки, даже лоскутка — все, конечно, попрятала Яна. Борис разозлился и, не удержавшись, спросил:
— За кого ее выдают?
— Молодуху-то?
— Молодуху.
— За какого-то там директора… Будто бы Ружа все это устроила, кто их разберет… Только бы ребенку хорошо было.
— Пустая затея… Дедушка знает об этом? — громко прокричал Борис.
— Как будто знает. Он на ее стороне.
— Еще бы, — нахмурился Борис. — На ребенка ему наплевать… Тоже мне наставник!
Бабка смотрела на него, разинув рот, — она не поняла его слов, но почувствовала, что внук чем-то огорчен. Она пробовала удержать его, как-то смягчить обиду, но Борис был неумолим. Зажав под мышкой портрет, он осторожно, боясь испачкаться, переступил порог и крикнул бабке:
— До свидания! Я еще зайду! — И, указывая на лужу, посоветовал: — Возьми тряпку да вытри!.. Грязища какая!
— Как говоришь?
— Тряпку, тряпку!
Борис зашагал по дорожке, размахивая свертком, довольный, что удалось все же кое-что выведать у бабушки.
20
Желание увидеть ребенка овладело им настолько, что он почти перестал интересоваться работой на «Балканской звезде» и сумасбродствами Гиты. И работа и Гита отошли теперь на задний план.
Это желание подогревалось не только внезапно вспыхнувшей родительской любовью, вполне понятной и естественной, но и тем, что он натыкался на препятствия. Он не мог встретиться с дочуркой, как ни старался. Придет в детский сад — ее недавно увели, станет разыскивать в городском парке — оказывается, видели, как они с дедом Екимом пересекли аллею и спустились к речке…
Никто ему не сочувствовал, кроме бабки Деши. Все избегали его, посмеивались и шушукались у него за спиной. Это еще сильнее подзадоривало Бориса добиться своего — повидать дочь. «Ребенок мой, и я должен его увидеть, — говорил он. — Девочка должна знать, кто ее отец!»
Наконец Борис решил встретиться с Яной и поставить вопрос ребром, как бы неприятно это ни было.
И вот однажды вечером, захватив подарок для ребенка, он отправился на «Балканскую звезду», чтобы дождаться Яны у выхода с фабрики. Но, считая для себя унизительным вертеться у ворот, он выбрал наблюдательный пункт напротив, возле павильончика, именуемого «забегаловкой», откуда была видна вся фабрика. Заняв удобную позицию, заказал стопку ракии и начал следить за фабричными воротами. Оттуда торопливо выходили рабочие и работницы и шли своим путем, не обращая на него внимания. Борис, стоя, мрачно пил ракию.
Мимо прошли все женщины из ткацкого цеха, но Яны среди них не было. Борис заказал вторую порцию, решив подождать еще. Прошли служащие административного отдела, а после того, как он выпил третью, потянулись возчики. Яны все не было. Зло разбирало Бориса. «Что за безобразие!» — возмущался он про себя и заказал четвертую стопку. В это время на аллее, ведущей к главному входу, показалась неуклюжая фигура Гатю. Его появление и расстроило потерявшего всякую надежду Бориса и обрадовало.
Гатю шел ссутулившись, заткнув кнут за голенище сапога. Похоже было, что и он собрался завернуть в «забегаловку» — не зря же он предусмотрительно спрятал кнут.
Старые знакомцы увидели друг друга издалека. Подивились, что довелось встретиться именно тут, у этого заведения. Гатю поморщился было — не любил он пить «при свидетелях», но раз уж случай свел их, деваться некуда. Со снисходительной усмешкой протягивая руку, Борис крикнул: «Мараба!», как было принято среди возчиков. Гатю ответил тем же и подошел к стойке, придерживая рукой нос, будто опасаясь, как бы он не отвалился. Подняв стаканчик двумя пальцами, он деликатно чокнулся с Борисом.
— Ну, будь здоров!
— Будь здоров!
Борису, уже основательно подвыпившему, Гатю показался вдруг очень странным. Перед ним был словно совсем не тот человек, которого он знал. Он оглядывал его с ног до головы и все ухмылялся, будто видел что-то очень забавное, только не хотел говорить об этом. Гатю, разумеется, был все тот же, в тех же люстриновых штанах и кепке, но давно не бритый и впрямь походил на какое-то неуклюжее косматое животное.
Гатю ограничился тремя стопками ракии, и этого оказалось достаточно, чтоб на носу у него проступили тоненькие фиолетовые жилки. Бориса начали раздражать и нос его, и зубы, показавшиеся похожими на собачьи клыки. В пьяном раже он прикрикивал на него: «Цыц ты!», хохоча прямо в лицо.
Гатю отодвигался в сторонку, намереваясь незаметно скрыться. Но Борис хватал его за рукав и не отпускал. Ему доставляло удовольствие болтать с возчиком и цыкать на него, как на собаку.
— Значит, тебе хочется знать, кого я жду, — в сотый раз повторил Борис, чокаясь с Гатю. — Хочешь разгадать мои секреты? Ладно, я тебе их раскрою!.
Он отпил глоток и вдруг закричал:
— Эй, воры! Кто украл у меня сверток? Мой сверток! У меня был сверток! Кто его украл?
— Ты что, ослеп, что ли? — пробурчал Гатю. — Вот он у тебя перед глазами.
Борис осклабился.
— Извиняюсь… Так кого я жду? Товарища Желеву… Пардон, Манчеву!
И тыча Гатю в грудь пальцем, затрясся от смеха. Гатю пристально смотрел на него. Борис напоминал ему петуха, исклеванного курами, который все еще горделиво пыжится.
— Зачем тебе Яна понадобилась? — спросил Гатю.
Вместо ответа Борис крикнул:
— Цыц! — и замахал на него, будто боясь, что Гатю его укусит. — Не суй морду, куда не просят! Будь здоров!
Гатю чокнулся, но продолжал выпытывать:
— Неужто тут что-нибудь такое… этакое…
— В шаферы напрашиваешься?.. Мой сверток! Эй, кто украл сверток?
Гатю снова подал сверток. Борис уронил его, и из картонной коробочки выпал розовый голыш с румяными щечками. Удивленный возчик нагнулся и поднял куклу двумя пальцами, боясь раздавить ее в своей грубой руке. Голый человечек с улыбкой глядел на них. Гатю и Борис засмеялись.
— Веселая, — заметил буфетчик, наблюдавший эту сцену.
— Не тронь! — крикнул Борис, потянувшись за куклой, которую Гатю хотел было опять спрятать в коробку. — Пускай тут останется и смотрит, как я пью. Пусть учится. Понял?
Он с большим трудом установил куклу перед собой и, чокаясь с ней, коснулся ее розовой головки. Глаза куклы — большие, голубые, с длинными нарисованными ресницами — чарующе смотрели на пьяного человека, бормотавшего что-то бессвязное. «Жила была девочка… Звали ее Валентиной… Где она, эта девочка?»
— Послушай, Гатю, — прочувственно начал Борис, обнимая его за талию. — Яна от меня не уйдет… До рассвета тут проторчу, но дождусь ее… Я должен объясниться с ней… Верно, девочка?.
— Она тут больше не работает, — прервал его Гатю. — Не знаешь нешто? Перешла на «Победу Сентября»! Зря ждешь.
Борис уставился на него пьяным взглядом.
— Ты что, смеешься?
— Ей-богу! Я слышал.
— Слышал!.. Твои уши… Не верю я твоим ушам… Ослиные они… Не слышат… Ничего они не слышат!.. Верно, девочка?
Борис торопливо допил ракию, выложил перед ошарашенным буфетчиком горсть скомканных банкнот и снова обнял Гатю.
— Теперь нам пора идти. Родительский долг выполнен… Я натура немного неустойчивая, но ты мне поможешь.
Гатю взял в одну руку кнут, чтобы опираться на него, другой подхватил Бориса, и они двинулись. Вслед им буфетчик крикнул:
— Эй, товарищи, вы забыли куклу! Куклу забыли!
Оба остановились, с удивлением оглядываясь на павильончик.
— Неси ее сюда! — приказал Борис.
Запыхавшийся буфетчик подал куклу. Борис взял розового голыша за ножку, головой вниз, и пошел с Гатю дальше, размахивая им.
Стемнело. Они тащились по кривым улочкам, шатаясь из стороны в сторону, и вместе с ними металась кукла. Вдруг Гатю спросил:
— Когда же ты к нам придешь, а? Мы ждем тебя с нетерпением.
— Куда это к вам? — проворчал Борис.
— На «Балканскую звезду».
— Ах, там, значит, вы? А где же мы?
Он споткнулся, и кукла мелькнула перед самым его носом.
— Я и не знал, что это вы там. А мы где?
— Ты еще не уладил дело с квартирой? — спросил Гатю, чтобы уклониться от назойливого брюзжанья, но Борис не поддался на хитрость. Держась за Гатю, он продолжал бормотать:
— Значит, у вас есть квартира, а у нас нет! Спасибо, товарищ Беглишки! Спасибо!
— Я не Беглишки, — возразил Гатю.
— А кто же ты? Извиняюсь… Сверток!
Он стал шарить по карманам.
— Где сверток! Кто украл мой сверток?
Гатю нагнулся и поднял куклу. Одна ножка у голыша была вывернута. Гатю сунул его к себе в карман, и они поплелись дальше.
Борис успокоился. Голые куклины ноги торчали из кармана и время от времени шевелились, словно кукле хотелось вылезть наружу.
Долго петляли они по булыжным кривым улочкам и уже не знали, как выбраться из этого лабиринта. Вдруг неожиданно для себя они очутились на небольшой площади, посреди которой стоял милиционер. Гатю оторопело попятился.
— В чем дело? — дернул его за руку Борис. — Говорил я тебе, что Борис Желев не оглядывается назад? Ты литературу читаешь? Читаешь художественную литературу?
— Читаю, читаю, — сказал Гатю. — Не кричи!
— Тогда что же ты испугался народной милиции? Народная милиция управляет движением. Так?
— Так.
— Следовательно, если двое заблудившихся ищут правильный путь, милиция им укажет. Так?
— Так.
— Если у заблудившихся нет дома, милиция пригласит их в свой. Так? Ну и что же? Почему ты робеешь? Вперед и только вперед!
Он потащил Гатю прямо на милиционера.
— Нас надо сориен… ор… Как нам пройти, товарищ милиционер? Домой…
Добродушно улыбаясь, молодой паренек подошел к ним.
— Что вы ищете? Точнее!
— Городские часы, товарищ милиционер, — трезво пояснил Гатю.
— Чтоб сверить наши часы! — сейчас же ввязался Борис, взглянув на свою руку. — Нам нужно сверить часы!
Милиционер указал на возвышавшуюся вдали башню, к которой вела узкая улочка.
— Вон туда идите, — сказал он, — да поскорей! По домам пора.
— Большое вам мерси! — кланяясь, козырнул Борис. И сразу же обрушился на Гатю: — Почему ты завел меня в туман? Кто дал на это право? Придется тебе ответить перед народной милицией, товарищ Беглишки! Понимаешь?
— Не болтай глупостей, — разозлился Гатю и схватил его за шиворот. — Замолчи! Слышишь? Замолчи!
Борис, вывернувшись, посмотрел на него налитыми кровью глазами. Заросший бородой Гатю был страшен. Пот катился у него по лицу. Почувствовав каплю на своей руке, Борис отдернул ее с таким видом, словно это было расплавленное железо.
— Надоело! — промычал Гатю, сильнее стянув ворот Бориса. — Трепло этакое… Ступай! Всю ночь таскаемся по закоулкам… Ступай, говорю!
Борис примолк.
На площади было светлей. В центре ее высилась старая башня с часами, рядом светился огромный глобус. Гатю не рискнул оставить здесь Бориса. Привел его в гостиницу, втолкнул в дверь и силком усадил на лестнице.
— Паршивец… Сумеешь сам подняться?
— Дурак ты, товарищ Беглишки, — промямлил Борис, валясь на ступеньку.
Гатю снова схватил его за шиворот, тряхнул с ожесточением и поволок наверх.
Добравшись до площадки, он сгрузил его там, как мешок с картофелем, и, вытирая пот, стал медленно спускаться. Из кармана у него торчали ножки куклы, которая, казалось, брыкалась, стараясь выбраться на волю. Борис хотел крикнуть, чтобы он взял куклу себе, но из горла вырвался только хрип. «Чуть не задушил меня этот идиот», — подумал он и, охваченный животным страхом при мысли, что его и в самом деле могли задушить, стал взбираться по лестнице, держась за перила.
Насилу дотащился он до своего номера, открыл дверь и не раздеваясь рухнул на постель. Уснул мгновенно и не пошевельнулся до самого утра, когда его разбудил зазвеневший в соседнем номере будильник. Оглядевшись, Борис убедился, что в комнате никого нет. И опять уронил голову на подушку, собираясь еще поспать, но внимание его привлек шелест бумажки, на которой было что-то написано. Хоть и с трудом, он все же разобрал: «Борка, я перенесла чемоданы к госпоже Сокеровой, там мы снимем квартиру, довольно скитаться по гостиницам. Как выспишься, сразу приходи. Ключи у хозяйки, это очень благородная женщина. Я устроилась на работу в трудкоопе, будем плести мартенички. Могу и тебя пристроить. Ждала тебя допоздна. Опять ты наклюкался. Это вредит твоему здоровью. Гита».
Борис снова уткнулся в подушку. В сознании осталось одно-единственное слово «мартенички»; он силился выбросить его из головы, уснуть, и не мог. Это словечко сверлило ему мозг до тех пор, пока совсем не прогнало сон. Борис вытянулся в постели и тупо уставился в потолок. Никак не удавалось ему понять, почему он один и почему у него болит голова.
В это время в коридоре послышались шаги. Кто-то подошел к двери и постучал.
— Кто там? — спросил Борис, приподнявшись на локте. Не ответив на вопрос, в комнату вошел человек в форменной одежде с кожаным портфелем под мышкой. Борис отшатнулся, побледнев, — портфель показался ему слишком внушительным.
— Кто вы такой?
— Курьер с «Балканской звезды».
— Что вы желаете?
— Принес письмо от нашей директорши. Распишитесь в получении. Вот ручка.
Борис отстранил ручку.
— У меня свои принципы.
— Что вы сказали?
— Я не расписываюсь.
— Пожалуйста.
— Нет, нет.
Он вскрыл конверт.
«Приходите с Гитой в ткацкий цех. Можете завтра же приступить к работе. Орлова».
Забыв о своих принципах, Борис выхватил ручку и через весь конверт написал крупными буквами: «Я подумаю. Б. Желев». Бросил письмо на столик, а пустой конверт подал курьеру. Оставшись один, он сказал себе с кривой усмешкой: «Наконец-то удалось поставить их на колени!» Лениво закинув ноги на постель, он решил не вставать, пока не пройдет головная боль и не исчезнет тоска, охватившая его неизвестно почему.
21
В учебной комнате ткацкого цеха, где Яна давала уроки новичкам, висел на дверях приколотый кнопками пожелтевший лист бумаги. На нем было написано: «Смена сновалок без нахождения утка сверху… Смена сновалок без нахождения утка снизу… Смена сновалок с нахождением утка… Заправка сновалок с помощью крючка и заправка сновалок без помощи крючка. Связывание и продевание порванной нити перед щеткой. Связывание порванной нити основы за станком с нитью, предварительно продетой через щетку. К краю катушки…»
Пожелтевший листок бумаги обтрепан по краям. Занятия велись давно, о них не вспоминала, может быть, и сама преподавательница. Учебная комната пустует, в ней нет ни души. На классной доске еще сохранился какой-то чертеж. Мелок переломан пополам. Цифры недописаны. И все же эта комната не приводит в уныние, потому что рядом, за стеной, слышится гул ткацких станков. Не надо горевать и о том, что преподавательницы тут нет. Нужно только снять старое расписание, чтобы не сбивало с толку новых учеников. У каждого преподавателя свой метод.
Обходя цеха, Ружа искала взглядом, не работает ли в эту смену кто-нибудь из ее старых подруг. Увидела только Райну, все остальные уехали на «Победу Сентября». Ружа приветливо улыбнулась высокой худенькой девушке.
— Тебе, Райна, не удалось освободиться?
— Да уж такое мое счастье, Ружка, ты знаешь. Но как кончится смена, сейчас же поеду. Вы меня ждите.
— Подождем. Да захвати аккордеон.
— О, больно ему нужен, Манчеву, мой аккордеон!
— Возьми, возьми! — настойчиво повторила Ружа и пошла дальше — хотелось удостовериться перед отъездом, что все в полном порядке.
Потом вернулась в кабинет и, остановившись перед зеркалом, еще раз внимательно осмотрела себя. На свежем лице не было признаков усталости — ясные глаза светились радостью. Не подкрасить ли губы? Бледные губы на бледном лице — да еще в веснушках! — это всегда огорчало Ружу. Она достала из сумочки помаду и накрасила губы. «Колю не узнает меня», — подумала она и подмигнула себе в зеркало, чувствуя, как у нее поднимается настроение.
По пути она заехала в редакцию, чтоб захватить Колю, но оказалось, что он давно укатил на редакционной машине. Это несколько задело Ружу, и, сев в «победу», она понеслась по шоссе, ведущему в горы.
«Маленькое, скромное торжество» только что открылось. Манчев и Яна сидели в центре праздничного стола. В большой хрустальной вазе стоял букет лесных цветов; среди них было и несколько благоухающих красных роз — любимых цветов жениха. Он и сам был похож на огромный цветок, на распустившийся горный пион, разливающий запах духов. Тщательно выглаженная сорочка сверкала белизной. Галстук был завязан пышным узлом. Черный жилет придавал стройность его фигуре. Крупные руки спокойно лежали на белой скатерти, и лишь иногда, в приливе чувств, он начинал барабанить пальцами по столу, всем сердцем радуясь близости сидящей рядом с ним женщины, избранницы на всю жизнь.
Перед каждым из гостей стоял наполненный вином бокал, но к вину еще никто не прикасался. Ждали директора «Балканской звезды». И уже порядочно истомились. Колю то и дело вскакивал со своего места и бежал посмотреть, не показалась ли со стороны города машина. Руже не впервые опаздывать — сколько раз Колю просто сгорал от нетерпения у входа в театр или кино, — но на сей раз она превзошла себя!
Радио сообщало собравшимся новости дня. Почти никто не слушал его, но вдруг жених привлек всеобщее внимание, постучав вилкой по тарелке. Объявляли результаты матча, на который Манчев не попал: помешала собственная свадьба. Он потемнел лицом, узнав, что армейцы потерпели поражение с результатом один ноль. Мгновенно разгорелись споры о том, почему эта команда проигрывает и долго ли так будет. Кто-то в шутку стал поддразнивать Манчева, и тот, в горячности задев свой бокал, разлил вино. Заалело пятно, невеста смутилась, женщины, ахая, принялись посыпать его солью. Кто-то из мужчин снова наполнил бокал Манчева, уверяя, что это к счастью. Тут как раз появилась Ружа.
— Штрафной ей, штрафной! — закричали со всех сторон, хлопая в ладоши и стуча ногами — выражая тем самым и протест и радость. Ружа попросила извинить ее, поздоровалась со всеми и села на место Колю рядом с женихом. Колю — хочешь не хочешь — пришлось сесть по другую сторону — возле Яны, и торжество началось. Как нельзя более кстати по радио стали передавать марши, будто в угоду Манчеву, который их очень любил. Да, лучше и не придумаешь: марши и вино! Велика важность, в конце концов, что армейцы в кои-то веки проиграли одно очко! Всегда выходили победителями, так будет и впредь! А пока выше голову и… «Ваше здоровье!»
Он поднял бокал, желая чокнуться со всеми.
— Погоди, погоди, товарищ Манчев, — остановила его Савка Рашенова. — Надо соблюдать порядок. Перво-наперво послушаем, что скажет кума, а дальше уж все пойдет своим чередом.
— Правильно, правильно! — одобрили все и потянулись с бокалами к Руже.
Ружа встала, откашлялась и, глядя на Яну и Манчева, сказала:
— Ну, дорогие друзья, наконец-то мы «вас опутали после долгой борьбы и страданий», как сказано в какой-то статье моего супруга… Что ж, здравствуйте и преуспевайте в своей жизни! Я не мастер произносить спичи, но мне хочется поцеловать в лоб товарища Манчева.
— Почему именно в лоб? — посыпались вопросы.
— Потому что он умница.
— Видали ее?..
— И еще хочу поцеловать его в глаза.
— А это почему?
— Потому что он дальновиден, — продолжала Ружа. — Умыкнул у нас лучшую работницу и теперь вызывает на соревнование… — Ружа помолчала и, неожиданно повысив голос, заключила: — Помни, товарищ Манчев, мы с легкой душой отдаем тебе Яну! Но она останется и нашей — ты всегда отпустишь ее к нам, когда попросим. А соревнование мы все равно выиграем!
— Насчет этого еще подумаем, — усмехнулся Манчев, — а ты не забывай о поцелуях!
— Правильно, правильно!
— Я в долгу не останусь, друзья, не поскуплюсь!
— Колю, смотри в оба!
Колю вспыхнул. Впервые он видел жену в таком настроении и опасался, что его ненадолго хватит. Но Ружа оказалась на высоте. Она поставила бокал и, как было обещано, дважды поцеловала Манчева. Это вызвало всеобщее одобрение; зазвенели бокалы, послышались новые тосты. Ружа подошла к Яне и поцеловала ее в полные слез глаза.
— Спасибо тебе, Ружка, за все, — сказала Яна. — Большего мне не нужно.
Они глядели друг на друга и не могли наглядеться. А Манчев с поднятым бокалом уже тянулся к жене, чтобы поцеловать ее, считая, что не вправе пренебрегать этой первейшей своей обязанностью. Гости радостными возгласами приветствовали его решительность. Он покраснел от удовольствия. Веселье продолжало нарастать, как тому и быть должно.
«Маленькое, скромное торжество» происходило в фабричном парке, на окруженной липами поляне, возле горного потока, где остужались бутылки с вином и прочими напитками. Чуть поодаль за отдельным столиком сидели дети.
Тут были Савкины ребятишки, Мартин — сынишка Колю и Ружи, голенастый, в коротких штанишках, Валя в белом платьице, будто не мать, а она была невестой. Среди детей она держалась так серьезно, словно отдавала себе отчет во всем происходящем. Но лишь до тех пор, пока не принесли мороженое. Девочка оживилась и стала шумно распоряжаться, кому сколько дать, стараясь завладеть чашечкой пополней. Яна то и дело подходила, чтобы восстановить мир за детским столиком.
Легко и радостно ей было после всех забот и мучений. Не думала она, что так быстро решится выйти за Манчева. И как странно! Когда-то она сама рвалась к Борису, а теперь Манчев не оставлял ее в покое, пока не добился согласия на брак. Да и почему ей было не согласиться?
Яна рассеянно смотрела вокруг, и все казались ей хорошими, хоть часто и высмеивали друг друга, а порой и ссорились по серьезному поводу или даже без повода. Никто не плакал вместе с ней, когда она плакала и рвала на себе волосы, но ее не оставили одну; никто не сказал ей обидного слова, когда она хныкала и теряла мужество. Они были терпеливы и добры к ней даже после того, как узнали, что она покидает их. Они ее поняли, и это самое важное. Теперь она с чистой совестью может работать на новом месте и жить, как живут другие. Только бы Валя была счастлива!
Яна все поглядывала на дочурку, и сердце у нее обливалось кровью, когда она замечала, как та, ударяя кулачком по столу, пыталась всеми командовать. «Вылитый отец — всегда должна быть первой!» Старая, затаенная боль вновь всплывала, как тень прошлого. И она задумывалась, устремив взор на бокал с вином.
Картины этого прошлого проносились перед ней, подобно молниям уже отшумевшей бури, которая опустошила ее молодость. Ей некого было винить. Она сама избрала Бориса, сама, как слепая, пошла за ним следом; три года она плакала и вздыхала, словно никого достойнее его не было на свете. И если бы ей насильно не раскрыли глаза, она бы так и продолжала ощупью идти к верной своей гибели в бездне полного отчаяния. Будто кто-то мечом рассек стену ее добровольного отшельничества; в темницу хлынули потоки света, и она увидела, что вне магического круга красивого деспота есть другая жизнь, и совсем не такая унылая, какой она представлялась ей в больном воображении. Теперь ясно, что она могла свободно и радостно жить в обществе людей, от которых сама отрекалась из страха быть ими непонятой. Как жаль, что она раньше не освободилась от оков слепой, рабской привязанности к этому человеку! Сейчас она как бы вновь рождается на свет. И если есть о чем пожалеть, так не о Борисе, а о бесполезно потерянном времени, о чувствах, растраченных на вздохи по нем; собранные воедино, они оказались бы сильнее всех ветров на свете.
Как красиво, как спокойно у подножия этого лесистого холма, в зеленом объятии гор! Разбуженные незримыми флейтами лесного ветерка, трепетали тени. Солнечные лучи играли среди деревьев, словно белые зайчата, над которыми простирали ветви развесистые орешники и старые липы. В успокаивающей тишине, радуя взгляд, зеленели травы и кустарники, венчавшие полукружием скромную товарищескую трапезу. Люди будто условились с природой, чтоб все в этот день было по особому красиво и весело. Низко, над самым столом, стрелой проносились ласточки к своим старым гнездам, прилепленным одно к другому под карнизами фабричных корпусов. В вышине мелькали и плескались в потоках солнца дикие голуби и горлинки. Не боясь людей, беспечно прыгали серые воробышки и клевали упавшие со стола крошки.
Яна задумчиво молчала, физически ощущая, какая благодать вливается ей в сердце от окружающего. И вместе с грустью и сожалением душой ее овладевало, казалось, навсегда чувство уверенности и безграничного спокойствия! Ей и в самом деле не о чем было сожалеть и печалиться.
— Вот что, молодка, выпей-ка на здоровье, — предложил вдруг Манчев. — Выбрось заботы из головы. Делам нашим конца нет.
Он поднес бокал к ее губам и долго влюбленно смотрел ей в глаза, словно желая рассеять тень, упавшую на них неизвестно откуда.
— Да закуси хорошенько, — настаивал он. — Скоро ведь в дорогу! Все приготовила для Вали? Смотри, как бы не забыть чего. И летние и теплые вещички возьмем с собой — на море порой бывает прохладно. А я приготовил ей сюрприз.
— Какой?
— Ты ей пока не говори, — понизил он голос, наклоняясь к уху Яны. — Купил резиновую лодку. Если ее надуть, настоящий матрац получается. Ляжет на него и будет плавать. Ты довольна?
Яна улыбнулась.
— Зря ты это.
— По секрету сказать, лодка и мне пригодится, я ведь тоже не умею плавать. Ха-ха-ха!
Дети вскочили, привлеченные раскатистым смехом. Кто-то из взрослых спросил:
— Что случилось, Манчев?
— Это наше дело, — смущенно ответил он, — с женой вот обсуждаем.
Торжество сильно затянулось. Только под вечер гости начали расходиться, чтобы дать возможность молодому семейству собраться в дорогу. Было решено провести летний отдых в Варне, так как Манчев, души не чаявший в жене, считал, что море скорее всего поможет ей набраться сил.
Ружа и Колю, как самые близкие друзья, решили проводить их до станции. В назначенный час машины двинулись, напутствуемые приветствиями. Старик сторож вылил на дорогу ведро воды, чтоб отъезжающих всюду ждали радость и счастье, и долго махал вслед своей новой фуражкой.
Перед посадкой в вагон провожающие наперебой обнимали и целовали их, осыпая добрыми пожеланиями. Не удивительно, что молодая совсем расчувствовалась.
Стоявшие у открытого окна Яна с дочкой буквально тонули в цветах, а Манчев распростерся над ними, словно орел, и только раскланивался.
Ружа и Колю от души радовались за них, но радость их мгновенно улетучилась, как только они вернулись домой. Праздничного настроения как не бывало: на лестнице у входа в квартиру их ждал Борис Желев. Он прямо-таки устал, нажимая на кнопку звонка, и все же не хотел поверить, что дома никого нет.
Увидев возвращающихся хозяев, он еще издали хмуро приветствовал их:
— Где же вас носит, народы? Куда это годится?
Затем, обращаясь уже непосредственно к Руже, добавил:
— Прислала письмо, а самой дома нет! Могла бы и не писать, верно? Я не просил тебя! Сама надумала!
Ружа отперла дверь и сдержанно сказала:
— Входи! Незачем нам препираться, еще не переступив порога! Пожалуйста!
И провела его в гостиную.
22
Борис сел в кресло, осмотрелся, отметил, что в комнате очень просторно, и лишь после этого приступил к делу, ради которого пришел.
Ружа и Колю терпеливо слушали его, а маленький Мартин тянулся к блестящим застежкам-молниям и спрашивал, можно ли их потрогать. Это раздражало Бориса, и он удивлялся про себя, почему родители не уймут ребенка.
Борис пришел уточнить дату своего поступления на «Балканскую звезду». По тому, как он говорил и держался, можно было подумать, что день возвращения на фабрику он намерен объявить великим праздником или началом летосчисления. Колю пытался умерить его пыл, советуя согласиться на те условия, какие ему предлагают, но Борис пренебрегал наставлениями журналиста, не считая нужным вступать с ним в пререкания. Он недолюбливал интеллигенцию, в особенности журналистов. Когда, бывало, Колю писал о кем восторженные статьи, Борис одобрял это (в какой-то мере), но стоило ему заметить критические замечания в свой адрес, сразу отмежевывался от «паршивой интеллигенции, которая всегда отличалась шатанием». Он выработал себе правило: подальше от журналистов, если хочешь жить спокойно.
В этот вечер Колю участливо отнесся к Борису. Давал ему советы, упрекал себя и Ружу и весь коллектив «Балканской звезды» в бездушии, позволял себе критиковать и Городской комитет партии. Борису это было по душе. Журналист подкупал его своей смелостью. Но лишь только Колю коснулся поведения Бориса, чтоб выяснить некоторые обстоятельства, относящиеся к судьбе Яны и их ребенка, Борис тотчас «разочаровался» в нем — он лишний раз убедился в неисправимости интеллигенции. Но разговор, хотя и неприятный для обеих сторон, продолжался.
Все вертелось вокруг вопроса, будет ли Борис снова руководить бригадой или нет. Пытались также уточнить взаимоотношения его теперешней жены Гиты с Яной. По мнению Бориса, женщины не должны были работать в одном цеху. Что же касается его самого, то он ни за какие блага не согласится быть в подчинении у Яны.
Из этого стало ясно, что Борис еще не знает об изменениях в жизни Яны. И его злобствования теперь казались особенно бессмысленными.
Ружа и Колю, как бы по уговору, решили не сообщать ему о последних событиях. Пусть лучше от других узнает, что его бывшая жена вышла замуж за Манчева, а ее место на «Балканской звезде» заняла Савка Рашенова. Борис, вероятно, забыл ее, как многих других, — о тех, которые в его время были людьми «мелкими», незаметными, он и не собирался помнить… Так зачем его беспокоить, заставляя напрягать память?
Ружа принесла кофе, и разговор пошел более спокойно. Борис очень любил кофе и для полного удовольствия попросил разрешения закурить. Кофе и сигареты были его слабостью. Получив согласие гостеприимных хозяев, он достал из кармана куртки портсигар-камертон.
— В Европе жить не могут без кофе, — объявил он, отпив из своей чашки и затянувшись табачным дымом. — Когда я был в Венгрии, мне всегда подавали кофе… Вообще Венгрия насквозь пропахла кофе.
— У них кофе несколько другой, — заметил Колю, — но и наш неплох.
— Ну, нет, — возразил Борис, — наш кофе ни в какое сравнение с тем идти не может.
Он начал доказывать превосходство венгерского кофе, подробно описывая способ его приготовления. Хозяева тут же отступили — за границей они не бывали.
Борис неудержимо понесся на волнах блаженного самодовольства. Он полулежал в кресле, закинув ногу на ногу, будто расположился тут надолго. Над его головой клубились облака дыма. Снисходительно поглядывая на хозяев, скромно сидевших напротив, Борис время от времени кивал головой, давая понять, что слушает, как ни досадны ему подчас их замечания. В этом собеседовании, по его мнению, в гораздо большей степени нуждались хозяева, нежели гость, и потому он впадал в назидательный тон. А так как высокомерие и властолюбие не обходятся без дерзости, он позволял себе давать им советы, поругивая за житейскую неопытность.
Время шло, а гость и не думал уходить. Колю уложил сына спать в соседней комнате, вернулся, а Борис все еще сидел, по-барски развалясь в кресле, наставлял Ружу, в каких крепких шорах она должна держать фабричный персонал, чтобы пользоваться авторитетом. Ружа устало поддакивала, готовая выслушать все его поучения, лишь бы не вступать с ним в спор.
Но споры были еще впереди, и причиной тому послужила неосмотрительность Колю. Казалось бы, без всякой связи он завел разговор о больших переменах, происшедших в стране после XX съезда КПСС и Апрельского пленума КПБ. Борис будто только того и ждал. Поудобней усевшись в кресле, он принялся излагать свою точку зрения. Из его пространных рассуждений следовало, что ни о каких переменах не может быть и речи до тех пор, пока он, Борис Желев, не будет реабилитирован и восстановлен о правах, которых его лишили.
Колю строил доказательства теоретически. Чтоб не ударить лицом в грязь, Борис тоже стал подкреплять свои доводы цитатами из газет. Это вывело Ружу из терпения.
— Борка, — начала она сдержанно, пытаясь придать разговору дружеский характер, — я хочу быть с тобой откровенной. И ты не обижайся, пожалуйста.
— Ну ладно, говори, — отозвался Борис с моткой удивления в голосе, впиваясь в нее настороженным взглядом.
— Очень тебя прошу, постарайся правильно понять то, что я тебе скажу.
— Говори, послушаем, — повторил Борис.
— Прежде всего, — строго сказала Ружа, — не ставь, ради бога, себя в центре вселенной.
— Дальше!
— Во-вторых, перестань видеть на каждом шагу одних только врагов и подкопы. Никто из нас не считает своей задачей преследовать и губить тебя. Ты знаешь, кто мы такие и с чего начали. Напомнить тебе?
— Прошу.
— Как тебе не совестно считать своим врагом дедушку Екима, самого близкого тебе человека, можно сказать, отца родного, который во всем себя урезывал, лишь бы тебе было хорошо… Можешь ли ты считать своим врагом Чолакова, человека, который сделал все, рискуя своей партийной честью, чтобы прославить тебя! В-третьих, как можешь ты видеть врага во мне, забыв, что я горой стояла за тебя и за Гиту даже тогда, когда все от вас отвернулись… Да и сейчас ломаю голову над тем, как вас скорее выручить, чтоб вы зажили мирно и хорошо. Смеешь ли ты подозревать врагов в Савке, Райне, Иванке и других членах нашей бригады, включая и Яну, которая пострадала из-за твоей вздорности?
— Прошу, прошу.
— Незачем меня просить, Борка, я говорю с тобой как коммунистка и не собираюсь делать тебе комплименты. В конце концов, я отвечу за свои слова, если ошибаюсь. А если права, ты должен призадуматься и сделать серьезные выводы.
— Говори, говори.
Обхватив руками колено, он всем корпусом подался вперед, показывая, что готов слушать ее, даже когда она несправедлива к нему, и продолжал снисходительно кивать головой, устало закрывая глаза.
— Я все сказала, — несколько обиженно отозвалась Ружа. — Довольно слов, пора браться за дело. Как это ни трудно было, мы единодушно решили, что ты должен вернуться к нам.
— Почему трудно?
— Потому что тебя не ждет свободное место, которое ты мог бы занять, когда пожелаешь. У нас, как и всюду, штат укомплектован. Твое счастье, что путем некоторых перемещений удалось освободить два места… Так что никто против тебя не возражал. Мы даже рады, что ты снова включишься в наш коллектив. Все рады.
— Совершенно верно, — подтвердил Колю. — Вопрос о твоем возвращении стал достоянием общественности всего города.
— Вот как? — Борис вспыхнул от удовольствия, услышав об «общественности всего города».
— Сейчас перед нами стоят необычайно важные задачи, — продолжала Ружа. — Двадцатый съезд и Апрельский пленум произвели настоящую революцию в методах работы и в образе нашей жизни. Это не пустые слова. Слушай, что я тебе скажу, и верь мне. Возьмем нашу фабрику или, например, «Победу Сентября». Как мы поступали прежде? В большинстве случаев давали красивые обещания, а о результатах мало заботились. Почему? Потому, что нас интересовала показная сторона дела. Мы, если можно так выразиться, подходили ко всему формально и выше всего ставили красивые резолюции, громкие обещания, трескучие речи. Облекали все, так сказать, в парадную мантию и успокаивались. Не могу забыть, как мы вызвали однажды на соревнование в честь Первого мая все текстильные предприятия страны, не утруждая себя оценкой наших собственных возможностей. Так просто, для формы, чтоб о нас написали в газетах, чтоб поднять энтузиазм других… Чей энтузиазм и кому он нужен, такой энтузиазм? Нам было на это наплевать. Так, ради формы…
— Пока что я с тобой согласен, — прервал ее Борис. — Послушаем, что дальше скажешь!
— Ты заранее согласен со всем, что не касается лично тебя, я знаю. Но с тем, что я сейчас скажу, ты наверняка не согласишься.
— Увидим.
— Двадцатый съезд поставил на всем этом точку. Теперь положение изменилось… Поясню. Пришел Борис Желев строить социализм. Прекрасно! Что может быть лучше! Никто ему мешать не станет! Но как он пришел? В своем старом, обветшалом одеянии. Я часто об этом думаю… Был такой период в истории, когда люди одевались в камзолы, носили белые парики, напудренные и завитые, узкие панталоны, белые чулки и чуть ли не дамские туфли на высоких каблуках… Людовик Четырнадцатый, если помнишь… Король Солнце… Вот что мне приходит на ум, когда я смотрю на тебя сейчас, три года спустя после того, как мы расстались… Прости за сравнение! Но, дорогой Борис, мы с тобой знакомы давно, немало испытали за это время, и не к лицу нам делать глупости! Перед кем ты решил фасонить? Кому собрался пускать пыль в глаза? Извини, дорогой, но и мы кое-чему научились. Мы уже не те, какими были когда-то, — и Яна не та, и Савка, и Райна…
— Верно, — кивнул Борис. — Дальше?
— Буду с тобой откровенна до конца, Борис. Ты ошибаешься, если считаешь, что я о тебе не беспокоилась. И не я одна, все мы задавали себе вопрос, как могло случиться, что наш друг, наш товарищ Борис Желев выпал из коллектива? Чем он заболел? Или это мы больны, раз не можем его понять? И клянусь, Борис, всякий раз я приходила к выводу, что вина скорее в нас самих. Я больше себя винила, чем тебя.
Она умолкла, будто собираясь с мыслями, затем снова заговорила, откинувшись на спинку стула:
— Сказать по правде, я рада, что разговор начался сегодня, здесь… Такой вопрос трудно решать на собраниях, потому что дело не в речах и не только в критике и самокритике. Вопрос ставится гораздо глубже: мы должны смело вскрыть все, что напластовалось за это время в наших сердцах. Об этом можно, конечно, толковать и на общем собрании, но мы еще не доросли до такого рода критики и самокритики. Слишком въелся в нас мещанский индивидуализм. Пусть не на собрании, неважно. Уже неплохо, если мы откровенно поговорим с глазу на глаз и чистосердечно признаемся в своих слабостях. Так по крайней мере легче.
Она перевела дыхание, пристально посмотрела на Бориса и заговорила опять:
— Такой откровенный разговор должен был состояться раньше… Из этого, быть может, не получилось бы никакой пользы, но нам необходимо было поговорить открыто обо всем, выяснить, что нас угнетало, о чем мы думали.
— И с этим я согласен, — отозвался Борис.
— Не перебивай меня, пожалуйста. Я буду очень рада, если мы придем к согласию по всем вопросам и поймем друг друга, как старые друзья.
— Естественно!
— Да, естественно!.. Я часто старалась понять своим простым умом вот какую вещь… Почему мы мерим новое на старый аршин? Вот ты, например, носил высокое звание ударника и гордился им… Да и как не гордиться! Такое звание дается нелегко… Вернее, его нелегко заслужить. Ударник производит больше тканей, больше стали, больше угля и электричества… Но только ли это требуется от ударника? Разве он не в первых рядах тех, кто идет к коммунизму? Я так себе представляю: ударники — это командиры небольших отрядов, прокладывающих путь вперед. Верно я говорю, Колю?
Колю улыбнулся.
— Теперь я спрашиваю, — продолжала Ружа, — может ли такой вот ударник, командир отряда будущего, носить средневековую мантию, белый парик и дамские туфли? И второе — из кого должен состоять его отряд, который он поведет к коммунизму?
Борис посмотрел на нее с удивлением.
— Прошу тебя, слушай внимательно, — сказала она. — Мы подошли к самому главному.
— Так и быть!
— Кто составляет твой отряд, с которым ты шагаешь к вершинам коммунизма, как любит выражаться один журналист? Ну-ка, начнем по порядку!
Она стала перечислять, загибая пальцы:
— Аспарух Беглишки — чиновник… Виктория Беглишки падает в обморок при упоминании о коммунистах… Хаджи Ставри — старый ростовщик, владевший целым кварталом паршивых домишек, в которых ютилась беднота… Гатю Цементная Голова — дебошир и слуга братьев Гавазовых; на людей страх нападает, когда его увидят… Филипп Славков — плут и хулиган…
— Небольшая поправочка… Можно?.. — спросил Борис. Прижатый к стене, он побледнел.
— Давай.
— У меня никогда не было ничего общего с Филиппом Славковым.
— Не возражаю, — усмехнулась Ружа. — Филиппа выбрасываем из коллекции. Надо ли продолжать?
— Нет нужды, — сказал Колю. — Хватит с него и этих.
Борис стиснул зубы, чтоб не крикнуть.
— Нет, добавлю еще одного — бывшего юрисконсульта господина Милана Сокерова. Мы о нем вспоминаем очень редко, зато он не оставляет нас своим вниманием. А теперь вот даже квартиру предоставил твоему бездомному семейству.
— Раз никто другой не предоставил! — ехидно заметил Борис.
— Увы, ты прав… Прав, конечно!
— А Гита, почему ты пропустила Гиту в своем списке? — воскликнул Борис. — Ее следовало бы поставить на первое место.
— Гита не из твоего окружения, — возразила Ружа. — Она жертва, как и ты. А потому сейчас речь не о ней. Насчет Гиты у меня особое мнение… Почему я должна ставить ее в один ряд с этими негодяями?.. Колю, принеси-ка конфет. Там в шкафу есть коробочка.
Пока Колю ходил за конфетами, Ружа примирительно сказала:
— Ты меня извини, что я так разошлась… Но раз уж я начала, хочу выговориться до конца. Давай, Колю, конфеты. Пожалуйста, Борис!
Борис отказался. Подсластить решили такую беспощадную проработку!
Все замолчали. Слышно было только, как Ружа и Колю шелестели станиолевыми бумажками.
— Знаешь, — с оскорбленным видом заговорил Борис, — насчет Аспаруха Беглишки я с тобой не согласен… Остальные, кого ты тут назвала, те, возможно, действительно подлецы и мошенники, но Аспаруха нельзя отнести к их числу… Этому человеку я многим обязан… Хорошо его знаю и могу ручаться за его честность и лояльность. Он лоялен.
— Как это понять — лоялен? — удивилась Ружа.
— А очень просто: человек, который идет с нами, только своей дорогой. Немного особняком, чудит малость. Но в общем и целом честен!.. За других ручаться не могу, но за него — да. Вот все, что я хотел сказать. А теперь можешь продолжать свою обвинительную речь.
— Я не произношу обвинительных речей, Борис! И очень плохо, что ты так понял!
— Извини меня.
— Вдумайся хорошенько. Я не хочу навязывать тебе свое мнение.
Ружа устала от этого нескончаемого разговора. Колю нервно постукивал пальцами по подлокотнику кресла, досадуя, что ему не дали возможности высказаться. Но Ружа изнемогала от утомления, Колю видел это и знал, что ему не простят, если он возобновит разговор. К тому же городские часы уже пробили полночь.
— Извините, что я так засиделся, — сказал Борис, вставая. — Это, конечно, не последний наш разговор. Извините меня!
— Нечего извиняться, Борка! — успокоила его Ружа. — Такой разговор должен был состояться давно.
— Лучше поздно, чем никогда, — глубокомысленно заключил Борис и направился к двери. — Я и сам часто думал об этом… Во всяком случае, ты заходишь слишком далеко в своих суждениях! Так не годится! Мнительность приводит к дурным последствиям. Верно? Поразмысли над этим! Возьми себе на заметку!
Он застегнул куртку с видом человека, которого несправедливо обвиняют.
— А насчет мнительности тебе стоит призадуматься! — напомнил он Руже, подавая руку на прощанье. — Мнительность весьма серьезный порок, особенно если он присущ руководящему лицу. До свиданья.
— До свиданья, Борка.
Он махнул рукой, как старый генерал, которому надоели почести и парадность, и стал спускаться с лестницы, опираясь на перила.
23
Он шел не спеша, тяжело ступая, не только потому, что хотел поважничать перед хозяевами, которые, кстати, сразу же закрыли за ним дверь, но и потому, что в самом деле устал и был подавлен этим долгим и неприятным разговором. Обида разбирала Бориса, будто его отшлепали, как маленького, и выставили на улицу. Так и подмывало вернуться и бросить им прямо в лицо, что все их разговоры не стоят выеденного яйца.
Город давно утих. До Сокеровых было не близко, но Борис решил пойти по набережной, чтоб заглянуть в новый ресторан. Хоть кружку пива выпить, прежде чем отправиться спать.
Вокруг царила тишина. Домишки, слабо освещенные уличными фонарями, тонули во тьме. Все спали, отдыхая после трудового дня. Только он один, давно оторванный от этих людей труда, тащился среди полного безлюдья.
Он пытался собраться с мыслями, проанализировать их, но из этого ничего не выходило. Обрывочные мысли сталкивались в голове и вместо успокоения только усугубляли тревогу. Многое было сказано Ружей предумышленно. Он и не думал соглашаться с ее бреднями относительно всяких там мантий и париков, все это она пустила в ход, чтоб казаться оригинальной… Да и насчет отрядов, окружения. Тоже для красного словца.
Он медленно шагал вдоль улицы и все больше злился на себя за то, что молчал, как провинившийся школьник перед учителем.
Вздор все! И на Беглишки она клевещет! А эти намеки, касающиеся Сокерова… Кто он такой, Сокеров? Да, да, его теперешний хозяин! Гита замечательно поступила!.. Заботится о пристанище для своего бездомного мужа! Она не оставит его на улице… Добрая, внимательная жена!
Он ухватился за эту мысль — стал думать о Гите, но не получил успокоения, как надеялся, а еще сильнее разволновался.
Не дойдя до моста, за которым находился ресторан, Борис присел на скамью — передохнуть после долгого пути. Гак приятно было слушать шум реки в ночной тишине, наслаждаться прохладой, которую приносили горные потоки. Не было никакого желания спешить домой после столь неприятного разговора. Гита, казалось Борису, сразу обо всем догадается, увидит по лицу — на нем все отражается как в зеркале. Лучше немного остыть, отдохнуть и уже с новыми силами идти дальше.
Он откинулся на спинку, устало провожая взглядом быстрые струи, бегущие среди камней и отражающие свет фонаря на набережной. Монотонный шум реки, прохлада и ощущение непрестанной изменчивости окружающего мира — все действовало на него умиротворяюще. И он стал постепенно успокаиваться, незаметно возвращаясь в свой мир, единственно существующий для него мир.
Высокий тополь рядом со скамейкой загораживал ее от света фонаря. Позади сплошной стеной тянулись кусты.
Виден был только мост. Оставаясь незамеченным, Борис мог хорошо видеть каждого, кто там проходил.
Посидев минут десять, он собрался было уйти, но тут услышал чей-то говор и решил подождать. Посередине моста шли трое. Борис отодвинулся в тень и притаился, чтобы не обнаружить себя. В одном из мужчин — в белом костюме — он узнал Аспаруха Беглишки, в другом — Гатю, третий был незнаком. Борис даже вздрогнул, увидев компанию, но через мгновенье пришел в себя — зачем ему прятаться от людей?
Незнакомый чуть прихрамывал и опирался на палку. Борис силился вспомнить, где он его видел, и никак не мог. Это еще больше разожгло его любопытство. Он встал и двинулся к мосту. Мужчины уже поднимались друг за другом по крутой аллее, ведущей к вилле Виктории. Как видно, будут там ночевать. Но Гатю при чем здесь? Его-то зачем потащили?
Борис громко позвал:
— Аспарух!.. Беглишки!..
Все трое разом остановились и обернулись в его сторону.
— Аспарух… Ты что, не видишь меня? Это же я, я… Борис!
Никто ему не ответил. Борис поспешил к ним, но Аспарух и Гатю быстро скрылись за поворотом аллеи, а незнакомец, махнув палкой, сказал:
— Вы ошиблись, товарищ! Обознались!
Борис долго стоял посреди дороги, не в силах понять, действительно ли он ошибся или ему морочат голову. Он даже подосадовал на себя, что поторопился окликнуть их.
Может, он и впрямь обознался?
Все-таки это были Аспарух и Гатю! Наверняка! Только почему они убежали? Почему не отозвались?
Борис был явно взволнован. Он торопливо перешел мост, пересек новый парк и еще издали увидел, что ресторан закрыт. Это сильно огорчило его — так хотелось выпить пива и совсем не хотелось идти к Сокеровым. Среди всех знакомых Сокеровы были ему едва ли не самыми чужими и самыми неприятными.
Хозяева еще не спали. Бориса встретила госпожа Сокерова, кокетливо одетая, не терявшая, как видно, надежды казаться соблазнительной. Борис не обратил на неё внимания. Пробормотав «добрый вечер», он поспешил в комнату, указанную ему любезной хозяйкой.
Сквозь стеклянную дверь он увидел в гостиной двух мужчин, кейфовавших за низеньким круглым столиком. Борис сразу узнал Сокерова, своего хозяина, хотя не виделся с ним давно; второго, сидевшего спиной, не мог узнать. Борис кивнул, здороваясь с Сокеровым; в этот момент гость обернулся, и Борис встретился взглядом с Филиппом Славковым. Так неприятна была эта неожиданная встреча, что Бориса бросило в дрожь. «Где же Гита? — подумал он. — Привела любовника в квартиру, веселенькая история!» И ревность огненной волной снова хлынула ему в голову, затуманила сознание, лишила рассудка.
Он быстро вошел в комнату, зажег свет и отыскал взглядом Гиту. Полураздетая, она лежала на постели с недовольным видом — ждала его.
— Это настоящее безобразие с твоей стороны, Борка! — накинулась она с упреками. — Как ты можешь так запаздывать? Оставляешь меня одну на целый вечер!
— Ладно, ладно, — оборвал ее Борис. — Нечего притворяться! Что делает этот кот в гостиной?
— Какой кот?
— Не прикидывайся дурочкой.
— Борка! — негодующе воскликнула Гита. — Ты продолжаешь нахальничать!.. Забыл, что у Мими день рожденья? Госпожа Сокерова обиделась всерьез!
— Ничей день рожденья меня не интересует… Кто тут был?
— Все были… Полно народу… Подтрунивали насчет того, что я одна, а мне и вправду было очень горько!
Борис искоса взглянул на нее.
— Бедняжка! Одна-одинешенька.
Затем подошел к окну и спросил, стоя к ней спиной:
— Кто был еще? Беглишки, Гатю?.. Эти тоже были?
— Только что ушли.
— А еще? Был еще кто-нибудь?
— Всякие… Незнакомые… Господин Мантажиев из Софии. Специально по случаю дня рожденья Мими приехал… С большим уважением относится к хозяину, да и сам такой обходительный, добрый… Не зря с ним носятся!
— Кто он такой, этот Мантажиев?
— Он пел «Милая родина», советские песни и какие-то арии…
Борис промолчал.
— Мы играли в «шутки амура», в разные другие игры, — рассказывала Гита. — А тебя все нет и нет… Мне было так неудобно… Может, у тебя опять какой-нибудь флирт?.. Все мне твердят, что ты человек опасный.
Борис уже не слушал, что она говорила. «Почему они убежали? Почему не отозвались? Считают ниже своего достоинства разговаривать со мной? Что я теперь для них?» До него долетел голос Гиты:
— Ложись, а то мне рано на работу.
— И мне на работу, — ответил он и начал раздеваться, не сводя глаз с темного открытого окна, обращенного в сторону притихшего города.
24
В эту ночь вопреки уверениям Мантажиева, что ничего плохого не случилось, Аспарух Беглишки не мог уснуть. Нечистая совесть подсказывала, что его ждет куча неприятностей, если он вовремя не примет мер.
Сколь ни удобной казалась сейчас политическая обстановка, предвещавшая счастливое развитие событий, все же страховой агент не в меру прыток со своими листовками, да еще составленными на плохом болгарском языке. «Братья болгары, скоро мы скажем друг другу Христос воскресе! Дерзайте!» Разве могло прийти что-нибудь поумнее в голову бывшему царскому офицеру? «Дерзайте!» Не хватало еще, чтоб он спел «Бдинци, львы-титаны!» и напялил себе на голову лавровый венок! Чепуха! Пустая болтовня! «Сколько говорил я этому идиоту, когда он тут появлялся, чтоб не приставал ко мне со своими дурацкими листовками! Как не может понять — только зря выдаем себя».
Несмотря на то что окно было распахнуто настежь, в мансардной комнатушке было душно. Обычно к концу августа жара спадала, но нынешнему засушливому и бесплодному лету, казалось, не будет конца. Большую часть времени Аспарух проводил внизу в приятной болтовне с Вики, потягивая ледяной сироп; наведывался и к Сокеровым, где его угощали розовым вареньем и сиропом с кусочками льда, который он любил помешивать в стакане серебряной ложечкой, забавляясь, как ребенок. Да, все относились к нему с уважением, старались предупреждать его желания и не выводить из себя, зная, на что он способен в гневе. Только Мантажиев, этот легкомысленный повеса, не считался с его характером. Вот уже несколько лет подряд, точнее сказать, с тех пор, как Аспарух поселился в этом городе, не было случая, чтобы страховой агент, навестив его при очередной служебной поездке в эти края, не развертывал перед ним картины предстоящих переворотов и политических катастроф. А в последнее время начал надоедать ему с листовками, уговаривая сочинять их вместе, так как у Аспаруха-де «острое перо». Но и листовки, и болтовню, и песни, которые пел Мантажиев (ему внушили, что у него замечательный баритон), — все это Аспарух был способен переносить, не насилуя себя, — певческая мания даже забавляла его, — если бы не страх перед тюрьмой, не боязнь того, что в один прекрасный день протянется чья-то рука и схватит его за шиворот. Страх, это изобретение палачей, исчадие нечистой совести, внезапно появляющееся в преддверии славы, это зачатие подлости и предательства, порождающее безумие и месть, — страх, одинаковый во все времена, сейчас сковывал волю Беглишки и целую ночь не давал ему покоя. Аспарух вертелся в постели и поглядывал на кушетку, где безмятежно спал Мантажиев.
Аспарух ценил Мантажиева, они были старые друзья, хотя страховой агент был несколькими годами моложе. Аспаруха восхищал фанатизм Мантажиева, жаждавшего гибели коммунистов. Аспарух одобрял его бредовые идеи. Мантажиев рисовал знаки свастики на дверях и почтовых ящиках в тех домах, куда приходил с предложением застраховать жизнь и имущество, — Аспарух поощрял его в этом. Мантажиев настоятельно советовал проникать в государственные и кооперативные предприятия, чтобы разрушать их изнутри, — Аспарух и тут поддерживал дружка. Увлекали его и «пасхальные митинги», на которых неугомонный Мантажиев неизменно появлялся со свечой и красным яичком в руках. Аспарух был однажды на таком митинге в Софии, видел, как богомольцы обходили вокруг храма с зажженными свечами в обступавшем их со всех сторон таинственном полумраке и обменивались красными яичками. Тогда Аспарух многое узнал, в том числе и новость, что «наследник», совершая поездку по Греции, интересовался Болгарией. Что же его интересовало? В глазах богомольцев — бывших офицеров, фабрикантов и их прислужников — отражалось пламя свечей, как не угасшие еще надежды. Одни плакали от радости, другие пожимали друг другу руки и целовались, затаив тоску изголодавшихся волков. Какое множество свечей! Словно безвременники расцвели на площади. Горят тускло, а поглядеть на них сверху — будто золото плавится. Из сердца сами собой рвутся рыдания. На такой вот пасхальной заутрене побывал Аспарух. И весь год потом Мантажиев напоминал ему про этот «парад зажженных свечей» и настоятельно советовал устроить нечто подобное в провинции. «Боже упаси!» — содрогнулся Аспарух. Как это он соберет возле церкви ткачей и ткачих, токарей и кузнецов, кожевников и сапожников? Целый завод у церкви, а он, Аспарух Беглишки, выступает впереди всех с зажженной свечой в руке… «Да ты с ума сошел, Мантажиев, — сказал Аспарух, — совсем не знаешь провинции. Легко вам там в Софии. Соберетесь возле «Александра Невского» с бору по сосенке, пройдете по улице и рассыплетесь в темноте — я не я, и лошадь не моя… Нет, приятель, тут тебе не София! Извини, на такой риск я не пойду!» Мантажиев согласился с ним, но от затеи с листовками не отказался: он сам будет сочинять их при условии, что распространять в провинции станет кто-то другой. Вообразил себя хитрее Аспаруха! Против этого-то и восставал Аспарух, когда на глаза ему показывался старый приятель, приезжавший из Софии с неизменной сумкой страхового агента и кучей новостей, верных и неверных.
На этот раз все могло пройти спокойно, без осложнений. Что особенного — собрались у Сокеровых, отметили день рожденья Мими, попели, потанцевали, поиграли смеха ради в «шутки амура», и все кончилось благопристойно. Та дуреха пробовала заарканить и Мантажиева. Два-три танца он протанцевал с нею — ничего, что хромой… Глазам своим не поверили люди — танцует, будто нога у него совсем здоровая! Затем в мужской компании потолковали об обстановке — тихонько, чтоб не слышали женщины, и разошлись. Хорошо провели вечер, с пользой. Мантажиев сообщил кое-какие ободряющие новости, например о расколе в партии и о новой коммунистической радиостанций… И о событиях в Польше, в Венгрии, в Восточной Германии… Даже Китая коснулся. Как бы ни преувеличивал Мантажиев, всегда склонный присочинить, доля правды тут есть. А опыт подсказывает, что от раскола идет начало конца.
Но зачем спешить? К чему эти листовки?
Аспарух встал и в кальсонах начал расхаживать от окна к двери. Беспокоило его не только то, что сочинялись разные там листовки. Пускай себе Мантажиев сочиняет, пусть даже поет «Милая родина», дерет горло, сколько хочет! Все это можно бы ему простить! Но зачем, зачем тащить за собой, впутывать этого дурака Гатю? Какая от него польза? Царь и без Гатю сядет на престол.
Лунный свет, падавший из окна, играл на полу. Тонкий и прямой луч был похож на золотой жезл. И Аспарух, погруженный в раздумье, усмотрел в этом некий символ. Ему хотелось рассеять дурные предчувствия и, опершись па этот жезл, избавиться от нависшей над ним беды.
Он долго стоял у окна, заложив руки за спину и расставив пожелтелые старческие ноги в небрежно приспущенных кальсонах, — спортсмен хоть куда.
Легкий шорох привлек его внимание. Оглянувшись, он увидел, что Мантажиев, подняв голову, испуганно смотрит на него.
— Что ты там выглядываешь?
— Любуюсь луной, — ответил Аспарух. — А ты почему не спишь?
— Ты меня разбудил.
Аспарух повернулся и вызывающе бросил:
— Может, тебя совесть мучает?
— Хорошенькое дело, — засмеялся Мантажиев. — Если из-за таких пустяков испытывать угрызения совести, недалеко уедешь. Нечего тут нервничать.
— Все-таки, — завел свое Аспарух, садясь на кровать, — напрасно мы доверились Гатю. Человек он неуравновешенный, к тому же трусоват.
— Тогда брался бы сам за листовки, — сердито ответил Мантажиев. — Выхода нет — или ты, или он! Один сочиняет, другой распространяет. Разделение труда. Иначе нельзя, дорогой.
Аспарух молчал. Он боялся Мантажиева — боялся его глупой самонадеянности. его прошлого, боялся и будущего, в которое тем не менее верил, догадываясь, что за Мантажиевым стоят сильные люди. Поэтому он предпочитал не вступать в споры со страховым агентом, а лишь старался уяснить некоторые свои соображения, о которых не следовало забывать.
— Мне терять нечего, — заговорил он, подчеркивая слова. — Важно другое: не навредить бы делу. Вся наша надежда на помощь извне. А что проку от этого Гатю?.. Человек недалекий…
— Один винтик вывинтит — и то польза, — возразил Мантажиев.
— Винтик?.. Пустяки… Главное, по-моему, развинчивать души, а машины — дело второстепенное.
— Что ж, Гатю будет развинчивать машины, а ты — души… Согласен?
— Выходит, мы с Гатю дополняем друг друга?
— А тебя это не устраивает?
— Здорово придумано!
Аспарух встал, подтянул кальсоны и залез под одеяло.
— Недурно все у тебя получается, — обиженно сказал он. — Только смотри, как бы нам кошка дорогу не перебежала… Вот что меня пугает, об остальном я не забочусь.
— Чего ты боишься? Разве не видишь, что их лагерь распадается на составные части.
— Лагерь… — Беглишки усмехнулся и добавил: — Лагерь был у Аспаруха, когда тот пришел сюда со своей ордой и расположился между горами и Дунаем… Был он и у его дедов, когда те рыскали по степям в поисках пастбищ для своих стад… Имеется он и у этих самозванных строителей новой Болгарии… А у нас есть ли лагерь? Где он, наш лагерь?
— Что — то ты много стал философствовать, дорогой праболгарин. Слишком много разговариваешь… И потому, мне кажется, что легко страху поддаешься. Закрывай-ка лучше глаза да спи, а то завтра меня ждет дорога.
— Тебя-то ждет дорога… А каково мне? Я должен оставаться здесь и вариться в собственном соку.
— Был бы ты хоть пожирней, — шутливо заметил страховой агент и укрылся с головой одеялом.
Аспарух замолчал. Он долго лежал, вперив взгляд в потолок, затем снова заговорил, не подозревая, что Мантажиев уже спит:
— Все было бы в порядке, если бы не этот, как его… Борис Желев. Он болтлив и мнителен… Кто знает, что ему может взбрести в голову… Видал, откуда он выскочил? Из кустов каких-то… Что он там делал? Ты не заметил? Хорошо еще, если один был… Не следовало его обманывать. Этим мы только показали, что у нас совесть не чиста… Зря я тебя послушал… А что он тебе говорил? Говорил или нет?
Беглишки привстал и прислушался. Страховой агент спал. Нос его издавал тонкий и протяжный свист, будто ветер свистел в трубе.
— Дурак! — простонал Аспарух и повернулся спиной к своему гостю.
25
Под утро Беглишки уснул. Когда он проснулся, Мантажиев сидел у окна и листал книжку, которую вытянул у Аспаруха из-под подушки. В книжке много мест было подчеркнуто синим и красным карандашом. Монтажиев редко обращался к книгам, но подчеркнутые места пробудили в нем любопытство, он жадно прочитывал их, будто в руки к нему попало чужое любовное письмо. И с ухмылкой облизывал губы, словно они были сладкие.
«Необходимо учитывать, что существует два способа борьбы: с помощью закона и с помощью силы. Первый свойствен человеку, второй — животному. Но поскольку во многих случаях одного только первого способа бывает недостаточно, обстоятельства вынуждают прибегать ко второму. Поэтому князь должен уметь пользоваться как человеческими, так и животными инстинктами… Образцом для него должна служить лисица. Лев легко попадает в западню, а лисица бессильна перед волком. У лисицы князь научится учуивать западню, а у льва — не бояться волков».
Облизав губы, страховой агент перелистнул страницу. Синей зигзагообразной линией было отмечено: «Люди так глупы и так поглощены повседневными своими нуждами, что тот, кто хочет пуститься на обман, всегда найдет кого обмануть».
Мантажиев усмехнулся, он развеселился еще больше, прочитав подчеркнутое красным: «Выгодно, впрочем, подобно Бруту, прикидываться безумцем. Ты должен одобрять, говорить, видеть и делать многое такое, что противно твоей натуре, с единственной целью — понравиться князю».
Страховой агент не мог понять, кто такой этот князь и этот персонаж, которого в книге столь заботливо наставляли, как следует поступать, чтоб сохранить за собой власть. «Бывает, — подумал агент, — что и из книги можно узнать полезные вещи». Он перевернул еще страницу и, оглянувшись, перехватил взгляд Аспаруха. Глаза его, запавшие и словно бы пустые, были так страшны, что Мантажиев невольно сунул книгу обратно под подушку.
Аспарух все глядел на него, не произнося ни слова.
— Люблю читать книги с подчеркнутыми местами, — заговорил Мантажиев. — Все равно что беседуешь с тем, кто читал эту книгу до тебя. Узнаешь его мысли и настроения. Если заделаюсь следователем, стану изучать психологию преступников только таким способом. И никогда не ошибусь.
— Спасибо за комплимент.
Аспарух проворно отбросил одеяло и ступил своими жилистыми ногами прямо на голый пол.
Комнату заливал солнечный свет, и мухи давно уже вились вокруг шкафчика, где хранились банки с вареньем и медом.
— Ну как, позавтракаем? — спросил Аспарух, натягивая штаны. — Если хочешь чаю, включи плитку. Я пить не буду.
— Предпочитаю съесть холодный арбуз, глупо наливаться чаем в такую жару, — ответил Мантажиев, взглянув на часы. — Не опоздаешь на работу?
— На работу я могу приходить, когда захочу. В общежитии никто с меня спрашивать не станет, разве только директорше что-нибудь понадобится.
— Директорше?
— Да, случается. Попадет ей шлея под хвост, ну и давай названивать по телефону… Опасная баба.
— В каком смысле?
— Не в том, какой ты имеешь в виду. За короткий срок сумела без всякой шумихи создать рабочие дружины… А ты со своими листовками носишься… Восстание…
«Христос воскресе!» Дорогой юноша, мы с тобой слишком увлекаемся!
Склонившись над умывальником, он плескал водой в лицо, поливая себе из кувшина, потому что по утрам вода из крана не текла. Это давало повод ругать Викторию, которая, купаясь там у себя внизу, расходовала всю воду. Но сейчас ему было не до Виктории. Иные мысли и заботы одолевали его, отравляя жизнь.
Освежившись, он надел легкий летний пиджак, белую фуражку и открыл дверь.
— Пошли… Где-нибудь по пути купишь себе арбуз на завтрак.
И, уже спускаясь по лестнице, добавил:
— Нам следует расстаться… Неудобно слишком часто появляться в городе вдвоем.
Мантажиев хлопнул его по плечу и громко расхохотался.
— Откровенно говоря, не думал я, что ты такой трус.
Аспарух молча проглотил обиду. Каким бы храбрым ни казался легкомысленный человек, спорить с ним — напрасный труд. Куда полезней разобраться во всем самому, не полагаясь на других. Из-за маленького камушка иногда опрокидывается телега. А у него не было ни малейшего желания именно теперь, когда и в самом деле может наступить Христово воскресение, свалиться в пропасть и никогда уже оттуда не выбраться.
— Повторяю, — настаивал на своем Аспарух, — зря ты тащишь к нам этого Гатю. Это же полуидиот. Что от него можно ждать? Притом он сидел в тюрьме как прислужник фабрикантов. Неудобно, как ты этого не понимаешь?
Мантажиев удивленно вскинул брови. Он искренно недоумевал.
— Ты, я вижу, и вправду закусил удила, Беглишки! Что с тобой? Я тебя не узнаю.
— Каждый должен заниматься тем, на что он способен и что ему по плечу… Ну, до свиданья, в добрый час. Я все же постараюсь как-нибудь исправить положение.
Аспарух торопливо попрощался; друзья расстались «до скорого свиданья», пожелав друг другу всего наилучшего. Страховой агент при этом усмехнулся и стал спускаться к городу с намерением найти арбуз, а Беглишки зашагал по узкой тропке прямо через лес к общежитию «Балканской звезды».
Его не покидала мысль разыскать Бориса и незаметно вызнать, не заподозрил ли он чего минувшей ночью. Хотелось как можно скорее рассеять всякие подозрения, чтоб Борис не раздул дела, придав ему такое направление, какого больше всего боялся Аспарух. А тут еще Гатю вдобавок; одна надежда, что возчик в последний момент порвал прокламации или, на худой конец, вспомнил о тюрьме, прежде чем разбрасывать их. И это в какой-то мере успокаивало его.
Аспарух шел быстро, то и дело вытирая свою лысую голову белым платком. От платка пахло духами, и это подбадривало его, напоминая про вчерашний ужин у Сокеровых, где Гита обрызгала всех какими-то новыми духами, не исключая и его, хоть они и были в контрах. Для того, наверное, чтоб пофлиртовать с Филиппом Славковым, который продолжал разыгрывать перед ней роль верного супруга. До чего они смешны оба! И эти «шутки амура»! Даже его, Аспаруха, вовлекли в такие глупости.
Он спотыкался о корни, выступавшие на тропинке, вытирал пот и чувствовал, как тошно ему становится от жары и всех этих историй, которые давили его, словно мельничный жернов.
Лучи солнца, поднявшегося уже высоко, пронизывали лес, и между сосен висела синяя дымка: пахло свежей смолой и сухими листьями. «Тихо, как в соборе», — думал Аспарух, глядя на высокие деревья; он готов был опуститься перед ними на колени и молить о покое, которого лишился, может быть, надолго. Человек суеверный, он верил в сны, гадал по руке, увлекался астрологией и гороскопами, предсказывавшими ему великое будущее. Аспарух придумал для себя плохие дни, плохие числа; тогда его особенно мучила смутная тревога, теснее обступали призраки пугающей неизвестности, как было и сейчас. Он чувствовал — произойдет нечто непоправимое, если он не сумеет хитроумно отмести все сомнения и догадки. Он верил в свою интуицию, которая ни разу его не подвела, Он складывал числа дней, часов и секунд и получал несколько трехзначных цифр, сумма которых представляла собой в его больном воображении цифру, не предвещавшую ничего хорошего. Чтоб уйти от призрака фатального числа, он прибегал к новым комбинациям и занимался этим до тех пор, пока в сердце его не вливалась новая надежда.
Тропинка вилась то вниз, то вверх, вела мимо уединенных скамеек, пробегала по скошенным полянам, где паслись стреноженные лошади, снова уходила в молчаливый лес, будто хотела спрятаться от солнца в тени деревьев, где было так тихо и спокойно.
Беглишки снял фуражку, чтобы освежить свою голову, которая словно огнем горела от всевозможных мыслен. Он торопился попасть в тенистую аллею — там прохладно и скорее можно дойти до общежития. Аллея была прямая, не очень широкая, обсаженная по обеим сторонам тополями, что делало ее похожей на туннель. Здесь всегда было тихо и безлюдно — Аспаруху это нравилось. Даже влюбленные редко добирались сюда, хотя для них были поставлены новенькие скамейки. Немногие умели, как Аспарух, ценить поэзию тенистой аллеи.
Еще несколько шагов, и он с благоговением вступил в прохладный зеленый туннель.
В каких-нибудь ста метрах впереди Аспарух увидел парочку, чего меньше всего ожидал в этот предобеденный час, когда все были на работе. Приглядевшись, он даже слегка растерялся, сердце взволнованно забилось. «Пути господни неисповедимы!» — усмехнулся Аспарух; у него аж под ложечкой екнуло от злорадства.
По аллее шли рядышком, взявшись, как школьники, за руки, Филипп и Гита. Шли медленно, опустив головы, будто считали шаги. Филипп то и дело склонялся к ней, словно желая лучше ее рассмотреть. Тогда и Гита обращала к нему свое лицо, мило улыбаясь. Гита была в красном платье, едва прикрывавшем колени, Филипп — в белом костюме. Вид у обоих был какой-то отсутствующий, как у людей, которые забыли, где находятся.
Аспарух в своих мягких разиновых туфлях бесшумно следовал за ними — шпионить он, разумеется, не собирался, просто не было другого пути. Чтобы не быть заподозренным в злом умысле, Аспарух кашлянул, желая предупредить влюбленных.
Гита оглянулась первой. За ней Филипп, растерявшийся при виде Беглишки.
— Здравствуйте, здравствуйте! — издали крикнул Аспарух, ободряюще помахав рукой.
Филипп и Гита стояли, все еще держась за руки.
Аспарух весело бросил им:
— Все прекрасно! Совет да любовь!
И тотчас скрылся в лесу, свернув якобы из деликатности на тропку.
Филиппу хотелось сказать что-нибудь, объяснить, но было уже поздно. Беглишки быстро удалялся по тропинке, и только его фуражка мелькала между деревьями.
Он прибыл в общежитие радостно возбужденный и сразу погрузился в будничные дела.
26
Борис уже занял свое место в ткацком цеху. Он явился в установленное время, зашел, как принято, к директору и секретарю партийной организации и приступил к работе на четырех станках, а не на двух, как ему было предложено.
Рабочее место ему отвели у выхода из цеха, возле окна, где было много света. В помощники дали юношу, ученика из школы трудовых резервов, который подготавливал ему шпули после шпулевки. Борис увидел в этом особое внимание к себе и воспрянул духом. По мере надобности подзывал паренька и указывал на некоторые особенности станка, который тот должен был освоить. Ученик смотрел ему в рот, ловя каждое слово. Это еще больше подогревало самолюбие Бориса.
— Ты вот что запомни, парнишка, если хочешь, чтоб у тебя работа спорилась: никогда не запускай машину! Она ведь вроде бы живая — ее надо вовремя кормить, чистить, приводить в порядок. Обидишь ее — и она тебя обидит, а то, чего доброго, и за руку цапнет.
— А разве не в каждой секции есть механик?
— Механик — это одно, а ткач — другое. Ткач не расстается с машиной, как мать со своим ребенком. А механик, что доктор, — приходит проведать больного. Ткач и машина — особая статья. Бай[9] Златан, наш мастер, бывало, подходя ко мне, говорил: «Твои машины, Борис, стучат лучше всех!» А он тонкий знаток своего дела. Моими станками не занимался, мне передоверил. Верно, случались и у меня неприятности: вместо песни вдруг хрип слышался — что-то скребло между щеткой и сновалками, машина будто давилась и хотела откашляться. Я поворачивал рычаг и останавливал ее. Только нагнусь, бывало, и сразу найду неисправность. Машина совсем как человек, сама тебя подзывает: «Поди сюда, вот тут у меня болит, в этом месте ослабло, почисти его!» Я живо почищу, смажу это место маслом, если требуется, и снова пускаю станок. И опять по цеху разносится песня, будто ничего и не случилось… Понял, юноша? Важно подружиться с машиной, полюбить ее, чтоб и она тебя полюбила.
Ученик с восторгом слушал его. Борис гордился первым успехом, радуясь, что сумел заинтересовать парнишку, и продолжал с воодушевлением поучать, не забывая и себя похвалить.
В этот день солнечно было в цеху и весело. Станки жужжали, как пчелы; ткачихи — соседки Бориса — одаривали его улыбками. А одна из девушек по случаю своей помолвки угостила шоколадными конфетами. Борис поздравил ее и с удовольствием съел шоколадку. Вспомнил, что и сам когда-то угощал всех в день помолвки с Яной.
Вспомнил и про Валю — он все еще не видел ее. И так горько ему стало, что слезы подступили к горлу, и он проглотил их вместе с конфетой.
Он уже знал, что Яна вышла за Манчева и теперь вместе с мужем и дочкой отдыхает в Варне. Борис встретится с ней, когда она вернется, и окончательно уладит вопрос о ребенке. Валентина должна знать своего отца. Нельзя держать ее в неведении. Борис обязан вступить в права отцовства, в суд обратится в конце концов, если заставят обстоятельства. Сделает все, чего не удосужился сделать до сих пор для своего ребенка — этого маленького, невинного существа, к которому чувствовал нежность.
Борис стоял между станками и следил за их работой. Прежде он мог на слух определить неисправность; теперь, пожалуй, это ему не удастся. Пряжа была хорошо накрахмалена, а ему все казалось, что влажность ее недостаточна, потому что увлажняющее устройство работало, по его мнению, не вполне удовлетворительно. Не допустить бы брака, особенно этих «поясов», «пояса» — самое страшное для новичка. Но Борис не новичок, он должен дорожить своим именем… Все остальное в порядке: шпулей достаточно, сновалки заправлены как полагается, основа хорошо натянута. Цеховой мастер, как видно, заранее обо всем позаботился, чтоб угодить Борису. Это радовало его. И мысленно он опять вернулся к прошлому, когда он, словно капитан на корабле, стоял посреди цеха и вся бригада была у него в руках. У его преемницы, Савки Рашеновой, вряд ли хватит ума и ловкости руководить бригадой так, как руководил Борис, но сейчас он прощал ей все, потому что был счастлив.
Борис вслушивался в удары берд, наблюдал, как отскакивают щетки, ощупывал готовую ткань и испытывал удовлетворение. Он и не заметил, как подошло время обеда. Даже световых сигналов о прекращении работы не видел. Казалось, не все еще было сделано для того, чтоб запастись радостью на весь день. Он сбросил серый комбинезон и пошел в столовую. Осматривая по дороге станки, Борис дивился, как много из них было заменено новыми, более совершенными. Соседнее отделение освободили от трансмиссий, из-за которых раньше было столько несчастных случаев. Все идет вперед, все развивается. Не исключено, что через год-два цех будет полностью автоматизирован. Будь Борис директором, он бы уже сейчас разработал генеральный план автоматизации — руководитель обязан внедрять новую технику.
Борис вошел в столовую и остановился в дверях, приятно удивленный, — зал был расширен за счет смежного помещения, служившего ранее складом. На столах были белые скатерти. Это и вовсе восхитило Бориса. «И к нам на ткацкие предприятия приходит культура», — подумал он, отыскивая глазами для себя стол.
Он выбрал место посередине зала. Ему хотелось сидеть в центре, чтоб видеть всех. На душе было легко и радостно. Неприятно поразило только то, что в зале не было ни картин, ни лозунгов. «Хоть бы плакат какой повесили о правилах гигиены или пользе питательной пищи!» — подумал он. Видно, до столовой у директора руки не дошли! А вот Борис на месте директора начал бы как раз со столовой, потому что здесь собираются все цеха. Он сегодня же сделает Руже замечание — мягко, но строго!
В памяти невольно всплыл вчерашний разговор с Ружей, и это несколько подпортило настроение. Ну да что с нее взять — молодо-зелено. Но она может стать неплохим руководителем, если будет прислушиваться к его советам!.. «Окружение!.. Вот оно, окружение… Посмотрим сейчас, кто сядет ко мне за стол!» И Борис огляделся.
Столовая быстро наполнилась. А народ все прибывал. Кругом шумели, разговаривали, звенели посудой, да еще и радио играло.
Борис критически наблюдал. Вот две девушки — улыбка до ушей… Когда бывало, чтоб молодые девушки не улыбались? Одна лукаво глянула на Бориса, но он не обратил на это внимания. Следом за девушками вошел солидный пожилой мужчина с широкой лысиной. Борису он был не знаком. Из новеньких, наверно. Стремительно вошла женщина, подкрашенная и нарядная, с папкой под мышкой. Кассирша — предположил Борис. Невысокого роста пожилой человек остановился у двери и долго осматривал зал. Это был Коею Минковский-Батинка, продавец из книжной лавки. Борис приветливо махнул ему рукой.
— Здорово, Коею! Проходи, чего озираешься!
Коею пристально поглядел на Бориса, переложил сетку с судками из одной руки в другую и ни слова не ответил.
— Ну, иди же сюда, иди, покажись мне!
Минковский не торопясь двинулся к Борису с равнодушным видом, будто книги научили его ничему не удивляться и сохранять невозмутимое спокойствие.
— Привет, привет, товарищ! — сказал он проходя мимо Бориса. — Что, пообедаем?
— Пообедаем. А ты вспоминаешь, кто я такой?
— Еще бы… Тебя да не вспомнить!
Батинка с тем же равнодушным видом поставил судки на стол, они явно обременяли его.
— Что же ты сидишь? — обратился он к Борису. — Почему не становишься в очередь? Или ждешь, чтоб тебя обслужили? Это тебе не «Балкантурист» в Тырнове! Пристраивайся, батенька, в хвост, иначе просидишь тут долго.
— А я не спешу, — сконфуженно ответил Борис. — Пускай сперва голодные наедятся, а я уж потом.
— Все мы тут голодные, — обронил Батинка и направился с судками в кухню, где уже началась раздача.
Борис последовал за ним. Ожидая своей очереди, Батинка рассказал, что Мара уже месяц лечится в Хисаре — печень замучила, и ему приходится носить в этих вот посудинах обеды домой, кормить детей и двух дряхлых стариков, свалившихся на его голову. Забот хоть отбавляй, даже за литературой следить некогда, да и писателей расплодилось столько, что всего не перечитаешь. Борис посоветовал не расстраиваться из-за этого. Батинка получил обед и ушел, оборвав разговор на полуслове.
Со многими повстречался Борис в тот день в столовой. Закончив обед, поболтал с бай Златаном, сменным мастером — слава богу, выстирал наконец свой промасленный комбинезон и больше не таскает с собой французского ключа. Поговорил с Савкой Рашеновой, которая, как ему показалось, очень гордилась своим новым званием. Дал Райне несколько советов по части того, как ей найти спутника жизни, чтоб не пропадала в одиночестве при такой красоте. На минутку заглянула в столовую и Ружа Орлова. Издали поздоровалась с Борисом и тут же исчезла — наверно, «план выгонять». «Ну и пусть себе выгоняет!» — подумал Борис. Позже всех притащился с кастрюлями Гатю Цементная Голова — Кера заболела и не могла сготовить ему обед… В столовую шли отовсюду. Вся округа кормилась на «Балканской звезде», словно пчелы в улье. Борис сидел в центре этого улья и наслаждался. Радовало его, что все с ним здороваются, подсаживаются ненадолго, спрашивают совета. И он не скупился на советы, даже журил кое-кого. До чего же хорошо ему было! Хорошо и приятно! Он и с Гатю пошутил, крикнув ему через весь зал:
— Эй, заговорщик, куда это ты на всех парах? Иди сюда, поговорим!
Гатю бросил на него смущенный взгляд. Борис махнул рукой в сторону кухни и добавил:
— Ступай, ступай, становись в хвост… Потом будем объясняться… Утроба прежде всего…
Последним пришел Аспарух Беглишки. Завидев его, Борис и ему крикнул с усмешкой:
— Здорово, заговорщик! Ну как после вчерашнего?
Аспарух побледнел, но сейчас же попытался овладеть собой.
— В чем дело? — спросил он тихо, подойдя к Борису. — Чего кричишь?
— Тебе придется дать мне объяснения, — подмигнув, заметил Борис.
— С удовольствием, — ответил Аспарух. — Подожди, я схожу за обедом. А кричать нет надобности — я слышу, слава богу.
Борис продолжал усмехаться, многозначительно качая головой ему вслед.
27
Аспарух поставил поднос и сел напротив Бориса.
— Не люблю я шуток с политическими намеками, — сказал он, беря поданную ему бутылку лимонада. — Да, я был вчера на мосту, и ты меня видел, но по некоторым соображениям ни в коем случае не мог подойти к тебе.
Борис посмотрел на него с любопытством.
Аспарух отломил кусочек белого хлеба и с удрученным видом принялся за суп. Но еда не шла ему в горло. Он с трудом проглотил несколько ложек и, поморщившись, отставил тарелку. Затем потянулся к цыпленку с рисом, но съел только ножку, а рис разгреб, как курица, и отодвинул, хотя приготовлено было совсем неплохо. На третье была дыня с сахаром. Съел два ломтика и тоже отставил.
— Нет аппетита, — сказал Аспарух, отодвигая тарелки. — Нервы расшалились вчера, а с утра сегодня еще хуже.
Он отпил лимонада, вытер губы и встал.
— Давай выйдем, если хочешь, да поговорим более спокойно. Хочу доверить тебе одну тайну, которая мучит меня.
Любопытство Бориса разгоралось. Он терял терпенье и уже жалел, что поторопился необдуманно оскорбить старого друга, назвав его заговорщиком, хотя и в шутку. Аспарух не стал касаться этого — сейчас главным для него было другое. Он предложил Борису пройтись по фабричному парку, подышать свежим воздухом.
За кипарисами, вблизи ручья, буйно катившего горные воды, стояла беседка, которая всегда привлекала чувствительное сердце Аспаруха Беглишки. Сколько раз, устав от житейских невзгод, он приходил сюда отдохнуть и поразмыслить. И вот теперь он привел в эту романтическую беседку своего приятеля, собираясь открыть ему тайну.
— Вот что, Борка, — начал доверительно Аспарух, когда они вступили в беседку, — прошу тебя только об одном: не обижайся на меня за то, что я тебе расскажу.
Я решил быть с тобой откровенным, как всегда.
Он сел на скамейку, указав Борису место чуть поодаль, чтоб можно было без помех любоваться ручьем, и глубоко задумался. Борису явно не терпелось. Но Аспарух не спешил. Он вынул зубочистку из верхнего кармашка пиджака, долго ковырял в зубах, затем бросил ее в ручей и лишь после этого приступил к разговору.
— Так вот что, Борка, я буду говорить тебе только правду, потому что люблю тебя. Вчера вечером меня пригласили к Сокеровым на день рожденья. Гостей было много, в том числе и твоя подруга. Должен тебе сказать, что все были возмущены ее поведением. Я не знаю, в ком причина, то есть, кто дал повод, она или Филипп, но факт остается фактом, и этот факт вызвал у всех нас отвращение.
— Да что там стряслось? — нетерпеливо прервал его Борис. — Не понимаю. Что случилось?
— На первый взгляд ничего особенного. Играли в «шутки амура», прятались в другой комнате, где переодевались, придумали довольно неприличную игру в «перстень»… Все это произвело необыкновенно тягостное впечатление. Особенно на Мантажиева, на моего друга из Софии, который случайно попал в эту компанию.
Борис был бледен, сидел неподвижно и молчал.
— Я был настолько подавлен, Борка, — продолжал Аспарух, — что перед уходом подозвал Гатю и посоветовал ему умерить похотливые наклонности своего разнузданного сынка, который, между прочим, уже женат и ждет ребенка… Это же действительно ни на что не похоже!
— Да, — вздохнул Борис, — я знал, что так оно и будет, когда мы вернемся сюда, но… дурной голове так и надо!
— Нет, нет, Борка! — запротестовал Аспарух. — Ты правильно поступил, что приехал. Погляди, как тебя радостно встретили на фабрике. Только о тебе и говорят. Ты способен, умен, через год какой-нибудь, глядишь, и директором станешь, верно? Вина тут не в тебе! Нет! Вина в соблазнителе, который ищет, с кем бы позабавиться! Он всему причиной! Потому-го я и решил поговорить с его отцом, так как с Филиппом мы почти порвали отношения уж довольно давно… из-за тебя, ты знаешь.
Аспарух соболезнующе посмотрел на своего друга.
— Ты окликнул нас в самый разгар спора, — заговорил он опять, — когда Гатю твердил, что сын, мол, тут ни при чем. Норовил во всем обвинить Гиту и отчасти… тебя! Я, разумеется, утверждал обратное… Мы начали пререкаться, и тут как раз показался ты, если не ошибаюсь, откуда-то со стороны реки.
— Да.
— Совершенно верно… Согласись, что при создавшемся положении тебе совсем лишнее было лезть, как говорится, волку в пасть… Неудобно, понимаешь, да и нетактично. Я был уверен, что скандала не миновать. Тут и до беды недалеко, не дай бог!.. Спорили мы с ним допоздна, ругались, насилу выпроводил его; ко всему и выпивши он был, конечно.
Борис подпер голову рукой.
Аспарух слегка потрепал его по плечу.
— Нечего отчаиваться, Борка. Все это, конечно, очень печально, но…
Он замолчал.
Борис поднял на него вопрошающий взгляд.
— Есть и похуже кое-что…
Борис насторожился.
— Что еще? Говори скорей.
Аспарух перевел свой опечаленный взгляд на ручей и сказал:
— Обидно, что мне выпала эта горькая чаша… Но что поделаешь. — Он беспомощно развел руками. — Нынче утром, представь себе, когда ты, приступив к работе, начал, как говорится, новую жизнь, они устроили свидание в сосновом лесу. Это было в десять часов двадцать две минуты.
— Свидание? — вскочил Борис.
— Свидание, Борка, — вздохнул Аспарух и откинулся на скамье, словно не имея больше сил продолжать разговор. — Я противник сплетен, — снова заговорил Аспарух, как бы превозмогая себя, — не люблю и шантажа! Но обманывать друга я не могу. Чувствовал, что обязан рассказать тебе все, как бы тяжело это ни было. Хорошо ли, плохо ли я поступил — тебе судить. Ты, в конце концов, можешь рассердиться на меня. Могут еще какие-нибудь истории возникнуть, и я окажусь скомпрометированным, оклеветанным — мне все равно! Для меня куда важнее сказать другу правду, а не шушукаться у него за спиной, как делают другие. Теперь я доволен, что исполнил свой долг. Совесть моя чиста.
Он скрестил на груди руки и замолчал.
Молчал и Борис, и оба долго сидели так, будто прислушиваясь к журчанию ручья; но, занятые своими мыслями, они не слышали плеска воды. Наконец Борис, собравшись с духом, спросил глухим, словно из-под земли идущим голосом:
— А оно… это свидание, как оно происходило!.. Просто вдвоем уединились в лесу… или, что называется, в интимной позе? Как ты их видел?
Аспарух потупился.
— Мне было стыдно смотреть на них… Пожалуйста, не расспрашивай о подробностях. Я просто отвернулся, чтоб не видеть их. Еще раз прошу извинить, что побеспокоил тебя.
Он взглянул на часы и встал.
— Ну, мне пора. Дела ждут. Заказал простыни для общежития. В последнее время столько хлопот навалилось — дух перевести некогда.
Они поднялись, не спеша прошли под кипарисами и снова оказались на главной аллее. Сунув руки в карманы брюк и упорно глядя в землю, Борис шагал молча. Аспарух в своих резиновых тапочках бесшумно выступал рядом, по временам роняя вздохи.
— Понимаю, как тебе тяжело, но еще тяжелей быть рогоносцем, когда все, кроме тебя, об этом знают и никто не хочет раскрыть тебе глаза. Верно ведь?
Борис шел, как идет на виселицу осужденный. Ничего не видел перед собой. Слово «рогоносец» он слышал только в анекдотах, которые часто рассказывали Гита и ее приятели. Он никогда не вдумывался в него, а вот, оказывается, оно имело определенный смысл.
Дойдя в полном молчании до конца аллеи, они повернули обратно и сели на стоявшую в стороне скамейку. Наконец Борис снова обрел дар речи.
— Беглишки, — обратился он несколько тверже. — Ты бы мог повторить все это в суде, если б я вызвал тебя в свидетели?
Аспарух вздрогнул при слове «суд» — оно действовало на него угнетающе. От суда он бежал как от чумы — никогда не был уверен, что ему там не предъявят обвинения.
— То есть как? — спросил он. — В каком смысле в суде?
— Очень просто, — объяснил Борис. — Я подам заявление о разводе, а ты выступишь как главный свидетель… Я должен раз и навсегда разделаться с… с этой…
Он не решился произнести слово, которое вертелось у него на языке, потому что Гита все еще была его женой.
— Нет! — категорически объявил Беглишки. — Нельзя действовать очертя голову! Я, безусловно, готов для тебя на все, но надо собрать и другие факты, понимаешь? Суд — штука капризная, особенно если у тебя недостаточно фактов… Это надо учитывать.
— Какие факты могут быть важнее этих?
— Все-таки… Не торопись, Борка! Это дело надо как следует обмозговать.
— Чего тут еще мозговать… У меня уже и так в мозгу горит… Не могу больше, братец, не могу! Целых три года мозгую… Нет, не могу!
Он ударил себя кулаком по колену и взревел, как раненый зверь. Аспарух насилу успокоил его.
— Не торопись! — строго сказал Аспарух. — Не торопись. Я всегда к твоим услугам, рассчитывай на меня при всех обстоятельствах, только не торопись! Запомни хорошенько этот мой совет.
Он опять посмотрел на часы и хлопнул себя по лбу.
— Опоздал! Извини, дорогой, директорша, наверно, уже оборвала телефоны, разыскивая меня!
Он потрепал Бориса по плечу и чуть не бегом пустился к общежитию, где никто и не думал его разыскивать.
Борис посидел еще несколько минут, потом встал и, нога за ногу, потащился в город, не испытывая никакого желания попасть к Сокеровым. Выйдя из парка, он по привычке свернул в «забегаловку», где и просидел до самого вечера.
Загорелись звезды и увидели Бориса, одиноко бредущего по берегу реки. Подул ветер — Борис сидел в новом парке на скамейке и рассматривал кончики своих ботинок. Взошла луна — Борис лежал на поляне возле Охотничьего домика и удивлялся, почему не играет оркестр. Ему было стыдно появиться среди людей, — казалось, все уже знают о его позоре. Хотелось уснуть, зарывшись в землю, и больше никогда не просыпаться.
28
В тот вечер Гита возвратилась рано, но, повертевшись в комнате — Бориса еще не было, — снова вышла побродить по улицам, чтобы убить время. В подобных случаях, когда не было ни определенного дела, ни назначенного свидания, она заходила обычно в магазин, к своему брату, поболтать и тем облегчить свою совесть от содеянного днем прегрешения. Но Пеца переехал в Тырново, куда его назначили управляющим каким-то хозяйственным предприятием. И теперь Гита бесцельно слонялась, силясь прогнать из памяти страшную физиономию Беглишки. Целый день прошел, а она не могла его забыть, особенно усмешку, с какой он сказал: «Совет да любовь!» Она отлично знала: Беглишки немедленно сообщит новость Борису. Знала и то, что сегодня или завтра вечером разъяренный муж задаст ей взбучку за измену. Не она первая и не она последняя получает побои от ревнивого мужа. Она все стерпит, как терпела до сих пор. А может, и до развода дойдет. Ну и что же? Бориса она никогда не любила, чего ей бояться развода?
Другое занимало ее в этот вечер, другое не давало покоя. Она чувствовала, как снова оказывается в плену этого другого, которое никогда ее не оставляло, — она не забыла Филиппа. И как-то вдруг поверила, что прошлое может безнаказанно повториться. Кажется, ничего и не обрывалось. Не Филиппа, а Бориса выкинула она из головы, будто он никогда и не появлялся на ее пути. Поэтому, когда Филипп в шутку предложил встретиться в лесу, Гита сразу согласилась, словно это было естественным продолжением их минувших, еще не забытых встреч. Она беспечно отправилась на свидание и, только увидев сальную физиономию Беглишки, вспомнила о муже, о том, что он может узнать об этой встрече, потребовать объяснения. Тогда же она сказала себе: «Большое дело, брошу его, вот и все!» И тем не менее Беглишки стоял у нее перед глазами.
Сегодня она ушла из дому, чтобы не дожидаться мужа, перед которым не чувствовала особой вины. Ей хотелось побродить одной, к тому же она смутно надеялась еще раз встретить Филиппа и продолжить разговор, прерванный утром.
Гита «бросала» многих мужчин, потешалась над ними, сколько вздумается, так по крайней мере ей казалось, но в отношениях с Филиппом она теряла способность хитрить и водить за нос, превращалась в послушную влюбленную женщину, совершенно безоружную. Как всякая «первая жертва», она слепо любила его, и когда он целовал ее, и когда унижал, и когда оставлял среди ночи на улице. Она не понимала, почему с ней такое происходит, да и не хотела понимать.
Одно ее тревожило: вправду ли он любит ее сейчас и никогда не забывал, как говорит, или просто вводи» в заблуждение? Она не могла теперь верить его любовным излияниям, которые приводили ее в трепет, лишали рассудка. Желая убедиться в его искренности, Гита пошла на это свидание, дав себе слово быть сдержанной и вырвать у Филиппа признание, что он ее любит и не может жить без нее.
— Брось свою жену! — сказала она Филиппу, когда они шли по лесной аллее, а он вместо ответа понес всякие «фантасмагории». Вот почему Гита осталась недовольна и решила отказаться от дальнейших встреч. Но когда они расстались, опять не выдержала.
— Я ни на чем не настаиваю, — твердил Филипп. — Ты жена другого. У тебя, естественно, есть семейные обязанности. Но мне тяжело. Почему? Я и сам не могу объяснить. Чего-то не хватает, пусто как-то без тебя… С утра, чуть глаза открою, первая мысль о тебе.
— Филипп!
— Правда, Гита! Такова, наверно, моя судьба… Кто знает… Если хочешь, приходи завтра к Виктории, поболтаем — может быть, это хоть немного облегчит мои душевные страдания.
Она не в силах была ему отказать. Его слова, казалось, выражали собственные ее чувства, которые она питала к нему.
Гита вдоль и поперек исходила главную улицу, прошла мимо лавчонки возле сберегательной кассы, где когда-то Филипп торговал всякой галантереей. Теперь лавчонка закрыта, дворники складывают туда метлы. Как далекое воспоминание, сохранилась только пожелтевшая, почти совсем стертая временем вывеска «Крупномолка мелет все», приколоченная к железной ставне. Гита хорошо помнит те дни, когда она вот так же прохаживалась мимо этих грязных ставен. А Филипп в это время вел торговлишку в своей темной норе, окруженный позументами и всевозможными безделушками. Она, вздыхая, ждала его. Повторится ли сейчас то же самое?
«Может, и повторится», — думала Гита и потому никак не хотела возвращаться домой — ей претило давать мужу объяснения, в которые она сама не верила.
К великому удивлению, Борис не пришел в этот вечер домой. Вначале Гита обрадовалась — по крайней мере спокойно будет спать, но потом стала прислушиваться и тревожно посматривать в раскрытое окно, ибо такая задержка не предвещала ничего хорошего.
Она легла поздно и крепко уснула. А когда, проснувшись утром, увидела, что его нет в постели, осталась очень довольна. «Должно быть, закутил где-нибудь», — подумала она и заторопилась в кооператив, где надеялась увидеть Филиппа.
Идя обедать, она встретила Гатю, отца Филиппа, и от него узнала, что Борис на «Балканской звезде». Это окончательно успокоило ее, потому что подобные размолвки у них уже случались. Все пойдет своим чередом, как бывало и прежде. Узнала и еще одну подробность: Борис опоздал на работу и долго извинялся перед директором. А раз он сам виноват, у него нет морального права винить ее. У виноватого нет прав, он обязан молчать!
Гиту радовало, что дело идет на лад. И она с беззаботным видом стала собираться к Виктории.
Чтобы вконец не разобидеть мужа и показать себя благонравной супругой, она оставила ему записку, торопливо нацарапав: «Борка, сегодня вечером я у госпожи Виктории, она пригласила меня на чашечку кофе (по-женски). Гита». Записку оставила на зеркале, наверняка зная, что он будет смотреться в зеркало и увидит ее. Она даже улыбнулась, представив, как он любуется на себя в зеркало. И будто на крыльях полетела на свидание.
Виктория Беглишки в последний раз сделала уступку Филиппу. Как ни симпатичен ей был этот ненасытный любовник, она боялась скандалов. На кофе были приглашены и другие гости, некоторые из них были Гите не знакомы.
Вечер начался весело, непринужденно, но еще веселей стало, когда пришел Филипп. Он принес игрушку, которая привела женское общество в восторг. Голый гуттаперчевый человечек переходил из рук в руки, поражая дам своими удивительными фокусами. У Филиппа нашлись и другие игрушки, а также карты для гаданья, что увлекло всех.
С Гитой он завел разговор посредством «шуток амура». Перемешав карты, он роздал их усевшимся вокруг него дамам.
Шутя и балагуря, он не упустил случая послать свой первый комплимент Гите.
«Глаза ваши светятся, как топазы! — передал он ей. — Я лишился сна, увидев их».
Она своим ответом решила испытать его.
«Мы всегда были в контрах».
«Разве?»
«Я не верю мужчинам, любовь для них всегда лишь спорт», — ответила Гита.
«Вы нимфа», — настаивал Филипп.
«Почему вы все время сбиваетесь на поэзию?»
«Минувшей ночью я видел вас во сне».
«Скажите, пожалуйста!»
«Не толкайте меня на путь страданий».
В это мгновение в гостиную вошел Аспарух Беглишки. У него, как всегда, был усталый вид. Поздоровавшись с гостями, он уединился с Вики — ему надо было посоветоваться с ней. Разговор длился недолго, но это очень озадачило Гиту. Механически передавая карты, она плохо слышала выкрики Филиппа:
— Прошу, Сократ! Возьми Сократа!.. А вот и Психея… Ты что даешь, Афродиту? Или Цербера? Цербера даешь? Возьми Клавдия! Интересно, не так ли? Волшебно! Только так! Меркурий…
С лица его не сходила улыбка, глаза горели.
Аспарух вышел, и скоро все о нем забыли. Забыла и Гита, увлеченная игрой и слегка опьяневшая от ликера, которым их угощала госпожа Виктория.
Может быть, все кончилось бы хорошо, если бы Филипп неожиданно не утратил веселость. Он начал вздыхать и посматривать на часы. Обеспокоенная Гита спросила, что с ним, он сослался на головную боль.
— Выйду на улицу освежиться немного, — сказал он и встал.
— И я с тобой, Фео, — шепнула Гита, — хочешь? Мне страшно за тебя.
Не проронив ни слова, он печально взглянул на нее и прошел через гостиную к двери; занятые разговорами, гости не обратили на них внимания.
Гита выскользнула следом за ним; она чувствовала себя виновницей его грусти. И хотела успокоить его.
Филипп сидел на скамейке, где днем часто дремал дед Ставри, укрывшись от знойных лучей. Скамейку окружали высокие пышные кусты, местечко было укромное.
Гита подошла и молча села возле Филиппа. Он опять вздохнул, глядя на острый конек крыши. Гита поймала его за руку.
— Почему ты вздыхаешь, Фео? Что с тобой?
Он не ответил.
Она повторила свой вопрос:
— Ну почему ты вздыхаешь, скажи?
— Извините, — начал он официальным тоном. — Я хочу дать вам один совет. С вашего разрешения, конечно.
Гита удивленно посмотрела на него.
— Никогда не позволяйте своему сердцу полностью отдаваться предмету вашей любви, пока не удостоверитесь, свободен он или нет.
Гита ничего не поняла.
— Наверно, вы питаете к нему какие-то чувства, раз были так смущены и рассеянны, когда он вошел в гостиную… Ну что ж, не стану вам мешать!
— Фео!
— Ради бога, дайте мне кончить… Вы бы завладели сердцем, к которому взывали, если бы, разумеется, другая не сделала это раньше вас. Все же будьте осторожны!
— Зачем ты меня мучишь?
— Я говорю правду, горькую правду.
— Успокойся, Филипп, не надо злиться.
— Нет, я не злюсь. Мне только грустно. Вот и сегодня, когда все отдыхали в послеобеденный час, я вышел прогуляться, чтоб рассеять плохое настроение. Ушел далеко за город, подальше от людей, от мирской суеты. Я жаждал уединения, и когда обрел его, почувствовал облегчение.
— Филипп!
— Пожалуйста, я не настолько глуп, чтоб добиваться силой того, чего не могут дать добровольно и чем нельзя завладеть, не потеряв собственного достоинства. Не так ли? Потому-то я и желал уединения. И я был счастлив в одиночестве.
Он умолк. Гита, держа его за руку, смотрела ему в глаза.
— В свое время злые люди помешали нам соединиться, — продолжал Филипп. — Я знаю, что жизнь — это огонь, в ней и сгореть недолго. Так лучше уж я сам сгорю, чем приносить в жертву тебя.
Он прижался к ней и обнял за плечи. В это время из кустов вылезла чья-то темная фигура. Филипп подскочил. До смерти перепуганный, он хотел крикнуть, но не смог — горло у него перехватило. Да поздно уже было кричать — неизвестный бросился на Гиту и начал бить ее по чем попало. Воспользовавшись этим, Филипп кинулся бежать к лесу.
Гита визжала, стараясь уцепиться за Филиппа, но того уже и след простыл. Продираясь сквозь кусты, он весь исцарапался, но боли не чувствовал. От страха лязгал зубами и все оглядывался — не преследуют ли его. Слава богу, никто за ним не гнался.
Он выбежал на аллею, пыхтя и поддерживая свой живот. Остатки волос на его плешивой голове, которые он всегда так заботливо помадил и смазывал маслами, торчали в беспорядке. Лицо было чем-то выпачкано. Он спускался с горы едва дыша.
Покинутая им Гита молча сносила побои мужа. Борис озверел, он уже не отдавал себе отчета, давно ли бьет ее. Чувствовал только, как ярость его с каждым ударом возрастает. В конце концов, не зная, что еще с ней сделать, схватил за волосы и потащил за собой. Лишь теперь Гита подмяла крик и стала отбиваться.
Борясь с ней, Борис выкрикивал:
— Аспарух!.. Беглишки!.. Куда ты пропал? Поди погляди, как эта кошка царапается! Иди же! Будешь моим свидетелем… Аспарух!
Аспарух как сквозь землю провалился.
Тогда Борис схватил Гиту за платье и поволок к вилле.
— Пойдем, мерзавка, я покажу тебя людям! Пускай поглядят на тебя, красотку!
Сначала Гита как будто покорилась, но, увидев светящиеся окна виллы, уперлась на месте и крикнула сквозь слезы:
— Этого удовольствия я тебе не доставлю!
Борис попытался пнуть ее ногой, но она вырвалась у него из рук и стрелой помчалась к лесу. Он кинулся было за ней, но она уже исчезла среди сосен. Водворилась тишина. Борис понял, что ее не догнать. Он выругался и в темноте, не разбирая дороги, побрел через поляну.
29
Лето, пахучее и сладкое, как пшеничная лепешка, уже близилось к концу, однако тепла еще хватало для яблок и розового винограда. Все еще вызревали помидоры, огурцы и молочная кукуруза, а вдогонку за ними — синие сливы и крупные сочные груши. Не иссякли земные дары, хотя лето в этом году нельзя было назвать особенно благодатным — мало было дождей и влажных ветров. Может быть, поэтому красные рассыпчатые арбузы были так сладки, будто их сахаром посыпали, а дыни, горками возвышавшиеся посреди базара, были такие ярко-желтые, словно из телег и грузовиков золото высыпали. Базар не вмещал всех плодов, и грибов было уйма — в последнее время перепадали неожиданные шумливые дожди, правда, такие короткие, что едва успевали омыть крыши и листья на деревьях.
Но счастливее всех оказались гусыни — гусята уже успели вырасти и плавали теперь по реке, не страшась нырять даже в глубокие омуты. Река не пересыхала и никогда, должно быть, не пересохнет, потому что начинается она где-то у снежных вершин да в заросших папоротником ущельях. Она шумела, переливаясь с камня на камень, увлекая с собой потоки и ручьи из всех теснин и овражков, и врывалась в город буйная, полноводная, играющая пеной и с таким неудержимым весельем, словно никогда не горевала и ни над чем не задумывалась. Повыше, у выхода из ущелья, она приводила в движение несколько сукновален и водяных мельниц, забавляясь ими, как перышками, будто и они были даны ей для развлечения, но, примчав свои воды к городу, где большие предприятия изрыгали в нее из своих утроб всякие нечистоты и ядовитые краски, она сразу усмирялась, одетая в бетон и гранит.
Когда-то, в былые времена, на городской окраине возле железнодорожной станции и ниже по течению тянулись огороды и пляжи, а теперь там сгружали песок и гравии и ссыпали в ямы городской мусор. Душно и смрадно было в этих местах летом, не лучше пожалуй, и зимой, да и весной, которая здесь почти не отличалась от дождливой осени. Особенно же тягостно было в конце лета, когда каждый день разгружали и загружали вагоны фруктами и овощами, лесоматериалами и тканями, пряжей и отбросами. Конечно, для таких, как Гатю Цементная Голова, привыкшего к трудностям своей профессии, ничего не стоило провести час-другой, а то и целый день на станции. Не смущало это и Геннадия, давнего приятеля Бориса, который и не желал для себя другого занятия, кроме работы грузчика. Они привыкли к дыму паровозов, гари и пыли, к запаху гниющих плодов, которые иногда привозили и сюда, в старый город.
Иначе чувствовал себя Борис, который решил попытать счастья в этой трудной и мало привлекательной профессии. Его и солнце палило нещадно, как огонь, и воды ему не хватало, потому что он постоянно испытывал адскую жажду, и веревка на плече казалась не веревкой, а цепью, которой сковывают преступников.
Борис избрал себе это ремесло после того, как порвал с Гитой. Бракоразводный процесс еще не состоялся, но они больше не виделись друг с другом и не искали встреч, окончательно решив расстаться.
После драки возле виллы Виктории Беглишки Борис ни разу не заглянул домой. Побродив какое-то время по окрестностям и овладев собой, он вернулся в тот вечер к дому Виктории, но остановился в изумлении: окна чернели, как могильные ямы, все обитатели, по-видимому, спали. Тогда он попытался забраться к Аспаруху на мансарду, но входная дверь оказалась запертой, свет был погашен, ставни закрыты. Борис долго стоял перед виллой, удивляясь, как это люди могут сейчас спокойно спать. И почему сбежал Аспарух? Ведь они условились поймать Гиту на месте преступления, чтоб доказать потом перед судом бесспорный факт прелюбодеяния. Вместе они прошли через рощу, вместе забрались в кусты и затаились, а когда Борису понадобилась помощь Аспаруха, тот бесследно исчез. Почему? Испугался Филиппа или пожалел Гиту? Но чего ради он стал бы ее жалеть после того, как сам привел Бориса на виллу и указал скамейку — место прелюбодеяния? Борис терялся в догадках. А теперь вот почему-то запер внизу дверь, чтоб нельзя было попасть даже на лестницу.
Борис провел эту ночь в лесу вблизи виллы. Улегся на деревянной скамейке и, подняв воротник своего летнего пиджачка, постарался уснуть. Встал еще до восхода солнца и опять пошел к Беглишки. Хотелось выяснить, что заставило Аспаруха скрыться, хотелось просто поговорить — он чувствовал себя совсем одиноким и отверженным.
Дверь внизу была открыта. Борис поднялся на мансарду, но в замочной скважине увидел небрежно воткнутую записку: «Вернусь через два дня. Срочно уехал в Софию». Борис порвал записку и медленно спустился по лесенке. Он больше ничему не верил. Снова углубился в лес и долго глядел на трубы «Балканской звезды». Час еще оставался до смены. Он успел бы, умывшись в реке, вовремя попасть на работу, но он был так утомлен и чувствовал себя таким измятым и избитым, словно его пропустили через колесо сукновальни.
Из одной трубы вился легкий синеватый дымок; закрывая прозрачной пеленой солнце, он сливался с клочьями облаков. Другая труба, пониже, не дымилась. Она торчала над фабричными постройками, как бы забытая людьми. У самой реки, над старыми каменными стенами возвышалась башня с красной пятиконечной звездой. В лучах солнца она сияла, как рубин. Борис не мог оторвать взгляда от труб и башни. Он чувствовал, как жжет у него в горле, глаза заволокло туманом, и сквозь слезы, как сквозь волнующую воду, он видел «Балканскую звезду» во всем великолепии. Так, задумавшись, сидел Борис, охваченный отчаянием; часы показали, что прошло еще полчаса.
Солнце уже пробиралось между деревьями. Впереди, на высоких скалах, откуда открывалась просторная равнина, уводящая в сторону Тырнова, трепетали первые утренние лучи. Вскоре позолотились и стволы фабричных труб, а рубиновая звезда вспыхнула, словно огненный глаз, излучая радостный свет на весь город. Дым из высокой трубы расстилался по небу и, пронизанный светом, напоминал гонимую ветром паутину.
Борис взглянул на часы. Оставалось всего пять минут. Он откинулся на скамейке и заплакал, как заблудившийся в лесных дебрях ребенок. Он оплакивал себя, свою молодость и все то, чего лишился.
В ветвях сосны прыгала белочка, коричневая, как сосновые шишки, как смола, стекающая по коре дерева. Она перекидывалась с ветки на ветку совершенно бесшумно. Борис и не заметил, как, скрытая среди зеленых игл, она оказалась над самой его головой — радостная, опьяненная солнцем, потоками, хлынувшими на лес, и, совсем как человек, стала расхаживать по земле, по сухой хвое. Прилетела иволга, на ближайшей березе запели скворцы. Последний день лета обещал быть теплым, душным.
Борис встал, вытер глаза и пошел берегом реки к железнодорожной станции. Решил разыскать Геннадия.
Вместе с товарищами Геннадий выгружал в тот день тюки с шерстью и хлопком. Работа шла полным ходом, но, увидев Бориса, Геннадий подбежал к нему, поздоровался, спросил, как дела, и велел подождать. Между прочим, указав Борису на закусочную, предложил:
— Выпей поди анисовой за мой счет, покончим с разгрузкой — и мы придем.
Борис пошел к деревянному павильончику и выпил стопку за счет Геннадия. Затем выпил вторую — за свой счет. Тут и Геннадий подоспел со своей бригадой, потный и запыхавшийся.
— Ну, — обнял он Бориса за плечи. — Как поживаем? Я так и знал, что ты там долго не продержишься. И зачем тебе соваться им в руки? То ли дело у нас, на вольной воле. Что заработал, то твое, сам себе хозяин.
Борис не стал возражать. Ему было приятно слушать Геннадия особенно сейчас, когда он чувствовал себя всеми забытым. Свободолюбивые, босяцкие настроения приятеля были ему по душе. Он даже растрогался и заказал по стопке, чтобы чокнуться с Геннадием. А когда анисовка ударила ему в голову, похвалился:
— Деньги у меня есть, и свобода есть… Только вот друзей, вроде тебя, нет.
Геннадий хлопнул его по плечу и повторил заказ.
— И у меня есть деньги, Борка, и свобода есть… Не жены, жены пет у меня… Понимаешь?
— Ха, — засмеялся Борис. — Очень кстати! Только вчера вечером от одной избавился, могу тебе предоставить! Хочешь? Баба что надо!..
— Как? Гиту? Борка! Что ты говоришь, Борка? С ума сошел… Что? Разводитесь? Не говори так, браток!.. Она ведь, извини за выражение, лакомый кусочек, уф!.. Как же так получилось?
— Был! — многозначительно ответил Борис и опрокинул в рот анисовку. — Был, но теперь уже не то!
И он рассказал Геннадию свою историю. Из сочувствия Геннадий предложил вступить к нему в бригаду. Поначалу Борис противился, твердя, что в деньгах не нуждается, потом согласился, — от излишка денег он не страдал. А случалось, подолгу шарил в карманах в надежде найти завалявшийся лев.
Бориса поставили у товарных вагонов, которые останавливались вблизи пассажирской станции. Но из-за того, что он принялся по своему обыкновению поучать и Геннадия и остальных, как надо работать, чтобы, не подвергаясь унижениям, больше зарабатывать, в бригаде возникли распри. Борис оскорбился и, не желая к тому же маячить на станции, где большое движение, решил пойти на реку грузить песок и гравий. С Геннадием они начали встречаться реже, но остались верными друзьями. Только с ним Борис советовался, как организовать защиту, чтобы выиграть дело в суде.
Геннадий посоветовал прежде всего найти такого свидетеля, который заявил бы суду, что сожительствовал с Гитой. Так дело будет наверняка выиграно без потерь и затрат. И по просьбе Бориса тут же согласился взять эту роль на себя.
Во-вторых, Борису следовало, по его мнению, заранее подготовить выступление Аспаруха. Беглишки должен подробно рассказать, как он видел Гиту в объятиях Филиппа Славкова сперва в лесу, потом на скамейке у виллы. Если Беглишки упрется и будет отказываться, Геннадий сам поговорит с ним соответствующим образом. Ему уже приходилось иметь дело с подобного рода свидетелями.
Борису оставалось только благодарить.
Много хлопотал Геннадий в связи с бракоразводным процессом, к которому теперь было приковано внимание всей бригады «Погрузка-доставка». Все подготовил он и для того, чтобы всыпать как следует Филиппу Славкову, и выполнил бы это, не подайся бывший лоточник вместе со своей беременной женой куда-то в деревню.
Помог Геннадий «поставить на место» и Гатю, этого «подлого ломовика», который вечно путался у них под ногами и ни разу не угостил, никогда не приветствовал сердечным «мараба», как все другие, того самого, который защищал своего сынка, покрывая его гнусные проделки…
Гатю избили поздним вечером неподалеку от складов товарной станции, где он выпил больше, чем следовало. Геннадий с Борисом подкрались к возчику и, повалив на землю, топтали ногами до тех пор, пока тот не замычал.
— Получай, шкура, — приговаривал Борис. — Будешь знать, как саботаж на фабрике устраивать. Люди работают, а ты по корчмам таскаешься! Заговорщик!
Гатю прикрывал локтями свое окровавленное лицо.
— В тюрьму тебя вместе с твоим сыном, — не унимался Борис, — и никакой пощады фашистам, а ты же первый фашист!
Но тут Геннадий прервал его, сказав, что вместо речей, надо дать еще пинок-другой, и хватит с него.
Все усилия были употреблены на то, чтобы наилучшим образом подготовить выступления в суде. Не забыли и Аспаруха Беглишки. Как-то вечером Борис пришел к нему на мансарду поговорить с глазу на глаз. На всякий случай в садике его ждал Геннадий. Если Аспарух начнет отвиливать и хитрить, Борис свистнет в окно, и приятель в два счета окажется в мансарде.
Однако Аспарух согласился на все предложения, помощь Геннадия не потребовалась.
— Да, — заявил Аспарух. — Я скажу правду, как бы горька она ни была. Только, ради бога, будь благоразумен. До меня доходят слухи, что ты налево и направо распространяешь разные небылицы, из которых люди делают политические выводы. Обозвал Гатю фашистом.
— Что же он такое, этот Гатю, если не фашист? — возмутился Борис.
— Извини меня, но в свое время ты сам устроил его на «Балканскую звезду».
— Я его устроил, я и уволю.
Аспарух недоумевающе пожал плечами.
— Думаешь, не смогу? Смогу, и я это сделаю! Даже на виселицу могу отправить за его подлости!
Беглишки промолчал.
Уже с лестницы Борис добавил сердито:
— Суд назначен на тринадцатое, смотри не улизни опять в Софию!
И стал не спеша спускаться. Беглишки со страхом следил за ним сверху и думал: «Какая фатальная личность! Опутал меня своими сетями — не вырваться… И это роковое число! Неизбежно увязну… Неужели нельзя передвинуть на пятнадцатое? Так было бы спокойней и лучше!..» Он еще долго стоял на площадке, глядя вниз, словно в какой-то колодец.
Борис мрачно шагал вразвалку, чуждый тревогам «паршивой интеллигенции», которую опять ненавидел.
У выхода на аллею его ждал Геннадий.
— Ну что, обещал?
— Обещал.
Они шли молча, а из окошка мансарды за ними взволнованно наблюдал Беглишки, пока они не скрылись из виду.
30
Внезапное исчезновение Бориса поразило всех на «Балканской звезде». Сперва думали, что он заболел, но через три дня, которые прошли без всяких вестей от него, стало ясно, что больше его здесь не увидят.
Ружа восприняла это событие как собственное поражение. Она не смела показаться на глаза секретарю парткома, а ее объяснение в Городском комитете никого не удовлетворило.
Помимо всего прочего, нехватка в ткацком цехе двух рабочих стала отражаться на выполнении плана. Как ни напрягался коллектив, кривые графиков не только не поднимались, а ползли вниз.
Неопытный директор, Ружа начала нервничать. Даже оштрафовала нескольких ткачей за то, что те ушли за минуту до окончания смены. Затем последовал приказ об отмене сокращенного рабочего дня в канун выходных до тех пор, пока план не будет выполнен по всем показателям. На первом же партийном собрании Ружу сурово раскритиковали и осудили ее действия. Она самокритично признала, что превысила свои права, но от этого нервы ее не успокоились. Не раз ссорилась она и с мужем, который искал политические причины для объяснения поступка Бориса. Резко поговорила по телефону даже с дедом Екимом, который сказал, что она выпустила птенца из клетки.
— Я не нянька, дедушка Еким, — оправдывалась она, желая скрыть огорчение от собственного промаха.
— Смотри, план хоть не упусти, — предупредил старик и повесил трубку, прежде чем она успела ответить.
Пыталась Ружа встретиться с Борисом или с Гитой, чтоб отругать их как полагается, но из этого ничего не вышло. А ей так хотелось сказать им словечко, чтобы на всю жизнь запомнили, и у нее бы отлегло от сердца. Увидела она их лишь на суде, где уже более спокойно выслушала всю их историю и еще раз убедилась, что они скорее несчастны, чем виноваты. Поэтому у нее не нашлось сил упрекать их за то, что они подвели ее в самый критический момент.
Странным было поведение Гиты. Она явилась в суд вызывающе одетая — в коротком, узком платье с соблазнительно низким вырезом, в туфлях на тонких и очень высоких каблуках, что невольно обращало внимание на ее ноги. Но выглядела она плохо — бледная, осунувшаяся, словно после тяжелой болезни. Даже не подкрасила губы; плотно сжатые, они придавали ей сердитый вид. Только глаза ее — глубокие, миндалевидные — ярко вспыхивали, когда она оглядывалась на людей, заполнивших небольшой зал суда, чтоб послушать ее показания.
С Гитой был адвокат, человек преклонных лет; успокаивая ее, он говорил, что развод обеспечен, раз она вверила ему свою судьбу. Старик внушал Гите уважение, и она держалась весьма независимо. Ни с кем не хотелось ей ни видеться, ни говорить. Все опротивели, а особенно муж, присутствие которого она чувствовала даже спиной.
Борис и в самом деле сидел сзади нее, чуть поодаль. Он привел Геннадия, а Геннадий притащил с собой половину бригады «Погрузка-доставка» — пускай слушают да квалифицируются, как он выразился. Пришли и другие знакомые Бориса. И много свидетелей.
Публика шумела и проявляла гораздо больше нетерпения, чем стороны.
Борис был оживлен и разговорчив — явились все его свидетели, а главное — Геннадий готов был выступить со своими сокрушительными показаниями.
Рассмотрение дела началось несколько неожиданно — легким препирательством между председателем суда и публикой. Председатель настаивал, чтобы дверь закрыли на крючок и никого не пускали, а публика протестовала. Дошло до того, что председатель сам запер дверь, потому что приток людей не прекращался. Но тут подал голос Борис Желев: его свидетель Аспарух Беглишки вышел в коридор и не сможет Попасть обратно. Председатель нахмурился, выругался про себя и подал знак открыть дверь. Все обернулись: в зал втиснулся Аспарух Беглишки, бледный и растерянный.
Председатель — смуглый, энергичный, очень горячий — вел заседание суда по всем правилам. Он зачитал заявления сторон без всякого пристрастия; осведомился у сторон, не желают ли они помириться; пригласил в зал свидетелей, хотя все они давно были налицо; призвал их дать клятву перед судьями, предупредив, что они должны говорить правду, одну только правду, что дача ложных показаний ведет к лишению свободы сроком до трех лет, и прочее, и прочее. Все шло своим порядком. Свидетели дали клятву, после чего им предложили выйти, и снова речь зашла о том, чтобы запереть дверь.
В такой сугубо деловой обстановке приступили к опросу главного свидетеля — Аспаруха Беглишки, стоявшего в смиренной позе между судебными заседателями и публикой. Все с нетерпением ждали его показаний.
— Гражданин Беглишки, — обратился к нему председатель. — Вы слышали, к чему обязывает клятва. Считаю излишним повторять, что за дачу ложных показаний вы можете быть привлечены к судебной ответственности, вплоть до лишения свободы. Вы человек интеллигентный…
— Да.
— И вам ясны все требования закона. Итак, скажите, гражданин Беглишки, с каких пор вы знакомы с супругами Желевыми?
— Довольно давно, товарищ председатель. Может быть, уже лет пять.
— Что вам известно об их семейной жизни?
— Семейная жизнь всякого человека представляет собой, товарищ председатель, совокупность случаев, в большей или меньшей степени известных окружающим. Так как мне пришлось соприкасаться с жизнью Желевых, я должен сказать, что она была довольно неровной с точки зрения социалистической законности. Нравы отдельных индивидуумов еще не освободились от предрассудков старого, прогнившего прошлого.
— Говорите конкретнее, гражданин Беглишки. Скажите, что вы знаете о моральном поведении гражданки Желевой, супруг которой утверждает, что вы видели ее однажды утром на прогулке в лесу с посторонним человеком.
Аспарух вскинул голову и бросил молниеносный взгляд на Бориса, сидевшего поблизости и напряженно следившего за каждым его словом.
— В жизни Желевых было два периода, товарищ председатель.
— Периоды меня не интересуют, гражданин Беглишки, расскажите о событии в лесу.
— Вот как раз, товарищ председатель, с этого случая в лесу и начался второй период… Я шел по тропе. Было свежее летнее утро, время близилось к десяти часам. В лесу в такую пору обычно никого не бывает, ибо рабочие и служащие все как один выполняют свой долг на предприятиях и в учреждениях. Но, выйдя на аллею, я увидел впереди себя супругу Желева, которая шла под руку с мужчиной.
— Под руку? — спросил один из заседателей, который слушал показания свидетеля очень внимательно. — Вы хорошо видели, что они шли под руку?
— Видел. Очень хорошо видел.
— А они вас видели?
— Нет, они меня не видели. И, может быть, только поэтому довели до конца то, что начали.
— Что они начали? — нетерпеливо спросил заседатель, поправляя свой галстук-«бабочку».
— Вы сами догадываетесь, товарищ заседатель, — стыдливо опустил глаза Аспарух. — Они шли под руку, что тут еще скажешь?
Заседатель с «бабочкой» бросил на Беглишки недовольный взгляд и еще раз попросил говорить конкретнее.
— Не могу конкретнее, товарищ заседатель! Неудобно! То, что я видел, настолько постыдно, что я не могу назвать вещи своими именами. И не насилуйте меня, ради бога.
Публика засмеялась. Аспарух окинул взглядом зал. На какое-то мгновение глаза его задержались на Гите. Она о чем-то говорила со своим адвокатом. Собачий нюх видавшего виды Беглишки подсказал ему, что речь идет о нем. Кожа на его лице покрылась мурашками, будто его погрузили в холодную воду.
Адвокат Гиты поднял руку.
— Товарищ председатель, у меня вопрос к свидетелю.
Аспарух помертвел.
— Пожалуйста, — продолжал адвокат, — пусть господин Беглишки расскажет, имел ли он…
— Почему господин? — прервал его Беглишки. — Почему он называет меня господином? Я протестую, товарищ председатель! Никакой я не господин!.. В нашей стране господ больше нет. Есть только товарищи и граждане. Я для вас товарищ или гражданин, но не господин! Тут делаются политические намеки! Я протестую! Защитите меня, товарищ председатель!
— Извините, — сказал старый адвокат, приложив руку к сердцу, — может быть, я оговорился… Но все же я спрашиваю свидетеля, пытался ли он сам когда-либо интимничать с моей доверительницей и что за этим последовало?
Аспарух нахмурился.
— Не пойму, на что вы намекаете.
— Не предлагали ли вы моей доверительнице вступить с вами в любовную связь? — пояснил старый адвокат, затрудняясь в выборе наиболее точного выражения.
— Никогда! Даже и не помышлял о чем-либо подобном!
— Пусть припомнит, — кротко добавил адвокат. — Мы его не торопим. Летним вечером, по возвращении из нового ресторана… Изрядно выпив и как следует закусив…
— Прежде всего я не пью!
— Ну ладно, допустим, что вы выпили стакан газированного пелина… Или другого чего-нибудь… Алкоголь не так уж вреден, особенно если вы предварительно подкрепились хорошо поджаренными кебапчетами.
В зале воцарилась полная тишина.
— …Вы уселись вместе с нею на скамейке, — продолжал адвокат. — И, любуясь лунным светом, заговорили о том, что комната у вас свободна и в ней две кровати, а па улице довольно прохладно… Потом…
— Товарищ председатель, — возопил Аспарух. — Я пришел сюда не затем, чтоб меня оскорбляли и возводили клевету! Я буду отстаивать свое право в судебном порядке! Я оскорблен!
— Извините, — вежливо поклонился старый адвокат. — Но такова у нас работа: задавать вопросы, напоминать о чем-то забытом. Люди часто страдают забывчивостью, мы помогаем им припомнить.
Гита, гордо выпрямившись, стояла возле своего защитника и торжествующе осматривала зал. Лицо ее сияло, словно озаренное каким-то внутренним светом. Она возбужденно следила за репликами, которыми обменивались адвокат и Беглишки, ежеминутно готовая вмешаться. И наконец не стерпела:
— Товарищ председатель! Дайте мне слово!
— Нет, нет. Потом.
— Дайте мне слово, товарищ председатель, — настаивала Гита, выступив вперед. — Дурака валяет этот человек. Я ему такую оплеуху отвесила в тот вечер, что он на всю жизнь запомнит!.. Чего он плутует? Как это он мог забыть? Лез ко мне целоваться, а теперь забыл!
По залу пронесся шумок, некоторые засмеялись.
— Видали ее, красотку… И свидетель замешан! — сказала какая-то женщина.
Замечания посыпались со всех сторон.
— Вот мурло, туда же полез.
— Молодец, бабенка, здорово она его огрела.
— И правильно, пускай не суется.
— Переспать захотел с нею.
— А другого-то вот небось не отвадила.
— Тут дело такое — по обоюдному согласию.
— Значит, она из-за него с мужем разводится?
— Кто ее знает!
— С чужими мужиками купаться на речку ходит, вот она каковская… Собственными глазами видел.
— Тихо, тихо, граждане, соблюдайте тишину! — привстал председатель. — Эй, вы там, то входите, то выходите! Что это вам, трактир? Вот ты, крайний, ну-ка, накинь крючок! Накинь крючок, говорю! И не впускай никого! Вот так! Нечего тут базар устраивать. Итак, гражданин Беглишки, можете вы привести еще какие-нибудь факты, кроме того, что видели в лесу? Можете или нет?
— Не могу, — коротко ответил Беглишки.
— Вы свободны.
Беглишки поклонился и отошел. Он чувствовал, что все с интересом и любопытством следят за ним. Но лишь один взгляд страшил его — взгляд Бориса. Поэтому он быстро шмыгнул в публику и забился в самый дальний угол.
Допрос остальных свидетелей уже не вызывал такого интереса. Самонадеянная улыбка исчезла с лица Бориса. Он не знал, как ему держаться, чтоб не выглядеть смешным. Каждый из допрашиваемых свидетелей, на которых он так рассчитывал, выливал на его голову новый ушат помоев. Даже Виктория, с наслаждением рассказывая о попойках в ее доме, почему-то обвиняла в этом Бориса.
Есть ли у него друзья? Где они сейчас? К чему вся эта комедия? Есть ли надежда исправить положение или все уже упущено и никто не в силах ничего сделать?
Борис слушал показания Виктории будто сквозь сон.
— Сначала, товарищи судьи, они мне представились как брат и сестра, — рассказывала Виктория. — Потом, поняв, кто они такие, я прогнала эту парочку. В их личную жизнь я не вмешивалась, личная жизнь других меня не интересует… Собирали разные компании, пьянствовали и безобразничали у нас на глазах, но мы не смели ничего сказать, потому что они милицией нас запугивали.
— Смотри, какая пройдоха!
— Это она огребла стариковское золото?
— Ты только погляди, так и сыплет, что твой адвокат. Такая купит и продаст тебя и глазом не моргнет…
— В конце концов партия поняла, что они за штучки, — продолжала Виктория, — и я изгнала их, но они вернулись и опять хотели прятаться за моей спиной, как за ширмой, но я не позволила; к этому времени я уже замуж вышла, у меня на руках больной старик, двух докторов к нему пригласила, чтобы лечили да ухаживали за ним, поддерживали его здоровье…
«К чему все это? — спрашивал себя Борис. — Что она мелет? При чем тут ее старик, доктора и весь этот вздор?» Он был в растерянности, ему казалось, что и сейчас его обманывают, что это не суд, а какой-то заговор с целью унизить его еще больше, «сбить с него спесь», как выразилась Виктория, втоптать в грязь, утопить в болоте, чтоб и воспоминания о нем не осталось… Откуда у людей такая ненависть к нему? Что он им сделал?
— Я его предупреждала, — говорила Виктория. — Не раз давала ему понять, чтоб не высказывался при мне против властей, так куда там! Он пытался опорочить партию и Отечественный фронт, но я пресекала подобные разговорчики… Как-то он заявил, что я большая трусиха, а я оборвала его и сказала, что слышать не хочу о таких вещах.
Борис посмотрел вокруг, подался вперед, желая возразить, но сидевший позади Геннадий остановил его, дернув за рукав:
— Брось, пускай себе треплется! Я с ней разделаюсь потом!
— Да ведь они ей верят, — в смущении пробормотал Борис, указывая на сидящих в зале людей. — Что она несет?
Виктория так увлеклась, что ее насилу остановили. Председатель не раз делал ей предупреждения.
Борис хотел было отказаться от свидетельства Геннадия, но тот уже подошел к столу заседателей. Он стояч смущенный, с выражением раскаяния, низко опустив свою лохматую, давно не стриженную голову, и бессвязно бормотал:
— Не знаю, товарищ председатель, как и начать… Стесняюсь рассказывать про то, что со мной случилось.
— Мы же судьи, свидетель, — отозвался заседатель с «бабочкой», — можете говорить все, не прибавляя, конечно, и не выдумывая лишнего.
— Да, но я поступил безнравственно, товарищ заседатель. Правда, по взаимному согласию.
— Врет негодяй, — шушукались женщины позади Бориса. — Не миновать ему кутузки за лжесвидетельство… Нарочно подстроили.
— Итак, свидетель, — обратился к нему председатель. — Где вы познакомились с гражданкой Желевой? При каких обстоятельствах?
— В кабаке, товарищ председатель.
— Она пьет?
— Такие женщины всегда пьют, товарищ председатель, — усмехнулся Геннадий. — Как они станут заниматься своим делом, если не выпьют?
— А она пьяная была, когда вы с ней познакомились?
— Не могу сказать, товарищ председатель, запамятовал… Но видать, пьяная была, потому что, когда я ей предложил подняться ко мне в квартиру, она ответила. «Нет, пойдем лучше в повозку… Там, — говорит, — сено, мягко…» — «Сейчас там нет сена», — говорю ей. А она мне: «Так там мешки лежат!» Схватила за руку и потащила. Я упирался, потому как у повозки вертелись разные бездельники. «Ну и пускай вертятся, — сказала она, — деньги у них есть?» Я влепил ей разок и сказал: «Так ты только ради денег? Про любовь и знать не хочешь, да?» А она: «Хочу!» И повела меня. А что потом было, не знаю. Утром нас разбудил один возчик. Вот и все. Больше ничего. По взаимному согласию.
Гита, съежившись за плечом у адвоката, вытирала слезы. Чем она досадила этому человеку, почему он клевещет на нее? Ей было не только обидно, но и страшно — она ведь бессильна была остановить его, закрыть ему рот.
Борис, стиснув зубы, нетерпеливо ждал, когда все это кончится. Он даже не взглянул на Геннадия, когда тот, довольный собой, прошел на свое место. И до самого конца судебного разбирательства ни на кого не смотрел. Он готов был провалиться, лишь бы не слышать ни свидетелей, ни докучливых речей адвокатов.
— Наше социалистическое общество, — говорил его адвокат, — стремится к тому, чтоб не было ни объективных, ни субъективных причин для расторжения браков. Оно против того, чтобы заключались браки, мешающие социалистическому строительству, нашей творческой жизни… Перед нами семья, которая распалась в силу обстоятельств… Объективно возможный в нашем обществе брак оказался субъективно невозможным… Мой доверитель…
«Что он говорит? — напрягал слух Борис. — Что он хочет сказать? Защищает он или обвиняет?»
Затем взял слово адвокат Гиты, успокаивающе похлопав по плечу свою подзащитную.
— Товарищи судьи, — начал старик. — Разнесся слух, что моя доверительница ведет безнравственный образ жизни. Верно ли это? Верно ли, спрашиваю я вас? Думаю, что неверно. Разве можно говорить об аморальных связях, если в семье не существовало духовных связей? Я полагаю, вы меня понимаете? Духовная связь между супругами служит залогом связи физической, а эта последняя в данном случае была нарушена.
Похоже, старик куда более умело строит защиту. Хоть он и очень несимпатичен, думал Борис, опыта у него гораздо больше.
— Кто в действительности встал на путь измены, товарищи заседатели? — размахивая руками, взывал адвокат. — Кто нарушил семейные устои? Обратите внимание на факты. Желев бьет свою жену, Желев выгоняет ее, бросая на произвол судьбы, Желев по нескольку дней подряд не интересуется, где она и что с ней, предоставляя ей самой обеспечивать себе пропитание. Наконец, Желев оставляет ее без какой бы то ни было материальной помощи… Я вас спрашиваю, найдется ли женщина, которая бы не покатилась по наклонной плоскости, попав в такое положение? Хоть одна?
Старик потряс кулаком.
— Ни одной!
Как горячо ни ратовал адвокат, Борис больше не мог его слушать. Все говорилось для красного словца, лишь бы оправдать деньги, полагающиеся в таких случаях. Сейчас Борису хотелось одного: чтоб эта комедия как можно скорее закончилась, а там будь что будет. Все равно ни он, ни Гита не согласятся жить вместе. Так к чему эти адвокаты и эти свидетели? Чего ради в присутствии всех давать объяснения, что он делал и что думает делать дальше? Зачем он пришел сюда? Унижаться?
С досадой выслушал Борис показания Гиты, хотя они были предельно кратки.
Гита подошла к столу и заявила:
— Я не желаю с ним жить. Судите, как хотите.
Чтоб не уступать ей, Борис тоже заявил:
— И я не желаю с нею жить! Как вы решите — ваше дело, но я видеть не хочу эту женщину.
Вызвать их на более откровенный разговор не удалось, как ни пытались председательствующий и заседатели. Оба были сыты по горло услышанным здесь.
Когда огласили решение, из которого следовало, что им дается развод на равных условиях, Борис не стал протестовать. Он пробрался сквозь толпу, не дождавшись Геннадия и его молодчиков, не поздоровавшись с Ружей и Колю, которые поджидали Гиту у входа.
У него кружилась голова, лицо горело. Он остановился на цементной площадке, огляделся и вздохнул с облегчением, будто освободился от вериг. На лбу выступил пот, а в ногах чувствовалась такая тяжесть, словно они были налиты свинцом. Устал он и от долгого пребывания на виду у всех и от того, что приходилось терпеливо выслушивать бесконечный бред. А тут он был один, и это радовало его.
Борис не успел еще как следует прийти в себя, когда перед ним неожиданно вырос улыбающийся толстяк.
— Здорово, Борка, здорово!
Голос Борису был знаком, физиономия — нет. Вглядываясь пристальней, он силился вспомнить, где он видел этого человека. Полное лицо с двойным подбородком; щеки румяные, что называется кровь с молоком; глаза живые, хитрые, бегающие под густыми бровями, как лисята; во рту — сплошной ряд золотых зубов. Серый в полоску костюм, красный галстук, зеленая кепка — все новенькое, все прилаженное, будто только что из коробки вынули.
— Неужели не узнаешь, Борка? Забыл? Вот те на!
— A-а, да, да! — Борис вдруг вспомнил и отступил на шаг. — Вот голова… я очень рассеян… и устал…
— Это же я, сынок! Как ты мог меня не узнать!
И Желю Манолов, бывший завхоз с «Балканской звезды», широко раскинул руки для объятия.
— Знаю, знаю, сынок, мне все известно, — говорил он со слезами на глазах, сжимая сына в объятиях. — Но выше голову, сынок, и это переживем, как пережили многое! Наш род крепок, нелегко его согнуть бурям и невзгодам… Правда?
Борис высвободился из его цепких рук — неудобно было стоять чуть не посреди улицы в объятиях этого плачущего толстяка.
— Пойдем, сынок, выпьем, — сказал наконец Желю, разжав руки, — выпьем да поговорим, я так стосковался по тебе — описать не могу. Ну, пошли! Оставь ты его, это судилище!
Он взял Бориса под руку и повел вниз по лестнице, осторожно переступая со ступеньки на ступеньку.
Борис еще не собрался с мыслями после всего пережитого, а тут надо разговаривать с отцом, выслушивать его и давать объяснения.
Желю Сильвупле шагал энергично и бодро, крепко держа Бориса, словно специально подкарауливал его у здания суда.
31
Ружа и Колю ждали Гиту у входа в зал заседаний, желая ее успокоить. Им думалось, в особенности Колю, который был мягче и отзывчивей жены, что именно сейчас, в этот критический момент жизни, Гита нуждается в моральной поддержке. Он допускал и самое страшное — бытовые неурядицы переходного периода способны привести к роковым последствиям. Это чувство усилилось, когда он заметил слезы на глазах Гиты. Журналист увидел в этом не только страдание, но и начало очищения, что давало ему основание радоваться и уважать ее еще больше. А поскольку уважение к несчастным всегда связано с любовью и состраданием, Колю взволнованно ждал того момента, когда увидит Гиту и услышит голос измученной на суде женщины. Если сейчас не протянуть ей руку, значит, потерять навсегда, как это случилось с многими предоставленными самим себе. Колю заходил дальше — он уже представлял, как Гита бросается в реку, слышал перестук колес поезда, под которыми исчезает женщина с простертыми руками, охваченная безнадежным отчаянием; перед глазами мелькала веревка, на которой она повиснет с полным сознанием, что уходит из этого мира молодой и неопытной; ему мерещилось дуло пистолета, направленного в грудь, где трепыхалось испуганное сердце, которое замрет и перестанет биться навеки… Вот какие мысли и видения волновали Колю в минуты ожидания Гиты. Разумеется, он не делился с Ружей своими наивно-сентиментальными тревогами, зная трезвый характер жены, для которой спасение Гиты не выходило за рамки общей заботы о людях. К тому же чрезмерная тревога могла вызвать подозрения, а тогда он не сумеет сохранить хладнокровие. Поэтому, стоя рядом с женой, он только повторял:
— Давай попытаемся еще разок, авось не останутся бесплодными наши благие намерения. А потом уж… можно будет и построже…
Ружа слушала его терпеливо.
Из зала шумно выходила публика. Одни спешили по своим делам, другие продолжали спорить, отстаивая правоту того, на чьей стороне стояли. Каждый говорил с жаром, размахивая руками и не слушая доводов собеседника. Только Геннадий и его дружки были в отличном настроении, довольные тем, что выполнили свой долг. Теперь они держали путь в ближайшую корчму и очень сожалели, что Борка «смылся» и никто из них этого не заметил.
Аспарух Беглишки тоже незаметно исчез, словно испарился. Виктория напрасно искала его, чтоб идти вместе. А она предчувствовала, что ей не сдобровать. Она ловила на себе злобные взгляды Гиты и ломала голову над тем, как бы выбраться отсюда, чтоб не наступить кошке на хвост.
Но из зала только один выход. Не миновать его и Виктории.
Гиту сопровождал адвокат, не желавший оставлять ее одну. Он что-то объяснял, склоняясь к ее пылающему лицу, но Гита не слушала его. Она обдумывала нечто очень важное и боялась упустить момент. Виктории не спастись, но куда девался Беглишки? Куда пропал этот подлюга? Гита беспокойно оглядывала зал, всматриваясь в лица.
Убедившись, что Беглишки в зале нет, она бросилась к выходу, чтобы отрезать путь Виктории.
Старик все уговаривал ее, что более удачного исхода нельзя было и ожидать и она теперь будет счастлива, свободная и вольная, как горный орел. Гита не могла понять, при чем тут горный орел, но после того, как старик повторил это несколько раз, чрезвычайно довольный остротой, она подумала, что он, пожалуй, прав. Но где Беглишки? Куда он девался? Не прозевать бы из-за него Викторию!.. Нет, Виктория от нее не убежит! Не убежит, старая кикимора… Нет, нет… А этот «горный орел»?.. Этот старый хрыч, ему что нужно, он-то чего еще морочит ей голову?
Выйдя на площадку, Гита осмотрелась. Людей много, только Беглишки и здесь нет. Гита кинулась было обратно в зал, но тут к ней устремился улыбающийся Колю Стоев, а за ним Ружа. Он порывисто протянул Гите руку, считая, что такое сердечное приветствие подействует на нее успокоительно.
— Здравствуйте, здравствуйте, — заговорил он.
В этот самый момент в дверях показалась Виктория Беглишки — расфуфыренная, подрумяненная, возбужденная, в кокетливой шляпке. Гита тотчас повернулась к ней. Взгляды их скрестились, и в то же мгновенье разразилась такая страшная буря, что многие от неожиданности не поняли, с чего начался скандал.
— Ах, вот ты где, вот ты где, сводня! — крикнула Гита. — И ты еще читаешь мне мораль? Думаешь, я тебя не знаю, интриганка? Благородству учить вздумала, да?
Виктория попыталась пройти мимо, но Гита продолжала наступать:
— Стариковские денежки проматываете!.. Пьянствуете по целым ночам!..
Видя, что словами не проймешь, Гита схватила ее за платье. Резко обернувшись, Виктория спросила:
— Что вам от меня нужно?
— Мне нужно выцарапать тебе глаза, сука паршивая! И изуродовать твою собачью морду! — взвизгнула Гита, порываясь сдернуть с нее шляпку. Виктория увернулась, но Гита все же завладела шляпкой и швырнула ее на мостовую. И, не теряя времени, вцепилась в прическу и рванула так, что в руках у нее остался пучок обесцвеченных перекисью волос. Виктория закудахтала, словно наседка, преследуемая коршуном и, взмахнув своими голыми руками в браслетах и кольцах, принялась яростно колотить Гиту по голове.
Драка длилась недолго, каких-нибудь две-три минуты, но этого было достаточно, чтобы привлечь внимание прохожих и всех, кто вышел из зала заседаний.
Колю и Ружа с ужасом глядели на Гиту, которая продолжала с ожесточением таскать за волосы перепуганную свидетельницу.
Пустив в ход все свое красноречие, Колю пытался их разнять, даже встал между ними, но добился лишь того, что ему разбили очки. Ружа насилу оттащила его в сторону, боясь, как бы и ему не попало.
Гите помогала молодость. Виктории — опыт. Гита брала силой, Виктория — хитростью. Отбиваясь от Гиты, она сумела натравить на нее толпу, прикидываясь невинной страдалицей. Вокруг свистели и ругали Гиту. Воспользовавшись моментом, Виктория метнулась вниз по лестнице, Гита кинулась за ней вдогонку, угрожая выдрать всю ее «козью шерсть», но кто-то подставил ей ножку, Гита упала и кубарем скатилась с лестницы. Когда Колю и Ружа подбежали к ней, она была без сознания.
Что было потом, Гита не помнила. Пришла в себя только в больнице. На столике лежала плитка шоколада и записка от Ружи и Колю. Прочитав ее, Гита заплакала и снова потеряла сознание.
Она не знала, сколько пролежала так. Не могла даже определить, ночь сейчас, день ли, утро. Будто провалилась куда-то в небытие. Она старалась вернуться к действительности, почувствовать удары стоящих на тумбочке часов, отмеряющих секунды.
Доктор написал: «Диагноз предварительный и окончательный: реактивный психоз в форме истерии (инлактационе)».
Колю держал в руках историю болезни и вопросительно смотрел на доктора.
— Когда вы сможете ее выписать?
— Через день-два. Ей нужно полностью успокоиться.
— А потом понадобится отдых? В горах или на море?
— Лучше в горах.
Колю медленно шел по коридору, близоруко уставившись в историю болезни. Ему все казалось, что характер столь внезапного и бурного заболевания определен неточно.
Ружа ждала его возле сквера, подогнав машину к самому входу. Увидев хмурую физиономию мужа, она испугалась. но, узнав, как обстоят дела, успокоилась.
— Значит, еще день-два?
— Да, может быть, и меньше.
Колю спрятал бумагу в карман и, сев в машину, задумался. Доброе сердце уже подсказывало ему новые планы.
— Знаешь что, Ружка, надо, не откладывая, приготовить на всякий случай мой кабинет, а вдруг ее завтра же выпишут? Доктор сказал как-то неопределенно.
— А что готовить? Там все в порядке.
— Все-таки… Свежие простыни, наволочки…
— Это пустяк, — ответила Ружа. — Гораздо важнее сразу же отправить ее в Сокольские леса. Там ей будет лучше всего, по-моему; дождей пока нет.
— Безусловно, — воодушевился Колю. — Сейчас золотая осень. Дожди пойдут не раньше ноября, так что времени предостаточно.
— В конце концов, и в ноябре неплохо.
— Да там и зимой хорошо…
— Ты опять увлекаешься, Колю!
Вернувшись домой, Колю сейчас же взялся за уборку кабинета. Он вытащил коврики на балкон, выбил их, обтер тряпкой книжные полки, чего не делалось уже довольно давно; перебрал книги, выставив на первый план художественную и медицинскую литературу; сменил в вазе воду и поставил свежий букет, красиво подобрав цветы. Маленький захламленный кабинет, где Колю Стоев писал свои пламенные статьи и репортажи и начал работу над романом, который довел уже до десятой страницы, вдруг стал светлей, засверкал чистотой. Ружа все критически осмотрела и одобрила, восхищаясь хозяйственными способностями мужа.
Радость доброжелательных супругов была омрачена неожиданным появлением Желю Манолова Сильвупле, разыскивавшего вещи Бориса.
— Я очень извиняюсь, — поклонился бывший завхоз. — Мой сын прислал меня узнать, не у вас ли имущество его бывшей жены, часть которого принадлежит ему.
— Не понял вас, — с мрачным видом сказал Колю, стоя у раскрытой двери. — Повторите, пожалуйста.
— Речь идет о двух чемоданах, — любезно пояснил Манолов; поднявшись на цыпочки, он обшарил взглядом переднюю. — Один из этих чемоданов принадлежит моему сыну.
— Ну?
— Один из этих чемоданов полагается вернуть моему сыну.
— Понятно.
— Следовательно, если позволите, я его заберу.
— Борис Желев — это одно, а Желю Манолов — другое, — сурово заметил Колю и взялся за ручку двери.
— Как же, как же, товарищ! Он ведь сын мне… А раз так…
— Никаких чемоданов выносить из дому я не позволю! — тоном, не допускающим возражений, заявил Колю; он всегда презирал бывшего завхоза, которого считал пройдохой и вымогателем. — Никаких чемоданов!.. Притом товарищ Коевская еще в больнице. И не вы, а ваш сын должен будет договориться по этому вопросу с ней лично. Только она может дать ему чемодан, если захочет, разумеется. Вам ясно?
Колю захлопнул дверь перед носом у Сильвупле. Но тот позвонил снова.
— Извините, — послышался его голос за дверью. — Откройте на минуточку.
Колю открыл.
— Я хотел бы поговорить с товарищем Орловой.
— Это бесполезно, — ответил Колю. — Наши мнения не расходятся! Не имеет смысла!
— Нет, с нею я хотел бы поговорить по другому делу… Касающемуся меня лично… Нельзя ли ее увидеть, хотя бы минут на пять… Пожалуйста, не лишайте меня такого удовольствия.
Слышавшая эти переговоры Ружа вышла. Она была удивлена визитом Манолова.
— В чем дело, бай Желю?
Сильвупле поклонился.
— Извините за беспокойство, но вы мне советовали зайти… и я, как видите…
— Я что-то не припоминаю, — ответила Ружа. — А по какому вопросу?
— По личному вопросу, — приободрился Сильвупле. — Насчет общежития имени Вали Балкановой… Вспоминаете?.. Относительно места, которое занимал Аспарух Беглишки. Уволили его или еще нет? Вот что меня интересует. Конечно, я не спешу… Да спешка тут и ни к чему, хотел лишь напомнить о себе, знаете ведь старую поговорку: прозеваешь — воду хлебаешь.
— О каком Беглишки, о каком месте идет речь, бай Желю? — недоуменно развела руками Ружа. — Вы, наверно, ошиблись?
— Нет, нет, — возразил Желю. — В городе только и разговору, что о перемещениях… Каждый спрашивает: «Ну что, теперь тебя назначат?» Интересуется народ. Я, конечно, молчу. Зачем мне говорить? Пускай говорят факты. Правильно? Но поскольку все считают, что я самый серьезный кандидат… Да и в разговоре со мной, если не забыли, вы упоминали об этом… Вот я и решил зайти, чтоб оплошности какой не вышло, а то потом трудно исправить… К тому же, как я уже сказал… прозеваешь…
— Слушай, бай Желю, — нетерпеливо прервала его Ружа. — Ты давным-давно все выхлебал, и больше тебе нечего у нас делать… Ясно?
Желю растерялся, но только на мгновенье и сейчас же кинулся в атаку:
— Да, да, пожалуй… Понимаю… Ну, если не в завхозы — в этой отрасли у меня есть кой-какие провинности, — так на какое-нибудь другое место поимейте меня в виду. Например, я мог бы спокойно заменить Гатю Хаджи Ставрева, конечно, не как возчика, а как закупщика или что-нибудь в этом духе… Я и политически благонадежен и опыта поднакопил. Теперь уж мы не птенцы желторотые, когда каждый мог нас околпачить, а потом приходилось расхлебывать кашу… Верно? Так когда мне к вам наведаться?
— Вот что, бай Желю, — сказала Ружа, — не выйдет это, зря стараешься.
— Почему?
— Выслушай меня! Разговоры, дошедшие до тебя, не имеют ничего общего с тем, что мы намерены сделать. Понятно? Перемещения, увольнения — все это тебя не касается… Кого куда назначим, кого уволим — наше дело.
— Совершенно верно!
— Постой! — подняла руку Ружа. — Не перебивай меня!.. Двери нашей фабрики наглухо закрыты для таких, как ты, для тех, кто позорил нашу честь в свое время… Так что, если ты еще раз вздумаешь обращаться с подобными вопросами, мы на предприятии будем расценивать твои действия как провокационные, и нам придется применить к тебе другие, более серьезные меры.
— Но подожди, Ружа!.. Что же теперь будет?.. Я ведь ничего…
— И не только не примем тебя на работу, но пересмотрим старое дело и отправим тебя туда, где тебе давно место приготовлено… Понятно? Или еще не понятно?
И она захлопнула дверь перед недоумевающим и растерянным Желю.
— Отлично! — сказал Колю и обнял жену.
32
Желю Манолов не пал духом, он разыскал сына и во всех подробностях передал ему разговор с Колю и Ружей.
— Что-то они затевают, но, видать, без тебя совсем запутались!.. Раз нервничают значит, невтерпеж!.. Надо бы прощупать поглубже… Я издалека учуял, что рыба уже с душком…
Но результаты разведывательной миссии бывшего бакалейщика не успокоили Бориса, а лишь усугубили его тяжелое душевное состояние.
Все пути к успокоению были отрезаны. Все раздражало Бориса, даже этот человек, который считался его отцом, словно нарочно явившийся бередить ему раны.
При первой же встрече, когда они пропьянствовали до самого вечера и изрядно напились, он дал понять отцу, что безразличен к нему. Показное благополучие этого нравственного ничтожества, для которого мир до сих пор представлял собой большую бакалейную лавку, не утешало.
Сперва Желю старался представиться сыну как человек очень счастливый и богатый, хотя и преследуемый злыми людьми, которые, к великому сожалению, еще не перевелись, да и вряд ли скоро переведутся, если чья-то крепкая рука не покончит со всем этим. Желю гордо заявил, что, смыв с себя позорное пятно, после дела с фиктивными счетами, из-за чего он чуть было не покончил самоубийством, он начал новую жизнь, полную забот и бессонных ночей. День за днем, год за годом он в поте лица, словно крот, копался в земле, добывая себе пропитание честно, без плутовства. Не везло в одном городе — он перебирался в другой, не везло в другом — подавался в третий… И так, мало-помалу, с сумой за плечами, как настоящий апостол, он обошел всю Болгарию, помогая строить новую жизнь, хотя всюду его преследовали завистники, готовые считать каждый проглоченный им кусок. В конце концов, не домогаясь ни постов, ни почестей, он очутился в Софии и там, в водах большого города, бросил якорь и нажил хорошее состояние, окруженный уважением и сочувствием многих приятелей, людей интеллигентных — некоторые из них изъяснялись даже по-французски и по-английски. Общался Сильвупле и с разными другими элементами, чтобы его не обвинили в пристрастии. За короткий срок он стал во главе товарищества, поставлявшего на строительные объекты гравий и песок со станции Искыр. Через два-три года захиревшая было София разрослась и украсилась новыми зданиями, которые, словно грибы после дождя, вырастали среди обширной долины. Гравий и песок с берегов Искыра творили чудеса. Тянулись караваны телег, грузовикам уже негде было развернуться… Перегруженные поезда тяжело пыхтели. Частная инициатива горами двигала. Деньги, словно пчелы в улей, слетались к нему в карман. Но что такое деньги, когда речь идет о благоустройстве столицы, которая росла, но не старела, как сказано в какой-то книге. Природа не была ни завистливой, ни скупой! За два года в компании с частными предпринимателями он построил полстолицы; правда, некоторые из его сподвижников в силу стечения обстоятельств угодили в тюрьму.
Какие времена! Какой прогресс! И вдруг частной инициативе крышка! Почему? По каким соображениям? Кто будет строить столицу? Неизвестно и непонятно! Явились какие-то мальчишки, отобрали у него книги с записями и кнутом разогнали всех его славных возчиков, а ведь среди них были люди, знающие английский и французский язык и даже с юридическим образованием! Да, компания рассыпалась, как рассыпаны песок и гравий по берегу реки Искыр. Заботится ли теперь кто-нибудь о жилищном строительстве — один бог ведает… Но Желю ни о чем не жалеет, он доволен — он поставил столице столько песка и гравия! Остальное чепуха! Он уже по горло сыт житейскими удовольствиями. Соскучился по родным краям, стосковался по сыну. Кровь звала его вернуться и начать новую жизнь, очистившись от всех прегрешений. Он верил в свою счастливую звезду, она всегда брала его под защиту, не оставит и теперь, когда намечаются политические перестановки. Недалек тот час, когда все поймут, как были несправедливы к нему. Однако мстить он никому не собирается. Наоборот, готов снова занять скромную должность завхоза при «Балканской звезде» и доказать всем друзьям и недругам, как он честен и порядочен и на что способен ка посту завхоза.
Борис слушал Желю, мрачно насупившись, и не верил ни единому слову. Одно его удивляло — чего ради он свалился сюда именно сейчас? Что ему взбрело в голову? Или он хочет устроиться на работу, рассчитывая на то, что люди забыли о его прошлом?
Желю Манолов делал многозначительные намеки, которые Борис должен был разгадать. Бывший бакалейщик разыгрывал роль посланца, приехавшего в родной город со специальным заданием — в решительный момент взять в свои руки власть. Эту тайну он раскрыл Борису лишь на третий день, после того как они распили несколько литров ракии. Как-то вечером Сильвупле совершенно доверительно сообщил сыну:
— Не горюй, Борка, дела поправятся… Самое большее через месяц-два! Роковой шаг сделан, возврата быть не может! Слушай меня и не робей! Придется тогда твоему деду Екиму целовать мне руку… Но я еще подумаю, стоит ли его прощать… Я подумаю!
Сперва Борис не обращал внимания па его болтовню — нечто подобное он слышал и от других, но когда Желю назвал в числе прочих фамилию Мантажиева, приятеля Беглишки, Борис насторожился. Он даже подскочил при упоминании о Беглишке, несмотря на то, что был пьянехонек.
— Что еще за приятель Аспаруха? — приступил Борис, пристальнее вглядываясь в жирную, расплывшуюся физиономию бывшего бакалейщика. — Какие могут быть приятели у Беглишки?
Сильвупле начал с жаром рассказывать, как дружил Мантажиев с некоторыми компаньонами искырского предприятия, а с Желю был на короткой ноге, на «ты», словно друг детства. В последнее время, однако, Мантажиев сильно разочаровался в Беглишки и избегал с ним встреч. Желю пытается их примирить, но получится ли что из этого — господь знает, потому что Беглишки стал чуждаться всех.
Объяснения Сильвупле были так сбивчивы и путаны, что пьяный Борис с трудом следил за нитью рассказа. Почему Мантажиев разочарован, что обидело Беглишки, в чем заключается задача Желю и почему все заплетено и замотано в клубок, в котором не найти ни конца, ни начала, — в этом он разобраться не мог. Распалившись, Сильвупле вдруг наклонился к самому уху Бориса и под большим секретом сообщил, что в стране готовится политический переворот и что Симеончо[10] совершил поездку вдоль южной границы. Вначале Борис не понял, о каком перевороте идет речь и кто такой Симеончо, поэтому Сильвупле пришлось разматывать запутанный клубок.
Борис слушал, слушал, стараясь что-нибудь понять, но поскольку с уст оратора буквально не сходило имя Беглишки, терпение его лопнуло, он приподнялся и выкрикнул:
— Беглишки подлец! Что ты мне без конца о нем твердишь? Я не желаю слышать об этом подлеце!
Сильвупле вздрогнул, оторопело посмотрел на сына — не спятил ли, мол, но Борис повторил с еще большей ненавистью:
— И Гатю подлец!
Желю застыл с разинутым ртом. А Борис уже совсем мрачно объявил, стукнув кулаком по столу:
— Ты тоже подлец! Все вы подлецы…
И, схватив стакан, он выплеснул ракию в лицо растерявшемуся оратору.
— Заговорщики!
— Борис, Борка! Что с тобой? Постой! Не шути!
— В тюрьму вас! Идиоты!.. Тунеядцы!.. Пройдохи!
Так и не удалось Желю до конца изложить свои политические позиции. Он прилагал отчаянные усилия, чтобы замять скандал, но Борис не унимался. Он продолжал орать, что Аспарух Беглишки и Гатю мерзавцы, и грозил убить обоих, пусть только попадутся ему на глаза.
— Убью! — вопил он. — Где ни встречу! Убью!
Сильвупле перепугался не на шутку. В один прекрасный день он собрал свой чемоданчик, сел в поезд и исчез из города, будто испарился.
33
Угрозы Бориса достигли ушей Беглишки. Узнал о них и Гатю. Уже испытавший на себе кулаки Бориса, он не сомневался, что этому озлобленному неудачнику, который всегда его недолюбливал, ничего не стоит привести их в исполнение. Беглишки же, при всей его трусости, не поверил — мало ли что мог наболтать человек в пьяном раже. «Полает, как собака, и перестанет, — думал он и продолжал работать в общежитии, стараясь остаться в тени. — Просто надо реже попадаться ему на глаза, не зря ведь говориться: с глаз долой — из сердца вон…» И Аспарух избегал встреч с Борисом, надеясь, что громы отгрохочут и снова наступят солнечные дни спокойствия.
Но однажды, вскоре после суда, его вызвали в отдел кадров и без лишних слов вручили приказ об увольнении в связи с «непригодностью» и «аморальным поведением, несовместимым со служебным положением». Аспарух прикусил губу. «Дело дрянь», — подумал он, подозрительно глядя на слово «непригодность».
Протестовать Беглишки не стал, боясь, что любой его протест, независимо от характера, будет расценен как бунт. Поэтому он счел наиболее благоразумным пойти к Руже Орловой и в разговоре выяснить «некоторые обстоятельства», связанные с увольнением. Ружа приняла его и внимательно выслушала.
Беглишки поинтересовался, в каком значении употреблено слово «непригодность». Как его надо понимать? Вкладывается ли в него политический смысл или только чисто профессиональный, что более вероятно. Ружа разъяснила, что «непригодность» связывается здесь с «низким моральным уровнем», иначе говоря, своим поведением на суде, а также в других местах он опорочил себя и не может после этого оставаться на работе в общежитии, где живут и воспитываются молодые работницы. А то, что его до сих пор держали на этом месте, — большая ошибка, за которую и она как директор будет в ответе.
— Помилуйте, — побледнел Беглишки. — Почему вы должны отвечать? Я ни в коем случае не хотел бы причинять вам неприятности… Если надо, я готов всю вину взять на себя и стоически вынести все. При чем тут вы? Меня это будет угнетать всю жизнь. От вас я видел только добро… Почему вы должны страдать из-за меня?
— Это уже другой вопрос, Беглишки, — сказала Ружа, — предоставьте нам самим думать об этом… А сейчас будьте любезны освободить кабинет, я очень занята.
Ружа взглянула на часы.
— Очень прошу меня извинить, — поклонился он, — за то, что отнял у вас несколько минут драгоценного времени… Вы так перегружены…
Аспарух не договорил. Пришел конец, это ясно. Не сводя глаз с Ружи, он слегка попятился, еще надеясь, что она на прощание подаст ему руку. Ружа руки не подала. Это лишь подтвердило горестное убеждение Аспаруха. Он задом открыл дверь, опять поклонился и так же закрыл ее, очутившись в полутемном коридоре. Огляделся — никого; это показалось удивительным — он ждал ареста. Водрузив на голову свою белую фуражку, он стал медленно спускаться по лестнице, которую измерял тысячи раз, строя радостные проекты и планы на будущее.
Беглишки без промедлений сел в автобус и отправился в город.
Времени терять нельзя. Надо уладить дела с Викторией, сложить вещи и как можно скорее убраться из города, чтобы о нем забыли. Как ни соблазнительна картина, нарисованная Мантажиевым, предчувствие никогда его не обманывало. В Софии дело другое — там легко потонуть в водовороте большого города, никто тебя не знает. А тут и сны твои знают. К тому же в последнее время около него вертятся глупые и легкомысленные люди, досаждая ему своей безответственной болтовней. Аспарух ничего не имел против того, чтобы мечты их сбылись. Разве не сам он подстрекал их, хотя и издали и очень осторожно?
Но эти люди утратили чувство меры. И Мантажиев, и Желю Манолов, совсем выбитый из колеи, да и Сокеров, хотя ему, как бывшему юрисконсульту, следовало быть более осмотрительным… Даже этот дурак Филипп Славков, которого на каждом шагу подстерегают кулаки, и тот взялся разъяснять международную политику… Благо хватило догадки убраться в деревню, пока утихнет буря.
Одолеваемый страхами и сомнениями, Аспарух лихорадочно раскидывал умом. Поднимаясь к себе в мансарду, чтобы сейчас же заняться сборами к отъезду, Беглишки увидел стоявшего возле двери Гатю. Это неожиданное посещение испугало Аспаруха. Он остановился несколькими ступеньками ниже и с содроганием измерил гигантский рост возчика.
— Что ты тут делаешь, Гатю? — спросил он, ухватившись за перила.
— Жду тебя.
Бумажка в руках Гатю ясно говорила о том, что с ним произошло. Прозорливый философ не нуждался в объяснениях. Бросив только: «И тебя?» — Аспарух извлек связку ключей и стал молча отпирать дверь. Он делал это так медленно и торжественно, словно бы в последний раз. Руки у него заметно дрожали, как ни старался он сохранить твердость и уверенность. Дважды повернув ключ, он нажал на дверную ручку и предложил гостю войти.
— Прошу, Гатю, прошу!
Аспарух чувствовал, что судьба сближает его с этим человеком, как ни противен он ему был своим невежеством и грубостью. А впрочем, когда судьба их разделяла? Они всегда были одинаково несчастны и одинаково гонимы, так что отвращение — это одно, а идеалы — совсем другое. За идеалы их преследовали, подвергали гонениям… За них…
Аспарух откашлялся, будто поперхнувшись собственными мыслями. «Идеалы, — повторил он про себя с иронической усмешкой, — идеалы! Мои идеалы и идеалы Гатю!» И скептически поджал губы, ощутив кислый запаха пота, которым пахнуло от возчика. Гатю в это время с трудом усаживался на низенький стул, предложенный хозяином.
— Ну, что же теперь? — беспечным тоном спросил Аспарух, стараясь приободрить павшего духом Гатю. — Драться будем или сдаваться?
Гатю ничего не ответил, да и вряд ли понял, что от него хотят, занятый разглядыванием справки. Протянув ее после долгого молчания своему покровителю, он спросил:
— Как нам быть-то? Чего делать будем?
— Что тут поделаешь, Гатю! — сказал Аспарух, — Станем искать работу, вот и все.
— Как так искать работу?.. Нешто я… Что я им сделал? Пил… А кто нынче не пьет? Кто не пьет?.. Уволь они меня из-за листовок или еще из-за чего, другое дело, а то… за пьянство, за разложение… Да я… Один я, что ли, пьяница?.. Ты вот не пьешь… Тебя за что увольняют? Ладно, я пью, а ты?
Аспарух укладывал в чемодан какие-то бумаги, искоса поглядывая на расстроенного возчика, который не переставал сокрушаться и негодовать. Он с любопытством на-наблюдал, как гнев Гатю нарастал с каждой минутой. А когда возчик разразился невнятными угрозами в адрес директора фабрики, Аспарух шутливо спросил:
— Тебе уже известно, кто метит на твой престол?
Гатю поднял отяжелевшую голову.
— Какой престол?
Аспарух усмехнулся.
— Ну, на твое место. Неужели не знаешь? Желю Манолов подал заявление.
— Кто? Желю? Борисов отец? Да нешто он тут останется?
Аспарух рассмеялся.
— Эх, ты, Гатю-простота!.. Видать, добряки вроде тебя узнают правду позже всех. Конечно, останется. Затем он и приехал. Борис ему написал. Все эта история хитро задумана. Вернее, Желю метил на мое место, но поскольку люди еще не забыли его проделок, решил добиться своего кружным путем. Сперва в хозчасть, потом завхозом общежития. А вот ты, Гатю, «непригоден»! Гатю пьяница! Гатю разложился! Старые штучки! Ясно?
Гатю молчал. Уронив бумажку на пол, он тупо глядел на Аспаруха, словно с трудом понимал смысл сказанного, хотя все было просто и ясно.
— Как же так?.. Что он смыслит, этот Сильвупле, в моем деле? И вдруг, здорово живешь, в хозчасть назначают… Он и повозки-то никогда не видел, лошади не запряг… Туда же в завхозы… Да они ему голову размозжат, мои лошади! Страх какие буйные! Где ему править?.. Французить с ними собирается… Нет, это ему не каля-маля…
Гатю задыхался от злости, не находя слов, как обругать Желю. Аспарух хлопнул его по плечу.
— Ты прав, Гатю, но дело тут несколько сложнее.
Возчик почесал лоб и спросил неожиданно:
— Ты это про Бориса?.. Да кому он нужен нынче? Кто его во внимание принимает?
Аспарух подсел к нему и покровительственно похлопал по коленке.
— Послушай, Гатю, сейчас я объясню тебе, где собака зарыта.
Он заглянул ему в глаза и продолжал:
— Прежде всего ты для них человек неблагонадежный. Что бы ты ни делал, ты слуга Гавазовых, ты фашист, шпион, изменник, предатель, мошенник, кровопийца, подхалим, империалист и прочее, и прочее… Одним словом, ты враг! Ну ладно, и вот… спрашивается, может ли враг оставаться на работе? Не может! Может ли он занимать место, на которое нацелился какой-нибудь партиец? Не может.
— Борис никакой не партиец, — возразил Гатю.
— Эх, Гатю! А кем была его мать? Кто его дед? Ты забыл об этом? Что бы сейчас Борис ни творил, к его слову прислушаются. Не будь наивен. Вся затея с твоим увольнением давно им подготовлена, чтобы папашу пристроить. У меня точные сведения. Он же и о моем увольнении позаботился, когда понял, что я не стану защищать его в суде, как ему хотелось. И особенно озлобился, когда на меня возвели в суде поклеп, будто я имел дело с его женой… Глупости, стал бы я марать руки… Какая-то потаскуха… падшая женщина… С тех пор он прямо-таки осатанел… Перед каждым встречным костит меня… Даже искал случая расправиться со мной. И, по правде говоря, я боюсь этого человека, он способен на все! Ему мало моего увольнения. Он будет меня преследовать до гробовой доски. А то и пострашней что-нибудь придумает, потому что он невменяем! Потому что бесчинствует за широкой спиной своего деда да разных там партийцев… А кто за тебя постоит? Кто хоть пальцем шевельнет в мою защиту? Никто. Вот в чем суть, Гатю! Хочешь верь мне, хочешь не верь.
Он откинулся на спинку стула и, скрестив руки, глубоко вздохнул, исполненный жалости к Гатю и к самому себе. Возчик все глядел на него с недоуменным видом. Можно ли доверять этому человеку — вот что было ему неясно. Наконец он изрек:
— Ты прав.
Оба умолкли.
— Одного я в толк не возьму, — снова заговорил Гатю. — Почему он на мне срывает зло за Филиппа?.. Филипп путался с его бабенкой, а все шишки на меня… С какой стати?
— Ты отец Филиппа, — сказал Аспарух. — Потому Борис и ненавидит тебя, если, конечно, не принимать во внимание политические причины, которые им нужны только как мотив для увольнения. Все подстроено! Чего тут не понять!
Гатю нагнулся, поднял с пола бумажку и встал.
— Не знаю, кто прав, кто виноват… Но теперь мой ход! — не сказал, а скорее выдохнул Гатю и, тупо глядя на бумажку, двинулся к двери. Аспарух задумчиво смотрел в окно. Уже переступив порог, Гатю еще раз спросил своего покровителя:
— Ну, так как же? Станем добиваться, чтоб нас вернули?
— Безнадежно!
— Может, хоть выходное пособие потребовать? Я по уши в долгах. Ни гроша в кармане… Как ты считаешь?.. Должен я расплачиваться?
Аспарух пожал плечами.
— Тебе что, у тебя в банке лежат… А вот мне… — продолжал Гатю. — Ни лошади, ни повозки… Куда деваться? Камень на шею да в Синий омут… Другого выхода нет…
— Ты прав, Гатю. В твоем положении и руки наложить на себя не долго. Нет ничего удивительного!
Гатю не сводил с него вопрошающего взгляда.
— Сходи на всякий случай к Борису… Пусть объяснит, почему так поступил с тобой? Что ты ему сделал?
— А, к Борису! — вздрогнул Гатю. — Он ненавидит меня…
— Да, верно, он страшно озлоблен… Грозился ведь убить тебя… И, чего доброго, выполнит угрозу. Долго ли ему — и бровью не поведет… Эти, из его шайки, ни перед чем не остановятся. И к работе тебя не допустят на станции, даже гравий грузить не позволят… Классовая борьба, Гатю! Страшное дело.
Глаза Гатю расширились от ужаса — картина, нарисованная Беглишки, привела его в полное отчаяние. Он не видел спасения, не видел никакой соломинки, за которую можно было бы ухватиться. А тут еще Аспарух со своим советом.
— Ступай проси Бориса, Гатю, может, сжалится над тобой. Ступай, ступай!
Шумно переведя дух, Гатю прикрыл дверь и стал тяжело спускаться с лестницы, и до самого дома в ушах его звенел голос Беглишки.
34
В это воскресенье у Бориса было отличное настроение. Впервые после развода. Из достоверного источника он узнал, что Аспаруха Беглишки вытурили наконец с «Балканской звезды». Уволен ли также и Гатю, мало интересовало Бориса. Может быть, отчасти потому, что когда-то Гатю попал на фабрику по его настоянию. Так что если сейчас уволят Гатю, значит, косвенно признают и вину Бориса. Беглишки — другое дело. Беглишки — человек опасный, это лисица, и очень правильно сделали, убрав его.
По этому случаю Борис выпил с Геннадием и теперь собирался на матч.
Он работал все там же, на станции, — грузил гравий, песок, не отказывался и от другой работы, хорошо зарабатывал. Жил вместе с Геннадием, а случалось, ночевал и в грузовике на берегу реки.
Одно мучило Бориса, лишало его покоя — он до сих пор не видал своей дочери, хотя та давно вернулась с матерью с морского курорта. Яна и Валя жили высоко в горах, на «Победе Сентября», и Борис не имел возможности попасть в эту крепость без согласия Яны. Сколько раз бродил он вокруг фабричной ограды, надеясь в щелочку посмотреть на ребенка, но ему ни разу не посчастливилось. Борис слонялся у главных ворот, прислушиваясь к веселому ребячьему щебету, доносившемуся из глубины парка — из детского сада. Ему все чудилось, что в общем хоре звучит и радостный голосок его дочурки. Но он не мог ее увидеть, и от этого глаза его наполнялись слезами.
Однажды, незамеченный охраной, он проник в буковый лес за фабрикой, перемахнул через проволочное заграждение и спустился по берегу ручья в долинку, где в невысоких светлых домиках жили дети. И странное дело, он не чувствовал ни страха, ни смущения, пока полз по лесу и, словно вор, пробирался сквозь кусты, но теперь, когда он добрался до детского городка и увидел сверкающие стекла раскрытых окон, сердце у него заколотилось так, словно хотело вырваться из груди, а ноги дрожали и подкашивались, отказываясь ему служить. Он волновался, как юноша перед свиданием, и вынужден был посидеть на скамейке за кустами роз, чтобы успокоиться.
Вокруг было тихо, так тихо, что слышалось жужжание пчел над пышно распустившимися розами. Безмятежное спокойствие было разлито в этом зеленом, цветущем парке, испещренном солнечными бликами. Посреди блестело зеркало небольшого и неглубокого бассейна, обнесенного низенькой железной оградой, издали похожей на нежную кружевную каемку. Бассейн окружали скамеечки, окрашенные в желтый цвет, что придавало пейзажу еще более веселый вид; дальше открывалась картина самого городка с качелями и горками, с параллельными брусьями и железной перекладиной, тоже низенькой — как раз по росту маленьких спортсменов.
Борис с любопытством разглядывал этот миниатюрный стадион и умилялся при мысли, что здесь вместе с другими детьми играет, бегает и кричит его дочурка. Хотелось подойти поближе — осмотреть и качели, и горку, но он боялся, что его заметят, да и пора уже было возвращаться. Поскорее бы увидеть девочку! Но в городке почему-то никого не видно и не слышно.
Не вытерпев, Борис решил выяснить, почему дети до сих пор не выходят играть. Он прошел мимо бассейна к солнечному домику с колоннами, который издали казался просто сказочным. На открытую террасу вышла женщина в белом халате и, окинув его подозрительным взглядом, спросила довольно сердито:
— Что вам здесь нужно, товарищ?
— Дочь свою хочу увидеть, Валю.
Женщина раздраженно ответила:
— Отец нашей Вали — товарищ Манчев… А вы кто такой?
— Как так? — вспыхнул Борис. — Я ее отец.
Женщина повернулась к нему спиной, скомкала тряпку и, начав протирать стекла, добавила:
— Ни разу вас тут не видела… А товарищ Манчев каждый день приходит.
Борис сел на каменную ступеньку и, помолчав с виноватым видом, рассказал уборщице свою печальную историю. Женщина выслушала его не без любопытства и, смягчившись, доверительно сообщила, что дети ушли на Папоротниковую поляну, вернутся к обеду, а потом будут отдыхать в кроватках.
Борис сердечно поблагодарил добрую женщину и поспешил на поляну. Дети, как сказал ему лесничий, ушли к речке за луговыми цветами. Борис кинулся на луг, но и там не застал ребят. Они перешли через деревянный мостик и прошли обратно по другому берегу речушки. Так объяснили ему встречные лесорубы. Борис бродил по тропинкам, взбираясь на пригорки, осматривал зеленые поляны — детей нигде не было, они будто нарочно прятались от него. Вернувшись к главному входу, он узнал от сторожа, что малыши, выстроенные попарно, длинной колонной только что вошли на территорию. Борис снял фуражку и вытер вспотевшее лицо. В это время из-за ограды донеслась радостная песенка маленьких туристов, возвратившихся из долгого похода. И Борису невольно вспомнились слова незнакомой женщины, смысл которых показался ему сейчас еще страшнее: «Отец нашей Вали — товарищ Манчев… А вы кто такой?» И тоска по ребенку сильней защемила сердце.
Борис, разумеется, не отчаивался. Законного права никто у него не отнимет. Рано или поздно правда восторжествует. Мешают, конечно, гордость и амбиция — родимые пятна прошлого нелегко стираются. Но ведь победил же Борис в борьбе с Беглишки, победит и в борьбе с Яной, докажет свое право на ребенка, плоть от плоти его!
В таком настроении слегка подвыпивший Борис отправился в тот день на новый стадион, где должен был состояться футбольный матч. Он помнил, как сооружался этот стадион! Одни хотели, другие возражали; одним нравилось выбранное место, другим не нравилось… Заседания, разговоры… А дело на точке замерзания… Пока наконец не вмешался он, Борис. Но и потом какую борьбу пришлось выдержать, сколько было подводных камней… Он, конечно, настоял на своем, ведь все делалось в интересах горожан. После-то все радовались, и каждый старался приписать заслуги себе… А кто подал идею, кто боролся с предрассудками — об этом никто и не вспомнит. Впрочем, черт с ним, он всегда отличался скромностью!
Решив пройти через новый парк, Борис свернул с дороги, ведущей вдоль реки, и вышел на главную аллею. И тут его осенила счастливая мысль: «А вдруг она с дедом здесь гуляет?» У него заколотилось сердце. Он устремился по аллее, в глубине которой маячили какие-то фигуры. Борис задыхался от волнения. Он несся вперед в лихорадочном возбуждении, предвкушая желанную радость встречи.
На скамейке сидел дед Еким и читал газету, а чуть в сторонке играла с ведерочком Валя. Дед с бабушкой выпросили у Яны девочку на воскресенье, чтоб порадоваться на ребенка. И вот целое утро они, словно опьянев, вертелись возле внучки, наперебой балуя ее. Угощали разными лакомствами, пирогами, без конца тискали и целовали, а после обеда дед Еким новел девочку в парк подышать свежим воздухом.
Запыхавшийся Борис кинулся прямо к ребенку. Дед Еким не заметил его и порывисто обернулся, только когда услышал: «Валечка, Валечка!» В нескольких шагах от него, стоя на коленях в песке, Борис обнимал смущенную дочурку.
— Борис, — вскочив, крикнул старик, — что ты делаешь?
— Оставь меня, дедушка.
Девочка уронила ведерко. Взволнованный отец наполнил его песком и подал ей, спросив при этом, любит ли она шоколадки. Девочка сказала, что любит.
— А бузу?
— И бузу.
— А лимонад?
— И лимонад.
Он подхватил девочку, поднял ее высоко и понес к павильону, где продавалось все, что она любила.
Дед Еким поплелся за ними.
— Пусти ее, Борис, — кротко просил старик. — Она сама может идти. Не надо ее баловать.
— Ничего, дедушка, я понесу. Она не тяжелая.
Он торжественно выступал посреди аллеи с ребенком на руках, не забыв прихватить и ведерко.
Старик семенил следом и не знал, радоваться ему или горевать. Он заметно состарился в последнее время, волосы совсем поседели, брови торчали, как клочки нескошенной травы, глаза угасли.
У павильона Борис опустил дочку на землю и достал бумажник.
— Ну, теперь говори, моя девочка, чего тебе хочется.
Дед Еким стоял в стороне и хмурился.
— Не транжирь деньги, Борис. Купи ей шоколадку, и все тут.
— Ты, дедушка, не вмешивайся! Она моя гостья, пускай приказывает.
Старик сдался.
Девочка поднялась на цыпочки и с восхищением осмотрела все, что было разложено на прилавке. Сперва она потянулась к шоколадке, потом к пестрым леденцам, а затем к бутылкам с лимонадом. Но тут лежали и конфеты в мешочках, и шоколадные «кошачьи язычки». Борис все это брал и совал ей в ручонки.
Они отошли от павильона, когда в кармашках и в руках у девочки было полно подарков. Борис счастливо улыбался и нежно гладил ее каштановые волосы, мягкие, словно атлас.
Втроем они снова вернулись в парк. Не сводя глаз с ребенка, Борис озабоченно сказал:
— Дедушка, по-моему, Валя очень бледненькая. Я тебя прошу, не давайте ей сладостей перед едой. Сладости убивают аппетит!
Дед Еким кивнул головой, жмурясь, как старая кошка, привыкшая к шалостям котят. Борис наставительно продолжал:
— И пусть не пьет воды за едой — дети любят пить, когда едят, но это вредно для здоровья! Запомни, что я тебе сказал!
Дед Еким снова зажмурился.
Борис обратил его внимание и на то, как девочка одета и обута, напомнил, что ноготки на руках надо регулярно обстригать. Затем, взглянув на часы, сказал, что хотел бы взять Валю на матч. Старик пришел в ужас.
— Да что ты! — воскликнул он. — На матч! Никогда! С минуту на минуту за нею должна прийти Яна! Что мы ей скажем? Об этом не может быть и речи! Заберет ребенка и больше никогда к нам не пустит… Нет, нельзя!
Борис пробовал его убеждать, но дед Еким и слушать не стал.
— Ну ладно, дедушка, — согласился Борис. — Раз так, я не настаиваю. Как видишь, я благоразумен, не хочу тебя ссорить с Яной. Об одном только прошу…
Дед Еким поглядел ему в лицо.
— Всякий раз, когда Валю будут привозить к вам, сразу же давай мне знать. Я должен видеть ее, хотя бы и не часто, следить за ее воспитанием. Потом я окончательно улажу этот вопрос. Так дальше продолжаться не может. Валя моя дочь, и я имею на нее права!
Старик пугливо оглядывался.
— Торопись, Борис, а то опоздаешь на футбол.
— Не опоздаю, дедушка, — возразил Борис. — Тебе не терпится от меня избавиться!
Он опять прижал к себе Валю и стал целовать в щечки.
— Ну теперь до свиданья, моя деточка!
Валя тихо ответила:
— До свиданья.
Борис улыбнулся.
— Я твой папа!
Он ткнул пальцем себя в грудь и повторил, что он ее папа. Валя ничего не имела против этого, ее удивляло только, что у нее уже есть папа, который называет ее «моя Валечка». Разгадав ее сомнения, Борис еще раз указал на себя.
— Это я твой папка!.. Я всегда буду тебе покупать шоколадки!
Дед Еким тронул его за локоть.
— Хватит тебе, Борис, опоздаешь!
Борис окинул его строгим взглядом.
— Ты, дедушка, не вмешивайся! До свиданья, Валечка, до свиданья, родненькая!
— До свиданья, — ответила девочка, копаясь в песке, отвернувшись от них. Удаляясь, Борис все оглядывался и махал рукой. А Валя играла песочком, то насыпая его в ведерко, то высыпая, — более важного дела, чем это, для нее не существовало в данный момент.
Дед Еким, выйдя на середину аллеи, смотрел вслед внуку и, переводя взгляд на беззаботно игравшую правнучку, горько усмехался.
35
К стадиону народ стекался со всех концов города. Борис двигался вместе со всеми, и на душе у него было легко и весело. Как в детстве, он купил тыквенных семечек, поджаренных с солью, и лущил их, победно посматривая из-под козырька надетой набекрень фуражки на пеструю многолюдную толпу, говорливую, шумную и спешащую.
Взволнованный встречей, которая потрясла и ошеломила его, он все еще не мог прийти в себя от выпавшего на его долю счастья. Сейчас он был раздосадован, что пошел на матч, а не остался с дочкой. Он бы, конечно, остался, махнув рукой на футбол, если бы не дед с его глупыми страхами. Пускай бы их увидела Яна, ну и что? Что бы случилось, если б она застала их вместе? Разве у него нет прав на Валю? Ну да ладно, не стоит огорчать старика, как бы хуже не вышло!
Однако Борис не переставал упрекать себя, все больше сожалея, что упустил удобный случай вволю полюбоваться на родное дитя. Не дойдя до стадиона, окончательно решил вернуться в парк.
Но старика и девочки уже не было там, где Борис оставил их. Он исходил весь парк, прошел берегом, заглянул в беседку в глубине парка, даже в ресторан, но деда Екима с Валей и след простыл. Ясно, они ушли домой. Сходить разве к старикам? А вдруг там Яна? Пораздумав, Борис все же решил отправиться на улицу Героев Труда. Превозмогая мучительные сомнения, он вошел во двор и позвонил у двери. Никто ему не ответил. Домишко был на замке. Вероятно, старики отправились куда-то с девочкой. Может быть, повезли ребенка к матери, на «Победу Сентября»?
Борис опять пришел в парк, сел на скамейку и задумался, представляя себе дорогое детское личико, и сердце его постепенно успокаивалось, наполняясь светлыми воспоминаниями о забавной маленькой девчушке.
Со стадиона далеко разносились возгласы и крики болельщиков, напряженно следящих за ходом матча. Но Борис ничего не слышал.
Неуловимо и незаметно на город спускался вечерний сумрак, будто выползая из скалистых горных теснин. В парке, словно свечи, белели березки, но скоро и их поглотили синие сумерки. В ресторане зажглись лампы, а вслед за этим засветились и уличные фонари. Со стадиона отдельными взрывами долетали крики. Борису хотелось подольше посидеть тут и помечтать, но подул ветерок, стало зябко, и он перебрался в ресторан.
Сел за столик возле буфетной стойки в тени навеса, заказал что-то горячее и бутылку красного вина. Еще не принявшись за еду, выпил бокал вина, и настроение у него поднялось; захотелось поговорить с кем-нибудь. Но публики было мало — потому, может быть, что не закончился матч.
Вскоре вошли двое и остановились возле буфета спиной к Борису. Они чокнулись с таким мрачным видом, словно все им опротивело, и принялись потягивать вино. Борис следил за ними со стороны, и в нем все сильнее разгоралась злоба.
Он начал покашливать и, жадно глотая вино, то и дело подливал себе в стакан.
Борне видеть не мог Гатю. Он искал случая придраться к нему, втянуть в разговор и отпустить что-нибудь такое, от чего бы тот полез на стенку. Но Гатю не оборачивался и не давал Борису повода для замечаний.
Воспользовавшись тем, что Гатю уронил кнут, Борис спросил:
— Зачем кнут таскаешь с собой? Тебя ведь вышибли с «Балканской звезды»!
Гатю повернул к Борису свое зеленовато-бледное лицо и мрачно уставился на него. Он был так страшен, что Борис осекся.
За спиной Гатю молча стоял другой возчик, и это как бы придавало ему храбрости. Без излишней горячности Гатю твердо и с легкой угрозой бросил в ответ:
— Эй, ты, там, сиди да помалкивай! Чего гавкаешь, когда тебя не трогают! Лопай и молчи!
Борис приподнялся и вызывающе спросил:
— Это кто гавкает?
Гатю не ответил. Он снова отвернулся к стойке. Бориса в пот бросило от ярости при виде широкой спины ломовика: казалось, она закрывала ему весь белый свет.
Зажав в руке пустую бутылку, он подошел к Гатю и ткнул его горлышком в бок. Гатю резко обернулся.
— Чего тебе надо, ну? — огрызнулся он, оттолкнув руку с бутылкой.
Борис прищурился.
— Хочу, чтоб ты заткнулся.
— Ты что, у себя дома?
— У себя дома, — ответил Борис и снова ткнул бутылкой в Гатю. — Я-то дома, а вот ты где?
Гатю недобро усмехнулся, подмигнув своему приятелю.
Борис сунул бутылку в карман своих бриджей и сказал:
— Хочешь, я покажу тебе, где твой дом?
Гатю молчал.
— Хочешь?
Борис поднял руки и, скрестив пальцы, изобразил тюремную решетку.
— Вот где твой дом, в каталажке! Понял теперь где?
Гатю опять смолчал.
— Я тебе дал жизнь, я и отниму ее! — заносчиво объявил Борис, отступая. — Понял?
Возчики не отозвались ни словом. Рассчитавшись с буфетчиком, они быстро ушли.
Борис вытащил из кармана бутылку и поставил на стол. Выпил он уже достаточно и чувствовал, что лишняя бутылка только испортит ему настроение. Лучше уйти, пока не поздно.
И он потихоньку побрел. На улице совсем стемнело. Был один из тех осенних вечеров, которые наступают как-то неожиданно, окутывая город пронизывающей сыростью. На улицах тут и там горели электрические фонари, и лишь возле гудевшего ущелья скопился густой мрак.
Борис шел по темной тропинке у самой реки и чувствовал, как сквозь тонкий летний пиджак его пробирает сырость. По ночам в низине всегда холодно, особенно осенью, когда ветры гонят из ущелий туман. Борис предполагал переночевать в каком-нибудь грузовике на берегу, как он часто делал летней порой, но резкое похолодание смешало его планы. И он повернул к станции, надеясь встретить Геннадия или кого-нибудь из его приятелей и укрыться на ночь в теплой квартире. Ему хотелось спать.
Шум реки, тихий и монотонный, следовал за ним, словно какое-то живое существо пыталось заговорить с ним, проникнувшись его мыслями и мечтами, до сих пор никем не понятыми. Борис вслушивался в рокот реки, указывавшей ему путь. Вокруг было пусто и уныло. Но Борису приятно было идти в одиночестве по берегу и обдумывать свои дела, все еще не налаженные.
Миновав первые два моста, соединявшие обе половины города, он пересек пустынную площадь и зашагал быстрее.
Вот уже и последнее из городских строений осталось позади. Чтобы сократить путь, Борис повернул к скалистому выступу; его одолевала усталость. Ноги болели, избитые щебнем и шлаком.
Конечно, проще было сесть в автобус, но автобусы в это время ходили редко, а Борис терпеть не мог стоять и ждать. Кто знает, когда он придет, этот автобус, да и придет ли вообще?
Тропинка карабкалась в гору. Вот и площадка, с которой купающиеся прыгают в речку. Отсюда дорожка спускалась прямо на равнину, и вдали уже вырисовывались станционные постройки. Путь этот был Борису хорошо знаком. Множество раз он проделывал его и пешком, и на велосипеде, и на мотоцикле, и в легковом автомобиле.
Сейчас он медленно поднимался в гору, рассчитывая отдохнуть на площадке и идти дальше, туда, где его ждали. Геннадий наверняка захочет посидеть еще немного в буфете, и Борис, разумеется, возражать не станет. В конце концов, провести час в обществе приятелей не так уж плохо, если есть что выпить.
Извивающейся вдоль реки пустынной дороге, узкой и каменистой, изрытой потоками, казалось, не будет конца. Борис торопился, но с трудом подвигался вперед. Он пыхтел, изнемогая, оступался в ямы, спотыкался и, пошатываясь от выпитого, еле двигал ногами, на которые словно кандалы надели.
От усталости, вина и холодного мрака, обступавшего со всех сторон, Бориса начали осаждать неприятные, гнетущие мысли.
Говоря по правде, его мало привлекала работа грузчика, так же как и вечно пьяная компания Геннадия. Общаться с этими людьми, которых он презирал, было унизительно для него. Удерживала его здесь только дочка: он ни за что на свете не согласился бы с ней расстаться; не будь ее, он давно бы уехал, подыскал бы себе другую, более подходящую работу.
Взять к себе ребенка — вот о чем он мечтал сейчас, хотя это и представлялось ему почти несбыточным. Как именно это произойдет, он пока не знал, да и не хотел раздумывать над этим. Гита ушла, как и пришла, с шумом и криком. Оказалось, что они легко могут жить друг без друга, может быть даже более счастливо. Яна устроила свою жизнь. Он не завидовал ей, уязвленный только тем, что она не позволяла ему взять ребенка. Дед Еким уже одной ногой в могиле. «Балканская звезда» теперь для Бориса далекое воспоминание. Ему стыдно было не только показаться там, но даже думать об этом — таким опозоренным он чувствовал себя после развода с Гитой. Там насмехались бы и подшучивали над ним до конца дней. Мог ли он пользоваться авторитетом после всей этой истории?
Единственной путеводной звездочкой в его жизни оставалась Валя.
Занятый этими мыслями, он устало взбирался на площадку, где можно было посидеть и отдохнуть.
Вдруг его пронизала боль от тяжелого удара по спине. Он мгновенно обернулся, стараясь защититься, но его вновь ударили чем-то твердым и тупым, как железный молот, — теперь по плечу. Борис потянулся, чтобы вырвать этот молот, и застыл от ужаса — прямо перед ним сверкнули оскаленные зубы Гатю Цементной Головы. Не дав Борису крикнуть, Гатю повис на нем, схватив за шею.
— Что ты делаешь, Гатю? — прохрипел Борис.
Гатю не ответил. Он стиснул Борису шею обеими руками и повалил на землю. Крик застрял в горле Бориса. Он отчаянно защищался, брыкался ногами, стараясь вырваться из цепких рук, но Гатю был сильнее и прижимал его к земле, все крепче стискивая горло. Борис еще надеялся, что Гатю опомнится и отпустит его, выместив свой гнев. Гатю не отпускал, словно забыв это сделать. Борису хотелось крикнуть, сбросить его руки — ведь так и задушить можно, — но Гатю продолжал сжимать ему горло, упершись коленями в живот, будто решил выдавить внутренности. Борис хрипел, силясь что-то сказать, прекратить эту опасную борьбу… На глаза его вдруг надвинулся мрак; он ничего больше не чувствовал, ничего не сознавал. Гатю приволок Бориса на площадку, в безумном страхе все еще стискивая ему горло, затем высоко поднял и бросил в самое глубокое место реки. Вода с глухим всплеском поглотила еще теплый труп, образовав широкие пенящиеся круги. Потом все стихло, и река, темная и холодная, понесла свои воды дальше.
36
На другой день солнце взошло огромное, веселое, красное, но скоро скрылось в облаках и больше уже не показалось. Осень вступала в свои права. В горах и по реке ползли туманы. Тополи и яблони начала прихватывать желтизна. Дикие груши в горах так ярко рдели, словно их огнем опалило. Ветер играючи срывал паутинки с деревьев и разносил их по городским улицам, садам и реке. Во дворах жгли опавшие листья и сухую траву, которая росла под заборами вперемешку с бурьяном и терновиком. Над черепичными крышами домишек, над вербами и тополями вился синий дымок, легкий и прозрачный, как небо, к которому он устремлялся. Чувствовался терпкий запах лета, сгоравшего в пламени костров.
В этот день Ружа Орлова закончила все приготовления. В прихожей лежал рюкзак с бутылями и хлебом, а в гостиной возле кушетки стоял чемодан с бельем. Внизу ожидала заправленная бензином, чисто вымытая «победа». Даже талисман — коричневая обезьянка — был подвешен на шелковой нитке высоко над рулем. Это подарок Гиты по случаю выхода из больницы. Ружа с удовольствием приняла подарок, предупредив свою гостью, чтоб не сердилась, если обезьянка будет напоминать былую Гиту.
— Почему былую? — не утерпела Гита. — Мне хочется, чтоб она напоминала и нынешнюю. Только с этим условием я дарю ее.
— Хорошо, — улыбнулась Ружа. — Будь по-твоему, не станем спорить.
Обо всем уже было переговорено. Припоминали, не забыла ли что-нибудь Гита, уезжавшая сегодня в Сокольские леса. И самые, казалось бы, обычные вещи вызывали разногласия. Гите хотелось взять туфли на высоких каблуках, а Ружа предлагала свои туристские, которые Гите были совсем впору, а Ружа их почти не носила.
— Да, но не мешает захватить и эти, на высоких каблуках. Сокольские леса не глухомань какая-нибудь, а первоклассный курорт. Столько народа туда съезжается… Не могу же я целыми днями топать в твоих башмаках… Согласись, Ружка, неудобно… Кое в чем ты все еще плохо разбираешься.
Ружа промолчала, подавляя улыбку, удивленная своенравием гостьи, которая и сейчас не забывала заботиться о красоте. Но, чтоб не посрамить себя, сочла нужным добавить:
— Я согласна, только ты обещай мне ходить на прогулки и поменьше танцевать… Помни, ты должна там отдохнуть, окрепнуть и подлечить нервы… Поэтому возьми и туристские как залог того, что ты последуешь моему совету.
Гита засмеялась, подхватила тяжелые ботинки и обняла Ружу.
— Уф, все-таки настояла на своем, не отстала до тех пор, пока не всучила мне эти сапоги! Ладно, ладно, выполню все твои распоряжения, кроме одного: вернусь, как только мне надоест. Разрешаешь?
— Боюсь, как бы тебе не надоело на другой же день.
— Такой опасности нет… Говорят, там очень весело. Туман подолгу не задерживается. Солнечно, тепло. А по вечерам, наверно, собираются у камина в гостиной, слушают радио, играют в шахматы, танцуют.
— Все там как было прежде. Я уверена, тебе понравится больше, чем ты думаешь.
Рассеянно слушая Ружу, Гита то и дело вскакивала с кресла, подбегала к раскрытому окну посмотреть, не пришел ли Колю, и полюбоваться машиной, стоявшей у подъезда.
«Победа» ждала ее, в любую минуту готовая помчаться вверх по белой дороге среди горных теснин и буковых лесов. Через час, а может, и раньше она окажется на окруженной пожелтевшими деревьями вершине, в тиши золотой осени, уже царствующей повсюду. Будет тепло, весело и чуть грустно, как грустна песня сверчков, которую они распевают где-то за очагами и каминами, не желая расставаться с последними курортниками. Днем будет она гулять по скошенным лугам, утром — подниматься к скалам по узкой дороге, извивающейся среди старых буковых лесов; побывает в опустевшем пионерском лагере, а вернется оттуда через широкие поляны, поросшие папоротником, над которыми до сих пор порхают золотистые бабочки. Не захочется бродить по лесам и полянам — сходит на озеро, где плещут студеные воды и тихонько баюкают старую лодку. На скучат горы и озеро — поболтает по телефону с Ружей, узнает, какие новости там внизу, в городе.
Размечтавшуюся Гиту вывели из задумчивости городские часы, бой которых доносился так ясно и отчетливо, будто из дома напротив. Невольно прислушавшись, Гита насчитала одиннадцать ударов. Ее вдруг охватило такое нетерпенье, словно она целый год ждала отъезда. Только хотела напомнить Руже, что пора ехать, в этот момент распахнулась дверь и в комнату вихрем ворвался запыхавшийся Колю. Он был бледный, взъерошенный. Сняв запотевшие очки, он глухо сказал:
— Бориса убили… Труп в реке нашли… возле станции.
— Как убили? — в один голос крикнули женщины, вскочив со своих мест.
Колю надел очки и опустился в кресло. Ноги у него подкашивались от волнения.
— Сегодня утром вытащили труп… экспертиза установила, что Борис убит…
Колю говорил сбивчиво, бессвязно; стоявшие по обе стороны кресла женщины с ужасом слушали его.
— А теперь… Что нам делать теперь?
Колю даже не понял, которая из них задала вопрос. Глянув в окно, он ответил как бы самому себе:
— Теперь мы должны покончить с ними… раз и навсегда!
Он встал и принялся нервно расхаживать по комнате, сопровождаемый взглядами потрясенных женщин; в голове у них все еще не укладывалась эта страшная новость.
— А следы убийц не обнаружены? — спросила наконец Ружа.
— Пока нет, — ответил Колю. — На всякий случай утром был снят с поезда Аспарух Беглишки — в Софию направлялся.
Все трое молча переглянулись.
Снаружи повеяло прохладным ветерком, качнувшаяся створка раскрытого окна напомнила о Сокольских лесах. Гита сорвалась с места и вышла в прихожую. Колю и Ружа проводили ее взглядом. Что она задумала? Гита взяла заботливо уложенный к отъезду рюкзак, подхватила и чемодан и отнесла в кабинет, предоставленный в ее распоряжение. Хозяева удивленно смотрели на нее. Не дожидаясь вопросов, Гита сказала:
— Я откладываю поездку… В Сокольские леса всегда успею попасть… И притом я уже здорова. Вместо того чтоб шляться по лесам, пойду лучше работать. Нет, нет, я не могу больше бездельничать, не могу жить обособленно. Сдохнуть можно с тоски. Ни за что на свете!.. Поверь, Ружка, я совсем здорова. Завтра же приду в ткацкий цех, ты обещала меня принять.
Ружа молча слушала се, глядя в раскрытое окно. Она одобряла каждое ее слово.
И (Болг.)
К 17
Редактор Р. Гребенникова
Художник Ю. Казмичев
Камен Калчев
НОВЫЕ ВСТРЕЧИ
Технический редактор Е. С. Потапенкова
Корректор Г. С. Бережнова
Сдано в производство 25/IV 1963 г. Подписано к печати 6/VIII 1963 г. Бумага 84×1081/32 = 3,7 бум. л. 12,1 печ. л. Уч. — изд. л. 12,7. Изд. № 12/1580 Цена 79 к. Зак. 1356.
* * *
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, 1-й Рижский пер., 2
* * *
Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УЦБ и ПП Ленсовнархоза Ленинград, Измайловский пр., 29
Примечания
1
Шнурки из цветных ниток с кисточками на концах; мартенички принято дарить ко дню 1 марта. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
О, мой дорогой! Как поживаете? (франц.)
(обратно)3
Кстати (франц.).
(обратно)4
ТКЗС — Трудовое кооперативное земледельческое хозяйство.
(обратно)5
Кебапчета (болг.) — разновидность шашлыка,
(обратно)6
Вино, настоенное на полыни.
(обратно)7
Дибич Забалканский, Иван Иванович — русский генерал-фельдмаршал. участник войны с Наполеоном; в 1829 году — главнокомандующий русской армией в русско-турецкой войне.
(обратно)8
Помаки — болгары-мусульмане, живущие в Родопах.
(обратно)9
Бай (болг.) — почтительное обращение к пожилым людям.
(обратно)10
Имеется в виду Симеон, сын царя Бориса.
(обратно)







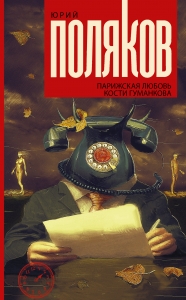


Комментарии к книге «Новые встречи», Камен Калчев
Всего 0 комментариев