Анн-Лу Стайнингер © Перевод с французского Н. Мавлевич
Анн-Лу Стайнингер [Anne-Lou Steininger] — автор нескольких прозаических книг, в частности романа «Тяготы мошки» [«La Maladie d’être mouche», 1996], a также пьесы «Участь тела» [«Destin des viandes», 2004]. Живет в Женеве. За сборник рассказов «Скажи украденных дней» [«Les Contes des jours volés», 2005] получила престижную премию Мишеля Дантана.
Сборник состоит из трех десятков причудливых поэтических историй (которые сама писательница называет «стилистическими упражнениями во времени»), заставляющих вспомнить то о Дино Буццати, то об Анри Мишо. Обрамляющий же их сюжет напоминает легенду о «Летучем Голландце», а еще больше — о неутомимой сказочнице Шахразаде.
Это обрамление выстраивается в первом рассказе «Оставшиеся дни». Некий путешественник узнает от своего ангелауничтожителя, что ему осталось жить лишь семь дней, но ему удается заговорить зубы пернатому посланнику небес и сыграть на его любопытстве. Отныне он каждый день рассказывает ангелу новую историю о человеческой природе, и тот улетает, забыв зачеркнуть прожитый день. Устав от вечной жизни, путешественник передает свою миссию молодой женщине, с которой встречается на странном, покинутом экипажем корабле, и отныне сказки и притчи о жизни и смерти сочиняет она.
Ниже публикуются две из «Сказок украденных дней».
Перевод выполнен по изданию Les Contes des jours volés [Bernard Campiche Editeur, 2008].
Гадалка
— Да чушь собачья! Не верю я в такие штучки, вы же знаете.
Друзья не отставали:
— Сходи! Ну что ты теряешь?
— Время!
— Подумаешь! Зато посмеешься в свое удовольствие.
А один особенно прилип:
— Почему ты так уверен, что это все вранье? Вот у меня один знакомый…
Тьфу! Сплошной треп и суеверия! Но все-таки в конце концов я сдался и пошел.
Друзья, веселясь, как шкодливые мальчишки, проводили меня до самой двери. В тот день мне исполнялось двадцать пять лет, и мы, по обыкновению, шлялись по улицам и выдумывали, что бы такое отмочить в честь торжества. У нас был любимый спорт: измерять глубину человеческого легковерия. Мы и сухую воду в порошке уже продавали, и жевательную резинку от радиации, и места первого класса на летающую тарелку бронировали. А уж конец света сколько раз предсказывали! Однажды производили воскрешение десятка мух, окуная их в раствор соли, якобы извлеченной из гробницы Тутанхамона; в другой раз расколдовывали с помощью магии вуду разные предметы, в том числе бутылку рома, которую потом благополучно выдули. Довольно долго нам нравилось развлекаться этим шарлатанством, но потом надоело. Уж очень легко дурачить людей. Но тут подопытным кроликом должен был стать я сам.
Расфуфыренная в пух и прах мадам Мирандабра встретила меня, многозначительно улыбаясь, как будто я был постоянным клиентом этого притона языкоблудия:
— A-а, мсье Шансек! Я вас ждала.
Так-так, значит, эти бездельники подстроили все заранее. Я разозлился и хотел уже развернуться да уйти — дался мне этот дешевый загробный бред! Но мадам Мирандабра мигом затолкала меня в кресло, разула мою левую ногу, оросила ее розовой водой, обсыпала, как кусок рахат-лукума, тальком, и я с омерзением ощутил, как ее пальцы щекочут мне подошву. Накрашенные черным лаком ногти, постукивая друг об друга, плясали на коже, точно жуткие скарабеи, совершающие брачный ритуал на тепленьком уютном трупе. Продолжая теребить мою конечность, гадалка объясняла мне преимущества педомантии перед хиромантией, но вдруг пальцы ее заработали еще энергичнее, и она простонала:
— Мсье Шансек! О, мсье Шансек, какой ужас!
Чучело совы с трепещущей упитанной мышью в когтях злобно уставилось на меня. Огромные глазищи часто-часто хлопали, по стенам бесшумными волнами пробегал свет крутящегося фонаря. В стеклянном шаре полыхнули синие молнии. Почему-то я подумал о друзьях, причем они представились мне в странном виде: бегущими по узкой улочке вдогонку за каретой «скорой помощи»… они задыхались, выбивались из сил, дряхлели на глазах… и вот им уже лет по сто, этим старым насмешникам в подмокших брюках, и жалкая улыбка присохла к губам… никто-никто на свете больше их не понимает… внезапно «скорая» остановилась, задние дверцы ее распахнулись, и из них хлынула лавина апельсинов, насыщенный апельсиновый дух ударил мне в ноздри, и я вырвался из хищных когтей.
Таким было мое знакомство с мадам Мирандаброй. Выбравшись на волю, я был уверен, что никогда в жизни больше о ней не услышу.
— Ну что? — накинулись на меня предвкушавшие потеху приятели.
— Да ничего, хитрюги вы этакие. И в следующий раз морочьте голову кому-нибудь другому.
К вечеру мы изрядно надрались. Настроение у меня было паршивое. Слова паскудной гадалки не выходили из головы.
— Завтра, несчастный мсье Шансек! — проскрипела она, и по слою крем-пудры медленно потекли настоящие крупные, маслянистые слезы. — Уж что я увидела, то увидела, мсье Шансек, а я никогда не ошибаюсь. Вы завтра умрете. Увы…
Разумеется, я не поверил, но все же…
Сколько же лет прошло с тех пор… На другое утро меня дико рвало, прямо-таки выворачивало наизнанку. Я вспомнил о предсказании и усмехнулся. Наверно, это и есть обещанная на завтра смерть — тяжкое, тягучее похмелье. Молодец, Мирандабра, точно угадала. Я силился развеселиться, но внутри что-то ныло, щемило и не отпускало. Аспирину, что ли, выпить… Или виски хлебнуть… Суеверно подчиняясь ритуалу, я, как приговоренный перед казнью, исполнил несколько своих «последних желаний» — все они показались мне такими жалкими и мелкими по сравнению с громадой непрожитой жизни и несделанных дел. Ладно, это просто игра, уговаривал я сам себя, я в нее не верю. Да и кто бы поверил! Это же просто сумасшедшая старуха!
— Мы такую и искали! — признались в тот вечер друзья.
Их привела в восторг ее вывеска:
«Мадам Мирандабра, Ясновидящая с закрытыми глазами, Величайшая Ворожея всех времен и народов, Гадалка по костям, по картам и по дыму (все виды безупречных предсказаний, специализация: чтение судьбы по линиям на стопах, по дыркам в сыре и вороньему помету), Правдивая Пророчица бедствий и катастроф (предрекла гибель принцессы Дианы), Первая Советчица диктаторов, кинозвезд и синоптиков, Заклинательница Злого Рока. Обладательница значительных умопомрачительных наград: орденов Большой Черной дыры, Пиковой дамы, Бездонной мошны, Эластичной подвязки и золотой медали Пророка Малахии. Прием без записи, во второй половине дня (по утрам мадам общается с Духами). Предсказания с гарантией, возврат платы в случае ошибки. Первый этаж, налево. Остерегайтесь консьержки (она шпионит), в дверь стучите тихо».
«Во дает — даже нас переплюнула!» — подумали друзья.
И в самом деле. Мы навидались разных олухов и дуралеев, готовых проглотить любую чушь, но это уж было слишком: на галиматью Мирандабры ни один простофиля не купится! Они, однако, упустили из виду одну очень важную мелочь: эта чертова дура верила в свой бред, верила так упрямо, свято и непоколебимо, что в упор не замечала нашего скептического зубоскальства; верила, как я лишь много позже стал догадываться, с такой силой, что перекраивала будущее под свои предсказания, лишь бы они не оказались ложными. Сколько бы мы ни насмехались, она верила за нас всех.
— Во всяком случае, Шансек, ты у нее останешься единственным клиентом, это уж точно!
О-хо-хо…
«Любезная мадам Мирандабра!
Я польщен необыкновенным вниманием, которое Вы мне уделяете. Как! Вы, знаменитая Мирандабра, чьи заслуги и титулы не помещаются на визитной карточке, Вы, к кому непременно обращаются сильные мира сего, прежде чем принять важное решение, Вы, в чьем кабинете рядом с совиными чучелами сиживали английская королева, Пиночет и Его Святейшество Папа Римский — Вы снисходите до такого заурядного человека, как я, ничего из себя не представляющего сегодня и, как говорится, не имеющего будущего, главное же, способного сорвать кучу пророчеств! Не сочтите за обиду, мадам, но я попросил бы Вас оставить меня в покое»… и т. д.
«Мадам, я уже много раз говорил и писал Вам, что мне осточертели Ваши дурацкие предсказания. Я не желаю знать свое будущее, тем более такое, о каком Вы мне все уши прожужжали. Предпочитаю жить сегодняшним днем, а дальше — будь что будет. Если завтра солнце не встанет и миру суждено погибнуть, на кой мне знать об этом раньше других, если я ничего не могу изменить! Прошу в последний раз: отстаньте от меня, или я подам на Вас в суд за магическое домогательство»… и т. д.
«Чертова вещунья, отравительница судьбы, болтливая старая ведьма, хоть бы все злобные пророчества, которыми ты наводняешь мир, обратились на тебя да и пришибли наконец!»… и т. д.
Чего только я не делал, чтобы от нее избавиться! Чего только не говорил ей! Но ни угрозы, ни брань не действовали, она не унималась:
— Мсье Шансек, послушайте меня! Это очень важно…
И так каждый день с того самого визита… я много раз переезжал, менял адреса и даже имя, но она все равно каждый день ухитрялась найти меня и устно или письменно напредсказывать всякие ужасы — а чтобы что-нибудь хорошее, так нет, это не в ее духе: крушение поезда, наводнение, резня, крупный проигрыш, потеря близких, крах карьеры, преждевременные роды, повышение цен на продукты… и неизменно смерть на следующий день — единственное пророчество, которое никогда не сбывалось. Что же до остальных…
— Будьте осторожны! В такой-то час на такой-то дороге произойдет катастрофа.
Первое время я лез из кожи вон — старался оповестить родных и знакомых, радио и газеты, весь мир. Но меня посылали куда подальше, советовали не каркать. Мне не верили. А катастрофа происходила: десять раненых, пять убитых. Обычно гадалки предсказывают счастье, удачу, любовь, и ничего, если исключить случайные совпадения, не сбывается. Но им верят. Мирандабра же предвещала только напасти, и люди затыкали уши. Хотя самое худшее-то как раз и сбывалось. Странная логика. Считается, что большинство людей — пессимисты. Так почему именно я, человек жизнерадостный, доброжелательный, — почему только я должен был принимать на себя это тяжкое бремя — знать о всех бедах заранее? Я страшно мучился, изнемогал. А бедствия все сыпались и сыпались и рождали во мне чувство вины. Да, я чувствовал себя виноватым в том, что всегда все знал и ничего не мог предотвратить; подспудно к этому примешивались другие угрызения: сам-то я каждый раз избегал предсказанных несчастий, а вместо меня день за днем погибали другие. Да-да, вместо меня! Боюсь, моя собственная смерть постоянно откладывалась на день благодаря этим жертвам. Мой неоплатный долг все возрастал. Я постоянно оказывался единственным уцелевшим в очередном эпизоде вселенской кровавой бойни, несчастной Кассандрой, дожидавшейся уготованной ей участи умереть последней. О, если бы я мог не слышать больше гадалку!
Я все еще жив. И небо до сих пор не рухнуло на землю. Пустое, равнодушное, оно по-прежнему блистает синевой. И я люблю его успокоительную бесконечность. Вообще же более всего на свете я люблю наимельчайшие малости: тень от какой-нибудь мошки, первую каплю дождя, шевеление реснички инфузории. Ничто не кажется мне чересчур ничтожным, крошечным и хрупким. Я постарался отстраниться от человеческих мерок, отключить эмоции. В конце концов, будущее — это не что иное, как с опозданием явившееся настоящее. А судьба — всего лишь нескончаемая тоска. Чтоб не сойти с ума, я превратился в фаталиста. И старая стерва, видно, это почувствовала. Постепенно она перестала возвещать мне всякие бедствия и сосредоточилась на главном: на моей кончине.
— Не забудьте, дорогой мсье Шансек: завтра вы умрете, — зловеще куковала она каждое утро.
Потом от нее стали приходить записочки в конверте с одним словом: «Завтра», без адреса и подписи, будто приглашение на тайное любовное свидание. «Завтра». Это волшебное заклинание на день, мое «carpe diem» и залог моего долголетия.
Но вот сегодня я от Мирандабры ничего не получил. Ни звонка, ни записки. И совершенно выбит из колеи. Что это значит? Наступит ли еще для меня какое-нибудь завтра, или же… надо понимать, что это мой последний день? Будь оно проклято, молчание гадалки! После стольких лет вдруг взять и бросить меня! Уж слишком, верно, счастливо я жил, показывал, что больше не нуждаюсь в ней! Не очень верил ей — вот она и не вынесла!
Я побежал к гадалке. Отыскал ее улицу, дом. Но ни таблички, ни имени ее не нашел.
— Нет тут никакой Мирандабры, или как ее там… Да и не было никогда!
— Что ж, спасибо.
Я расспросил консьержек, стариков и даже осмотрел могилы. Но не нашел и следов моей гадалки. Честно говоря, меня это не очень удивило — ведь прошло столько времени… Конечно, прежде я бы не решился проверять — из страха нарушить странный договор, который изо дня в день поддерживал мою жизнь. Я сел около дома, соображая, как быть…
По небу разливается багряно-золотой закат. День подходит к концу. И что же со мной будет? Вдруг я увидел своих старых друзей. Им, как и мне, по сто двадцать пять лет, но в глазах задорный блеск. Идут гуськом, и каждый крутит апельсин на длинной палочке. Они поглощены этим занятием.
— Ребята! Так вы еще живы! — крикнул я.
Друзья, дорогие друзья — вот он, лучший в жизни подарок.
— Ты, что ли, Шансек? С днем рождения, старик!
Они едва взглянули на меня.
— Что вы такое делаете?
— Сам видишь. Мы гоним стадо солнц пастись за горизонт.
Я тоже взял палочку, взял апельсин и пошел вместе с ними.
Женщина в синем на склоне дня
Один жестокосердый человек всю жизнь твердил:
— Ничто не возникает, и ничто не исчезает, но все мне дорого обходится.
Именно так он всегда отвечал попрошайкам. А уж попрошаек вокруг него было предостаточно! Можно подумать, злился он, все человечество состоит из бедных погорельцев, незадачливых папаш, что наплодили по оплошности кучу детишек, записных неудачников и прочих растяп, оборванцев, нищебродов, закоренелых безработных, продавцов прошлогоднего снега!.. Подонки! Ни гроша они у меня не выклянчат!
К счастью, та заученная фраза выручала его — давала сил отвечать отказом на любые просьбы. Что ж, спору нет, девиз лихой, ничем не хуже картезианского cogito ergo sum. Житейский интерес так ловко сплетался в этих словах со всеобщей истиной, что крохоборство нашего героя выглядело прямым следствием законов вселенной, чем-то вроде печати первородной скупости. Куда как солидное основание! Все равно что письмо за подписью владельца вселенной, разрешающее предъявителю ловить рыбу в его угодьях.
Само собой, этот человек на ветер денег не бросал и просто так никому ничего не давал. Одалживать — это да — ему случалось, причем иной раз даже без процентов, но горе тому, кто вовремя не вернет долг! О, он готов был преследовать должника до сорокового колена! Хотя особой алчностью не отличался и разбогатеть, в сущности, не стремился. Нет, то была другая одержимость. Требовать, чтобы позаимствованное возвращалось обратно, его заставляла страсть к порядку. От этого, казалось ему, зависит некое идеальное, но очень хрупкое и неустойчивое всемирное равновесие, малейшее расстройство — и чаши весов расходятся.
— Добрый день, я хотела просить вас…
(Просить меня — вот именно! Он сразу ощетинился. Как знать, не чувствовал ли он, что все его добро — частица его самого, а каждый, кто что-то берет у него, отрывает кусок его плоти, и он живет ущербным, пока отобранное не вернут? Кто там еще просит меня?)
И он уж собирался возгласить свое обычное:
— Ничто не возникает, и ничто не исчезает, но все мне дорого обходится.
Но дрогнул. Перед ним в предвечернем свете стояла высокая, стройная, как кипарис, одетая в синее женщина с такими… боже мой!.. с такими глазами… готовыми внезапно распахнуться!..
Он узнал свою новую соседку. Что ей надо? Что хочет она отхватить, нарушив равновесие двух чаш? О, надо быть настороже! Женщина в синем на склоне дня способна наклонить горизонт и так тряхнуть небесный свод, что звезды дождем посыплются с него в складки ее платья. Женщина в синем на склоне дня — это ужасная угроза всемирному равновесию.
В темной ткани мерещился стрекот невидимой саранчи, способной пожрать все зерно и все золото мира, в волосах застряли рыжие всполохи облаков, туманно-сиреневая гряда холмов опоясывала ее талию, сама же она всем телом тянулась вверх, к нежно-золотому небу. И каково же будет, с тоской подумал он, залечивать рану, которую наносит миру такая вот пронзительная красота.
Ей нужно было всего лишь немного кукурузной муки. Причем, в отличие от профессиональных побирушек, она даже не стала оправдываться. Что ж, хорошо. Но и с ней надо быть твердым — пусть сразу все усвоит. Скупой отвесил женщине полфунта муки и строгим голосом сказал:
— Я оставляю гири на весах. Ровно через неделю ты должна вернуть, что взяла.
Она пообещала, поблагодарила и ушла. А очень скоро он услышал, как она поет за стеной. Должно быть, взялась за стряпню, вот и радуется! Он представлял себе, как она нагнулась над дымящейся кастрюлей, помешивая варево длинной деревянной ложкой, да так и заснул, и запах горячей поленты обжигал изнутри его веки. Ему приснилось, будто горизонт исчез и все заполнило золотое, как на иконах, небо. На этом фоне женщина в синем все напевала и вертела деревянной ложкой, но очень скоро он понял, что она ее вертит в его животе, в распоротом, кишки наружу, животе! Однако, как ни странно, больно нисколечко не было. И даже наоборот. Ложка приятно щекотала, а под красной лампой крутилась пластинка. Come si gira la bella polenta…[1] Отличная мелодия. Он тоже попробовал запеть и от этого усилия проснулся.
— Я пришла вернуть то, что у вас брала.
Она постучала в дверь спустя семь дней, в тот же прозрачный предвечерний час. По-прежнему прямая, как струна — а мир у нее за спиной покачнулся, — в синем платье с наполненными тенью складками, она стояла на пороге и протягивала ему серый бумажный пакет, наполненный, судя по легкому хрусту, кукурузной мукой. Он ощутил такую же тоску, как в прошлый раз, такое же чувство потери, как будто она держала в руках не просто серый пакет, а саму его жизнь, — да, этот дырявый бумажный пакет — его жизнь, и струйка золотистой пыли, еле слышно шурша, сочится из него. Только бы мир совсем не развалился еще хоть несколько мгновений, чтоб он успел показать этой женщине — и убедиться, что это ему не приснилось, — чудо, которое он наблюдал всю неделю. Он подвел ее к столу, где стояли весы. На левой чаше все еще стояли две гирьки: двухсот- и пятидесятиграммовая, но перевешивала правая: она была пустой, теперь же на ней возвышалась изрядная горка кукурузной муки.
— Вот видишь? Ты уже отдала весь свой долг. И даже больше — твоя чаша тяжелее. И не благодари. Это не я ее наполнил — тебе тут каждый скажет, до чего я скуп. Она наполнилась сама собой, понемногу, пока ты пела. Да-да, клянусь! Не понимаю, в чем тут дело, но каждый раз, когда ты принималась петь, я видел, как муки немного прибавляется. И в то же время сам я потихоньку становился легче. Какой же у тебя красивый голос!
Он сгреб с правой чаши избыток муки, восстановив равновесие, и отдал ей все до последней крупинки — человек он был справедливый.
— Возьми, что тебе причитается. И главное, пой еще!
Так и повелось: женщина в синем пела, и чаша наполнялась. Причем пела она безотчетно, по привычке, — пела, когда умывалась, работала, ходила по двору. И все подряд — все, что только приходило ей в голову: баллады и считалки, старинные деревенские песни и модные разухабистые шлягеры. Сосед заслушивался. Его смущала, а пожалуй, даже искушала эта бьющая через край радость и прелесть; он изумлялся, как мог такой прекрасный, словно созданный для пения скорбных гимнов и псалмов голос размениваться на безделицы. Однако мало-помалу и сам заражался легкомыслием. И случалось, он, лишнего звука не проронивший за все семьдесят семь лет своей жизни, вдруг принимался что-то напевать. Теперь он отдал — да, вы не ослышались: он отдал бы все на свете, чтобы этот голос ласкал и ласкал его слух.
Мелисса, милочка моя, Люблю тебя до гроба, Мелисса, милочка моя, С тобою не расстанусь я.Словом, он поумнел. А может, поглупел.
И в то же время таял, худел, усыхал на глазах. Словно бы убывало вещество, из которого он состоял. А вскоре он умер. Когда соседка вошла к нему, он лежал высохший, как соломина, и маленький, как мертворожденный ребенок. Она все поняла — поняла, что он невольно пожертвовал собой. Ничто не возникает, и ничто не исчезает, и все обходилось ему слишком дорого, даже невинное удовольствие слушать песенки… Она положила крошечное тельце к себе на колени и стала петь — ведь это было все, что она могла для него сделать. Она пела всю ночь и выбирала самые красивые из всех известных ей мелодий, веселые и грустные вперемешку. А тельце все съеживалось, все уменьшалось. Наконец оно стало не больше былинки, и вдруг эта былинка содрогнулась, надломилась, выпустила новенькие крылья, расправила их и взлетела. Блестящая синяя стрекоза зигзагом взмыла в утреннее небо и растворилась в нем. А женщина, утомившись от долгого пения, заснула, меж тем как золотая струйка текла и текла из чаши, которая все пополнялась.
Роз-Мари Паньяр © Перевод с французского Н. Кулиш
Роз-Мари Паньяр [Rose-Marie Pagnard] — писательница, журналистка, критик, автор «волшебной», «сновидческой» прозы, близкой к магическому реализму. Ее перу принадлежат романы «Эра Фернандеса» [ «La Période Fernandez», 1988], «В лесу резвится смерть» [ «Dans la forêt la mort s’amuse», 1999, премия Шиллера], «Консерватория любви» [ «Conservatoire d’amour», 2008], «Я люблю то, что непрочно» [ «J’aime ce qui vacille», 2013] и др. Преобладающей для Паньяр является тема искусства, дара, благодатного, но подчас разрушительного; тема творчества.
Герой рассказа «Коллекционер иллюзий» распродает свои ненаглядные картины, но находит способ остаться их обладателем. Правда, для этого ему требуется изрядная сила воображения…
Перевод выполнен по изданию «Collectionneur d’illusions» [Editions Zoé, 2006].
Коллекционер иллюзий
Когда отец начал приглашать нас обедать в лучшие отели страны, в моих глазах он стал настоящим волшебником, превращавшим реальность, с которой он никак не мог примириться, в блистательный триумф своих заблуждений. «Вы сразу узнаете картины, которые висят на стенах в этом отеле, — говорил он нам, — ведь они — часть нашей незабвенной семейной коллекции! Да-да, это наши любимые, родные вещички, проданные, утраченные, но теперь снова согретые нашим восхищением! Ну, приятного аппетита, смотрите во все глаза и наслаждайтесь!» Мама надевала очки и напрягала память, сопоставляя свои воспоминания с картинами, гравюрами и рисунками, которые украшали стены отеля: «Да, в самом деле, — говорила она, — вот это как будто наш маленький Фюсли (или Хёленмайстер, или Уотсон, или Адами[2]: я называю имена только некоторых из художников, чьи картины были представлены в нашей коллекции), но я не могу взять в толк, как они очутились…» Отец обрывал ее раздумья вслух, выражавшие превосходно разыгранное удивление, и в очередной раз принимался рассказывать, как он, с упорством и настойчивостью влюбленного, стремящегося присвоить себе предмет обожания на веки вечные, сумел сохранить в поле зрения свои ненаглядные полотна и в результате все еще обладает тем, что ему уже не принадлежит.
До того как укрыться в спасительной гавани иллюзии, мой отец столкнулся с финансовыми трудностями. Следовало ли ему продать, то есть предать, нашу коллекцию картин, гравюр и рисунков, все эти пейзажи и портреты, лазурные небеса и жанровые сцены, цветовые пятна, фигуры и зигзаги, которые только на первый взгляд безучастно висели на стенах, а на самом деле были единственной опорой нашей жизни, единственным, что удерживало нас на высотах истинного искусства, — следовало ли ему это сделать? Чтобы обмануть судьбу и самого себя, он начал с экономии на своих личных нуждах: отказался от «брисагос» (тонких, как карандаш, сигар, обвернутых вокруг соломинки), которые ему поставляли каждую неделю в коробке по двадцать пять штук с монограммой. Мама, со своей стороны, решила давать платные уроки игры на скрипке, но никак не могла заставить себя брать деньги с учеников, и эту затею пришлось бросить. И вот тогда у нас поселился друг нашей семьи, бывший аукционный оценщик. Целую зиму он уписывал за обе щеки мамину стряпню, натирал нашу мебель пчелиным воском собственного изобретения, а потом, наконец, определил продажную стоимость наших картин и бросился на поиски возможных покупателей.
Когда пришло время продажи, отец, благодаря этому своему другу и каким-то таинственным знакомствам, ухитрился разместить картины там, где ему приятнее всего было бы смотреть на них: в салонах и ресторанных залах роскошных отелей и изысканных кафе, известных своими коллекциями произведений искусства. И теперь, когда его дела пошли на поправку, он в течение трех или четырех лет возвращал себе самому, маме и мне, своему сыну, фамильные картины, гравюры и рисунки: для этого нужно было лишь отвезти нас туда, где теперь обитали наши любимцы, — скажем, однажды воскресным вечером мы ужинали в Базеле, неделю спустя — в Люцерне, затем во вторник у нас был ранний ужин с чаем в Цюрихе… и все эти пиршества были проникнуты вдохновенным, творческим созерцанием и выдвигали моего отца в число виртуозных любителей искусства. Ибо перестав быть заурядным частным коллекционером, наслаждающимся абсолютным душевным комфортом (то есть таким, который волен вскакивать по ночам, дабы убедиться, что желтый цвет карандашного рисунка не поблек от соседства окна, выходящего на юг, волен забывать на полгода, что у него там развешано по стенам, волен по утрам и вечерам приветствовать каждую единицу хранения негромким, более или менее прочувствованным заявлением типа «я вас люблю», или «а я тебя зацапал», или как-либо еще), — перестав быть заурядным частным коллекционером, созерцающим накопленные сокровища у себя дома, в четырех стенах, мой отец поднялся на более высокую ступень — он превратился в Тайного Коллекционера, а в этой роли необходимо виртуозно управлять собственным воображением и мастерски облагораживать реальность.
Коллекционер-невидимка и коллекция, которую видят все. Отныне эти шедевры доступны каждому, говорил мой отец — будучи сам завсегдатаем подобных заведений, он полагал, что это может позволить себе кто угодно. Мама пересчитывала посетителей ресторана, сидевших за соседними столиками и, по-видимому, всецело занятых поглощением тонких кушаний, вздыхала и высказывала мнение, что, по крайней мере, здешний персонал в часы относительного затишья может восстановить силы, любуясь этими картинами, которые при жизни у нас успели доказать всю мощь своего поэтического воздействия. В такие минуты мама казалась нам красивее, чем обычно, словно ее преображала беседа, которую завязывали между собой ее воспоминания, ее сиюминутные мысли и так хорошо знакомые нам картины — иные из них висели слегка наискось, демонстративно нарушая установленный порядок вещей. А порой у отца случался сильнейший приступ меланхолии, и, будучи не в силах справиться с этим сам, он заказывал шасс-сплин гран-крю[3], хотя к данному блюду больше подошло бы местное вино; бывало, он даже не прикасался к еде, а просто сидел, неотрывно глядя на ранний пейзаж Хёленмайстера, изображающий озеро, пока к нашему столику не подъезжала тележка с десертами и вид какого-нибудь крема, напоминающий красную или желтую масляную краску, не возвращал его к действительности; иногда в салоне «Гранд-отель Алемания», где висела серия гравюр Валлоттона[4], он смахивал колонковой кисточкой пыль с рамок и при этом желал остаться незамеченным, Тайному Коллекционеру подобает скромность, объяснял он маме, которая, порядком нервничая, стояла на страже — покажись на горизонте сомелье, нас бы тотчас оповестила об этом ослепительная мамина улыбка.
В этом самом салоне, в одно январское воскресенье, после того как директор угостил нас засахаренными каштанами и поведал нам, что собирается радикально обновить обстановку и художественное оформление (!) «Гранд-отеля», отец вдруг ощутил непреодолимое желание прямо сейчас прижать к груди какую-нибудь вещь из своей коллекции, все равно какую; в один миг он снял со стены гравюру, спрятал ее под плащ и устремился к выходу. Мама и я, поддавшись тому же наваждению, побежали за ним. «Ах! — тихо стонала мама. — Это ведь кража! Ты обокрал сам себя!» А я видел, как отец, стоя на улице, здоровается с невидимыми собеседниками, а затем раскачивается взад-вперед с полузакрытыми глазами, совсем как в прежние времена, когда он собирался купить картину и с восторгом думал о своих беспредельных возможностях, о беспредельной красоте грез и фантазий и о беспредельной радости мамы, когда она увидит новую, только что выбранную им картину. На улице был страшный холод, отец, бледный и весь в поту, попытался что-то сказать нам, но силы оставили его. Мама помогла ему дотащиться до стоянки такси, а я нес гравюру Валлоттона, нашу фамильную собственность, словно тайный трофей, и чувствовал, что мог бы ловко спрятать ее, наврать с три короба и сунуть ее на дно, если бы кто-то вдруг решил отобрать ее у меня. Наверняка отец найдет какой-нибудь способ вернуть гравюру в «Алеманию», применит гипноз или что-то в этом роде, думал я.
Однако мой отец в тот же день слег и в следующее воскресенье умер. На время его болезни мама повесила на стену напротив кровати украденную гравюру и несколько пустых рамок: она знала, что он уже не может различить ничего, кроме бликов света, но, говорила она, для рождения иллюзии нужно хоть что-нибудь, пусть даже просто белый квадрат. Так отец мог в последний раз вообразить, что он опять привел нас полюбоваться своими обожаемыми картинами, и мы, не переставая восхищаться, переходим от одной к другой, а отец, с длинной сигарой «брисаго» в руке, рассказывает нам о совершенстве линий и богатстве колорита.
Впоследствии мама все же решилась давать платные уроки игры на скрипке и подарила украденную гравюру своему любимому ученику — в некотором роде поэту, неуемному фантазеру, который, в очередной раз взяв неверную ноту, заверял ее, что это пробует силы дремлющий в нем гений!
Корин Дезарзанс Из сборника «Глагол „быть“ и секреты карамели» ©Перевод с французского М. Липко
Корин Дезарзанс [Corinne Desarzens] — писательница, журналистка, полиглот (среди прочих, владеет русским и одним из пяти диалектов ретороманского), страстная путешественница, жадная до жизни во всех ее проявлениях, родственная душа другой вольной птицы швейцарской литературы — Шарль-Альбера Сангрия, с которым читатель еще познакомится на страницах этого номера. Отсюда и характер ее прозы — стремительной, подчас эллиптичной, богатой образами и отступлениями. Писательница словно торопится выплеснуть все, что впитала: так инжир, набравшийся солнца, обжигает ладонь. Под стать и жанр, избранный Дезарзанс для сборника малой прозы «Глагол „быть“ и секреты карамели». Что это, письма, строки на обороте открытки, фрагменты дневника? И меньше, и больше. Полу- и четверть-встречи, которые надо изжить, чтобы пришли новые. «Встречать» — еще один глагол, любимый Дезарзанс. Причем встречи чаще всего происходят не в мире людей, а в мире вещном, предметном. Встретить запах, концертную форму, былинку травы, книгу…
«Август» больше напоминает стихотворение в прозе, «Форма» тяготеет к рассказу, а «Дайте настояться» — к тому, что Сангрия называл propos, размышлением на тему, где Дезарзанс разовьет неожиданнейшее сравнение: растение, отдающее свои соки воде, подобно человеку, отдающему себя любви…
Помимо сборников короткой прозы, среди которых можно выделить «Мадагаскарский дневник» [ «Carnet Madécasse», 1991], а также парные «Я все, что встречаю» [ «Je suis tout ce que je rencontre», 2002] и «Я бы стала травой этого луга» [ «Je voudrais être l’herbe de cette prairie», 2002], перу Дезарзанс принадлежат и романы: «Голубой алмаз» [ «Bleu Diamant», 1998, премия Рамбера] «Рыба-барабан» [ «Poisson-Tambour», 2006], «Король» [ «Un roi», 2011] и др.
Перевод выполнен по изданию «Le verbe être et les secrets du caramel» [Editions de l’Aire, 2006].
Август
Когда август-месяц подходит к концу, где-то разом и отпускает, и перехватывает.
Узнай поди, чему это приписать. Поры на коже раскрываются широко-широко. Ноги возвращаются к обуви. Долг наступает, забавы трубят отбой. Укол усыпляет, но не приносит облегчения. Мучительная отсрочка. Лицо искажает судорога. Сонный, оцепеневший, ты все же глядишь в оба. С какой-то особенной зоркостью высматриваешь симптомы. В разлитой вокруг благодати нет-нет да скажется призыв к порядку.
Теперь я знаю. Это чувство обостряется при виде песка, инжира и айвы.
Не абы какого песка: песка городского, над которым замер ковш экскаватора, песка полезного, разрытого до лужи. Этот песок навевает мысли об отпуске, а меж тем все вокруг возвращаются к трудам. Полезное поднимается на поверхность. Уже пошли первые пузырьки. Песок на стройке мозолит глаза: погулял, и будет. Ну и пусть. Полоса песка вдоль тротуара — чем не побережье. Лужи еще теплые, ласковые. Ласков и дождь, когда он мочит загар.
Срывать смоквы, свисающие из-за чужой ограды, — из числа последних летних услад. Смоковница хорошо накапливает тепло. Листья-ладони у нее грубые и шершавые. Чем смоква неприглядней — морщинистая, желтущая, синюшная, — тем вкуснее она оказывается. Мякоть полна темно-золотистых зернышек, как клубничных, только крупнее. Черенок на месте разлома мажет чем-то молочным и клейким, от чего еще долгое время вспоминается руль новенького велосипеда. Летоизлияние, остановленное наложением резинки из школьного ранца. Строгий, но лакомый запах новой шины.
Многие растения выделяют в это время сок или же меняются на ощупь: грубеют или мягчают. Кожица стирается или покрывается колючками. Темнеет. Испещряется дырами. Открываются и закрываются какие-то клапаны: тончайшая отладка лючков и скважин, дрожь стрелок на датчиках — еще волнительней под микроскопом, на рубеже времен года.
На айве висят огромные ворсистые лимоны — плотные, увесистые. Поблескивают сквозь ворс. Нож с трудом режет их на четвертинки. Вокруг семян бугрятся почти костяные сгустки. При виде айвы мне всякий раз представляется кожа Франсуазы Саган — кожа старой бесшабашной девчонки, которая ставит босую ногу на сцепление и пускается в свою последнюю гонку, вечером, на излете сентября.
Форма
Аксельбант (1872): какой бант?
Принадлежность парадной воинской формы или знак отличия в виде плетеного шнура с металлическими наконечниками, носится через плечо.
Нет, мы не прочли устав до конца — не одолели. Мы простодушно полагали, что заниматься музыкой означает разделять удовольствие с единомышленниками, где бы это ни происходило. Мы только что переехали. Наш сын Оскар отныне сам сможет ездить на репетиции в «Гармонию», оркестр при музыкальной школе, и нам не придется возить его на машине в другой городок, откуда мы переселились. И он по-прежнему будет играть на трубе.
— Следующий сбор состоится двенадцатого декабря, — кисло сказал голосок секретарской дочки.
— Сбор?
— Да. Концерт. Вы получите уведомление.
Рядом с часом на уведомлениях всегда проставлялись нули, как в расписании авиарейсов или на повестке в военкомат. Четырнадцать ноль ноль для двух часов пополудни. Уведомления равным образом сообщали, куда приводить своих чад на очередной сбор, приносить ли с собой сладости для чаепития и когда состоится следующее лото или лотерея. Они предлагали родителям заполнить с точностью до получаса графы «свободен-занят» и всячески побуждали их поддержать ребенка своим присутствием.
— Мы ждем от вас сопричастности, — в пятнадцатилетием голосе звучал апломб. — Когда оплатите платежное поручение, вам выдадут пять талонов на парадный концерт.
— Талонов?
— Ну да, которые вы обменяете в кассе на билеты. Разумеется, подойти нужно заранее.
— А концерт?..
— В марте.
Шло меж тем начало сентября. Талоны из плотного желтого картона перерезала пунктирная линия: оторвут — и останется в руках железный гребень. После репетиции какая-то дама сняла с Оскара мерки и неделю спустя выдала ему форму, заставив его расписаться на двух бланках. Ярко-синяя, как колпачок одноразовой ручки «Бик», из добротного, в мельчайших прожилках шерстяного сукна форма была очень тяжелая. Брюки стояли колом: поставишь — не упадут. Полагавшийся к форме чехол в случае порчи замене не подлежал. На каждой пуговице под скрещенными лавровыми ветвями сияла золотом лира; узор повторялся на лацкане пиджака и на кепи с черным лаковым козырьком. На нагрудном кармашке был вышит герб города. Щит, разбитый на червлень и лазурь, с лежащей поперек серебряной рыбой[5]. Двухцветный галстук крепился на резинке, а сорочку из прочного хлопка, произведенного в городе Цвайзиммен, в немецкой Швейцарии, надлежало стирать при шестидесяти градусах.
— Остальное за ваш счет. Вашему сыну потребуется черный кожаный ремень, черные ботинки и в обязательном порядке черные же носки.
Каждую неделю в аккурат поперек дня, когда в школе учатся только до обеда, — сорок пять минут один на один с учителем, затем общая репетиция, иногда с антрактом, которая заканчивалась часов в восемь, а то и позже, по мере того как близился парадный концерт.
Я думала о летних вечерах в городке, откуда мы съехали, как мы входили в театр, где играл другой оркестр, как пробирались по лестнице на галерку, опаздывая, но никому не мешая, как терлись в темноте коленками, высекая улыбки, и как все успевали: рассмотреть лепнину, музыкантов, прикрыть глаза, вспоминая, что на улице изо дня в день набухают пионы и как славно мы сейчас поужинали.
— Добро пожаловать, — сказал наш новый сосед. — Похоже, теперь у нас общий не только забор: наши дети играют в «Гармонии».
Его дочка играла на поперечной флейте. Оскар заметил, что она как-то наособицу причесывалась: волосы завивались мягкими волнами, — остальные же девочки зализывали их назад и стягивали в хвост. Она носила кофточки в мелкий цветочек и пастельных тонов курточки, а себе ее мать выбирала одежду из одноцветной кожи и коротко стриглась. Летом вместо плетеных босоножек на каблуке или, боже упаси, сланцев с камешками посередине мамаши учеников носили устойчивые ботинки для горных прогулок с выдающейся спереди подошвой.
Однажды репетиция затянулась далеко за половину девятого. Многие из родителей, уже в пальто, безропотно ждали на задних рядах.
— Ваши дети еще не ели?
— Нет.
— А они еще успевают делать уроки?
Они вдруг выпрямились, точно кол проглотили, и воззрились на сцену — подальше от этой незнакомки, которая еще не усвоила негласного соглашения, не осознала, каких жертв требует этот концерт, как важен каждый винтик — стоять в пробках, радеть и бдеть, стряпать с утра ужин, — чтобы махина крутилась и все это синее слилось наконец в едином порыве. Они не ждали утешения. Жаловаться было бесполезно, некрасиво, бестактно. Дисциплина — пожалуй, единственное, что осталось от этих занятий и что оправдывало их в глазах родителей, — была им по душе. Тем, кто загружен, не до слюнтяйства. Кто занят, поглощен, увлечен до страсти — у тех не может болеть голова.
Но уж, наверное, руководитель похвалит своих подопечных, прежде чем откланяться.
— Всем доброй ночи, — обратился он к музыкантам. — Один совет. Готовьтесь к тому, что придется попотеть, серьезно вам говорю, иначе провал обеспечен.
Воспитание самураев. Преданность клану. Клану черных носков. Хочешь не хочешь — ты посвящен. Этим вечером. Оскар так утомился, что не стал ужинать и отправился прямиком в постель.
В этом клане отбрасывали все лишнее и стремились к совершенству. Мы были в полной растерянности. С одной стороны, как и другие родители, мы считали, что никогда не поздно сменить профиль учебы: «легко дается» не значит «плохо», вопреки расхожему мнению. Мы полагали, что заниматься музыкой так же благотворно, как дышать, делать зарядку, лазать, плавать, что детям полезно общество других маленьких музыкантов, но мы решительно не одобряли строевой уклад, жесткий график, обязанности, когда их ставили превыше всего, превыше самой музыки. Амиши[6] XXI века — вот кем казались нам мамы-папы этих синих мундирчиков. Спартанцы, предпочитающие линолеум ковролину, спозаранку набивающие рюкзак — горы не ждут! — вместо того чтобы потягивать за столиком кофе, плетущий над чашкой свои терпкие арабески; любители вышколенных собак и окрашенных от греха деревянных фасадов.
Разглядят ли они прекрасный город за опрокинутыми помойками? Сумеют ли уловить дух старины, несмотря на тошнотворное амбре? Как поведут себя, если на задворках их садика ненароком сдвинут третий вазон?
Но мы не могли открыться Оскару, чтобы он не пал духом и не бросил занятия музыкой из-за наших домыслов.
Вспоминались летние вечера в нашем городке, где на каждом участнике инструментального ансамбля была простая черная футболка с вышитыми заглавными буквами, а боковые двери театра стояли настежь — сумерки, пионы, посыпанный щебнем дворик, притихшие улицы.
Здесь зрелище было куда эффектней. Семьдесят пять синих мундиров разили наповал. Синева бразильской бабочки морфо, золото до блеска надраенных труб — под стать идущему от эполета золотому шнуру, сиречь аксельбанту. Неотличимые друга от друга, что на сцене, что на концертных снимках, они сливались в одну торжественную синь, от которой у родных выступали на глазах слезы.
Иногда они играли в каком-нибудь парке, и тогда вокруг уютно похлопывали дверцы машин. Синее зарево подсказывало, что мы на верном пути. Оскар просил никому не говорить. Только бы не попасться на глаза школьным товарищам. Он подставил запястья, чтобы ему застегнули пуговицы, сам надел галстук и долго искал черные ботинки. Из братниных он уже вырос. Поздно красить в черный кроссовки, тем более что кроссовки воспрещались. Глупо покупать новые, чтобы каких-нибудь пару раз в год выйти на сцену. Отцовы больше напоминали матросские боты, но Оскар все же надел их и зашагал с нажимом на пятку, выворачивая смачные ломти земли. Он расправил плечи. Больше всего он походил сейчас на пилота, на заслуженного командира корабля, который летит в дальний рейс, но вернется, как только выполнит задание.
— Переоденься.
В кухне темно, но холодильник нараспашку. Босой, в рубашке поверх синих форменных брюк, как в пижаме, Оскар запрокинул голову и пил из горла. Но форме все было нипочем. Водворенный на плечики пиджак скульптурно топорщил грудь, словно нес в себе стать воображаемого атлета. Вместо лавров почетно золотился аксельбант.
Утром все покоилось в чехле, том самом, который замене не подлежит. Я потянула в сторону дверцу шкафа: убедиться, что все на месте, и забыть наконец о суммах штрафа, прописанных в бланке выдачи. В случае порчи или чрезмерного износа комитет будет вынужден взыскать с участника: за пиджак 567 франков, за брюки 190 франков, за сорочку 90 франков, за фуражку 226 франков, за галстук 30 франков. С течением времени цены могут меняться. Само собой, беречь как зеницу ока.
И все же. Репутация уже подмочена. Уже горит щека от пощечины штрафа: не влепили, так влепят, будьте покойны. Я представляла себе, как синие мундирчики взрывают петарды. На белый поплин капает кетчуп. Кто-то, сбросив рубашку, пьет из горла. Стеклышки на запретной ограде оставили прореху в брюках. В потасовке оторвался аксельбант, перепутались пиджаки.
Ученик обязан содержать форму в безупречной чистоте. Как при найме апартаментов: простыни в течение заезда не меняются, объявляют вам сразу, — и вы с первого дня чувствуете себя неряхами и стыдитесь, что грязи все прибывает. А не будь в контракте этого нехитрого предписания, вы сказочно отдохнули бы, не присматриваясь, не терзаясь, вдали от всех этих хозяйских забот.
В день концерта родители учеников загодя выстроились в очередь перед кассой, чтобы обменять талоны на билеты. Из полукруглого окошка в стене высовывались только руки: крот у входа в нору. Мамы-папы проходили и садились, кивая по сторонам со смесью гордости и удовлетворения — должно быть, нечто похожее испытывал в Англии XIX века сельский аристократ, проходя в церкви на свою законную скамью. Вы из наших. Мы среди своих. Долгожданная жатва.
Здравствуйте, здравствуйте.
Свет в зале погас, и осталось только синее с золотом. На сцену вышла русоволосая женщина в черной юбке и белой блузке — дирижер сломал руку. В девичестве мадемуазель …ова, уточняла программка, она повернулась спиной и бойко взмахнула палочкой, превратившись на миг в обезьяну из мультика «Король джунглей». Деревья вокруг зашумели — прилив, отлив, — а бабочки замерцали, синие-синие. Пылали трубы, амиши ликовали. Затем на сцену в полной тишине взошли один за другим двенадцать барабанщиков. Мы цеплялись за хрупкий обломок скалы, сжимали камень алчно и трепетно. Этим камнем, этим обломком скалы было наше сердце. Барабанная дробь — виртуозная и надрывная, как сальто под куполом, — бросила нас, задохнувшихся от волнения, на краю бездны.
Этот вечер оставил по себе лучшие воспоминания. Бланк выдачи — худшие. Несмотря на то что концерт удался, Оскар только укрепился в намерении бросить музыкальную школу. Но не тут-то было.
— А если мой сын придет в красных носках, — спросила я у секретаря, — его исключат?
— Нет. Но если мы застанем его в форме с бокалом красного, тут уж без разговоров.
Оскар не согласился. Ни с бокалом, ни с целой бутылкой, чтобы уж падать, так падать. Пришлось отбывать повинность еще полгода. Ученик обязывался посещать занятия до конца срока. Форму надлежало вернуть до рождественских праздников. Из соображений гигиены костюм, включая сорочку и фуражку, предварительно сдается в химчистку за счет участника. Вам еще повезло: раньше запрос подавали за год. Президент «Гармонии» поблагодарил Оскара в письме за все, что он сделал. Вместе с Оскаром покидали ряды еще двое. Выбывавших назвали публично, перед всем оркестром. Как дезертиров перед строем юных солдат, уходящих на фронт.
Пиджак и брюки я отнесла в химчистку. Приемщица бережно отпорола аксельбант, шнурочек, как она выразилась, и я уже мучилась, как буду приделывать его обратно. Сорочку я постирала при шестидесяти градусах. Пиджак по-прежнему облегал чей-то мощный торс. Я сложила все в чехол — и с глаз долой, в укромную темноту шкафа.
Шкаф ожил.
Никаких следов. Уйти, оставив все как было. В сказках этим условиям следуют, чтобы спастись, не выдать себя, не обидеть духов земли. Обуревают чувства — а с виду тишь да гладь, будто и не было ничего. Ни следа пальцев на черной книге, ни волосков на синем пиджаке. Любить женщину, которая подкрадывается, как кошка, ступая бесшумно, всегда кстати являясь и исчезая.
Я вспомнила, как одна приятельница позвала меня разбирать материнский гардероб — мать умерла, и она собиралась раздать ее вещи знакомым. Я вспомнила, как хлынула на меня из шкафа чужая жизнь, все эти «случаи», которые я лишь домысливала, не зная, почему пальцы, блуждая по плечикам в магазине, выбрали то или иное, эти вечера, таившиеся в черных, на каблуке, босоножках. Как подчас пугает и завораживает одна-единственная пара осиротелых перчаток. Как много — если не все — может сказать о душе, о характере человека изгиб пальцев этой самой перчаточной пары.
Утром я достала рубашку, убедилась, что воротничок отливает голубизной, и натянула поверх пленку, как делают в химчистке. Пиджак и брюки еще потяжелели. Кепи, именуемый фуражкой, тоже требовалось сдавать в химчистку, хотя за год с небольшим его надели всего однажды. Я начистила черный козырек, поворачивая его так и сяк, высматривая на глянце малейший след пальцев — так в богатых домах прислуга чистит дверной молоток. Или зеркало в ванной: вполне приличное, но глянешь сбоку и обомлеешь. Сияя козырьком, кепи отправился под пленку, где уже висел галстук без единой пылинки — долго орудовала щеткой. Я отвезла машину на мойку и прошлась пылесосом по салону, прежде чем водрузить чехол на заднее сиденье. У заведующей формой горели глаза — вот-вот облизнется, как кошка. Она приняла меня в подвальном этаже, под безжалостным неоновым светом, но сначала мне пришлось пройти через залу, обшитую по потолку коробками из-под яиц. Стены пестрели ценными указаниями: влажность такая-то, оптимальная акустика такая-то. Шкаф ломился от синих форм и кепи — это все, что осталось от бывших или еще не известных музыкантов.
Мне захотелось выскочить босиком под дождь, купить красные носки, достать из холодильника бутылку, какую попало, и выхлестать ее прямо из горла большими глотками.
Дайте настояться
Слово «отвар» пахнет больницей, провинностью и зимой. Настой исходит паром, а залитые кипятком листья вдруг становятся яркими, южно-зелеными. Зеленей зелени. Точно тусклый голыш — смочишь, и он почернел, заблестел.
Фотограф извлекает из ванночки с проявителем прямоугольник бумаги. Здесь — наоборот. Веточку погружают в ковш, но затем ее выбросят, а воду оставят. Эссенция растения окрашивает жидкость. Лик Христа выступает на плате святой Вероники. Парфюмер связывает ароматы жирами. Нечто летучее сгущается. Малейшее ширится. Сухое обретает вкус. Малина в тарелке пахнет недурно, но она заблагоухает, если сварить из нее варенье. Распахнется так — соседей обдаст, а ей все мало. Замоченные два-три зернышка аниса переносят обычный рис на Ближний Восток. Одна крупинка разбухает, затмевает собой целое блюдо, поле, память о поле.
Capitulare de Villis — «Капитулярий о поместьях» — принял около 800 года Карл Великий, повелев своим подданным разводить у себя в садах до видов трав и растений, годных в пищу или живительных, лекарственных или священных. Анис делает непобедимым. Алтея заживляет шрамы. От укропа прибывает молоко. Розмарин защитит от чумы и проказы. Настурция прочищает дыхательные пути. Тмин сообщает коже белизну. Метелка огуречника в петлице убережет от бед. Зверобоя — от козней. Берегитесь. Не доверяйте слишком пространным спискам. И кумушкам-ворожеям, что ворочают ложкой в котелках и носа не кажут на солнце.
В рейнских краях молодые, чтобы скрепить навеки свою любовь, кладут перед сном в эльзасское или мозельское вино стебелек мелиссы. Наутро его достают и разламывают, а вино выпивают. У кого длинная часть в руке осталась, тому и быть в доме головой. Сколько косточек в померанце — столько родится детей. Некоторые делают стойку над самой ничтожной с виду травкой. Один пройдет не глядя. Другой наклонится и сорвет. В Боснии — мальву. Там из нее делают салат. В Греции, на Кипре, в Румынии базилик не добавляют в пищу. Он лежит под иконой, непременный участник свадебных и прощальных обрядов.
В рецептах, которые требуют времени, предписывая череду последовательных действий, куда больше прелести, чем в рецептах трудоемких. Эта мята, которую изволь трижды сменить, когда старые листья осклизнут, — сердечникам. Эти дынные семечки — обжарь, да в муку растолки, да залей, да сквозь тряпочку процеди, и снова, и снова. Копишь их понемногу, от раза к разу, ведь на литр этого арабского бузурата требуется кило семян. Чтобы приготовить sloe-gin, или терновку, — коронную наливку ирландской бабушки, мечтавшей пойти в лесничие, — погоди собирать, дождись заморозков, погоди вынимать — дождись, выбродит.
Что сохранить в памяти? Утешительный глоток теплого молока, настоянного на маковых головках, а то смешанного с кардамоном и миндалем: спите, глазоньки. Яичный желток, который соединяют с растением, приготовляя липовый гоголь-моголь. Бирюльку бадьяна — восьмиконечную звездочку, шелковистую, будто красное дерево. Развеселое словечко веспетро (читай «пердцовка». — М. Л.), обозначающее аперитив на основе зеленого аниса, к которому для пущего ветрогонства прибавляют семена укропа и тмина. Прихотливость фиалки: сушить на тонкой бумаге и никаких жестянок, только дерево. Величие тимьяна, такого насущного и наипервейшего, что греки прозвали его thumos, запах; так Синатра пребудет Голосом, а Фэй Данауэй — Глазами[7].
Травы зовут нас в путь. В XVII столетии за ящик шалфея китайцы давали голландским торговцам два ящика своего лучшего чая. В разгар чумы в том же самом веке четыре марсельских вора избегли виселицы, признавшись, что спасались от заразы уксусом, настоянным на пряных травах. Массала-чай переносит вас в Индию, мятный — в Марракеш, кофе с подожженным коньяком — в Барселону, a canarino — всего-то лимонная стружка, брошенная в кипяток, — на Сицилию. Захотелось вам чаю с мятой — непременно веточку полыни и кедровых орешков, и возьмите лучше китайский ганпаудер. Вам по душе розовый — запишите себе, долина Дадес, в Марокко. Гибискус, пестреющий в наших садах, уроженец Китая, — цветок бесполезный, по крайней мере, на дне стакана, а вот из бледных, чуть тронутых розовым лепестков египетской разновидности делают каркаде. Из Ливана — забудьте вы о руинах — привезите благодать: белый кофе. Просто кипяток, лимонная цедра и кофейная ложечка флердоранжевой воды. Белый кофе под вечер — причал, штора, цезура. Вычтем лимон и флердоранж, и останется только чашка горячей воды, без ничего: как раз то, что спрашивает себе японец, как мы — минералку, в любом уголке Европы. Минута покоя, дымящаяся, прозрачная, очистительная.
Нет, писатель не извлекает эссенцию, суть. Он только фильтр, который распределяет и отбирает, отводит и копит, медлит, раздумывая. Он ужимает или доводит водой. Наконец, у писателя есть два пути. Из массы сведений извлечь один-единственный мотив, безделицу — искусство бедное и поразительное, когда бедность доведена до крайности. Впечатление умещается в двух строчках. Достало бы полей блокнота. Как Эрри де Луке[8], чтобы описать одного из своих героев. Его морщины и веснушки приходят в движение, как море в дождь. Вот и все.
Путь второй — как раз дать настояться. Леониду Цыпкину хватило крошечного зернышка — имени Достоевского, — чтобы заполнить свой мир до краев и уйти в него с головой. Цыпкин выбрал лишь фрагмент его жизни: когда Достоевский в надежде, что рулетка избавит его от долгов, выехал со своей второй женой Анной из Санкт-Петербурга в Баден-Баден[9]. Только этот отрезок пути. Сам Цыпкин в Баден-Бадене не бывал. Ему не давали выезда — из-за сына, уехавшего в Америку в годы, когда ох как не стоило бы. Одно унижение за другим: от исследовательской работы и медицины его отстранили, зарплату урезали на три четверти. Но было это зернышко — имя Достоевского, этот сезам — поездка писателя, короткая, бурная, была эта Анна. Цыпкин настаивал свою мечту вечерами после работы, всю жизнь. Он бродил по Санкт-Петербургу и снимал на пленку дома, связанные с Достоевским и его героями. Лестница, улицы в снегу, двор, хмурый фасад. Фразы пускают почки, ветвятся. Каждая — начало пути. Во Франкфурте Анна удивляется деревцам, растущим вдоль Лангештрассе. Это белые акации. Мать Анны выплатила долги. Достоевский наполняет собой все ее существо, палуба уходит из-под ног, она любит его, цепляется за мачту, мачта выскальзывает, Анна плывет. Каждую ночь она заплывает далеко-далеко — теряется берег[10]. Цыпкин так и не увидел своей книги: она вышла в Штатах, а неделю спустя, ровно в день своего рождения — ему исполнилось пятьдесят шесть лет — автор скончался.
Плыть — значит отдаваться любви. Любви, уходящей за горизонт.
Тело парит в невесомости. Безбрежный замысел. Чтобы отдать любви все свое существо, не требуется кипятка. Из всех растений только вербена пахучая способна отдавать аромат холодной воде. Вода — одна из основ телесного благоденствия, и у каждого свой рецепт. Скарлетт Йохансон в «Трудностях перевода» Софии Копполы, следуя материнскому завету, трет лицо до блеска холодной водой. В одном детективном романе Питера Чейни[11] сыщик перед выходом из дому втирает себе в волосы туалетную воду. Исмаил Мерчант[12], продюсер Джеймса Айвори, готовит себе ласси с флердоранжевой водой. Прохладительный напиток родом из Индии, с иранскими и турецкими вариациями, одна из которых — соленая, на основе мяты. Если вкратце, то готовится он так: взять четыре йогурта без добавок, развести тремя стаканами воды, добавить три столовых ложки сахара и полстакана флердоранжа, хорошенько перемешать и на холод — пусть настаивается, чем дольше, тем лучше.
И такая накатит благодать, когда, пропитанный солнцем, войдешь в полумрак — за окном печет, ставни сомкнуты, — и йогурт с ложки побежит, сборясь и петляя, в родную стихию белыми, голубеющими лентами.
Анн-Лиз Гробети © Перевод с французского М. Аннинская, М. Яснов
Прозу Анн-Лиз Гробети [Anne-Lise Grobéty, 1949–2010] часто сравнивают с игрой на скрипке, так она музыкальна и притом неуловимо музыкальна: не сразу замечаешь все богатство аллитераций, ассонансов, внутренних рифм. Свой первый роман — «Умереть в феврале» [ «Pour mourir en février», 1969] — Гробети написала в 19 лет; исповедь девочки-подростка высоко оценила «гранд-дама» швейцарской литературы Коринна Бий. Последующие романы — «Ноль со знаком плюс» [ «Zéro positif», 1975, премия Шиллера], «Безмерно больше» [ «Infinimentplus», 1989] — развивают характерную для писательницы женскую тему.
Мать троих дочерей, Гробети не раз. признавалась в своих интервью, что без этой счастливой помехи написала бы куда больше. За годы, что росли дети, появился лишь один сборник рассказов, отточенных, как стихотворения в прозе, — «Зимняя невеста» [ «La fiancée d’hiver», 1984, премия Рамбера]; сюжет многих из них строится вокруг материнства.
Так, в рассказе «Сдохни, мерзкая тварь» звучат, перебивая друг друга, голоса дочери — больной девочки Алины, в чьем восприятии мир предстает странным и поэтичным, — и матери, мечтающей «сплавить» дочь в какую-нибудь лечебницу.
Продолжает «семейную» тему в подборке «Нилли в ночи» — остроумное упражнение в стиле на тему храпа.
Среди произведений писательницы: роман «Струна ми» [ «La corde de mi», 2006], роман для юношества «Пора слов вполголоса» [ «Le Temps des Mots à Voix basse», 2001, премия Сент-Экзюпери] и др. Творчество Гробети отмечено самой престижной в Швейцарии литературной наградой — Большой премией Рамю.
Переводы выполнены по изданиям «Зимняя невеста» [ «La fiancée d’hiver». Bernard Campiche Editeur, 2011] и «Отметины Прекрасной дамы» [ «Belle dame qui mord». Bernard Campiche Editeur, 1992].
Сдохни, мерзкая тварь
Она говорит:
невозможно ни на минуту оставить ее одну, просто с ума сойти, ни на минуту, представляешь, нужно, чтобы кто-нибудь обязательно был рядом и следил за ней, никогда не знаешь, что ей в голову придет… когда выходим, нельзя отпустить ее руку, надо держать крепко-крепко, Мишель, а она вцепляется в меня вот так, как будто… даже руку больно, так цепляется
она говорит:
и так странно смотрит иногда, такой взгляд, что страшно делается
она говорит:
Мишель наводит справки, надо бы поместить ее в лечебницу, вот только в какую? Это же не так просто, в лечебницах мало мест, и потом, нельзя же все равно в какую, но это единственный вариант… знаете ли, я больше не могу, сколько времени это уже длится, я просто сойду с ума, она так вцепляется, что у меня остаются следы, да-да, следы, даже страшно себе представить… она, когда была еще малюткой, уже вцеплялась в меня, точно щипцами, словно боялась, что я ее оставлю… в городе я не могу отпустить ее руку, если я ее отпускаю, она начинает кружиться, и все кружится, кружится… просто ужас какой-то, как собачонка за своим хвостом, а люди, разумеется, смотрят искоса, нет, я просто с ума сойду…
* * *
Она говорит:
…и все кружится, кружится и смотрит в землю, вот так, а круги все уже и уже, пока не упадет, и меня она уже не видит, и ничего вокруг себя не слышит, ты даже представить себе не можешь, как это на меня действует, когда она вот так кружится, с тобой она так себя не ведет
она говорит, а он смотрит на нее и вслушивается в ее слова
* * *
Она говорит женщине в зеленом, от которой пахнет пустыми комодными ящиками и вербеной, женщине по другую сторону стола: иногда несколько дней подряд все в порядке, ничего такого не происходит, две недели все хорошо, она тиха и послушна, сидит спокойно в своем углу, между двумя дверьми, и читает, и смотрит, как мы ходим мимо, и не кричит, а сидит себе тихо, совсем как нормальная, я хочу сказать
она говорит не для этой, для другой стороны стола, копна ее волос подрагивает над спинкой стула, в ней таится аромат корицы… она продолжает говорить, шевелюра подается вперед, потом возвращается назад и зависает над спинкой стула, вот она склонилась вправо, вся Карина теперь — только эта ветроподобная косматая грива, густозаросшая долина, да еще унизанные кольцами руки, они воздеты кверху и прыгают, точно марионетки, по обе стороны шевелюры древесно-терракотового цвета… эти кольца-кольца-кольца, тесные железные обручи, только им дано пленять пальцы Карины, обвиваться вкруг ее пальцев, стискивать их мертвой хваткой, совсем не оставляя зазора между кольцом и пальцем… только кольца могут обнимать пальцы Карины… я сама не кольцо — кольца появляются ночью, и смыкаются вокруг меня, и не дают мне сдвинуться с места, не дают приблизиться к ней, эти кольца меня сжимают, так что я не могу шевельнуться, и даже дышу с трудом… кольца, унизывающие пальцы, разъедают плоть подобно кислоте… синий свет, синева на моих пальцах, золотое кольцо, впивающееся в плоть… кольца вертятся на пальцах, пока не прорежут кожу, пока не распилят пальцы… вот зеленый перстень, вот коричневый змеевик… а от черных колец пальцы пухнут и горят, как от раскаленного железа… расплавить железо в плоть, пальцы с металлом, никогда больше кольца не разомкнутся, спаянные, — закричала.
* * *
Карина говорит женщине рыхлой и дородной в шляпе вазоподобной:
а потом, ни с того ни с сего, она принимается кричать, и никогда не знаешь, почему она кричит, и вынести это невозможно…
они пьют чай-отраву, медный, застывший в чашках, на тарелках белое пирожное, ее рука опускается к тарелке и взлетает, неся ношу, а потом начинает все сызнова, опускается и взлетает, пикирует на тарелку, пальцы подцепляют бисквит, рука поднимается ко рту и там замирает, мертвея
* * *
Мишель, уверяю тебя, это ужасно, меня не покидает чувство, что она за мной следит, затаится под дверью и наблюдает, подглядывает, поджидает меня в закоулках, это просто невыносимо, невыносимо
Карина, ну что ты говоришь?
Уверяю тебя, это так, она все время за мной подсматривает, я не выдумываю, нет, сегодня утром вот опять, я сидела писала письмо, а она притаилась за дверью, на корточках, я уверена, а на днях, вечером, когда я вернулась после концерта, она сидела на лестнице и поджидала меня, в пижаме надеюсь, она не очень долго там сидела! я от этого с ума схожу, не знаю, что я такого ей сделала… а тут, в субботу, я была в саду с четой Бо, а она вдруг бросилась на дерево и принялась стискивать его изо всех сил, ты видел, какие у нее остались отметины, Мишель?
они сидят визави, она — прямая, с белой как мел кожей, он — весь шероховатый, с глубокими впадинами и бороздами на щеках, на ней — платье из льна, что растет в полях
* * *
Месье Бо сидит в кресле Мишеля и курит «блостеры», на нем светлый с пурпуром пиджак, он улыбается, лицо точно покрыто воском, в ушах тоже воск; она говорит своим обычным голосом, будто тростник шелестит над водой; меня никто не слышит, я — всего лишь маленький круглый глазок, проделанный в стене. Она говорит: да-да, после концерта — все время наше мое ухо прижато к стене, оно скользит вдоль стены, подбирается к незакрытой двери, приникает
* * *
Карина наклоняется, кладет блузку на табурет, скидывает домашние туфли, отодвигает их мыском ноги, выпрямляется, трогает воду кончиками пальцев, пена разлетается по ванной, взлетает к потолку; она продолжает раздеваться, будто для кого-то, ее грудь выпрыгивает наружу; она отворачивается, глазам предстают две раковины — ягодицы; ее тело похоже на палочку коричневой корицы с двумя изгибами — груди и ягодиц; она погружается в ванну, покрывается рыжей пеной, пузырьки лопаются от соприкосновения с ее кожей; из пены выступает только ее голова с закрытыми глазами; мои ноздри ловят запах рыжей пены сквозь замочную скважину
* * *
Нет, ты не понимаешь, я вовсе не хочу от нее избавиться, просто она путается весь день у меня под ногами, шпионит, ходит за мной повсюду, как собачонка… Эдит занимается ею, насколько это в ее силах, но лучше, наверное, поручить ее кому-нибудь другому, у кого это лучше будет получаться… тебе-то что, Мишель, ты часто в отъезде, вот я — другое дело, меня это выводит из равновесия, надо что-нибудь придумать… Вот недавно, в субботу, когда месье и мадам Бо гуляли по саду, она ни с того ни с сего бросилась обнимать ствол груши, да так, что до крови… я больше не могу это выносить… а ее рисунки, ты видел ее рисунки?
* * *
Месье Бо всегда приходит один
пространство листа каляки-маляки
он садится на место Мишеля
карандаш кружит, кружит
они курят его сигареты, дым змеится, закручивается в спирали, скрывает, меняет медленно их черты
круги-улитки, линия должна быть плавной, не отрывая карандаша от бумаги, все сплетается одно с другим, ничто не должно обрываться в пустоту, закрученные круги-спирали, никогда не разомкнутся, никогда не сомкнутся друг с другом
он говорит ей что-то и тянет к ней бокал, по стеклу стекает зеленое, оно дрожит и пенится за стеклом, бокал тянется вперед, затем возвращается назад, снова тянется к ней кокон раковина-ракушка: слизь на песке
тошнотворно-зеленая жидкость стекает к краю стакана, затекает в его рот, отвратительный, гадкий рот, весь в квадратиках, в горошинах, он улыбается скользкой улыбкой, Карина тоже улыбается, ее улыбка как ползучий плющ, она говорит: после концерта никто не помешает, ее губы расплющиваются как волны о край мутного стакана, кружат круги-улитки, скручиваются в комочек внутри раковины-ракушки, под ракушкой жирно-склизко, он садится с ней рядом, стакан к столу прилипает, производя звук молотка
она протягивает к нему руку
спираль замирает, замирает
они держат друг друга за руки, держат за руки, зачем, зачем эта связь, надо убить улиток, улитки — свидетельницы, сообщницы, изничтожить улиток, острый карандаш колет, острое острие
колет
сдохни, мерзкая тварь
сдохни, мерзкая тварь
сдохни, мерзкая тварь
сдохни, мерзкая тварь…
* * *
Ее тело продавило себе норку в подушках, подушки хотят поглотить ее тело, обволакивают его запахом перьев и бархата, колечки кудрей прыгают, змеятся по подушкам, на ней танцевальное платье, под которым круглятся выпуклости тела, изгибы, извивы, склоны, возвышенности — тело-дрема, ребро носа, выпуклость скул, — скорлупа гладкого ореха, миндальные скорлупки опущенных век, сфера живота, полушария грудей, холмы бедер, округлости коленей, гарпуны открытых глаз… подобраться поближе к ее плечу, вдыхать запах розмарина и карри
Алина, пойди поиграй, пойди почитай, пойди погуляй по саду, пойди посмотри на воду в водоеме, оставь меня в покое
не уходить, крепко держаться за нее, стать продолжением ее тела, одним целым, как пруд и прутья тростника, не выпускать тростник ее волос, тянуть его, тянуть к воде
Алина, будь славной девочкой, отпусти мои волосы, ты портишь мне прическу
у меня на руках, у меня на лице кружение-струение темного дыма, перед глазами черное кружево, нырнуть в ее волосы, как в тоннель, целиком, зажмуриться от ее тепла, от запаха коры, ничего больше не слышать в этом мареве, в этой черноте
Алина, прекрати, ты мне делаешь больно, будь послушной девочкой
А вот удар вилами, пальцы запутались в паутине волос, в крючьях серег, они цепляются за мои руки-крюки, затягивают меня в черноту, в пустоту, зубы сомкнуты в замок, пауки в подвале
ты совсем с ума сошла, оставь меня немедленно!
упала на ковер, зарылась в ворс, он схватил меня и держит крепко, он кусает мне лоб, щеки, лезет в рот, начинает кусать язык — закричала.
* * *
Уверяю тебя, Мишель, я не придумываю, все так и есть, она все время шпионит за мной, даже когда я в ванной, я слышу, как она шуршит под дверью, ты не можешь себе вообразить, с тобой она ведет себя нормально, я же вижу, но я-то, что я ей сделала?.. на днях, к примеру, она вцепилась мне в волосы и не хотела отпускать, она не в своем уме, надо поместить ее в лечебницу, я знаю, ужасно так говорить, но я не хочу, чтобы она жила дома… а эта история с пиджаком, когда у нас был месье Бо, к тому же я не могу больше брать ее с собой в город, я просто сойду с ума… даже Эдит становится страшно, не потому что с ней она ведет себя странно, нет, с ней она послушна, но Эдит видит, как она ведет себя со мной… вот и месье Бо говорит, что ее надобно поместить в пансионат, что там ею будут заниматься, постоянно под присмотром, к тому же у нее, возможно, появятся друзья
но она же не сумасшедшая
нет, это я так, просто я не знаю, как сказать, ты должен меня понять
она сидит рядом с ним, прильнула к нему, ее смуглая рука, затянутая в белую перчатку, лежит на его руке, она говорит с ним совсем тихо и сладко, точно карамельки во рту держит, приклеивает эти карамельки ему на лицо, на щеки, на бороду, на волосы, в которых уже виднеется серая солома, а в чашках чернеет черный кофе-вар, кофе-варево, но про него забыли, на ней платье из льна, что гниет в полях и полег под дождем и ветром
* * *
Она говорит:
к тому же в городе, стоит мне отпустить ее руку, она начинает вертеться волчком посреди тротуара… бывают, правда, периоды, когда этого не происходит, она много читает, но почти не разговаривает, в особенности со мной, не отвечает, когда я с ней говорю, только смотрит, а потом иногда вдруг начинает кричать, будто, будто… будто ее бьют, но я ни разу ее пальцем не тронула, уверяю вас… мой муж настаивает, чтобы она жила с нами, другое дело, что по работе он часто и подолгу отсутствует, хотя, когда он дома, надо признать, она намного спокойней, он знает к ней подход, но вы должны посмотреть на ее рисунки, целые листы, изрисованные улитками, а потом она берет острый карандаш и начинает их колоть, и приговаривает: сдохни, мерзкая тварь…
круглый живот пирога хрустит под ее зубами, огонь скребет когтями комнату, они пьют травяной чай, коричневый, как сад, роняющий лоскутья, похожие на старые коричневые фотографии, фотографии старых бабушек Карины
* * *
Она говорит ему, почти приникнув к нему, глядя куда-то вперед, прямо перед собой, в сторону города:
не нравится мне вся эта ложь, лгать, чтобы он ни о чем не догадался, городить незнамо что, порой мне невмоготу…
и кольцо ее вспыхивает в последний раз на солнце и гаснет в тени земли вместе с другими кольцами, земля фонтаном бьет из-под моей ноги и глотает кольцо Карины
* * *
Месье Бо снял свой замечательный светлый пиджак без карманов и повесил на спинку стула, он говорит, рубашка на шее расстегнута, его руки отрываются от стола, летают туда-сюда перед ним, перед ней, сад покрыт кракелюрами полуденных теней, она вся — спина и смех, плечи обнажены, по ним гуляет солнце, проглядывая сквозь ветви, и рисует тропинки, по которым месье Бо хотел бы пробежать своими губчатыми губами, и ее смех, разъеденный кристаллами соли, падает на цветы, на висячие вишни, на сочную спелую малину у меня в ладонях, смех колышет кончики люпинов, пушистую траву, щекочущую мне лоб, этот смех нестерпимо жарок… встаю, бросаюсь к дереву, сжимаю ладони… ее жаркий смех, обращенный к нему… я хочу спрятаться под деревом, на котором висят тяжелые груши, я хочу под ним заснуть… но дерево падает прямо на меня, царапает меня своими ветками… иду к ним
Алина, что у тебя в руках, что ты смеешься, ступай вымой руки, лучше бы ты съела эту малину, чем давить ее руками
смеюсь, потому что светлый пиджак висит на стуле, как мертвый, а на спине у него — кровавое пятно
* * *
Она сказала мне.
пошли, Алина, дай мне руку, хорошо, мы не пойдем сегодня к месье Бо, мы вернемся домой, да не крутись же ты так, на тебя люди смотрят, все на тебя смотрят, ну хорошо, пойдем в другой раз
она берет меня за руку, сжатую в комок, в клубок, опущенную вниз, хочет разжать мои пальцы, мой кулак-кокон, вложить в него свою холодную ладонь, мертвую ладонь, и из моей руки начинают выпадать штучки, которые в ней были зажаты, как снег, как пыль, они сыплются на мои мокрые туфли, которые кружатся, кружатся по тротуару вокруг моих ног и никак не могут друг друга догнать, отдельные части меня…
* * *
Послушай, Алина, может быть, ты все же снимешь пальто? Когда мама тебя заберет, тебе будет холодно на улице, если ты в помещении будешь сидеть в пальто. Может быть, присядешь? Надо сесть…
Месье Бо клонится всегда в одну и ту же сторону, как и его пиджак, туда, где у него правый глаз, который и проткнуть-то нельзя, потому что он бездонный, а вокруг рта у него — следы слов, которые он произносит, как царапины, а в левом глазу у него отражается, тает глаз Карины
* * *
Послушай, доешь скорее свое мороженое, оно течет у меня по руке, все липкое, отпусти меня
ее босые ноги в сандалиях направляются прочь, они уже нацелились куда-то, поворачиваются и идут — известно куда, куда собирались… стучат, как бубны, которые суют мне в руки, чтобы я держала и била в них, — такие полупрозрачные круглые штуки, сквозь них видны мои пальцы, как карамельки… карамелька вертится-кувыркается на языке — мяч по лугу, круглый кувыркучий, бесконечно-круглый… волчки моих ног, ветер кружит вокруг, не выпускает за круг, как в круглом стеклянном аквариуме, нога догоняет ногу, ей некуда деться, все равно всё по кругу, по кругу, как кольцо вокруг пальца-башни, кружит-кружит и пилит-пилит… земля под ногами, перед глазами, вертится, как белый флюгер на крыше, серые ноги-лианы, вылезают из-под земли, карабкаются по моим ногам, не пускают их —
упала, не закричала
* * *
Сегодня днем она рисовала круги, почти совершенные, и только один, внизу, с буграми, будто с кружевами, если угодно, а когда у нее спросили, что это такое, она сказала: Карина…
* * *
Под высокими цветами раковины улиток, которые то ли спят, то ли подглядывают, поджидают, затаясь, вот вам салат для них, вот борозда на песке… она смеется так громко, что смех долетает до меня, щекочет кожу, и я покачиваюсь, как парус, пчелы и мухи тоже жужжат, как ее смех… они сидят у дома, отсюда не видно, на Карине огненное платье, в котором она будто из-под земли растет… мне нравится трогать эти улиточьи раковины, выкладывать их в ряд одна к другой, но мне надо их видеть, и я иду к дереву, оттуда мне будет видно, как они смеются и пьют из длинных бокалов, белых и холодных, как куски льда, за стволом меня не видно, под ногтями бугристая кора, а их руки, их руки сплетены, и головы приникли одна к другой, и руки, и головы, и волосы, их волосы перепутались друг с другом, рука скользит по сильной горячей спине… тоже тебя держать, снова, еще, лысая бугристая кора, пой, пой под моими ладонями, толстые шероховатые складки цепляются за меня, не хотят отпускать, проникнуть в них, спрятаться, зарыться на веки вечные в этих корявых бороздах, тут есть одна для меня, слиться с этим стволом, не возвращаться назад, проникнуть в него, скрести ногтями, грызть, сжимать, стискивать, обнимать, тереться… ствол жесткий, корявый, холодный, он рвет мертвую кожу, я- на куски, держать крепко, красная, горячая трава она поранилась?
горячее, струится, везде
у нее кровь из носа и на запястьях
так глубоко ушла корнями в землю, что корни пьют кровь земли, они так глубоко в земле, мне никогда, никогда до них не достать…
* * *
Она говорит, белый телефон, мертвое лицо:
возможно, я недостаточно заботливая мать, что верно, то верно, у меня есть определенные занятия, есть свои дела, но, по правде, я всегда вела себя с ней, как считаю правильным, странной она стала к четырем годам, может быть, чуть раньше, сейчас не скажу точно, вы сами посмотрите в истории болезни… Да, месье Бо, психиатр, тоже считает, что ее следует от меня отдалить, у нее ко мне очень странное, очень нервное отношение, так говорят врачи, а он вам рассказывал про ее рисунки?
ее голос струится, стелется, растекается по стенам, обволакивает мебель, добирается до меня, притаившейся за дверью, щекочет мне затылок, этот тихий голос заползает в вазы, наполняет их, лижет рамы картин, дверцы шкафов, поднимается, спускается, ищет мое ухо и, найдя, устраивается в нем, как в норке
* * *
Карина распахивает шкаф, раскрывает чемодан, собирает по комнате вещи, действует уверенно, стремительно, это женщина-пират, ее черные глаза шарят по шкафу, она срывает с вешалок платья — зеленое, клетчатое, коричневую бархатную юбку, бросает их на кровать, складывает своими сухими, властными руками — пижамы, пальто, трусы, рубашки, джинсы — мягкая темно-синяя ткань… окно закрыто, Карина прихлопывает сложенные вещи, уминает их в чемодан, набивает чемоданное брюхо… в саду ветер треплет кусты, дождь лупит по цветам, те клонят головки, сникают, умирают… Карина хватает сумку, бросает в нее мертвые вещи, носовые платки, карандаши, книжки, поделки… вода в водоеме покрыта клейкими черными чешуйками, листья-рыбы, отравились и сдохли… Карина уже на лестнице
пойдем, Алина
Карина толкает дверь, дверь распахивается в потемневший сад, он весь растрескался, как старая фотография, разлетается в клочья, Карина запирает дверь, крыльцо все проржавело, на ступеньках раздавленные листья — дохлые твари —
ты…мне… молчать
Перевод Марии Аннинской
Нилли в ночи
Окно в ночи, Нилли, с широко распахнутыми ставнями — ты засыпаешь, а они тянутся к тебе и зовут за собою ринуться в бездну грез и пуститься в беззвучный ночной полет сквозь гербарий сновидений, в котором засушены звезды.
И покуда ты ждешь, распростертая и доверчивая, ждешь этот трепет осин в теплом полумраке, озноб ночных сверчков, вялые взмахи совиных крыл, поскребывание мыши, шуршание ежа и даже это несдержанное, навязчивое и резкое жужжание насекомых — милые шумы и шелесты, почти человеческие, — покуда ты ждешь прикосновения неспешного сна, внезапно этот леденящий удар сотрясает течение ночи…
В расщелине носа скрип тяжелых сапог, клокотание глубокой горловины, где вода цепляется за скалы, и, вывернувшись наизнанку, вновь начинает за них цепляться в обратном направлении, тот же поток, обращенный вперед, и снова назад, и возврат — как бывало в детстве: по кочкам, по кочкам…И вот, Нилли, из этой неги летней ночи с кожей тонкой, как кожица сливы, тебя бесцеремонно вышвыривают на дно мглистого канала, где голос сирен становится гласом сифонной трубы.
Когда ты, расслабленная, движешься ко сну, когда ты тихонько и коротко дышишь, когда ты уже растворилась в блаженстве и небытии, а твое тело, едва покачиваясь, нежится в сладостной купели цветов и образов, —
вот он, ледяной удар первого всхрапа!
Это похоже на то, будто вы всей душой отдаетесь ароматам изысканного блюда, и тут ваш сосед без зазрения совести громко пускает ветры вам прямо в лицо — да, именно так! Чутко смеженные веки судорожно морщатся и наконец распахиваются, открывая испуганные глаза: ваша любовь — твоя любовь, Нилли! — стремительно срывается с места, взлетает в ночь, с разверстыми ноздрями бродит вокруг да около в своем сновидении и снова сникает, подхваченная мощным рангоутом храпа,
хрипы смешиваются
и перемешиваются
с теплым воздухом ночи.
Хрипы, жирные печальные насекомые с дырчатыми крыльями, сталкиваются и беспорядочно теснятся в носовых жерлах, теряют направление, натыкаются, ударяются, словно нанизывая жуткое жемчужное ожерелье,
налезая друг на друга,
толкаясь, карабкаясь неведомо куда,
на стены с глициниями, на склоны ущелья,
на уши подушки,
скользя по зеркалу, по ребру полумесяца, разлетаясь вдребезги по всей комнате от пола до потолка, врассыпную проникая в самые укромные уголки твоей постели, Нилли.
…Повернуться спиной, оглохнуть, утратить обоняние, охрипнуть, выдыхая в темноту: я тебя задушу! Нападающий, идущий на штурм, отступающий и снова идущий. Воздушный шар, продырявленный сипением. Стадо свиней, погрязшее в стойле постели…
И будь это еще надежное построение! Равномерно округлая сфера, в которой можно укрыться; павана, менуэт; хоть какой-нибудь ритмический рисунок, которому можно ввериться. Но нет! Никогда не знаешь, с какой ноги начать плясать этот храповяк.
Порой это танец на лестнице — наклоняться вперед, одновременно цепляясь за перила, и вдруг спохватываться, на какой ты ступеньке; никакой последовательности, только порыв и разрыв —
и возвращаться невпопад, неважно как, колеблясь, без определенного стиля — ни полька, ни ява.
Порой это заминка — в нерешительности, без предупреждения, на восьмушку, вздох — так где мы остановились?.. Храпун умер? Ты ловишь себя — это оскорбительно — на тревоге, ты ждешь продолжения, как биения сердца, — это удручающе…
Порой это бесконечные хриплые рулады, смутно напоминающие финал одной из песен Далиды, мамма миа! Ты старательно считаешь, пытаешься обнаружить какое-то подобие ритма, но два-три такта — и все рушится. Безобразная, беспорядочная, неуклюжая, тяжелая медвежья пляска, пляска смерти…
Сколько женских ночей, Нилли, исковерканы храпом? Сколько женских жизней разбито о камни храпа? Сколько было возлюбленных, попавших в ловушки храпа, поджаренных в масле храпа, встающих с отрыжкою храпа?
О, эти миллиарды литров храпа, прорывающего плотины горла, заливающего спальни, сносящего все на своем пути и топящего ваши сновидения — твои, Нилли, и тех, других, что уже так давно далеки, так давно далеки от тебя, Нилли!
Перевод Михаила Яснова
Моник Швиттер © Перевод с немецкого М. Зоркая
Моник Швиттер [Monique Schwitter] родилась в Цюрихе в 1972 году. С 1993-го по 1997 год училась режиссуре и актерскому мастерству в Зальцбурге, после чего работала актрисой в Цюрихе, Франкфурте, Граце и Гамбурге. С 2005 по 2010 годы вела и готовила литературные радиопередачи, посвященные Петеру Хандке, Эрнсту Яндлю, Раймону Кено, Саре Кейн и другим. Ее рассказы впервые появились в печати в 2002 году. Первый сборник «А если снег, у крокодила…» [ «Wenns schneit beim Krokodil»] вышел в 2005 году. За него Швиттер была удостоена премии Роберта Вальзера и поощрительной премии Шиллеровского общества. В 2009 году вышел первый роман «Уши без век» [ «Die Ohren haben keine Lider»]. А в 2011-м — второй сборник рассказов «Память золотой рыбки» [ «Goldfischgedächtnis»], который писательница в конце прошлого года представляла на московской книжной ярмарке «non/fiction». Русский перевод этого сборника, над которым работали участники специального переводческого семинара, готовится к печати в издательстве «Текст».
Перевод выполнен по изданию «Wennʼs schneit beim Krokodil» [Droshl, 2005].
А если снег, у крокодила…
Когда-то я была влюблена и часто ходила в зоопарк. Мне нравилось ходить в зоопарк с тем, в кого я была влюблена.
Увидим павиана — показываем пальцем на его красный зад и смеемся. Увидим, как горилла зевает, — и смеемся. Покупаем попкорн для зверей, лопаем его сами — и смеемся. В ламу плюемся, жирафу показываем язык и тоже смеемся. Мне нравилось ходить с ним в зоопарк. С ним я бы куда угодно пошла. Даже в музей гильдии мясников или на выставку лесопильного оборудования, даже в дом, где родился Моцарт. Или в ортопедический научно-исследовательский центр. Или в музей монет Немецкого банка, в дом-музей Гёте, в кабинет восковых фигур. В музеи: бункера, кладбища, пряностей, детского творчества, таможни, кораблей в бутылках, портовых складов. С ним я пошла бы даже на экуменическую церковную ярмарку.
Но это было где-то и когда-то. Другие города, другие времена.
Не люблю зоопарки и питомники. Не люблю зоологические сады.
— Тебе пришло письмо, — сообщила мне по телефону мама.
— Открывай! — велела я.
Она не поверила:
— Я ведь не знаю, что там в конверте да от кого…
— Вот именно, — ответила я раздраженно. — Вот именно поэтому — открывай.
— Не знаю, не знаю… — повторила мама, но в трубке зашуршало.
Молчание.
— Ну? — резко спросила я.
Молчание.
— Алло, ты меня слышишь!? — закричала я в телефон. — Ты слышишь меня?
— «Я точно приду. Зоопарк, первое января, девять утра, у верблюда. А если снег, у крокодила».
— А дальше что? — спросила я.
— А дальше ничего, — ответила мама. — Ты приедешь на Рождество?
В зоопарке моего родного города я была лишь однажды, в возрасте девяти лет. Однажды — и не по своей воле.
Экскурсия оказалась незабываемой.
У меня за спиной клетчатый рюкзак, как у всех детей. Мама дала мне с собой бутерброды и чай, цветные карандаши и бумагу, как все мамы.
На входе в зоопарк учительница (помню ее глубокую вертикальную морщину посреди лба) пересчитывала нас по головам.
— Не крутимся, стоим смирно, смотрим на меня! — скомандовала она и принялась считать нас по головам.
Маттиас спрятался у меня за спиной. Маттиас, крошечный Маттиас. Он мне нравился. О, как я хотела, чтобы Бог помог ему вырасти. О, как я хотела, чтобы Бог помог мне больше не расти. «Для нас с Маттиасом это единственный шанс», — снова и снова, каждый вечер объясняла я Богу.
Маттиас сзади вцепился в капюшон моей красной куртки. Изо всех сил старался, чтобы я повалилась наземь. А я старалась встать навытяжку. Хотела, чтобы и меня пересчитали.
Маттиас тянул и дергал мой капюшон. Обернуться я не осмелилась.
— Смотрим на меня! — командовала учительница.
— Прекрати! — сказала я Маттиасу.
А он дергает все сильнее и сильнее. Ребята уже посмеиваются.
— Давай, вали ее! — подначивает Томас. Противный Томас с брекетами.
— Прекрати, пожалуйста, — тихо взмолилась я.
Маттиас, вцепившись обеими руками в капюшон, повис на нем всем своим весом. Меня качнуло назад. Я упала.
— Вот дура-то, — только и сказал Маттиас, вскочив на ноги. И засмеялся со всеми вместе.
Учительница произнесла мое имя. Язвительно, как только могла.
— Вставай, — приказала она. — Это я возьму на заметку.
А морщина на лбу у нее глубокая и прямая, как разрез.
На Маттиаса я не разозлилась. Я возненавидела училку.
Так бы и шарахнула ей по голове тем камнем, который лежит у входа. Огромный камень, настоящий валун. На этом камне, как на скамейке, уместились бы две взрослые задницы, может, и впритык друг к другу, но точно бы уместились. Вот жаль, что так велик этот камень.
Я возненавидела учительницу. До того возненавидела, что слезы брызнули из глаз.
«Песенка твоя спета!» — сказала я про себя. Так говорили мальчишки из нашего класса, когда собирались влепить нам, девчонкам.
«Спета твоя песенка!» Я оглянулась в поисках подходящего камня поменьше, которым могла бы врезать ей, училке, прямо по башке.
Вот уже одиннадцать дней, как я дома, я провожу в родном городе рождественские каникулы.
Одиннадцать дней назад, 21 декабря — это начало зимы и самый темный день в году — я подошла ко входу в зоопарк и спросила в кассе, сколько стоит билет.
— Билет для взрослых на весь день стоит двадцать два франка, — ответила кассирша.
— А крокодил у вас есть? — поинтересовалась я.
Кассирша сунула мне проспект:
— Вот, смотрите.
— И верблюд у вас тоже есть? — продолжала расспрашивать я, взяв проспект.
А кассирша:
— Вы пойдете в зоопарк или нет?
— Наверное, не пойду, — ответила я.
Большого камня у входа теперь нет. Развернув проспект, я примостилась на ступеньках возле кассы. А ступеньки холодные.
Десять дней назад я сидела утром в ресторане напротив зоопарка и пересчитывала людей, которые покупали билеты в кассе и шли к входу. Четырнадцать. С девяти утра, когда открывается зоопарк, — четырнадцать. Четырнадцать человек, ни одного не знаю. И ни один не похож на знакомых мне когда-то людей.
Передо мной на столе газета, региональный раздел. В кармане куртки проспект и двадцать два франка. Если заплатить за кофе, то на входной билет не хватит.
Крокодил у них есть. И верблюд тоже есть, это я теперь точно знаю. Проспект я внимательно изучила. Уже восемнадцать посетителей. Но знакомых вроде бы нет. Смотрю на часы. Половина десятого. Разворачиваю газету. Читаю: «Стремление к высотам не отвечает национальным представлениям о норме».
Девять дней назад я мерзла у входа, ожидая кассиршу. В кармане проспект и двадцать два франка.
«Тогда была весна», — вспомнилось мне.
Как увидела то место, где лежал огромный камень, так сразу и вспомнила: тогда, с классом и с училкой, была весна. Вдруг меня бросило в жар, накрыло горячей волной от затылка к плечам и по всему телу, той самой волной: Маттиас сбил меня с ног, я повалилась наземь в своей красной курточке.
В окошечке появилась кассирша, развернула табличку: «Открыто».
Я оказалась первой посетительницей. «Добро пожаловать на экскурсию для пенсионеров! Начало в 9.30», — гласило объявление на доске у входа.
По схеме в проспекте я отыскала путь к крокодилу.
Стоя перед стеклянной дверью, на которой в ряду пиктограмм вроде бы обозначался и крокодил, я почувствовала удары пульса. Сердце, подскочив вверх, билось у меня в горле, в шее, словно хотело вырваться наружу.
Отворив эту стеклянную дверь с надписью «Экзотариум», я вошла в темное помещение. Дверь за мною закрылась. Я остановилась в ожидании, взглядом пытаясь найти хоть какую-то отправную точку. Не слышно ни звука, ни шороха. Тут ни человека, ни зверя, никого, я одна.
Прежде чем мне удалось хоть что-то разглядеть, нахлынули воспоминания. Ненависть и стыд. Помню, где я и кто я есть: девятилетняя девочка, которая замышляет убийство. Девятилетняя девочка, которая просто еще не нашла подходящий камень. Девочка, которая кралась за учительницей, пока та не обернулась.
— Ты что здесь делаешь?
А я молчу.
— Прекрати ходить за мной по пятам. Выбери животное, какое будешь рисовать. Слышишь? Ты слышишь меня? — повторяла учительница. — Ты меня слышишь?
Я повернулась и убежала. Металась, искала, где бы спрятаться. Обнаружила вход в какое-то здание, а там полутьма. В сумеречном зале села на скамейку. Постепенно стала различать аквариумы вокруг. Заметила большую пеструю рыбу. Не сводя с нее глаз, достала бутерброды, мама дала их мне с собой. Принялась за еду.
Гневно откусывала, жевала, глотала эти бутерброды, подпитывая ненависть к учительнице. И поклялась, что ей не уйти.
И вот спустя двадцать лет я в том же зале. Уже различаю аквариумы. Различаю скамейку в самом центре. Сажусь на скамейку. Ищу глазами ту самую большую пеструю рыбу.
Справа у меня в поле зрения целая стая рыб. Эти мелкие переливчатые рыбки, кажется, не плывут, а парят. Бесшумно. В невесомости.
Большую пеструю рыбу я выискивала напрасно. Поняла: в живых ее уже нет, ясное дело. Вот интересно, как долго живут рыбы? Вспомнила бутерброды, которые пыталась тогда проглотить. Вспомнила голос за спиной, голос училки, отыскавшей меня в убежище.
— Что это ты надумала? — раздался этот голос у меня за спиной.
«Тебя убить!» — мысленно ответила я, полыхая ненавистью. Зажала бутерброд между колен и, не оборачиваясь, проговорила:
— Рисую большую рыбу…
Учительница обошла меня кругом. Остановилась напротив.
— Лгунья! — вскричала она. — Ну-ка поднимайся!
Бутерброд шлепнулся на пол, когда я вставала со скамейки…
…Я стремительно поднялась и вышла из зала. Распахнула стеклянную дверь, и дневной свет ослепил меня, хотя утро было пасмурное, зимнее. Двинулась в обратный путь, то ли к входу, то ли к выходу. Навстречу мне группа посетителей, десяток седовласых пенсионеров в бежевых спортивных куртках во главе с гидом, у того на груди слева красуется бейджик: «Экскурсовод Рыбаг». И услышала учительский голос:
— Согласные глухие и звонкие! «К» или «г»? Отвечай!
— «Рыбак» пишется с «к» на конце, — твердо ответила я учительскому голосу.
А вдогонку:
— Как правило.
И показала училке язык.
Восемь дней назад, в Рождественский сочельник, я все утро провела в своей бывшей девичьей кроватке. Мама в гостиной слушала Бинга Кросби и тихонько ему подпевала.
«Я точно приду. Зоопарк, первое января, девять утра, у верблюда. А если снег, у крокодила». В сотый раз я перечитывала письмо без обратного адреса. Отправлено из моего родного города. Отправлено кем-то, кто знает только родительский адрес. Отправлено кем-то, кто понятия не имеет, что я давно тут не живу.
Буквы вырезаны из газеты и наклеены на листок бумаги. Как в детективных сериалах моего детства. Так выглядели «анонимные письма» в телевизоре моего детства. Сегодня сохранить анонимность намного проще. В любой публичной библиотеке стоит компьютер, подобные послания только пиши да распечатывай — просто, быстро, бесследно.
Может, это письмо — цитата из письма, когда-то написанного мною и кому-то отправленного? Напрягаю память. Нет. Я даже и сейчас не помню, пыталась ли хоть когда-то смастерить подобное послание.
Может, старательная ручная работа есть доказательство неимоверных усилий автора? И я вроде как заслуживаю этих усилий?
Снова проглядываю список. Список из тридцати трех имен. Из всех имен, какие мне удалось восстановить в памяти. Из имен всех тех мальчиков, с какими было дело в моем родном городе. Впрочем, было дело может всего-то и означать, что мы учились в одном классе. Или раз-другой вместе покурили на перемене. Или встретились на митинге за ликвидацию армии. Больше ничего. Ведь больше ничего и не было.
В растерянности я снова рассматриваю все тридцать три возможности. Странным мне кажется даже собственный почерк.
Конечно, малютка Маттиас тоже значится в моем списке. Его я тоже не вспоминала долгие годы. Мы не виделись с тех пор, как родители отправили его в интернат. Знать не знаю, что с ним сталось. Представления не имею, вырос он по-настоящему или нет. Вот, вспомнила вдруг, что лазать он умел очень здорово. Я им поистине восхищалась. Он просто взлетал на шест, с которым я так отчаянно мучилась. Добравшись, наконец, до верха, я смотрела вниз, вниз, смотрела вниз, испытывая страстное желание упасть.
Дня два назад мне попалась статья в газете: шесты для лазания отменены. Из соображений безопасности все шесты демонтированы. Что сказал бы Маттиас? «Высота падения есть неоправданный риск», — так написано в статье. А что, раньше об этом нельзя было подумать? Ради моего счастливого детства?
Семь дней назад, в самое Рождество, ровно в девять я у кассы. И опять я первая посетительница. Не поддавшись искушению и не выпив кофе в ресторане напротив, выкладываю двадцать два франка без сдачи и покупаю билет.
И вот я перед стеклянной дверью в «Экзотариум». Открыть дверь и шагнуть в темноту я не успела. Прямо на меня двигался смотритель зоопарка с пустой тачкой. Я хотела было спросить его, как пройти к крокодилу, но все же не спросила. Посторонилась, он прошел вперед. Удивительно, что его черные резиновые сапоги ступают совсем бесшумно. Я двинулась вслед за сапогами. Сапоги обошли здание кругом и направились вверх по асфальтированному пандусу. Исчезли за дверью. «Экзотариум» — и здесь на двери такая же надпись. Я задержалась на минутку, рассматривая пиктограммы. Между рыбой и змеей угадывался крокодил. Отворив дверь, я вошла в зал, куда дневной свет проникал сквозь стеклянный свод. Смотритель куда-то пропал. Духота, пахнет гнилью. Я шла мимо террариев к лестнице. По пути поглядывала на террарии, но никаких животных не приметила. Только растения. Тропические растения, как мне показалось.
Я перепугалась, заметив движение в нише у лестницы. Как оказалось, там сидит на складном стульчике седая старушка. На коленях огромный альбом для рисования, в правой руке кисточка. Неотрывно смотрит на террарий с лианами и загадочно улыбается. Углубившись в свою работу, на меня не обращает никакого внимания. Интересно, как она сюда попала. Зоопарк только что открылся, кроме меня у входа не было ни одного посетителя.
Лестница привела меня вниз, в небольшой зал, освещенный неоновыми лампами. Но и здесь за стеклом мне не удалось разглядеть никакого зверя. Я принялась изучать таблички. Зеленый легуан. Тростниковая жаба. Сетчатый питон. Короткохвостый сцинк. Парагвайская анаконда. Полосатый варан. Вот он, наконец: сиамский крокодил! Небольшой застекленный резервуар, выложенный коричневатым камнем. И действительно: отрешившись от всего мира, в дальнем конце бассейна и в стороне от смотрового стекла, неподвижно лежит бурый, как скала, крокодил. Словно парит в воде. Над поверхностью виднеется только часть его головы. Возле смотрового окошка я ждала: вот-вот догадаюсь, или почувствую, или заподозрю. Все впустую! Нет ничего интересного в этом крокодиле или, точнее, в его надводной части. Недоумевая, я равнодушно взирала на бурую парящую глыбу.
А потом развернулась и отправилась на улицу тем же путем, чтобы только не идти через темный зал, забитый до отказа аквариумами и воспоминаниями. На этот раз я решила не предаваться воспоминаниям. Решила смотреть вперед, решила думать об отправителе письма и нашей возможной встрече, а не об училке и тех временах.
На улице шел легкий снежок. «А если снег, у крокодила», — повторила я. Если первого января пойдет снег, в девять я к крокодилу. И анонимный автор тоже. «Я точно приду», — сообщил он в своем письме.
До верблюда я добралась, даже не заглядывая в проспект. Как будто знала этот путь, как будто ходила тут не раз и не два. Просто шла вперед и совершенно не удивилась, увидев перед собой верблюда. «Вот он, на месте», — только и подумала я. Насчитала за оградой пять верблюдов разной величины, одни стоят возле каких-то кустиков, другие лежа пережевывают листья. На миг я словно провалилась в безбрежную пустоту: взгляд мой упал на валун возле ограды. Скорее обломок скалы, чем камень. Здесь уместились бы, как на скамье, две взрослые задницы. Может, и впритык друг к другу, но точно бы уместились. Тот самый камень, точно тот. За последние двадцать лет им удалось его перенести сюда от входа. Или перевезти. Или перекатить.
Кто-то движется в мою сторону. Смотритель с тачкой. Резиновые сапоги. Пришлось отвернуться от верблюдов. Один из них как раз начал вставать, но с большим трудом. Опирался сначала на передние, потом на задние ноги. Казалось, горбы мешали ему сохранять равновесие, тянули вбок. Смотритель бесшумно прошел у меня за спиной. Я заглянула в его тачку: пусто.
Поглядела ему вслед. Даже пошла бы за ним, но повернулась к пояснительной табличке у ограды. Написано: «Верблюд домашний». Странное название. Когда это верблюдов держали дома? «Верблюда домашнего называют также двугорбым», — узнала я. Дальнейший текст о его происхождении, продолжительности жизни, массе тела я читала невнимательно. Смотритель скрылся из виду. Но я все-таки пошла за ним вслед, по дорожке в том направлении, куда он ушел. Прочь от верблюдов, прочь от большого камня, прочь от вопроса, тот ли это камень, и если да, то почему. Наконец я оказалась у входа или у выхода.
Шесть дней назад, в День святого Стефана, я не услышала будильник. Проснулась только тогда, когда стало невмоготу видеть тот сон. Во сне человек, в которого я была влюблена где-то и когда-то, в других городах, в другие времена, женился на девушке из моего родного города — на стандартной такой, из состоятельных: блондинка в жемчужном ожерелье на сиденье рядом с ним. Выходит он из темно-синего «вольво-комби» и говорит:
— Ты кого-то мне напоминаешь.
Отвечаю:
— Это — я.
Он открывает дверь багажника, вытаскивает свою светленькую маленькую дочку за волосы. Девочка мне улыбается. Человек, в которого я когда-то была влюблена, на весу держит дочку за волосы и раскачивает туда-сюда.
Спрашиваю:
— Ты что тут делаешь?
Отвечает:
— Живу и люблю.
Настроение у меня дурное из-за этого сна. Увидев, что проспала, я подумала: а вот был бы сейчас вечер, а вот бы снова завалиться спать, уснуть крепко, спокойно и без сновидений.
Ведь я собиралась ровно в девять быть у зоопарка. Правда, сама не зная, зачем мне там быть ровно в девять. Внутрь я бы не пошла. Со вчерашнего дня мне известно, как найти крокодила, как найти верблюда. И не хочу я больше напоминаний ни об учительнице с ее морщиной посреди лба, ни о моей ненависти, ни о камне, ни о ее смерти. Нет никаких причин для похода в зоопарк. Наверное, я выпила бы кофе в ресторане напротив да поразмышляла. Или нет. Или отправилась бы к зоопарку только для того, чтобы оттуда уйти.
Я потянулась за списком возле кровати. Мама в гостиной возится с посудой, с бокалами.
Человек, в которого я когда-то была влюблена, в списке не значится. О нем и речи нет. Когда мы виделись последний раз, он жил за тысячу километров к северу от моего родного города и рисовал шариковой ручкой на бумаге из блокнота в клеточку, потому что не мог позволить себе холст и краски. На прощанье он сообщил, что ему вновь необходимо творческое одиночество.
Сон мой просто смехотворен, притянут за уши или за волосы, как ребенок из автомобильного багажника. «Короче, это сон», — сказала я себе. Но от увиденной картины и чувства горечи освободиться не смогла. «Живу и люблю», — все повторял мне он, тот человек, в которого я была влюблена.
Мама постучала в дверь. Я не ответила.
— Ты проснулась?
Она снова постучала. Я не ответила.
Тридцать три мужских имени. Тридцать три известных мне ранее человека. В те времена, когда я жила в этой комнатке и видела сны в этой кровати. Тридцать три имени, которые связываются для меня с лицами детей, юношей. Тридцать три лица, которые мне сегодня, наверное, и не узнать. Тридцать три человека, которые мне годами не вспоминались, никогда не вспоминались, потому что они не играют в моей жизни никакой роли. Тридцать три мужчины, когда-то знакомых со мной и сегодня еще помнящих, наверное, мое имя, но не мое лицо, мое нынешнее лицо. Вероятно.
С самого начала я была уверена, что отправитель — мужчина. Я попыталась было сконцентрироваться на женщинах, но у меня фантазии не хватило. Вспомнить хоть бы одно существо женского пола. Хоть одно женское имя, одно девичье лицо, бывшую школьную подружку, соперницу — нет, ничего и никого. Вот что я поняла: женщины у меня в памяти не задержались. Кроме учительницы. Да и ее я забыла на долгие годы, она вернулась лишь пять дней назад. «Камень преткновения», — подумала я.
Мама опять постучалась.
— Вот я, твоя мама! — выкрикнула она весело. — Ты меня еще помнишь?
— Не-а! — крикнула я в ответ. — Я сплю, причем глубоко! И ничего не помню.
Мама рассмеялась, но я-то знаю, что она расстроилась. Рождество вдвоем со мной она представляла по-другому.
«Поди прочь», — взмолилась я про себя.
Пять дней назад я не проспала, потому что не смыкала глаз. Я вовсе не устала. Целый день провалялась в постели, все еще во власти дурного настроения, дремала, дожидалась вечера. А когда наступила ночь, проснулась и бодрствовала.
Лежа в темноте, следила, как светящиеся стрелки будильника, снова и снова вздрагивая, перемещаются вправо. Несколько раз вставала, чтобы изучить содержимое холодильника. В конце концов запомнила его в деталях. Ничего оттуда не достала, а снова улеглась и стала повторять наизусть, по полкам. Корнишоны. Камамбер. Крем. На кухню я ходила потихоньку, бесшумно. Пусть мама не заметит, что я встала.
И вспоминались мне те ночи, что я провела здесь, в своей кровати. Бессонные, как сегодня. И полные сновидений. Бесчисленных сновидений, из которых ни одно мне не запомнилось.
Я встала далеко за полдень и поливала себя душем, пока не кончилась горячая вода.
Уже смеркалось, когда я за двадцать два франка купила у кассирши входной билет.
У входа меня подстерегали воспоминания об учительнице.
Я пошла быстрее, чтобы их опередить, но и они ускорили шаг — не отвяжешься. Училка преследовала меня, как я преследовала ее в тот весенний день, когда замышляла убийство.
Училка наступала мне на пятки, стоит обернуться — вот она, тут как тут, лицо суровое, прямая морщина посреди лба, ее глаза, и тонкие брови, и густо накрашенные ресницы. «Хватит меня преследовать!» — мысленно произнесла я, но тут же услышала ее голос: «Прекрати ходить за мной по пятам…» Второпях я едва не проскочила мимо верблюда. Остановилась, переводя дух, закрыла глаза. А когда открыла снова и обернулась — училки как не бывало. Я уселась на большой камень у ограды и принялась разглядывать верблюда.
Обернувшись, заметила сзади смотрителя зоопарка с красным пластмассовым ведром. Но это был не мой смотритель. И резиновые сапоги не те, за которыми я шла несколько дней назад. «Как жаль!» — подумала я. И на миг удивилась этой своей мысли. А в следующий миг снова увидела морщину на лбу учительницы.
«Произошло несчастье», — услышала я голос директора школы.
Однажды она не явилась в класс. Перед тем мне несколько ночей подряд снилось убийство. Во сне я наконец добилась своего. Я проламывала училке голову. Снова и снова. Отделала ее по полной.
Со звонком в класс вошел директор школы:
— Произошло несчастье. Госпожа Либманн находится в больнице. Несчастный случай.
Учительница так и не вернулась.
Она сгинула, а я много дней лежала в жару и бредила. Мама до сих пор вспоминает про ту мою горячку. «Как снег на голову, ни с того ни с сего», — повторяет она.
Потом все наладилось. Горячка прошла. ОНА сгинула. Поблагодарив Бога, я про нее забыла, про училку. Сгинула. Не было ее. «Уходи прочь», — думала я теперь, сидя на своем камне.
Маленький мальчик, запыхавшись, остановился рядом со мной.
— Козимо, не бегай! — крикнула ему мать.
— Вот это — босс! — произнес мальчик на диалекте моего родного города, указывая на одного из верблюдов и глядя на меня. Я не ответила.
— Нет, вон тот, вон тот босс! — и показал на другого верблюда. Родители наконец подошли.
— Вон тот — босс! — торжествующе сообщил он родителям.
Врезать бы этому мальчику. Да сказать на протяжном местном диалекте: «Отваливай со своими боссами, ты, маленький идиот!» Мать погладила его по головке:
— Какие у них морды смешные, да, Козимо?
А она не местная. Пытается подражать нашему диалекту, но спотыкается на каждом слоге. Я поднялась с камня и ушла. А то вдруг скажу им: «Родину в замужестве не обретешь, а Козимо — омерзительное имя». Так что лучше сразу уйти. И я ушла неведомо куда.
Четыре дня назад я сидела в ресторане напротив и изучала меню. Я прекратила наблюдение за входом. Пасмурно, и дождик моросит. Посетители зоопарка надвинули шапки и капюшоны пониже, лиц не видно.
Заказала чашку кофе. Официант, фыркнув, хотел было забрать меню, но я не отдала:
— Мне еще понадобится!
— Да пожалуйста, — презрительно ответил он.
Есть совсем не хотелось, но я стала подсчитывать, что бы такое заказать на двадцать два франка. Например, ньокки с горгонцолой и кофе? Нет, дорого.
«У верблюда, а если снег, у крокодила» — повторила я. Может, начальные буквы, «в» и «к», указывают на отправителя? Но в моем списке нет ни одного имени на «в» или на «к». В чем же смысл послания?
Крокодил… Льет крокодиловы слезы. Крокодил… Вялый такой на вид, а сам начеку, того и гляди вцепится всей пастью. И что? Не знаю никого, кто напоминал бы мне крокодила. Верблюд… А тут уж вообще никаких идей. Двугорбого верблюда называют также домашним. Чудесно. Половина человечества состоит из мужчин, считающих себя вполне домашними. Не меньше половины. А толку что?
Официант принес кофе и вызывающе посмотрел на меня.
— Минуточку, — сказала я и нарочно углубилась в меню.
«Пальто из верблюжьей шерсти» — вдруг вспомнилось мне. И я увидела отца в пальто из верблюжьей шерсти. Однажды в магазине — мне было лет пять — я потеряла отца в предрождественской толпе. И плакала навзрыд, пока не обнаружила прямо перед собой подол его пальто. С облегчением я ухватилась за этот подол. Пошла вместе с пальто. Пальто остановилось. Совершенно незнакомый человек наклонился ко мне, разжал мои пальцы. Меня охватил неописуемый ужас. Оказывается, я держалась за чужого человека. А ведь готова была пойти за этим пальто хоть на край света.
Я захлопнула меню. Официант тоже сделал какое-то движение со скучающим видом.
— Так что же? — спросил он и протянул руку за меню.
Я по-дурацки улыбнулась, попросила счет и слишком щедро дала лишнего ему на чай.
Три дня назад я вышла из дома в семь утра. На улице, отливавшей утренним влажным блеском, было еще темно. Я решила преодолеть весь путь пешком. Напялила шерстяную шапку, натянула ее до бровей. Родная мама не узнала бы меня в этой шапке. Бодро потопала вперед, радуясь облачкам пара изо рта. И рассвет шел вперед вместе со мною. Путь в зоопарк вел через весь город. Родной мой город не изменился. Меня не обманешь одним-другим новым магазинчиком, новым домом. Город какой был, такой и есть. Знаю я его, меня не проведешь. Качество жизни! Безопасность! Чистота! Порядок! Вот что выставлено тут напоказ, но уж мое сердце не дрогнет. Вижу тебя насквозь. Ты меня не проймешь, жестокосердый образец мелочности, посредственности и порицания. Знаю я тебя. Спустя все эти годы знаю, и воспоминания липнут тут к каждому камню. Даже в сегодняшней утренней мгле куда ни глянь — воспоминание. Каменная груда из неприятных воспоминаний. Только плохие, неприятные, горькие, скверные, постыдные, гадкие воспоминания возвращаются вновь. Такие, как воспоминание о моей учительнице. С каждым шагом на улице светлело, с каждым шагом я видела все яснее, с каждым шагом росло мое отвращение к собственному прошлому.
К зоопарку я подошла ровно в половине девятого. Точно как рассчитывала. Хоть бы тут мой город меня удивил, но нет. Ровно в половине девятого я стояла перед пустой кассой.
Уселась на ступеньки у входа, жду. В девять часов мамочка с двумя нарядными детишками, купив первые билеты, прошла мимо меня к входу. Какая же я нелепая в этой маскировочной шапке.
Через сорок минут, насчитав тринадцать незнакомых лиц, я встала и ушла. Поехала назад на такси за двадцать франков, не разбирая дороги и ни разу не взглянув в окно. Мне вдруг стало безразлично, кто послал письмо. Мне вдруг расхотелось идти по следу, разонравилась тропа, ведущая в мое прошлое.
Вполне хватит и полученного пакета воспоминаний.
Два дня назад, в предпоследний день года, я собрала чемодан, приготовила деньги, паспорт, обратный билет. Села на кровать и задумалась, что сказать маме на прощанье. Тут мама постучала в дверь, спросила:
— Выпьешь со мной чаю?
— Нет, мне пора.
Мама открыла дверь, посмотрела на меня удивленно. Я взяла куртку, у порога поцеловала ее в щеку:
— У меня назначена встреча.
Мама глядела на запакованный чемодан. Я вышла.
Кассирша произнесла: «Двадцать два, пожалуйста», и тут я сообразила, что не взяла с собой денег. Извинившись, я в нерешительности постояла у входа. Находиться тут без маскировочной шапки мне было неуютно. Куда теперь? Кофе не выпьешь, в такси не сядешь. Даже трамвайный проездной на две недели, и тот я забыла. Сюда приехала зайцем, сама того не зная. Смешно, конечно, но сесть в обратный трамвай у меня не хватило смелости.
Вчера наступил Новый год. Я так и не уехала. Пила шампанское, чокаясь с мамой. Вдруг она рассмеялась и сказала, что уже пьяна. Обняла меня. Обняла и не хотела отпускать. Тяжело дышала мне в ухо. Я освободилась из ее объятий под предлогом, что надо открыть новую бутылку.
— Не хочется больше, — сказала мама.
Не знаю, что она имела в виду: шампанское или все остальное. Вскоре она пошла спать.
Новый год, 4.30 утра. Не знаю, пойду ли я в зоопарк. Думаю, скорее нет. Наверное, лучше не ходить. Но у меня еще много времени для окончательного решения. Больше двухсот минут. Снег, между прочим, не идет.
Жан-Франсуа Соннэ Перевод с французского Н. Хотинская
Жан-Франсуа Соннэ [Jean-François Sonnay; p. 1934] пробовал свои силы едва ли не во всех литературных жанрах: пьесы для театра, детские сказки, рассказы, эссе, многочисленные романы, один из которых — «Вторая смерть Хуана де Хесуса» [ «La Seconde mort de Juan de Jésus», 1997] — удостоился сразу двух почетных наград, премий Рамбера и Шиллера. По собственному признанию, больше всего Соннэ занимает природа художественного вымысла. Где тонкая грань между красноречием и краснобайством? Может ли писатель, переврав все на свете, сказать тем не менее правду? И где та крупица, та песчинка подлинного, обрастающая по воле автора перламутром словес? Словом, было или не было? Подскажем читателю, что в последующем рассказе вралей как минимум три…
Среди других произведений Соннэ — романы «Потерянный принц» [ «Un Prince perdu», 1999], «Иван, базука, отморозки и я» [ «Yvan, le bazooka, les dingues et moi», 2006], сборник «Сказки беширского ковра» [ «Les Contes du tapis Béchir», 2001].
Перевод выполнен по изданию «Правда или неправда» [ «Vrai ou faux». Bernard Campiche Editeur, 2003].
Книга Лукаса
Панайотис врал. Врал постоянно и вдохновенно. Так уверенно, что даже простейшие истины в его устах звучали ложью. Его только послушать, он был способен заставить вас усомниться, что грибы растут или что вода мокрая. Но, надо отдать ему должное, ложь его была совершенно бескорыстна, что выгодно отличало его от большинства соотечественников. За тот год, что я провел на Ниссосе, он никогда на моей памяти не пытался всучить туристам всякую дребедень и ни разу не порывался продать мне что бы то ни было, даже когда хвалился перед всеми клиентами кабачка «У Спиро», что доставит мне дрова для камина. Этих дров, лучших на острове, самых душистых и самых сухих, на деле не существовало в природе, и он, стало быть, не ждал от меня никакой выгоды. Уши собеседника — вот и все, чего он хотел. То были идеальные дрова. Дрова, так сказать, даровые.
Деньги, материальные блага, контракты, предприятия, любые практические результаты служили ему лишь для оживления разговора да аргументами, буде их требовала недоверчивая аудитория. Это был врун увлеченный, щедрый, бесхитростный и бессовестный. В своем роде артист, которому мира — нашего мира — было мало. И он, как мог, расширял его пределы.
Панайотис любил поговорить, так что врал он из любви. С малых лет, с тех пор как научился складывать слова и открыл, что ими с равным успехом можно сказать не только то, что есть, но и то, чего нет. Он врал, потому что действительность острова, деревни, моря, погоды была так банальна, так ограниченна, что умещалась в несколько фраз. Он врал, потому что жизнь островитян была такой скрытной, такой замкнутой, так ревностно прятали ее за синими ставнями и заслонами семейной чести, что пяти минут хватало сказать все, что можно было о ней знать. Он врал, потому что жил один со своей старухой-матерью, без детей, без работы, без роду-племени, и слова давали ему все то, чего у него не было.
Почти все время он проводил «У Спиро» в надежде, что кто-нибудь пригласит его за столик выпить стаканчик и поимпровизировать. В другое время, в другом месте его бы, возможно, выгнали, а то и вовсе посадили, но здесь такое было не в обычае. Его, правда, не поощряли, разве что в иные вечера, когда обильно лилось вино, но все же порой соглашались слушать. Ему этого было достаточно. Ложь ложью, а свидетели были истинные, и он никогда ими не пренебрегал. Ни сомнения, ни возражения — ничто его не смущало: напротив, он ими лишь вдохновлялся и заливал еще пуще.
Ему, знавшему в мире только свой родной остров да Афины, где жила его сестра, вещи и люди представлялись слишком бедными, слишком скудными, чтобы заслуживать разговора. Ему хотелось большего. Он, конечно, мог бы, как любой другой, сплетничать, подличать, интриговать, льстить, но так уж Панайотис был устроен, что ему претило злословить о ближних. Широкая натура, он предпочитал бахвалиться, говорить о себе, о своих подвигах, о своих необычайных приключениях, и все это с мальчишеским ликованием. О нем поговаривали, что он интересничает, и это было правдой: в том-то и дело, что, по его убеждению, на Ниссосе не хватало интересного человека, и именно ему, Панайотису Ипсилантимонасу, надлежало восполнить этот пробел. С чего еще развиваться туризму на острове, где нет и тени античной колонны. Так что была какая-то прометеевская самоотверженность в том, как он врал, сочинял истории, тасовал события, факты, деяния, единственным и, стало быть, неоспоримым свидетелем которых был он сам. И таково было его краснобайство, что, будь его выдумки кораблями, из них впору было сложить мост и пересечь океан пешком посуху от Пирея до Гонконга.
Обыкновенно Панайотис рассказывал только о своей жизни и своих встречах; наверно, по этой причине местное общество и прощало ему его враки. Но и в пределах этой, так сказать, страховочной меры он иной раз заходил чересчур далеко: я сам слышал, как он объяснял ошеломленному профессору, что поток пресной воды прямо с Олимпа протекает под морем и питает источники Ниссоса. Или, не моргнув глазом, делился с настоящими партизанами своими жуткими воспоминаниями о мировой войне — это он-то, переживший ее в пеленках. Или рассказывал о чудесных рыбалках, когда омаров и лангустинов в сети было столько, что они пожирали всю рыбу, прежде чем их успевали достать… И это он выкладывал старым морским волкам! Он, кого ни один моряк на острове не взял бы к себе на борт, разве только чтобы варить кофе. Даже капитаны дальнего плавания слушали его, дивясь и забавляясь, — таких словес они плести не умели.
Я, однако, думаю, что с годами ему было все труднее находить в деревне благосклонных слушателей, ибо жители Ниссоса были скорее материалистами и слишком строго следили за собой, чтобы заглядывать так далеко за грань разумного. Поэтому Панайотис, по обыкновению, останавливал свой выбор на приезжих, туристах, падких до новых впечатлений, которые были всегда счастливы познакомиться с настоящим греком, пылким, бедным и необразованным. В курортный сезон он подстерегал их на набережной, между портом и террасой «У Спиро», отдавая явное предпочтение высоким блондинкам скандинавского типа, которые — он знал — только ради него сюда и ехали. Не в пример назойливым «жучкам» и чернявым матронам, осаждавшим пассажиров парома, он не предлагал ни дешевой гостиницы, ни такси, ни частного пляжа, ни типичной комнаты у местных жителей. Нет, Панайотис сулил, ни много ни мало, греческий рай с ним, Панайотисом, в главной роли.
И ведь срабатывало. Его можно было увидеть тем же вечером на террасе за столиком, где он учил покрытую золотистым загаром красавицу разделывать креветку и облизывать после этого пальцы или рассказывал ей, размахивая руками, как его едва не задушил гигантский спрут и как ему удалось его обездвижить, всадив колючку морского ерша в нужное место. Девица аж вздрагивала. Трудно сказать, что она, собственно, понимала, поскольку Панайотис не владел ни одним иностранным языком. Он лишь пересыпал свою речь варварскими словечками типа «матмазель», «школь», «танке», «хула-була», «лав ю либхен», которые вызывали разве что улыбку. В остальном же он был убежден, что любой в конце концов поймет греческий, знай только повторяй ему одно и то же почаще — вот и повторял по сто раз все те же истории. Терпение у него было ангельское. Не говоря уж о том, что, когда много говоришь, хочется пить, а вино развязывает язык, и эти оживленные беседы имели все шансы закончиться в постели пресловутым хула-була рок-н-ролл. Курортный сезон был незамутненным счастьем, и чувствовалось, как Панайотис весь трепетал с приближением Пасхи и летнего солнцестояния.
Я был недалек от мысли, что причиной остракизма, которому подвергло его маленькое островное общество, были не столько его россказни или вечная праздность, сколько эти скандинавские и английские похождения. Любой женатый человек, стань он таким жиголо, неминуемо навлек бы на себя громы и молнии со стороны свояков, а юнцы сорока лет от роду традицией не допускались. Не в сезон приезжие блондинки были редки, и бедняга Панайотис зачастую грустил в одиночестве в углу кафе, окутанный дымом и мерным гулом рутинных разговоров, обреченный дожидаться, пока соседи обговорят серьезные дела и выпьют достаточно узо, чтобы пригласить его за столик. Вечер мог даже закончиться танцами и песнями, но он не был королем, глашатаем, творцом смысла, как он любил себя преподносить, и это его немного обижало. Однако в ту зиму, когда я был несколько месяцев единственным иностранцем на острове, он мог отыграться хотя бы на мне. Я не был скандинавом, да и к мужчинам он склонности не питал, но у меня имелось несколько бесспорных козырей: два уха, глотка, начатки разговорного греческого и полное незнание местных предрассудков.
Неисповедимые пути аренды привели меня на Ниссос в сентябре, в холодный и серый штормовой день, и я поселился в маленьком домике на площади Святого Спиридона, где пахло солью и смолой, в то время как последние туристы спешно паковали чемоданы, боясь застрять на острове, если море разбушуется еще пуще. Я был спокоен, до всего любопытен, готов насладиться свободой, о которой мечтал, свободой чужака, никому ничем не обязанного и без помех открывающего для себя незнакомое общество. Я чувствовал себя героем романа, в котором мне досталась роль простака. Не учел я только Панайотиса, который приметил меня и тотчас увлек в свой собственный роман о романе. Узнал ли он во мне брата-маргинала или просто заинтересованного слушателя? Как бы то ни было, он вцепился в меня мертвой хваткой всего через несколько дней после моего приезда, да так и не выпустил до возвращения нордических красавиц.
Я бродил по деревне, белой от извести, по выложенным плиткой тропам, змеящимся под оливами, взбирался на горы, где прятались одинокие домишки, открытые морскому ветру. Я шел куда глаза глядят, так я люблю гулять, когда приезжаю куда-то, чтобы проникнуться духом местности. Я пробовал кухню разных ресторанчиков, выбирая тот, в котором у меня будет мой излюбленный столик. Кабачки привлекали меня, потому что казались центром общественной жизни, но в них я еще не вполне освоился. Усатые черноглазые завсегдатаи косились на меня так, будто я был диковинным зверем о пяти ногах, после чего возвращались к своим беседам. Я здоровался, и со мной здоровались в ответ, но, видимо, боялись уронить свое достоинство, спросив, что я здесь делаю или почему опоздал на последний паром до Пирея. Быть может, они подозревали, что я ищу девушку на выданье, чтобы прибрать к рукам дом и оливковую рощу в приданое, как это сделал некий немец, о котором мне вскоре предстояло услышать. Панайотиса же все это не заботило, и он первым из этих господ угостил меня выпивкой. Только тогда я заметил, что он не носит усов. Я пригласил его за свой столик.
Он был высокий, худой, загорелый, нос как у клоуна, прическа в стиле «Битлз» шестидесятых, голенастые ноги и полотняная куртка кричаще синего цвета.
— Дойц? — улыбаясь спросил он меня.
Нахмурился было, услышав мой ответ по-гречески, но вновь проникся ко мне, убедившись, что я не из северных греков, которых он по какой-то причине опасался. Окинув зал победоносным взглядом, он задал несколько банальных вопросов — откуда я, из какой семьи, где живу — и принялся рассказывать, что он — друг и доверенное лицо некого канадского арматора, владельца самого мощного в мире ледокола, способного плыть даже тогда, когда океан замерз подчистую, и что он покажет мне его виллу, когда мне будет угодно, она того стоит, ибо это самый красивый канадский дом во всей Греции.
Помню, в первый момент я от него слегка шарахнулся, не потому что почувствовал в нем изгоя, нет, я принял его за одного из тех прилипал, что подцепляют туристов с корыстными целями. Как ни странно это, в длинном и сухопаром, как жердь, человеке, но было в его выпяченных губах и нависших веках, в его семафористых жестах что-то «липучее», не ускользнувшее от меня. Полагаю, виной тому была его медлительность и неспособность к размеренным движениям, каким учит людей обыденная работа. Да и тот факт, что он заговорил со мной о льдах, иностранцах и Канаде, меня мало обрадовал. Я-то искал корней, исконных вкусов, этнологической подлинности, а не бесед в духе отпускного клуба. Но было уже слишком поздно. Помимо своей воли, в глазах всех усатых авторитетов, собравшихся в кабачке, я был вовлечен в Панайотисов цирк. Я выпил узо, из вежливости поставил ему стаканчик, после чего, с его подачи, мне пришлось угощать всех присутствующих, и не один раз, так что к концу вечера мы все изрядно набрались и стали лучшими в мире друзьями.
Позже, почувствовав снисходительное, если не враждебное отношение местных жителей к поведению Панайотиса, я хотел было — пожалуй, из трусости, признаю — отдалиться и завязать дружбу с другими людьми, которые казались мне более уважаемыми или более типичными, и даже попытался дать понять окружающим, что и не думаю клевать на его удочку. Но мне быстро указали мое место, ту маленькую нишу, которую на Ниссосе отводили чудакам и никчемушникам, таким как он и я. Греки так глубоко убеждены в своем абсолютном отличии от всего остального человечества, что им и в голову прийти не может, чтобы негрек мог на законном основании разделять их чувства или судить об одном из их соотечественников. Тем более не-грек, занятый столь абсурдным, неприбыльным делом, как литература. Никто не понимал, с какой стати я явился сюда писать книгу, если книга эта не об острове, более того, никто не понимал, зачем я вообще пишу книги, не имея гарантии, что выручу за них много денег, как Нана Мускури[13] за свои французские песни.
Никто. Кроме, разумеется, Панайотиса.
Узнав, что я пишу, он ничуть не удивился и без околичностей заявил, что хорошо знаком со знаменитым французским писателем по имени Лукас, который, как и я, приезжал работать на Ниссос. Он даже был его лучшим другом, и они провели вместе множество вечеров «У Спиро» за беседой, опустошив бог весть сколько бутылок рецины: Панайотис толковал о жизни, а Лукас все записывал в свою книгу. Я нахмурился: уж никак не ожидал, что этот паршивец вторгнется в сферу, которую я считал своей. Он и читать-то не умел…
— Лукас, ты сказал. Ты уверен?
— Еще бы! Два года назад он сидел на том же месте, что и ты. Точно, вот здесь. И рассказывал мне про свою последнюю книгу.
— Странно: я не знаю французского писателя с таким именем.
— Не может быть! Он очень знаменитый, такой же знаменитый, как Пападиамантис[14]. В Париже только его и знают, его фото во всех газетах. Я очень люблю писателей, и они меня тоже любят, потому что я знаю все на свете про Грецию и Эгейское море. Спрашивай меня что хочешь, про рыбную ловлю, про оливы, про попов, про политику, я все тебе расскажу. Клянусь, ты на этом озолотишься. Ну, что ты хочешь знать для твоей книги?
Мне не хотелось, чтобы он лез в то, что я пишу или собираюсь написать. Я оборвал разговор, уверенный, что этот Лукас был химерой, чистым вымыслом похвальбы ради. Но Панайотис крепко держался за свои истории, не смущаясь плохим началом, и безразличие было ему невыносимо: возражайте или уж аплодируйте. В следующие дни он еще много раз осаждал меня своим Лукасом и, похоже, не удовлетворился, даже когда я под его напором допустил, что, наверно, есть где-то во Франции писатель, которого я не знаю, откликающийся на имя Лукас. Панайотис был непримиримым врагом сомнений и гипотез.
Мой дом располагался недалеко от порта, и по утрам, в любую погоду, я взял за правило выходить прогуляться по набережной. Я доходил до киоска старого Панделиса, где покупал сигареты, и всякий раз веселился, глядя, как старик бежит ко мне, прихрамывая, ибо редких своих клиентов он поджидал в тепле на почте по соседству. Пришла зима с ее бледным солнцем, миндального цвета морем и мокрыми порывами ветра. Рыбаки больше не выходили в море, чинили свои лодки, разбирали моторы. Группа знатоков в фуражках с черным галуном наблюдала, оживленно жестикулируя, за разгрузкой большого красного каика, доставлявшего товары. Я смотрел на блестящие бидоны с оливками, которые уносили в подвал, на неподвижных осликов, на цыган-торговцев. Потом я заходил в кафе выпить чашечку густого черного кофе с запахом жареных орешков, слушая, как вокруг беседуют и рассуждают. Были тут по утрам и одиночки, мечтатели преклонного возраста, которые проводили время, облокотясь на пустой столик, устремив глаза на однообразные пенные гребни. Не в сезон здесь были свои плюсы: туристы сняли осаду, деревня жила в замедленном темпе, топили камины, подсчитывали урожай, строили планы на будущее. Пахло морем, дымом, сухими водорослями.
На мое счастье с утра Панайотис не показывался, занятый, по его словам, непосильными трудами, но вероятнее — вынужденный дать себе отдых после вчерашних многословий и возлияний. Он появлялся только в середине дня. Сдержанный при всей своей неумеренности, он, слава Богу, не вваливался ко мне домой, предпочитая встречаться со мной как бы случайно на людях, в час обеда. Он усаживался за мой столик с долгим усталым вздохом и удостоверялся, как дотошный начальник, что я тоже принялся за работу. Сам он не ел и не пил, то ли денег не было, то ли аппетита, я так и не узнал, но тут же закуривал и заходился кашлем.
Панайотис питал настоящую страсть к писателям, чей странный и тайный труд казался ему почти столь же изнурительным и непонятным простым смертным, как и его собственный. В разговоре то и дело всплывал призрак великого Лукаса. До чего же я на него похож! Просто удивительно. У него были рыжие усы, как у меня, он носил солнечные очки в пасмурную погоду, как я, немного говорил по-гречески, как я, писал на машинке, как я, искал покоя, уединения… как я. Но главное — он любил Панайотиса и не мог обойтись без его общества. Я отвечал односложно: да, да, нет, нет. Время от времени из вежливости заставлял себя поддержать беседу, обсуждая ту или иную черту. Я отказывался верить, что два писателя, пусть даже современники, могут так походить друг на друга, на что Панайотис азартно возражал, что я бы так не говорил, знай я его, как он.
— Нет, извини. Повторяю тебе, я не знаю никого с таким именем, ни писателя, ни журналиста, ни драматурга.
— Какой драматург? Лукас пишет книги, как ты. Я знаю: я их видел, собственными глазами видел!
— Почему бы нет? Каждый год, знаешь ли, выходят тысячи книг на французском. Его книги мне просто не попадались. Его имя ничего мне не говорит.
Панайотис диву давался. У меня было чувство, что он начал сомневаться если не в моей искренности, то, по крайней мере, в моих способностях. Однажды он даже изъявил желание увидеть какую-нибудь мою книгу. У меня их, увы, с собой не было. Жаль, заметил он, потому что Лукас-то привез с собой свои книги и одну из них даже ему подарил. Уверенный, что нашел наконец способ прекратить этот бред, я тотчас попросил его принести ее мне, чтобы я мог ее прочесть и поговорить о Лукасе со знанием дела. Он кивнул, улыбаясь уголком рта, и пообещал. Как и следовало ожидать, я не увидел и тени книги Лукаса и больше о ней в последующие недели речи не заходило. Я уж решил было, что выиграл. Разумеется, зря.
Лукаса и след простыл, но Панайотис не отступался, он не мог позволить мне заподозрить его во лжи или легкомысленной болтовне о дружбе с французскими писателями. Он не спешил, поскольку я не собирался уезжать до следующего курортного сезона. Он просто ждал, чтобы я сначала признал свою ошибку. Доказательство потом. Все же он сумел-таки заставить меня написать одному другу-библиотекарю, чтобы удостовериться, что знаменитый писатель по имени Лукас действительно опубликовал книгу, написанную на Ниссосе, фото на обложке которой — да-да! — было сделано самим Панайотисом Ипсилантимонасом, фотографом от Бога. Убежденный, что это чистой воды вымысел, я забавы ради отметил в письме удивительные таланты снимавшего. Надо ли говорить, что мой друг ничего не нашел, но я вдруг понял, получив его письмо, что мне больше совсем не хочется выкладывать правду Панайотису. Я мало-помалу проникся его историями, и лучшего собеседника в кабачках у меня не было. Хоть он и раздражал меня частенько своим окаянным Лукасом, я не хотел, чтобы он потерял лицо, и притворился, будто вообще не получил ответа. Я тоже начал врать. Ради красоты жеста.
— Вот видишь! — торжествовал он. — Твой друг, верно, нашел столько книг Лукаса, что ему понадобятся недели, а то и месяцы, чтобы составить их список.
Я изображал замешательство. Панайотис со временем изменил свое мнение обо мне: опыт подсказал ему, что я не Лукас. Познакомившись со мной ближе, он теперь знал, что я не богат и не знаменит. Все впереди! — обещал он, однако, сопровождая свои слова хлопком по спине, который уложил бы мула. И потом, главное, Лукас работал не так, как я: он приехал на Ниссос не для того, чтобы писать книгу, но написал книгу, потому что турки продержали его на острове всю войну. Вот он и писал, чтобы скоротать время.
— Какую войну?
— Кипрскую, какую же еще!
— Кроме шуток?
Я вытаращил глаза; мне было любопытно, как далеко может зайти Панайотис. История принимала фантастический размах, и я невольно восхищался его фантазией. Он отвечал на все мои вопросы совершенно серьезно, прося иной раз усачей за соседними столиками подтвердить сказанное. Так, слово за слово, история Лукаса превратилась в авантюрный роман с турецкими истребителями на бреющем полете, морской блокадой, обрывами электропроводов, нехваткой муки для хлеба и бумаги для машинки, с американскими шпионами, турками, переодетыми немцами, и советскими агентами, с влюбленной в Лукаса прекрасной шведкой и бешено ревнивой англичанкой, с бочками узо и чанами рецины, надежно спрятанными в тайных гротах, с тысячами выброшенных на пляжи рыб, убитых локаторами субмарин, и с эффектным финалом, в котором неукротимый Панайотис у руля утлой лодочки вез великого писателя на соседний остров, откуда отплывал корабль, специально зафрахтованный посольством Канады для эвакуации иностранцев.
Так Лукас замечательно скрасил нам не один вечер, и к концу моего пребывания на острове я и думать забыл, существует этот человек или нет. Но Панайотис — кому же еще — вернул меня к действительности за несколько дней до моего отъезда. Отправив на почте посылку, я заметил его на террасе «У Спиро» — он махал своими длинными руками, подзывая меня. С приходом лета он сменил синюю куртку на гавайскую рубашку в желтых цветах и выглядел в ней более худым и несуразным, чем когда-либо.
Я подошел. На круглом столике, за который он держался двумя руками, словно чтобы не дать мне его опрокинуть, возлежала книга… ТА САМАЯ книга, это я сразу понял, в ТОЙ САМОЙ белой обложке парижского издательства «Сёй», украшенная ТОЙ САМОЙ фотографией Ниссосского порта, где отчетливо вырисовывался ТОТ САМЫЙ старенький красный каик на фоне синего неба, с ТЕМ САМЫМ, к стыду моему, именем автора: Жан-Люк Бенозильо[15], с его — верх иронии! — дарственной надписью греческими буквами Моему другу Панайотису за стаканчиком рецины и с подписью Лукас.
В конечном счете единственным вралем в этой истории оказался я, и мне трудно было утешиться мыслью, что эта книга, совсем новенькая, была, по всей вероятности, единственной, которую Панайотис когда-либо держал в руках, ибо, по его собственному признанию, читать он не умел ни по-гречески, ни по-французски. Я спрашивал себя в дальнейшем, что, если в своих перегибах он куда чаще встречал истину, чем я, что, если поток пресной воды под морем, канадский ледокол, гигантский спрут и турецкие самолеты на бреющем полете были более правдивы, чем мои благоразумные наблюдения за островной жизнью? Я нашел моего учителя, и в моей памяти книга Лукаса отныне окончательно скрепила то неудобное сродство, что всегда связывало меня с ниссосским вралем, сродство, которое жители острова, при всей своей неграмотности, распознали с первого взгляда с уверенностью устных цивилизаций, отличающих человека слова от человека дела.
А на тот момент Панайотису хватило деликатности пощадить меня и не бахвалиться. Эта история осталась между нами, и я готов поручиться, что никто на Ниссосе так не вкусил ее соль, как он.
Полгода спустя я — а как же иначе? — послал ему мою собственную книгу с дарственной надписью Моему другу Панайотису. Я не получил ни благодарности, ни письма в ответ. Я их и не ждал, ведь Панайотис не умел ни читать, ни писать. Мне и сегодня нравится думать, что еще долго, столь долго, сколь жизни дарует ему Господь, он будет рассказывать заезжим фомам неверующим о мудреных книгах, которые у него есть и которых он не читал, но умеет угадывать их суть, размахивая для пущего правдоподобия руками.
Аурелио Булетти Короткие рассказы © Перевод с итальянского А. Ямпольская
Аурелио Булетти [Aurelio Buletti; p. 1946] — поэт, прозаик, учитель итальянского языка в средней школе Виганелло и Лугано, где преподавал на протяжении 37 лет. По собственному определению — «короткий писатель», чьи произведения не занимают много места на странице (например, стихотворение «Пессимизм» состоит из одной строчки: «Солнце — бренная звезда»). Склонность к лаконичности Булетти объясняет так: «Тот, кто пишет стихи, не должен много говорить, потому как такой человек — чудак, пускающий солнечных зайчиков, и если людям интересно смотреть на маленькие светлые пятнышки, отраженные его зеркальцем, то сам чудак им неинтересен». Игра слов, смыслов, юмор, ирония, эксперименты с формой присущи поэзии и прозе Булетти, обладателя премии Шиллера. В 1979 году вышел первый сборник его стихов «Берег солнца» [ «Riva del sole»], затем были изданы книги «Не лучшему, не самому красивому» [ «Né al primo né al più bello», 1979], «Третья тонкая книга стихов» [ «Terzo esile libro di poesie»,1989]. Все они переведены на французский язык. В период с 2001 по 2010 годы были опубликованы еще пять маленьких сборников, среди которых выделяется «Rosa shopping» [2005] — это и каталог керамических изделий, и художественный альбом, и сборник поэтических фрагментов, где диалектизмы и разговорные фразы подчинены правилам итальянского стихосложения. В 1984 году увидели свет «Тридцать коротких рассказов». Булетти и в прозе стремится развлечь себя и читателя, направляя свое зеркальце на разные поверхности реальности.
Перевод публикуемых рассказов выполнен по изданию «Trentarac contibrevi» [Bellinzona: Edizioni Casagrande, 1984].
Краткое появление привидений при различных обстоятельствах
1. Одно швейцарское привидение обожало шоколад — особенно молочный или с фисташковой начинкой, но, поскольку у привидения не было рук, чтобы разломить шоколадку, и не было рта, чтобы ее съесть, всякий раз оно лишь измазывало шоколадом свою белую простыню. Из-за чего прочие привидения, жившие в том же замке, все больше его сторонились. Бедное привидение так страдало, что забилось в самую дальнюю каморку в самой высокой башне; когда остальные привидения после еженощных вылазок прятались по тайникам, оно выходило и до смерти пугало бывших товарищей жуткими стонами.
2. Одно привидение, бродившее неподалеку от государственной границы, каждое утро возвращалось на отдых в замок, расположенный на чужой территории. Проходя через пограничный пункт, привидение тревожило утренний сон пограничников: хотя оно и пугало их не нарочно, это его утомляло и отнимало много сил. А поскольку привидение было немолодо и чувствовало груз прожитых веков, оно не стало продлевать вид на жительство и отправилось далеко на юг. Теперь оно время от времени помогает племянникам, обитающим в старинной арабской крепости.
3. Одно семейство, отправившись на отдых в Гаргано, по рассеянности забыло запертого на балконе сенбернара: бедное животное умерло не от жажды и голода, а от огорчения. Прежде чем перейти в мир иной, оно пожелало превратиться в привидение несчастного брошенного сенбернара, преследующего жестоких и неблагодарных хозяев. Желание было исполнено. Но поскольку у сенбернаров доброе сердце, когда загорелые хозяева вернулись из отпуска, собака-привидение стало охранять их по ночам.
4. Мария-Адеодата Беретти весьма удачно вышла замуж за Бернардо Уелигера, самого молодого капитана во всей армии, продолжавшего уверенно подниматься по служебной лестнице и дослужившегося до подполковника. За это время у них родилось четверо детей: Эрнесто, Флавио, Альда и Изабелла. Когда появилась на свет Изабелла, а дед Бернардо, Бенедетто Уелигер, скончался, семейство перебралось в родовой замок. Вскоре отношение Бернардо к военной службе изменилось: то, что поначалу выглядело пустяшным недоразумением, оказалось предвестником глубокого кризиса, из-за которого Бернардо уволился из вооруженных сил, влился в движение пацифистов и за короткое время стал одним из его признанных лидеров. Вырвавшись из жестких рамок военной службы, к которой его готовили с детских лет, Бернардо разучился планировать свое время и почти перестал появляться в замке: Мария-Адеодата и четверо детей начали относиться к нему, как к родственнику-призраку. Когда же Бернардо предстояло ненадолго вернуться в лоно семьи, дети бежали в деревню зазывать туристов в замок с привидением: малютки зарабатывали на кусок хлеба, ведь, по сложившейся традиции, пополнение семейного бюджета было долгом Бернардо, однако, увлекшись высокими идеалами, он давно обо всем позабыл, и семейство еле сводило концы с концами.
5. Пять привидений рядовых, убитых в бою на Первой мировой, решили внести в свое существование веселую ноту — слишком уж тяжелые и печальные события довелось им пережить в последние месяцы земной жизни. Вместо замков, крепостей и бастионов они стали появляться на чердаках трактиров и ресторанов, вместо пугающего шепота и душераздирающих воплей принялись распевать народные песни и песни альпийских стрелков. В конце концов привидения договорились не носить белые простыни, и тогда их стали пускать в ресторанчики, как обычных посетителей: они обожали горланить вместе со всеми «На том берегу Пьяве»[16], придумывая на ходу новые куплеты и новые амурные приключения.
6. Одному привидению, появлявшемуся на Северо-Востоке Италии, нравилось выдавать себя за неприкаянную душу знаменитого писателя из Триеста. Привидению никто не верил, а некоторые откровенно издевались, спрашивая, что же за книги он написал. Привидение было невеждой, частенько путало авторов и приписывало себе сочинения разных триестинских писателей, подтверждая сомнения маловерных. От расстройства привидение похудело и вытянулось — отглаженная белая простыня была обнаружена горничной одной знатной дамы из Удине в шкафу, где хранился садовый инструмент. Горничная выстирала простыню и, поскольку та была как новенькая, постелила его хозяйке. Проснувшись после беспокойной ночи, дама села писать мемуары — с таким чувством, будто она всю жизнь ни о чем другом и не мечтала.
Француз
Жил да был человек, которого звали Луиджи и который, если не считать редких поездок на рынок, находившийся почти сразу за линией границы, да школьных экскурсий, никогда не бывал в других странах — лишь однажды на несколько дней съездил в Гренобль. Зато он частенько рассказывал об этом путешествии — подстрекаемый сотрапезниками или по собственной воле. За всю его жизнь это было единственное настоящее путешествие: наверняка он многому научился, все прошло замечательно, и теперь ему было что вспомнить. В родном городке — крохотном, чуть больше деревни, хотя там имелся старинный замок, — его прозвали «французом» и по прошествии нескольких месяцев начали относиться к нему, как к настоящему иностранцу — французу.
Теперь земляки думали и говорили о нем то немногое, что в городке знали о французах: дескать, Луиджи — человек остроумный и милый, но излишне галантный, не очень пунктуальный, не очень надежный, немного забывчивый, любитель вкусно поесть, но слишком уж дружен с Бахусом, немного провинциальный (никто не считал, что он из Парижа, все помнили, что из Гренобля), немного шовинист, симпатичный, компанейский и далее в том же духе. Луиджи — не как француз (в городе ничего не имели против французов), а как иностранец — по-прежнему поддерживал с земляками добрые и теплые отношения, но люди относились к нему отчасти настороженно, отчасти снисходительно: им хотелось, чтобы он оценил их любезность и был им за нее признателен. Разумеется, благодаря Луиджи весь город узнал о французах много нового: например, поскольку Луиджи был трудолюбивым и честным, люди стали говорить, что французы работают не хуже жителей Вальтеллины; поскольку Луиджи нечасто захаживал в церковь — на Рождество, Пасху или на похороны, — прошел слух, что французы не любят запах свечного дыма и ладана. И так далее и тому подобное.
Тем временем, после бурных дискуссий, решено было отреставрировать старинный замок: на стройку стали стекаться рабочие из разных стран — югославские шахтеры (в замке имелся потайной подземный ход, который предстояло очистить от завалов), ломбардские каменщики, чернорабочие с юга Италии вместе со своими семействами, три инженера-немца, комиссия, присланная какой-то международной организацией, русский археолог с подругой, молодой английский археолог с родителями, медиевист-бельгиец, группа журналистов американского информационного агентства и много кто еще. Однако рядом с «французом» никто не казался жителям городка иностранцем, хотя другие не могли толком изъясниться на местном говоре, не задерживались дольше, чем того требовала работа (порой всего на пару дней), и, за исключением ломбардских каменщиков, не осмеливались поиграть в бочче на одной из многочисленных аллей городка (да и не выражали такого желания). С молчаливого согласия жителей дозволялось это только «французу»: он-то и был настоящим иностранцем.
Когда реставрационные работы подошли к концу, в город начали зазывать туристов. Первыми появились голландцы, за ними — гости из других стран. Однажды июньским утром прибыл турист из Бордо — наверное, ученый: он упорно пытался получить сведения, которые никто из местных жителей, с кем бы он ни заговаривал в баре, не в состоянии был сообщить — никто не понимал его языка. Позднее в тот же бар заглянул «француз» (в рабочем комбинезоне — видимо, у «француза» был обеденный перерыв). Люди в маленьких городках приветливые, и по бару пронесся вздох облегчения: все ждали, что сейчас прозвучит диалог — короткий, но достаточный для того, чтобы услышать, как их «француз» говорит на родном языке. Однако Луиджи знал только свой родной язык и местный говор, да худо-бедно объяснялся по-немецки, так что ответил он гостю жестами: дал понять, что он, дескать, извиняется и что ему очень жаль. Вопроса соотечественника он не понял.
Свидетели этой сцены, а позднее и все обитатели городка реагировали на нее по-разному и высказывали разные соображения: одни решили, что французский язык очень трудный, раз его можно забыть за несколько лет, другие — что во Франции говорят на разных языках. Большинство заключило, что Луиджи их просто обманывает, и в городе утвердилось мнение, что все французы немного плуты.
Размышления св. Роха
Ночью святой Рох свистнул, и его пес, всегда приходивший святому на выручку, прибежал и принес ключ от комнаты, в которой св. Рох томился взаперти вместе со св. Колумбаном, св. Галлом, св. Бернардино, св. Пеллегрино и св. Ромео: сидели они в самой обычной комнате, а не в тюремной камере, так что это больше напоминало не заключение, а домашний арест. Св. Рох разбудил товарищей. Теребя их, он повторял: «Эй! Похоже, нам и на этот раз удастся уйти. Ну-ка, живее!» Потом прибавил: «Ты, Галл, разбуди Иисуса, а мы — за остальными». Иисуса из уважения сажать под замок не стали, а всех остальных наверняка, как случалось не раз за время странствия, разместили в больших палатках. Охраняли их добряки стражи, которые, хотя на дворе было третье тысячелетие, не отказали бы такому известному и всеми любимому святому, как св. Рох. Все равно той же ночью небесная братия уйдет в другую провинцию — так оно и лучше, и если не простые стражи, то командиры знали это наверняка и знали, что начальство их за это похвалит. В палатках ночевали святые цыгане и цыганки, святые пастухи и погонщики верблюдов, святые пираты и кочевники. На сей раз Иисус, собираясь сойти на землю и прошагать по ней сотни и сотни миль, не стал брать с собой святых апостолов: Он поступал так и прежде (о чем рассказано в сказках), но для долгого и трудного путешествия Иисус выбрал святых, привычных к пешим походам, к ночевкам под открытым небом и к непогоде. Выступили они удачно, размышлял св. Рох, спешно уходя с товарищами прочь из города, но все же отряд получился чересчур многочисленным. Поскольку святые странники не вошли в официальные списки, которые составляли для Иисуса его помощники, Он не всех знал по имени и выбрать не мог. В итоге, чтобы не было недовольных, Он решил взять всех, кто захочет последовать за Ним.
Впрочем, этим святым хватало и переметной сумы — не то что апостолам, которые, при всем уважении к ним, никак не могли собраться в путь и договориться, в какой день сойти с небес на землю. На сей раз Мадонна не успела дать Сыну обычные наставления: Она лишь увидела, как рано утром странники снялись с места и тронулись в путь. А наставления им бы весьма пригодились, особенно когда они брели по степи, где водились волки, или когда вступили в страну неверных. Путники убедились в этом, как только попали в первый же город. У ворот их ожидал приор. Он заявил: «Добро пожаловать! Как раз сегодня над юными горожанами совершается таинство конфирмации. Присутствие ваших представителей на церемонии будет для всех нас большой честью!» Пришлось двадцати пяти избранным вместе с Иисусом и святыми канониками бросить святых лошадей, верблюдов, святые повозки и всех своих товарищей на окраине и отправиться в церковь на городском автобусе. Приор произнес перед юношами и девушками речь, заканчивавшуюся такими словами: «За стенами храма каждого из вас ждет подарок от города — мотороллер: вы все старались и доказали, что впредь имеете право не передвигаться пешком. Помните только, что на мотороллере ездят по особым дорожкам, а дорожки эти не выходят за городские стены и приводят на одни и те же площади: так легче держать вас под наблюдением». Во втором городе делегацию странников пригласили на церемонию посвящения в граждане: Иисусу предстояло освятить кресла, в которые бургомистр усаживал всех, кому исполнилось двадцать лет, — и мужчин, и женщин. Как сказал бургомистр в своей речи, «время тревог прошло, а взваливать на плечи ответственность легче не стоя, а сидя — еще лучше, усевшись поудобнее». В третьем городе субботним утром начальник управления транспорта вручал в подарок молодоженам, вступившим в брак в течение последнего полугода, электромобили — маломощные, зато сберегающие энергию. О четвертом городе св. Рох предпочел бы и вовсе забыть: их ждали там в воскресенье, но из-за густого тумана путники заблудились в лесу, где в конце концов их приютил дровосек. До города они добрались в понедельник, как раз в тот день, когда главный ветеринар проводил забой лошадей: численность животных не должна быть высокой, поскольку использовать их как гужевой транспорт нет смысла. Святые цыгане и цыганки рыдали, кричали, что отрекутся от христианской веры и возьмутся за длинные ножи.
В пятом городе руководитель городского трамвайного и троллейбусного парка раздавал в подарок парам, отмечавшим серебряную свадьбу, годовые проездные билеты. В шестом городе золотой медалью и дипломом награждали крестьян, рабочих и служащих, всю жизнь проработавших на одном месте и выходивших на пенсию. В седьмом городе чествовали тех, кому исполнялось сто лет. К сожалению, Иисус не смог поздравить их лично: Ему в очередной раз пришлось успокаивать товарищей, которым, как всегда, приказано было встать лагерем на окраине, — зато на праздник отправились св. Рох, св. Бернардино и один святой пастух из Абруццо. Столетних старцев угощали вином, пирожными и исполняли в их честь народные песни. Самый мудрый из юбиляров, который даже написал несколько книг, произнес благодарственную речь. Он сказал: «Если вы спросите меня, как дожить до ста лет, мой рецепт — хорошая сигара, капля вина за обедом и главное — поменьше фантазии!»
Начиная со следующего города странников встречали все неприветливее, давая понять, что лучше им поскорее убраться. Потом их стали хватать и сажать под замок: как раз сейчас св. Рох в очередной раз выводил товарищей на свободу. А еще он размышлял, что их появление причиняет одни неудобства, что люди слишком привыкли к оседлой жизни, чтобы принять компанию святых странников, и что, наверное, лучше им воротиться назад. Впрочем, странствуя с Иисусом, можно ожидать чего угодно… К тому же они еще не побывали во Франции, а св. Роху так хотелось еще разок повидать Монпелье.
Добродетель не истребишь
Сестра Модеста стряпала для всего монастыря: готовила она превосходно, и сестры всячески расхваливали ее кухню — скромную, как и требовало их положение, но при этом вкусную и разнообразную. Впрочем, чтобы сестра Модеста не возгордилась, в ее присутствии они старались ее не хвалить. Однажды вечером сестра Лукреция не заметила, что в трапезной находится сестра-повариха, на которую, дабы та укрепилась в смирении, наложили послушание убирать со стола и мыть посуду. Случилось это за вечерней трапезой в День поминовения досточтимой основательницы ордена, по случаю чего монахиням подали сладкое. Сестра Лукреция, выходившая поговорить с богомолкой, которая принесла цветы к алтарю, заканчивала ужин последней. Остальные сидели и ждали, пока она доест. Сестра Модеста уже стояла в дверях с тележкой и, как и все, не могла не услышать: «В жизни не ела такого вкусного английского супа[17]!» Настоятельница с негодованием взмахнула рукой — говорившая сразу же поняла, что провинилась, она поникла, в трапезной повисло неловкое молчание. Толкая тележку, сестра Модеста вышла на середину и, как ни в чем не бывало, сказала: «Его Преосвященство монсиньор епископ тоже любезно заметил, что мой английский суп вкуснее, чем у самого Маркезини». Кроме настоятельницы и сестры-хозяйки Орнеллы, никто и не помнил голоса сестры Модесты, показавшегося всем необычайно нежным и подобающим мастерству, с коим она готовила кушанья. Сестры поднялись из-за стола и разошлись, забыв о том, что Модеста нечаянно услышала слова похвалы. Однако матушка настоятельница не могла закрыть на это глаза. Тем же вечером она вызвала повариху и, скрепя сердце, сказала: «Наши сестры, управляющие Домом улыбки младенца, давно просят прислать им кухарку, чтобы та готовила для настрадавшихся мальчиков и девочек здоровую, питательную и недорогую пищу. Соберите вещи и завтра же, сразу после заутрени, отправляйтесь!»
На следующий день сестра Модеста пропела утренние молитвы, в последний раз приготовила сестрам кофе с молоком и покатила по улицам города туда, где ей теперь предстояло трудиться, на своем голландском велосипеде. Обычно она ездила на рынок за свежими овощами и зеленью: велосипед подарил ей мэр, когда втайне от всех она приготовила торжественный обед для правительственных советников, год назад лично приезжавших с проверкой. Сестра Модеста добралась как раз вовремя, чтобы испечь рогалики для своих новых сестер и проживавших в приюте девяноста пяти мальчишек и девчонок. На новом месте дела пошли замечательно, вскоре сестры, прежде страдавшие желудком и печенью, расцвели и почувствовали себя как никогда хорошо; потому-то они не сразу заметили, что с каждым днем маленькие постояльцы все сильнее любят кухарку, хотя и видят ее только во время трапезы, и привязываются к ней крепче, чем к учительницам и воспитательницам — крепче, чем к сестре Маргерите, которая с ними играла и занималась гимнастикой. Когда же сестры это заметили, им показалось несправедливым, что наставником для малюток становится чрево. Их терпение лопнуло, когда, не тратя лишнего цента из скромного бюджета, сестра Модеста сумела ввести не предусмотренный ранее полдник: ей казалось, что не по-человечески и не по-христиански не позволить детишкам узнать, что такое вкусный полдник, занимающий в распорядке дня малыша важное место. Сестра Модеста хорошо помнила свою бабушку, которая, прежде чем уйти на работу в поле, пекла ей по будням булочки с шоколадом — девочке дозволялось съесть их после того, как часы на колокольне церкви Мадонны делле Грацие пробьют четыре. А по праздничным дням у них всегда подавали сливовый пирог… Сестру Модесту перевели в Отдел паломничества и благочестивых походов, и она принялась кормить пилигримов. Хотя за недолгое время, проводимое в странах, по которым пролегали их маршруты, непросто было познакомиться с местными продуктами и приспособить их к нуждам паломников, — особенно преисполненных надеждой больных, направлявшихся в святые места, где свершались чудесные исцеления, — сестра Модеста каждый день выкраивала время для поездки на рынок, и велосипед повсюду следовал за ней: в почтовом вагоне, если паломники путешествовали поездом, или на багажнике передвижной кухни, если ехали автомобилем. Слава непревзойденной поварихи докатилась до самого Папы, и тот, собираясь в пасторскую поездку, приказал включить сестру Модесту в свою свиту, однако вскоре наша монахиня осталась без места: случилось так, что по возвращении из паломничества к святым местам, где никто не выздоровел и богомольцам было даровано лишь духовное утешение, подавая суп в вагоне для инвалидов, сестра Модеста сказала: «У супа семь добродетелей, одна из них — воскрешать мертвецов».
На что один из присутствующих — не мертвец, а глухонемой от рождения — немедленно ответил: «Вы должны разнести эту весть и обрадовать тех, до кого она еще не дошла!» Оставлять сестру Модесту среди паломников было нельзя: ее отправили в Святейшую пекарню, где изготавливали облатки, впрочем, вскоре ее и оттуда убрали, заметив, что многие, особенно молодежь, подходили к причастию, не подготовившись, так привлекал их изумительный аромат сих миниатюрных хлебов. Долго пришлось бы рассказывать, сколько раз сестру Модесту переводили на новое место и всякий раз отзывали обратно, и сколь возросло ее мастерство, хотя ей давали все более скромные и незначительные поручения. Однажды сестра Модеста не выдержала и поддалась отчаянию: постучав в двери первой обители, где она некогда была насельницей, она попросила дозволения поговорить с матушкой настоятельницей, а пока ждала, приготовила бывшим сестрам ризотто с морепродуктами. Когда настоятельница ее приняла, сестра Модеста стала умолять отправить ее миссионеркой к каннибалам Нунуру. Прибыв к каннибалам, она вскоре обратила их всех в христианскую веру, а они в благодарность избрали ее своей королевой.
Императорский туалет
Владелец ресторана «Сочное бедрышко» без труда получил разрешение расширить и перестроить свое заведение. Визит члена Комиссии по историческим памятникам являлся пустой формальностью: главное — не нарушать правила, не создавать прецедентов, ведь ресторан находится в историческом центре. К заведению присоединяли помещение бывшего цветочного магазина, закрывшегося после сорока лет честной работы, поскольку его владелец умер, не оставив наследников. Все бы ничего, если бы не одна деталь: в идеально квадратном помещении, где у цветочника находилось отхожее место, предполагали провести ремонт и установить ультразвуковую печь последней модели, чтобы быстро удовлетворять запросы самых требовательных клиентов — нынешних и будущих. Каково же было всеобщее удивление, когда, сняв бачок унитаза, рабочие обнаружили на стене дворянский герб, а крючок, на который некогда вешали ведерко с водой, оказался из чистого золота. Тут уж примчался не один, а все члены комиссии: вскоре было установлено, что в достопамятные времена туалет принадлежал императору. Уважаемых членов комиссии ничуть не смутило то, что перед ними был классический «турецкий» туалет: они знали, что император отдал лучшие годы жизни борьбе с турецкими завоевателями, как знали и то, что сей великий государь проявлял любопытство к обычаям и привычкам неприятеля. Так было окончательно доказано, что император бывал у нас в городке: находка подтверждала предание, согласно которому он нередко захаживал к нам во время многочисленных походов с севера на юг страны и с юга на север. А еще предание гласило, что он самолично вершил правосудие, проявляя куда большую мудрость и справедливость, чем рядовые судьи, потому-то замыслившие преступление злодеи медлили, ожидая, что глашатаи возвестят о скором прибытии императора. Разумеется, работы по расширению и ремонту ресторана остановили и назначили специальную комиссию, в которую вошли молодые, но многообещающие историки, археологи, архитекторы, гражданские и военные инженеры, архивисты, библиотекари, палеографы, писатели и юристы.
Каких только поразительных открытий не совершили в те дни! Оказалось, что император останавливался в нашем городе не только на отдых, но и для того, чтобы обдумать и продиктовать проекты указов, а поскольку он славился умением беречь время и не тратить зря ни минуты, неподалеку от туалета непременно должна была находиться комната с конторкой, стоя за которой, секретарь императора записывал все, что из места уединения неспешно диктовал ему августейший голос. И что эта комната с конторкой находилась в бывшем цветочном магазине. А в ресторане была приемная для просителей — пол ведь там вытерт больше, чем в других помещениях: прежде клиентов ресторана и всех заведений, размещавшихся некогда на его месте, по этому полу ступали, вновь и вновь измеряя комнату неровными, нервными шагами, охваченные трепетом жители города и окрестностей, ожидавшие ответа на поданное прошение или чести быть лично принятыми самим императором. А еще говорили, что все здание некогда принадлежало императору, что неспроста из окна мансарды город видно как на ладони: можно даже разглядеть вершину холма, с которого, двигаясь с севера, странник впервые видел город своими глазами, и порт, где, двигаясь с юга, садились на корабль, чтобы проделать последнюю часть путешествия по морю.
Все новые и новые догадки сыпались одна за другой: в здании напротив ресторана (несмотря на многочисленные перестройки, нетрудно было угадать его первоначальный облик) должна была располагаться казарма личной гвардии императора, справа от него — там, где сейчас универмаг, наверняка находились покои императорского семейства, за ними — покои прислуги. Справа от казармы — там, где сейчас центральное отделение Генерального банка, был Collegium doctorum (как известно, император путешествовал в сопровождении постигших все науки советников), а за нынешним зданием банка — покои прислуги ученых докторов. На небольшой площади между покоями прислуги императорского семейства и покоями прислуги ученых наверняка был разбит розарий, в котором по приказу императора — могучего, мудрого и видного мужчины — в честь всякой дамы, которой он был увлечен, высаживали розовый куст. Чуть поодаль — там, где сейчас парковка, простиралась широкая рыночная площадь: на ее северной оконечности была Лоджия купцов (сейчас там разместились столики трех кафе), на восточной — Дворянское собрание (сейчас там Федеральное страховое агентство), на западной — церковь Святого Мартина (которая там и стоит). И так далее, и тому подобное. Одним словом, весь город построили или, вернее, перестроили под императора. Комиссия представила властям подробный отчет, а после пресс-конференции о его содержании узнало все население. Затем комиссию распустили. Вместо нее немедленно возникло движение за реконструкцию города и возвращение ему облика эпохи императора, однако оно сразу же встретило сопротивление сторонников движения за город для людей, членов Союза торговцев, Союза жильцов и даже местного историка Тита Вильи. Историк, которого в комиссию не позвали, грозился доказать, что ее выводы безосновательны и все открытия — полная ерунда: в его семейном архиве якобы сохранилась расписка, которую дед покойного цветочника, прибывший из Ниццы и также торговавший цветами, взял с местного художника, который нарисовал ему в отхожем месте дворянский герб, придумав его из головы.
Стремительные истории
1. Одна храбрая девушка из Беллуно, — рассказывала мне пожилая родственница, — вытащила из разлившейся реки двух близнецов, оставленных старшей сестрой без присмотра. За это героиня получила медаль и диплом. Когда она проносилась по улице на «веспе» (в то время мало кто из женщин пользовался двухколесным транспортным средством), все показывали на нее пальцем, вспоминая спасенных детишек. Поскольку Беллуно городок небольшой и его жители охочи до сплетен, прошло всего несколько месяцев, и все стали с нетерпением ждать, что девушка опять кого-нибудь спасет. Когда ей это надоело, она сложила весь свой скарб в сумку, водрузила сумку на багажник, завела мотор, включила первую скорость, потом сразу третью — и поминай как звали. А ведь в то время мало кто из женщин мог просто взять и уехать, уместив все свои пожитки в одной-единственной сумке…
2. Одному монаху верующие подарили английский мотоцикл — не новый, но в отличном состоянии: в молодости монах был чемпионом района в классе мотоциклов с полулитровым двигателем, однако, приняв постриг (наш монах решился на этот шаг в зрелом возрасте), перестал участвовать в соревнованиях. Теперь же, получив подарок от верующих, в чьей искренности нельзя было усомниться, монах оказался в затруднительном положении — между прочим, он опасался, как бы подол рясы не затянуло в колесо. И все же у него не хватило духу отвергнуть дар тех, кто так крепко его любил. Однажды ночью ему явился во сне святой Франциск и сказал: «Сын мой, не ряса, а сердечная радость отличает тебя от других, так отчего же не воспользоваться мотоциклом, который ты так ловко водишь и на котором ты не раз колесил по зеленым лугам, чтобы как можно скорее поделиться переполняющей тебя радостью с братьями?»
3. Два библиотекаря, занимавшиеся неспешной, рутинной, всеми уважаемой работой, обожали мощные быстрые мотоциклы; несколько лет они откладывали с зарплаты на блестящий новенький мотоцикл, и вот наконец мечта их сбылась. Всякую свободную минуту они вскакивали на железного коня и отправлялись в рискованные путешествия. При этом они любили сравнивать истории, в которые попадали, с тем, о чем говорилось в книгах, проходивших через их руки. В баре «Кентавр», куда библиотекари частенько заглядывали, можно было услышать: «Ах! Сегодня все было в точности, как в ‘Неистовом’!», «А помнишь тот день, когда мы словно оказались в ‘Божественной’?», «Нет, все-таки здорово было, когда мы попали в передрягу — будто в ‘Освобожденном’!», «А как мы в тот раз измучились! Никогда не забуду — ну точно, как в ‘Обстоятельствах’!»[18] Между прочим, библиотекари делали доброе дело, ибо благодаря им юные мотоциклисты города и округи познакомились не только с шедеврами итальянской поэзии и прозы, но и с многими прочими книгами.
4. Одна молодая художница продолжала появляться в академии, хотя уже дважды выставляла свои работы; она приезжала три раза в неделю на стареньком отечественном мотоцикле. Художница была милая, из-за чего ее работы казались лучше, чем были на самом деле. В основном, она писала картины небольшого формата, влезавшие в кожаную сумку на багажнике. Однако, выиграв конкурс проектов витражей для церкви Св. Севера, художница прибыла на место работы на катере «Аврора»: церковь Св. Севера находится в средневековом городке, расположенном на острове посреди озера.
5. Молодой французский философ, успевший прославиться исследованиями феноменологии микроэмоций, каждое утро отправлялся за город на старомодном, но новеньком велосипеде; пока он крутил педали, голова его была занята размышлениями: утром, по пробуждении, все виделось ему ясно и четко. Вернувшись домой, философ тратил полчаса, чтобы записать результат утренних трудов. Будучи недоволен собой и стремясь достичь большего, он решил, что работа пойдет скорее, если он будет ездить на мотороллере. Поскольку ощутимых результатов это не дало, он решил пересесть на мощный мотоцикл. Однако из-под его пера выходили все менее блестящие сочинения, да и читателей у него становилось все меньше. «С другой стороны, — рассуждал философ, — разве смогу я отказаться от наблюдения любопытнейшего явления: как разбегаются курицы, когда я внезапно выскакиваю из-за поворота у зарослей боярышника?»
6. Один психолог довольно поздно сел на мотоцикл, зато быстро научился отлично его водить; он ездил долгими и не всегда удобными дорогами при любых погодных условиях — ездил осторожно, хотя и не отказывал себе в удовольствии набрать разумную скорость. Потом он случайно попал в аварию. После аварии он решил, что с мотоциклом покончено. Наш психолог не был адептом какой-либо школы, получил эклектичное образование и поэтому, к великому возмущению и зависти коллег-ортодоксов, любил повторять, что многое узнал о человеческой душе, путешествуя на открытом воздухе под солнцем и дождем.
7. Один рабочий, живший неподалеку от границы, всю жизнь ездил на мотоцикле, славы ему это не принесло, зато с годами он заработал ревматизм и люмбаго. Как-то утром он опаздывал на работу и, мчась на высокой скорости (обычно он водил осторожно — у него, между прочим, было двое детей), обогнал автомобиль местного поэта, который был так впечатлен их встречей, что написал двустишие, которое в один прекрасный день, вероятно, принесет поэту славу:
Сидя в машине, я кентавра узрел. Иль это привиделось мне?Франц Холер © Перевод с немецкого В. Куприянов
Франц Холер [Franz Hohler] родился в 1943 году в Биле. Изучал германистику и романистику в Цюрихском университете. Холер по праву считается живым классиком швейцарской литературы. Его творчество чрезвычайно многогранно. Он пишет и романы, и рассказы, и стихи, и песни. Нередко выступает с музыкантами и художниками. Им написано более двух десятков книг для детей. Выбранный нами рассказ «Камень» [ «Der Stein»] — заключительное произведение одноименного сборника, вышедшего в 2011 году. В качестве эпиграфа к сборнику выбраны слова Паустовского из «Времени больших ожиданий»: «Стоило мне нагнуться, поднять на дороге белый камень и сдуть с него пыль, чтобы, даже не глядя, сказать, что это горячий от полуденного зноя морской зернистый голыш, и почувствовать досаду оттого, что невозможно описать жизнь этого куска камня, длившуюся много тысячелетий».
Перевод выполнен по изданию «Der Stein» [Luchterhand, 2011].
Камень
ЧТО-ТО лопнуло.
Что-то плясало во тьме.
Рев. Треск. Шум.
Звездное сердцебиение. Смех созвездий.
Что-то тлело.
Что-то искрилось.
Что-то трескалось.
Что-то взрывалось.
Галактический гром. Времярождение.
Что-то взмывало.
Что-то вращалось.
Что-то взвивалось.
Это была она, Земля, никем не видимая, никем не слышимая, никем не осязаемая. Беззащитно летела она сквозь град Вселенной, которая все еще рождала сама себя, изрыгая из своих пралегких метеориты, которые таили в себе дыхание, таили в себе влагу, которые оставались на Земле и медленно отдавали ей воздух, медленно отдавали ей воду.
И так миллионы лет.
Жар из сердцевины шара стремился наружу, все больше огненных рек постепенно остывало, Земля примеривала на себя свой каменный плащ. Его омывали океаны, но плато и вершины громоздились все выше, простирали под солнцем свои берега и приглашали к жизни.
И так миллионы лет.
Что-то в воде начинало вздрагивать и трепетать, живое питалось тем, чем делились вода и камень, и всякой трепещущей жизнью.
И так миллионы лет.
Появились растения, папоротники пронзали корнями почву, по их стеблям карабкались насекомые. Из морей поднимали свои головы земноводные, выползали на сушу, осматривались и принимали приглашение. Плавники превращались в конечности. Рептилии волочили свои чешуйчатые животы по болотам. Хвойные деревья решались ступить на землю.
Так миллионы лет.
Ледяные ветры смешивались с жарким дыханием муссонов. За возникновением жизни следовало вымирание жизни. Динозавры ревели и гибли от своей собственной величины, вулканы доносили вести из глубины и затухали, птицы поднимались в воздух и кружили над частями света, гонимыми перепадами температуры и постоянно отдалявшимися друг от друга. На смену хрупкому яйцу пришло живорождение, новые звери пили молоко своих матерей, летучие мыши шныряли в дебрях тропического леса, уже не опасаясь вымирания.
И так миллионы лет.
Возникли Альпы. Распри между каменными гигантами — их имена гнейс, гранит, доломит, известняк, сланец. Один из них, чтобы принять участие в битве, прибыл из южной пустыни — Веррукано, старец, рыжеватый, сын огненной матери-магмы, он ринулся на юнцов и прижал их к земле, пока те не сдались. Но, занявши место наверху, он оказался под натиском бурь, града, снега и льдов и быстро выветривался, то тут, то там от великана отрывалась глыба и с грохотом рушилась вниз, рассыпаясь на мелкие части.
Еще двадцать миллионов лет до того, как глаза человека увидели горы и со страхом заглянули в другие человеческие глаза, услышав грохот падения скальных обломков.
Ледники расползались и снова отступали, распространялись и гнали прочь племена людей на поиск более приветливых мест. Один из них, что расположился у подножия древнего Веррукано, взял с собой все эти обломки в дальнюю дорогу, и в своем более чем тысячелетнем странствии только разрастался. У него было достаточно времени, чтобы своим ледяным натиском отшлифовать эти камни, и когда язык его начал таять, а сам он отправился в обратный путь, то побросал их всех на новые места. Уходя, он оставил мульду, озерную впадину. Его следы постепенно затянулись почвой, которая покрылась травой и деревьями. Впадина заполнилась водой, из озера вытекла река, на берегу которой, на холме, кельты основали поселение, где римляне позже воздвигли крепость: Турикум.
Принято считать, что камень ничего не чувствует, ничего не слышит и ничего не видит. Так что приходится сказать, что камень, который двадцать тысяч лет назад с глетчером дошел до Цюриха и был сокрыт землей, вел монотонную жизнь, ибо он остался лежать под почвой, отторгнут от своих прежних спутников. Быть может, порой на него натыкался своим носом крот, быть может, скользил по нему дождевой червь, но о том, что творится там, на земле, он не ведал ничего. Без него Карл Великий основал Гросмюнстер, без него обезглавили Ганса Вильдманса — ему это было столь же безразлично, как и проповеди Ульриха Цвингли. И пушечные выстрелы, которыми французы во время Войны второй коалиции изгнали из города русских и австрийцев, не проникли вглубь почвы, а были лишь осколками грохота, с которым в плеоцене пенниновые слои проволоклись по коре Европы.
Камень не думает, камень не радуется, камень не грустит, камень не голодает, камень не испытывает страха, камень не любит, камень не ненавидит, у камня нет ни друзей, ни врагов. Камень не действует. Он испытывает лишь то, что творят с ним внешние силы, силы инерции, силы тяготения. Если он катится с высокой насыпи вниз, то говорят, что он кувыркается. Хотя это его катят и его кувыркают.
Когда ковш экскаватора выгребает камень из-под груды разрозненного щебня и бросает в контейнер для строительного мусора, поскольку обновляется канализация, он в первый раз после двадцати тысяч лет заключения снова выходит на свет. Мы бы дали ему с удовольствием вздохнуть и почувствовать свежесть весеннего дня, если б не понимали, что это непозволительное олицетворение. К тому же он покрыт слоем грязи, и, даже если она к концу недели, пока он лежит на самом верху кучи, постепенно высохнет, местами осыплется и обнажит его красноватую гладкую поблескивающую поверхность, все останется по-прежнему: камень ничего не почувствует.
Четырнадцатилетний подросток из местной общины, который вместе со своим школьным товарищем вечером первого мая приехал в Цюрих, поскольку прослышал, что здесь происходит нечто неслыханное и что в этом неслыханном можно принять участие, уже битый час слонялся среди людей в масках, надвинув на лоб капюшон своей толстовки и прижав к лицу носовой платок, пытаясь избежать облака слезоточивого газа, исходящего со стороны голубых марсиан, марширующих, прикрываясь щитами, по всей ширине улицы в противогазах и шлемах. «Свиньи!» и «Нацисты!» — слышал он крики слева и справа от себя. И тут он проходит мимо контейнера, немного помедлив, хватает камень, оборачивается и запускает его в преследователей.
Камень подчиняется законам физики, которые придают ему определенную начальную скорость и направляют по баллистической кривой. Он попадает вовсе не в голубой мундир, а в бегущую девушку, которую оттеснили в переулок. От удара в голову девушка падает, два полицейских склоняются над ней, третий вызывает по рации машину «скорой помощи».
Подростку удается протиснуться в проход между домами, резво перебежать через двор и выйти с другой стороны, дальше он с неспешностью постороннего продвигается к вокзалу. Он прижимает носовой платок к глазам и вытирает слезы, отдающие едким запахом, но слезы не унимаются и когда запах газа проходит. Он был вынужден присесть на уступ витрины. Ему хочется, чтобы не случилось того, что только что случилось.
Но это случилось. Девушку увезли в приемный покой университетской клиники. Полицейский положил на носилки и камень. Врач, который поставил диагноз черепно-мозговая травма, заставил санитарку вымыть камень и сопоставил его с нанесенной раной. С точки зрения судебной медицины, причиной ранения является «действие тупой силы».
Четырнадцатилетний подросток, родителей которого не было дома, дрожа от страха, включил вечером новости и услышал, что нанесен ущерб на несколько сотен тысяч франков и одна молодая женщина получила тяжелую травму от брошенного камня. Когда он услышал, что ее жизнь вне опасности, он вздохнул и, плача, опустился на постель. Он об этом никому не расскажет, и он никогда больше не совершит подобного.
После операции и долгого лечения в клинике девушка постепенно поправилась. По иску ее родителей было заведено уголовное дело против неизвестного, но следствие не дало результата и со временем было прекращено. По желанию девушки камень ей отдали, и она его сохранила.
В день своего восемнадцатилетия девушка вместе со своим другом выплывет в лодке на середину озера, достанет из сумки камень и бросит его в воду.
И, пустив несколько пузырей на поверхность, камень медленно исчезнет в глубине.
Камень делает то, что делают с ним.
Теперь он лежит на дне озера. Немного ила взметнулось со дна, чтобы уступить ему место.
Камень ничего не помнит. Камень не мечтает. Камень не питает надежд.
Нельзя даже сказать, что он ждет.
Жорж Пируэ Перевод с французского А. Петрова
Жорж Пируэ [Georges Piroué, 1920–2005] — писатель, литературный критик, эссеист, родился в городе Ла-Шо-де-Фон в кантоне Невшатель, большую часть жизни прожил во Франции. Лауреат швейцарской премии Шиллера за совокупность творчества. Автор многих романов, среди которых выделяется «Такая большая слабость» [ «Une si grande faiblesse», 1966, премия Шарля Вейона] и роман об Иоганне Себастьяне Бахе «Ему во славу: фрагменты другой жизни» [ «A sa seule gloire: fragments d’une autre vie», 1981], нескольких сборников рассказов, в частности, «Огни и места» [ «Feux et lieux», 1979, премия Валери Ларбо], эссе о музыке и литературе: «Пруст и музыка будущего» [ «Proust et la musique du devenir», 1960, премия Фемина-Вакареско]. Переводил с итальянского Луиджи Пиранделло.
Перевод выполнен по изданию «Травка-муравка» [ «Eherbe tendre». Julliard, 1992].
Тополя
Читательницы не раз вспоминали этот тополь и вспоминали тепло. Тополь перед окном, подобный «устремленному ввысь фонтану». Почему тополь и почему здесь? Они спрашивали, но он не мог им ответить. Он искал, но не отыскивал ничего в памяти, вернее, отыскивал, но другое — как мы позже заметим. Остается, говорил он, признать очевидное: дерево на первой странице выгнала из-под земли сила воображения, потребность, которую он не в силах объяснить. Дерево шелестело, и в зеркальном блеске листвы угадывались миражи будущего.
Через его жизнь прошла целая вереница тополей: одни явились ему до, другие после того, что описан в книге. Один выглядел как царапина на горизонте. Писателю, который тогда еще не был писателем, показалось, что перед ним давший трещину холст. Проскользнуть бы в эту щель, убедиться, что пейзаж намалеван, увидеть изнанку, убежать через заднюю дверь. Шла война, и шел снег, он был молод, и ему хотелось спрятаться от жизни.
Другой тополь, городской, стоял в одиночестве посреди асфальтированного двора. Он смотрел на него в окно. К счастью, над городом бушевала гроза, ветер трепал его, как хотел, приобщая к тому, что творилось далеко-далеко, в чистом поле, на море. Ствол напоминал мачту, а листва — разорванный в клочья парус.
Еще два тополя виднеются на склоне напротив небольшой долины, где он живет. Они близнецы и чудесно ладят. Ветер не в силах их поссорить, столкнуть головами, они склоняются в одну сторону, обычно вправо, реже — влево. Они растут на соседских землях, а потому ни ему, ни другим к ним дороги нет. Он едва представляет себе их высоту и далеко ли до них. Владелец участка кажется ему крошечным, когда садовничает на пригорке, однако его голос и, увы, лай его собак доносятся вполне отчетливо.
Осенью или в сумерках, во время бури, деревья особенно прекрасны. Свет меняет их цвет. В покое они напоминают желтые восковые свечи. Темное небо придает им оттенок слоновой кости, делает их мертвенно-бледными, а луч солнца, пронзающий тучи, окрашивает их в медь.
Все эти тополя, рассеянные во времени и пространстве, — они ли породили тополь из книги или, напротив, сами из него вышли? («Природа подражает искусству», — говорил Оскар Уайльд.) Едва ли писатель разберется, что было вначале. Самое большее — почувствует, что тополя играют роль вех на дороге, ведущей бог знает откуда и куда. Какая разница, лишь бы время от времени на пути попадались эти пылающие свечи.
Только женщины замечали этот тополь перед окном, пламенеющий — а для них скорее струящийся — на первой странице книги. Одну из незнакомок он помнит до сих пор. Она приехала к нему в Париж из сельской глуши, где жила при доме священника. Всюду зелень вокруг — вот, пожалуй, почему она так восторгалась «устремленным в небо фонтаном». Бывают же такие внимательные читательницы. Но она, вдруг пришло ему в голову, говорит со мной о своем собственном мире, а я, дурак, размечтался, будто она вглядывается в мой. А счастливого сходства, намечавшегося между ними по мере ее рассказа, он из робости и стыдливости не заметил.
О другой женщине, последней читательнице, еще пойдет речь. Пока же запомним, что дамы, все как одна, угадывали в этом штрихе пейзажа нечто большее, чем просто деталь: перводвигатель, зерно, призванное умереть, преобразиться, утратив полностью былой облик; семя, дающее жизнь растению. И, однако…
Чем больше писатель об этом думал, тем яснее видел перед собой не тополь, а… заводскую трубу. На дворе лето, суббота, дело к вечеру. В этот час по традиции звонят городские колокола, некогда возвещавшие мастеровым, что работа окончена. Звонить уже незачем, но этот гул, как и встарь, разносит по улицам обещание праздника, смутное ожидание, надежду. И хоть никто уже давным-давно не работает допоздна, на город словно снисходит облегчение. Все переводят дух, успокаиваются, праздность вступает в свои права, ее заждались, ей предаются с упоением. Чем не il sabato del villaggio[19]?
Перед ним стояла подруга детства — или, по меньшей мере, школьных лет. Она шла домой из магазина. Он сидел на невысокой стене, отделяющей дорогу от площадки возле домов, где шумными стайками носились дети.
Он чувствовал себя влюбленным. Не в ту, что стояла перед ним, а в другую — отсутствующую, далекую. Он говорил о ней, он ничего вокруг не видел, кроме нее. Да и может ли быть иначе, думал он. Его слушали с удовольствием, вернее, не без сочувствия, чуть рассеянно, с полуусмешкой, поглядывая время от времени на детвору. Вдруг подскочил мальчишка — поцеловать маму. Все было так по-домашнему, неделя подходила к концу. Быть может, его даже пригласят на субботний ужин. Он говорит о женщине, которой нет рядом, отстраненно, бесстрастно, словно закат живописует, ей-богу, и сам этому удивляется. Живописует не без таланта, но не стараясь убедить. Он говорит, а она слушает развлечения ради.
Тогда-то, сообразил он позднее, и выросла на заднем плане заводская труба. Она четко вырисовывалась над крышами. Каким чудом? И вправду чудо, мираж, стоит взять карандаш и набросать на бумаге, как выглядели окрестности. Там и в самом деле стоял какой-то завод, но его не было видно за жилыми домами. Так значит, труба перемахнула через них, чтобы пустить корни в сознании писателя, и, что самое странное, обернувшись тополем, прокралась на страницы его книги. Что случилось? Безотчетно захотелось удержать этот час, продлить его вдали от города? И вместе с тем — уберечь его от стороннего любопытства, заменив декорации, одев кирпичную трубу листвой? И вечер становится утром в залитой светом комнате, где уже свершилось все то, что произойдет только годы спустя после их беседы, и за окном вздымается и опадает тополиная ветвь. Вверх, вниз, с переливчатым шелестом, точно благословляет или тянется к чему-то — так рассказывает книга.
Итак, женщины большей частью его заметили — то ли источник, то ли пламя, связующие землю и небо, в зависимости от вкусов. Пресловутое чутье подсказало им: что-нибудь да кроется за этим трепетом зелени, свежесть раннего утра по пробуждении, предчувствие готовой нахлынуть жизни, грядущей радости. Они не ошиблись. На самом деле, труба превратилась в тополь много позже, на рассвете, когда, проснувшись на новом месте и глянув в окно, спрашиваешь себя: который час? Где я? И прежде ответа приходит догадка: там, где должно, не позже и не раньше, чем должно. Как тополь — на любом ландшафте всегда кстати.
Последний тополь писатель увидел в Анжу, у госпожи X., в деревушке Сен-Клемен-дю-Пёпль, названной так не в честь какой-нибудь громкой народной революции, а потому что от латинского слова populus происходят и peuple — народ, и peuplier — тополь.
Три дерева образуют живую занавесь перед кухонным окном. Госпожа X. сравнивала их с тополем из книги, пережившим столько превращений. Ей нравилось, что одни живые, а другой вымышленный, нравился тихий шелест одних и образ другого, возникавший в сознании по мере чтения про себя и наполнявший трепетом книжные листы. К несчастью, этих трех спутников уже подточила старость: вот-вот рухнут на крышу. Они стенали, предчувствуя скорый приговор. Радостные трели давних времен сменились погребальным тремоло. (Отголосок шубертовской «Липы».) Их собирались срубить. Кажется, уже и срубили. С тех пор вымышленный тополь царствует безраздельно, ведь госпожа X., уж конечно, выдумала себе такой, с не менее сложной генеалогией. Потому что каждый человек несет, прижав к груди, свое невидимое деревце, и
Труба-непоседа Пасет стада тополей.Роберт Вальзер © Перевод с немецкого Э. Венгерова
Роберт Вальзер [Robert Walser; 1878–1956] — классик швейцарской и европейской литературы. Родился и вырос в Биле, благодаря чему с ранних лет слышал не только немецкую, но и французскую речь. Был вынужден бросить школу, поскольку родители не могли больше оплачивать образование. С юных лет увлекался театром. В 1895 году, проработав несколько лет банковским клерком в Биле и Базеле, Вальзер перебрался в Штутгарт, где работал секретарем в издательствах и безуспешно пытался начать актерскую карьеру. В 1896 году пешком вернулся в Швейцарию и снова устроился конторским клерком.
В 1898 году в бернской газете «Бунд» появилась первая публикация стихов Вальзера, благодаря чему на него обратили внимание в известном литературном журнале «Инзель». Вскоре в «Инзеле» вышли стихи, короткие пьесы и рассказы Вальзера. В 1904 году в издательстве «Инзель» вышла первая книга Вальзера «Сочинения Фрица Кохера» [рус. перев. 2013]. В 1905 году Вальзер несколько месяцев проработал слугой в замке Дабрау, в Верхней Силезии, после чего в его творчестве появилась соответствующая тема. В 1906 году Вальзер вернулся в Берлин, к своему брату Карлу, который работал художником-оформителем и помог завязать контакты в издательском мире. Так, в частности, Вальзер познакомился с Самуэлем Фишером. Тогда же им были написаны романы «Помощник» [ «Der Gehülfe», 1908; рус. перев. 1987] и «Якоб фон Гунтен» [ «Jacob von Gunten», 1909; рус. перев. 1987], редактором которых выступил Христиан Моргенштерн. Романы и рассказы Вальзера были тепло приняты публикой, их высоко ценили Роберт Музиль и Курт Тухольский. Гессе считал его одним из своих любимых авторов, даже Кафку поначалу представляли публике как «нового Вальзера». В 1913 году писатель вернулся в Швейцарию, где продолжал создавать небольшие рассказы и зарисовки, печатавшиеся в швейцарской и немецкой периодике.
В 1917 году Вальзер написал повесть «Прогулка», русский перевод которой, выполненный Михаилом Шишкиным, читайте в следующем номере «ИЛ».
В 1921 году Вальзер перебрался в Берн и устроился работать библиотекарем. Именно в этот период он начал писать карандашом свои знаменитые и с трудом разбираемые микрограммы. В 1972 году из микрограмм исследователи восстановили роман «Разбойник» [ «Der Räuber»; рус. перев. 2005]. Другой роман «Теодор» был утрачен. Позже, в 1985–2000 гг., микрограммы были расшифрованы и изданы в шести томах.
С 1929 по 1933 годы Вальзер лечился в психиатрической клинике неподалеку от Берна. Там он продолжал писать микрограммы, но сохранились, в основном, те тексты, которые он потом переписывал крупным шрифтом для отправки издателям. В 1933 году Вальзера принудительно перевели в лечебницу Херизау, в его родной кантон. Тогда же из-за прихода к власти национал-социалистов у него снова — как и во время Первой мировой войны — пропала возможность публиковаться в Германии.
В Херизау Вальзера часто навещал швейцарский писатель и меценат Карл Зелиг, позже издавший книгу «Прогулки с Робертом Вальзером» и способствовавший популяризации вальзеровского наследия.
Вальзер, который несмотря на странности в поведении, был признан психически здоровым, неоднократно отказывался покидать Херизау. Ему нравилось в одиночестве совершать длительные прогулки по окрестностям. Во время одной из них, в декабре 1956 года, писатель умер от разрыва сердца.
Перевод выполнен по изданиям «Wenn Schwache sich für stark halten» [Suhrkamp, 1986] и «Tiefur Winter» [Insel, 2007].
Утро
Под утро мне приснилось что-то удивительно прекрасное, но через полчаса я забыл, что именно. Встав с постели, я помнил только, что это была красивая женщина и я поклонялся ей с юношеским благоговением. Сон о цветущей юности подействовал освежающе и возбуждающе. Я быстро оделся, не зажигая света, открыл окно. С еще темной улицы на меня пахнуло зимним холодом. Краски были так отчетливы, так серьезны. Холодный благородный зеленый свет боролся с набирающей силу синевой; на небе собралось множество розовых облаков. Пробуждающийся день, на чьей груди, как серебряный медальон, сиял месяц, казался мне божественно прекрасным. Радостно оживленный и взволнованный чудесным сном и чудесным днем я сбежал вниз на улицу, на свежий воздух. На меня снизошла юношеская жажда жизни, надежда, безграничная вера в себя. Не хотелось ни о чем, ни о чем больше думать, не хотелось выяснять, что так меня взбодрило. Я взбежал на гору и был счастлив. Каким великим чувствуешь себя, когда ты бодр и весел, какое счастье дарит уверенность в себе и каким становишься добрым, когда голова и сердце полны новых упований.
1915
Фиделио
Не знаю, сказал Фиделио, имею ли я право носить свое имя, конечно, я соблюдал верность, но каждый раз, когда наставала пора, подумывал, не взять ли мне другое имя. Впрочем, верность восхитительна; жаль, что ее не всегда можно сохранить. Каждый обязан думать о себе, это все равно что платить по счету. Ты не поверишь, как охотно я бы пожертвовал собой ради той или другой дамы. Но для этого я был слишком умен. Увы, я с детства был расчетлив. Расчеты возникают во мне сами собой; то есть я обладаю врожденным знанием человеческой природы. Я не хочу размышлять, но я мыслитель. Я не слишком осмотрителен, но принимаю во внимание все.
Странно я устроен. По утрам меня посещает множество новых идей, а часто даже совершенно новое мировоззрение. Ну, разве я в этом виноват? Некоторые люди считают меня наивным и потому относятся ко мне как к ребенку, о котором следует заботиться. Я уже в детстве восхищал отца своей живостью: мне нравилась его похвала, нравилось удовольствие, написанное на его лице, когда я ходил перед ним колесом. Но почему наша служанка пригрозила мне однажды словами: «Бога ты не боишься! Опомнись!» Не понимаю, что она имела в виду, ведь я всегда, как говорится, отличался примерным поведением. Возможно, я ошибаюсь на сей счет, но и другим тоже случалось ошибаться.
Между прочим, один учитель заявил мне как-то перед всем классом: «Это переходит всякие границы!» Что он имел в виду? Наверное, погорячился. Сболтнул, не подумав. Впадая в патетику, мы склонны к преувеличениям. Ведь другой учитель пришел в восторг, когда, задав мне вопрос, получил ответ, который считался невозможным. Вот видишь, я вынуждал людей составлять обо мне прямо противоположные мнения. Эта противоречивость была свойственна мне с младых ногтей. Кстати, я обожаю влажное мерцание мостовых большого города, и сам однажды был лошадью. Когда это было? На школьном дворе, где мы, мальчишки, вели настоящие битвы. Ты не представляешь, с каким восторгом я возил на себе своего всадника, малыша, которого бескорыстно любил за его хрупкое сложение.
Когда умер один из моих братьев, я не проронил ни единой слезинки, о чем искренне жалел, потому что мне нравятся глаза с поволокой. Я завидовал моей сестре: она рыдала в три ручья, а я не уставал казниться, считая себя законченным злодеем. Да был ли кто ласковее, послушнее, скромнее, чем я? Разве что по забывчивости или наивности я иногда вел себя непристойно. Смею утверждать, что я добрая душа, а иначе разве стал бы угощать куском яблочного пирога девочку из Армии спасения — единственно потому, что она столь искренне веровала в своего высокого друга Иисуса. И потому что дело происходило на Рождество, и этим подношением я лишь снова одарил сам себя. Ты прости, если я пытаюсь тебя растрогать, или внушить тебе, что со мной можно ужиться. Я всегда был убежден в этом, а между тем другие, к сожалению, распускали обо мне разные слухи.
В девятнадцать лет, по совету одного фотографа, я уехал в Берлин. Вот где я узнал, что такое тоска по родине. Какую сладкую печаль пробуждают во мне проведенные там часы. Маленькая девочка положила руку на плечо плачущему парню и подбодрила его. Давно это было, давным-давно прошла пора, когда я воображал, что мое призвание — терять время на сочинение стихов. Нынче я эгоистичен, хотя нет, не хочу быть слишком строгим к себе. Беру свои слова обратно. Просто я пока что не нашел подходящего повода для преданного служения. Я не задаюсь вопросом, кому я интересен. И не спрашиваю себя, правильный ли путь избрал в жизни. Такие вопросы вредят здоровью. Мое всегда хорошее самочувствие происходит оттого, что я никогда не отказывался от скромного жребия. В этом, по-моему, причина моего счастья. Мне и теперь, как прежде, нечего стыдиться, а если кое-кто мыслит иначе, то меня это не огорчает. Я ведь никогда не имел случая убедиться, что чье-то мнение существенно влияет на мои поступки.
Вчера один человек попытался обрисовать мне мое бедственное положение. Зря он старался, ведь для меня так называемых неудобных положений не существует, мне приятно всякое положение, даже самое неприятное, вынуждающее меня шевелиться, а это для меня счастье. Потому-то я всегда был человеком религиозным, ни единого дня не прожил без веры в себя. Повесишь голову — Богу не понравишься. Бедность никогда не приводила меня в отчаяние. Я каждый день лишний раз убеждаюсь, что нежелательное идет мне на пользу, а возбуждающие средства следует применять с осторожностью. Разве не чувствовал я себя всего сильнее и радостнее, когда не знал, что делать, куда бежать?
С тех пор я узнал это самым доподлинным образом.
Недавно я долго любовался зимним пейзажем, потом делал наблюдения в здании вокзала, затем рассматривал картину Фрагонара в витрине антикварного магазина. На ней очаровательная женщина украдкой подставляет щеку своему пажу, чтобы он юными устами запечатлел на ней поцелуй. Каких только возвышенных вещей не увидишь в ежедневной жизни! А раз жизнь меня любит, я хочу любить ее и сохранять ей верность.
Жан
ЖАН был бы неплохим лакеем, имей он больше терпения. Свои обязанности исполнял он играючи, но к своей профессии относился, в общем-то, правильно. Причина, по которой он стал лакеем, заключалась в том, что чужие дела занимали его больше, чем собственные. Он любил подчиняться, поскольку ему это нравилось. Таков был Жан. В его обязанности входила чистка ковров, для чего он каждый раз выходил на террасу и для начала любовался красивой панорамой. Он был так ловок, что мог позволить себе делать паузы, незаметно для хозяйки. Хозяйка нарочно строила недовольную мину, чтобы приструнить его, так как чувствовала, что он немного дерзок. В глубине души она была очень им довольна. Жан, со своей стороны, ценил ее благосклонность, что, так или иначе, свидетельствовало о его незаурядном уме! О, он был неглуп и не имел обыкновения размышлять подолгу. Одна из двух служанок была стройной брюнеткой, а другая маленькой блондинкой. Жану необычайно нравилось находиться в обществе этих дочерей Евы, и он очень скоро сумел втереться им в доверие. Относилось ли это к его служебным обязанностям? Он предпочитал смотреть на дело именно таким образом. «Будь же немного настойчивее», — поощряли они его. Он не заставлял повторять это дважды, когда такая идея приходила в голову ему самому.
Он уделял некоторое внимание лестнице, то есть с утра пораньше слегка подметал ее. Скрупулезности в работе он предпочитал красивые жесты. Он, разумеется, любил порядок, но отнюдь не склонялся к преувеличению в этом вопросе. Хозяин иногда вызывал у него недовольство. И чтобы изменить подобное отношение, этот последний однажды подарил ему сигары. «Очень мило с вашей стороны», — заметил Жан. Они стояли на улице. Лакей сразу же закурил. Что оставалось делать хозяину при виде такой самоуверенности, как не состроить любезную мину? Как все добродушные люди, Жан был чрезвычайно легкомыслен. Похоже, эта его добродетель встречала понимание у хозяев. Однажды, во время сервировки стола, он обжег себе палец и по праву гордился ожогом. Ему повезло, когда однажды его застала врасплох хозяйка. Лежа на диване, он читал какого-то классика, а она полагала, что он обретается совсем в другом месте. «Как ты дошел до жизни такой?» — прочел он ее безмолвный, так сказать, вопрос. На что он возразил: «У меня врожденное чувство прекрасного. Вот вы застали меня за чтением одной из ваших книг и сами можете убедиться, что ваш слуга — хорошего происхождения. И это никак не может вам не нравиться». Хозяйка расхохоталась, а поскольку она уже давно не смеялась, настроение у нее улучшилось, и Жан понравился ей еще больше. Он обладал незаурядным талантом улавливать ее чувства. Он впускал к ней лишь тех визитеров или посетительниц, относительно коих его инстинкт подсказывал, что они ей приятны. Но не будем слишком уж его приукрашивать. Он любил лакомиться медом и фланировать по улицам. Вышеназванная склонность побудила его оставить службу. «Тебе у меня недурно жилось», — было сказано ему на прощанье. «Я подчиняюсь наитию свыше», — ответствовал он, весьма любезно откланялся и ушел.
Шарль-Альбер Сангрия По поводу животных © Перевод с французского М. Яснов
Знакомство с этим автором никак нельзя начать со слов «Шарль-Альбер Сангрия». Следовало бы, по его же образцу, зайти издалека: рассказать, например, о поросшем травой пустыре, где по осени раскидывал свои шатры цирк, и о внушительных слоновьих кучах, с каждым днем курившихся все гуще и гуще, — как сам Сангрия описывал город Кальвина и Амьеля, свою родную Женеву. «Все, что когда-либо выходило из-под пера Сангрия, звучало свежо, странно, бодряще, изысканно», — говорил о нем Филипп Жакоте. Библиотечной бабочкой — за яркость и эрудицию — называл его Поль Клодель, огоньком святого Эльма — Жан Кокто. Мастер отступления, виртуозно владеющий эпитетом и метафорой, сегодня Шарль-Альбер Сангрия [Charles-AIbert Cingria, 1883–1954] стал классиком швейцарской и французской литературы, пусть и «не поддающимся классификации».
«Константинополец, то есть итало-французский левантиец», как он сам себя аттестовал (в его жилах не было ни капли швейцарской крови: мать — полька французского происхождения, отец — родом турок, уроженец Далмации), Сангрия оставил немало блестящих текстов о Швейцарии, которую изъездил вдоль и поперек на велосипеде: «Лозанна. Впечатления прохожего» [Impressions d’un passant à Lausanne, 1932; рус. перев. 2012], «Цветники Гельвеции» [Florides helvètes, 1944; рус. перев. 2012], «Прогулка в верховьях Роны, или Вечерница и медвежий лук» [Le Parcours du Haut Rhône ou la Julienne et l’ail sauvage, 1944; рус. перев. 2012]. Читатель, которому вздумается прогуляться в компании Сангрия, заметит, что самые яркие его образы связаны с природой.
«Пейзаж уже сам по себе приключение, интрига в мире растительности, интересная до безумия», — утверждал Сангрия. Что уж говорить о мире животном. «На спине каждого барана — особенно это заметно у ягнят — во всей своей очевидности явлен какой-то звездный закон. И не придавать этому внимания, не восторгаться этим сверх всякой меры… — значит отмахнуться от самого главного на пути познания».
Он так и не написал свой бестиарий, хотя собирался. Последующие отрывки — из книги швейцарского издателя, собравшего под одной обложкой все, что Сангрия когда-либо писал о животных.
Среди прочих произведений Сангрия — «Санкт-Галленская цивилизация» [La Civilisation de Saint-Gall, 1929, премия Шиллера], «Альпийские подвески» [Pendeloques alpestres, 1929], «Водоотводный канал» [Le canal exutoire, 1931], «Петрарка» [Pétrarque, 1932, премия Рамбера], «Полено сухое, полено зеленое» [Bois sec, bois vert, 1948].
Перевод выполнен по изданию Propos animaliers [L’Age d’Нотте, 2004].
Кот, пчела
Над крупным гравием дрожит и колеблется воздух, так сухо и жарко.
Улица, которую горбит этот несносный гравий, идет ниоткуда, потому что вокруг — ни плетня, ни ограды. Значит, идет от условного места, где начинаются эти каменья. До них — трава, два-три опустевших улья, потом луга, уходящие вдаль. Они тоже принадлежат им (Жану и его брату). Луга пестрят красными пятнами: это маки, до самых сосен — там, далеко, — которые начинают карабкаться к небу и без передышки лезут все выше и выше.
Вот оттуда-то и приходит большой кот, и надо видеть, как он идет прямо посреди улицы, с осторожностью встряхивая лапами, то одной, то другой, всеми четырьмя поочередно, — из-за этого крупного гравия, обжигающего подушечки.
Все обжигает — скамьи, стулья; столы пахнут мягким зеленым лаком, обжигающим еще долго после того, как приходит тень.
Два часа. Ни малейшего шума, только пчела, совершающая бесконечные раздражающие круги, — раз в пять минут она непременно упирается в вас.
По обочинам улицы растет одуряюще пахучий львиный зев.
Пятнадцать лет! Для юноши возраст мечтаний. Для кота это возраст величественности, возраст лорнета на носу, а еще — раздражительности, особенно для кота такого размера, с таким весом, с шерстью такой роскошной темной пятнистости.
Он уже пришел, улица закончилась, а вот и дом с четырьмя закрытыми ставнями и запертой дверью, чтобы никто не потревожил, потому что все спят.
Вы говорите ему тысячу ласковых слов. Он садится: останавливает на вас взгляд своих старых царственных глаз с металлическим отливом.
Вам бы хотелось взять его на руки. Поносить, подержать — такое животное впечатляет! Вы, конечно, можете это сделать, но он не замурлычет — я знаю, что это такое, этот рокот между скал Замбези или Ниагары, который вам хотелось бы услышать; так вот, он этого не сделает — тем более что вам никогда его не застать врасплох. Видите, где он теперь и как он идет, оборачиваясь, переполненный обидой! В высоких зарослях душистого горошка есть немного тени. Не подремать ли? Возможно, но у него на уме еще кое-что. Он встает на задние лапы, вытягивается во всю свою длину и принимается изо всех сил точить когти о каменную тумбу, так что искры летят.
Это боевое животное, читающее «Освобожденный Иерусалим» в покрытом плесенью издании для котов.
И мы уже сами не знаем, о чем думали и какие у нас были планы.
Уж
Там, под камнем, уж. Под большим плоским серым камнем, который никто никогда не поднимал. Он проникает туда через отверстие, напоминающее дырочку в часах той эпохи, когда часы еще заводили ключом, и чувствует себя там, как дома. Если уровень воды в озере поднимается и волны от парохода слегка его беспокоят — это время от времени происходит, и он примерно знает когда, — уж перебирается повыше, в заросли кустарника, в нишу стены. Он ручной? Не совсем. Было бы досадно, если бы он утратил свою естественную дикость в той жизни, которая ему предназначена; однако его нисколько не смущает, когда порой, по воскресеньям, он становится объектом, скажем так, определенного трогательного внимания — например, в виде поставленной перед его камнем мисочки с молоком. Наблюдающие из замка в бинокль за тем, что произойдет дальше, немного удивлены его медлительностью. Они хотели бы увидеть, как он вылезает и окунает в молоко свою головку, подобно изображениям на переводных картинках или на рисунках в каких-нибудь детских книжках. Так ведь нет, ничего не происходит, то есть все уже устали ждать — миска остается нетронутой. Надо же понимать, что он может отсутствовать, и это совершенно нормально. Он частенько отправляется на прогулку. Или может выбраться из озера и, прежде чем вернуться к себе, с наслаждением высосать содержимое миски, когда никто не будет смотреть.
В замке его обожают и немного боятся, потому что за долгие годы, зимой впадая в спячку, а весной пробуждаясь, он вымахал до метра тридцати в длину. Никто не пытается навредить ему, все предупреждены — новый садовник, сторож на переезде, электрики, гости. Только поезд мог бы перерезать его надвое, но он об этом догадывается и старается обходить железную дорогу стороной. Пожалуй, самую большую опасность представляют воскресные гуляющие — недоумки, лезущие через ограду, несмотря на предупреждающую надпись и немалый штраф, который выпишет судебный пристав, если они попадутся. Не менее опасными для него могут оказаться купальщики, приплывающие сюда с другого берега и полагающие, что этот крохотный, поросший кустарником, пляж, где со стены свисают ветви двух-трех сливовых деревьев, принадлежит всем. Однако на самом деле все происходит наоборот, он опережает их. То есть он уже в озере, и, если вы услышите страшные вопли, не удивляйтесь; кто бы подумал, что он такой шалун. Знаете, что он делает? Дождавшись, когда волны от парохода заставят нескольких пугливых купальщиков встать, чтобы переждать волнение вблизи пляжа, он бросается вперед и проскальзывает у них между ног. У несчастных мгновенно кровь стынет в жилах. И они бегут прочь, воздев к небу длани: живые фигуры с римского барельефа. Достигнув лестницы из старого туфа и взобравшись на мост, они в страхе пересекают железную дорогу, чтобы прихватить оставленную одежду.
Впрочем, даже когда озеро спокойно — я имею в виду, без этих неожиданных искусственных волн, — случается, что, подобно тому, как в Саргассовом море один угорь в любовном порыве бросается к другому, он устремляется к чему-нибудь белому, что покачивается на воде и вовсе не цепенеет в смертном страхе от этого порыва. Напротив. Вот ведь странное явление! Впрочем, как-то неловко впутывать в эту историю кого-то, кто мог бы себя узнать…
А еще можно было бы описать солнце. До чего приятно, когда на живот сыплются обжигающие сливы и все слышней мчится поезд — словно прямо на вас!
Лягушка, стрекоза
Эти заброшенные карьеры превратились в болота, и В. непременно хочет показать мне своих знакомых лягушек (они тоже его знают) — при его приближении они вылезают из воды и произносят настоящие прозопопеи. Кажется, то, что они говорят, имеет смысл или обладающий смыслом ритм.
Мы идем вниз, и тут начинается настоящая трясина. Взгляните на эти камыши, на эти хрупкие скорлупки яиц завирушки — разбросанные по терновнику бледные сколки синего неба. Это единственное в своем роде болото, самопроизвольно появившееся посреди обширной пашни.
Только что на поля моей шляпы шмякнулась большая капля начинающегося дождя. Затем раздался ошеломляющий взрыв хохота какого-то доисторического идола. Потом все вокруг пожелтело, стало оранжевым, лиловым. В. не обращал на это ни малейшего внимания. Он наконец-то нашел нужное место и теперь ждал. Это нужное место представляло собой узкую щель между колючими кустарниками и покрытыми плесенью осколками камня; там находился островок травы, и можно было различить поблескивание плотной ряски, над которой возвышалось растение с роскошным гранатовым цветком — вечерница, или hesperis matronalis. Это растение вовсе не лежало на ряске, оно росло, значит, должно было иметь корни и стебель в траве и земле под водой. Но самым поразительным было то, что оно двигалось, будто кто-то тянул его вниз, а потом отпускал; резко, порывисто — там, в воде, то есть, разумеется, под ней.
Эти движения, противоречащие логике природы, занимали воображение.
— Я уже вижу: сейчас начнется, — едва слышно прошептал В.
А еще, пока мы ждали (довольно долго), произошло вот что: прилетела прекрасная болотная стрекоза и сделала несколько кругов вокруг растения, затем поднялась ввысь и исчезла.
Гром утих, потом снова усилился, одновременно раздавались громкие и слабые звуки: одни — короткие, словно обрывающиеся робкие попытки, сравнительно высоко в небе; другие — сильные, более редкие, почти над нашими головами; но дождя все не было.
— Вот оно, — совсем тихо произнес В.
Дерево (я вынужден сказать «дерево» для обозначения растения) снова задвигалось, еще более странно и заметно, и появилась лапа, которая легла на камень, будто хотела опереться на него. Это то, что мы увидели сначала. Но потом появилось все тело целиком. Довольно полное существо — ну да, вроде купающейся дамы в мокром купальнике — вылезло и устроилось на камне. И тут прежде всего мы увидели вот что — взгляд: самое прекрасное и богатое желтое золото, когда-либо таившееся в тихих недрах земли. Камень служил подмостками; неужто лягушка заговорит? Нет. Сперва ей следовало раздуться, что она и принялась делать, — постепенно, останавливаясь, чтобы перевести дух и накопить воздуху. Наконец она раскрыла рот. Но лишь для того, чтобы поймать какую-то мушку, которую мы даже не разглядели.
Да нет же, она точно заговорит, но не так скоро, как мы думаем. Прежде чем она удостоит нас хоть единым звуком, ее взгляду нужно измениться, перепробовать все оттенки золотого. Первой в ее взоре появилась нежность. Мы увидели, как ее глаза заливает каким-то особым золотом, уже не желтым, а красным, как если бы в мыльных пузырях на кровавом закате отразились влажные окна какого-нибудь города. На кровавом? Именно так, потому что она прерывалась, сердилась сама на себя, испытывала тысячи неуловимых противоречий, и ничего не оставалось, как следить за этим метаболизмом. Что требовало внимания, а главное — немало времени. Хотя времени ради такого дела у нас было предостаточно. Вот чего действительно не хватает, чтобы, как положено, описать все этапы этой метаморфозы, так это памяти. Я лишился ее самым варварским образом. Внезапным, как удар хлыста.
Филипп Жакоте Этот чуть слышный звук © Перевод с французского Б. Дубин
Филипп Жакоте [Philippe Jaccottet; р. 1925] — поэт, прозаик и переводчик, с 1946 г. живет во Франции. Лауреат литературной премии Монтеня [1972], Большой поэтической премии Парижа [1986], Большой национальной премии за перевод [1987], премии Петрарки [1988] и др.
Автор стихотворных сборников «Уроки» [ «Leçons», 1969], «Размышления под облаками» [«Pensées sous les nuages», 1983], «После долгих лет» [«Après beaucoup d’années», 1994], книг прозы «Прогулка под деревьями» [«La promenade sous les arbres», 195 7], «Пейзажи с исчезнувшими фигурами» [«Paysages avec figures absentes», 1970], «Самосев» [«Semaison», 3 mm., 1984, 1996, 2001], сборников статей о литературе «Собеседование муз» [«Lentretiens des Muses», 1968], «Тайное соглашение» [«Une transaction secrète», 1987], биографии Рильке. Переводчик Гомера, Гонгоры, Леопарди, Гёльдерлина, Р. М. Рильке, Т. Манна, Р. Музиля, Дж. Унгаретти, О. Мандельштама, японских поэтов.
На русском языке выходили его книги «В свете зимы» [1996], «Стихи. Проза. Записные книжки» [1998], «Прогулка под деревьями» [2007]. Отдельные произведения печатались в «ИЛ» [1995, № 2; 2002, № 9, 2005, № 12], в литературном альманахе «Мосты» [2004, № 2], в сборнике «Западноевропейская поэзия XX века» [1977].
Перевод выполнен по изданию [«Lencre serait de l’ombre: Notes, proses et poèmes choisis par l’auteur (1946–2008)». Gallimard, 2011].
Заметки об овраге
Половина шестого вечера, а день еще длится. Над вершиной Ванту[20] — венок из тех розовых лепестков, которые в Египте называли «оправданием Осириса», таких красивых на фаюмских портретах в волосах или в пальцах мертвых. Понимаешь, что именно розовой краской, иногда положенной еще и на платье, его легкую ткань, эти портреты, если не говорить о взглядах, сильней всего и трогают. Этот розовый блик, этот розовый стебелек в руках юных умерших.
Вечер украшает этими венками деревья и облака. Перед отплытием в ночь. И что лучше их можно взять отсюда, из всей здешней жизни?
Ланс[21] под первым в этом году снегом: несколько натеков чистейшей белизны в оврагах, вершина в облачной дымке и посыпанные снежной пылью леса внизу. Ощущение холода, но он не пронизывает.
Иссера-зеленое, иссера-желтое, белое.
Снег, который еще почти не снег, распыленный по невидимой стене, замыкающей кругозор, тайное приглашение отправиться туда, вглубь, как будто в далекое детство. Глотнуть свежести в складках этих оврагов. Потереть щеки этими свежими завитками.
И на всех этих глубинах какой-то странный, желто-палевый налет, словно сочащийся отсвет слабой лампы, зажженной среди бела дня.
Скрытая лампа со слабым светом, слабый, окрашивающий все вокруг желтый отсвет, который оживляется рассеянной, распрысканной, распыленной невесомостью снега.
Прошедший под этими деревьями омочил бы рукава снежной пылью, а не слезами, как у поэтов Дальнего Востока, когда они оплакивают разлуку или измену.
* * *
Заснеженная гора, розовеющая под закатным солнцем: огонь, как бы скрытый под пеплом у подножья и пылающий на вершине, — пламя, рвущееся наружу при встрече с небом. А еще это похоже на лунный свет.
Воздушная гора, которая незаметно преображается то ли в ангела, то ли в лебедя.
Именно ей, именно этому светильнику нельзя дать угаснуть у нас за спиной. «Вечный свет» в упокоение умерших, по крайней мере — не меркнущий в нас самих.
* * *
Огонек, зажженный под холодным зеркалом неба: словно дымка на стекле, заверяющая, что жизнь еще теплится.
* * *
Проходя мимо одной из последних ферм, оставшихся в нашей округе, совсем рядом: заброшенный фруктовый садик, ветхие изгороди вдоль дороги, большое ореховое дерево над Шалерном[22], — почему все это кажется мне таким «настоящим», иначе говоря, не подстроенным, неприукрашенным, неподдельным? Эти сточенные, в пятнах, камни, готовые вернуться в землю, откуда их прежде извлекли, эти старые, искореженные, встопорщенные деревья с терпкими плодами — и вода, как обычно, недоступная времени.
* * *
Январский день, чуть пошире открой глаза, пусть твой взгляд продлится еще немного и щеки окрасит розовый цвет, как у влюбленной девушки. Чуть пошире открой свои двери, день, чтобы нам хоть почудился выход. Смилуйся, день.* * *
Сарыч медленными витками поднимается в лучах, уже предвещающих весну. Подрезаю ветки граната, царапающие руки острыми колючками. Спасение ото всех видов абсурда, которые иначе раздавили бы прямо здесь.
* * *
«Ничего не готово…» — слова, уцелевшие от смутного сна, но говорившие, как я понимаю, о том, что я так и не подумал собраться, что по-прежнему двигался, не заглядывая вперед, отделывался словами, вроде этих.
Но тогда что же, собственно, нужно готовить? И не лучше ли пуститься в путь наугад, спотыкаться в полной нереальности, время от времени находя помощь в ненадежных знаках, спасенных памятью, но в любом случае остаться случайной тенью среди теней или все-таки прозреть…
Я замер на этих словах, как лошадь, наткнувшаяся на препятствие и отступающая назад. Потом, вслепую, в полной растерянности, я снова набрел на мысль, что даже самая совершенная музыка, самая горячая молитва, докатившиеся сюда, в этот ледяной свет окончательного приговора, не дойдут до нас с такой силой, как едва слышное движение сердца, так называемого сердца, и что оно будет нам лучшим, скромным, почти невидимым и почти единственным оболом, даже если не укажет, куда идти, поскольку там больше нет никаких направлений.
* * *
Идя вдоль Шалерна: миниатюрные водопады под деревьями, среди камней; всюду фиалки, перепархивание птиц и мягкое тепло мартовского солнца.
Чуть дальше вода отсвечивает, почти стоя на месте, до того слабеет наклон; над ручьем еле заметно шевелятся первые листья. Кое-где гладь поблескивает влажными, свежими искрами, лучистыми крестиками, которые, стань их больше, просто бы ослепили.
* * *
Старик с исхудавшим телом и умом, помутившимся от болезней и скорбей, с лицом, на котором изредка намечается какая-то тень улыбки, ловящий тени воспоминаний и сам уже ставший тенью, сидит у себя в комнате, повернувшись спиной к открытой двери, к миру, весеннему свету, последнему снегу этого года.
Рядом с ним его постоянный, более молодой спутник, пораженный раком, рухнувший навзничь: как будто попавший в аварию на улице или на краю дороги, боксер, оглушенный ударом в висок, который уже почернел.
Воплощенная человеческая нищета, стоит ее коснуться, похожа на зверька, вызывающего отвращение, которое нужно вытерпеть и преодолеть, если сумеешь.
* * *
Пропащие.
Один как будто у себя, но уже не понимает, что вокруг, путает дом с другим, где то ли жил раньше, то ли нет, ощупью передвигается среди предметов, которые тоже то ли есть, то ли нет, и других, существующих только в его расстроенном мозгу.
Другой живет единственной мечтой: вернуться, снова найти свой дом, который, пусть он его даже найдет, уже не будет прежним, и это непоправимо.
Потому что он уже на том пути, который уводит прочь от любого дома.
* * *
Последняя фортепианная соната Шуберта, снова вдруг вспомнившаяся вчера вечером, так что я смог сказать только одно: «Вот». Вот то, что устоит, непонятно как, перед самой страшной бурей, перед засасывающей пустотой, то, что в конце концов только и заслуживает любви: нежный столп огня, ведущий тебя вперед даже в пустыне, которой, кажется, нет ни конца ни края.
* * *
Как это назвать?
Чувствуешь прикосновение такого холода, от которого не спастись круглый год, даже в самый разгар лета.
Слова о леднике были бы слишком красивы. Даже слова о камне звучали бы приукрашиванием.
Это холод, который — в самой сердцевине самого дивного лета — вдруг доходит до сердца.
Как будто его коснулась чья-то рука, слишком холодная, чтобы принадлежать этому миру.
* * *
Слова, полуслова (полушепот ночи) не вырубленные на камне а выписанные на золотых стелах невидимыми птицами слова не для мертвых (кто на такое еще решится?) слова из этого мира и для этого мира.* * *
Неожиданный подарок: дерево под закатным солнцем конца осени; как будто в темнеющей комнате затеплили свечу.
Эти страницы, слова, как будто клонящиеся под ветром, сами позолоченные вечерним солнцем. Даже если их вывела рука в старческих крапинах.
Фиалки, едва поднявшиеся над землей: «всего-то», «и только-то». Как бы милостыня, но без превосходства; как бы подношение, но без обрядности и патетики.
Я наклонился к ним сегодня не с благоговением и не с мольбой, а просто, чтобы их сорвать. Нащупал эту лиловую каплю и даже не уловил ее аромата, который не раз освежал меня столько лет. Но со мной в эту весеннюю минуту словно что-то произошло: удержало от смерти.
Стереть испарину, смахнуть сор, одолев их чистотой дружбы, а лучше — любви. Это еще возможно, иногда. Даже если ты не в силах ничего понять и еще меньше сделать.
Под солнцем ноября, от которого и тени бледней и которое пробегаешь взглядом, уже не щурясь.
* * *
Перила под рукой и зимнее солнце, позолотившее стены холодное солнце, позолотившее запертые комнаты благодарность траве на могилах редким знакам людской доброты и всем разметавшимся розам облаков пушистым головням облаков рассыпавшимся по небу перед приходом ночи* * *
Мучится ли помраченный ум? Наверное, только если осознаёт это. Исхудавший, но еще держащийся на ногах старик, так часто воображающий себя в местах, где его давно нет, и видящий прежние события собственной жизни или придумывающий новые, мучится ли он? Вероятно, нет — пока воображает, что он там. Внутри себя он передвигается куда легче, нежели в реальном пространстве.
А я говорю себе снова и снова, что не нужно терзаться раньше времени, тревожиться из-за того, чего еще нет, каким бы угрожающим и неминуемым оно ни было.
Писать просто для того, «чтобы это напевали». Слова в поддержку — не для того, чтобы поразить, а чтобы помочь, согреть, порадовать, пусть ненадолго.
Слова, чтобы выпрямиться, уж если не можешь «вознестись», как Праведники.
И так до конца: расправив плечи, даже если руки связаны.
* * *
В конце энного по счету бессвязного сна, в котором, насколько помню, вышел из театра, я все дальше уходил от жилых кварталов и видел, как по скверной дороге спускаюсь в какую-то воронку, где не росло ничего, кроме тощих кустов и редких пучков травы между камнями. Я спускался, но был совершенно уверен, что не сумею вернуться назад, и проснулся от ужаса. По форме эта яма напоминала Дантов Ад, но передо мной открывался тот обыденный Ад, откуда и величайшим умам нет надежды вернуться.
* * *
Чуть позднее четырех часов дня: облачного цвета полумесяц за настоящими облаками, а ниже — зимнее вечернее солнце, резкое, как свет театральной рампы, на палой листве, напоминающей гнездо, ясли, полные соломой. Где хотелось бы убаюкать мысли, которые понемногу охватывает холод.
После
Итак:
никакого продвижения, ни малейшего шага вперед, скорее отступление за отступлением, и одни повторы.
Ни одной настоящей мысли. Одни настроения, разновидности настроений, связанных все меньше и меньше; одни осколки, крохи прожитого, видимость мыслей, обломки, вырученные у краха или довершающие крах. Рассыпанные минуты, разрозненные дни, рассыпанные слова, чтобы рука, наконец, прикоснулась к камню, который холоднее холода.
Как бы там ни было, до рассвета далеко.
То, что все-таки нельзя не сказать, потому что это ясно как день. Рука, холодная словно камень.
И стрижи чертят так быстро, так высоко в летнем небе выводят свои знаки, что мертвым их уже не прочесть. А меня, следящего за ними с какой-то радостью, им не вознести до неба.
Ниже, под ними, эти наброски непосвященного. Краткая и бесполезная вспышка, попытки взлететь и долгое падение на камни, долгое отступление.
Отчаяние дезертира — как снег, на котором уже не оставит следа никто живой, никто и никогда. Или плащаница, на которой уже никогда не дано отпечататься ничьему лику, даже ладони.
(И все-таки кто-то пишет на облаках.)
Этот чуть слышный звук…
Чувство, что кончается мир, вне которого мне уже нечем дышать.
* * *
Краски вечера вдруг опрозрачневшие как стекла (или надкрылья) только сегодня вечером и только здесь беззвучный мираж зияющий вход в прозрачную темноту сквозящий витраж, словно водяная кольчужка, тончайшая пленка чистой воды лежит на всем вокруг, на луговинах, изгородях, скалах словно кто-то, кого видишь лишь со спины, любезно приглашает войти в ночь, яснее которой тебе даже не снилось.* * *
Если бы это перо держал сам свет и в словах дышал сам воздух, вот что было бы лучше всего.* * *
Отсвет лампы на стеклах. Стихи, отсвет, который, вопреки судьбе, может быть, не угаснет вместе с нами.
* * *
Цветы шиповника, такие нестойкие, просвеченные насквозь, почти невесомые, за которые отдашь все розарии мира; и при этом слышишь последнюю трель уставшего или разочарованного соловья, похожую на ракету, за которой еще долго тянется огненный след.
* * *
В последнем усилии дотянуться — на золотом фоне — до холодка, пронизавшего листву: она уже напоминает не иконы, а, кажется, что-то другое, чье-то другое лицо или попросту несколько знаков жизни, пускай пожухлой.
* * *
Привет растворенному золоту зимних сумерек, последним листьям, сыплющимся с деревьев, их высвеченным покачивающимся ветвям.Подпирая пространство, кроны к ночи успокаиваются — наконец, понемногу смолкают птицы, укрывшиеся на высоком лавре. Между тем небо светлеет, почти теряя цвет, — разве что у самой земли еще остается немного розоватого; неба уже почти нет, а то, что есть, ничего не заслоняет и ничего не весит — это, в лучшем случае, воздух, который не туманят даже последние проплывающие облака, а далекая гора сама выглядит облаком, только подвешенным, неподвижным. И что напоминает эта звезда, вдруг затеплившаяся на закате? Воздушное украшение для чьего-то невидимого уха, шеи, запястья? Путеводный знак, поднявшийся перед нами из темных глубин времени? Уголек, питающийся каким-то изначальным огнем? Не будем заволакивать его словами, даже самыми чистыми! Сотрем их прямо сейчас. Пусть останется только пчела, опередившая рой сестер.
* * *
Краски вчерашнего вечернего неба под пепельными и снежными облаками, нависшими словно горы: розовый, желтый, зеленый, точнее — почти розовый, чуть желтый и чуть зеленый, словно шелковые ленты, переслоенные самыми тонкими, прозрачными оттенками, нежно сияющими, перед тем как погаснуть во тьме, — цветы, бережно укладываемые рядом друг с другом в невидимую коробку, немой призыв последовать за Флорой, проступившей на горизонте.
* * *
Полная луна над заснеженным Лансом: она такого же «цвета», как снег, и создана из того же вещества, — словно зависшая в воздухе часть снежного покрова. Пятна крови она не смоет, это не удастся даже «всем благовониям Аравии»[23].
* * *
День перестал укорачиваться. Каждый год это помогает вернуться к жизни: как будто добавили чайную ложечку света или, если выразиться более высоким слогом, чуть приподняли давящую плиту.
Или по-другому: как будто поднялся на несколько метров и можешь видеть дорогу немного дальше.
* * *
(Этот чуть слышный звук, еще доходящий до сердца, сердца того, кто уже почти призрак.Этот несмелый шажок в сторону мира, который как будто уходит от тебя, но, скорее, это сердце его покидает, и не по своей воле.
И все же в конце — ни единой жалобы: пусть ничто не заглушает последний гул жизни; пусть ни одна слеза не туманит вид неба, которое дальше и дальше.
Только неприрученные, неустроенные, повторяющиеся слова, которые еще провожают путника, словно древесная тень вдоль ручья.)
Коринна Бий Россия, моя спящая любовь Поэма в прозе © Перевод с французского Н. Шаховская
Коринна Бий [Corinna Bille, 1912–1979] не нуждается в представлении: русскому читателю уже полюбились ее поэтичные сказки и похожие на сказки рассказы, где быль так искусно переплетается с небылью. Имя Коринны неразрывно связано с кантоном Вале, где прошло детство и юность писательницы и куда она, и трех лет не вытерпев в парижской суматохе, однажды перебирается насовсем. Любовью к Вале пронизано все ее творчество. «Я вернусь сюда после смерти», — говорила она.
Поэма в прозе «Россия, моя спящая любовь» — одно из последних произведений Коринны. В России она побывала трижды, в 1974-м и два раза в 1979 году; вернувшись из поездки по маршруту Москва-Хабаровск — это была ее давняя мечта: прокатиться на Транссибирском экспрессе, — Коринна узнает о том, что смертельно больна. Она достает свои путевые наброски и принимается за работу. Сгустки образов, пунктир мыслей, из которых муж Коринны, поэт Морис Шаппаз, составит сборник поэм и коротких рассказов «Русь, Россия!».
Читатель не увидит в поэме картин советской действительности: Россия здесь преломляется сквозь «магический кристалл» творчества. Так, от реки Амур в поэме осталось одно название, восхищавшее Коринну: река Любовь, а сам Амур преображается в струю водопада, клокочущего в Вале, в долине Реши. И так же каскадами низвергаются на читателя образы…
Среди произведений Коринны — книга стихов «Весна» [ «Printemps», 1939], романы «Теода» [ «Théoda», 1944; рус. перев. 2006], «Венерин башмачок» [ «Le sabot de Vénus», 1952], «Гости из Москвы» [ «Les invités de Moscou», 1977], сборники новелл и сказок «Черная земляника» [ «La Fraise noire», 1968; рус. перев. 2012], «Овальный салон» [ «Le Salon ovale», 1976; рус. перев. 2000] и др.
Перевод выполнен по изданию Rus, Russie! [Editions Empreintes, 1995].
I
Я видела, как валились на меня таежные ели, я принимала их на руки, подбрасывала в воздух. Ветер налетел из-за болот, он снес меня на лед, по которому я скользила быстрее телеги.
Реки казались красными, а потусторонний мир был неким чернеющим островом, где не разглядеть ни человека, ни дома. Но я знала, что мне не нужны больше ни дома, ни люди.
Березы очерчивали круг, а я вращалась в его центре, словно ось. О да, господа хорошие. Все вы будете съедены, все переварены. Мир — это маленький камешек в праще. И вам не ведомо, кто его метнет. Вы не знаете, что пала уже звезда Полынь, что мы теперь всего лишь прозрачные летучие семена.
Я-то хотела бы сбежать. Угомона на тебя нет! — говаривала моя бабушка. Если бы не ее благоразумие, какая была бы авантюристка! Ей бы не пони на Елисейских Полях, а малорослых лошадок Урала.
И диадему из александрита, а сквозь пальцы — зеленые лучи.
Мой розарий — заросли шиповника. Мой здешний дворец — хибарка среди ольх. Но я могу петь, могу мечтать. Я никому не завидую, ибо, раз шагнув, перемахиваю семнадцать гор, двадцать четыре потока и пять радуг моей долины.
Тихо-мирно обходя целый мир.
II
Белое-черное, день-ночь, жизнь-смерть. Красавица жужелица — золотая, с зеленым металлическим отливом, в бурую полоску — выпадает из неподвижного неба и прогуливается по мне. Я хочу ее поймать, она слетает. Как слетают хрусталики моей внучки Айки с качнувшейся скамейки. У них в середке цветет листик слюды. О моя беленькая скифочка с бледными волосами!
Никогда еще река Любовь не рушилась такими мощными каскадами. Они перескакивают через деревья, развеиваются в небе, оседая пылью на ольхах. Прислушаться к этому потоку — значит отрешиться от себя. Сегодня душа моя разбивается вдребезги. Кто побеспокоится о ее разлетевшихся частицах, сверкающих, словно капельки? Кто подставит ладони, чтоб собрать в горсть эту ключевую воду?
Вот букашка, столь редкостная, что впору поместить ее в музей под стекло. «Рассматривать в лупу». Но ее бирюзового цвета, скорее зеленого, чем синего, хватило бы, чтоб окрасить целый луг, куда приходят пастись серны. Ибо я больше не пастушка ни телкам, ни овцам. Моя скотинка — козел-вожак и дикая коза, чья нога ступает тверже, чем раздвоенное копыто дьявола.
III
Сумерки нисходят мне на живот и на пятна снега, еще держащиеся в горах. Непроходимые леса теперь не более чем темный мох на скалах. Моя тяга к перемене мест спит. Я тону в альпийских озерцах, на которых не тает лед, и в ручьях осклизлых камней, где тритон в брачной поре краснеет досиня, синеет докрасна.
А это всем ночам ночь, ночь такая белая, что впору принять ее за рассвет. Осина, береза, лиственница… этот нетронутый воздух, мелодия шалфея и мяты в оживших в памяти часах. В этом счастье, в этой боли пережитой любви.
То было огромное озеро, обрамленное неумолимыми скалами. Вода ледяная. Где мы были, на каком высокогорном плато? В какой стране? Ни одной лодки, ни одного плота. Ни следа туристической ли, семейной ли стоянки: какие тут отпуска, какие каникулы? «Странно, странно…» Задрав голову, я вижу добрую сотню пещер довольно правильной формы, но расположенных на разных уровнях.
Никакого леса. Одни отвесные скальные стены, отбрасывающие горькую тень, продырявленные новыми, еще большими пещерами.
IV
Я ухожу далеко-далеко в какие-то страны, где, чудится мне, я некогда бывала. Я узнаю их, а сама знаю, что никогда их не видела.
Ночной запах: я вдыхаю его сквозь бузинник. Я возвращаю на место звезды. Ночь над вершинами сливается с ночью долин.
Сегодня в воздухе какой-то переполох — не ждать ли с неба перепелов[24]? Слышишь, дети кричат?
— В глубинах воздуха только великий покой, — говоришь ты.
А воинства хищных зверей? Тревога лугов, где не косят и не пасут? А все, кто ушел и кто еще уйдет? Мы останемся одни, совсем одни с костерком из сосновых веток и крынкой молока. Ночь без звезд похоронит нас, снег без солнца покроет.
V
Толстый шмель залетел ко мне в комнату и тут же вылетел. Погода пасмурная, я читаю пасмурные рассказы Чехова. Шмель опять прижужжал, черный и золотой, заглядывает мне в ноздри, улетает. О, качаться бы, как он, туда-сюда в безучастном пространстве!
«Калинка, малинка, лазоревый цветок», — напевают ребятишки в России. Я читаю книгу, непролазную, как заросли ольхи[25], где бурые с белыми прочерками птички все пытаются выговорить:
Во городе во Казани Полтораста рублей сани, Девка ходит по крыльцу, Платком машет молодцу.IV
Меня настораживает вон тот болотистый луг. Он мечен кружком более темной травы. Луг давно запущен, оставлен на произвол ветров, жгучей крапивы, любистека, змей. Откуда этот круг? Уж не кольцо ли фей?
«Котелок-босоножку»[26] я не встречала, но, может быть, он и пляшет в том магическом круге. Я-то свой котелок (тоже очень черный) пристраиваю на железную треногу в углу очага. А теперь — ну-ка хворостинок, ну-ка бересты, ну-ка спичку! Как красиво языки пламени лижут его бока, а те бормочут под крышкой. Да уж, вспомнится дым и супу, и чаю!
Никогда не видала я таких крупных цветов шиповника, таких длинных плетей спорыша, никогда не видала, чтобы серны паслись так спокойно, чтобы сойки чертили зигзаги так низко. А сернисто-желтые трутовики в лесу? А вертишейка, а юркая белка?
Ах! — думаю я про себя, надо же было мне так долго спать, так ненасытно пропускать через себя моря, степи, грозовые небеса, чтобы заново все это оценить. Мне казалось, я все забыла, мне казалось, сердце мое омертвело, уши оглохли — а вот я восприимчивей, чем стеклянная пластинка фотографа 1900-x.
VII
Моя перина — вот эта поляна, где потягивается рысь. Левой рукой я поднимаю еловую чашу, в которой трепещет свеча. Ее огонек согревает нас и плавит снег. Меня томит жажда! Мне хочется пить пламя. Если смотреть слишком близко, оно двоится. Воск начинает стекать наподобие сосульки. Моя кровать очень старинная, с резными спинками, работы кого-то из чад аббатства Санкт-Галлен.
Первое солнце вскользь касается горы, карликовые ивы глотают росу, распушаются мхи, каждое дерево любуется своей тенью — я жду в этой тени.
…но оно продолжает разрывать лесистый склон. Я уже вижу, как объявляется орел, как начинает обтаивать скала.
Мелодии разворачивают вокруг меня свои живые изгороди и свои ароматы. Они переплетаются между собой, борются, выходят из берегов. Игры барабанов и ножей. Наконец они становятся ручьями, реками, вбирают меня, крутят. Я плаваю в этой легкой-легкой воде. А оттуда взлетаю в небо, как воздушный змей с хвостом разноцветных нот. Ветер, такой сильный, рывками возносит меня все выше, жизнь, которая меня еще держит, вот-вот оборвется. Прощайте!
Я была в самой середине неопалимой купины, я сама была этой купиной. Какая радость — смотреть на листву-пламя, не понимая, что это — я. Эти воздетые язычки огня, совсем по-весеннему зеленые, — мои руки! Эти корни, вспарывающие землю в поисках воды, — мои ноги! Мои глаза с виду еще человеческие, но не принимают ли они уже форму листьев? А взгляд?
VIII
«Воробьиная ночь», — говорят русские про грозовую ночь, ночь шума и ярости.
Мою воробьиную ночь не озаряли молнии, не хлестал дождь. Стояла тишина. Я не спала, и мне было страшно одной, затерянной так высоко в горах. И то, что рядом на кровати спала кошка, не успокаивало меня, ибо я была жалким воробышком.
А сейчас туман. Который поднимается из глубоких долин, клубится, переполняя лог, завивается вокруг моей избы. Он накатывает, подкатывает — вот уже по шею. Но в пальцах у меня альпийская астра нежно-розового свечения. Я не обрываю с нее лепестки. Любовь ушла. Я жду в небесных фумаролах, чтобы меня застигли здесь снежные хлопья, чтобы застыла летящая с обрыва речка и чтоб я стала такой же немой, как она.
А сейчас идет снег, и красная бузина сама на себя наваливается. И высокие бледные травы сгибаются до земли. Куда ни глянь, кругом сплошные преклонения!
Кошка и ее ребенок находят себе убежище в самом темном углу моей постели. Малыш в своей шубке, отсыревшей на холоде, уставился на меня.
Косули и серны прячутся в нашем лесу, нам не собраться вместе. Вскоре ветры небесные, исшедшие из уст Творца, скрутят в клубок тонкие побеги на березах. Вот откуда «вихоревы гнезда»[27], дарованные людям, чтоб не боялись любить.
IX
Животворящая молния больше не пробудит мертвых, синяя ежевика не даст больше плодов. Моя спящая любовь так и пребудет спящей, ибо при конце света, как писал святой Ефрем, люди побегут в пустыни и будут укрываться в пещерах и пропастях земных.
И владыкой мира будет Велик Гром Гремучий[28].
Толпа на улицах Москвы. По случаю какого-то карнавала — красного или оранжевого. Где-то там, вдалеке, я вижу мою любовь. Сколько же лет назад уснувшую? Она посылает мне воздушный поцелуй, который крестом опадает мне на лоб, на сердце, на плечи. Аминь. Сани уносят меня.
Теперь уже не время слушать тринадцать песен курского соловья или журчание источников в железистых грязях. Паралитики, прикованные к постели, увидят простершуюся вокруг них белую пустыню.
Исхудалые пальцы выскользнут из обручальных колец, и расползется ткань свадебной ленты. Но горный хребет одевается зеркалами, и наши лица запечатлены в них.
X
Золото счастливых дней не пропало, пусть даже оно невидимо в песке. Всегда будет заниматься заря над неведомой страной, вновь зазеленеют опаленные леса. Недалеко то время, когда животные вернутся к первозданной дикости. У рыси на острие уха — черный нимб.
Медведи, волки, гигантский ятрышник, пахнущий козлом, медно-бурые гадюки, купоросного цвета лягушки, умирающая туча — вы снова будете царями и царицами.
В моем саду не цветут больше царственные астры, зато есть ромашки, крупные, как головки детей. Детей, которые теперь далеко. Я склоняюсь над этими личиками из пестиков и лепестков — я никогда их не срываю. И больше не допытываюсь у них: «Любит? Не любит?»
Поставь на окно стакан воды, чтоб я могла омыть в ней душу, и пусть качнется кадило в сторону высокого-высокого солнца. Тогда взлетит к нему жаворонок, и малиновка запоет.
XI
Икона какой здешней Богоматери пойдет как-нибудь однажды странствовать в наших туманах? Пойдет своим путем, рыжая, голубая, золотая, поверх наших речек? И остановится — а где?
Под гнетом ночи в телах наших вызревают сны. Но я терпеливо жду в двух шагах от зари. Недвижный час. Из темноты выходит стадо северных оленей — пришли попастись на нашей лужайке.
Далеко-далеко из-за гор поднимается свечение, розовое и серое, цвета лишайника.
XII
И снова огромное голое небо, прозрачный рог луны и тысячи деревьев, тянущихся к нему. Сомнения нет, мы — в этом мире, в долине Реши. Я ем синий виноград с привкусом черной смородины. Пью вино, которое теряет свою терпкость в высокогорных погребах. На вереске тает снег, белой изморози как не бывало. Богородица староверов[29] — надумает ли Она долететь до этих мест?
Мать Сырая Земля стряхивает росу. Полянки с кольцами фей раскрывают навстречу солнцу свои желтые вагины. Курятся бревна изб, розовеют комнаты со стенами соснового дерева.
Пойду сорву последний василек и последнюю гвоздику, поставлю на стол возлюбленному.
Петер Штамм Перевод с немецкого Н. Федорова
Петер Штамм [Peter Stamm] родился в 1967 году в Шерцингене, кантон Тургау. Окончив школу, Штамм получил экономическое образование и одно время работал бухгалтером. Позднее он изучал психологию и психопатологию, работал в различных психиатрических лечебницах. Первые литературные опыты Штамма не пользовались успехом у издателей. Его четвертый по счету роман, «Агнес», вышел в свет лишь в 1998 году [ «Agnes»; рус. перев. 2004], зато сразу стал широко обсуждаемым событием. За ним последовали сборники рассказов «Гололед» [ «Blitzeis», 1999], «В незнакомых садах» [ «In fremden Garten», 2003; рус. перев. 2006], «Летаем» [ «Wirfliegen», 2008], «Зерюккен» [ «Seerücken», 2011], романы «Расплывчатый пейзаж» [ «Underfähre Landschaft», 2001], «Не сегодня — завтра» [ «Am einem Tag Wie diesem», 2006; рус. перев. 2008], «Семь лет» [ «Sieben Jahre», 2009] и «Ночь — это день» [ «Nacht ist der Tag», 2013]. Стиль Штамма характеризуется обманчивой простотой и недосказанностью. В его книгах почти ничего не происходит, но вместе с тем писателю удается показать характеры своих героев, их богатый внутренний мир. Сейчас Штамм — один из наиболее известных швейцарских писателей. В прошлом году он вошел в шорт-лист международной Букеровской премии.
Перевод «Sommergäste» выполнен по изданию «Seerücken» [S. Fischer Verlag, 2011].
Дачники
Вы приедете один? — еще раз спросила моя телефонная собеседница. Имя ее я не разобрал, акцент определить не смог. Да, ответил я. Я ищу место, где можно спокойно поработать. Она посмеялась, чересчур долго, потом спросила, что у меня за работа. Пишу, сказал я. Что же вы пишете? Работу о Максиме Горьком. Я славист. Ее любопытство меня раздражало. Вот как… — сказала она. Секунду помедлила, словно не была уверена, интересна ли ей эта тема. И наконец решилась: Ладно, приезжайте. Дорогу знаете?
В январе я участвовал в конференции, посвященной женским персонажам в пьесах Горького. Мой доклад о «Дачниках» планировалось опубликовать в сборнике, но в суете университетских будней руки не доходили переработать текст и подготовить к печати. Для этого я зарезервировал свободную неделю перед Вознесением и искал место, где никто и ничто до меня не доберется, не отвлечет от работы. Курортную гостиницу порекомендовал мне коллега. Ребенком он не раз проводил там летние каникулы. Хозяин ее давно обанкротился, но коллега слышал, будто несколько лет назад гостиницу вновь открыли. Если ищешь место, где ничего не происходит, поезжай туда, в горы, наверняка не прогадаешь. В детстве я этот курорт ненавидел.
Автобусы ходили к гостинице только летом. Та женщина, не называя причин, сказала по телефону, что встретить меня, увы, не сможет, но от ближайшей деревни можно дойти пешком, это недалеко, максимум час ходу.
По узкому серпантину автобус карабкался вверх по горным террасам. Пассажиров было мало, и на конечной остановке, кроме меня, вышли лишь двое-трое школьников, тотчас затерявшиеся между домами. Из одежды я взял с собой только самое необходимое, но из-за книг и ноутбука рюкзак оказался увесистым — килограммов двадцать. Что вы там везете? — спросил шофер автобуса, помогая мне вытащить рюкзак из багажного отделения. Бумагу, ответил я, а он смерил меня недоверчивым взглядом.
Возле почты стояли дорожные указатели, отсылающие в разных направлениях. Я пошел по улочке, затем по тропе, которая вела вверх по крутому лугу, а дальше сбегала вниз, в узкое лесистое ущелье. На опушке росли лиственницы и одинокие ясени, в глубине — красные ели. Повсюду бурелом, засохшие остовы елей, под которыми еще виднелись последние остатки снега. Почва была сырая, ноги глубоко увязали в черной земле. Незримая паутина то и дело липла к лицу и рукам. Следов других путников я не заметил — наверно, был первым в этом году.
Через некоторое время я вдруг сообразил, что уже довольно давно не видел никаких дорожных знаков, а вскоре тропа вообще затерялась среди деревьев. Поворачивать обратно мне не хотелось, и я продолжил путь вниз по склону, который становился все круче. Кое-где приходилось хвататься за сучья или корни, один раз я не устоял на ногах и, поскользнувшись, проехал несколько метров, да еще и брюки порвал. Плеск речушки внизу становился все громче, а когда я наконец добрался до ее берега, отыскалась и дорога. Бурный поток мчал свои серые воды в широком русле из светлых скал и осыпей, среди темного лесистого ландшафта оно казалось открытой раной. Идти стало легче, и примерно через полчаса я вышел к небольшому деревянному мосту. Опоры подмыты, а сам мост наискось перегородило вывернутое с корнями дерево. Оно сорвало перила, и своей тяжестью проломило несколько досок настила. Я осторожно перелез через него. На другой стороне ущелья дорога забирала круто вверх, и я вспотел, хотя в лесу было прохладно.
Я шел уже без малого два часа, когда за деревьями завиднелась гостиница. А пятью минутами позже очутился перед огромным зданием в стиле модерн. Дно долины успело утонуть в тени, но дом, стоявший на возвышенном месте, сиял белизной в лучах вечернего солнца. Все окна, кроме одного в нижнем этаже, закрыты ставнями, кругом ни души, слышен только плеск речушки. Парадная дверь была открыта, и я вошел. В холле царил полумрак. Сквозь цветные стекла внутренней двери на истертый персидский ковер, застилавший каменный пол, падали полосы солнечного света. Мебель накрыта белыми полотнищами.
Есть кто-нибудь? — негромко спросил я. Никто не откликнулся, и я толкнул дверь, над которой старомодным шрифтом было написано: Столовая. За дверью обнаружилось просторное помещение с тремя десятками деревянных столиков и перевернутыми стульями на них. Освещен только один, в дальнем углу. Там сидела молодая женщина. Есть кто-нибудь? — окликнул я чуть погромче, и направился к ней. Она тотчас встала, пошла мне навстречу и, протянув руку, сказала: Добро пожаловать, я — Ана, мы с вами говорили по телефону.
Судя по всему, моя ровесница. Одета как официантка — черная юбка, белая блузка. Блестящие черные волосы до плеч. Я спросил, не закрыта ли гостиница. Уже нет, улыбнулась она. На столике стояла тарелка с недоеденными равиоли. Минутку, сказала женщина. Села за столик доедать свой ужин. Уплетала быстро, как будто бы нисколько не смущаясь, что я смотрю на нее. У меня с обеда маковой росинки во рту не было, и вообще-то я проголодался, но сперва хотел занять номер, принять душ и переодеться. Я сел напротив нее, она запоздалым жестом предложила мне стул и сказала: Расскажите про свою работу. Я еще раз объяснил, зачем приехал. Она вытерла салфеткой губы, спросила: А почему вас это интересует? Я пожал плечами и ответил, что меня приглашали на конференцию. Гендерные штудии нынче в моде. Но почему всегда женщины? — спросила она. Не знаю, сказал я. Мужчины не так интересны. Глотком вина она запила последний кусочек. Сейчас покажу вам комнату.
В холле она зашла за стойку, порылась в ящиках. Немного погодя придвинула ко мне книгу регистрации, попросила заполнить формуляр. Я заполнил. Потом хотел полистать назад, прочесть последние записи, но Ана забрала у меня книгу, спрятала в ящик. Вас не затруднит уплатить вперед, прямо сейчас? Я сказал: Конечно-конечно. Семь дней, полный пансион, подсчитывала она, это будет четыреста двадцать франков включая курортный сбор. Взяла купюры и сказала, что сдачу даст позже. И счет, попросил я. Она кивнула, вышла из-за стойки и быстро зашагала вверх по широкой каменной лестнице. Только теперь я обратил внимание, что она босиком. Подхватил рюкзак и пошел следом.
Она ждала на втором этаже, в начале длинного сумрачного коридора. У вас есть особые пожелания? — спросила она. Когда я ответил отрицательно, она отворила первую же дверь и сказала: В таком случае занимайте этот номер. Я вошел в комнату, довольно маленькую и скудно обставленную: кроме незастланной кровати, стола и стула, там был комод, на котором стояли старый фарфоровый тазик и кувшин с водой. Стены беленые, пустые, если не считать распятия над кроватью. Я подошел к стеклянной двери, ведущей на крохотный балкончик. Туда лучше не ходить, послышался из коридора голос Аны. Я спросил, где ночует она сама. А зачем вам это знать? Просто так. Она сердито посмотрела на меня и сказала, что, хотя она здесь и одна, это отнюдь не означает, что я могу позволять себе вольности. Я ничего дурного в виду не имел и с удивлением воззрился на нее. Спросил, когда мне можно поесть. Она состроила напряженно-задумчивую мину, потом сказала, чтобы я спустился вниз, как только размещусь. Засим она исчезла, а немного погодя вновь появилась в дверях и, не говоря ни слова, бросила на стол рядом со мной постельное белье и полотенце.
Ванна и туалеты были в конце коридора. Я разделся и стал под душ, но, отвернув кран, услышал лишь тихое хрипенье. Слив в туалете тоже не работал. В нижнем белье я вернулся к себе в комнату, вымылся водой из кувшина, надел чистое. Потом спустился вниз, но Аны нигде не нашел. Напротив столовой располагалось помещение поменьше, надпись над дверью сообщала, что это дамский салон. Там стояли несколько кресел, опять же укрытых, и большой бильярдный стол. На зеленом сукне лежали один красный шар и два белых, к столу был прислонен кий, будто кто-то вот только что играл здесь на бильярде. Соседнее помещение, обозначенное как fumoir, то бишь курительная, по-видимому, служило также библиотекой. Книги в большинстве старые, пыльные, и авторов этих мне читать не доводилось. Классиков совсем немного — Достоевский, Стендаль, Ремарк. Вдобавок несколько зачитанных до дыр американских бестселлеров.
Я вернулся в холл и оттуда прошел в бальный зал, самое большое помещение, где, кроме скатанного в рулон ковра, ничего не было. С потолка, опирающегося на колонны из фальшивого мрамора, свисала старинная латунная люстра. Во всех комнатах весьма холодновато, и света сквозь закрытые ставни проникало мало. На кухне, расположенной в полуподвале, было еще темнее. Там стояла огромная чугунная плита, явно дровяная, а на серванте громоздились десятки грязных винных бокалов и горы немытых тарелок, словно после недавнего банкета. Я снова поднялся на первый этаж, вышел на улицу.
Меж тем тени старых елей, на некотором отдалении окружавших гостиницу, стали длиннее, дотягивались уже до белых стен. Я обошел вокруг здания. С одного боку обнаружилась засыпанная гравием площадочка, где стояли несколько железных столиков, складные стулья и шезлонги. Только подойдя ближе, я увидел Ану. Сел рядом и спросил, не наслаждается ли она последними лучами солнца. Зима выдалась долгая, сказала она, не открывая глаз. Я рассматривал ее. Необычно широкие брови, довольно крупный нос. Узкие губы придавали лицу некоторую суровость. Она поджала ноги, и юбка слегка задралась. Верхние пуговки блузки были расстегнуты. Я не мог отделаться от ощущения, что все это ради меня. Тут она открыла глаза, провела ладонью по лбу, словно стирая мои взгляды. Я кашлянул и сообщил, что душ не работает. Разве я вас не предупредила? И слив в туалете тоже. Придется импровизировать, сказала она с приветливой улыбкой, снега нет, и то хорошо. Когда здесь начинается сезон? — спросил я. Она ответила, что это зависит от многих вещей. Минуту-другую мы оба молчали, потом она поднялась, одернула юбку, застегнула пуговки и сказала: Вы же вроде хотели спокойно поработать? Насчет этого у меня возникли кой-какие сомнения, ответил я, а когда она досадливо посмотрела на меня, добавил, что очень не прочь закусить. Ужин в семь, сказала она, встала и ушла.
Я вернулся в номер, пытался работать. Голод отвлекал меня, и я вышел на балкон выкурить сигаретку. Тут мне вспомнилось, что Ана не советовала пользоваться балконом. Впрочем, выглядел он вполне устойчивым, только железная ограда была изъедена ржавчиной и кое-где попросту в дырах. Прямо подо мной было ущелье, я слышал плеск речушки. Обернувшись, я снова увидел Ану в шезлонге на гравийной площадке.
Ровно в семь я спустился в холл. Вскоре с улицы вошла Ана. Ах, сказала она, идемте. Впереди меня она прошагала на кухню, зажгла керосиновую лампу и провела меня в маленькую кладовку, где стояли картонные коробки с консервами. Равиоли? — спросила она. А ничего другого нет? Ана быстро повернулась кругом, словно хотела взглянуть, что еще есть, потом наизусть перечислила: Яблочный мусс, зеленая фасоль, горошек с морковью, тунец, артишоки, кукуруза. Я выбрал равиоли. Она взяла с полки банку, сунула мне в руки. На кухне показала, где брать посуду и приборы, дала консервный нож. Не потеряйте, он нам еще пригодится. А где бы разогреть равиоли? Она наморщила лоб и сказала: Мне что же, ради одной банки растапливать плиту? Вдобавок она, мол, не знает, как это делается. Я попросил вина. Она исчезла, а через минуту-другую вернулась с бутылкой итальянского, которую поставила передо мной. Вино оплачивается отдельно, сказала она, приятного аппетита, я наверху.
Лампу она забирать не стала, твердым шагом ушла в темноту. Я вывалил холодные равиоли на тарелку, поднялся в столовую. На вкус еда была отвратительная, но голод я кое-как утолил. Пустую тарелку отнес на кухню и приобщил к горам грязной посуды. Наверно, лучше бы сразу уехать отсюда, думал я, да только час уже слишком поздний. Поэтому я с ноутбуком и бутылкой вина расположился в библиотеке, намереваясь поработать. Розетку я нашел, однако электричества не было. И свет тоже не горел. К счастью, аккумулятор ноутбука был полностью заряжен. Я перечитал свой доклад и быстро заметил, что работы с ним предстоит меньше, чем я думал. Попробовал сосредоточиться на тексте, но из-за долгого странствия, выпитого вина и непривычной высоты навалилась усталость, и я то и дело клевал носом. В десять я в кромешной тьме пробрался по гостинице к себе наверх и лег в постель, Ану я по дороге не встретил.
Следующим утром я застал ее в столовой, с тарелкой яблочного мусса. Угощайтесь, сказала она, кивнув на большую банку, стоявшую на столе. Я сказал, что действующей розетки для ноутбука не нашел и что света тоже нет, может, с предохранителями что-то не в порядке? У нас отключено электричество, ответила Ана, будто это совершенно естественно. Я еще не дозавтракал, а она встала и вышла из столовой. Немного погодя я увидел, как она с полотенцем и рулоном туалетной бумаги в руках исчезла среди деревьев.
Аккумулятор ноутбука разрядился, а поскольку распечатку я с собой не захватил, то сделать мог немного. Почитал «Дачников» и письма Горького, кое-что выписал, хоть и не видел в этом смысла. Лучше всего уехать прямо сейчас. Но вместо того чтобы собрать рюкзак, я пошел в дамский салон и стал играть в бильярд. В полдень в столовой был накрыт стол на двоих. Как только я сел, пришла Ала с банкой равиоли. Подержала ее на солнце, чтобы немножко согреть, сказала она. Еда была не горячее, чем вчера. Не нравится? — спросила Ана.
Я сказал, что без электричества работать не могу. Она посмотрела на меня как на слабака, потом сказала: Наверняка вы найдете чем заняться. Через две недели мне надо представить готовый текст, сказал я. А зачем вообще пишутся такие вещи, сказала она, кому это интересно? Дело не в этом. Мне назначили срок, и я должен его соблюсти. Она насмешливо улыбнулась: Вам ведь вовсе не хочется уезжать. Ана была права. Я хотел остаться здесь, сам не знаю почему, может, из-за нее. Не обольщайтесь, сказала она, словно прочитав мои мысли.
Погода в последующие дни стояла хорошая, я часто лежал на воздухе в шезлонге и дремал. Много читал, играл в бильярд или раскладывал пасьянсы. Ана все время находилась неподалеку, но, если я спрашивал, не хочет ли она сыграть со мной в карты или в карамболь, качала головой и исчезала. Когда я приходил в библиотеку, она уже сидела там, смотрела в окно. Я брал с полки книгу, начинал читать. Если какое-то место мне нравилось, я зачитывал его вслух, но Ана, казалось, не слушала.
Кувшин у меня в комнате опустел, и я, по примеру Аны, каждое утро умывался у речки. Дожидался в столовой, когда она вернется, и шел туда сам. Отыскал хорошее местечко, где берег был ровный и вода текла спокойно. На мягкой земле обнаружились следы босых ног, и я решил, что Ана тоже приходила на это место. Когда я окунал голову в ледяную воду, мне казалось, будто она сейчас взорвется, однако затем я все утро чувствовал себя бодрым и свежим. Только шум речки мало-помалу стал действовать мне на нервы. Никуда от него не спрячешься, даже в глубине дома слышно, хотя и тихонько. Невольно я все время думал об Ане, целыми днями мы безостановочно кружили друг возле друга, и зачастую я недоумевал, кто из нас кого преследует.
Она не убиралась и не стряпала, даже постель я застилал сам. Единственное, что она делала, это открывала банки и накрывала на стол. Как-то раз я невзначай обронил, что получаю за свои деньги не очень-то много. Ана помрачнела. И сказала, что лучше бы мне поразмыслить о том, как я представляю себе женский образ, а не о том, каким его видел Максим Горький. Это здесь совершенно ни при чем, сказал я, но от гостиницы позволительно ожидать хотя бы электричества и водопровода. Вы получаете куда больше, отрезала Ана. Я не понял, что она имела в виду, но остерегся еще раз затрагивать эту тему.
Я пробовал представить себе, как все будет, когда летом сюда съедутся отдыхающие, когда в столовой будет полно народу, кто-нибудь сядет за рояль, дети станут носиться по коридорам, — но, увы, пробовал безуспешно.
Штабеля грязной посуды на кухне продолжали расти. Как-то раз я пересчитал тарелки. Если Ана каждый день использовала три штуки, то, вероятно, провела тут всю зиму. Я спросил у нее, кем она здесь работает — экономкой? Если угодно, ответила она. Я ей не поверил, но мне давно стало безразлично, почему она здесь.
В обед мы ели тунца и артишоки, вечером разжигали на улице костер и на камне разогревали банку равиоли. Солнце рано уходило из долины, быстро становилось свежо, тем не менее мы каждый вечер подолгу сидели у костра и пили вино. За целый день мы едва перекидывались одним-двумя словами, да и теперь Ана оставалась не слишком разговорчивой, но, по крайней мере, она меня слушала. Говорить о себе мне не хотелось, я не желал думать о своей жизни дома, который казался таким далеким и маловажным. Вот и начал пересказывать ей «Дачников». Персонажей она воспринимала прямо как живых людей, сердилась на вечно жалующуюся Ольгу, а инженера Суслова называла свиньей. Варвару и ее увлечение писателем Шалимовым она толком не понимала. Ну как можно поверить такому человеку, возмущенно говорила она, какой из него соблазнитель. А как должен действовать настоящий соблазнитель? — полюбопытствовал я. Ему надо быть честным перед любимой, а главное — перед самим собой, ответила Ана, неодобрительно качая головой. Больше всех ей понравилась Марья Львовна. Ее монолог из четвертого действия я знал почти наизусть и, по просьбе Аны, повторил его несколько раз. «Мы — дачники в нашей стране… какие-то приезжие люди. Мы суетимся, ищем в жизни удобных мест… мы ничего не делаем и отвратительно много говорим». Да, сказала Ана, нам всем нужно стать другими. «Для себя… для того чтобы не чувствовать проклятого одиночества…» — продолжал я. Ана недоверчиво посмотрела на меня и сказала, что мне незачем делать ложные выводы. Вы бы прекрасно вписались в пьесу, заметил я. В одном из писем Горький писал, что все женщины у него — мужененавистницы, а мужчины — мерзавцы. Тогда и вы прекрасно вписываетесь в пьесу, сказала Ана. Я взглянул на нее, но трепетный свет костра не позволял рассмотреть выражения ее лица.
Где Ана ночует, я так и не выяснил. Когда поздно вечером мы шли к дому, каждый со своей лампой, она посылала меня вперед, а она, мол, догонит. Однажды я ждал в коридоре у своего номера. Погасил лампу и долго вслушивался в темноту, но не услышал ни звука и в конце концов лег спать.
В полудреме я представил себе, как Ана входит в мою комнату. Среди ночи проснулся и увидел в слабом свете луны ее силуэт. Она разделась, откинула одеяло и села на меня. Все происходило совершенно беззвучно, только сквозь тонкие стекла слышался далекий шум речки. Ана обращалась со мной грубо — как с вещью, необходимой для вполне определенной цели, но в остальном совершенно безразличной. Утолив свой голод, она ушла, мы не сказали друг другу ни слова.
Утром, когда я вошел в столовую, Ана, как всегда, уже сидела за столом и завтракала. Не долго думая, я, прежде чем сесть, быстро погладил ее по волосам. Она вздрогнула и втянула голову в плечи. Я попытался завести разговор, но Ана не отвечала, мрачно смотрела на меня, будто знала, что мне снилось этой ночью. Как всегда, она заглотала еду и вышла из-за стола, как только опустошила тарелку.
После завтрака я полистал в библиотеке кой-какие альбомы, потом перебрался в дамский салон, поиграл в бильярд. Ана не появлялась и обедать тоже не пришла. Я перекусил на кухне, вернулся в библиотеку и стал читать один из американских детективов. Под вечер я услышал, как к гостинице подъехал автомобиль. Выглянув из окна, увидел у входа старенький «вольво», из которого вышли двое мужчин. Может, убраться отсюда? — подумал я, но потом все же остался в библиотеке, продолжил чтение. Примерно часом позже, когда я, заскучав, отложил детектив, дверь открылась и вошли те двое мужчин. Оба недоуменно воззрились на меня, и один, не отвечая на мое «здравствуйте», спросил, что я здесь делаю. Читаю, сказал я. Но как вы вошли в дом? — продолжал он. Через дверь, ответил я и встал, я здешний постоялец. С прошлой осени гостиница закрыта, сказал мужчина. Владелец разорился. Через месяц здание будет продано с аукциона.
Только теперь он представился: Лоренц, ликвидатор из соседней общины. Второй оказался потенциальным покупателем, инвестором по фамилии Шваб, собственником нескольких гостиниц в округе. Я рассказал про Ану, прошел с ними в холл, отыскал в ящике за стойкой администратора книгу регистрации, предъявил свою запись. Однако ликвидатор все равно остался недоверчив. Неужели вы ничего не заподозрили? — спросил он. Гостиница, где нет ни воды, ни электричества. Телефон он не отключил, это верно, но откуда ему было знать, что кто-то вздумает поселиться в этом здании. Я промолчал, сказать было нечего. И где же эта сомнительная особа? — спросил он. Я ответил, что в семь она будет здесь, как всегда, придет ужинать. Ликвидатор скептически взглянул на меня и сказал, что будет весьма обязан, если я соберу свои вещички. Кстати, они могут подбросить меня до деревни. Попозже, через час-полтора. Я обмолвился, что оплатил проживание до завтра, однако он не ответил и сказал инвестору, что сейчас покажет ему полуподвал. Я поднялся в номер собрать рюкзак.
Закончив сборы, я впервые за все время наведался на верхние этажи. Выглядели они точь-в-точь как тот, где я жил. Одну за другой я открыл двери всех номеров, но все они были необитаемы. Узкая лесенка вела с самого верхнего этажа на чердак, забитый старой мебелью, отделочными материалами, картонками с почтовыми конвертами и туалетной бумагой. Штабель соломенных венков лежал возле старой афиши, на которой между нарисованными сосульками было написано: Зимний бал. Я нашел штук десять санок и большие запыленные бутыли в оплетке, но ни следа Аны. Тем не менее с самого начала поисков меня не оставляло ощущение, что она где-то рядом и вот-вот выйдет из-за угла.
Обшарив весь дом и ничего на найдя, я сел в холле в одно из кресел, не снимая с него белого полотнища. Немного погодя из столовой вышли те двое. Господин Лоренц нес под мышкой рулон бумаги. Посмотрел на часы, на лице появилось нетерпеливое выражение. Шесть уже, сказал он своему спутнику, не смею вас дольше задерживать. Если вам хочется подождать, отозвался господин Шваб, то я не тороплюсь. Мне и самому охота узнать, что за история с этой таинственной особой. Затем он, уже обращаясь ко мне, сказал, что я наверняка знаю, где здесь спрятано вино, так не принесу ли бутылочку. Я сам принесу, быстро сказал Лоренц и скрылся в подвале. Как вам это место? — спросил инвестор. Можно здесь продержаться? Он-то не очень уверен. Два банкротства подряд за несколько лет явно не предвещают гостинице ничего хорошего, хотя, возможно, ею просто управляли не те люди.
Мы устроились в столовой и пили итальянское вино, которое принес Лоренц. В четверть восьмого Шваб сказал, что, по его мнению, женщина не придет, вероятно, увидела автомобиль у подъезда и сбежала. Если она вообще существует, сказал Лоренц. Она была здесь, сказал я. Лоренц кивнул: да-да, он мне верит. Мы подождали еще четверть часа. И в конце концов решили ехать. Ликвидатор запер двери и сказал, что завтра пришлет сюда полицию, пусть проверят, все ли в порядке. Пока мы по серпантину спускались в ущелье, я думал об Ане и спрашивал себя, где она сейчас, что будет есть, где проведет эту ночь. Я не сомневался, что прогнал ее не автомобиль, а я, мое опрометчивое прикосновение нынче утром.
Заночевал я в маленьком пансионе, который мне порекомендовал ликвидатор. А утром уехал домой. На доработку текста у меня осталась ровно неделя, и все следующие дни я корпел над ним. А при этом невольно вспоминал об Ане. Теперь только до меня дошло, что она имела в виду, когда сказала, что я получаю от нее куда больше, чем электричество и воду. Сдав доклад в печать, я позвонил ликвидатору. Он не сразу вспомнил, кто я такой, но потом сообщил, что полиция побывала в гостинице, все обыскала, но, кроме пустых банок и грязной посуды, никаких следов женщины не обнаружила.
Шарль Фердинанд Рамю © Перевод с французского Г. Модина
В творчестве швейцарского классика Шарля Фердинанда Рамю [Charles-Ferdinand Ramuz, 1878–1947] соединились и достигли совершенства характерные черты романдской литературы: органичный синтез эпического и лирического начал, стройность формы, способность «в одном мгновении видеть вечность», запечатлеть в обыденных образах всеобщее, выразить универсальное на родном романдском наречии.
Ученик Флобера, Рамю, подобно учителю, видел эстетический идеал в античности, греческая трагедия была для него образцом.
«Кем стал бы Эсхил, родись он в 1878 году в наших краях, в одном из уголков Во? Написал бы он ‘Персов ’?» — спрашивал себя Рамю в «Дневнике». Своеобразным ответом на этот вопрос стала новелла «Смерть Большого Фавра» (1910), вошедшая в сборник «Рассказы и фрагменты». Над этим сборником Рамю работал в тот период, когда, преодолев искушение «стать французским литератором в Париже», осознал себя романдским писателем.
Новелла повествует о противостоянии человека тому, что победить он заведомо не может, — природе и смертной обреченности. В этом сражении его гордыня сродни «гибрис» героев античной трагедии, дерзнувших сравняться с богами. Фавр в финальной сцене подобен гиганту, поверженному Зевсом, с барельефа Пергамского алтаря, и новелла, оставаясь «обыденной» историей, прочитывается как метафора человеческого существования.
Рамю оставил огромное литературное наследие. Наиболее известен своими романами, среди которых — «Алина» [ «Aline», 1905; рус. перев. 1928], «Красота на земле» [ «La Beauté sur la terre», 1927; рус. перев. 2006], «Дерборанс» [ «Derborence», 1934; рус. перев. 1985], «Савойский парень» [ «Le Garçon savoyard», 1936; рус. перев. 1985], «Если солнце не взойдет» [ «Si le soleil ne revenait pas», 1937; рус. перев. 1985]; многие его произведения были экранизированы.
Перевод выполнен по изданию «Рассказы и фрагменты» [ «Nouvelles et morceaux». Tome 2, 1908–1911. Slatkine, 2006].
Смерть Большого Фавра Рассказ
Александру Сангрия[30]
Тем вечером, в субботу, пятеро мужчин рубили лес у Клюза. Лес этот старый, растут в нем дубы да буки, но больше буки. Оттуда до деревни добрых полчаса ходу будет. Раскинулся лес по редким холмам и равнине с запада на восток. На севере он вплотную подходит к полям, стеной стоит над ними, на юге рассекает его овраг, и чем дальше к востоку, тем овраг глубже. На дне течет ручей под названием Рю. Пробиваясь сквозь слоистую, обычную для здешних мест, почву, он исподволь размывает ее, подтачивает берега. Один край оврага, лесной, много выше другого, и кажется, лес внезапно обрывается, но чаща кругом непроходимая, тесно стоят деревья, всюду ежевика, заросли дикой малины, вечный сумрак, ни тропки нет, лишь глубокие колеи на мягкой земле, оставленные груженными лесом возами.
Вот здесь-то они и были, на прогалине, в самой глуши. День клонился к вечеру, мужчины оставили топоры, набросили куртки, собрались уходить. Уже каждый поднял свою корзину для обеденных припасов и, перекинув ее через руку, раскурил трубку. Лишь Большой Фавр все еще обрубал ветви дуба, поваленного в полдень. Его окликнули.
— Ступайте вперед, — отозвался он, — я еще раз-другой махну топором и догоню вас. Дорога известная.
Так четверо ушли, один остался.
Был он роста огромного, сильный, широкоплечий, с длинными рыжими усами. Поговаривали, что жену свою Большой Фавр уморил, так жестоко он с ней обходился. И все это знали, но в глаза ему сказать не смели, только шептались между собой: уж очень был он силен и на расправу скор. Поначалу, как умерла жена, все от него отвернулись, а он подошел и прямо спросил: «Случилось что? Отчего вдруг здороваться со мной перестали?»
— Да что ты, — смутились все. — Ничего против тебя мы не имеем. Не выпьешь ли с нами по стаканчику?
Так и стал Большой Фавр хозяином положения, да он и раньше им был, а вот понял это только теперь. Жену его бедную в сырую землю зарыли, а он жил себе преспокойно, пил допьяна, ел досыта. И держался гордо, все, бывало, повторял: «Со мной они не справятся».
Кто «они»? Неизвестно, но Фавр так это говорил, что за словами слышалось, будто вся жизнь в его руках, и нет ему равных. Может, оно и верно, да только был он таким же, как все мы, смертным.
Фавр с размаху опускал топор на крепкие узловатые ветви, окружавшие ствол, самые толстые со второго удара поддавались. Так он очистил дуб сверху донизу, остались лишь толстые сучья. Он рубил их, вытаскивал из-под ствола, складывал в кучу, и та росла горой. Со свойственной его натуре гордыней, Фавр решил сделать всю работу в одиночку и до конца.
Вечер, как случается в начале ноября, был пасмурный, снег пока не выпал, но тяжелые тучи обещали его, а поля уже местами припорошило. Ветер налетал порывами, обрывал последнюю листву; сады стояли голые, и лес почти обнажился, лишь на грабах еще держались резные листья, прочные, словно металлические, они даже позванивали на ветру. А ветер все не унимался. Не стало мелких пташек: их унесло с листвой. Пусто, лишь высоко в небе черными точками кружат на сильных крыльях вороны, обгоняют друг друга, собираются в стаю, черным облаком поднимаются к тучам, то плавно опускаются ниже, то словно падают и резко взлетают вновь, — вот уже последняя стая с мрачным криком покинула лес. Стемнело, когда четверо мужчин вошли в деревню. Большого Фавра с ними не было. Беспокоиться о нем не стали, решили, что задержался, с тем и разошлись по домам.
Назавтра Фавр не объявился. День был воскресный, в лес никто не пошел. И вот в понедельник утром…
Ламбле шел первым. Вдруг он взмахнул рукой, подзывая других, и указал на землю. Там, у дубового ствола с последним наполовину отрубленным суком лужей растеклась кровь. И рядом топор, рукоятка в крови, уже засохшей. Топор узнали сразу. Отсюда и до прогалины, где обычно оставляли корзины, тянулся кровавый след. Ни корзины, ни куртки Фавра там не нашли. Видно, он остановился на минуту, присел на опавшую листву: тут еще лужа крови натекла. Дальше видны капли, где чаще, где реже, местами их вовсе не было, след терялся, а ветер так и гулял по лесу, и грабы роняли с вершин лист за листом. Но мужчин было четверо, и вот двинулись они, шеренгой, в пяти-шести шагах друг от друга, то останавливались, то собирались в круг, расширяли его мало-помалу, пока кто-нибудь не звал: «Сюда!» И они сходились вновь. Ведь они поняли уже, как надо искать, и точно знали, что найдут его. Сколько бы времени ни прошло, но не так уж много крови в человеке. «С такой раной, да заблудившись, не мог он далеко уйти», — думали они.
Вот так и вышло, что впервые история этой смерти была написана кровью на черной лесной земле. Беда случилась ночью. И надо знать, какова ночь в лесу, под затянутым ноябрьскими тучами небом. Ни звезды, ни лунного луча, тьма кромешная, рук своих не видать, двигаться можно лишь на ощупь, как слепой в беспросветном мраке. И ведь он едва шел. Должно быть, подволакивал за собой ногу, оставляя след на голой, влажной от дождя земле. Ковылял на одной ноге от ствола к стволу, опирался о них руками и, пока не угас вечерний свет, медленно двигался в верном направлении, но опустилась тьма, он сбился с пути, закружил по лесу.
Четверо мужчин достигли зарослей ежевики, ее невысокие кусты и зимой оставались зелеными. Здесь они наткнулись на брошенную корзину, рядом валялись пустая бутылка и краюха хлеба. Чуть поодаль нашли они шапку, за ней повязку, черную, заскорузлую от крови. Кусты кругом изломаны, на колючих ветвях повисли лоскуты рубахи. Тут он падал, поднимался и долго плутал, оставляя кровавые следы, все более и более обильные. Повязка, видно, слетела, а шипы у ежевики длинные, острые. Должно быть, он руками хватался за кусты, волок сквозь них ногу, и шипы вонзались в рану, раздирали ее. Сколько же надо силы, чтобы выбраться отсюда?
Он выбрался.
И снова Фавр оказался на прогалине. Чаща расступилась, колючие заросли сменил ковер опавшей листвы. Дубы здесь древние, кроны у них раскидистые, и стоят они реже. Теперь двигаться ему было не так тяжело, петлял он меньше, но кровь все лилась, и останавливался он все чаще. Видно, устал и совсем измучился. И раненую ногу больше не мог он держать на весу, тащил волоком: след стал непрерывным, и больше они его не теряли.
И привел след к оврагу. Его и днем-то заметить трудно, разве только к самому краю подойдешь. Ночью же ничто не предвещает опасности. На ровном месте земля внезапно расступается, словно уходит из-под ног, и отпрянуть невозможно. Впрочем, обрыв не столь уж крутой, и на здоровых ногах выбраться из оврага не так трудно. Но раненому, и на одной ноге!.. Четверо мужчин упорно, круг за кругом, шли по следу.
И вот, как это случается темной ночью или бывает со слепыми, они ощутили незримую угрозу (словно шум ручья предупредил о ней). И почудилось то, чего они желали: будто след, минуя обрыв, тянется вдоль него. Но Фавр случайно отступил от края. Чуть дальше, у самого крутого склона осталась на рыхлой земле глубокая вмятина от каблука. Здесь он упал, на спину или ничком, и съехал по скользкой глине: гладкий сизый след остался на откосе. А внизу оказалась площадка, небольшой уступ. На нем Фавр удержался.
И отсюда он силился выбраться. Кровь, снова кровь, словно он нарочно разбрызгал ее повсюду: так сбрызгивают водой белье перед глажкой. Кровь и отчетливые отпечатки рук на мягкой жирной глине, и углубления от всех пяти пальцев. Он ладонями нащупывал склон, пальцами впивался в него, подтягивался выше, упирался коленями в отвоеванный кусочек земли и все повторял сначала. Но тщетно. Фавр срывался, поднимался снова и снова съезжал к уступу. Видно, долго он так упорствовал: склон сделался точно полированный. При последней попытке Фавр слетел с уступа и уже не скользил, но быстро катился вниз. За уступом оказался первый крутой откос из песчаника, а ниже осыпь, поросшая длинными стеблями хвоща, за них только и мог он уцепиться.
Много повидали эти мужчины, но тут их огрубевшие сердца дрогнули. Не сразу решились они подойти, поняли, что найдут там. Прежде спустились на самое дно оврага, оттуда поднялись на откос и побледнели. Хвощ кругом вырван с корнем. Фавр катился по осыпи и удержаться мог лишь за длинные стебли. Он горстями хватался за них, но все они оставались в его руках. Надежда на спасение жила, пока оставался последний куст, вот и он поддался, стебель за стеблем. Тогда, наверное, Фавр закричал…
Далеко внизу шумел ручей. Последний, самый крутой, склон нависал над водой. Глубина в этом месте была больше, ручей размыл берег и заводью разлился под ним. Здесь, по плечи в воде, прислонившись к берегу, сидел Большой Фавр. Упасть так он не мог. Волосы и борода его были влажными, значит, упал он в воду плашмя, но у него достало сил подняться, да еще и сесть. Он все надеялся избежать смерти, ждал, наверное, что его спасут, звал на помощь, вот так, прислонившись спиной к берегу, запрокинув голову на камень, и все шарил руками по скользкому дну. Как долго?
Он кричал, но пусто было вокруг. Глухой лес стоял над ним, а ниже, за оврагом, — широкие безлюдные поля. Никто не пришел туда воскресным днем в ноябре, хотя уже рассвело, и закончилась долгая ночь. Он звал, но лишь огромный беспросветно серый купол небес склонялся над ним, холод и тоскливый сумрак спускались с высоты. И холод поднимался со дна. Фавр звал на помощь, и голос слабел, ведь холод, обнимая его, добрался до самого сердца. Он звал, голосом слабым и хриплым, и снова пытался подняться, и снова упал, хотел еще крикнуть и не смог, но рот так и остался открытым, а руки его все искали опору, и ногти крошились о камни. Вот смертной судорогой свело ему плечи, но пусто было в бездонном небе, лишь высоко в тучах кружили вороны.
Наконец, они увидели его: застывший в беззвучном крике рот, остекленевшие глаза, склоненная к плечу голова. Свет пронизывал лицо Большого Фавра, а в его полуобнаженном теле не осталось ни капли крови.
Примечания
1
Варись, варись, чудесная полента!.. (итал.) (Прим. перев.).
(обратно)2
Иоганн Генрих Фюсли (1741–1825) — швейцарский художник, живший в основном в Англии, представитель раннего романтизма. Гомер Уотсон (1855–1936) — канадский пейзажист. Валерио Адами (р. 1935) — итальянский художник. Хёленмайстер — по всей видимости, вымышленный персонаж. (Здесь и далее — прим. ред.).
(обратно)3
Бордосское вино, название которого означает «долой тоску».
(обратно)4
Феликс Валлоттон (1865–1925) — швейцарский график и живописец, работавший во Франции.
(обратно)5
Описывается герб швейцарского города Ньон, где живет писательница. (Здесь и далее — прим. перев.).
(обратно)6
Амиши — последователи радикального протестантского движения, основанного в конце XVII века священником из Швейцарии Якобом Амманом; ведут патриархальный, аскетичный образ жизни, стремятся к той или иной степени изоляции от неамишского общества.
(обратно)7
Голос — прозвище американского певца Фрэнка Синатры (1915–1998). Фэй Данауэй — американская актриса, фирменная черта которой — огромные прозрачные глаза; многим запомнилась по кинокартине «Глаза Лауры Марс»: на афише фильма в буквальном смысле светятся глаза Данауэй.
(обратно)8
Эрри де Лука (р. 1950) — итальянский писатель, цитируется его роман «Монтедидио» (2003).
(обратно)9
Речь идет о повести Леонида Цыпкина (1926–1982) «Лето в Бадене».
(обратно)10
У Цыпкина акт любви представляется как «плавание влюбленных». Вторая яркая метафора в произведении — тоже водная: Анне, чувствующей, что она может потерять своего возлюбленного, чудится, что мачта — Федор — выскальзывает у нее из рук, и ее вот-вот смоет в море. Похоже, это эссе-размышление о настоях и травах, в свою очередь, настоялось на повести Цыпкина, где таким причудливым образом соотносятся вода и любовь.
(обратно)11
Питер Чейни (1896–1951) — английский писатель, один из основоположников классического английского детектива.
(обратно)12
Исмаил Мерчант — американский продюсер индийского происхождения, составивший легендарный в истории кино творческий союз с американским кинорежиссером Джеймсом Айвори и британской, а затем американской писательницей и сценаристкой Рут Джабвала; кроме прочего, написал несколько книг об индийской кухне.
(обратно)13
Нана Мускури — греческая певица. (Здесь и далее, кроме специально оговоренного случая, — прим. перев.).
(обратно)14
Александрос Пападиамантис (1851–1911) — греческий писатель, прозаик.
(обратно)15
Жан-Люк Бенозильо (р. 1941) — известный швейцарский писатель, проживающий во Франции; третий и, по существу, главный враль в этой истории. Он действительно оказался в Греции в разгар кипро-турецкого конфликта 1974 г. и описал увиденное в романе «Бено в поход пошел» (1976), но только перевернул ход событий с ног на голову… (Прим. ред.).
(обратно)16
«На том берегу Пьяве» — знаменитая песня альпийских стрелков, популярная в годы Первой мировой войны. В рей говорится о таверне, расположенной на берегу Пьяве, где отдыхают бойцы — едят, пьют и любезничают с красотками. (Здесь и далее — прим. перев.).
(обратно)17
Английский суп — традиционный итальянский десерт из бисквита и заварного крема.
(обратно)18
«Божественная комедия» Данте Алигьери, «Неистовый Орландо» Лудовико Ариосто, «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо и «Обстоятельства» Эудженио Монтале.
(обратно)19
Отсылка к известному стихотворению итальянского поэта-романтика Джакомо Леопарди (1798–1837) «Суббота в деревне». (Прим. ред.).
(обратно)20
Ванту — гора в Провансе неподалеку от Гриньяна, где живут супруги Жакоте; известно, что на ее вершину в свое время поднимался Петрарка. (Здесь и далее — прим. перев.).
(обратно)21
Ланс — гора на юго-востоке Франции, в предгорьях Альп.
(обратно)22
Шалерн — небольшая река, протекающая через Гриньян.
(обратно)23
Реплика леди Макбет из шекспировского «Макбета» (V, 1).
(обратно)24
По всей видимости, отсылка к эпизоду из Ветхого завета, описывающего чудесное ниспослание израильтянам пищи: перепелов и манны. Исход. 16. (Здесь и далее — прим. перев.).
(обратно)25
Речь идет о внушительном — 800 страниц — романе русского прозаика и историка П. Мельникова-Печерского (1818–1883) «В лесах», посвященного жизни, быту, обычаям заволжских раскольников. С этой книгой Коринна ведет внутренний диалог на протяжении всей поэмы.
(обратно)26
Легендарное существо, подстерегающее одиноких путников.
(обратно)27
«Вихорево гнездо» — гнездообразное уплотнение в кроне дерева, которое, по народному поверью, возникает от бури. Раскольники же полагали, что такие гнезда берутся от дуновения уст божиих, с молитвой брали от них середку и носили на кресте как оберег.
(обратно)28
Еще одна отсылка к Мельникову-Печерскому, приводящему народное поверье о восстании из мертвых: «Верит народ, что Велик Гром Гремучий каждую весну поднимается от долгого сна и, сев на коней своих — сизые тучи, — хлещет золотой вожжой — палючей молоньей — Мать Сыру Землю… Мать-земля от того просыпается, молодеет, красит лицо цветами и злаками, пышет силой, здоровьем — жизнь по жилам ее разливается… Животворящая небесная стрела будит и мертвых в могиле…»
(обратно)29
Казанская икона Божией Матери. Коринна ссылается на легенду об основании Шарпанского старообрядческого скита, место для которого «выбрала» сама икона, остановившись в Керженском лесу.
(обратно)30
Александр Сангрия (1879–1945) — художник и писатель, близкий друг Рамю. (Прим. перев.).
(обратно)
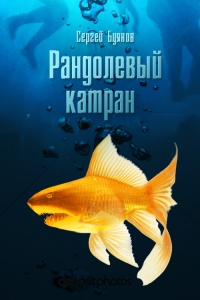








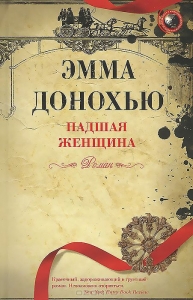

Комментарии к книге «С трех языков. Антология малой прозы Швейцарии», Петер Штамм
Всего 0 комментариев