Благодарю доктора Дариуша Василевского за помощь, оказанную мне во время работы над этим романом, а также Фонд содействия творчеству за финансовую поддержку.
Этот роман — вымысел.
Любое сходство с реальными людьми и событиями является случайным.
Глава первая ПАРК
Двадцать девятого августа стояла солнечная погода. Нависавшие последние несколько дней над Варшавой тучи переместились на восток, земля высохла, а вместе с ней и выкрашенные в ярко-зеленый цвет скамейки. В том, что Уяздовский парк заполнился людьми, не было ничего удивительного. Как обычно, это были молодые мамаши и пенсионеры. Мамочки склонялись над детьми, а пенсионеры — под грузом своего возраста. Этот день не отличался бы от остальных, если бы не мужчина лет сорока, устроившийся на скамейке возле пруда с лебедями.
Похоже, он сидел там с самого открытия парка, поскольку никто не помнил, когда он пришел. На аллеях было немноголюдно, никто не присел рядом с ним и не заговорил.
Около десяти утра мужчина забеспокоился, затем резко поднялся и стал оглядываться. На него обратили внимание, и он снова сел. Через какое-то мгновение он опять встал и дошел до маленького мостика, переброшенного над протокой, соединяющей два пруда. Он облокотился на поручень и стал всматриваться в водную гладь. Пенсионеры перешептывались, а самые мнительные мамаши удалились в глубь парка. Спустя некоторое время мужчина вернулся к скамейке. Он погрузился в свои мысли, но потом заинтересовался сидящими неподалеку людьми. Его взгляд задержался на пожилой женщине в трауре, присевшей на соседнюю скамейку с книжкой в руке. По обложке, на которой была изображена красотка, прижимавшаяся к красавцу, нетрудно было догадаться: дама в трауре читает о любви.
Женщина почувствовала на себе взгляд незнакомого мужчины. Она отложила книгу и с любопытством посмотрела на него. В его облике не было ничего настораживающего, поэтому она добродушно поинтересовалась:
— Вы хотите мне что-то сказать?
Мужчина смутился.
— Да… То есть…
Он встал и присел рядом с пожилой женщиной.
— Со мной что-то произошло… Что-то очень странное…
— Расскажите мне. Кто вы и что здесь делаете?
Мужчина стал объяснять, но так сбивчиво, что пожилой женщине немного удалось понять. Однако постепенно из паутины слов стала вырисовываться действительно странная история.
Незнакомец, по его словам, «очнулся» именно на скамейке в Уяздовском парке, не знал, кто он и что здесь делает, не мог вспомнить ни города, ни людей. Он был глубоко потрясен. Дама в трауре решила, что мужчина болен и ему нужно обратиться к врачу.
— Вы знаете… — В ее голосе звучало участие. — Здесь неподалеку станция «Скорой помощи». Там вам помогут.
— Да, да, — согласился мужчина.
Пожилая женщина встала, аккуратно убрала книгу в сумку и направилась в сторону ворот. Мужчина послушно последовал за ней.
Они вышли на Уяздовские аллеи, а поскольку как раз в тот момент загорелся зеленый свет светофора, перешли на другую сторону улицы и, миновав забор американского посольства, оказались на Пенькной улице.
Автомобили стояли в пробке, отравляя воздух выхлопными газами. Водители злились, без конца сигналили, в отчаянии пытались свернуть в один из переулков и кляли на чем свет стоит лавирующих между неподвижными машинами велосипедистов. Больной не обращал на все это внимания. Пожилая дама пришла к выводу, что он, вероятнее всего, житель большого города, не обязательно Варшавы.
Они повернули на улицу Кручей. Им навстречу шла толпа болельщиков варшавской «Легии», скандирующая лозунги против «Видзева». Дама немного испугалась, но сопровождавший ее мужчина без интереса окинул взглядом колонну бритых налысо юношей. Они не вызвали у него никаких опасений.
Без приключений миновав болельщиков, они вышли на улицу Хожа и, протискиваясь между стоящими в заторе машинами, добрались до станции «Скорой помощи».
Сидящая в регистратуре женщина, похожая на Бриджит Джонс, но одетая как монахиня-целестинка, рассматривала свои ногти. Она как можно дольше старалась не замечать пожилой женщины и следовавшего за ней больного. Наконец, не отрываясь от созерцания собственного маникюра, сонным голосом осведомилась:
— Что случилось?
Пожилая женщина поспешила объяснить. Куклоподобная регистраторша что-то написала в лежащей на столе тетради.
— Кабинет номер три, — пробормотала она. — Ждите вызова.
И снова уставилась на свои красные, как банка «кока-колы», ногти.
В кабинет номер три была большая очередь. Здесь ждали вызова жертвы несчастных случаев, заботливо придерживавшие сломанные руки и ноги, участники драк со свернутыми челюстями и женщины, судя по всему, подавшие своим мужьям не тот суп, который нужно, — они скрывали темными очками синяки под глазами.
В этой обстановке всеобщих неприятностей наш герой почувствовал себя бодрее. Он вольготно вытянул ноги, прислонил голову к покрашенной серо-бурой краской стене и, переведя дух, закрыл глаза.
Прошло пятнадцать минут, дверь кабинета не дрогнула. Пожилая дама нервно ерзала на стуле. Когда прошло еще десять минут, она не выдержала, нагнулась к мужчине и прошептала:
— Простите, но мне пора идти.
— Ну да… понимаю…
— В этом нет ничего сложного, — смутилась она. — Просто войдете в кабинет, и там вами займутся.
— Да… спасибо…
— Всего наилучшего. Удачи…
Женщина встала и семенящими шажками прошла мимо шеренги переломанных и побитых. Полная регистраторша проводила ее недовольным взглядом. Дама сошла по ступеням и исчезла.
В то самое мгновение дверь кабинета номер три приоткрылась и кто-то крикнул:
— Емелек!!!
Толстяк, сидевший справа от нашего героя, вскочил с места и, поддерживаемый сопровождавшими его членами семьи, прихрамывая и волоча за собой сломанную ногу, направился к двери.
Кабинет ожил. Каждую минуту звучала чья-нибудь фамилия, и очередной пострадавший пропадал за дверью. Оттуда раздавались отчаянные крики, затем больные выходили, следовали в другие кабинеты и после накладывания гипса или укола ковыляли к лестнице и выходили на улицу Хожа. Иногда санитары вкатывали в приемную носилки, на которых, перевязанный окровавленными бинтами, лежал кто-нибудь. Лифт увозил пациентов наверх, в хирургическое отделение. Несколько раз мимо двери процедурного кабинета прошел ксендз, спешащий принять последнее причастие.
Мужчина из парка наблюдал за происходящим с большим интересом. Он перестал бояться. Двери снова заскрипели, и чей-то фальцет воскликнул:
— Безымянный!
Никто не встал.
— Безымянный!!! — раздался разгневанный окрик.
Он понял, что речь идет о нем. Встал и поспешил в кабинет.
За столом сидел молодой врач с усталыми глазами. Взглянув на вошедшего, он склонился над бумагами.
— Вы ничего не помните, верно?
— Да.
— Что еще? Головная боль, тошнота?
— Нет.
— Слабость?
— Нет.
— Страхи?
— Да. Я боюсь.
— Чего?
— Не знаю.
— Та-ак… — протянул доктор. — Нет, мы ничем не сможем вам помочь. Вам надо в неврологию. Присядьте в коридоре и подождите. Прушковский!!!
Наш герой вернулся на свое место и стал ждать. Прошло пятнадцать минут, полчаса, час. Он закрыл глаза и провалился в сон.
Вдруг кто-то схватил его за плечи и приподнял. Он открыл глаза и увидел двух высоких санитаров, пытавшихся посадить его в инвалидное кресло.
— Спокойно, — сказал старший. — Ничего страшного. Мы забираем вас в больницу.
— Я могу идти сам.
— Можете, но не должны, — улыбнулся санитар. — Вези товар, Владек.
Коляска покатилась по коридору. Регистраторша оторвала взгляд от ногтей, высунулась в окошко и лучезарно улыбнулась тому, которого звали Владеком. Коляску спустили с лестницы и остановили перед сияющей «скорой помощью». Больной осторожно пересел в машину.
— Ложитесь, — приказал Владек.
— А сидеть нельзя?
— Нет. Вы лежите, мы сидим. Таков мировой порядок. Ясно?
Машина слегка затряслась, повернула на Маршалковскую и стала маневрировать между стоящими в заторе машинами.
— Заводи, Антось! — крикнул Владек водителю.
— Зачем? Ведь больной не буянит.
— Попробовал бы, — сказал Владек. — А может, ему нравится, когда сирена воет. А? Любишь сирену «скорой помощи»?
— Люблю, — на всякий случай согласился больной.
— Вот видишь, Антось! Человек не знает, как его зовут, но знает, что ему нравится сирена. Так и должно быть. Мне тоже сирена нравится, приятель. Ну, Антось, врубай!
Сирена завыла, и другие машины поспешно потеснились к обочине. Водитель прибавил газу, опередил отъезжающий от стоянки трамвай и, успев проскочить на светофоре, выехал на свободный участок дороги.
Владек откинулся на спинку сиденья, в его глазах блестели слезы.
— Всегда волнуюсь, когда слышу сирену, — объяснил он. — С самого детства.
И утер слезы рукавом халата.
В отделении неврологии царили тишина и покой. Больные лежали в кроватях или медленно прогуливались по коридору. Если в двух словах, то это были пациенты, имеющие проблемы с мозгами.
Для врачей третьего тысячелетия человеческий организм не представляет собой большой тайны. Они знают, как он функционирует, им все известно о болезнях, знают они и то, что лечение рано или поздно окажется фатальным. Доктора разными способами стараются оттянуть катастрофу, и нередко это им удается.
Но с головой дела обстоят иначе. Понятно, что там, внутри, какие происходят процессы, но даже самых опытных врачей то и дело подстерегают сюрпризы. Сначала специалисты пытаются поставить диагноз, а потом в отчаянии рассылают электронные письма, в надежде, что кто-то на другом конце света имел дело с подобным случаем.
Больные, в головах которых «что-то не так», часто превращаются в странных существ, лишь отдаленно напоминающих людей. Конечно, неврологи знают о людях больше, чем остальные, но это знание, увы, их не обнадеживает.
Одним из таких опытных, утративших иллюзии специалистов был доктор Ястжембский, к которому и препроводили бального из парка. Врач выслушал санитаров, ознакомился с мнением врача «скорой помощи» и, внимательно осмотрев больного, тихо, участливо спросил его:
— Итак, дорогой мой, что же с вами произошло?
Голос и манера речи Ястжембского, а особенно обращение «дорогой мой» расположили нашего героя поделиться с доктором своими переживаниями, рассказать обо всем, что с ним случилось. Врач не прерывал его и ни о чем не спрашивал. Больной говорил путано, но, заметив, что врача не смущает его галиматья, подробно описал пожилую даму, женщину в регистратуре и толстяка Емелека. У него самого пошла голова кругом, и он замолк на полуслове.
— Ну, что ж, мой дорогой, — начал Ястжембский. — С вами приключилась неприятная вещь, но не такая уникальная, как вы полагаете. Идите в палату, поужинайте и ложитесь спать. А завтра мы изучим ваш мозг. Вернее, будем исследовать его разными способами какое-то время. Вы ведь никуда не спешите?
— Никуда.
Доктор нажал кнопку на столе. Через мгновение в кабинет вошла высокая, стройная медсестра.
— В четвертую. Понаблюдаем, обследуем, — сказал доктор.
Больной встал и поплелся за медсестрой. Кровать в палате была аккуратно застелена, на одеяле лежала не слишком элегантная, но чистая и приятно пахнущая больничная пижама. Он переоделся, залез под одеяло и сразу уснул.
На следующий день врачи разных специальностей стали изучать мозг нашего героя. Они исследовали его долго, вдумчиво, так, что основательно замучили пациента. После медицинских процедур в палату зашел доктор Ястжембский и, мило улыбаясь, поинтересовался, нет ли у больного каких-нибудь пожеланий. После двух дней пребывания в больнице пациент воспользовался случаем, чтобы выразить одно свое соображение.
— У меня просьба, пан доктор.
— Слушаю.
— Здесь у всех есть имена и фамилии, и только я один безымянный пациент. Это вызывает затруднения, когда врачи вызывают меня на обследование. Не могли бы вы меня как-нибудь назвать?
— Хм-м… — Ястжембский задумался. — Имена обычно дают человеку родители, а регистрирует их отдел записи актов гражданского состояния. К сожалению, я не прихожусь вам отцом, что, впрочем, было бы невозможно по причине возраста. Сожалею также, что не являюсь служащим загса.
— Но без имени и фамилии очень сложно жить.
— У вас, определенно, есть имя и фамилия. Я не теряю надежды на то, что вы в скором времени их вспомните.
— Может, мне дать временное имя?
— Я поговорю с заведующим, — сказал Ястжембский. — Не такая уж это нелепая мысль.
И вышел.
На следующий день, когда наш герой лежал на спине, гадая, что подадут сегодня на обед, послышались звонок, затем шаги и приглушенный женский смех. Дверь открылась, в палату вошел доктор Ястжембский в халате, надетом задом наперед, а за ним две прелестные, без конца хихикающие медсестры и пухлый дежурный с пластиковым ведерком.
— Дорогой мой, — выразительно сказал доктор. — Я передал твою просьбу заведующему отделением, и он дал добро. Присядь.
Больной сел на кровати.
— Твоя новая жизнь началась двадцать девятого августа. В этот день почитаются многие святые, но прежде всего Ян и Сабина. Поэтому, как твой лечащий врач, нарекаю тебя Яном.
Дежурный поднес ведро Ястжембскому, доктор опустил в него обе руки и плеснул теплой водой на больного и его кровать, стоящую рядом тумбочку и подоконник. Красавицы медсестры присели на кровать и стали целовать его в мокрые щечки. Любопытные пациенты, стоящие в дверях, хлопали и выкрикивали поздравления. В этой суматохе все прослушали гонг, возвещающий об обеде, никто не обратил внимания на скрип развозящей суп тележки, медленно проплывающей по коридору. Ибо что значит даже самый восхитительный суп по сравнению с рождением человека.
Наш герой лежал в кровати и чувствовал себя счастливым. Он больше не был бог знает кем. На его медицинской карте толстым фломастером были написаны две самые замечательные буквы: ЯН.
Несколько дней спустя прелестная медсестра проводила Яна в кабинет Ястжембского. Доктор, обычно отпускающий добрые шутки, задумчиво разглядывал стопку рентгеновских и томографических снимков. Увидев Яна, он вынул из вороха снимок, на котором выделялось разноцветное пятно, и сказал:
— Это ваш мозг. Что вы об этом думаете?
Ян внимательно посмотрел на изображение.
— Симпатично выглядит.
— Слишком симпатично, — грустно подтвердил Ястжембский. — Вот, взгляните на эти папки. — Доктор указал на забитую бумагам полку. — Здесь информация приблизительно по ста мозгам, и в каждом из них что-то не так. А в вашем ничегошеньки нет.
— Ничего? — испугался Ян.
— Ничего, что могло бы указывать на какое-то отклонение или очаг болезни. Я более десяти лет не видел такого идеального мозга.
— Простите… — пробормотал Ян. — Это вас огорчает?
— Да. Не буду скрывать, я огорчен.
— Почему?
— Видите ли, пан Ян, я вот уже два года ищу мозг для исследования и защиты диссертации. В неврологии это непростая задача, и любой мозг не подходит для этой цели. Я надеялся, что именно ваш мозг настоящая находка. А вы меня подвели.
— Простите.
— Это, конечно, не ваша вина. Вначале с точки зрения неврологии ваш случай представлялся исключительно любопытным. Жаль, дорогой друг, очень жаль.
— И что теперь со мной будет?
— Ну что ж… — Доктор беспечно сгреб бумаги в сторону. — Вам незачем оставаться в нашем отделении.
Ян растерялся. Он привязался к доктору Ястжембскому, а теперь из-за дурацкого мозга все к черту.
— Но куда я пойду?
— Ясное дело, мы не оставим вас в таком состоянии. Вас переведут в психиатрическое отделение.
— В психиатрическое? Но я ведь не сумасшедший.
— С точки зрения поведения и мышления, определенно, нет. Я бы даже сказал, что вы удивительно выдержанный человек. Однако вы ничего не помните. Неврологические изменения исключены, следовательно, ваше состояние имеет психическую подоплеку. К тому же там не так уж плохо. Замечательные врачи, интересные случаи.
— Но здесь мне дали имя, — сказал Ян.
— Послушайте! — воскликнул Ястжембский. — Знаете ли вы, что все наши больные мечтают выписаться отсюда?
— Нет…
— Поэтому вы поедете в психиатрическую клинику. Всего вам наилучшего в новой жизни.
В тот же день Ян покинул неврологическое отделение. Шел дождь, машина «скорой помощи» миновала несколько улиц, въехала за большие металлические ворота, объехала клумбу и остановилась перед белой дверью с зарешеченным стеклом.
В приемном отделении Яна уже ждали. Доктор взял его бумаги, долго заполнял специальную карточку, потом дал знак рукой высокому могучему санитару, который выглядывал в окно и ковырял в зубах, и сказал:
— Отделение 3 «Б».
Дежурный врач, который должен был принять Яна, спал. Худая, нервная медсестра долго хлопала его по плечу, прежде чем врач, протяжно зевая, сел за стол и стал изучать принесенные санитаром бумаги.
— Значит, вы ничего не помните? — спросил он и зевнул так широко, что можно было рассмотреть его миндалины.
— Не помню, — подтвердил Ян.
— Это, без сомнения, истерия, — махнул рукой врач. — Зачем вам нужно закатывать истерику и морочить всем голову?
Ян не знал, что сказать.
— Надеюсь, что вам по крайней мере стыдно?
— Стыдно.
— Это хорошо. Идите в седьмую палату к Пианисту. Полагаю, вы спокойный?
— Я очень спокойный.
— Прекрасно, потому что он, в отличие от вас, не очень спокойный. Лучше его не нервировать.
— Не буду.
— Не следует также затрагивать некоторые темы.
— Не стану.
— Если ночью он будет плакать, не надо его успокаивать.
— Почему? Ведь в таком случае положено утешить человека.
— Напротив. Во-первых, это не имеет смысла, поскольку его невозможно утешить, во-вторых, подобные попытки вызовут лишь большее расстройство чувств и рыдания. Так как, не будете его успокаивать?
— Не буду.
— Для истерика вы слишком рассудительны. Пани Аня, проводите больного в палату и выдайте ему все необходимое.
Худощавая медсестра встала из-за стола и направилась к двери. Они вышли в коридор. Стены были покрашены серой краской, а пол покрыт когда-то зеленым линолеумом. Но не столько обстановка привлекла внимание Яна, сколько многочисленные больные, разгуливающие по коридору.
В отделении 3 «Б» как раз проходила ежедневная прогулка. Мужчины и женщины странного вида с неподвижными, иногда напряженными лицами организованно передвигались по коридору. Некоторые прогуливались группами, другие в одиночку, на большом расстоянии от остальных. У стен на стульях сидели молодые мужчины и женщины, погруженные в свои мысли и сжимающие руки. Это очень заинтересовало Яна, хотя он не мог как следует все рассмотреть, потому что нервная медсестра свернула в узкий боковой коридор и открыла дверь одной из палат. Это была комната под номером семь.
Палата с первого взгляда понравилась Яну. Из зарешеченного окна можно было увидеть дерево и кусочек неба. Вдоль стен стояли три кровати. Две были свободны, а на третьей, лицом к окну, лежал худощавый мужчина.
— Здравствуйте, — сказал Ян.
Мужчина не ответил. Медсестра постелила белье, дала Яну пижаму, затем вытащила из металлического шкафчика небольшой стаканчик и бросила в него несколько таблеток разной величины. Потом она вышла и вернулась с кружкой прохладного горького кофе. Ян выпил таблетки, лег в кровать и как-то странно себя почувствовал. Ему захотелось встать, поговорить с лежащим к нему спиной мужчиной, но его сморил глубокий, тяжелый сон.
Глава вторая ПИАНИСТ
Когда он проснулся, на улице наступили сумерки. Худощавый мужчина больше не смотрел в окно, он сидел на кровати и с большим интересом разглядывал Яна. Это был молодой человек, по виду лет двадцати двух, с тонкими чертами лица и огромными темными глазами. Увидев, что Ян проснулся, мужчина встал и протянул ему руку.
— Я Роберт, — представился он. — Меня называют Пианистом.
— Ян.
— Я так счастлив, что вы здесь. Я целую неделю был один. В этом есть свои преимущества, никто не беспокоит, можно спокойно размышлять… все, как говорится, прекрасно, но лишь до тех пор, пока не наступят сумерки, а вслед за ними ночь. Это так ужасно, что я с трудом сдерживался, чтобы не закричать. Вы также тяжело переносите сумерки?
— Нет… пожалуй, нет…
— Хорошо, потому что ваше беспокойство могло бы усугубить мое состояние. Вы ведь поможете мне с этим справиться?
— С радостью помогу.
— Как хорошо, что вы здесь. А что с вами? Надеюсь, вы не буйный сумасшедший?
— Нет, конечно, — улыбнулся Ян. — Ничего подобного. Я просто ничего не помню.
— Амнезия… — закивал Пианист. — Наверняка на почве истерии, иначе бы вас сюда не привезли. Печальная история.
— Да, — согласился Ян. — Очень.
Мгновение они сидели молча, потом Пианист сказал:
— Если у вас амнезия, значит, вы ничего не можете рассказать мне о себе, да?
— К сожалению.
— Жаль. Такие разговоры здесь обычно одна из форм развлечения. Ну, раз вы ничего не помните, я буду рассказывать вам свою историю.
— Если вы не хотите, можете этого не делать.
— Я не смогу удержаться, так зачем откладывать? Видите ли, мы, психически больные люди, склонны рассказывать истории. Врачи это любят. А поскольку мы не можем удержаться от того, чтобы не рассказывать, то они не могут не слушать нас. Они очарованы нашими историями и, как дети, ждут новых рассказов. Больной должен изрядно помучиться, чтобы доставить им удовольствие.
Ян молчал, потому что не успел заметить, чтобы врачи особенно интересовались мыслями своих пациентов.
Пианист, ничуть не смущенный молчанием Яна, продолжал:
— Вам нужно знать, что мои родители были музыкантами, играли в скрипичном квартете, мама на скрипке, а отец на виолончели. Может, это и не был выдающийся квартет, но все члены коллектива много работали, целыми днями репетировали, и в конце концов их усилия стали приносить результат. Квартет пригласили сыграть цикл концертов в разных городах Европы. Это известие ансамбль отметил целым ящиком шампанского, и в ту же ночь я был зачат, можно сказать, на гребне успеха.
— Счастливое совпадение.
— Как оказалось, не слишком. Конечно, турне имело успех, за ним последовало новое приглашение, и еще одно. Квартет становился знаменитым. К сожалению, я быстро рос в мамином животе. Квартет переезжал из одного города в другой, за окнами автомобилей проплывали красивейшие архитектурные сооружения, в лучших залах проходили концерты, которые жаждала услышать публика, а мама целыми днями лежала в отелях Европы и тихо стонала. Мое существование мешало ей спать или не позволяло сконцентрироваться. Я доставлял одни огорчения.
— Грустно.
— Тогда, к счастью, я этого не понимал. Узнал об этом много лет спустя. Надо признать, мой отец в то время вел себя очень достойно. Он сидел с мамой в гостиничных номерах, поил ее чаем, держал за руку, по вечерам играл старинные колыбельные. Нужно сказать, что моя мама была лучшим музыкантом и на ней держался успех всего коллектива. Однако по мере того, как я рос, мама утрачивала свою виртуозность. Рецензии на концерты становились все хуже. В конце концов менеджер, организовавший турне, решил отложить выступления ради общего блага. Мы вернулись домой, мама наконец устроилась в своей кровати, и через три месяца я появился на свет.
— Ваши родители ведь могли вернуться в музыку?
— К сожалению, оказалось, что это не так просто. Я почти с первых дней жизни болел. Мама целыми ночами просиживала возле моей кроватки, ее глаза были красными от усталости. Она перестала репетировать, все время прислушивалась к тому, как я дышу, не кашляю ли, не простудился ли, не плачу ли по какому-либо поводу. А я кашлял, простужался, задыхался и беспричинно плакал. Маму в конце концов заменила другая скрипачка, и отец отправился с квартетом в гастрольное турне. Но ему было не по себе. Его ничто не радовало: ни успех концертов, ни красота городов, в которых они выступали. Он скучал по нас, поэтому отказался от следующего турне. Так закончилась музыкальная карьера моих родителей.
— Они перестали играть?
— Нет, но уже было не то. Отец, чтобы не оставлять нас надолго одних, устроился музыкантом в ресторан. Он возвращался с работы под утро, садился возле моей кровати и тихо пел колыбельные. Я несколько раз просыпался, когда он пел, но делал вид, что сплю.
На работе у отца не ладилось. Сначала его приняли с восхищением, затем стали относиться все хуже и хуже. Отец мой — тонкий, ранимый человек, не привыкший идти напролом. Однако в среде ресторанных музыкантов было принято не гнушаться любыми средствами, знать, с кем пить водку, а с кем не пить, кого из гостей выделить, а кого не заметить. Отец погибал в этом окружении. Несмотря на то что он продолжал великолепно играть, коллеги не любили его, а может, именно поэтому. Он начал выпивать. Сначала немного, рюмочку, другую, «для наркоза», как он говорил, а потом все больше и больше. Дошло до того, что он стал возвращаться из ресторана едва держась на ногах, долго спал, а проснувшись, тянулся за бутылкой, чтобы опохмелиться, и неуверенным шагом отправлялся на работу. Во время игры он совершал странные ошибки, путал мелодии, забывал, где находится, ни с того ни с сего останавливался, вставал и требовал от публики аплодисментов. В конце концов — иначе быть не могло — его уволили. Он целыми днями лежал на диване, пил или отсыпался.
К счастью, в то время я перестал болеть, и мама смогла пойти на работу. Она устроилась учителем музыки в школу, и — о чудо! — эта деятельность стала приносить ей радость и удовлетворение. Моя мама — миниатюрная, хрупкая женщина — говорит почти шепотом и выглядит так, будто хотела бы тотчас исчезнуть. Но на ее уроках никто не болтает, не мешает, ученики очарованно слушают маму. Она умеет говорить о музыке так, словно это самая интересная вещь на свете. Ну, и играет она по-прежнему замечательно, но лишь для своих подопечных. Хотя ее многократно просили выступить, она всякий раз отказывалась принять участие в настоящем концерте. Многие ее ученики стали музыкантами, присылают ей письма, иногда приезжают, чтобы рассказать о своих успехах. Мама живет в благословенном мире, ей можно только позавидовать.
Поскольку отец думал только об алкоголе, мама стала брать меня с собой в школу. Я сидел на ее уроках с серьезным выражением лица и слушал. На переменках я подходил к стоящему в классе пианино и что-то наигрывал. Неизвестно, когда из моих чудачеств получилась музыка.
Мама сначала этого не осознала. Учительница польского языка обратила ее внимание на мою игру. Мне было пять лет, и вдруг я стал Моцартом. Конечно, на уровне начальной школы в небольшом городке под Варшавой. Во время одного из выступлений маминых учеников на сцену вышел и я, одетый в коротковатый темный костюм и с бабочкой в большую черную горошину. Увидев меня, зал покатился со смеху, но когда я стал играть, воцарилась тишина. А потом… потом только овации… овации… овации.
Я никогда не забуду тот день. Если ребенок хоть раз услышит такие аплодисменты в свою честь, он всегда будет жаждать успеха и славы и, может, поэтому обречен быть всю жизнь несчастным. Так нередко случается. Но в тот день все было чудесно. Глаза мамы блестели от слез радости, мой отец, почти трезвый, сидел на лавочке в спортзале и тоже плакал. Да, мой дорогой, плакал, не стыдясь, да чего, собственно, тут стыдиться.
Наступило счастливое время. Отец лег в больницу, чтобы пройти лечение от алкоголизма. Маме повысили зарплату. А я стал самым известным человеком в городке. На улице меня все узнавали, приглашали в гости, угощали, одаривали конфетками. Дивная, дивная жизнь.
Мама, однако, была слишком благоразумна, чтобы поддаться всеобщему обожанию. Она начала меня учить, ограничила мои выступления и заставила работать. Какая же замечательная преподавательница моя мама! Я знакомился с новыми эпохами, выдающимися композиторами, родители все свободные деньги тратили на пластинки, чтобы я мог слушать лучших исполнителей, мы ездили на концерты в Варшавскую филармонию. Отец бросил пить Он стал дирижером духового оркестра городской добровольной пожарной охраны, и в доме впервые появились деньги. Родители заняли дополнительную сумму, и посреди нашей захламленной гостиной встал великолепный концертный рояль. С того дня он стал центром нашего маленького мира.
Я целую ночь мог бы рассказывать, что было потом. Начальная, средняя музыкальная школа, училище. Череда успехов. Где бы я ни появлялся, везде был лучшим. Я к этому привык. Но пришло время первого большого конкурса, который должен был окончательно определить мою дальнейшую судьбу.
На конкурсе было пятеро поляков. Кроме меня, двое юношей и две девушки. Я знал их всех по музыкальной школе или концертам. Впервые я был поражен, когда мне в руки попала программка, изданная по случаю проведения нашего конкурса, в которой я прочитал биографии моих конкурентов. Мы были похожи. Все были детьми музыкантов. Четырех-пятилетним, иногда лет в шесть, каждый из нас становился вторым Моцартом. Мы все учились в музыкальных школах, и каждый был лучшим в своей. Но в конкурсе мог быть только один победитель, остальные отходили в небытие. Я был потрясен, потрясен до глубины души.
В день прослушивания, когда я, дрожащий, стоял у запыленного занавеса, ко мне подошла мама. Она встала рядом, очень близко, и шепнула мне на ухо:
— На самом деле никого из тех людей в зале нет. Они тебе снятся. В зале буду только я.
— Только ты?
— Да. Даже отца не будет. Только мы двое. Ты и я. В то же мгновение кто-то на сцене громко и отчетливо произнес мою фамилию. Мама легонько подтолкнула меня, и я, спотыкаясь от волнения, пошел в сторону сияющего в свете прожекторов рояля.
Я закрыл глаза и играл только для нее. Со всей любовью, которая во мне накопилась за эти годы. Я заслушался, забылся, в реальность меня вернули аплодисменты. Долгие, неумолкающие овации. Я кланялся бог знает сколько раз, пока не убежал за кулисы, счастливый, словно уносящийся в небеса. На предназначенной для хора скамье сидели мои соперники. Они знали, что я победил. В их глазах была ненависть. Тогда я не обратил на это внимания, пробежал мимо них к выходу, легкий, счастливый, победитель.
Благодаря конкурсу я стал знаменитым. Выступал в разных городах, публика продолжала восхищаться моей игрой. Я забыл о соперниках. Они, вероятно, затерялись на концертах в провинции. Я был королем. Подписывал контракты, записывал пластинки, начал строить комфортабельный дом для родителей. И тогда соперники неожиданно вернулись.
Это случилось в Штутгарте. Был знойный день, и я с самого утра чувствовал усталость и странное волнение. Я пораньше вышел на сцену, чтобы немного поиграть и успокоиться, но это не помогло. Наконец пришла пора концерта. Я старался играть так хорошо, как только способен, но чувствовал, что интерпретация мне не удается. Публика тоже это поняла, аплодисменты были короткими и лишенными энтузиазма. Анджей, мой менеджер, похлопал меня по плечу в знак утешения и заметил, что у каждого случаются такие дни. Я уселся в кресло в артистической гримерке. Мне не хотелось шевелиться. Затих шум за дверью, я на мгновение вздремнул, а когда очнулся, уже совсем стемнело. Я вышел из гримерки и увидел их. На скамье в другой половине коридора, как и тогда, во время конкурса, сидела та самая четверка. Они выглядели так, словно на них осела изрядная доля пыли, только глаза, по-прежнему полные ненависти, горели в полумраке. Секунду я думал, не подойти ли к ним, не поинтересоваться ли, как у них идут дела, но потом, сам не знаю почему, молча прошел мимо и вышел в привратницкую, где портье при свете лампы читал газету. Я попрощался с ним и с облегчением выбежал на улицу.
С того дня перед каждым выходом на сцену я боялся, что они снова придут. Иногда слышал скрип скамьи за кулисами, оттуда порой доносились шепот и смешки. Я старался не обращать внимания, брал себя в руки и играл. Но у меня не получалось. Я репетировал больше, чем когда-либо, заботился о здоровье, отдыхе, сне, но уже не поражал публику. Критики вежливо отмечали мою технику, трудолюбие, но в рецензиях не было прежнего восхищения. Что-то во мне сломалось.
Те четверо на скамье не давали мне покоя. Их шепот снился мне, вдруг возникал откуда-то во время пресс-конференций. Они мучили меня днем и ночью, однажды промелькнули даже в нью-йоркской толпе.
Но тяжелее всего становилось после наступления сумерек. Я чувствовал их приближение, а потом они находились где-то рядом до самого рассвета. Я боялся заснуть, выйти на улицу, но больше всего боялся подойти к роялю. Мне прописывали всевозможные лекарства, ничего не помогало. Я играл на все более плохих сценах, в зрительных залах появились пустые места, их становилось все больше. В конце концов Анджей привез меня сюда. На следующий день приехала мама. Она сидела на вашем месте и твердила, что это ее вина. А те четверо сидели рядом и кивали. Черти!
Больной опустил голову и замолчал.
— А что говорят врачи? — спросил Ян.
— Что они могут говорить? «Еще полгода, дорогой друг, всего полгода». И так я нахожусь здесь уже три года. Я стал более спокойным, это правда. Утром фенактил, днем фенактил, вечером фенактил. Лекарство делает свое дело, поверьте. Они приходят не так часто, как когда-то, и я уже гораздо меньше боюсь. Только сумерки по-прежнему переношу очень болезненно.
— Вы, наверное, играете в свободное время, — сказал Ян. — Я видел в зале пианино.
— А вот играть мне как раз запрещено, — грустно улыбнулся юноша. — Только на Рождество главный врач позволяет мне играть колядки. Полагаю, никто никогда здесь не играл лучше меня. В нашем маленьком больном мире я все еще гениальный музыкант. Может, я даже почувствовал бы себя счастливым, если бы не сумерки, эти проклятые ежедневные сумерки.
Пианист закрыл лицо руками. За окном медленно темнело. Этажом выше кто-то истошно кричал. В коридоре раздавались скрип коляски и звяканье столовых приборов. Развозили ужин. Возле каждой тарелки в маленьком коричневом стаканчике лежала таблетка фенактила, несущая успокоение потерянным, больным, одержимым. На неподвижно лежащего Пианиста безжалостно обрушилась ночь.
Глава третья ДОЦЕНТ И ПАНИ ВЕДУЩАЯ
Доцент Красуцкий, возглавлявший отделение 3 «Б», был для пациентов почти богом. Больные мучились неделями, чтобы понять, что с ними произошло, а он умел объяснить их состояние несколькими словами. Пациенты терялись в догадках, что будет с ними дальше, а он знал это и без труда мог описать им их будущее. Больные надеялись, что им станет легче и они вдруг выздоровеют. Красуцкий не заблуждался, он знал, что в девяносто пяти случаях из ста никакого выздоровления не будет и не может быть, но не говорил об этом пациентам по причине своей деликатности.
Единственное, чего доцент Красуцкий не знал, так это того, почему именно эти, а не другие люди страдали шизофренией, психозами, неврозами, депрессией. Ему были известны разные теории на этот счет, он прочитал немало диссертаций о происходящих в человеческом мозге химических процессах, познакомился с работами, авторы которых утверждали, что для психики огромное значение имеет окружающая обстановка, но так и не отыскал исчерпывающего объяснения.
Многие годы главного врача не покидало ощущение, что шизофрению и другие душевные болезни посылает людям Творец, лично режиссирующий каждый случай. Конечно, Красуцкий не был таким глупцом, чтобы делиться с кем-нибудь своими догадками; напротив, он научился так деловито и учено рассуждать ни о чем, что в кругу психиатров прослыл очень авторитетным специалистом. Можно сказать, он вел двойную жизнь, попеременно обращаясь то к правилам научного мира, то к Божественному разуму.
Так он лечил и больных. Назначая им фенактил и другие лекарства, а порой и электрошок, он был глубоко убежден в том, что против воли Божией, выраженной таким мучительным способом, бесполезен любой электрошок. И по большей части был прав.
Взгляды доцента Красуцкого, которые любой психиатр признал бы заблуждением, для больных были спасением. Он лечил их так, как мог, не мучил процедурами, не боролся с судьбой, не испытывал на страдальцах новых революционных методов лечения. Он создавал им все условия для больничного существования. Кто-то из пациентов переживал здесь великую любовь, кто-то писал стихи или картины, кто-то с большим удовольствием прогуливался по парку. Так и проходила жизнь у доктора и его пациентов.
Два дня спустя по прибытии в отделение 3 «Б» Яна пригласили в кабинет главного врача. Красуцкий указал ему на удобное кресло, стоящее напротив его письменного стола, и, изучив результаты обследования, которое было проведено самым тщательным образом, спросил:
— Значит, вы ничего не помните?
— К сожалению, ничего, пан доцент.
— Типичный случай. А вы стараетесь что-нибудь припомнить?
— Очень. Без конца об этом думаю, но…
— Не надо так уж стараться. Зачем постоянно думать об одном и том же? Ведь много других тем.
— Но мне нужно знать, кто я.
— Действительно нужно?
— Конечно. Как же иначе? Это ведь самое главное.
— Вы уверены? — Доктор улыбнулся. — Впрочем, это немаловажно. Хочу вкратце объяснить, что с вами произошло. Сначала было предположение, что ваша амнезия вызвана ударом по голове. Так часто бывает.
— На меня напали и ударили по голове?
— Обследования не показали ни малейшего следа удара. На вас никто не нападал.
— Что же в таком случае со мной случилось?
— Ваше состояние также могло быть вызвано болезнью мозга, например, синдромом Корсакова, но ничего подобного исследования не подтвердили. Вы совершенно здоровы.
— Так почему же я ничего не помню?
— Вот именно. Я полагаю, вы не помните, потому что не хотите помнить.
— Но я очень хочу!
— Вы заблуждаетесь. Осмелюсь предположить, в вашей жизни случилось какое-то несчастье, возможно, трагедия. Сначала вы пытались справиться с этим рациональными способами, но это ничего не дало. Потом вы стали надеяться на чудо, но его тоже не произошло. Не в силах побороть проблему, мозг воспользовался защитными механизмами психики и вытеснил переживание.
— Я не совсем понял. Что вытеснил?
— Всю жизнь. Вы выбросили из головы всю свою жизнь и обрели свободу. Вас должно это радовать.
— Но я не рад. Я очень несчастлив.
— Вот здесь собака и зарыта. Поскольку нечеловеческим усилием вам удалось все забыть, то, ясное дело, вспомнить вы ничего не сможете. Слишком сильные механизмы психики задействованы. Бесполезный труд, пан Ян.
Ян был в отчаянии.
— Значит, я… так будет всегда?
— Не обязательно. — Красуцкий склонился над бумагами. — Самому не удастся вспомнить. Но ведь мы можем воспользоваться помощью извне.
— Каким образом?
— Но ведь у вас была прежде какая-то жизнь. Вы жили в каком-то городе, где-то работали, может, у вас жена и дети. У тех, кто вас знал, нет амнезии. Достаточно им вас увидеть, и все сразу выяснится.
— Но как они меня увидят? Кто они?
— Мы этого не знаем. Покажем вас всем. Одна дама на телевидении в своей программе показывает зрителям таких людей, как вы. Вопрос только в том, хотите вы этого или нет.
— Конечно. Как же я могу не хотеть?
— Обращаю ваше внимание на то, что в таком случае все вытесненное вашим сознанием вернется.
— Пускай. Я готов.
— На всякий случай я дам вам время на размышление до завтрашнего обхода. Тогда и скажете свое окончательное решение.
Доцент встал. Беседа была окончена.
В ту ночь Ян не мог уснуть. Скоро, может быть, через несколько дней, он узнает, кем является, встретится со своей семьей, друзьями, увидит собственный дом, обстановку, усядется в любимом кресле.
— Слава Богу… — прошептал он. — Слава Богу.
Потом стал воображать, из кого может состоять его семья, как выглядят родные, и только около четырех утра, утомленный размышлениями, уснул.
Пани Иоанна Тарчинская, женщина лет тридцати пяти, энергичная светская особа, обладала незаурядной красотой. Она десять лет работала на телевидении, знала всех, и все знали ее.
Она была очень чувствительной, когда сразу после окончания университета устроилась на работу в молодежную студию. Ее печалили раздавленные машинами жабы, она сочувствовала размножающимся без всякой меры божьим коровкам, которых истребляли распылением химикатов, а завидев охотника, приходила в ярость. На телевидении, скупом на эмоции, ее быстро перевели из молодежной редакции в программу о животных, где она с чувством рассказывала телезрителям о покалеченных собачках, кошечках, хомячках, морских свинках, попугайчиках и прочих меньших братьях человека. Из этой программы она должна была перекочевать в другую, повествующую об исчезающих видах животных, но в силу интриги, так и оставшейся неразгаданной, в последний момент ей отказали, тем временем вакантное место в кошаче-собачьей передаче оказалось занято, и редактор Тарчинская осталась не у дел.
Казалось, она закончит карьеру ответами на письма телезрителей или рецензентом телевизионных программ, но неожиданно заболела старенькая телеведущая, которая вела программу, рассказывающую о людских несчастьях под названием «Пропавшие, потерянные, разыскиваемые». В связи с отсутствием лучших кандидатов в передачу была срочно приглашена пани Иоанна. Программа выходила почти в два часа ночи и была обречена либо на закрытие либо на медленное угасание.
Как можно было ожидать, ведущая Тарчинская близко к сердцу приняла несчастья героев передачи. Она ездила по городкам и деревенькам, расспрашивала, отыскивала следы, встречалась с очевидцами, отвечала на каждое письмо. В результате, несмотря на поздний час, программу стали смотреть гораздо больше телезрителей, чем предполагалось. К тому же ее увидел кто-то из влиятельных людей и приказал перенести «Пропавших» на десять вечера. Передача получила многомиллионную аудиторию, а пани ведущая стала не просто популярным, но и уважаемым человеком. Она вела очень насыщенную жизнь, не вылезала из автомобиля и была счастлива.
Доцент Красуцкий был знаком с телеведущей Тарчинской еще с тех давних времен, когда мало кто знал о ее существовании. А по праву столь давнего знакомства он пользовался некоторыми привилегиями, например, знал номер личного мобильного телефона известной журналистки. Когда Ян во время утреннего обхода подтвердил, что готов на все, лишь бы узнать, кто он, доцент, вернувшись в кабинет, набрал заветный номер и во время короткого благожелательного разговора условился о съемке в ближайший четверг.
Тем временем Ян в обществе Пианиста осматривал место своего пребывания. К сожалению, осматривать было почти нечего. Отделение 3 «Б» было длинным, состоящим из нескольких частей, коридором и выходящими в него кабинетами и палатами. В южном крыле располагались врачебные кабинеты, там всегда находилось несколько пациентов, приглашенных по какому-либо поводу либо желавших поговорить с психиатром по поводам, не терпящим отлагательств. Далее располагался большой зал, где стоял старый телевизор. Там проходили встречи больных. В зале оглашались и решались важные текущие вопросы, например: кто разбросал шахматные фигуры, зачем пан Яворский засунул тапочек пана Поняка за обогреватель или кто перед обедом довел до слез пани Зосю.
Далее шли палаты, в основном четырехместные, покрашенные в приятные пастельные тона. Окна выходили в больничный парк, где в лучах солнечного света весело кружились листья, птицы порхали с ветки на ветку, и в целом вид был бы очень милый, если бы не решетки, которые несколько портили впечатление. Напротив палат пациентов находился кабинет медсестер, а рядом с кладовой — комната санитарок. В двери кабинета медсестер имелось маленькое окошечко, возле которого сразу после завтрака выстраивалась очередь за фенактилом.
Ян сразу почувствовал благотворное влияние этого лекарства. Его охватило глубокое спокойствие и своего рода отупение. Мысли перестали скакать. Теперь, даже если ему что-то и приходило в голову, мозги шевелились с трудом, а потом мысли исчезали, не вызывая рефлексирования. Более медленными стали и движения Яна. Ноги одеревенели, руки не желали подниматься. Но, увлекаемый Пианистом, он совершал шаг за шагом, не без удовольствия отмечая, что и другие пациенты так же медлительны, как и он, и лишь тупо смотрят перед собой.
Пианист шепотом рассказывал Яну о проходящих мимо больных и их болезнях, называл их по именам и упоминал наиболее любопытные факты их биографий. Несмотря на то что шепот Пианиста порой становился слишком громким, никто не обращал на них внимания. Больные задумчиво направлялись к открытому окошку в двери медсестер, а затем в сторону кабинета главного врача, кухни и больничных палат, расположенных в боковом коридоре, до открытого светлого зала, где на огромном столе сохли написанные вчера шизофрениками картины. Они перемещались по доступному им миру. Многие из них провели в нем не один год и по-своему его полюбили, ибо только благодаря спасительному действию фенактила и профессиональной опеке доцента Красуцкого стали чувствовать себя в относительной безопасности.
Однако в отделении 3 «Б» существовали не только залы и кабинеты. Центральным местом была входная дверь с особым секретом. Если к ней приближался ординатор, врач, медсестра или санитарка, она открывалась легко и тихо. Когда к ней подходил больной, она оставалась немилосердно закрытой. Пациенты, конечно, не были пленниками. Они могли гулять в больничном парке, многих отпускали домой, но входная дверь продолжала их завораживать. Если они устраивались посидеть в коридоре, то всегда поблизости от двери. Когда она открывалась, пациенты интересовались, чтобы это значило. Некоторые больные смотрели на дверь часами, а потом шли в свои палаты и, дрожащие, ложились в кровать. Их мучили кошмары.
В четверг утром Ян проснулся от шума. Заинтригованный, он вышел в коридор. Дверь была широко распахнута, какие-то молодые мужчины вносили в отделение металлические чемоданчики и скрученные кабели. Потом показался седовласый человек с камерой на плече, а за ним женщина, лицо которой выражало сочувствие всему миру. Из кабинета выбежал доцент Красуцкий. Он поцеловал женщине руку, похлопал по плечу оператора, а завидев стоящего в коридоре Яна, весело закричал:
— Чего же вы ждете, пан Ян? Побрейтесь и приведите себя в порядок! Разве вас не предупредили, что вы вот-вот станете звездой телеэкрана?!
И, смеясь, исчез в своем кабинете.
Полчаса спустя аккуратно побритый и немного растерянный Ян вошел в зал, где уже было установлено телевизионное оборудование, и оказался лицом к лицу с ведущей Тарчинской.
— Так это вы пан Ян? — улыбнулась журналистка.
— По правде говоря, Ян — мое ненастоящее имя. Меня назвали так для удобства.
— Это не важно. Через минуту, дорогой пан Ян… могу я вас так называть, да?
— Конечно, пожалуйста.
— Так вот, через минуту вы встанете вот здесь, на фоне занавески, а пан Юзеф, — журналистка указала на крутившегося рядом оператора, — вас поснимает. Мне важно, чтобы вы не просто стояли, неподвижный и хмурый, а что-нибудь рассказали в камеру.
— Но что?
— Что-нибудь о себе. Поверьте мне, телезрители обожают трогательные истории.
— Но я… видите ли… дело как раз в том, — начал Ян, — дело в том, что у меня нет никакой истории. Мне бы очень хотелось ее иметь… но я совершенно ничего…
— Знаю, — улыбнулась пани ведущая. — Доцент Красуцкий мне все рассказал.
— Понятно.
— Но ведь вы уже прожили несколько дней своей новой жизни. Расскажите нам об этом. С самого начала, с того момента, когда вы очнулись в том… Где это было?
— В парке.
— Прекрасно. Начните с парка, а потом расскажете обо всем остальном. И постарайтесь хотя бы разок улыбнуться. Многих людей узнали благодаря улыбке.
— Думаете, меня кто-нибудь узнает?
— Я в этом уверена.
Сам не зная почему, Ян почувствовал огромную симпатию к этой красивой женщине. Он послушно встал возле слегка колышущейся от легкого ветерка занавески и после знака, поданного оператором, произнес:
— Двадцать девятого августа я очнулся на лавке в парке. Я ничего не помню. Сейчас я нахожусь в психиатрической больнице, в отделении 3 «Б». Может быть, меня кто-нибудь узнает?
В этот момент он как раз вспомнил о том, что ему советовала пани ведущая, и постарался улыбнулся как можно лучше. Пани Иоанна наклонилась вперед и прошептала оператору:
— Продолжай, Юзя… продолжай… еще… еще…
Наконец шум камеры утих. Ян отошел от занавески. Ведущая Тарчинская задумчиво смотрела на него.
— Вам когда-нибудь говорили, что у вас удивительная улыбка?
— Как это? — покраснел Ян.
— Да. Это такая редкость — искренняя, открытая улыбка.
Ян не знал, что он об этом думает.
— Вы знаете, что сейчас улыбнулись трем миллионам человек?
— Скольким? — Ян беспокойно огляделся по сторонам.
— Почти трем миллионам. У нас несколько уменьшилась зрительская аудитория. Что вы на это скажете?
Ян молчал.
— Как я и ожидала, — Тарчинская улыбнулась, — вы оказались человеком робким и скромным. Рада была с вами познакомиться.
Ян нагнулся и с огромным почтением поцеловал ее руку.
— Пан доцент просил вас не утомлять. Отдыхайте. Ян неловко поклонился сначала прекрасной пани, затем оператору и по очереди всем остальным молодым людям, которые спешно сматывали разложенные на полу кабели, и вышел из зала. Он находился в невероятно приподнятом настроении. К счастью, в коридоре раздался скрип колес тележки, забренчали больничные тарелки. В отделении наступило время обеда, и все помыслы больных были обращены к этому событию.
Два дня спустя в отделении 3 «Б» произошло серьезное нарушение распорядка дня. Все пациенты вместо того, чтобы как обычно лечь спать в десять вечера и забыть о ежедневных страданиях, уселись в зале перед телевизором, чтобы посмотреть программу Иоанны Тарчинской «Пропавшие, потерянные, разыскиваемые». Сначала пани ведущая долго рассказывала о людях, которым благодаря ее программе удалось помочь, затем настало время новых сюжетов, и тогда перед глазами телезрителей предстал Ян, стоящий на фоне развевающейся от ветерка занавески. Какое-то время он печально смотрел с экрана, а потом заговорил:
— Двадцать девятого августа я очнулся на лавке в парке. Я ничего не помню. Сейчас я нахожусь в психиатрической больнице, в отделении 3 «Б». Может быть, меня кто-нибудь узнает?
Тут встал пан Яворский и сказал, что он очень хорошо знает Яна, живущего в одной палате с Пианистом (пан Яворский говорил «Пиянистом»). Он хотел добавить что-то еще, но пан Поняк усадил его на стул, и пан Яворский покорно замолчал. В этот момент на телеэкране Ян как раз перестал говорил, оглянулся, как человек, который не знает, что ему делать, а потом лучезарно улыбнулся. Картинка стала неподвижной, оставалась лишь улыбка, затем экран телевизора потемнел, и Ян исчез. Все стали аплодировать, возбужденный пан Яворский что-то кричал, стоя на стуле, пока в зал не вошли медсестры, санитарки и дежуривший в тот день врач. Не без труда им все же удалось развести пациентов по палатам и заставить принять дополнительную дозу фенактила. В конце концов около полуночи отделение 3 «Б» погрузилось в беспокойный, лихорадочный сон.
На следующее утро Ян проснулся бодрым, он был полон надежд. Позавтракал с аппетитом, аккуратно побрился и причесался. На фоне остальных пациентов, не придававших никакого значения внешнему виду, он выглядел образцово. Во время обхода доцент Красуцкий выразил надежду, что для него, Яна, сегодня, возможно, настанет самый важный в жизни день. И хотя ординатор за это время уже успел полюбить Яна, он с огромной радостью с ним попрощается и передаст в объятия семьи. Все больные отделения 3 «Б» смотрели на Яна с завистью, поскольку в их жизни уже давно не случались важные дни и они потеряли всякую надежду на то, что они когда-нибудь наступят. После обхода Ян вышел из палаты, сел на стул напротив входной двери и стал ждать.
Никто не присел рядом с ним, ведь все понимали, что он перешел невидимую границу, находится уже по другую сторону их маленького мира, и надоедать ему в столь важный момент было бы неловко. Пациенты во главе с Пианистом и паном Поняком столпились в коридоре у ближайшего поворота и оттуда поглядывали то на Яна, то на дверь. Прошло пятнадцать минут, полчаса, еще четверть часа. Наблюдение из-за угла всем наскучило, за исключением пана Поняка, который решил не бросать Яна в такую трудную минуту. Ян смиренно сидел на стуле. Иногда за дверью раздавался скрип лифта, чьи-то шаги, несколько раз ему показалось, что дверь тихонько дрогнула, но шаги быстро удалились, стихли, вновь заскрипел лифт, откуда-то доносились женские и мужские голоса, со стуком проехала тележка, наступила тишина, а затем снова заработал, лифт, и так без конца.
Вдруг дверь распахнулась, но, увы, это был доктор из соседнего отделения. Потом вбежали две медсестры, что-то друг другу рассказывая и хихикая.
Наконец за спиной Яна заскрипела тележка, развозящая обед, и в коридоре появился доцент Красуцкий. Он подошел к Яну, присел рядом и произнес:
— Наверное, они далеко живут.
— Простите?
— Полагаю, ваши близкие живут далеко от Варшавы, поэтому их еще нет.
— Но ведь они могли хотя бы позвонить.
— Это не так просто, — улыбнулся доцент. — Откуда они узнают номер телефона?
— Существует справочная.
— Да, конечно, но ведь люди иногда стесняются некоторых вещей, дорогой пан Ян. Вы сами знаете, что выражение «психиатрическая больница» звучит не слишком благозвучно. Не так легко просто набрать номер справочной и сказать: «Прошу вас номер телефона психиатрической больницы». Там могут подумать бог знает что.
— Значит, они меня стыдятся?
— Стыдятся.
— В таком случае они не приедут.
— Напротив. Конечно, им будет неловко сообщать таксисту адрес больницы, а входя в клинику, они пять раз оглянутся — не заметил ли их случайно кто-нибудь из знакомых. Но они приедут.
— Потому что они моя семья?
— Совершенно верно. Кроме того, если бы они оставили вас в беде, им было бы еще более стыдно. Поэтому, прошу вас, не сидите у двери, спокойно пообедайте и чем-нибудь займитесь.
После обеда Ян слонялся по коридору, играл в шахматы с паном Поняком (тот был превосходным шахматистом — время от времени он снимал с доски короля и прятал его в карман). Закончив игру, выпил кофе с Пианистом, поболтал с пани Зофьей, пожилой женщиной, которая выглядела совершенно здоровой, но боялась возвращаться домой, поскольку была уверена, что ее убьют соседи, а затем какое-то время наблюдал за шизофрениками, рисовавшими автопортреты.
Но все это время он находился в ожидании, то и дело всматривался в глубь коридора, не появился ли там кто, подходил (будто случайно) к двери и прислушивался, не остановился ли лифт на их этаже, болтался возле кабинета медсестер — не звонит ли телефон?
Глядя на Яна, другие пациенты тоже забеспокоились, стали кружить по коридору, прислушиваться. Дежурный врач прописал всем пациентам добавочную дозу фенактила и разрешил посмотреть по телевизору старую польскую комедию, которая не могла усугубить их тревожность. Ян сидел вместе со всеми, но никак не мог сосредоточиться на фильме. Он прислушивался. К сожалению, никто не входил в отделение 3 «Б», телефон молчал, словно заколдованный, никого не волновала судьба Яна, Пианиста, Яворского, Поняка и других больных, очарованных черно-белым действом, разыгрываемым давно ушедшими из жизни актерами.
Фильм закончился хеппи-эндом, и умиротворенные пациенты разбрелись по своим палатам. Только в палате номер семь было неспокойно. Наступили сумерки, и Пианист снова впал в отчаяние. Ян ходил из угла в угол. Казалось, что без дополнительной дозы фенактила не обойтись, но Пианист вдруг предположил:
— Может, у них там ходит только ночной поезд.
Ян ухватился за эту мысль. Вот именно, ведь существует множество населенных пунктов, откуда до столицы можно добраться лишь ночным поездом. В его воображении стали возникать образы членов его семьи, которая как раз сейчас едет к нему на поезде посреди наступающей темноты. Он почти ощутил качание вагона, услышал странные скрипы и стуки, доносящиеся из темноты, и не заметил, как уснул.
Глава четвертая ПРОФЕССОР
Следующий день был очень похож на предыдущий, с той лишь разницей, что у Яна оставалось все меньше надежды.
«Что же случилось? — думал он. — Может, произошел несчастный случай и все, кроме меня, погибли? А может, я совершил что-то ужасное, и поэтому никто не хочет меня знать? А может, я сидел в тюрьме?»
Таких вопросов в голове Яна вертелось сотни, но никто, даже мудрый доцент Красуцкий, не мог ему ответить.
К вечеру Яну стало совсем плохо. Он лег на кровать и неподвижно лежал всю ночь и весь следующий день. Ему не хотелось ни с кем разговаривать. Есть тоже не хотелось. Красуцкий решил, что лучше оставить его в покое и не мучить сочувствием. Он сам был озадачен тем, что случилось.
— Странная история… — бормотал он себе под нос. — Ну ничего… Ведь что-то все-таки должно было сохраниться в его памяти. Невозможно, чтобы человек совсем ничего не помнил.
И доцент Красуцкий решил написать своему старому преподавателю в Медицинскую академию и спросить, что тот думает об этом удивительном случае.
Ян не вставал один день, второй, третий. На четвертый день в палату после завтрака торжественно вошел Пианист и сказал:
— Профессор хочет с тобой поговорить.
— Какой профессор? — удивился Ян.
— Наш. Какой же еще?
Ян несколько раз видел больного, называвшегося Профессором, во время так называемых сеансов групповой терапии и занятий лепкой. Профессор не слишком активно участвовал в жизни отделения. Большую часть времени он проводил в кровати, читая или усердно делая записи. Все книги, которые он читал (пожалуй, на семи языках) и все его рукописи были посвящены одной теме: Вильяму Шекспиру. Он был одним из самых известных в мире исследователей творчества Шекспира.
Профессор пользовался огромным авторитетом среди больных. Когда возникал какой-нибудь конфликт, обращались к нему. Если у кого-то появлялась проблема, которую врачи не считали сколько-нибудь важной, он просил совета у шекспироведа. Профессор был молчалив, редко выступал публично, но то, что он говорил, запоминалось и цитировалось годами. Некоторые больные даже стали читать произведения Шекспира, и, когда ученый был в хорошем расположении духа, в отделении 3 «Б» проходили шекспировские чтения. Один такой день всем запомнился особенно: тогда было безусловно установлено, что знаменитый монолог Гамлета на самом деле является диалогом.
Когда он и Пианист вошли в палату номер три, Профессор, удобно устроившись на кровати, смотрел в потолок, вероятно, ожидая вдохновения. Услышав скрип двери, он прервал столь захватывающее занятие, с интересом посмотрел на Яна и улыбнулся. Ян тоже улыбнулся. Это была его первая улыбка с того дня, как пани Тарчинская сняла его для потомков на фоне занавески.
Профессор выглядел лет на шестьдесят. У него было породистое добродушное лицо и проницательный взгляд. Было заметно, что он знает о других намного больше, чем им бы этого хотелось. Яну он сразу понравился.
— Так это вы Ян… — сказал он, сгребая со стула какие-то бумаги и жестом приглашая гостя сесть. — Наслышан о вас.
— Я о вас тоже много слышал, пан Профессор.
— Спасибо сарафанному радио психиатрической клиники, — улыбнулся шекспировед. — Не обращайте внимания. Давайте просто поговорим, как человек счастливый с человеком несчастливым.
— Так вы здесь счастливы, Профессор?
— Как никогда и нигде в жизни. Об этом я и хотел бы с вами поговорить. Дорогой Роберт, вы бы не могли нас оставить наедине?
— Конечно. Ухожу, — прошептал Пианист и вышел, старательно закрыв за собой дверь.
— Когда вас, — начал Профессор, — сюда привезли, я решил, что вы в нашем скромном любительском спектакле фигура эпизодическая. Вас обследуют, покажут по телевизору, и вы исчезнете, как многие другие, попавшие в подобную ситуацию. Но на этот раз произошла необъяснимая неожиданность. В данных обстоятельствах я должен, с одной стороны, предостеречь вас от мира, находящегося по ту сторону двери, с другой — убедить вас остаться здесь навсегда.
— Как это — навсегда?!
— Именно так. До конца своих дней, независимо от того, когда он наступит.
— Но я не хочу здесь оставаться! Никто этого не хочет. Днем и ночью все мечтают только о том, чтобы выбраться отсюда.
— Все, кроме меня, — гордо уточнил Профессор. — Основательно взвесив все «за» и «против», я решил остаться здесь до конца жизни.
— Вы больны!
— Напротив, — улыбнулся шекспировед. — Возможно, вам будет непросто это понять, дорогой друг, но я единственный абсолютно здоровый человек в этом отделении.
Ян пристально посмотрел в глаза Профессора и не нашел в них ничего, что указывало бы на душевную болезнь. Взгляд был необычайно умным, слегка ироничным.
— Простите, но я совсем запутался, — признался Я н. — Ничего не понимаю.
— Это не так просто понять, — заявил Профессор. — Но ведь мы никуда не спешим. Позвольте, мой друг, рассказать вам все с самого начала. Тогда мой выбор станет вам понятен.
Профессор посмотрел в окно, мгновение он наблюдал за танцующими в легком ветерке листьями, затем начал:
— Как вы, должно быть, знаете, дорогой пан Ян, я много лет занимаюсь научной деятельностью, а именно — исследованием жизни и творчества Вильяма Шекспира. Вы спросите: а что, собственно, там можно еще исследовать? Ведь о Шекспире все давно известно.
Однако так может рассуждать лишь человек, незнакомый с вопросом. Все время появляются новые работы, касающиеся творчества Шекспира и всего того, что с ним связано. Вокруг гениального художника всегда, к сожалению, вьются бесталанные ремесленники, которые входят с гением в отношения. Ведь большой мастер не возникает из небытия, у него есть предшественники, кто-то является для него примером, он с кем-то общается, подражает авторитетным мыслителям, и все это удивительным образом его формирует. Я не хочу утомлять вас ненужными подробностями. А вот для исследователя подобные детали очень важны, поскольку позволяют понять предпосылки возникновения гения и являются темой больших и малых диссертаций, рефератов и докладов. У каждого шекспироведа — а их в мире тысячи, быть может, даже десятки тысяч — свои предпосылки и объяснения, которые вступают в противоречие с нашими, а это повод для полемики, а оттуда недалеко до новых диссертаций, рефератов и выступлений. Резюме: дорогой друг, это только кажется, что о Шекспире все давно известно; тем временем у его исследователей море работы.
Жизнь шекспироведа чрезвычайно насыщенна. Доклады в университете, работа в библиотеке, членство в редколлегии какого-либо научного журнала и, кроме того, постоянные поездки. Вы даже не представляете, как много в мире устраивается научных и научно-популярных конференций, посвященных этому гению елизаветинской эпохи. Поскольку я слыл самым выдающимся знатоком Шекспира в Польше, большинство присылаемых приглашений адресовывалось именно мне. Вот представьте себе: постоянные переезды из одного университетского города в другой, проживание в приличных отелях, прогулки с друзьями по прелестным узким улочкам, вино, шутки, дискуссии, торжества, чтение рефератов, словечки типа ad vocem[1] и à propos[2], одним словом, замечательная, приятная атмосфера интеллектуальной жизни, за которую тебе вдобавок платят, благодарят за то, что почтил своим вниманием их мероприятие. Разве можно представить себе что-либо лучшее?
— Нет, — отозвался Ян, восхищенный рассказом Профессора.
— А теперь постарайтесь себе представить, дорогой друг, что именно в этой благословенной атмосфере скрывалась ловушка, которая обернулась для меня страшным несчастьем. Это случилось в Тюбингене, университетском городке на юге Германии, известном тем, что там, в огромной башне над Неккаром, жил Гёльдерлин[3] и похоронен там на местном кладбище. Я надеюсь, вы знаете, кто такой Иоганн Кристиан Фридрих Гёльдерлин?
— К сожалению, нет, — простодушно признался Ян.
— Ничего, это знание не имеет значения в современном мире. В Тюбингене проводились прекрасно организованные шекспироведческие конференции. Среди ученых преобладали немцы, но были также англичане, американцы, испанцы, итальянцы. Из Польши был только я. Я должен был представить диссертацию, а затем прочитать лекцию студентам тамошнего университета. Как всегда, в Германии я пользовался услугами переводчика, в тот раз это была переводчица. Мне необходим был переводчик не потому, что я не знаю немецкого, напротив, я прекрасно владею языком, особенно письменным. Дело в том, что я родился в Гурном Шленске и рос среди ровесников — поляков и немцев. Можно сказать, язык Гёте я знаю почти с рождения. Однако к сожалению, не могу избавиться от специфического акцента, присущего гурношленскому люмпен-пролетариату. А такой акцент не делает чести всемирно известному шекспироведу.
Встреча проходила как раз в день моего пятьдесят третьего дня рождения. Сначала совпадение не имело никакого значения. Я был занят подготовкой к лекции и не думал о банкете в швабском ресторанчике, на который пригласил коллег. На свою переводчицу — польскую студентку, учившуюся в университете в Тюбингене, — я тоже не обратил никакого внимания. Выступление прошло как по маслу, дискуссия была необычайно интересной, и я, обрадованный, пригласил на банкет еще несколько человек, в том числе и переводчицу, Басю. К этому имени я питаю слабость — так звали девочку, с которой мы дружили в детстве, я был в нее влюблен. Ведь, как известно, человек уже в возрасте семи лет открывает в себе заинтересованность противоположным полом. Но я не об этом хотел вам рассказать.
Так вот, прием сначала проходил в исключительно милой и веселой атмосфере. Профессора со всего мира произносили в мою честь разнообразные тосты, стилизованные в духе Шекспира, а некоторые весьма шутливые, да, да! Я отвечал им в таком же духе, до упаду смешил гостей этого старого, очаровательного ресторанчика. Затем мы приступили к ужину, надо сказать, отменному. После этого начался разговор, вертевшийся, как и принято на торжествах подобного рода, вокруг моей скромной персоны. Вскоре интерес собравшихся переместился на другой конец стола, что я заметил не сразу. Это слегка обескуражило меня и даже несколько обидело.
Я слегка приподнялся, чтобы разглядеть, что происходит, и, к своему удивлению, обнаружил, что внимание приглашенных сконцентрировалось вокруг студентки, моей переводчицы, причем без каких-либо усилий с ее стороны. Напротив, она скромно сидела с краю, ела (немного) и по большей части молчала. А вот мои коллеги, знаменитые ученые из европейских и иных стран, обращались к ней с разными вопросами, говорили изысканные комплименты и всеми способами пытались завоевать ее внимание. Поскольку меня больше никто не отвлекал разговорами, я тоже решил присмотреться к этой студентке.
Я еще раньше заметил, что ее фигура далека от идеала. Да, у нее были прекрасные, удивительно округлые плечи, чуть ниже из выреза белоснежного платья выдавалась роскошная грудь. Однако ее бедра решительно были широковаты, ноги полноваты и лишены изящества. А вот лицо ее, на что я, занятый разговором, сначала не обратил внимания, было прекрасно, несмотря на неправильные черты. Была в этом лице какая-то впечатлительность, нежность в сочетании с чувственностью. Только тогда я увидел, что от девушки исходила… необыкновенная свежесть. Вот почему мои ученые коллеги, серьезные мужчины в годах, совершенно потеряли головы в ее присутствии, раскраснелись, стали молоть чепуху, алкоголь полился рекой, а под потолком завис дым от профессорских трубок. Брошенный в одиночестве на противоположном конце стола, я смотрел на Басю, которая то и дело мило и многообещающе смеялась.
Ресторан постепенно пустел. Я попросил счет. Мои коллеги взяли в гардеробе плащи и зонты, и мы толпой вышли на улицу в теплую майскую ночь. В центре города было пусто и тихо, лишь издалека доносился шум Некара. Настало время прощаться и расходиться по гостиницам. Вдруг я почувствовал в своей руке нежную ладонь Баси и, сам не знаю почему, спросил ее:
— Может, вы согласитесь завтра со мной пообедать?
— С удовольствием, пан профессор, — ответила она.
— Здесь же?
— Да, прекрасно.
И она ушла в ночь, а мы, ученые, профессора, всемирно известные шекспироведы, смотрели ей вслед, пока ее фигура, двигавшаяся вниз по узкой улочке, не исчезла из поля нашего зрения.
На следующий день мы с Басей пообедали. Два дня спустя я вернулся в Варшаву, а спустя неделю в моей квартире, в которой после развода я жил один, раздался звонок в дверь. Я знал, что приехала Бася, и был бесконечно счастлив.
В конце сентября, перед самым началом очередного академического года, она стала моей женой.
То, что я чувствовал, невозможно описать словами. Это была непостижимая смесь нежности, страсти, безумства. Мои друзья-ученые были правы. Если и существовала когда-либо на свете женщина, созданная для любви, то это была Бася, озарившая осень моей жизни. А как она занималась обустройством нашей уютной, удобной квартиры с венецианскими окнами, выходившими в парк! Мой дорогой друг, никогда в жизни я не испытывал ничего подобного и уже никогда не испытаю, но я счастлив, что мне было дано это пережить.
Мы старались обустроить нашу жизнь. Годы обучения Баси в Тюбингене были засчитаны в университете, и вскоре она начала работать над магистерской диссертацией, конечно же, по Шекспиру и под моим научным руководством.
Я восхищенно наблюдал, как она, задумавшись, грызет карандаш, как нежно касается пальцами клавиатуры, потягивается и зевает, утомленная изучением какой-нибудь из книг, которые я предусмотрительно ей подсовывал.
Работа Баси показалась мне выдающейся, но для того, чтобы не полагаться лишь на свое, возможно, субъективное мнение, я дал прочитать ее моему коллеге профессору Загурскому. Спустя три дня профессор предложил мне встретиться в кафе. Мне хотелось, чтобы он пришел в наш с Басей дом и познакомился с ней, но он вежливо отклонил приглашение. Мы встретились в маленькой кофейне в Лазенковском парке.
Вид у профессора Загурского был несколько озабоченный. Он нервничал и явно не знал, с чего начать. Я был несколько обижен его отказом прийти к нам в гости, поэтому не хотел упрощать ему задачу. Наконец он собрался с духом и сказал:
— Работа солидная, добросовестная и заслуживает положительной оценки.
Тут он прервался, и долгое время мы сидели молча. Тогда я не выдержал.
— И что?
— Что же? — еще более озадачился Загурский. — Видимо, ничего.
— Как так ничего?!
— Вот ведь какая возникает проблема… — Он нервно помешивал кофе. — На мой взгляд, большая проблема.
— Какая еще проблема? О чем ты, черт побери?
Загурский, мой старый друг еще со студенческих времен, грустно посмотрел на меня.
— Все в этой работе так, как должно быть, — сказал он. — Но вот ее там нет.
— Не понимаю…
— Ты ведь столько лет преподаешь и прекрасно знаешь, о чем я говорю. В каждой работе есть что-то личное, какая-то завороженность, порой необоснованная, неуместное и нелепое рефлексирование, новое открытие Америки. Словом, все те слабости, которые присущи молодости: недостаток опыта и «свое» видение. А здесь ничего этого нет.
— Как это нет? Здесь такие мысли, я бы даже сказал откровения…
— Это твои мысли, — сказал Загурский, глядя мне прямо в глаза. — Я знаю тебя много лет, и все эти мысли, можно сказать, помню наизусть.
Я прикусил губу.
— Она прелестная девушка, — продолжал мой друг. — Можно даже сказать — обворожительная. Но кто она — неизвестно… Что любит, что ненавидит…
— Она любит меня!
— Я бы на твоем месте не был так уверен.
Я почувствовал ненависть к Загурскому.
— Ты просто мне завидуешь, — вспылил я. — Вы все мне завидуете.
— Конечно, мы тебе завидуем, — улыбнулся он. — Но это чувство не лишает меня здравого рассудка. Что-то с ней не так. Будь осторожен, все это может закончиться катастрофой.
Я схватил Басину магистерскую диссертацию и, смеясь, встал из-за стола. Я еще обернулся и крикнул, что он мне больше не друг. А этот подлец спокойно сидел и помешивал ложечкой свой кофе, словно ничего не случилось.
Во время защиты работа Баси была признана очень хорошей, и у меня не возникло никаких проблем, кроме поиска для нее штатной единицы в университете. Теперь мы и работали вместе.
Со всего мира мне продолжали приходить приглашения на шекспироведческие конференции. Я не представлял себе поездок без Баси. Это было нетрудно реализовать, достаточно лишь отказаться от части гонорара взамен дополнительного места в гостинице. Но тут я столкнулся с неожиданным сопротивлением моей прекрасной, очаровательной супруги.
Дело в том, что Бася не хотела ездить на конференции как «мой придаток», по ее выражению. Она тоже являлась Исследователем творчества Шекспира и настаивала на том, чтобы с этим считались. Я нашел соломоново решение: напишем несколько статей в соавторстве — у меня даже были соображения насчет тем, — опубликуем и предстанем в научном мире как коллектив исследователей. Но она отвергла и эту идею. Со слезами на глазах Бася заявила, что в таком случае в научном мире ее никто не воспримет всерьез, и она будет чувствовать себя как «белая ворона под крылом авторитетного ученого супруга», с чем совершенно, абсолютно не может смириться. Она научный сотрудник университета и настаивает, чтобы ее приглашали на конференции «независимо». По сути, она была права, однако проблема заключалась в том, что на всемирные научные шекспироведческие съезды не принято приглашать магистров. Как же я мог посодействовать?
К счастью, в то самое время я получил приглашение на не слишком важную конференцию в Ческе-Будеевице. Организатором был мой старый знакомый, профессор Карел Яхна, милейший человек, оригинал, эрудит и любитель дорогих спиртных напитков. Я позвонил Карелу и честно рассказал ему о своих затруднениях. Он рассмеялся и обещал помочь. Карел придумал гениальный ход. Наутро пятницы, когда не было запланировано чтение докладов, он предложил представить свои рефераты двум молодым людям, являющимся «надеждой шекспирологии», а именно моей Басе и одному чеху, необычайно талантливому аспиранту. Таким образом, и волки были сыты и овцы целы.
К сожалению, Бася восприняла выражение «надежда шекспирологии» всерьез и целыми часами убеждала меня, что как «надежда» она должна ездить вместе со мной и на другие, более значительные и важные симпозиумы и конференции.
Мое положение с каждым днем становилось все более затруднительным. У меня до сих пор волосы встают дыбом при воспоминании о том, что я предпринимал для решения проблемы. Я звонил выдающимся ученым и умолял их организовать выступление Баси на различных научных мероприятиях. Я раболепствовал, льстил, обещал каждому из них взамен участие в каких-то незапланированных изданиях и конференциях в Польше. Дошло до того, что, когда я куда-либо звонил в очередной раз, в голосе собеседника звучало нескрываемое нежелание со мной разговаривать, но я продолжал убеждать, просить, надоедать, напоминая о наших общих удачах, и в конце концов получал то, что хотел.
Невероятно, до чего может дойти мужчина, обуреваемый губительной страстью, и к каким трагическим последствиям могут привести неуемные амбиции прекрасной женщины.
Мы вместе ездили на конференции, но от этого было мало толку. Мои выступления собирали все меньше слушателей — коллеги-профессора перестали ходить на мои лекции, и студенты, видя это, потеряли интерес. Доклады Баси просто бойкотировались. Вечера мы проводили, сидя в гостиницах, поскольку никто больше не приглашал нас что-нибудь отметить, даже мои старые знакомые избегали встреч с нами. Организаторы мероприятий размещали нас, как правило, в гостиницах, в которых никто из других участников конференций не проживал. Это были очень хорошие отели, может, даже лучше тех, в которых жили другие приглашенные ученые, но одиночество было ужасающим. Бася часами смотрела телевизор, а потом начинала кричать, что будто я виноват в том, что старики вступили в сговор друг с другом и теперь нас все ненавидят. Я убегал из гостиницы и допоздна бродил по городским улочкам.
А потом случилась катастрофа. Мне позвонил профессор Арманд Лехнер из Страсбурга. Он сообщил, что под патронажем Европарламента в их университете будет проходить Всемирная шекспироведческая конференция, на которую приедут все самые выдающиеся исследователи творчества английского драматурга. А затем без обиняков сказал, что с удовольствием бы пригласил меня, но при условии, что я приеду один, без жены. Я пробормотал, что это невозможно, но Арманд не позволил себя шантажировать. Сказал, что понимает меня лучше, чем мне кажется, но его позиция останется неизменной: либо я приеду один, либо конференция состоится без меня. Он добавил, что, по правде говоря, это дружеское приглашение, имеющее целью спасти остатки моего научного авторитета. Арманд дал мне три дня на размышление.
Не стану описывать, какую бурю негодования вызвало у Баси предложение Лехнера. А во мне вдруг что-то возмутилось. Я хотел поехать в этот чертов Страсбург, оказаться среди старых друзей, спокойно слушать их доклады и быть выслушанным. Я тосковал по вечерним беседам за бокалом вина в маленьком кафе над каналом, по которому в темноте проплывают прогулочные катера, заполненные беспечными туристами. Я так этого жаждал, что упаковал чемодан, хлопнул дверью и улетел в Страсбург.
Я снова имел успех. Все оказывали мне знаки внимания, на моем выступлении зал был полон, а в первом ряду сидели уважаемые профессора, приехавшие из разных уголков земного шара. Потом были разговоры, которые затягивались глубоко за полночь, после них я просыпался в гостинице на площади Гутенберга с тяжелой головой, но с радостью в сердце, и спешил выпить чашечку кофе в кофейне на площади перед кафедральным собором. Счастливые, бесконечно счастливые дни. У меня даже не возникло предчувствия, что это мое прощание с миром, который я так любил.
Лишь по пути домой в самолете меня охватила тревога. Действительность оказалась чудовищной.
Когда я с огромным букетом цветов, купленным в аэропорту, отпирал дверь нашей квартиры, никто не выбежал мне навстречу. Я подумал, что Баси нет дома. Положил букет, повесил на вешалку плащ и вдруг услышал тихий вздох и последовавшие за ним приглушенные стоны, доносившиеся из спальни. Я пошел на звук. На нашей супружеской кровати лежала Бася в объятиях какого-то худощавого юноши. Я узнал его. Это был Андрусикевич, мой любимец, исключительно впечатлительный и талантливый парень.
Они не заметили меня. Я пошел на кухню, сел за стол. Было слышно прерывающееся дыхание Баси. Я должен был немедленно убежать, но не мог. Сидел и слушал. Был вечер, темнело. Тщедушный студент появился в коридоре, увидел меня, что-то хотел сказать, может, «добрый вечер» или «простите», но только схватил свою одежду и, хлопнув дверью, выбежал из квартиры.
Я сидел в темноте, потом пошел в спальню. Бася уснула. Как же она была прекрасна. У меня даже слезы навернулись. Я вернулся на кухню, сидел за столом и плакал, как ребенок.
Постепенно я успокоился. Может, так и должно было случиться. Мне исполнилось пятьдесят пять лет, а ей двадцать пять. Мое время уходило, а ее только наступало. Все это не имело смысла.
Этот парень — хороший выбор, думал я. Умный, трудолюбивый. У его ног весь мир. Их, конечно, ждут годы ассистентской работы, трудности, проблемы, но потом она будет не молодой женой профессора, вызывающей всеобщую ненависть, а образованной, уважаемой дамой, как супруги моих выдающихся коллег.
Я осознал, что мой брак с Басей был прекрасным заходом солнца. А теперь все закончилось, и надо мной непроглядная звездная ночь.
Я очнулся от мыслей. Бася стояла в дверях и пристально смотрела на меня.
— Это стоящий парень, — сказал я. — Желаю вам счастья.
— Не понимаю, о чем ты…
— Все просто. Мы разведемся, и каждый будет жить своей жизнью.
Она смотрела на меня с ненавистью.
— Понятно, — сказала она. — Пану профессору надоела игрушка, и теперь он хочет выбросить ее в мусорное ведро.
— Кажется, это тебе надоело.
— Да! — крикнула Бася. — Мне надоело! До смерти надоело! Но если ты думаешь, что я позволю себя вот так выбросить…
— Я могу оставить тебе эту квартиру. Разведемся, и…
— Не будет никакого развода! И попробуй уйти — я устрою такой скандал, что…
Я не понимал, о чем она говорит. Чего ей еще, черт побери, было нужно от меня?
Мы продолжали делать вид, что у нас все как прежде. Андрусикевич из университета исчез. Я узнал, что он уехал в Краков, где пишет магистерскую диссертацию. Мне было это непонятно. Я вообще ничего не понимал, но чувствовал, как вокруг собираются тучи. Мне пришло приглашение на очередную конференцию. Бася хотела ехать, но я отказался от участия, сославшись на болезнь. Целыми днями сидел в халате на кухне и слушал радио.
Однажды Бася пришла домой с каким-то молодым человеком. Совершенно не смущаясь моего присутствия, они пошли в спальню и добрый час занимались любовью. Я затыкал уши, но все равно слышал крики Баси. Со мной она никогда не была такой страстной.
Я сидел в темноте. Когда парень ушел, она пришла на кухню, включила свет и с жалостью посмотрела на меня.
— И чего ты хочешь? — спросила она с ненавистью в голосе.
— Я ничего от тебя не хочу.
— Я молодая женщина и хочу мужчин. Ты ни на что не годишься, поэтому я буду проводить время с любовниками.
— Пожалуйста.
Она вышла, хлопнув дверью.
С того дня Бася стала приводить в наш дом разных мужчин. Сначала незнакомых, а затем, все чаще, студентов нашего факультета. Сладострастие довело до того, что она стала приглашать сразу двоих, а порой даже троих молодых людей. Я сидел в темноте за кухонным столом, слушал, как за стеной Бася кричит, стонет, воет, плачет от наслаждения, и испытывал жестокое всепоглощающее блаженство. Что со мной случилось?! Боже милосердный!
Я стал посмешищем студентов. Никто со мной не считался. Коллеги сочувствовали и в то же время отдалились от меня. Перестали приходить приглашения на симпозиумы и конференции. Разумеется, история моего падения стала достоянием международной научной общественности. Но ведь я не мог бесконечно сидеть на кухне, слушая стоны жены за стеной. Но куда мне было идти? Я пал так низко, что мне уже не было места в шекспироведческом мире, а другого для меня не существовало. Я едва не сошел с ума, целыми днями обдумывая, как выбраться из этой пропасти. И придумал.
Однажды после лекции, во время которой я проводил сравнение судеб Гамлета и князя Мышкина, я аккуратно уложил в чемодан свои книги и пришел сюда.
— Вы заболели?
— Конечно, нет, дорогой друг. Безусловно, душа моя была больна, но что касается психики, то она, как и прежде, в полном порядке. Я симулировал болезнь. Честно рассказав доценту Красуцкому свою историю, добавил лишь одну маленькую ложь: будто по ночам слышу голоса высмеивающих меня студентов. Он мне поверил или сделал вид, что верит. Мы прекрасно понимаем друг друга, к тому же он сам без пяти минут профессор. Так я оказался здесь.
— На дне.
— Нет, мой дорогой друг Ян, совсем нет. Взгляните внимательнее. У меня удобная кровать, медицинское обслуживание, книги, блокноты. А что мне еще нужно? За последние пять лет я написал две книги и множество статей…
— Здесь?
— Да. И, честно говоря, мне еще никогда так легко не думалось. Того же мнения придерживается и научная общественность. Я получаю большое количество писем со всего света — все со словами признания и просьбами написать новые статьи для серьезных журналов.
— Не понимаю, как это вам удается.
— По правде говоря, ничего сложного, — улыбнулся Профессор. — Первые месяцы пребывания здесь, разумеется, не были столь плодотворными. Я лежал на кровати и смотрел в потолок. Но атмосфера безопасности, которая меня здесь окружает, размеренный распорядок жизни и фенактил оказали благотворное влияние. Я успокоился. Мне стало не хватать книг, особенно Шекспира. Я переборол себя и позвонил профессору Загурскому. В конце концов, когда-то он был моим самым близким другом.
Тот приехал на следующий же день. Он был потрясен, но, увидев, что я веду себя как нормальный человек, со мной не случается припадков и мое чувство юмора никуда не делось, Загурский повеселел, и наша былая дружба возобновилась. С того дня он регулярно навещает меня, чтобы поговорить, а при случае приносит книги, какие я пожелаю. Американские, английские, французские.
— Откуда же он их берет? — поинтересовался Ян.
— Покупает через Интернет.
— Но это, должно быть, очень дорого.
— Не важно, дорогой друг. Он покупает их за мои деньги, я ведь теперь богат.
— Вы… вы богаты?
— Это весьма любопытная история. Спустя полгода пребывания здесь я написал короткую статью. Дело в том, что мне пришла в голову новая концепция прочтения образа Фальстафа. Я попросил Загурского прозондировать, возьмется ли какой-либо журнал, посвященный шекспировской тематике, ее опубликовать. Мой друг при случае тут и там упоминал, что я пережил тяжелое нервное потрясение и нахожусь в психиатрической клинике. Это сильно изменило отношение ко мне.
— Они не хотели иметь дела с сумасшедшим?
— Как раз наоборот. Как по мановению волшебной палочки, я перестал быть человеком, вызывающим презрение, и превратился в человека, заслуживающего сочувствия. Шекспироведы — люди исключительно благородные, дорогой пан Ян. Редакторы боролись друг с другом за право опубликовать мою небольшую статью, а когда она вышла едва ли не в самом влиятельном журнале, оказалось, что моя концепция удивительно интересна. Если быть кратким, та статья — всего семь страниц — прославила меня как исследователя Шекспира. Что вы на это скажете?
— Поразительно.
— Верное слово, дорогой друг. Остальное банально. Профессор Загурский сделал электронный почтовый ящик, куда мне приходит корреспонденция, и помог открыть банковский счет. Один молодой человек набирает мои статьи на компьютере и рассылает по редакциям. Я бы мог ездить с одной научной конференции на другую и вовсе не возвращаться в Польшу, но в этом году мне исполнилось шестьдесят, и мне уже не хочется путешествовать. Ведь я счастлив здесь. Мне безмятежно — один лишь Загурский знает, где я, а он человек неразговорчивый. Мир оставил меня в покое, и я могу наслаждаться тем, что больше всего люблю, — творчеством Шекспира.
— А что стало с ней?
— Понятия не имею. Мы никогда не обсуждаем с Загурским эту тему.
— Но ведь вас иногда, должно быть, охватывает былая страсть, воспоминания…
— Все реже и реже, дорогой друг. А если меня начинают мучить ночные кошмары, то всегда можно принять дополнительную дозу фенактила, не правда ли?
Ян долго сидел молча — одна деталь не давала ему покоя.
— Неужели доцент Красуцкий не заметил, что вы притворяетесь больным, пан Профессор?
— Не заметил? Конечно, он заметил.
— И что?
— Это не слишком простое дело, дорогой пан Ян. У пана доцента нет стопроцентной уверенности, что я симулирую болезнь, а он человек чести и не выбросит из больницы кого-то, кто может оказаться больным. Время от времени он приглашает меня на чашечку кофе и прельщает радостями жизни вне стен больницы. И тогда я вновь рассказываю ему о голосах из прошлого. Красуцкий вздыхает и оставляет меня в покое, хотя, безусловно, он все прекрасно понимает, он же умница.
Ян встал.
— Спасибо за удивительный рассказ, пан Профессор, — поблагодарил он.
— Но я прошу вас задержаться. — Шекспировед взял Яна за руку и снова усадил рядом. — Я еще не закончил. Осталась последняя, финальная глава, которая касается и вас, дорогой друг.
— Меня? — удивился Ян.
— Именно так. Когда я впервые увидел вас в коридоре, мне пришла в голову мысль, которая стала меня занимать еще больше с тех пор, как ничего не произошло после вашего обращения по телевидению. Видите ли, для полного счастья мне недостает ученика, который мог бы воспринять мои идеи во всей их сложности, а после моей смерти закончить мои работы, привести в порядок наследие, а затем сделать его достоянием научной общественности, с тем чтобы мои исследования не были забыты.
— Но ведь они наверняка не будут забыты.
— К сожалению, дела обстоят иначе, мой дорогой друг. Я это давно наблюдаю. Поразительно, как быстро забывают после смерти знаменитейших артистов, ученых, исследователей. Никто не возвращается к их выдающимся трудам. Конечно, существуют немногие, кого это не касается, но их слишком мало. Я полагаю, дорогой пан Ян, что ученики, хотя бы один, дают исследователю шанс не быть забытым. К сожалению, у меня никогда не было настоящего ученика. Я возлагал большие надежды на Андрусикевича, о котором уже говорил, но, увы, между нами встала женщина. A propos, он издал замечательную книгу об английской поэзии елизаветинской эпохи, которую предварил посвящением: «Моему учителю, перед которым я виноват». Думаю, он имел в виду меня.
— Значит, у вас есть ученик, Профессор.
— Мне тоже так казалось. Я прочитал его книгу с огромным интересом и даже восхищением, но оказалось, что представленные в ней идеи не вышли за пределы моего видения. Значит, у меня остались только вы.
— Но я ничего не знаю о Шекспире.
— Это не имеет значения, дорогой пан Ян. Нам с вами некуда идти, поэтому мы останемся здесь, в отделении 3 «Б», и будем докапываться до сути. Пять лет, десять, может, пятнадцать. А потом, когда меня не станет, вы выйдете в свет и представите научному миру сделанные нами в соавторстве открытия. Таким образом, моя миссия на Земле, а возможно, и ваша будет выполнена.
Ян молчал. До этого момента он не представлял себе будущего, теперь же оно предстало перед ним во вполне конкретном образе. Однако то, что он услышал, было ему не по душе.
— Мне очень жаль, пан Профессор, — сказал он. — Но я хотел бы выйти отсюда.
— Зачем вам это, дорогой друг? Ведь я рассказал вам о мире, и вы наверняка со мной согласитесь, — в нем нет ничего интересного.
— Я хочу увидеть все собственными глазами и все испытать.
— Хотите быть обманутым, униженным, преданным?
— Да. Я хочу радоваться и страдать. Как все.
— Жизнь… — Профессор сделал гримасу. — Глупость. Сон идиота.
— Несмотря ни, на что, пан Профессор, я хочу, чтобы мне приснился этот сон. Я мало что помню: парк, улицу, спешащих куда-то людей, но хочу туда вернуться.
— Все-таки поразмыслите…
— Я уже все обдумал. — И Ян выбежал в коридор. Профессор вдруг почувствовал безмерную усталость.
— Куда спешишь, Савл? — прошептал он. — Вернись и обратись в Павла.
Его голова упала на подушку. Шаги в коридоре все отдалялись и вскоре затихли.
Глава пятая СОЧЕЛЬНИК
Прошел сентябрь, октябрь, ноябрь, а в состоянии Яна не наступило никакого улучшения. Напрасно доцент Красуцкий проводил с ним долгие беседы, тщетно применял многократно проверенные методы лечения.
Случай Яна постепенно стал известным в мировой психиатрии благодаря электронным письмам, которые доцент рассылал во все уголки земного шара, прося совета у самых авторитетных коллег. Ему рекомендовали всевозможные терапевтические методы, которым Красуцкий немедленно следовал, но прогресса в состоянии больного не наступало. Папка с медицинскими документами толстела день ото дня, но о Яне там было немного, это было скорее свидетельство беспомощности медицины.
Встал вопрос, что делать с больным. Бесконечное его пребывание в отделении 3 «Б» не имело смысла. Ян не представлял опасности для людей и способен был устроить свою жизнь, выполняя простые задания, не требующие чрезмерного напряжения психики. Кто-то должен был найти ему место для жилья, работу, кого-то близкого. Доцент Красуцкий не мог этим заниматься, а организации, в которые он обращался, были озабочены более важными проблемами. Поэтому доцент продолжал держать нашего героя в отделении, рассылал электронные письма и надеялся на чудо.
Ян обжился в больнице и постепенно занял место между пациентами и персоналом. Он развозил обед, носил за пани психологом краски для художественной мастерской, помогал перестилать постели. Когда кто-либо из больных переживал кризис, Ян охотно просиживал у его изголовья хоть всю ночь напролет.
Присутствие Яна благотворно сказалось на здоровье Пианиста. Молодой человек перестал болезненно реагировать на наступление темноты, засыпал, как ребенок, подложив руку под щеку. Ян сидел возле него, поправлял одеяло, которое на удивление легко спадало с исхудавшего тела, а потом ложился в кровать, стараясь, чтобы она не заскрипела и не прервала чуткий сон несчастного юноши.
Яну было хорошо в отделении 3 «Б», он стал считать его своим родным домом, хотя и тосковал по миру, что скрывался за дверью. По ночам Яну снились парки, шумные улицы, все, что ему удалось увидеть и запомнить.
Приближалось Рождество. В отделении появилась елка, и Яворский с Поняком, жарко споря, установили ее в зале с телевизором. Вокруг елки танцевала пани Зося в прекрасном голубом платье. Она подавала Пианисту разноцветные шарики, которыми тот украшал молодые еловые ветки. Пан Поняк старался удержаться на приставленной к стене лестнице, чтобы водрузить на верхушку разноцветный шпиль, в его руках похожий на шпагу. Пани Зося кружилась по залу, увешанная пестрыми гирляндами, нанизанными на нитки красными яблочками и елочным дождем. Все ею любовались, а она, забыв обо всем, смеялась, как ребенок, и, подхватив двумя пальцами край платья, подбежала к окну, а потом, не переставая кружиться, оказалась возле пана Поняка. Шпиль выпал из его рук, словно пан Поняк был стоящим на кафедре священником, благословляющим пани Зосю столь необычным способом.
Пианист сидел в отдалении на стуле, в руках он вертел серебристый шар с изображенным на нем трубочистом, элегантно приподнявшим свой цилиндр. Вероятно, шар навеял ему какие-то воспоминания, в глазах Пианиста заблестели слезы, но молодой человек быстро смахнул их. Пани Зося пробежала рядом, Пианист посмотрел на нее и улыбнулся.
Ян сидел на подоконнике и радовался, наблюдая эту картину. Пани Зося, танцуя, пронеслась мимо двери, которая, словно от прикосновения елочного дождя, открылась, и в зале появился доцент Красуцкий. Он осмотрелся, сделал знак Яну и исчез так же тихо, как и появился.
Ян вышел в коридор. Восхищенные взгляды шизофреников, толпившихся вокруг, предназначались телеведущей Тарчинской. Она подошла к Яну и протянула ему руку.
— Как поживаете, пан Ян?
— Хорошо, — сказал Ян. — Только по-прежнему ничего не помню.
— У меня к вам просьба, — сказала очаровательная пани. — Мы работаем над праздничным выпуском нашей программы. Нас будут смотреть одинокие, смертельно больные, брошенные люди. Мы хотели бы поздравить их, но не так, как это обычно делают на телевидении, а так, чтобы люди почувствовали нашу искренность.
— Понимаю.
— Я долго думала, как это сделать, и решила, что наших зрителей должны поздравить вы.
— Я? Но почему я?
— Видите ли, пан Ян, со дня нашей первой встречи я не могу забыть вашу улыбку. Есть в ней что-то необыкновенное, обнадеживающее.
— Улыбка как улыбка, — пробормотал Ян.
— Нет. Такая улыбка — редкость, поверьте мне, я в этом разбираюсь. Кроме того… — она приблизила губы к его уху, чтобы что-то сказать, так, что он почувствовал легкий запах ее духов, — то, что нам не удалось тогда, может получиться сейчас. Праздничные программы смотрит гораздо больше людей.
— Вы так думаете?
— Мне бы не хотелось будить в вас, может быть, напрасную надежду. Но разве нам что-то мешает попробовать еще раз?
— В общем… в общем, ничего не мешает…
— Вот видите. Я заеду за вами завтра утром. Доцент Красуцкий согласен. Так вы поздравите наших зрителей?
— Конечно, поздравлю, — улыбнулся Ян. — С радостью.
— В таком случае до завтра.
На следующий день ровно в десять Ян вместе с пани Тарчинской покинул отделение 3 «Б». Ни одна дверь не была для них препятствием, все доктора улыбались телезвезде, а она находила для каждого доброе слово, улыбку, жест. Ян чувствовал себя пажом, сопровождающим свою королеву. Он тоже пытался улыбаться, но так стеснялся, что прятался за плечами пани, что, впрочем, было излишним — на него и так никто не обращал внимания.
В холле портье так элегантно открыл перед ними дверь, что Ян почувствовал себя почти членом палаты лордов. Они сбежали по ступенькам и сели в маленький, красивый «Форд-К». Пани ведущая опустила стекло, махнула своей прекрасной рукой, и, словно по мановению волшебной палочки, все машины вокруг притормозили. «Форд» выехал на освободившуюся дорогу. Тарчинская шаловливым жестом поблагодарила участников движения за помощь, и автомобиль как сумасшедший рванулся в сторону Маршалковской.
В Варшаве уже шла подготовка к праздникам. Витрины магазинов были украшены гирляндами и мигающими разноцветными лампочками. Среди ожидающих своего часа подарков были святые Миколаи из папье-маше, северные олени, тянущие за собой нагруженные сани, гномы с красными носами, укладывающие подарки, косули с огромными, наивными глазами. Взорам очарованных детей представали десятки кукол Барби в картонных упаковках, громоздящиеся до потолка пирамиды конструктора «Лего», расставленные на полках герои популярных комиксов.
На улицах было оживленное движение. Нарядно одетые люди спешили, многие несли пакеты и коробки и махали руками, пытаясь поймать такси.
Багажники автомобилей были забиты подарками, а на задних сиденьях среди коробок и пакетов, утомленные предпраздничной лихорадкой, сладко спали детишки, прижимавшие к себе разноцветные шарики с логотипами «Фуджи», «Макдоналдс», «Фольксваген».
Ян был потрясен. Парк и оживленная Пенькная улица, которая когда-то так ему понравилась, сейчас, в момент праздничной феерии, всеобщей радости и спешки, навеяли на него грусть. Когда машина остановилась на светофоре, ему вдруг захотелось выскочить на тротуар и навсегда исчезнуть в этой радостной толпе, забыть о доценте Красуцком, Пианисте, Профессоре, пани Зосе, Яворском, Поняке и всех несчастных из отделения 3 «Б», вычеркнуть из памяти напрочь, так, как он вычеркнул свою прежнюю жизнь. Но едва он взялся за ручку, как зажегся зеленый свет, «форд» резко сорвался с места и, введя в замешательство водителя огромного грузовика, лихо перескочил на левую полосу. За спиной Яна раздался жалобный писк сирен, «форд» прибавил скорость, должно быть, желая угодить в аварию.
Перед зданием телецентра дрожала на ветру огромная, достигавшая третьего этажа елка. У входа было шумно и многолюдно, без конца подъезжали машины, в которые запрыгивали энергичные мужчины с камерами, какими-то чемоданами и свернутыми кабелями. В холле толпилось множество людей — для участия в программе «Шанс на успех» как раз прибыли кандидаты со всей страны и блокировали вход в страхе, что шанс ускользнет из их рук. Невысокая нервная брюнетка, отвечавшая за кастинг, что-то кричала, обращаясь к участникам шоу, но ее голос терялся в общем гуле. От киоска «Руха» то и дело отходили пани и паны ведущие со стопками газет в руках. Через толпу жаждущих обрести успех граждан с помощью солидных охранников проталкивался известный политик, который по случаю праздников должен был объяснить полякам, что происходит в их стране. Ведущая Тарчинская воспользовалась моментом, проскользнула в кольцо охраны политического деятеля, и они вместе с Яном благополучно миновали фойе. На лестнице было гораздо свободнее, но они то и дело останавливались, чтобы поприветствовать многочисленных знакомых пани, каждый из которых обменивался с ней парой слов.
Ян послушно стоял за спиной своей сопровождающей и прислушивался к тому, о чем идет речь, но понимал немного. Он заметил, что на телевидении люди ведут себя совершенно иначе, чем в отделении 3 «Б». Все делалось в спешке: люди быстро ходили, говорили, жестикулировали. В больнице время словно не существовало, его у всех было вдоволь. Здесь же оно было драгоценностью, и его пустая трата считалась преступлением. Несмотря на то что Тарчинская успела провести на лестнице около двадцати важных разговоров, они с Яном уже через пять минут были на втором этаже. Пани ведущая повернула налево, тревожно взглянула на часы и понеслась по коридору, увлекая за собой Яна. Они свернули направо, затем снова налево, вбежали в маленькую, со вкусом обустроенную кофейню, но пани Тарчинская там не задержалась, а направилась к огромной стальной двери, которая в тот момент была открыта.
Ян изумился. Прямо из кофейни они вошли в огромное помещение, потолок которого терялся в темноте. Зал был ярко освещен и декорирован в народном стиле — заборчиком и цветочками, — а в центре студии безумствовал какой-то разъяренный человек. Дрожащими руками он достал из кармана мобильный телефон и стал истерично нажимать на кнопки.
— Я здесь! Привет! — воскликнула пани ведущая.
Нервный человек перестал теребить телефон.
— Где ты была, черт возьми? — крикнул он. — Все в ярости.
— Ничего с ними не случится, — улыбнулась Тарчинская. — Я привезла вам сюрприз. Познакомьтесь: это Ян, а это Войтек, директор нашей программы.
Директор посмотрел на Яна с нескрываемой ненавистью, а затем отошел и истерично заорал в пространство:
— Начинаем! Всем в студию! Начинаем!!!
На его крик из разных концов помещения стали появляться люди, присутствия которых Ян прежде не заметил. Он хотел познакомиться со всеми, но какая-то длинноногая девица схватила его за руку и потянула в сторону двери. Там стоял стул с потертой спинкой.
— Присядьте здесь, пожалуйста, и подождите, — сказала длинноногая. — Когда придет время, мы вас вызовем.
Ян с огромным облегчением уселся на стуле и стал наблюдать за происходящим.
Пани Тарчинская заняла место в кресле за низким стеклянным столиком. В то же мгновение с разных сторон к ней подъехали три громоздкие камеры и навели объективы на ее прекрасное лицо. Пани с большим воодушевлением начала рассказывать камерам о том, как много на свете случается драм и сколько существует несчастных людей, и о том, что никто о них не помнит и не интересуется их судьбами, а они, бедняги, тем временем умирают в одиночестве, лишенные всякой надежды. Вступление пани ведущей так взволновало Яна, что его глаза наполнились слезами. Он хотел встать, подбежать к пани Тарчинской и признаться, что он с ней полностью согласен. Именно так и есть, а нужно, чтобы было иначе! Он уже хотел было подняться, но вдруг вспомнил, что его еще не вызывали. Ян огляделся в поисках длинноногой девушки. Та сидела за маленьким столиком и была поглощена набором эсэмэски. Ян снова уселся на стул, но пани Тарчинская как раз закончила свое вступление.
В студии началось энергичное движение. Кресло и стеклянный столик сменила великолепно наряженная елка. К пани ведущей подбежала какая-то женщина с грудой роскошных полушубков, Тарчинская стала примерять их один за другим, а та бегала вокруг нее и размахивала руками. Яну хотелось получше рассмотреть полушубки, но он не успел, потому что к нему подошла другая женщина, довольно полная, и без слов начала мягкой кистью наносить ему на нос какую-то густую розоватую субстанцию. Ян хотел спросить, что это за таинственный порошок, но в тот момент раздался оглушительный крик пана Войтека:
— Тишина-аааа!!!
Пани ведущая прекрасно смотрелась на фоне елки, к ней сном подползали камеры, а откуда-то с потолка бодрый мужской голос произнес:
— Тишина. Камера. Снимаем.
Ян вскочил с места, но полная женщина усадила его, продолжая пудрить его лицо.
Теперь пани ведущая говорила о сочельнике. О том, какая это замечательная традиция и как много значит для нас, поляков. О том, что в сочельник мы вспоминаем близких, и как это важно. Потом пани Тарчинская стала рассказывать о детстве, достала маленького плюшевого мишку и позволила камерам его заснять. В глазах Яна снова появились слезы, которые полная женщина вытерла платком и еще яростнее напудрила его лицо. Наконец пани Иоанна закончила, и бодрый голос из-под потолка подытожил:
— Снято.
Ведущая подошла к Яну, взяла его за руку и спросила:
— Вы нервничаете?
— Немного.
— Нет причин волноваться. Пойдемте со мной.
Они встали в центре студии возле елки.
— Посмотрите в объектив вон той камеры. Представьте себе, что через него на вас смотрит старушка, которую все бросили, и у нее нет никого, кто бы мог пожелать ей всего наилучшего в новом году. Вы хотите ее поздравить?
— Хочу.
— Так сделайте это. По-своему, так, как сумеете. Ян откашлялся и начал:
— Пожалуйста… я…
— Не сейчас, а когда все будет готово и режиссер скажет «снимаем». Сосчитайте про себя: раз, два, три, четыре, пять и начинайте говорить. Представьте, что здесь никого нет, вы поздравляет ту старушку, хорошо?
— Хорошо.
Студию снова осветили софиты. Камеры стали подъезжать к Яну, беспощадно наводя на него свои объективы. Его ослепил свет, так, что он уже ничего не видел. Он хотел сбежать, но сверху раздался спокойный, решительный голос:
— Снимаем.
— Меня зовут Ян. Я потерял память и сейчас нахожусь в психиатрической больнице. У меня нет никого на свете, и я знаю, что много таких людей, как я, одиноких…
Камеры все приближались к нему.
— …очень одиноких. Поэтому я хотел бы пожелать всем… таким, как я, счастливого Рождества и Нового года, такого, какой только можно себе представить. Ведь это и наши праздники, правда?
Ян лучезарно улыбнулся.
— Всего вам самого лучшего в новом году! Лампы стали гаснуть, камеры отъехали в глубь помещения. Ян бросился к своему стулу.
— Минуточку, — раздался голос из-под потолка. — Что вы этим, собственно, хотели сказать?
— Я… не знаю… так… от всего сердца.
— По-моему, это чушь, — категорично заявил голос сверху.
— Но смысл здесь не главное, — поспешила Яну на помощь ведущая Тарчинская. — Сколько в этом чувства!
— Какого еще чувства? — потребовал объяснений голос из-под потолка.
— Человеческого. Экзистенциального.
— На мой взгляд, это бред, — пробормотал голос и умолк.
— Старый кретин, — прошептала на ухо Яну пани Тарчинская. — Не обращайте внимания.
— Но может, я… — оправдывался Ян. — Я ведь не умею… если бы мне кто-нибудь написал, я бы выучил…
— Бросьте, не огорчайтесь. Я считаю, все было супер. А теперь идите в кофейню, что-нибудь закажите и подождите меня. Все действительно было прекрасно.
Ян покинул студию. В кофейне он нашел свободный столик и сел на краешек стула. Так он просидел почти два часа, пока дверь студии не открылась и не показалась улыбающаяся, но заметно уставшая пани ведущая.
— Вы ничего не заказали?! — удивленно воскликнула она. — Как же так?! Что вы хотите? Кофе? Пирожное? А может, что-то более основательное?
— Нет… спасибо… — сказал Ян.
— Как это спасибо? Хотя бы кофе вы со мной выпьете?! — И очаровательная пани побежала к буфету.
Им принесли кофе, но беседа как-то не клеилась. Ян все время думал о том, то ли он сказал в камеру, что должен был. Мысли Тарчинской крутились вокруг следующей программы, в которой Ян не принимал участия, поэтому его судьба стала ей абсолютно безразлична. Работа прекрасной пани основывалась на постоянной погоне за несчастьями людей, ничего удивительного, что ее сердце не могло вместить столько трагедий сразу. Она рассказывала о чужой судьбе (с неподдельным состраданием и драматизмом) — и тут же забывала о ней, поскольку ее внимание уже было приковано к очередному бедолаге Страдающего болезнью Альцгеймера сменял парализованный, затем следовал умирающий от рака, женщина, потерявшая ребенка… Иоанна Тарчинская была в их жизни, если можно так выразиться, скорым поездом, шумно и ярко проезжающим мимо Богом забытых станций. Их драмы умещались в коротенький сюжет, через некоторое время после выпуска программы приходили письма, иногда с предложением помощи, а потом все неотвратимо возвращалось на круги своя. Что ж! Тот, кто считал, что Лазаря могли бы воскресить ведущие телевидения, сильно ошибался.
Пятнадцать минут спустя «Форд-К» снова мчался по ярко освещенным улицам, но Яна больше не радовал их праздничный вид. Он почувствовал усталость, сонливость и — о чудо! — обрадовался, когда машина остановилась перед больницей. Он поцеловал руку телезвезды, и автомобиль растворился в потоке спешащих в центр города транспортных средств.
В отделении 3 «Б» Яна ждал длинный стол. На выщербленных больничных тарелках были со вкусом сервированы рождественские кушанья.
Улыбающаяся пани Зося сидела между особенно элегантно одетыми по случаю праздника паном Яворским и паном Поняком. Профессор еще не присоединился к столу, сначала он задумчиво прохаживался по залу, затем любовался елкой. В праздничном торжестве участвовал и Пианист. К слову сказать, родители всегда приглашали его домой в канун Рождества, но молодой человек уезжал домой лишь после сочельника.
Кроме того, на ужине присутствовали пан доцент собственной персоной и его жена, учительница польского языка в близлежащем лицее. Так повелось, что уже много лет чета Красуцких отмечала Рождество вместе с пациентами. Вокруг стола суетились стройные, как стрекозы, медсестры, приносившие тарелки, вилки, ножи. Пан Поняк вытащил из-под скатерти пучок сена и спрятал в карман. Вероятнее всего, он намеревался отмечать этот праздник в одиночестве, чтобы вспомнить старые, добрые времена нормальной жизни.
Наконец все уселись за стол и, взволнованные, приступили к ужину. Наступили сумерки, в окнах домов, окружающих больницу, загорелись огоньки разноцветных гирлянд, украшающих елки. Потом совсем стемнело. В углу зала зажглось большое око телевизора, неизвестно кем включенного, и на экране возникла пани Тарчинская, рассказывающая о людских бедах. Сидя за столом, все не сводили с нее глаз и внимательно слушали, серьезно кивая головами. Потом появился заметно нервничающий Ян и со слезами на глазах стал говорить. Когда же он произнес «Всего вам самого лучшего в новом году!», больные сорвались с мест, начали обниматься и целоваться, желать друг другу скорейшего выздоровления и удачи. Пациенты пламенно расцеловали главного врача, его супругу, медсестер и санитарок — всех, кто был рядом.
Когда объятия закончились, доцент Красуцкий достал из кармана золотой ключик и протянул Пианисту. Молодой человек взял его дрожащими руками, подошел к инструменту, взмахом руки открыл крышку, сел на стоящий рядом стул и нежно положил пальцы на клавиатуру.
Наступила тишина. Пианист не играл, лишь прикасался к клавишам, словно старался к ним привыкнуть. Он ударил по одной клавише, другой, третьей, и вдруг из-под его пальцев возникла мелодия, но прежде, чем присутствовавшие успели ее узнать, она сменялась другой, третьей. Гениальный музыкант импровизировал, извлекая из инструмента самые неожиданные звуки, перемещаясь из одной эпохи в другую, меняя стиль за стилем, словно за пять минут хотел вспомнить весь свой давний репертуар. Наконец он остановился, на мгновение прервал игру, и тотчас же зал наполнила мелодия, которую подхватили все присутствующие:
Небо и земля, небо и земля ныне торжествуют. Ангелы, люди, Ангелы, люди весело ликуют. Христос родился, Бог воплотился, Ангелы поют, славу воздают. Пастухи играют, Пастыря встречают, Чудо, чудо возвещают.Пели громко, в унисон, словно и для них появление на небе Вифлеемской звезды было знамением важного события, будто к ним тоже направлялись трое волхвов с миррой, золотыми монетами и ладаном. Пан Яворский обнял пани Зосю, а она его, их головы почти касались друг друга.
Рождество Христово, Ангел прилетел. Он летел по небу, людям песню пел: «Вы, люди, ликуйте, все днесь праздник торжествуйте. Днесь Христово Рождество. Вы, люди, ликуйте, все днесь праздник торжествуйте. Днесь Христово Рождество».Пан Поняк смотрел на скатерть, на то место, где он рассыпал сахар, когда Ян оглашал с экрана свое новогоднее поздравление. Сейчас, неизвестно почему, эта горка из сахарного песка казалась ему самой важной вещью на свете.
Пастыри в пещеру первые пришли И Младенца Бога с Матерью нашли. Стояли, молились, Христу поклонились — Днесь Христово Рождество. Стояли, молились, Христу поклонились — Днесь Христово Рождество.Супруги Красуцкие подпевали, держась за руки, медсестры закатывали глаза, словно к ним вот-вот спустятся с небес дивной красоты ангелы, толстая санитарка пригорюнилась на другом конце стола.
Все мы согрешили, Спасе, пред Тобой. Все мы люди грешны, Ты один Святой. Прости прегрешения, дай нам оставление. Днесь Христово Рождество. Прости прегрешения, дай нам оставление. Днесь Христово Рождество.Все умолкли и взволнованно смотрели друг на друга. Кто-то подцепил вилкой серебристый кусок сельди, который, замерев в воздухе, отправился в чей-то рот. Головы пани Зоси и пана Яворского почти прикоснулись друг к другу. Доцент Красуцкий о чем-то задумался. Его супруга деловито укладывала на тарелку пирожки. Пианист повернулся к Профессору. Шекспировед кивнул.
Тонкие пальцы Пианиста снова нежно коснулись клавиатуры, первый звук был едва различим. Затем воцарилась тишина. Пианист несколько раз ударил по клавишам, и Профессор высоким, чистым голосом запел:
Тихая ночь, дивная ночь. Дремлет все, лишь не спит В благоговенье святая чета, Чудным младенцем полны их сердца, Радость в душе их горит, Радость в душе их горит! Тихая ночь, дивная ночь! Глас с Небес возвестил: Радуйтесь, ныне родился Христос, Мир и спасение всем Он принес, Свыше нас Свет посетил, Свыше нас Свет посетил! Тихая ночь, дивная ночь. К Небу нас Бог призвал, О, да откроются наши сердца, И да прославят Его все уста, Он нам Спасителя дал, Он нам Спасителя дал!Профессор умолк… Никто даже не шевельнулся, только спина склоненного над клавиатурой Пианиста вздрагивала сначала слабо, а потом все сильнее, и вдруг юный гений разрыдался. Все попытки доцента Красуцкого успокоить его оказались напрасными. Пианист горько плакал всю ночь и уснул лишь на рассвете. Над городом вставал очередной серый, декабрьский день, гасли последние огоньки на елках, на улицах было пусто, тихо и сонно, как никогда прежде.
Глава шестая ПОМЯНОВИЧ
Ян не верил в то, что участие в праздничном выпуске программы пани Тарчинской сможет изменить его судьбу, но он ошибался. На третий день после Нового года к Яну, только что плотно позавтракавшему, вошла одна из длинноногих медсестер и сказала:
— Вас ждут в зале свиданий. Приведите себя в порядок и причешитесь. Мне кажется, это кто-то важный.
— Кто-то из членов моей семьи? — дрожащим голосом спросил Ян.
— Скорее всего нет. Важный — в другом смысле слова, — пояснила медсестра и ушла.
Яна переполняли эмоции, когда он шел в зал. До той поры никто важный (за исключением, конечно, пани Тарчинской) им не интересовался. Он почти вбежал в зал и сразу в смятении замер у порога.
На стуле, стоящем почти посередине помещения, сидел худощавый господин среднего возраста. На нем был исключительно элегантный костюм с идеально подобранным галстуком и шикарные ботинки. Он сочувственно смотрел на Яна; в его взгляде была тоска. Мужчина встал, протянул Яну руку и представился:
— Ежи Помянович.
— Ян.
— Вас, наверное, удивил мой визит, — сказал Помянович, стараясь улыбнуться, что у него не очень получилось. — Это несколько запутанное дело, поэтому нам лучше присесть.
Ян послушно сел.
— Наша встреча отнюдь не случайна, — продолжал Помянович. — Видите ли, я видел вас в канун Рождества по телевизору и сразу решил, что вы можете нам пригодиться.
— Я? — изумился Ян.
— Именно вы и никто другой. Вы, вероятно, заинтригованы?
— Весьма заинтригован, — согласился Ян. — А для чего бы я мог вам… теоретически…
— Я сейчас все объясню. Не знаю, проинформированы ли вы здесь, в больнице, но через полгода в Польше пройдут президентские выборы. Я имею честь представлять предвыборный штаб одного из кандидатов. Подчеркну: одного из основных кандидатов. Моя цель и задача моих коллег, чтобы наш кандидат победил, и все, что может этому способствовать…
— И я мог бы способствовать? — поинтересовался Ян.
— Вот именно.
— Но… почему именно я…
— Ничего не происходит без причины, дорогой пан Ян. Как вы понимаете, у каждого кандидата есть слабые места. Ахиллесова пята нашего кандидата его прошлое, поэтому наш штаб делает все, чтобы он забыл это прошлое. Вы ведь забыли.
— Ну да… — согласился Ян. — Но несчастлив от этого.
— Ерунда, не стоит забивать такими вещами голову. Главное, что вы ходячий пример того, что можно жить без прошлого. К тому же, честно говоря, оно не стоит и гроша.
— Откуда мне знать…
— Поверьте мне, от прошлого одни проблемы. А если мы выбросим его из головы, например, так же радикально, как вы, то что останется?
— Будущее?
— Браво! — радостно воскликнул Помянович. — Поэтому девиз нашего кандидата звучит так: «Да здравствует будущее!» Вы согласны с этим лозунгом?
— Да… Хотя…
— Ну раз вы согласны, то можете его пропагандировать и убеждать в этом других людей.
— Наверное, могу…
— Тогда перейдем к другому вашему достоинству. У вас поразительная улыбка. Это очень важно для телевидения. Итак, нашим избирателям нужна ваша улыбка.
— Моя… улыбка?
— Совершенно верно. Наши избиратели хотели бы смотреть на мир с улыбкой, но они не видят повода для того, чтобы улыбаться. Поэтому вы улыбнетесь для них.
— Так что именно я должен делать? — не мог уяснить Ян.
— Вы улыбнетесь и провозгласите девиз «Да здравствует будущее!». И все.
— Но я знаю…
— Секундочку, я еще не сказал, какая благодарность ждет вас за эту бесценную помощь. Во-первых, мы сделаем вам документы, паспорт и так далее. Во-вторых, предоставим вам квартиру. В-третьих, за участие в предвыборной программе вы будете получать вознаграждение, которое, поверьте мне, значительно превосходит ваши потребности.
Ян был глубоко тронут.
— И я отсюда выйду? — спросил он почти шепотом.
— Конечно, выйдете. Доцент Красуцкий не видит причин, которые могли бы воспрепятствовать вам участвовать в нашем предприятии. Напротив, он считает, что для вас это шанс найти свое место в жизни. Естественно, все это время я буду поддерживать связь по телефону с доцентом Красуцким. И что вы на это скажете?
— Но… я…
— Вам не обязательно решать сразу, я могу дать вам несколько дней на размышление.
Ян испугался, что Помянович уйдет и никогда больше не появится.
— Нет! — воскликнул он. — Я не хочу размышлять! Я хочу выйти отсюда!
— А вот этого, увы, сразу сделать не удастся, — улыбнулся Помянович. — Но я приеду через два дня и заберу вас. Хорошо?
— Хорошо.
— Очень рад, что вы согласились. Нам остается сделать маленький пустяк. Выберите себе, пожалуйста, фамилию.
— Как это?
— А как же иначе? — рассмеялся Помянович. — С нашими возможностями вы можете выбрать себе любую фамилию, какую пожелаете. Пожалуйста: Радзивил, Потоцкий, Любомирский, а может, Собеский?
Ян задумался.
— Я хотел бы иметь нормальную фамилию. Как у всех.
— Но нормальных фамилий тысячи. Может, у вас есть какая-то личная причина, чтобы называться так, а не иначе?
— Наверное, нет, хотя…
— Слушаю?
— Я мог бы зваться Августом. Ян Август.
— Почему именно Август?
— Потому что это случилось в августе, когда я… на той скамье, то есть… с того момента я помню…
— Ладно, — согласился Помянович. — По сути дела, Август довольно распространенная фамилия, но в этом есть свои преимущества. Тогда, пан Ян, я приступаю к делу и в среду сразу после обеда забираю вас в огромный, прекрасный мир. Вы рады?
— Очень.
— Ну и чудесно.
Помянович встал, крепко пожал руку Яна и скрылся за дверью отделения 3 «Б». Ян медленно шел по коридору в свою палату и шептал:
— Лишь бы это был не сон. Боже, лишь бы это был не сон.
Но как он вскоре убедился, удивительное событие было абсолютно реальным.
Ежи Помяновичу было ровно пятьдесят лет (выглядел он гораздо моложе), из которых по крайней мере половину он прожил мучимый внутренними противоречиями, с которыми никак не мог справиться. Дело в том, что когда-то, когда Ежи было девятнадцать лет, он решил, что будет человеком порядочным. Порядочность была для него на первом месте.
Отец Помяновича был журналистом и, как все люди, принадлежащие к этой профессии в эпоху социализма, думал одно, говорил другое, а писал третье. Дома это принимало гротескную форму — когда три разные ипостаси Помяновича-старшего принимались выражать какую-то точку зрения. Хотя немало людей в то время имело похожие сложности, так оставим старика в покое.
В студенческие годы у Ежи был друг, поэт Юлиуш Здебский. Юлиуш был человек неоднозначный. С одной стороны, он казался вдохновенным творцом, которого не волновали проблемы обычных людей. С другой — ему были присущи многие черты типичного авантюриста из небольшого городка в предместье Варшавы, откуда он и был родом. Благодаря этому он считался лидером довольно многочисленной группы молодых университетских поэтов. Он мог пойти в любой клуб и чудесным образом организовать в его стенах проведение поэтического фестиваля. Ему даже удалось издавать маленькие сборники стихов, деньги на которые он умудрялся доставать в самых разных, часто совершенно далеких от поэзии организациях. Дружба с человеком, обладающим такими пробивными возможностями, была очень ценной, хотя его и недолюбливали, как любого, кто чересчур выделялся.
У Помяновича и Здебского была мечта — издание собственной газеты. Помянович хотел стать журналистом, а в перспективе главным редактором. Здебскому газета была нужна для того, чтобы публиковать стихи собственного сочинения и своих друзей. Мечты юношей так бы и остались мечтами, если бы однажды Помянович не познакомился с Юрчаком.
Юрчака отличали высокий рост и конкретность. В то время ему было двадцать пять лет, и он занимал ответственную должность в социалистической студенческой организации. Его философия успеха была чрезвычайно проста: нужно находить людей, которые будут делать то, что должен делать он. Люди будут удовлетворены, а Юрчаку достанутся лавры.
Той осенью Юрчаку позарез было нужно организовать студенческую газету. Подобные издания уже существовали в Кракове, Познани, Люблине, а в столице не было. Руководство Юрчака ждало от него действий. Поэтому когда он на какой-то вечеринке случайно познакомился с Помяновичем и тот спьяну поделился с ним своей мечтой, у Юрчака камень с сердца свалился.
Уже через два месяца в университете появился «Трансатлантик» — ежемесячник, выходивший раз в квартал или еще реже. Название придумал Здебский — так назывался его любимый роман Гомбровича, — хотя Юрчак всякий раз, когда напивался, заявлял, что речь идет о корабле, который поможет молодежи благополучно миновать рифы молодости и приплыть к спокойному океану социализма.
Помянович выполнял обязанности главного редактора, Здебский настоял на том, чтобы стать заведующим отделом культуры, материалы которого составляли больше половины объема газеты, а Юрчак принимал похвалы. Все были счастливы.
Описание судьбы «Трансатлантика», полной драматических коллизий, могло бы составить содержание романа. Не было в столице ни одного линотиписта, с которым бы Помянович не пил водки. Он носился по городу как сумасшедший, что-то без конца улаживал, организовывал, требовал, перекупал, менял, выпрашивал, и только благодаря этому очередные выпуски газеты появлялись на свет. А в то же самое время Здебский устраивал в редакционном кабинете легендарные встречи с участием многочисленных поэтесс и поэтов, за что его два раза хотели отчислить из университета.
Однако было бы ошибкой думать, что Здебский всего лишь паразитировал на неуемной деятельности Помяновича. На него была возложена крайне важная и деликатная миссия — общение с цензурой.
Обычно это входило в обязанности ответственного секретаря, но в «Трансатлантике» такой должности не имелось. Было решено, что Здебский в контактах с цензурой в случае чего прикинется дурачком, а если совершит промах, то его формально выкинут из редакции — и точка.
О том, что вытворял Здебский на встречах с цензорами, ходили легенды. Каждую простейшую вещь он объяснял им по нескольку раз. Как молитву, читал им стихи — свои и своих друзей, настаивая на том, чтобы те оценили их по достоинству. Он произносил длинные речи о трудном положении молодых литераторов. В конце концов Здебский так всех замучил, что представленные им материалы бегло просматривались, ставились печати, а его самого выпроваживали за дверь, хотя он и норовил вернуться, чтобы продекламировать какую-нибудь поэму. Благодаря наладившейся связи поэта с цензурой в «Трансатлантике» печатались тексты, которые нигде в другом месте не могли бы появиться. Газета приобрела репутацию смелого и бескомпромиссного издания, Помянович и Здебский купались в лучах славы.
К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Однажды оба редактора были вызваны в кабинет Юрчака. Там уже сидел какой-то не слишком симпатичный на вид мужчина средних лет.
— А вот и они: Юрек Помянович и Юлек Здебский, — представил их Юрчак. — А это товарищ Беджик из варшавского комитета ПОРП[4].
Оба редактора уважительно поклонились.
— Что ж, коллеги редакторы, — начал товарищ Беджик. — Партия наблюдает за вами, внимательно наблюдает уже некоторое время.
Помяновичу и Здебскому стало как-то не по себе. До этого момента им и в голову не приходило, что за ними может наблюдать партия.
— Вы слишком много себе позволяете, — продолжал Беджик. — Но мы вас понимаем — молодежь всегда шумит. Пошумели, и хватит. А теперь пора повзрослеть и вступить в ряды партии. Я прав?
— Конечно, правы, — с энтузиазмом поддакнул Юрчак. — Я и сам думал, что пора.
— Вот-вот. Чего вы ждете? Подавайте заявления на имя товарища Юрчака и вступайте, товарищи. Партия вас ждет.
— Так точно! — воскликнул Юрчак. — Заявления мне, я лично напишу вам рекомендации, и товарищ Грушка напишет.
— Совершенно верно, — обрадовался товарищ из варшавского комитета. — Так нужно.
Юрчак махнул рукой, словно отгоняя муху, и оба редактора исчезли за дверью.
— Ну, и что теперь? — спросил Помянович.
— Пусть они меня в зад поцелуют, — ответил Здебский. — Черт возьми, через полчаса я должен быть на поэтическом вечере. Пока.
И побежал вниз по лестнице.
Здебский быстро и легко принял решение, не утруждая себя излишним обдумыванием. Для Помяновича задача оказалась не столь простой. Он знал о жизни больше, чем приехавший из маленького городка поэт. Например, ему было известно, что партия не каждому предлагает вступление в свои ряды и таким образом выделяет человека, что в дальнейшем может оказаться первым шагом на пути к блестящей карьере. Зато отказ партия воспринимает как страшное оскорбление, а что значило иметь дурную репутацию в глазах партии — сын журналиста знал не понаслышке. Ну, и наконец принципиальный вопрос: прилично это или нет?
Бедный Помянович всю неделю ходил из угла в угол и обдумывал, как ему следует поступить. Утром он был готов вступить в партию, вечером — отказаться пополнить ее ряды. Садясь в трамвай, он был против, выходя — обеими руками за. Он перестал бывать в редакции, ходить на лекции, по ночам не мог спать либо видел кошмары.
На одной из лекций по философии ему на помощь вдруг пришел мудрый старец из Крулевца[5].
— Если у меня есть моральные принципы, то они останутся со мной независимо от обстоятельств. Эврика! — обрадовался Помянович.
Вот так благодаря короткой, но широко известной цитате приличный человек принял решение вступить в Польскую объединенную рабочую партию.
Помянович купил в ближайшем магазине пол-литра и пошел искать своего друга, чтобы поскорее ему обо всем рассказать. Найти Здебского было нетрудно. Он сидел в «Харенде» и всматривался в светло-голубые глаза одной юной поэтессы, а она смотрела в серые глаза задумчивого Здебского. Помянович не уважил чувств приятеля, хлопнул того по плечу и заявил:
— Мне надо с тобой выпить.
— Завтра, — сказал Здебский, не отрывая взгляда от переполненной поэзией голубизны, — или в какой-нибудь другой день.
— Пожалуйста, Юлек, — не унимался Помянович. — Это важно.
Здебский с трудом вернулся в действительность.
— Прости, дорогая, — сказал он. — У моего друга проблема.
Девушка встала, поцеловала Здебского и затерялась в сигаретном дыму, клубившемся в «Харенде». Поэт набросил на плечи куртку, и оба покинули заведение.
У стены Варшавского университета посреди густых кустов сирени стояла деревянная скамейка. Для Помяновича и Здебского она имела символическое значение. Здесь они когда-то мечтали о будущем, строили планы, обсуждали концепцию «Трансатлантика». Сейчас они тоже присели на эту скамейку и какое-то время молчали, по очереди потягивая из бутылки.
— Юлек, — наконец сказал Помянович. — Я решил вступить.
— Куда? — спросил Здебский, уже успевший забыть обо всей этой истории.
— В партию.
— В партию? — удивился поэт. — Какого черта?
— Хочу быть журналистом.
Здебский с недоверием смотрел на друга.
— Но ведь ты и так журналист, — сказал он. — Ты даже главный редактор.
— Это лишь игра, Юлек. Когда-нибудь она закончится, начнется настоящее дело.
— Нонсенс! — воскликнул Здебский. — Как раз то, что мы делаем сейчас, — настоящее дело, я вся эта идиотская партия, комитет госбезопасности и прочее дерьмо — бессмысленная жестокая игра!
— Не кричи так громко, Юлек.
— Буду кричать.
— Не кричи. Я тебе обещаю, даю честное слово, что я и там… буду порядочным человеком.
— Порядочным?! — усмехнулся Здебский. — Разве что случится чудо, потому что я не понимаю, как это иначе возможно.
— Ты ведь только поэт, Юлек. Совершенно не знаешь жизни.
Здебский взял бутылку и осушил ее до дна.
— Может, и не знаю, — кивнул он. — Но если в этом заключается знание, то я предпочитаю не знать. Лучше ни бельмеса не смыслить.
Он с размаху бросил бутылку, встал и исчез в кустах сирени.
Помянович еще долго сидел в одиночестве на скамейке. Лишь когда на небе заблестели первые звезды, он встал и, бережно неся свои моральные принципы, поплелся домой.
Решение Помяновича на первый взгляд ничего не изменило, но на самом деле изменило многое. Прежде всего в «Трансатлантике» откуда ни возьмись стали появляться деньги. Увеличился тираж, объем газеты, даже стали платить гонорары.
Чем богаче становилась газета, тем меньше можно было сказать на ее страницах. Каждую минуту Помяновичу звонили товарищи из разных инстанций и что-то деликатно ему внушали. И всякий раз это была рекомендация, которой нельзя было пренебречь.
В редакции появились новые люди, лет тридцати и даже старше. Все они давно закончили вузы, все до одного были партийные и имели различные связи в учебных заведениях, районных и бог знает еще каких органах власти. Здебский перестал появляться в редакции (хотя взамен одной комнаты, которую они занимали раньше, им были выделены три просторных кабинета). Он встречался с Помяновичем в городе, чтобы передать тому материалы для печати. Помянович с грустью наблюдал, как газета, заполненная статьями тридцатилетних, становится все более скучной и невразумительной. Лишь отделу культуры удавалось держаться на уровне. Иногда.
А в то время, когда Помянович искал и хранил свои моральные принципы, а затем пытался приспособиться к новой ситуации, Юрчак поднимался вверх по карьерной лестнице. Словно подхваченный смерчем, он перемещался из одного кабинета в другой, занимал все более просторные помещения во все более престижных местах. Ему удалось, как тогда говорили, «прицепиться» к одному деятелю, который стремительно шел в гору. Того звали Здислав Мончинский.
Однажды, после очередного повышения и получения новой должности в партийной иерархии, Юрчак вызвал к себе Помяновича. Редактор был настроен позитивно и не предполагал ничего дурного. Когда после долгого ожидания он был приглашен в кабинет, кроме Юрчака он застал там незнакомца, энергичного, аккуратно подстриженного, но с виду угрюмого. Без долгих вступлений Юрчак представил мужчин.
— Это и есть товарищ Помянович. А это товарищ Кубелик из службы госбезопасности.
— Из службы… — повторил удивленный Помянович, но опомнился и немедленно умолк. Что, черт побери, службе госбезопасности было от него нужно?
— Садитесь, товарищ Помянович, — предложил Кубелик, словно это был его кабинет. — Как поживает ваша газета?
— Нормально. Развиваемся.
— Да, читаю, читаю… — Кубелик дружески хлопнул его по плечу. — По долгу службы положено, но в действительности читаю по зову сердца.
— Товарищ Кубелик — ответственный за студенческую прессу, — поспешно пояснил Юрчак.
— Только вот одна вещь нас беспокоит, товарищ Помянович, — продолжал эсбэшник. — А именно: отдел культуры.
— Его весьма хвалят, — осмелился заметить Помянович.
— Прекрасно. Интересные мысли. Новые формы. Но дело не в форме, а в содержании. Я прав?
— Конечно, — согласился Помянович. — Но я на все обращаю самое пристальное внимание. К тому же у товарищей цензоров тоже не возникает возражений.
— Может быть, и не возникает… — сказал эсбэшник. — Однако есть во всем этом что-то неуловимое, как бы это сказать… не наше…
— Не понимаю…
— Ну, не будем ходить вокруг да около. Независимо от того, что вы там публикуете, скажу прямо — не нравится нам этот ваш Здебский.
Помянович не знал, что ответить.
— Он очень способный, — быстро нашелся Юрчак.
— Тем хуже, товарищ. Тем хуже. Способный, но он наш враг.
— Я бы не сказал, что он враг… — несмело возразил Помянович.
— Вы с ним водку пьете?
— В последнее время нет.
— А у нас есть сведения от тех, с кем он пил. И не только пил. Они его записали. Знаете, что ваш Здебский говорит о Польской народной республике?
— Что касается наших с ним разговоров…
— Ну конечно, с вами он сама невинность. Хитрец? Но мы его раскусили. Одним словом, этому подлецу не место в нашей газете.
Помянович вопросительно взглянул на Юрчака. Неужели «Трансатлантик» — газета службы госбезопасности? Юрчак просматривал разложенные перед ним бумаги, было очевидно, что он не собирался отвечать на вопросы. Эсбэшник тем временем подошел к столу и нажал большую красную кнопку.
— Слушаю… — раздался приятный голос секретарши.
— Вызовите товарища Бабинца.
Дверь открылась, и в кабинет вошел невысокий неприятный блондин. Маленькие хитрые глазки быстро оглядели кабинет и верноподданнически уставились на Кубелика.
— Товариш Бабинец, — сказал эсбэшник, — тоже поэт, но наш, пролетарский. Он член художественного товарищества рабочих, приверженец союза поэтов-студентов и поэтов-рабочих.
Только теперь Помянович вспомнил Бабинца. Тот был мишенью шуток молодых творцов в Варшаве.
— Отныне отделом культуры будет руководить товарищ Бабинец, — заключил эсбэшник.
— Но профиль газеты… — промямлил Помянович. — Профиль, товарищ…
— Капитан… — подсказал Юрчак.
— Товарищ капитан, профиль — вещь важная. Читатель одобрил нашу концепцию. Мы обрели авторитет, и…
— Не несите ахинею, Помянович! — разъярился эсбэшник. — Не существует никакого читателя! Существуем только мы, и вы должны думать, как понравиться нам! Ясно? А этого Здебского чтобы я больше в вашей газете не видел. Никакого стихоплетства! Довольно!
— Простите, товарищ капитан, что я вмешиваюсь не в свое дело, — осторожно вмешался Юрчак. — Лично я за эволюцию.
— А зачем нам какая-то эволюция?
— Партия ценит эволюционный путь.
— Все это современные глупости. Ну да ладно. Принимая во внимание линию партии, я позволю вам немножко эволюции. О чем конкретно идет речь?
— Вот если бы у Здебского была возможность публиковать небольшие фельетоны, скажем, объемом в одну машинописную страницу, в уголке на предпоследней странице.
— Вы тоже за этого Здебского?
— Нет, конечно. Но, полагаю, было бы неплохо его контролировать. Мы даем ему самую малость, зато держим в кулаке. Уж так он никуда от нас не денется.
— И так никуда не денется, — сказал эсбэшник. — Ну да ладно. Нашему строю не повредит какой-то вражеский зародыш.
Приняв решение, собравшиеся разошлись по своим делам.
Кто бы знал, с каким тяжелым сердцем Помянович переступил порог «Харенды», чтобы сообщить Здебскому о его увольнении с поста редактора отдела культуры и назначении на его место Бабинца. К его удивлению, друг принял известие весьма спокойно.
— Может, все к лучшему, — сказал он. — Я и так подумывал, что пора смываться.
— Ты хотел уйти из «Трансатлантика»? Почему?
— Газета никуда не годится, это невооруженным глазом видно.
— Юрчак выбил для тебя фельетон. Небольшое местечко на предпоследней странице.
— Думаешь, я буду писать фельетоны для газеты, в которой отдел культуры возглавляет Бабинец? Ты, должно быть, с ума сошел.
— Зато ты будешь на слуху. Может быть, скоро «Трансатлантик» станет распространяться через киоски.
— А зачем? Мало им макулатуры?
— И тебе не жаль?
— Мне жаль одного, — сказал Здебский. — Если бы я еще немного продержался, возможно, удалось бы узнать, что за мерзавец настучал на меня в службу госбезопасности.
— Это для тебя имеет значение?
— Имеет. У нас собирались одни поэты. Талантливые поэты, некоторые даже очень одаренные, не какой-нибудь там Бабинец. Один из них записал нас на диктофон и побежал в эсбэ. Не думал, что такое возможно.
— Теперь ты об этом знаешь.
— Но не знаю кто.
— Это так важно?
— Важно. Если один раз настучал, то и впредь будет доносить. Теперь даже водку с друзьями не выпьешь… Что ты так на меня уставился? Тебя это не касается.
— Я в партии, и на меня никто не стучит?
— Ерунда. Ты сам знаешь кто.
— Думаешь, Бабинец?
— Я ничего не думаю, дорогой Юрек. Я знаю. Но это знание вовсе не делает меня счастливым. Пока.
Здебский с трудом встал из-за стола и поплелся к выходу. Так из жизни Помяновича ушел его единственный друг.
Три месяца спустя из его жизни исчез и «Трансатлантик». Это случилось до банального просто. Когда однажды утром он вошел в редакцию, то застал там Юрчака, сидевшего в кресле и просматривавшего последний номер газеты.
— Ну что, Юрек… — задорно начал тот. — Пакуем вещички.
— Кто пакует? — побледнел Помянович.
— Ты. Тебя повысили. Надеюсь, не забудешь, кому обязан, а? С тебя бутылка.
— Повысили? Что это значит?
— Ты теперь работаешь в «Итд». Ответственным секретарем редакции.
Помянович сделал глубокий вдох. Карьера, о которой он мечтал, была открыта. Он вытащил из письменного стола ящик и одним движением высыпал его содержимое в сумку. Потом они вместе в Юрчаком пошли выпить обещанной водки.
С тех пор Помянович без конца шел в гору. Из еженедельника он перешел в областной ежедневник, оттуда в центральную газету, а затем в еще более влиятельную. Он старался, бегал, улаживал и во всем, что бы ни делал, стремился придерживаться линии Польской объединенной рабочей партии. Ни разу даже не зашел в редакцию «Трансатлантика». А зачем ему, собственно, было туда заходить? Бабинец, занявший его место, быстро избавился от людей, связанных с Помяновичем, и поставил своих. Газету теперь заполняли партийные статьи, написанные в боевом духе, и стихи рабочих-поэтов. А поскольку пролетарских поэтов в тогдашней Польше было очень много, «Трансатланик» с каждым номером становился все более толстым и цветным. Проблема была лишь в том, что никто не хотел покупать газету. Бабинец помучился-помучился и спустя какое-то время решил раздавать ее бесплатно. Толстые пачки «Трансатлантика» лежали в университетской библиотеке, в большом актовом зале Политехнического института, на факультетах и в студенческих клубах. Но несмотря на это, «Трансатланик» никого не интересовал. Каждый месяц со столиков забирали пачки макулатуры, а на их место клали новые. Во время партийных собраний Бабинец докладывал, как быстро растет тираж газеты и каких знаменитостей ему удалось залучить в коллектив. А вечером он приходил домой и в одиночестве пил водку, поскольку даже штатные сотрудники службы госбезопасности отказывались употреблять алкоголь в компании Бабинца. В конце концов случилось то, чего пленник союза поэтов-студентов и поэтов-рабочих боялся больше всего: неведомо почему он не понравился одному высокопоставленному товарищу. Так с лица земли исчез «Трансатлантик», а вместе с ним и Бабинец. Годы спустя он неоднократно пытался выплыть на волнах всевозможных событий, но всегда кому-нибудь приходился не по душе. Бывают такие люди на свете.
Лет десять спустя после этих событий заместитель главного редактора влиятельного национального еженедельника Ежи Помянович случайно встретился со Здебским. Поэт сидел на скамейке и смотрел на бьющую из фонтана воду. Одет он был бедно, длинные немытые волосы ниспадали на спину, Юлиуш похудел и как-то поблек. Помянович заметил его лишь когда оказался совсем близко.
— Юлек! — радостно воскликнул Помянович. — Это ты?
— Я, — отозвался Здебский, продолжая смотреть на воду.
— Юлек! Сколько лет! Пойдем выпьем водки.
— Я не пью водку.
— Тогда кофе.
— Кофе, пожалуй, выпью.
Они пошли в «Сондечанку», заняли столик в уголке. Помянович смотрел на друга с огромным интересом.
— Куда ты пропал? — наконец сказал он. — Чем занимался?
— А ты?
— Все как всегда. Из редакции в редакцию. Ничего интересного.
— Ага. Это для тебя ничего интересного.
— Не то что в наши старые, добрые времена. Ну, рассказывай. Что делал?
— Я был в армии.
— Год? После учебы?
— Два года. Перед этим меня отчислили из универа.
— За что?
— Официально за «хвосты». Ну, а как было на самом деле, ты знаешь.
— Шутишь?
— Мне не до шуток. Видишь ли, Юрек, мне бы ни за что не поставили зачет. Это было невозможно. Ясно?
— И как было в армии?
— Я сразу заметил, что они настроены враждебно. Но потом как-то устаканилось. Парни поняли, что их используют, и приняли меня. Послушай, что я тебе скажу. Если тебе когда-нибудь придется идти на войну, держись подальше от интеллигентов — пропадешь. Иди с простыми ребятами из деревень и провинциальных городков. Они не предадут. Так два года и прошли.
— А потом?
— Тоска. Нормальной работы я не мог получить, ибо, во-первых, у меня не было высшего образования, а во-вторых, они, эти упрямые мерзавцы, не отставали. К счастью, я встретил одного приятеля-поэта, сотрудника дома культуры в Отвоцке. Я стал преподавать «изо».
— Ты? Да ведь ты и линии не нарисуешь.
— Так я и не рисовал. Смотрел, как другие рисуют и пишут, а потом оценивал и давал советы. Нет на свете ничего проще, чем оценивать чужие работы и давать советы. К сожалению, в дом культуры пришел новый директор и потребовал от меня предъявить документ об образовании. Ни бумаги, ни квалификации у меня не было, пришлось уволиться.
— И что же ты делал?
— Перебивался по-всякому. Был культработником в санатории, заведовал пунктом проката байдарок. Разносил молоко. Работал в вокзальной кассе. Женился.
— Где живете?
— Снимаем на Сталевой. Дешево. Район такой, что без «калаша» на улицу не выйдешь. Но меня не трогают. Знают: поэт — Божий человек.
— Пишешь?
— Редко. Я поэт по воскресеньям, как говорится. Порой что-то даже публикуют. Приятно, но не больше. А ты как? Женился?
— Пять лет назад. Аня работает на телевидении.
— Надо же, на телевидении. Ну, если не стыдишься, приходи к нам с женой в субботу. Выпьем, вспомним старые добрые времена… Зайдешь?
— А почему бы и нет?
— Приходи в шесть. Я встречу вас на остановке, чтобы вас не убили по дороге.
— Мы будем на машине.
— О, на машине! Какая марка?
— «Ауди».
— Вы только посмотрите — «ауди»! Какого цвета?
— Красного.
— Предупрежу соседей, чтобы случайно не подожгли. Ну, тогда до субботы, Юрек. Пока.
В субботу, ровно в шесть, красная «ауди» подъехала к обветшалому дому на Сталевой. В окна выглядывали жильцы, которых за один только внешний вид следовало бы посадить в тюрьму. Какое-то время они изучали автомобиль и высадившихся из него Помяновича и его элегантную жену, а потом, словно по команде, исчезли, Супруги Помяновичи миновали темные, низкие ворота, прошли двор и оказались на лестничной клетке флигеля. Деревянная лестница от каждого шага страшно скрипела, иногда даже угрожающе шаталась, словно вот-вот собиралась рухнуть. На лестничной клетке воняло котами, затхлой мочой и пылью, которая лежала здесь десятилетиями.
На полпути Помяновичи поссорились. Она хотела тотчас же вернуться к машине, он настаивал, что если уж приехали, то надо дойти до места назначения. Когда спор достиг апогея, на третьем этаже неожиданно открылась дверь и показался Здебский. Чета Помяновичей с усилием совершила оставшийся путь и оказалась в жилище.
Квартира, арендованная Здебским и его женой Малгосей, состояла из довольно просторных, но сильно запущенных кухни и комнаты. Пол из крашеных досок, почерневшие от старости подоконники, безвкусная мебель. Рядом со старинным туалетным столиком возвышалась стенка из эпохи шестидесятых. Посередине стоял шатающийся стол, который Малгося быстро прикрыла старой скатертью, На кухне громоздились грязные тарелки, на огромном допотопном топчане спал полинявший кот. При малейшем дуновении ветерка от штор непонятного цвета поднималась пыль.
На привыкшую к элегантности супругу Помяновича квартира произвела удручающее впечатление. Сам Помянович тоже помрачнел, сел за стол и уставился на скатерть. Здебского не беспокоило молчание гостей. Он открыл дверцу стенки и достал бутылку водки, а его супруга в то же мгновение внесла в комнату миску с сосисками в томатном соусе. Все это так поразило пани Помянович, что ей ужасно эахотелось чудом оказаться где-нибудь в другом месте, хоть на Северном полюсе.
Но чуда не произошло. Здебский налил водки в подозрительно большие рюмки и воскликнул:
— До дна, дорогие мои! За «Трансатлантик»!
И вдруг заместитель главного редактора национальной ежедневной газеты забыл о своем статусе и вновь почувствовал себя Юреком Помяновичем, молодым, бодрым и полным надежд. Он поднял рюмку, изо всех сил чокнулся с поэтом и радостно влил в себя содержимое. И поэт, и его супруга последовали примеру, только пани ведущая положила руку на налитую до краев рюмку и тоном, не допускающим возражений, сказала:
— Я за рулем.
Этого было достаточно, чтобы Здебский оставил ее в покое.
То был самый ужасный вечер за всю богатую впечатлениями жизнь Анны Помянович. Ее муж, которого она считала человеком солидным и культурным, ни с того ни с сего стал пить водку стаканами, брататься с какими-то подозрительными людьми и даже (так ей показалось) оказывать знаки внимания пани Здебской, которая была очень хороша собой, несмотря на скромную одежду и переполнявшую ее печаль. Около двух ночи заместитель главного редактора отворил окно и крикнул в темноту, окутавшую Сталевую улицу:
— Да здравствует поэзия!!!
Анна начала осматриваться в поисках места, куда могла бы спрятаться на случай скандала. Однако — чудо! — возглас редактора остался без эха. Это подзадорило Помяновича. Он изрядно высунулся из окна и хриплым тенорком затянул:
Мой «Трансатлантик», развивайся! Мой «Трансатлантик», где ж ты, где? Уже на свалке, Мой «Трансатлантик», Или бог знает где?Испустив последнюю трель, заместитель главного редактора не выдержал, упал в объятия Здебского и разразился рыданиями. Его уложили на топчане рядом с котом и напоили крепким кофе, чтобы успокоился. Придя же наконец в себя, он потащил поэта в кухню и затеял важный разговор.
— Послушай, Юлек, — сказал он. — Я хочу тебе как-нибудь помочь. Ты ведь пропадаешь.
— Точно. Пропадаю, — признался Здебский.
— Приходи ко мне в газету. Официально я не смогу, официально мы с тобой не знакомы, но неофициально, может быть, что-нибудь получится.
— И что я там буду делать? — иронично усмехнулся Здебский. — Заведовать отделом культуры?
— Нет, ты сам знаешь, что это невозможно. Устроишься в отдел городских новостей.
— И что я должен буду делать?
— Ну, например, попадет кто-нибудь под трамвай, напишешь шесть строк. Убьют кого-нибудь — напишешь четверостишие. И так потихоньку у тебя наберется приличное количество стихотворений.
— Не сердись, Юрек, но мне это не очень интересно, — мягко ответил Здебский. — Но я ценю твое доброе ко мне отношение.
— Это же только для начала, Юлек. Потом мы тебя в другое место пристроим. Помнишь Юрчака? Он тебя всегда любил, а теперь он занимает очень высокий пост, очень. Постепенно убедим товарищей в том, что ты наш.
— Проблема в том, что я не ваш, — сказал Здебский.
— А чей же?
— Тех, других. А если серьезно, то я сам по себе. Помянович взял рюмку.
— Скажи мне одну вещь, — тихо сказал он. — Только честно. Как по-твоему: я порядочный человек?
— Ну… раз сидишь здесь… — сказал Здебский. — Это свидетельствует о том, что в тебе… осталась некоторая порядочность, только…
— Только что?
— Я бы так сказал: ты порядочный человек в неприличной ситуации.
— Это хорошо?
— Может, и хорошо, только кому, черт побери, нужна твоя порядочность?
Помянович задумался.
— Мы пойдем, Юлек, — наконец сказал он. — Ане завтра рано надо быть в студии.
Он встал и направился к двери.
Пять минут спустя чета Помяновичей осторожно спускалась по лестнице. Когда они оказались во дворе, заместитель главного редактора остановился.
— Там живет мой друг, — он указал на освещенное окно на третьем этаже. — Мой единственный друг.
— Люди так не живут, — сказала его жена. — Это не люди.
— А кто? — удивился Помянович.
— Никто.
Через мгновение красная «ауди» неслась по Сталевой улице в сторону центра.
В последующие дни и недели Помянович ждал Здебского, хотя и понимал, что Юлек не придет.
Через месяц он перестал ждать, но стал подумывать о том, что неплохо было бы навестить старого друга. Он чувствовал, что не сказал ему что-то важное. К сожалению, жена Помяновича твердо заявила, что ее теперь никакими коврижками не затащишь на Сталевую. Это немного охладило его пыл, но он привык в жизни доводить все дела до конца.
Он уже собирался пойти к другу, как вдруг заболел главный редактор газеты, и Помянович должен был исполнять его обязанности. Работы было невпроворот, какие уж там визиты.
Незаметно пролетело полгода. Помяновича это неприятно поразило. Немного глупо молчать полгода, а потом вдруг заявиться без повода. Раздумья на эту тему заняли у него еще три месяца, а потом и вовсе расхотелось идти к Здебскому. Так друзья расстались навсегда.
На протяжении последующих лет Помяновича преследовал странный рок. Он все время был заместителем и никак не мог стать главным редактором. Ему не раз обещали повышение, уверяли в поддержке, убеждали, что вот-вот, уже скоро — через месяц, полгода, но всегда случался какой-то непредсказуемый поворот, появлялось иное решение, возникала неожиданная директива сверху, назначался кто-нибудь со стороны, и Помянович оставался заместителем. Жена уговаривала его перестать со всеми раскланиваться, пойти в центральный комитет и стукнуть кулаком по столу. Помянович обещал стукнуть, еще как стукнуть, только надо было сначала поразмыслить, как бы это сделать, чтобы достичь цели, поскольку совершать такой поступок без достижения результата не имеет смысла. Жена ворчала, что он растяпа и болван, и будь он таким, как мужья ее подруг с телевидения, то давно бы уже являлся главным редактором. На что Помянович хлопал дверью, бежал в Лазенки, нервно шагал по аллеям и убеждал себя, что он должен наконец стукнуть кулаком, потому что не стукнет в такой ситуации только безумец.
Проходила неделя за неделей, месяц за месяцем. Но в тот момент, когда Помянович уже собирался стукнуть кулаком, в Польше вдруг рухнул коммунизм, а вскоре после этого перестали существовать не только центральный комитет, но и Польская объединенная рабочая партия.
Трудно в это поверить, но Помянович обрадовался. Он не стал вступать в новую партию, которая образовалась на месте старой. Сидел дома и смотрел телевизор.
Он не мог поверить своим глазам. В Польше вдруг появилось множество порядочных людей. Помяновичу всем сердцем хотелось к ним присоединиться, брать с них пример, попрощаться со всем, что было прежде, и просто жить как порядочный человек. Может, даже отыскать Здебского и снова организовать газету «Трансатлантик». Захваченный этой мыслью, он отправился в штаб-квартиру самой приличной из всех новых политических партий. В комнате, увешанной плакатами с портретами самых влиятельных деятелей движения, его принял очень культурный мужчина средних лет, а узнав, что Помянович хочет вступить в ряды их партии, попросил его сесть и написать заявление и краткую автобиографию. Помянович написал все, ничего не упустив. Мужчина взял его биографию, внимательно прочитал и глубоко задумался.
— Да… — сказал он. — Ситуация несколько неловкая.
— Почему? — удивился Помянович.
— Я не понимаю, почему вы хотите вступить в нашу партию, а не в коммунистическую?
— Хочу быть порядочным человеком.
— Гм… прекрасная мысль… Только, знаете, в нашей партии состоят люди, которые являются порядочными, а не те, которые собираются ими стать.
— А желания недостаточно?
— Боюсь, что нет. Я верю в искренность ваших намерений, но прошу понять меня правильно — мы живем во времена острых политических столкновений.
— Поэтому я и хотел бы сделать выбор.
— Превосходно, время требует определиться с выбором. Однако дело в том, что не только человек выбирает партию, но и партия выбирает своих членов.
— Я не подхожу?
— Вы правильно уловили мою мысль. Но прошу вас не огорчаться. Ваша порядочность имеет декларативный характер, она ценна идеями, которые близки одному из нобелевских лауреатов. Вы порядочный человек.
— Понимаю, — сказал Помянович и встал.
— Надеюсь, несмотря на наш разговор, вы останетесь нашим избирателем. А может, как-нибудь потом, когда эмоции, захватившие нас сейчас, не будут иметь значения, мы снова встретимся.
— Наверняка встретимся. — Помянович душевно, крепко пожал руку порядочного человека и едва не выскочил из комнаты.
Он чувствовал себя обиженным, как ребенок, не нашедший под елкой игрушки. Идя по улице, чуть не плакал.
С того дня он впал в состояние оцепенения. Ходил на работу, делал, что следовало, но во время горячих редакционных споров сидел в углу и молчал.
— Заместитель боится, — секретничал курьер с машинисткой. — Я бы на его месте тоже испугался.
В газете появился новый главный редактор, и Помянович перестал быть заместителем. Какое-то время он работал простым журналистом, но при первой же возможности был уволен. Теперь она жили на зарплату Ани, которая отчаянно боролась за место на телевидении. Помяновича охватила апатия. Он сидел и часами слушал музыку. С Анной они почти не разговаривали.
Однажды жена решила прервать молчание. Поставила на стол бутылку хорошего коньяка, а когда они выпили, сказала необыкновенно тепло и сердечно:
— Я хочу с тобой развестись, Юрек.
— Почему? — удивился Помянович.
— По многим причинам. Во-первых, ты все время молчишь, мы перестали общаться. О других вещах мне даже не хочется говорить.
— Это правда, — согласился Помянович.
— Во-вторых, ты стар для меня. Ты тянешь меня ко дну, а я еще молода и прекрасна и хочу жить.
— Правда, — снова сказал Помянович. — Я для тебя стар.
— В-третьих, ты стал для меня обузой, я не могу тебя тянуть.
— Да, я обуза, — признал Помянович.
— И наконец — самое главное. Я тебя уже давно не люблю.
— И я тебя не люблю, — Помянович улыбнулся, сам не зная чему.
— Значит, ты согласен, Юрек, что ситуация требует радикальных изменений?
— Согласен.
— Я не воспользуюсь твоей депрессией. Оставляю тебе квартиру, забираю «ауди». Ты не против?
— Не против.
— Прекрасно. Желаю тебе всего самого наилучшего.
Очаровательная женщина, которой он так гордился, приблизилась к нему и в последний раз поцеловала.
Полчаса спустя набитый чемоданами красный автомобиль навсегда покинул стоянку во дворе.
Согласно неписаным правилам Помянович должен был впасть в запой. Ничего подобного. Он покупал себе молоко и булки, сидел дома и слушал музыку. Когда же банковский счет, когда-то весьма внушительный, иссяк, бывшему редактору пришлось что-то решать со своей жизнью. Первый человек, о котором он вспомнил, был Юрчак.
Найти его оказалось не так-то просто. Центральный комитет, в котором до недавнего времени покровитель Помяновича занимал высокий пост, не существовал уже несколько месяцев. В квартире Юрчака жили какие-то незнакомые люди. В недавнем прошлом влиятельный товарищ пропал, как камень в воду канул, не оставив следов. В конце концов, после двухнедельного хождения по друзьям редактор узнал, что Юрчак стал председателем частной фирмы «Бизекс». Чем именно занималась контора, осталось для него загадкой.
Достаточно было одного звонка, чтобы озабоченный Помянович оказался в просторном кабинете пана председателя. Помещение было неприглядным, но Юрчак восседал за своим старым столом из ЦК, в кресле из того же ЦК, а на полу лежал знакомый ковер. Увидев Помяновича, Юрчак встал и радостно его приветствовал.
— Тебя удивила обстановка? — Он обвел рукой кабинет. — Да, как видишь, я сентиментален. Впрочем, это мне обошлось в сущий пустяк — заплатил одному охраннику, чтобы он на пять минут прикинулся слепым и глухим. Ну, а что у тебя? Садись и рассказывай обо всем по порядку.
И Помянович стал рассказывать.
Юрчак слушал его с огромным вниманием.
— Почему, черт побери, ты не пришел раньше? — удивился он. — Нас здесь целая куча, мы что-нибудь для тебя бы придумали.
— Не хотелось.
— Эх! Эта твоя дурацкая порядочность, — рассердился Юрчак. — Ну, и что теперь, порядочный идиот?
— Не знаю.
— Займись каким-нибудь бизнесом. Ты что предпочитаешь: арматуру или текстиль?
— Я бы хотел работать в газете.
— С этим сложнее. Постой-ка… нет, оттуда нас попросили. Подожди… черт, у меня есть только место главного редактора в «Рыболове».
— Пусть будет «Рыболов».
Так Юрек Помянович наконец стал главным редактором. Он писал о рыбах, читал о рыбах, обедал и ужинал в рыбных ресторанах и, хотя в это трудно поверить, чувствовал себя абсолютно счастливым человеком.
А в это время его старые друзья по партии воплощали в жизнь девиз из эпохи Эдварда Герека: становились все могущественнее и жили все лучше. Однажды им снова потребовался Помянович. Его вызвали в срочном порядке. Он сел в случайно купленную десятилетнюю малолитражку и поехал на встречу с Юрчаком.
Тот был одет необыкновенно элегантно: настоящий английский костюм, со вкусом подобранный французский галстук и итальянские туфли в тон. Носки у него, кажется, были польские, зато на пальце сверкал огромный перстень — наверняка из самого лучшего российского золота.
— Значит, так, Юрек… — сказал Юрчак, когда они уселись в новенькие кожаные кресла и закурили сигары, лежавшие в красивой коробке на огромном письменном столе красного дерева. — Скажем, от перрона номер один, — а мы находимся именно там, — вот-вот отправится поезд-экспресс. Ты в него сядешь?
Помянович не понял, о чем идет речь, но сразу же кивнул:
— Сяду.
— И даже не спрашиваешь, куда он идет?
— А зачем? Мне нечего терять.
— Умно, — похвалил его Юрчак. — Так вот, Здись Мончинский баллотируется на пост президента.
Тогда Помянович все понял. Мончинский был лидером новой партии, которая образовалась на месте старой. Естественно, он был опытным политиком. Но главное — давно, еще в студенческие времена, Юрчак был связан с Мончинским.
— Нужно организовать предвыборный штаб, — продолжал Юрчак. — Я сразу вспомнил о тебе.
— Обо мне? — удивился Помянович.
— Видишь ли, это дело серьезное. Наши, ясное дело, будут голосовать за Здися. Но этого недостаточно. За него должны голосовать даже те, кто нас не любит.
— Как же этого достичь?
— А это уже твое дело. Ты не совсем такой, как мы. Где-то в глубине твоей души кроется эта дурацкая порядочность. Лучше тебя никто не придумает, как убедить тебе подобных — порядочных или делающих вид, тех мечущихся, которые сами не знают, чего хотят.
— Думаешь, у меня получится?
— Ты будешь не один. Вы сможете. Акцент сделаем на здравый смысл. Если люди сами не знают, чего хотят, то почему бы им, к примеру, не голосовать за Здися?
— Почему бы и нет? — согласился Помянович.
— Ну, тогда по рукам. Завтра передашь «Рыболова» заместителю, а послезавтра приступишь к новой работе.
— У тебя?
— Нет, дорогой. Я тоже сматываю удочки. У нас с тобой теперь новый адрес: Братская улица, дом шесть.
Двадцатого декабря Помянович приступил к выполнению новых служебных обязанностей, а двадцать четвертого случайно увидел по телевизору Яна и сразу понял, что этот человек ему пригодится. Ян стал его первой и, может быть, лучшей идеей предвыборной кампании.
Глава седьмая КАНДИДАТ
В среду после обеда, точно, как обещал, Помянович приехал в отделение 3 «Б».
Поздоровавшись с Яном, он стремительно вошел в кабинет доцента Красуцкого и через мгновение вышел с картонным пакетом в руках.
— У меня все готово! — крикнул он издалека. — Пан Ян, идите за своими вещами.
— У меня нет никаких вещей, — смутился Ян.
— Ой, простите, я об этом не подумал, — сказал Помянович. — Мы сейчас же это исправим.
В коридоре стало многолюдно, все больные хотели попрощаться с Яном и увидеть, как он выйдет через дверь навстречу светлому будущему. Ян обнял Пианиста, пани Зосю, пана Поняка, пана Яворского, всех медсестер, а потом долго сжимал ладонь Профессора, который что-то шептал ему на ухо. Наконец из своего кабинета вышел доцент Красуцкий и крепко обнял Яна.
— Да… — сказал он странным, взволнованным голосом. — Так будет лучше, намного лучше, я в этом глубоко убежден…
И так же быстро, как появился, он ушел.
Дверь отделения 3 «Б» распахнулась, и Ян с Помяновичем прошли в нее, словно через триумфальную арку, спустились по уже знакомой нам лестнице и сели в новый «ауди» Помяновича, на сей раз серебристый.
Помянович предусмотрительно заехал с Яном в торговый центр, прежде чем отвезти его на квартиру. Почти два часа они покупали вещи, необходимые Яну для представления его Здисю (как ласково называл Мончинского Помянович). Затем все еще фонтанирующий энергией редактор и совершенно замученный походом по магазинам Ян отправились на улицу Кручей, к дому двадцать один, и вскоре оказались у двери квартиры на втором этаже.
Помянович достал из кармана ключ, открыл дверь и вежливо пропустил Яна вперед.
Квартира показалась Яну прекрасной. Две небольшие комнаты были обставлены старинной, элегантной мебелью. Занавески переливались в лучах солнца.
Помянович показал своему подопечному квартиру, объяснил, как пользоваться телевизором и другой техникой. Потом он достал из пакета серый конверт, а из него новенький паспорт с фотографией Яна, его именем и фамилией. Ян с интересом стал перелистывать паспорт, но Помянович не дал ему слишком долго его разглядывать. Он достал из пакета другой, меньший конверт, в котором многообещающе шелестели сложенные по номиналу банкноты.
— Это для начала, — сказал он. — Распишитесь здесь, пожалуйста.
И впервые в своей новой жизни Ян написал на лежащей перед ним квитанции: «Ян Август».
После этого редактор вручил Яну свою визитную карточку с многочисленными телефонами, по которым тот мог звонить в случае необходимости.
— А теперь мне пора, — попрощался он. — Приду завтра в половине девятого, и приступим к работе. До свидания.
Ян остался один. Он стоял посередине комнаты и не знал, что делать. Достаточно нажать на ручку, и дверь откроется. Едва ему пришла в голову эта мысль, он уже стоял возле двери. Ян быстро сбежал по лестнице и оказался на шумной улице Кручей.
«Улица Кручей, двадцать один, — сказал он про себя. — Я не забуду. Улица Кручей, двадцать один».
Чтобы не потеряться, он решил, что пойдет налево, а потом той же дорогой вернется обратно.
На улице было много людей. Ян робко смешался с толпой, но то и дело останавливался у красочных витрин магазинов и рассматривал выставленные в них товары. Как же прекрасен был этот новый, полный необыкновенных возможностей мир! Кругом все торопятся, а сколько здесь сверкающих автомобилей! Яну хотелось кричать от радости, от того, что он просто может идти по улице, медленно или быстро, или свернуть в переулок, может делать то, что хочет, в кармане его новых модных брюк тихо позвякивают ключи от квартиры, а в элегантном кожаном бумажнике лежит его собственный паспорт. Ян Август остановился и стал еще более внимательно рассматривать витрины. Он решил, что должен непременно что-нибудь купить на память об этом особенном дне.
Но что? Может быть, стильную трубку? Но зачем ему трубка? А если понтон защитного цвета?.. Нет, к чему понтон в новой квартире. Может, велосипед… нет, приятнее ходить пешком. Наконец в витрине, наверное, восемнадцатого магазина он увидел невысокого роста мужчину с бородкой, который склонился над часами с кукушкой. Яну тотчас же захотелось иметь такие часы. Он вбежал в магазин и уже через мгновение вышел с упакованными в цветную бумагу часами. Он был безмерно счастлив.
На тротуаре стало еще многолюднее. Протискиваясь через толпу, Ян дошел до пересечения с широкой перегруженной улицей. Машины стояли в огромном заторе, а рыжий потный полицейский носился прямо среди них и отчаянно размахивал руками, пытаясь навести хоть какой-то порядок. Автомобили резко газовали, пытаясь выбраться из пробки, но уже через секунду со скрежетом тормозили. Некоторые водители не выдерживали, зло сигналили, полицейский пытался перекричать царящий кругом шум. Через заставленный машинами пешеходный переход пыталась пробраться хрупкая старушка с сеткой картофеля. В воздухе висел запах гари, посреди улицы с трудом продвигались вперед беспрестанно сигналящие трамваи. Толпа выплескивалась на проезжую часть и в панике шарахалась на тротуар. Полицейский перестал кричать, достал свисток и громко засвистел, но это лишь усугубило хаос. На тротуаре около Яна притормозил большой синий автомобиль, из которого выскочили несколько полицейских в белых фуражках и бросились на помощь коллеге.
Ян вдруг почувствовал усталость. Он повернул обратно и, пробираясь через толпу наступающих людей, направился к своему дому. На Новогродской стало немного свободнее. Ян заметил каменную лавку и присел, чтобы слегка передохнуть. На дымящемся перекрестке, должно быть, что-то случилось — мимо пронеслась карета «скорой помощи» с включенной сиреной, а следом за ней покрашенная в веселый красный цвет пожарная машина. Ян встал и пошел дальше.
Как приятно вернуться домой. Наступает вечер, улицы пустеют, яркими огнями переливаются магазинные вывески, в витринах грустно улыбаются манекены. Ян смотрел на все это из окна своей квартиры как на фильм. А за его спиной кукушка, выскакивавшая из часов, напоминала ему о быстротечности и бесповоротности всего на свете. Но Ян не обращал внимания на монотонные монологи кукушки. Он сел в кресло и прошептал:
— Да здравствует будущее. Да здравствует будущее.
И не заметил, как заснул.
* * *
На следующий день ровно в восемь его разбудил телефонный звонок Помяновича. Редактор сообщил, что должен кое с кем встретиться, и, следовательно, он будет у Яна около девяти. Ян очень обрадовался. Он принял душ, сделал себе завтрак, а потом с кружкой кофе снова уселся у окна. Он смотрел на улицу до тех пор, пока не раздался звонок в дверь. Приехал Помянович.
Редактор работал с самого утра, поэтому он с благодарностью согласился выпить кофе, удобно уселся в кресле и вытянул ноги, насколько это было возможно. Какое-то время он молчал, а потом приступил к объяснениям, какой ему видится роль Яна в предвыборной кампании.
— Начнем с самого простого, но принципиального вопроса, — сказал он. — Кто такой Здислав Мончинский?
— Кажется, председатель какой-то партии.
— Правильно, но речь не об этом, дорогой пан Ян. Скажу больше, это нам знать вовсе не обязательно.
— Почему?
— А с какой радости люди должны голосовать за председателя какой-то партии?
— Верно, — согласился Ян. — Не должны.
— Значит, мы это отбросим. Предположим, что он не является лидером партии.
— Кто же он тогда?
— Вот в этом-то весь вопрос. И я постараюсь вам на него ответить. Здись — друг.
— Чей?
— Ваш.
Ян очень удивился. Он не знал, что у него есть друг, тем более такой, как Здись.
— Он и вправду мой друг?
— Конечно. И что, вы рады?
— Очень рад.
— Вы любите Здися?
— Очень люблю.
— Вот об этом и речь. А теперь подойдите сюда. — Помянович подвел Яна к окну. — Видите всех тех людей на улице?
— Вижу.
— Здись и их друг тоже.
Ян, пораженный, смотрел на улицу.
— Всех?
— Всех до одного.
— Много же у него друзей. — Ян был удивлен и чуть-чуть разочарован.
— Больше, чем вы можете представить, — сказал Помянович. — Но к сожалению, эти люди не знают, что Здись их друг.
— Как же так?
— Это нормально. Вы ведь тоже не знали.
— Действительно.
— Теперь подытожим. Наша работа, дорогой пан Ян, будет заключаться в том, чтобы донести до общественности две вещи. Во-первых: Здись — ваш друг. И во-вторых: да здравствует будущее! Что вы на это скажете?
— Ну… Мне нравится.
— Прекрасно. — Помянович взглянул на часы. — Завтра я ненадолго уеду, прошу вас меня дождаться. Скоро настанут великие дни, дорогой пан Ян, воистину великие.
И с этими словами он ушел.
Ян еще долго стоял у окна и наблюдал за людьми, идущими по улице Кручей. Он был глубоко тронут. Предчувствие его не обмануло, хотя в отделении 3 «Б» никто не знал о том, что вот-вот наступят великие дни, важные события, и он, Ян Август, будет принимать в этом самое непосредственное участие. Разве это не замечательно? Целый день он фантазировал, что будет, когда наконец настанут эти дни, и пришел в такое возбуждение, что смог уснуть лишь около трех утра.
Примерно в половине одиннадцатого утра Яна разбудил звонок в дверь. Он поспешно надел халат и побежал открывать. За дверью стоял незнакомый старичок в длинном плаще и с зонтом под мышкой, несмотря на солнечный день.
— Я Голембиовский, — представился он. — Еварист Голембиовский.
Фамилия ничего не говорила Яну, поэтому он продолжал недоуменно смотреть на старика.
— Разве Помянович не предупредил вас? — спросил Голембиовский.
— К сожалению, нет.
— Что за неорганизованный человек. Но вы все-таки позволите мне войти?
— Конечно, пожалуйста.
Голембиовский повесил на вешалку свой плащ и зонт, вошел в комнату, неодобрительно взглянул на неубранную постель, потом тяжело упал в кресло и недовольно уставился в окно.
— Может, кофе? — спросил Ян, торопливо застилая постель.
— Может быть, — пробурчал старик.
Ароматный горячий напиток немного поправил самочувствие Голембиовского. Он принял кокетливо-поэтическую позу и осведомился:
— Вы действительно не помните ни одной из моих ролей?
— Мне очень жаль, но у меня амнезия, — сказал Ян.
— Ах вот оно что, — обрадовался старичок. — Амнезия! Я об этом не подумал. Это все объясняет.
Ян смотрел на гостя со все большим интересом.
— Вы должны кое-что знать, дорогой пан Ян… ничего, что я так вас называю?
— Прекрасно.
— Так вот, вы должны знать, что я актер. Без ложной скромности скажу — известный актер, а когда-то был очень знаменит.
— Очень приятно.
— Сейчас, надо признать, я играю немного, амплуа ограничилось ролями стариков. Что поделаешь… биология… но когда-то я играл любовников. — Голембиовский улыбнулся, вспоминая давние, прекрасные времена. — К сожалению, ролей стариков в литературе и драматургии ничтожно мало, поэтому я занялся другими делами. Одно из таких дел привело меня к вам.
— Какое же у вас ко мне дело?
— Я должен научить вас говорить.
— Простите, — уточнил Ян. — Но я умею говорить.
— Это вам только кажется. Конечно, в быту вы можете найти общий язык с окружающими людьми, но помимо, простите, болтовни существуют публичные выступления, о чем вы, как я подозреваю, не имеете ни малейшего представления.
— Не имею, — признал Ян.
— Тогда начнем с азов. Скажите мне: что такое слово?
— Слово… — повторил Ян. — Слово оно и есть слово…
— А вот и нет, мой дорогой. Ничего подобного. Вы знаете, как начинается Евангелие от Иоанна?
Ян начал что-то мямлить о том, что ему жаль, но в связи с амнезией и так далее…
— Я так и знал, — обрадовался Голембиовский. — Тогда слушайте. — И, подняв палец, начал цитировать: — «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Что скажете?
Ян молчал.
— Обращаю ваше внимание на то, что «Слово» в этом фрагменте всегда пишется с большой буквы. Лишь два слова написаны здесь с большой буквы: «Слово» и «Бог».
— Простите, — сказал Ян. — Боюсь, для меня это слишком сложно.
— Но вы уяснили, что слово может быть необыкновенным, осмелюсь сказать, — божественным.
— Уяснил.
— Замечательно. Тогда представьте себе зал на двадцать — тридцать тысяч мест. На сцене на небольшом возвышении стоит человек, который должен говорить для десятков тысяч людей. За его спиной расположен большой экран, на котором проецируется его сильно увеличенное изображение. Задача оратора сделать так, чтобы собравшиеся в зале люди думали, чувствовали, делали то, что ему вздумается. Что ему может помочь?
— Слова, да?
— Вот именно, дорогой пан Ян.
— Он должен сказать много важных слов.
— Какой же вы наивный. Напротив. Он должен говорить общие, ничего не значащие слова.
— Как это?
— Видите ли, если говорить по существу, то у части слушателей наши идеи вызывают протест. Приведу пример. Предположим, я говорю: «Только у идиотов бывает амнезия». Я вижу, что вы нахмурились и стали негативно ко мне относиться. Вот так, сам не зная почему, я потерял часть электората. А теперь скажу следующее: «Верю, что завтра будет прекрасная погода». Что вы об этом думаете?
— Звучит очень приятно. Но ведь завтра может пойти дождь.
— Поэтому-то я и употребил одно очень важное слово: «верю». Это мне позволительно. А теперь я повторюсь. Верю, что завтра будет прекрасная погода. О чем я сказал?
— О погоде.
— Точно. А сейчас я произнесу это иначе.
Голембиовский поднял руку и глубоким, хорошо поставленным голосом воскликнул:
— Я верю, что завтра будет прекрасная погода… Завтра солнце будет светить для нас всех.
У Яна по коже пробежали мурашки.
— О чем я говорил? — улыбаясь, спросил актер.
— Не знаю…
— О погоде?
— Нет… пожалуй, нет… Вы говорили о… будущем…
— О каком будущем?
— О прекрасном…
— Вы хотите, чтобы у вас было прекрасное будущее?
— Очень.
— И кто вам его обеспечит?
— Вы!
— Нет, здесь вы слегка преувеличили. Я лишь старый опытный учитель ораторского мастерства и жестикуляции. Прекрасное будущее даст нам всем Здись. Но разве важно, кто это будет? Подумайте.
— Наверное, не важно. Лишь бы оно было.
— Вот мы и пришли к концу урока. А теперь домашнее задание. После моего ухода прошу вас встать перед зеркалом и повторять, пока сами себя не убедите: «Я верю, что завтра будет прекрасная погода. Завтра солнце будет светить для нас всех». А я завтра зайду и проверю, есть ли прогресс.
Актер надел плащ, взял зонт и с огромным достоинством удалился. Он удивительно быстро сбежал по лестнице и решительно вышел на проезжую часть, чтобы поймать такси. Таксист, пожилой, аккуратный человек, сначала хотел обругать рискового клиента, но, увидев его отражение в переднем зеркале, онемел.
— Неужели это вы, маэстро? — несмело спросил он.
— Да. Это действительно я, — ответил Голембиовский.
— Над чем вы сейчас работаете?
— Да… есть над чем еще поработать… К примеру, «Король Лир»…
— Прекрасная роль, — согласился таксист.
— Великолепная… Жаль только, что она не оставляет ни капли надежды…
Актер закутался в плащ и стал смотреть в окошко, по которому стекали первые капли дождя.
Предвыборная кампания потихоньку сдвинулась с места, Ян больше не гулял по городу. Утром приходил Помянович и объяснял, что он должен говорить, Днем прибегал Голембиовский, никогда не расстававшийся с зонтом, и терпеливо учил его говорить.
Старый актер сразу заметил, что Ян обладает одним заметным достоинством — прекрасной улыбкой, и решил сконцентрироваться на ней. Сначала он научил Яна улыбаться осознанно, а не так, как тот улыбался раньше — спонтанно и необдуманно. Затем он объяснил Яну, что улыбка должна подчеркивать ключевые слова, которые надо произносить особенным образом. Серию произнесенных с улыбкой слов должна завершить финальная улыбка, которой Ян должен был закончить свое выступление.
Ян тренировался улыбаться перед зеркалом, а Помянович корпел над текстом его выступления.
— Напишите такую речь, которую бы сказал робкий человек, — советовал актер. — Будет в самый раз.
В конце концов Помянович явился с готовым текстом. И правда — он попал в точку.
Из телевизионных «Новостей», которые Ян теперь смотрел каждый вечер, он узнал и о других приготовлениях к предвыборной кампании. По телевизору показывали стильный блестящий автобус, в котором Здись должен был отправиться в турне по стране, чтобы посетить многочисленные города и городишки с целью привлечения электората. Секретарь кандидата, некий Дзюркевич, пригласил журналистов принять участие в предвыборной поездке. Все отмечали достоинства этого транспортного средства.
Ян не мог дождаться мгновенья, когда и он сядет в этот автобус и взглянет на мир сквозь затемненные стекла. Ему не раз это снилось. Автобус бесшумно трогался с места, словно парил в воздухе. Стоящие на тротуарах люди приветствовали предвыборный штаб на колесах красно-белыми флажками и кричали:
— Да здравствует будущее! Да здравствует будущее!
Народ осыпал цветами высовывавшегося из автобуса Здися, похожего на херувима. Ян просыпался и лежал с закрытыми глазами, стараясь сохранить в памяти чудесную картину, но именно в это мгновение всегда раздавался звонок в дверь и входил Помянович, Голембиовский или кто-нибудь еще из предвыборного штаба.
Наконец в четверг зазвонил телефон.
— Пан Ян, вы готовы? — спросил Помянович хриплым, усталым голосом.
— Готов, — ответил Ян.
— Завтра в половине восьмого мы будем у вас. Ждите нас у подъезда.
В четверть восьмого Ян стоял на тротуаре и, держа в руке чемодан, смотрел в глубь улицы Кручей, откуда должен был приехать автобус. Мимо него проезжали шикарные машины, а легендарного автобуса все не было. Половина восьмого, восемь тридцать пять. На Кручей постепенно образовалась пробка. Ян, стоя на мысочках, всматривался в даль, где вереница машин пыталась продвинуться вперед. Раздались спазматические сигналы гудков. Кто-то кричал:
— Черт! Черт! Черт!
Едва начав движение, автомобили тормозили.
— Пан Ян, скорее! Сюда! — услышал Ян чей-то голос.
Ян оглянулся и увидел Помяновича, высунувшегося из окна маленького красного микроавтобуса. Он не поверил своим глазам.
— Ради Бога, быстрее! Влезайте!
Дверь микроавтобуса открылась, и Ян оказался в салоне. Водитель тронулся так резко, что Яна отбросило назад, и он приземлился на коленях какого-то высокого мужчины с усами, читавшего газету.
— Простите, пожалуйста, — извинился он.
— Ничего, — пробормотал тот и продолжил чтение как ни в чем не бывало.
Ян прошел вперед и уселся на свободное место рядом с Помяновичем.
Его чемодан убрали под сиденье. Микроавтобус преодолел пробку и на огромной скорости понесся к Вислостраде.
Ян придвинулся к Помяновичу.
— Что случилось с автобусом? — озабоченно спросил он.
— С каким автобусом?
— Тем, красивым. С тонированными стеклами.
— А! С тем… Ничего не случилось. На нем ездит генштаб. А мы, дорогой пан Ян, всего лишь сержанты, поэтому нам выделено место в транспорте для сержантов.
Несмотря на то что Помянович говорил все это с улыбкой, в его голосе Ян почувствовал горечь. Может быть, бывшему редактору тоже по ночам снился тот автобус? Ян собирался узнать, но Помянович достал газету и погрузился в чтение.
Микроавтобус ехал по широкой двухполосной дороге. Ян какое-то время наблюдал за мелькающим за окном монотонным пейзажем, потом задремал и уснул. Он проснулся, когда автобус резко подскочил, наткнувшись на какое-то препятствие. Они находились в незнакомом месте. Автомобиль въехал в ворота, за которыми показалось длинное здание из красного кирпича. Помянович свернул газету.
— Приехали, — сказал он. — А вы проспали всю дорогу, пан Ян. Это очень хорошо, ведь сегодня вечером вам понадобится много сил и энергии.
Пассажиры вышли из микроавтобуса и разбрелись кто куда. Помянович и Ян вошли в павильон. В помещении царил полумрак. В дальнем конце зала горел слабенький прожектор, освещавший буквы: ИНСКИЙ — ПРЕЗ, оставшаяся часть надписи тонула в темноте. Крупные мужчины в бейсболках устанавливали на сцене звукоусилители. Из-за колонны показался маленький человек в очках и побежал им навстречу, приняв одновременно верноподданническую и просительную позу.
— А вы, должно быть, пан редактор Помянович и пан Ян Август? — воскликнул он, широко улыбаясь. — Гримерная номер четыре, талоны на обед-ужин найдете на столе, обед-ужин в ресторане напротив, минеральная вода под столом, алкогольные напитки в шкафчике, вторая полка сверху.
Все это очкарик выпалил буквально на одном дыхании. Ян смотрел на него как зачарованный, но Помянович не оценил столь оригинального приветствия. Пробормотав что-то себе под нос, он взял у очкарика ключ и потащил Яна за собой.
Ян подумал, что маленький щуплый человек мог обидеться, обернулся и хотел сказать ему что-нибудь приятное, но не успел. Дверь открылась, в павильон вошел какой-то человек, и очкарик помчался к нему, на ходу принимая странные позы, — он мило улыбался и вытирал о рубашку правую ладонь, словно не хотел подавать гостю руку, запятнанную предыдущим рукопожатием.
Гримерная оказалась грязным, мрачноватым помещением, но организаторы сделали все, чтобы сгладить неприятное впечатление. В вазе на столе красовались свежесрезанные цветы, а рядом были расставлены рюмочки и стаканчики разного размера. Под столом виднелись бутылки с минеральной водой.
Помянович и Ян поставили свой багаж и отправились в ресторан. Но там было так пусто и уныло, что они с радостью вернулись в гримерку. Когда оба переоделись в элегантные костюмы, Помянович спросил Яна, помнит ли он, что должен говорить, и обратил его внимание на некоторые детали. Ян решил повторить речь, но едва он сказал «Уважаемые господа…», за стеной заиграл оркестр, раздались аплодисменты и кто-то запел.
— Началось! — воскликнул Помянович.
Он вышел в коридор, ведя за собой Яна. Одна из стен огромного зала была завешена огромным синим занавесом. Каждую секунду за ним кто-то исчезал, затем раздавались аплодисменты, приветственные крики и речь, неразборчивая из-за многократно повторяющегося эха. После этого человек возвращался, вспотевший и счастливый, и все повторялось вновь. Ян понял, что он тоже должен будет выйти на сцену, и испугался. Ему захотелось убежать, но ноги не слушались. Прежде чем он что-то успел сказать, послышался монотонный голос Дзюркевича:
— А теперь перед вами выступит человек, не являющийся членом нашей партии, не имеющий к политике никакого отношения. Обыкновенный человек, такой же, как и наши избиратели. Почему мы просим его высказаться о будущем Польши? Потому что хотим, чтобы простые люди знали: с того момента, как Здислав Мончинский займет президентский дворец, и их голоса будут услышаны!
На этом Дзюркевича прервали энергичные овации, а сидящие на задних рядах простые люди хором начали скандировать:
— Здись! Здись! Здись! Здись!
Дзюркевич терпеливо ждал, когда активисты успокоятся, а затем коротко, без долгого вступления объявил:
— Ян Август.
В то же мгновение Помянович подтолкнул Яна сзади, да так сильно, что тот оказался по другую сторону занавеса.
Сцена была огромная. Метрах в двадцати от него виднелся ряд микрофонов. Возле одного из них стоял Дзюркевич и указывал рукой на Яна. Этот факт так его поразил, что вновь захотелось убежать. Дзюркевич, вероятно, это почувствовал и добавил:
— Ян — человек робкий, многого боится, но разве он не имеет права высказаться?! Имеет! Просим вас, дорогой друг! Смелее!
В зале стало тихо. Ян взял себя в руки и подошел к микрофону, стараясь припомнить то, чему его учил Голембиовский.
Часть сцены, где были расставлены микрофоны, была настолько ярко освещена, что Ян не видел ничего, кроме сверкавших прожекторов. Все остальное было объято тьмой. Ян решил, что за ними, должно быть, никого нет, но в тот момент всего в нескольких метрах от него кто-то кашлянул, а слева заскрипел стул. Как по команде, по всему залу пронеслась волна кашля и скрипа. Ян попятился, но, подбадриваемый жестом Дзюркевича, вновь приблизился к микрофону.
— Уважаемые господа… — прошептал он. Кашли и скрипы мгновенно стихли. — Уважаемые господа, меня зовут Ян Август. Со мной случилась амнезия.
— Браво! — крикнул бас справа, его поддержали и другие голоса, но шум быстро стих.
— Я страдаю амнезией, стало быть, у меня нет прошлого. Зато у меня есть будущее.
— Хорошо говорит! — раздался женский голос из темной бездны. — У нас тоже есть будущее!
— Поскольку у меня нет прошлого, будущее имеет для меня двойное значение. Это единственное, что у меня есть.
Кто-то всхлипнул, откуда-то донеслись слова одобрения.
— Будущее — мое самое драгоценное сокровище. Я не хочу его потерять.
— Мы тоже не хотим! — сказала женщина из черной бездны.
— И я решил доверить мое будущее Здиславу Мончинскому.
Яну вдруг вспомнился автобус с затемненными стеклами, и он улыбнулся так искренне, как только мог, и его улыбку показали огромные экраны, установленные на сцене. Мгновение царило молчание — его улыбка поразила присутствующих, а потом зал взорвался аплодисментами. Люди встали, что-то выкрикивали, некоторые забрались на стулья, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не Дзюркевич, подбежавший к микрофону. Он поднял руки вверх и завопил изо всех сил:
— Здись!
— ЗДИСЬ!!! — подхватила толпа.
— Здись! — хрипел Дзюркевич.
— ЗДИСЬ! ЗДИСЬ! ЗДИСЬ! ЗДИСЬ!
Кто-то схватил Яна за руку и потащил в сторону. Оба запутались в занавесе, но неистовствующая публика этого не заметила. Наконец им удалось освободиться, и Ян оказался за кулисами. Подбежал Помянович и горячо пожал ему руку.
— Великолепно! — похвалил он, стараясь перекричать шум, доносившийся из зала. — Гениально! Замечательно!
Вокруг них собралась толпа. Кто-то хлопал Яна по плечу, кто-то поворачивал его, чтобы лучше рассмотреть, и все сердечно поздравляли Помяновича — словно это он стоял на сцене и произнес речь. Ян был потрясен и счастлив. Но вдруг почувствовал неимоверную усталость. К счастью, к зданию подъехал знакомый микроавтобус, из которого высадились крупные, коротко подстриженные мужчины и без особых церемоний дали понять стоящим за кулисами, что им пора. Благодаря их настойчивости уже через пять минут Ян и Помянович сидели в автобусе. До них долетели отголоски приветственного рева толпы. Здись в окружении своих генералов появился на сцене под музыку марша «Alte Kameraden»[6], исполняемого местным духовым оркестром.
Последующие дни были похожи, как капли воды. Они рано вставали и спускались завтракать в гостиничный ресторан, затем садились в микроавтобус и, читая об успехах Здися, ехали в следующий по списку город, где Ян выходил на сцену и рассказывал темному залу о том, что не хочет бездумно потерять будущее, поэтому доверяет его Здиславу Мончинскому. Уснув несколько раз в дороге, Ян видел один и тот же сон: будто он, нагой и беззащитный, лежит на руках огромного ласкового Здися, а тот тихонько его убаюкивает:
— Люли… люли… люли…
Чем больше они выступали, тем выше становился рейтинг Мончинского, согласно многочисленным опросам общественного мнения. Вскоре стало ясно, что самая жаркая битва разыграется между ним и неким Шишкой. Ян видел этого Шишку по телевизору, и тот ему не понравился. Это был невысокий, полный, вечно взвинченный злобный человек с дурными манерами. А самое худшее — он просто ненавидел Здися и поливал его грязью.
Ян почувствовал, что ненависть распространяется и на него, и немного испугался. Прежде он жил в согласии со всем миром, теперь же за его спиной возникла грозная тень Шишки, который тоже разъезжал по стране и в тех же самых залах произносил речи, порочащие Мончинского. Ян несколько дней тихо страдал, но вскоре не выдержал и, когда они остались с Помяновичем наедине, спросил:
— Пан Юрек, а что будет, если победит этот Шишка?
— Не победит, — уверенно ответил Помянович. — Он слишком глуп.
— Но на его выступления тоже приходят толпы.
— А почему бы и нет? Люди всегда там, где сыр-бор.
— Если он все-таки выиграет?
— Что ж… тогда, как говорится, нам всем придется несладко. Знаете, как это бывает?
— Нет, — ответил Ян. — У меня ведь амнезия.
— Ну ничего. Ничего страшного. Со мной не раз такое случалось, но я, как видите, все еще жив.
Этот аргумент окончательно убедил Яна. Раз Помянович жив, то и с ним ничего плохого не произойдет. Увы, в скором времени ему пришлось убедиться в том, что его страхи не были беспочвенными.
Дело было так. После очередного выступления Ян с Помяновичем не отправились прямо в гостиницу, а решили пройтись. За концертным залом находился тихий темный парк, где они и стали прогуливаться. По пути спокойно обсуждали произошедшие события. Ян был полностью согласен со всем, что говорил Помянович. Незаметно они прошли одну аллею, вторую, третью, свернули в четвертую и остановились. На тротуаре стояла группа — несколько десятков молодых людей в высоких остроконечных шапках, на которых в свете месяца сияли большие красные звезды. Помянович решил вернуться, однако его намерение не понравилось юношам.
— Стоять! — крикнул самый высокий, и парни стали приближаться. Кто-то зажег фонарик. — Кого мы видим! — обрадовался громила. — Специалист по амнезии собственной персоной.
— У меня действительно амнезия, — сказал Ян.
— Да заткнись ты, лживая красная свинья! — завопил парень. — Ты же красная свинья, знаешь об этом?
— Ничего подобного, — возразил Ян.
Тогда сзади выскочил какой-то юнец в шапке-ушанке, схватил Яна за грудки и ударил что было сил. Ян полетел в кусты, а Помянович, воспользовавшись замешательством, убежал.
Ян открыл глаза и увидел множество склонившихся над ним красных звезд.
— Так и хочется на такого, как ты, плюнуть, — сказал самый высокий и плюнул Яну в лицо. — Как такому, как ты, не врезать? — И ударил Яна в бок, к счастью, не очень сильно.
Следом за главарем стали плеваться и другие парни, а потом повернулись и ушли в темную ночь, сверкая красными звездами на шапках.
Ян лежал и смотрел в простирающееся над ним звездное небо. Где Здись со своими генералами и духовым оркестром? Вокруг него не было восторженных, аплодирующих толп, рядом не было никого, кто мог бы поддержать и подбодрить. Ян оказался один на один со своей болью и позором.
Он с трудом встал и, шатаясь, поплелся по опустевшей аллее. Вдруг он услышал шум, топот, увидел свет фонарей. Он попытался убежать, тут услышал голос Помяновича:
— Это мы, пан Ян! Помощь пришла!
От приближавшейся толпы отделились двое мужчин с носилками. На них положили Яна и как можно осторожнее понесли к выходу. Шедший рядом Помянович что-то кричал по мобильному телефону.
Через несколько минут его уже внесли в гардеробную концертного зала. Очень аккуратно переложили с носилок на стол. Его сразу окружили люди. Но вскоре толпа расступилась, и над ним склонился Здись. Он пожал Яну руку.
— Спасибо, пан Ян, — душевно сказал он. — Спасибо, дорогой друг.
Из толпы вышел Дзюркевич.
— Мы должны его всем показать! — воскликнул он. — Людям, журналистам радио и телевидения!
— Да, надо показать, — согласился Здись. — Пусть этим кто-нибудь займется.
И удалился на сцену, поскольку должен был выступать перед избирателями.
У самого выхода он обернулся и сказал:
— Когда он будет готов, подайте мне знак из-за кулис. Я сам провожу его на сцену.
Дзюркевич кивнул и стал осматривать Яна.
— Крови не видно, — расстроенно заключил он. — Без крови эффекта не будет.
— Подрисуем, — сказал кто-то сверху. — У нас много красной краски.
— Краска осталась в гостинице, — деловито проинформировал чей-то бас.
Помянович подошел к Дзюркевичу и прошептал на ухо:
— Я видел в буфете кетчуп. Может, обмажем Яна кетчупом…
— Это мысль, — обрадовался Дзюркевич.
Всех попросили выйти из помещения, и упитанная дама принялась энергично намазывать Яна кетчупом. Когда его вывели в коридор, присутствовавшие там члены предвыборного штаба обомлели.
Яна отвели за кулисы, посадили на стул и предоставили самому себе, предварительно велев не крутить головой, чтобы не повредить кетчуповый грим.
Маршируя по сцене, духовой оркестр закончил исполнение «Alte Kameraden». Когда оркестр покинул сцену и зал разразился овацией, Здись поднял руку, давая понять, что хочет сказать еще что-то. Зал мгновенно затих.
— Прежде я воздерживался от комментариев по поводу моего соперника пана Шишки, считал, что, даже несмотря на его очевидные недостатки и отсутствие элементарного воспитания и образования, этот человек заслуживает уважения. Сегодня я изменил свое мнение. Пан Шишка не заслуживает ни малейшего уважения. Почему? Вы все сегодня слышали выступление Яна Августа, человека больного, но не сдающегося и мечтающего о лучшем будущем. Как только пан Ян вышел из зала, на него напали сторонники пана Шишки. Прошу вас, пан Ян.
Ян, поддерживаемый Дзюркевичем и Помяновичем, вышел на освещенную сцену. Гул возмущения пробежал по залу. Повсюду засверкали вспышки фотоаппаратов, заработали телевизионные камеры, иностранные корреспонденты подошли ближе к сцене.
— Так вот, на пана Яна напали приверженцы Шишки. Что он им сделал? Разве он что-нибудь сказал им? — вкрадчиво спросил Здись Яна.
— Ничего, — пробормотал в микрофон Ян. — Я сказал, что страдаю амнезией.
— Взгляните на него! — воскликнул Здись. — Вот с кем мы имеем дело! Теперь вы понимаете, что ждет Польшу, если к власти придет Шишка!
Он хотел развернуть эту тему, но Дзюркевич, пока зал аплодировал, прошептал:
— Надо заканчивать! Кетчуп вот-вот сползет на пол.
Здислав снова поднял руку:
— Друзья мои! Не будем мучить нашего дорогого пана Яна. Он и так сегодня настрадался. Попрощаемся с ним аплодисментами и отпустим. Ему нужен отдых. Вы заслужили это право, как никто другой.
Публика зааплодировала. Присутствовавшие в зале неистово хлопали, а потом стали скандировать:
— Янек! Янек! Янек! Янек!
Помянович и Дзюркевич подхватили Яна под руки и выпроводили за кулисы. Кетчуп аппетитно блестел в свете софитов.
Яна умыли и переодели. Встреча с кандидатом закончилась, погасли прожекторы, лишь шум, создаваемый тысячами людей, следовавших к выходу, напоминал о том, какое важное событие только что завершилось. Ян с Помяновичем тоже стали собираться, как вдруг услышали приятный голос Мончинского:
— Приглашаю вас в мой автобус.
Ян так долго мечтал об этом. Вместе со Здисем и его свитой они подошли к овеянному легендами автобусу с затемненными стеклами. Двери беззвучно открылись, все неспешно вошли в салон, уселись в удобных креслах, из колонок полилась приятная музыка. Яна посадили рядом со Здисем. Кто-то подал им поблескивающие в полумраке рюмки, наполненные коньяком.
— Натерпелся ты, дружище, — сказал кандидат и обнял Яна. — Но мы это компенсируем, обязательно компенсируем. Поверьте.
— Верю.
— Давайте-ка выпьем за будущее.
— За будущее, — повторил Ян, и в то же мгновение автобус плавно тронулся.
Путешествие от концертного зала до гостиницы оказалось коротким, но Ян был доволен. Он чувствовал себя безмерно счастливым. Коньяк затуманил его сознание, он поудобнее устроился в кресле и, улыбаясь, смотрел по сторонам. Когда они подъехали к гостинице, Ян вышел из автобуса и поплелся в свой номер. Он лег на кровать и сложил руки в молитве.
— Спасибо тебе, Господи, за то, что на меня напали, — прошептал он, глядя в темное окно. — Спасибо, Господи, за все.
* * *
На следующий день во время завтрака у Яна состоялся очень любопытный разговор с Помяновичем на тему вчерашнего нападения. Тому хотелось знать, что это были за парни и что им было нужно.
— Вот, к примеру, их головные уборы… — спросил он. — Почему на них были остроконечные шапки с красными звездами?
— Такие шапки носили в Красной Армии, иначе говоря, коммунисты.
— Значит, это были коммунисты.
— Нет, наоборот, пан Ян. Это антикоммунисты, самые злые враги коммунистов.
— Ясно. Антикоммунисты переоделись Коммунистами.
— Вот именно.
— А зачем?
— Таким образом они хотели напомнить нам, что в прошлом мы были коммунистами.
— Понятно, — обрадовался Ян. — На меня напали люди с красными звездами, потому что мы коммунисты?
— Примерно так, но не совсем точно. Мы не коммунисты.
— Тогда почему же они напали?
— Они считают, что когда-то мы ими были.
— Я все понял. Когда-то вы, пан Юрек, были коммунистом, но теперь им не являетесь, только антикоммунисты этого не знают, правильно?
— Не совсем. По правде говоря, я никогда не был коммунистом.
— И пан Здись тоже?
— И Здись.
— Тогда в чем же дело?
— Это трудно объяснить человеку, страдающему амнезией. Дело было так: давным-давно Польшей руководили некие люди.
— Ясно.
— Чтобы руководить страной, они должны были притворяться коммунистами.
— Ага. А остальные считали их настоящими коммунистами?
— Совершенно верно. Потом к власти пришли антикоммунисты. Они свергли прежнее руководство, и коммунисты перестали быть коммунистами, которыми, впрочем, никогда и не являлись.
— И кем же они стали?
— Как бы это сказать… В некотором роде тоже антикоммунистами.
— Это довольно сложно, — признал Ян. — Зачем же на меня напали?
— Пан Ян, дорогой, на вас напали истинные антикоммунисты, переодетые настоящими коммунистами, охотящиеся за фальшивыми коммунистами, которые, по сути, тоже являются антикоммунистами.
— Настоящими или фальшивыми?
Этот вопрос окончательно сбил Помяновича с панталыку. Редактор тяжело вздохнул:
— Это, дорогой пан Ян, не имеет ровно никакого значения.
Как раз в тот момент ко входу в гостиничный ресторан подъехал микроавтобус. Помянович встал и энергично направился к выходу.
Глава восьмая НЕНАСТЬЕ
Предвыборное турне закончилось так же неожиданно, как и началось. В один прекрасный день они прибыли в последний по списку город, Ян в последний раз передал свое будущее в руки Здися, духовой оркестр как никогда воодушевленно исполнил марш «Alte Kameraden» и покинул сцену.
На следующий день микроавтобус доставил Яна на улицу Кручей и сразу уехал. Сидевшие в салоне за элегантными шторками коллеги на прощание махали ему руками.
Ян почувствовал себя смертельно уставшим. Он с трудом поднялся по лестнице на свой этаж, принял душ, забрался в кровать и проспал восемнадцать часов.
Предвыборная кампания переместилась на телевидение. Шишка и Мончинский бились не на жизнь, а на смерть. Оба прошли во второй тур выборов, и вся страна с нетерпением ждала результатов.
Для Яна работы не нашлось. Он слонялся по городу или сидел у телевизора и болел за Здися. Наконец за два дня до проведения второго тура появился Помянович.
— Извините, что не звонил. Я был очень занят, — объяснил он. — Послезавтра в восемь вечера состоится специальная программа, посвященная выборам, на которой будут присутствовать Шишка и Здись. На встречу также приглашены предвыборные штабы кандидатов. Вы придете?
— Конечно!
— Микроавтобус заедет за вами в шесть вечера. До встречи.
Вновь, как несколько недель назад, Ян стоял на тротуаре и ждал. Он заметил, как мимо промчался стильный автобус с затемненными стеклами, а может, ему просто показалось. Вскоре подъехал знакомый микроавтобус. Водитель пожал Яну руку и триумфально поднял руку.
— Мы победим, — сказал Ян.
Автобус резко тронулся и, доказывая свое первенство, на скорости помчался в телестудию.
Там с нетерпением ждали дорогих гостей. Зал был прекрасно оформлен, кругом бегали журналисты, то и дело передававшие последние новости, гримерши рвались на части, технический персонал деловито цеплял важным гостям маленькие микрофоны, так называемые микропорты. В студии царила суматоха. Лишь операторы были невозмутимы — они и не такое видели в свои объективы.
Яна втолкнули в студию. Он не знал, что делать, как вдруг справа увидел Помяновича, беседовавшего с Юрчаком, и направился в их сторону.
— А вот и наш пан Ян! — увидев его, воскликнул Помянович. — Ну, где же ваша неповторимая улыбка? Вы не верите в нашу победу?
— Конечно, верю. — Ян покраснел. — Как ни во что другое на свете!
— Правильно, — сказал редактор. — Надо верить. Юрчак внимательно наблюдал за Яном.
— Вы изменились, — заметил он. — Стали выглядеть совсем иначе.
— Теперь у меня в жизни есть цель, — скромно сказал Ян.
— Да. Это сильно меняет человека, — улыбнулся Юрчак и замолчал.
В тот момент в студию вошел ведущий программы и стал наводить порядок.
Сторонники Шишки занимали всю правую сторону студии, штаб Мончинского — левую. Посередине был установлен большой стол, за которым уселись ведущий и два кандидата. Чуть дальше располагались места для известных аналитиков и журналистов, которые должны были комментировать происходящее в прямом эфире.
Ян с интересом рассматривал студию. Он заметил одну любопытную деталь: приверженцы Мончинского были похожи друг на друга. Все были в примерно одинаковых костюмах с галстуками, все аккуратно причесаны и побриты и выглядели очень уверенно. В то время как сторонники Шишки представляли собой очень разношерстную публику. Среди них были как люди одухотворенные, возвышенные, вероятно, артисты ил и ученые, так и крепкие солидные парни с натренированными руками, не слишком элегантно одетые. Вряд ли на ком-нибудь из них были носки из Нью-Йорка или французский галстук. Сзади столпились несколько человек в свитерах, а один и вовсе в джинсовой рубашке.
Но несмотря на это, Ян почувствовал к этим людям необъяснимую симпатию. Ему захотелось подойти к ним и просто поболтать. Но едва он сделал шаг в их сторону, как над дверью загорелся красный огонек и из усилителя раздалась хриплая команда:
— Тишина!
Все замолчали и успокоились. Заиграла приятная музыка — заставка возвещала о начале программы «Предвыборный час».
Ведущий поприветствовал телезрителей и объявил, что все ждут результатов выборов. Затем он предоставил слово некоторым гостям, которые высказали свои соображения относительно результатов и того, что может за ними последовать. Ораторы говорили так мудрено, что Яну не удалось ничего понять, но он пришел к выводу, что они, должно быть, необычайно умные и образованные люди.
После этого ведущий выходил на связь с корреспондентами, находящимися в разных уголках страны, которые рассказывали, что происходит на избирательных участках.
Когда репортеры закончили свои доклады, ведущий поинтересовался у Мончинского и Шишки, что они чувствуют в эту минуту, но те ответили, что ничего, поскольку ждут результатов. Затем в студии появилась певица, которая исполнила песню, оказывая знаки внимания обоим кандидатам. Она тоже ждала результатов голосования и не была так глупа, чтобы недальновидно предпочесть кого-то одного.
Песню сменила тишина, ведущий начал рассказывать анекдот, но прежде, чем кто-либо понял его смысл, раздались триумфальные аккорды. На висящем под потолком экране появилась схема Польши с обозначенными на ней границами воеводств и городами, что было призвано вызвать у людей гордость, но это никого не интересовало, поскольку с минуты на минуту должно было наступить важное событие. Собравшиеся в студии стихли, аналитики вскочили с мест, чтобы лучше видеть. Польша на экране превратилась в оптимистичный золотистый подсолнух, а в центре неожиданно возникли изображения лиц Мончинского и Шишки, которые зависли над головами присутствовавших в студии членов предвыборных штабов.
Через мгновение что-то заскрежетало, запищало, и на экране появились цифры. Полстудии завопило от радости, люди принялись обниматься.
Рядом с фотографией Мончинского было четко написано: 50,2 процента. Возле фотографии Шишки цифры нервно мигали: 49,8 процента.
Кто-то схватил Яна и потащил танцевать на середину студии. Помянович обнимал Юрчака, Дзюркевич бегал как сумасшедший и всех, кто попадался ему на пути, хлопал по плечу.
Шишка стоял белый, как полотно. Он с трудом поднялся из кресла, поднял руку, словно был учеником, и просил разрешения что-то сказать, но вдруг захрипел:
— Это обман… грязный обман!
Он пошатнулся и упал. Приближенные склонились над ним, пытаясь привести в чувство.
Неожиданный обморок Шишки отвлек внимание от триумфа сторонников Мончинского. Камеры развернулись, операторы навели объективы на происходящее в стороне проигравших. Из режиссерской вышел ответственный за программу и, сбежав в студию по железным ступенькам, скомандовал:
— Камеры! Снимайте победителей! Радость победителей!!!
Приверженцы Мончинского сразу поняли, что он имеет в виду. Они сбились в группу и стали громко скандировать:
— Здись! Здись! Здись! Здись!
Ответственный за программу остановился, сел на подставленный кем-то стул и, держась за сердце, улыбнулся Здисю и членам его команды. Это была улыбка, преисполненная любви и преданности, что вдохновило сторонников Мончинского на еще больший энтузиазм.
Один лишь Помянович не обратил внимания на ответственного за передачу. Он рассматривал людей, которые поднимали находящегося без сознания Шишку и усаживали его в кресло. Помянович слегка толкнул Юрчака локтем.
— Смотри, — сказал он. — Это Здебский.
— Юлек Здебский? — удивился Юрчак. — Где? Где?
— Тот лысый, рядом с Шишкой.
— Юлек Здебский? — Юрчак всмотрелся в лысого, потрепанного жизнью человека. — Как же он постарел. Ни за что бы его не узнал.
Они молча смотрели на Здебского, который осторожно придерживал голову Шишки, а затем аккуратно положил ее на спинку кресла.
— Подойду к нему, — сказал Помянович. — Я уже давно хотел с ним поговорить.
— Попробуй только. Если подашь ему руку, тебе конец.
— Он мой давний друг.
Юрчак окинул его презрительным взглядом.
— Дерьмо, а не друг, — отрезал он. — Дурак, который всегда на стороне проигравших.
— Но…
— Запомни, — тихо, но угрожающе произнес Юрчак. — Если ты в игре, держись победителей.
Помянович промолчал. Он направился к сидящему в углу Яну.
— Я так счастлив, — сказал Ян. — Господи! Как же я счастлив.
— Да… — подтвердил Помянович. — Все счастливы.
И присел на стул рядом с Яном.
После телестудии штаб Здися в полном составе отправился на торжественный банкет. Ян оказался дома лишь около шести утра. Нетвердым шагом он добрался до кухни, напился молока из картонного пакета, в одежде упал на кровать и сразу уснул.
Весь следующий день он пролежал с раскалывающейся головой, но в состоянии умиротворения. Все телепрограммы были посвящены Здисю. По телевизору показывали двухлетнего Здися, Здися — первоклассника, Здися — в роли гнома, Здися — велосипедиста, Здися — лицеиста, Здися — со своей первой любовью, Здися — выпускника, Здися — студента, Здися — получающего диплом, Здися — общественного деятеля, Здися — делегата, Здися — руководителя, Здися — мужа, Здися — государственного мужа, Здися — отца, Здися — в Африке под баобабом, Здися — на лыжах, Здися — в ластах… От одного лицезрения Здися в разных ипостасях могла закружиться голова, но это еще не все. Целый день в студию приходили многочисленные родственники и знакомые Здися, которые восторженно говорили о нем. И из их рассказов возникало множество разных Здисей, о существовании которых никто и не подозревал: Здись — харцер, Здись — гребец, Здись — рыболов, Здись — сажающий огурцы, Здись — ловящий головастиков.
Невозможно описать, с каким восхищением Ян наблюдал за появлением все новых Здисей и как с каждым мгновением росла его гордость. Он, еще недавно пациент психиатрической клиники, стал человеком из окружения Здися. Вчера, может, это ничего не значило, но сегодня, когда наступили великие дни и для всех засветило солнце, перед Яном был открыт весь мир. Он закрывал глаза и предавался мечтам о том, как распорядится тем, что так внезапно свалилось ему на голову. Ян грезил, умилялся, затем начиналась очередная программа о Здисе, и так без конца.
На следующий день Ян продолжал лежать и смотреть телевизор. Он с огорчением заметил, что программ, посвященных Здисю, стало меньше. Появились сюжеты о новых событиях, таких, например, как крушение самолета, взрыв в Израиле, рождение пятерых близнецов в Китае. Мир возвращался в нормальное состояние, но Яна это не радовало. Что с того, что разбился самолет или автобус с детьми попал в аварию?
Расстроенный постепенным вытеснением Здися с телеэкрана, Ян выключил телевизор и решил немного прогуляться. День выдался холодный и ветреный. На рекламных стендах висели агитационные плакаты Мончинского и Шишки. Никто уже не обращал на них внимания. Люди приподнимали полы плащей, надевали капюшоны и спешили по своим делам. Ян сделал покупки и вернулся домой. За окном быстро наступила ночь.
Несколько дней в Варшаве шел дождь. Ян сбегал в ближайший магазин за продуктами и газетой. В ней много внимания было уделено Здисю, поэтому Ян прочитал ее несколько раз от корки до корки. Еще он смотрел телевизор, дремал, слушал шум капель дождя, барабанящих по подоконнику…
Наконец дождевые тучи переместились на восток, и улица Кручей радостно засияла в лучах солнца. Ян взглянул на календарь и удивился. Со дня выборов уже прошла неделя. Все это время ему никто не звонил и им не интересовался. Взволнованный этим обстоятельством, он набрал номер Помяновича.
— Алло! — услышал Ян тихий и на удивление печальный голос бывшего редактора.
— Мне никто не звонит, — сказал Ян.
— Что ж… — пробормотал в трубку Помянович. — Выборы ведь закончились.
— Но я не знаю, что мне делать.
— Пожалуйста, делайте что-нибудь…
— Что-нибудь?! — поразился Ян. — Не понимаю. Что это значит?
В трубке на долгое время зависла тишина, а потом раздался еще более грустный голос Помяновича:
— Все будет хорошо, пан Ян. Я приду… приду к вам завтра… может… послезавтра… Наберитесь терпения и ждите…
— Чего ждать?
— Ждите меня, — спокойно объяснил Помянович и положил трубку.
Набирая номер Помяновича, Ян не подумал о том, что бывший редактор может находиться в такой же ситуации. Со дня выборов его телефон тоже молчал.
Помянович был слишком опытным человеком, чтобы не понять, что эта тишина не к добру. Надо было немедленно действовать, но он решил подождать, не навязываться. К тому же, размышлял он, если дела так плохи, как ему кажется, предложение своих услуг дела не изменит.
Он сидел дома и читал «Идиота» Достоевского. Звонок Яна вызволил редактора из летаргии. Помянович отложил Достоевского и деловито набрал номер Юрчака.
— Алло… — нетерпеливо сказал он.
— Юрек?! — раздался радостный голос. — Куда ты подевался, дружище?!
— Сидел дома…
— Кто же сидит дома в такие прекрасные времена? Живи, черт побери, в свое удовольствие, сходи в парк, в какое-нибудь приятное заведение, куда-нибудь еще.
Помянович решил поговорить с ним прямо.
— Мне никто ничего не предлагает, — заявил он. — Никто не звонит…
— Да… — Юрчак стал серьезнее. — Ты должен… то есть… приходи сюда…
— К тебе?
— Не ко мне, а к Здисю. Я тебя запишу на завтра. На три часа дня. Согласен?
— Конечно, согласен.
— Тогда договорились! — И трубка замолчала.
На следующий день ровно в три минуты четвертого Помянович вошел в кабинет президента. Увидев его, лидер широко улыбнулся, встал и направился к гостю, вытянув вперед руку, словно хотел просунуть ее сквозь Помяновича.
— Юрек! — широко улыбаясь, воскликнул он. — Какой сюрприз! Присаживайся.
Помянович сел в указанное ему кресло.
— Ну, как поживаешь, Юрек? Чем занимаешься?
— Ничем.
— Разве такое возможно? Такой активный человек, как ты…
— Мне никто ничего не предлагает, — тихо сообщил Помянович. — А ведь я… я доказал.
Мончинский сел за письменный стол и уставился в одну точку.
— Конечно, ты доказал, — подтвердил он.
— Что же тогда?
— Как бы это сказать… Ты не всем нравишься.
— Почему?
— Слишком мало проявляешь энтузиазма. Все кричат, а ты нет. Хлопают так, что у них ладони распухают, а ты культурно, как в театре…
— Не выношу показуху.
— Иногда это необходимо. Кроме того, насколько мне известно, ты дружишь с неправильными людьми.
— Я?
— Да хотя бы с этим… этим… — Мончинский быстро взглянул на лежащую на столе бумагу. — Юлиушем Здебским.
— Я не видел его много лет.
— Но все еще называешь его «своим другом», а он на самом деле враг.
Помянович опустил голову.
— Я забуду об этой дружбе, — тихо пообещал он.
— К сожалению, это не все. — Мончинский взял другой лист. — Самое худшее — эта твоя порядочность.
— Что же в ней плохого? — удивился Помянович.
— В общем ничего. — Мончинский улыбнулся. — Видишь ли, Юрек, мы тебя просто не любим.
Помянович опустил голову. Он вдруг все понял, вспомнил свою по-идиотски растраченную жизнь, кивнул и направился к двери.
— Подожди секунду, — сказал Мончинский. — Я знаю, что ты старался, и буду иметь тебя в виду. Ты еще пригодишься, только не сейчас, потом. Жди.
— А Ян?
— Какой еще Ян?
— Тот больной с искренней улыбкой.
— Ах тот… Он не в счет.
— Но ведь он тоже старался.
— Ладно. Пусть ему Юрчак заплатит и устроит квартиру. Только пусть он не пишет мне писем. Ну, иди, Юрек, для тебя нет работы.
Помянович вышел в коридор. Ему хотелось плакать, как ребенку. Он быстро пробежал мимо Юрчака и спустился по лестнице.
Через мгновение серебристый автомобиль с ревом мчался в направлении к университету. Оставшуюся часть дня бывший редактор просидел на прогнившей скамейке у стены. Возле него стояла бутылка водки, к которой он время от времени прикладывался. Потом стемнело, и Помянович нетвердым шагом выбрался из кустов. Он что-то напевал под нос, задевал прохожих, пару раз споткнулся, наконец выбрался на тротуар. Вернувшись домой, он впал в тяжелый, беспокойный сон.
* * *
На следующий день Помянович приехал к Яну одетый с иголочки, пахнущий одеколоном и совершенно спокойный с виду. Лишь легкое дрожание рук указывало на то, что с бывшим редактором что-то не так.
— Пан Ян, у меня для вас чудесная новость, — начал он с порога. — Теперь это ваша квартира.
— Как… как это моя?
— Здись вам ее дарит.
— Не может быть… разве… — Ян был обескуражен. Он не знал, что нужно говорить в таких случаях.
— Чему вы удивляетесь? — продолжал Помянович. Его радость была слегка наигранной. — Я же говорил, что настанут великие дни. Вот они и пришли.
— Теперь все начнется, да?
— Конечно. То есть в некотором роде да. А это, мой дорогой друг, сберкнижка, на вашем счету теперь довольно приличная сумма, во многом превосходящая ваши потребности.
— Что за книжка? — удивился Ян.
— Ваша сберкнижка. Разве я не говорил вам? Вот, взгляните на эти цифры. По-моему, здорово.
Ян взглянул на сумму, напечатанную синими чернилами, и от неожиданности покраснел.
— Но… — неуверенно начал он.
— Никаких «но». Вы это заработали. Спрячьте подальше. Для наших мошенников это не проблема. Угостите меня кофе?
Вскоре мужчины уже сидели с ароматно дымящимися чашками, но у Помяновича вдруг пропал весь запал. Он молча помешивал кофе. Ян какое-то время наблюдал за кругами, которые описывает ложка в чашке бывшего редактора, а потом несмело спросил:
— Что же мне теперь делать?
— Вам?
— Мне.
— А разве вы должны что-то делать? — улыбнулся Помянович. — Квартира у вас есть. Деньги тоже. Спите до полудня, много гуляйте, ходите в хорошие рестораны, а по вечерам посещайте театры и концертные залы. Может ли быть что-то более приятное?
— Но я… я хочу что-нибудь делать.
— Что?
— Да что угодно. Я могу делать все, лишь бы не быть одному.
— Та-а-ак.
Помянович задумался. А потом достал записную книжку и стал что-то искать, а найдя, взял телефон и быстро набрал номер.
— Тедди? — добродушно сказал он.
По другую сторону трубки, должно быть, отозвался некий таинственный Тедди, поскольку Помянович долго молчал и внимательно слушал.
— Послушай, Тедди, — наконец сказал он. — Я сейчас у Яна Августа. У него такая прекрасная улыбка, к тому же он многое умеет. Ян принимал участие в нашей избирательной кампании.
Помянович снова умолк. Видимо, Тедди было что сказать по поводу предвыборной кампании.
— У пана Яна много добрых помыслов, хоть он и немного странноват — страдает амнезией… Ну да, как и мы все. После кампании он остался не у дел, а я его очень люблю и хотел бы ему помочь. Возьмешь его к себе?
Помянович снова замолчал, какое-то время слушал, а затем коротко сказал:
— Пока!
Положив трубку, он стал что-то быстро писать на вырванном из блокнота листке бумаги.
— Тедди Кошикевич, — пояснил он. — Рекламное агентство «Тедди и друзья». Вот адрес. Зайдите к нему завтра в два часа дня.
— А что я там буду делать? — спросил Ян, взяв записку.
— Это особенное место, — улыбнулся Помянович. — Там все делают только то, что придумает Тедди. А Тедди может придумать что угодно, поскольку он немного сумасшедший и немного гениальный. Тедди есть Тедди.
И, преисполненный лучших чувств, Помянович притянул к себе Яна и крепко поцеловал в обе щеки. Затем встал и исчез из жизни нашего героя так же внезапно, как и появился.
Глава девятая ТЕДДИ КОШТИКЕВИЧ
Тедди Кошикевич был известной личностью. У него было много денег, но его уважали не за это.
Обычный бизнесмен встает на рассвете, съедает грейпфрут и после занятий на тренажере едет на работу, где вкалывает до позднего вечера. Кошикевич жил совершенно иначе. Он спал до полудня, лениво поднимался, с удовольствием пил кофе и, причесывая вздыбленные волосы, размышлял, как бы провести так мило начавшийся день. Потом он обычно куда-нибудь звонил, затем снова размышлял и в конце концов, одетый с небрежной элегантностью, садился в огромный французский лимузин (он обожал французские машины) и куда-нибудь ехал. Тедди никогда не спешил. Его автомобиль передвигался по забитым варшавским улицам на удивление медленно, а Кошикевич радовался жизни.
В его машине главное место отводилось аудиотехнике. Тедди привозили ее из-за рубежа, поскольку звук должен был быть идеальным, плюс неограниченные возможности регулирования высоких и низких регистров. В дороге Тедди включал своего любимого Пата Метени, если же ему был необходим адреналин, он ставил диск Сантаны, а если дело пошло, то из автомобиля доносилась изысканная музыка «Манхэттен Трансфер». Тедди покачивал головой в такт музыке и улыбался стоящим на тротуаре высоким стройным девушкам.
Уладив пару-тройку дел в городе, он ехал в агентство, где с его приходом все служащие откладывали свои занятия и спускались в подвальчик, где располагался бар, чтобы перекинуться словечком с шефом. Обычно этот слет занимал около часа.
Потом Тедди исчезал в своем кабинете, где предавался размышлениям, звонил и изучал отчеты о текущих делах фирмы.
По вечерам Тедди встречался с друзьями. Или он ездил к кому-нибудь в гости, или приезжали к нему. Время проходило за дурацкими разговорами, пиво лилось рекой, сплетни, анекдоты, и в этом море бессодержательной болтовни рождались новые выгодные проекты, устанавливались деловые связи, которые Тедди бережно хранил в своей надежной памяти. Встречи заканчивались около двух ночи, после чего Тедди возвращался домой, где до рассвета слушал музыку. Так проходила его жизнь.
Многие удивлялись, как Тедди, который целыми днями бездельничал, успешно держался на плаву в непростом рекламном бизнесе с его жесткой конкуренцией. Это было возможно благодаря дружеским связям.
Если бы в одну прекрасную летнюю ночь слегка пьяного Кошикевича спросили, сколько у него друзей, он бы наверняка многозначительно уставился на звездное небо и предложил бы любопытствующему самому сосчитать их число. Друзья были его главным достоянием. В квартире Тедди лежали толстые записные книжки, заполненные адресами и телефонами одноклассников из младшей и средней школы, друзей по университету, артистов и общественных деятелей, с которыми он познакомился в студенческих клубах, товарищей по службе в армии, любителей джаза, встреченных во время многочисленных концертов, и многих других, с кем его свела судьба во времена, когда он был аквизитором, начинающим торговцем и, наконец, владельцем агентства. Далеко не все они были известными людьми. В блокнотах Тедди были записаны координаты барменов и официантов, работающих в ресторанах, где он когда-то бывал, гостиничных администраторов и даже бабушек, собирающих плату за пользование туалетом, причем в разных городах страны. И хотя в это трудно поверить, каждый из этих людей считал Тедди своим близким другом и готов был отдать за него жизнь.
Кошикевич очень серьезно относился к дружбе. У него была двухсотстраничная тетрадь, в которой по датам были расписаны именины и дни рождения его многочисленных друзей, даты их свадеб и рождения их детей, и ни разу он не забыл кого-то поздравить. Если кому-нибудь из его друзей была нужна помощь, он был готов сесть в автомобиль и поехать на другой конец Польши. Но самым главным достоинством Тедди было то, что каждый мог прийти к нему хоть среди ночи и рассказать о своей полной горестей жизни. Он никого не учил жить, не утешал, не навязывал панацей от всех бед. Он умел слушать. И за это его все любили.
Дела Тедди проворачивал, основываясь на тех же принципах, что и в дружбе. Сидя в кресле, он размышлял, кому бы по тому или иному поводу позвонить. А когда трубка на другом конце провода была поднята, считай, и дело в шляпе. Разве мог кто-нибудь в чем-либо отказать Тедди?
Когда Ян появился в агентстве «Тедди и друзья», у Кошикевича не было ни малейшего представления о том, что с ним делать. Однако интуиция подсказывала ему, что этот человек для чего-нибудь да пригодится. Для начала они познакомились, тут же перешли на ты, Тедди рассказал гостю пару-тройку анекдотов и ушел, предварительно устроив так, чтобы Яна посадили в студии, принесли кофе и показали ему все рекламные ролики, выпущенные фирмой.
Ян был очарован Тедди и окружающей обстановкой. В студии его усадили в необычайно удобное кресло, придвинули к нему столик, угостили великолепно пахнущим кофе, а когда на экране появилась реклама безалкогольного пива, он почувствовал себя счастливым.
Ян видел рекламу по телевизору, но прежде не придавал ей большого значения. Когда начиналась рекламная вставка, он обычно отправлялся на кухню, чтобы сделать себе чай, или щелкал пультом, чтобы посмотреть, какие передачи идут по другим каналам. Сейчас, завороженный приемом, он внимательно смотрел на экран, чтобы ничего не пропустить.
Перед его глазами предстал совершенно иной мир. В стерильных, по больничному чистых помещениях, окрашенных в мягкие пастельные тона, существовали прекрасные женщины и мужчины. У них были такие же прекрасные дети, а у тех — прекрасные бабушки и дедушки, которые появлялись редко, но всегда мило и сердечно улыбались. В этом чудесном, чистом мире люди были прекраснее обычных. Машины казались больше и роскошнее. Ванны блестели, как дворец Снежной королевы, а такой яркой одежды он и вовсе никогда не видел.
Если в этом прекрасном мире возникала проблема (например, на терракотовой плитке обнаруживалась бактерия), то немедленно находилось решение. Умнейшие мужчины и женщины (в очках) показывали удивленному Яну сотни различных порошков, гелей, аэрозолей, с помощью которых можно уничтожить эту опасную бактерию, и терракота будет настолько чистой, что можно ее без страха облизать.
Это было так поразительно, что Яну захотелось выскочить из кресла, побежать в ванную комнату и начать облизывать терракотовую плитку. Но за этой рекламой последовала другая, еще более ошеломляющая. Одному человеку очень хотелось иметь красивую собаку. Оказалось, что достаточно дать лохматой дворняжке правильный сухой корм, чтобы она стала красивой и ухоженной. То же было с котом и даже с попугаем. Ян решил, что женщины и мужчины из рекламы так прекрасны потому, что тоже употребляют сухой корм. Ан нет! Герои рекламных роликов становились прекраснее по большей части от поедания легкого масла, а дети хорошели от бутербродов с сыром. Ян также заметил, что чем больше в том мире пьют кофе, тем лучше выглядят. Тогда он почти залпом выпил свой кофе и стал смотреть дальше.
Трудно себе представить, сколько Ян узнал о чудесном мире рекламы, просмотрев продукцию агентства «Тедди и друзья». Наконец, перегруженный впечатлениями, он уснул, прижимая к сердцу чашку.
Сначала в суматохе никто не обратил внимания на спящего Яна. Лишь через полчаса проходящая мимо сотрудница взглянула на него и, пораженная, остановилась. Спустя какое-то время вокруг Яна собралась толпа служащих агентства. Послали гонца к Тедди, тот немедленно явился и потерял дар речи.
Ян спал в кресле, чудесно, счастливо улыбаясь. Его лицо, выражавшее умиротворение, слегка порозовело и казалось намного моложе. Все смотревшие на него вдруг почувствовали себя счастливыми и умиротворенными, не имея на это никаких оснований. Им привиделись далекие окраины, беспредельные моря, таинственные леса, блестящие в лучах солнца ледяные глыбы… Рекламщики присели на расставленные кругом стулья и молча любовались спящим, боясь его разбудить, а значит, навсегда потерять посетившие их откровения.
Один лишь Кошикевич не поддался очарованию момента.
— Камеру, быстро, — вполголоса скомандовал он. — Свет.
Осветители подняли лампы. Лицо Яна тут же озарилось мягким светом.
Оператор склонился над спящим, присутствовавшие, услышав тихий шум, затаили дыхание. Оператор приближался и отступал, снимал прямо и в профиль, снизу и под разными углами. У осветителей от усилий дрожали руки.
— Достаточно, — тихо сказал Тедди, и камера утихла. — Оставьте его. Пусть спит.
Работники агентства на цыпочках покинули помещение. Последним вышел Тедди с кассетой в руке.
Он закрылся в своем кабинете, вставил кассету в видеомагнитофон и стал смотреть на спящего Яна.
— Вот мы и прибыли на остров сокровищ. Смело, старина Джонни Сильвер, — прошептал он и улыбнулся.
Ян не имел ни малейшего представления о том, что вокруг него происходит. Остаток дня он провел, наблюдая за процессом производства рекламы жидкости для чистки туалетов.
Приглашенные актеры-любители рассказывали о том, что для них самое важное. Толстый корректор — у него появились проблемы с выплатой кредита, и в связи с этим он был вынужден подрабатывать обезьянничаньем — изображал водопроводчика, утверждая, что для него главное разводной ключ. Глядя в его унылое лицо, Ян подумал, что эти ключи счастья не приносят. После него выступала молодая женщина, настолько худая, что казалось, еще шаг — и она сломается. Эта дама играла роль какого-то необыкновенно прекрасного создания и утверждала, что самое главное для нее красота. После тощей красавицы появился коротышка в костюме моряка и басом выпалил, что для него самое главное поймать ветер. В подтверждение своих слов он продемонстрировал маленький пластиковый парусник.
Когда секретарше наконец удалось увести этого упрямого парня, в студии появилась актриса, которую Ян несколько раз видел по телевизору. У нее были слегка припухшие глаза и насморк.
Еще в дверях она прохрипела:
— У меня всего две минуты.
— Этого вполне достаточно, пани Юля, — успокоил ее оператор.
И простуженная звезда быстро рассказала о том, что для нее самое главное жидкость для чистки туалет. После чего взяла яркую пластиковую бутылочку и щедро плеснула из нее в подготовленный секретаршей унитаз. Раздались аплодисменты, и кашляющая актриса исчезла.
Все это несколько удивило Яна, но у него не было времени на размышления. Как только недомогающая звезда ушла, все сорвались со своих мест и поспешили в буфет, куда уже была доставлена пицца. Там царила такая приятная, веселая атмосфера, что Ян очень скоро забыл о своих сомнениях.
В тот день Тедди в бар не пришел. Он сидел в своем кабинете и думал, кому бы продать счастливую улыбку Яна. Он размышлял весь день, вечер и почти всю ночь, пока его не осенила гениальная идея:
— Пириос!
Не все, наверное, знают, что значит это слово, но в агентстве «Тедди и друзья» оно имело огромное значение. Это было название нового отбеливателя, который американский концерн «Би-си-би» продвигал на мировой рынок. Польша была очередной страной, по которой этот продукт должен был начать свое триумфальное шествие. На рекламу «Пириоса» был выделен гигантский бюджет, и все агентства старались до него добраться.
Для «Би-си-би» фирма «Тедди и друзья» не была единственным партнером, но Боб Фестон, глава представительства, отвечающий, в частности, за рекламу в Польше, слышал, что Тедди немного псих. Он по опыту знал, что у таких людей нередко возникают гениальные идеи, поэтому без долгих раздумий согласился принять Кошикевича.
Тедди деловито вошел в кабинет Боба, небрежно бросил свой кейс на стоящий в углу диван и уселся в кресле так, словно сидел в нем каждый день.
Боб молча наблюдал за тем, что вытворяет Кошикевич, на секунду задумался, а не вышвырнуть ли его за дверь, но в конце концов спросил:
— У тебя какая-то идея насчет «Пириоса»?
— Ни одной, — оскалился Кошикевич.
— Есть концепция?
— Да где там, — рассмеялся Тедди.
Боб внимательно посмотрел на него.
— С чем же ты пришел? — спросил заинтригованный Боб.
— У меня есть улыбка, — нахально заявил Тедди.
— Ага. Можно взглянуть?
Тедди вытащил из кейса кассету. Глава представительства «Би-си-би», исподлобья глядя на гостя, вставил ее в видеомагнитофон.
На экране появился спящий Ян. Боб смотрел на него, смотрел и не мог наглядеться.
— А он может так улыбаться, когда не спит?
— Не знаю, — признался Кошикевич. — Но я готов привлечь самых лучших режиссеров и гримеров.
Боб снова уставился на экран.
— Беру, — тихо сказал он. — Договариваемся так: ты даешь этого…
— Его зовут Ян.
— Ты даешь Яна, а мы разрабатываем концепцию и слоган. О'кей?
— О'кей, — согласился Тедди. — Когда подпишем контракт?
— Послезавтра.
Они встали и пожали друг другу руки.
Тедди не помнил, как очутился в коридоре. У него так дрожали руки, что он побоялся сесть за руль и чуть ли не впервые в жизни пошел в контору пешком. Вбежав в студию, он вскричал:
— Шампанского! Лучшего французского шампанского!
— Что случилось? — поинтересовался оператор, которого ничто не могло вывести из равновесия.
— Деньги! — воскликнул Кошикевич. — Целое состояние паршивых американских денег! Бросаем все дела! Надо отметить!
И работники рекламного агентства «Тедди и друзья» закатили пирушку.
Глава десятая СЛАВА
Боб не слишком долго раздумывал о рекламе «Пириоса». Почти три года живя в Польше, он заметил, что поляки вечно всем недовольны, разочарованы и пребывают в подавленном состоянии. Он также понял, что давние исторические события, которые в Соединенных Штатах являются поводом для организации шумных и веселых мероприятий, в Польше — источник печали и неизлечимых комплексов. Конечно, история Польши намного трагичнее истории США, но здесь даже годовщины великих побед отмечаются мрачно, а в костелах служат невыносимо долгие мессы, во время которых люди молят Бога смилостивиться над их несчастной отчизной.
Боб был уверен — поляки грустный народ оттого, что более тысячи лет просят Бога ниспослать им удачу, но Всемогущий либо не хочет их слышать, либо неверно трактует их молитвы. Почему Господь Бог так поступает с поляками, он не знал. Может, Бог их просто не любит? Это мнение Боб разделял, поскольку тоже не был в восторге от поляков, хотя, конечно, никогда бы не признался в этом публично.
Подобные размышления о Боге и поляках навели Боба на следующий рекламный сценарий:
На экране появляется ужасно загроможденная комната. В ней среди прочего находятся коронационный меч Болеслава Храброго, «Битва под Грюнвальдом» Яна Матейки, несколько пар гусарских крыльев[7], кривая сабля, вызывающая ассоциацию с паном Володыевским, картонная модель Кремля, осаждаемая польскими оловянными солдатиками, гравюра «Ковка кос» Гроттгера[8], а также восковые фигуры: смотритель давно погасшего маяка, читающий «Пана Тадеуша», Янкель-цимбалист, а за его спиной солдат с дубиной в одной руке и сборником статей Дмовского[9] под мышкой, танкист Ян Кос[10] с Марусей и псом Шариком, чесник Раптусевич, бьющийся с Каргулем за ружье, и нотариус Мильчек у забора Павляка[11]; в углу лежит гнутый золотой рог. И над всем этим хаосом парит двойник папы римского с молитвенно распростертыми руками.
Под папой на стульчике сидит Ян с таким несчастным выражением лица, какое только может быть у поляка. Придавленный грузом истории своей страны, он тупо смотрит перед собой. Вдруг его взгляд падает на стоящую в сторонке упаковку с яркой и веселой надписью «Пириос». Заинтересованный, он берет ее в руки и внимательно рассматривает. Открывает ее и высыпает немного отбеливателя на ладонь. Реквизит, заполняющий комнату, постепенно начинает бледнеть, становится все менее выразительным и наконец совсем исчезает, а папа улетает на юг. Лицо Яна озаряется лучезарной улыбкой, и на экране появляется надпись: «ПИРИОС» ОТБЕЛИТ ВСЕ.
Сценарий мгновенно оказался в Нью-Йорке. Какое-то время Боб не получал никаких инструкций, но через неделю ему пришло электронное письмо от шефа:
Идея прекрасная, — писал шеф, — но требует некоторых корректив. Поляки очень любят своего папу и не потерпят, чтобы он исчезал под действием отбеливателя. Вместо папы в рекламе можно задействовать аиста, который, во-первых, является польской птицей и персонажем польского фольклора, а во-вторых, вполне может улететь на юг. Вместо мечей и крыльев нужно показать польскую нищету: парня, едущего в повозке, запряженной исхудалой клячей, разваливающуюся деревянную хибару и свиней, валяющихся в грязи. С этим могут быть трудности, поскольку у поляков давно есть тракторы, а дома в основном кирпичные, но недалеко от Варшавы живет один мужичек, у которого есть кляча, халупа, свинья и грязь, и за деньги он все это показывает заграничным телевизионщикам как польскую нищету. Иногда он взбрыкивает и хочет продемонстрировать еще и трактор, но этого нам не надо, потому что, во-первых, что это за трактор, а во-вторых, свинья и грязь выглядят намного лучше.
Боб от природы был человеком сговорчивым, поэтому позаимствовал чучело аиста и, подождав, пока французское телевидение снимет мужика, свиней и грязь, приступил к действиям.
Тедди Кошикевич первый раз в жизни встал в семь утра. Его агентство заработало на полную катушку.
Происходящее до глубины души потрясло Яна. Прочитав сценарий, он был ошеломлен огромным количеством реквизита, но особенно его поразило парящее прямо над ним чучело аиста, которое могло в любой момент на него свалиться и стереть с лица земли вместе с бесценным отбеливателем. Поэтому Ян очень осторожно входил в студию, а когда очутился внутри, удивленно остановился. В помещении было совершенно пусто. У стены стоял взятый напрокат в Этнографическом музее деревянный табурет, а возле него стильная упаковка с отбеливателем. Яна посадили на табурет и стали обсуждать, как бы получше осветить. Когда же все ослепляющие софиты был и установлены, с потолка стало что-то опускаться вниз. Ян испугался, что это аист, но это оказались микрофоны. В тот момент кто-то принес минеральную воду и возник небольшой перерыв, которым Ян воспользовался, чтобы подойти к Кошикевичу.
— А где все? — спросил он.
— Что — все? — уточнил Тедди, не понимая, что Ян имеет в виду.
— Ну… все эти мечи, свинья… грязь…
— Все это мы сделаем на компьютере.
Ян не имел ни малейшего представления о том, что такое компьютер, но его обрадовал ответ Тедди, и он, поторапливаемый режиссером, вернулся на табурет. В дверях появился Боб. Он был очень взволнован. Подбежал к Яну и осмотрел его со всех сторон.
— Он не очень грустный, — сказал Боб, обращаясь к Тедди. — Сделай с ним что-нибудь.
— Ясь! — воскликнул Тедди. — Не надо так радоваться жизни, дорогой! Больше грусти.
Ян попытался, но у него не очень получилось.
— Представь, что ты находишься под землей, — предложил Боб. — Тебя завалило. Ты под грудой бетона.
— Но меня же не завалило, — возразил Ян. — Здесь высоко… и вообще много места.
— Вот так всегда у вас, поляков, — сказал Боб Тедди. — Если есть улыбка, нет воображения. Есть воображение, разума нет.
— Ясь! — ласково обратился к Яну Кошикевич. — Постарайся вспомнить какое-нибудь печальное событие. Например, как кто-нибудь из твоих близких умер.
— Но у меня еще никто не умирал.
— Что за идиот, — пробормотал Боб.
— Ну, тогда припомни что-нибудь еще грустное.
Ян стал искать в памяти печальные события и вспомнил, как в отделении 3 «Б» готовились к сочельнику. Он припомнил пана Поняка, который, маневрируя на стремянке, пытался водрузить на макушку елки разноцветный шпиль, и пани Зосю с безумными и одновременно поразительно печальными глазами.
— Великолепно! — воскликнул Боб. — Снимай его, снимай!
А Ян мысленно продолжал всматриваться в глаза пани Зоси, наблюдал, как пан Поняк медленно спускается со стремянки, обнимает ее и приглашает на танец, а Пианист тихо сидит в уголке, сжимая в руках серебристый елочный шар, на котором нарисован веселый трубочист с блестящей в лучах солнца лестницей.
Погруженный в воспоминания о больничном мирке, Ян даже не заметил, как в студии зажгли освещение, зашумели камеры и одна за другой стали приближаться к нему.
Боб смотрел на Яна, и ему вдруг показалось, что и в нем самом есть эта безнадежная польская тоска. Он задумался, что, к счастью, случалось с ним очень редко.
Один лишь Тедди сохранял трезвость мышления. Он поднял руки и, словно дирижер, деликатно направлял камеры и осветительные приборы. Когда он замер, камеры затихли, свет погас. В зале раздались аплодисменты.
Теперь Яна ожидало более трудное задание. От него требовалось с печальным выражением лица, уже зафиксированным камерами, обратить внимание на упаковку с отбеливателем, взять ее в руки, высыпать немного порошка на ладонь и лучезарно улыбнуться.
Табурет показался Яну невыносимо твердым, софиты ослепляли, шум камер раздражал. Ян потянулся к упаковке с отбеливателем, высыпал немного порошка на ладонь и задумчиво разглядывал белую субстанцию.
— Ясь… — услышал он тихий голос Кошикевича. — Ясь, мы тебя любим.
В голосе владельца агентства было столько тепла, что Ян почувствовал, как его переполняют эмоции. Он посмотрел в темноту, где между второй и третьей камерами скромно стоял Тедди, и улыбнулся ему.
В тишине был слышен лишь шум камер, который вскоре замолк. Никто не шевельнулся. Присутствующие молча смотрели на Яна, который показался им совершенно другим человеком, хотя они сами не знали почему. Осторожно, чтобы не нарушить охватившее всех благостное состояние, Тедди подошел к Яну и обнял его. Потом к нему протиснулся Боб и, удовлетворенно посапывая, едва не сломал Яну руку. Операторы, осветители и технический персонал поочередно подходили к Яну и молча пожимали ему руку. Наконец все уселись в машины и поехали к Тедди, где до рассвета пили французское шампанское, курили марихуану и слушали джаз. Ян был на седьмом небе от счастья.
Рекламу отбеливателя «Пириос» впервые показали по телевизору в четверг вечером, в лучшее время, когда у телеэкранов собирается наибольшее количество зрителей. Боб хотел, чтобы люди узнали об отбеливателе перед выходными, когда гипермаркеты заполняют толпы покупателей. Он позаботился о том, чтобы «Пириос» был выставлен на лучших местах, и во все крупные магазины отправил стажеров, чтобы те консультировали покупателей и сообщали ему об уровне продаж. В пятницу около шести вечера, когда стоянки супермаркетов обычно до предела забиты автомобилями, Боб, Тедди и несколько особо ценных сотрудников из отдела маркетинга «Би-си-би» расселись в кабинете Боба и, держа в руках бокалы с отливающим бронзой виски, с нетерпением стали ждать результатов.
Им не пришлось ждать долго. В пять минут седьмого позвонил студент и неприятно пискливым голосом сообщил:
— «Пириос» расходится, как вода. Покупают как сумасшедшие.
— Кто покупает? — поинтересовался Боб. — Женщины? Мужчины? Молодые? Старики?
— Все, — пропищал студент. — Берут со страшной силой. Уже очередь выстроилась.
Едва Боб положил телефон, как снова раздался звонок.
— Все покупают «Пириос», — многозначительно прошептала девушка, которую фирма «Би-си-би» частенько нанимала в качестве промоутера. — Расхватали все, что было выставлено на витрине, покупатели ждут новую партию со склада магазина.
— Кто эти покупатели? — спросил Боб. — К какой социальной группе они относятся? Их возраст?
— Откуда же мне знать? — заколебалась девушка. — По-моему, покупают все независимо от социального статуса и возраста.
Последующие полчаса Бобу беспрестанно звонили и сообщали почти одинаковую информацию. Люди словно сошли с ума на почве отбеливателя «Пириос». В конце концов Боб перестал отвечать на телефонные звонки. Все и так было ясно. Неправдоподобный, невообразимый, неслыханный триумф!
* * *
В то время, когда телеканалы вовсю транслировали рекламу отбеливателя, простуженный Ян лежал в постели. Он кашлял, чихал, сильно потел, глотал аспирин и пил из бутылки сироп. Он много раз смотрел рекламу и был доволен собой.
В пятницу Яну позвонил Голембиовский и поздравил его с успехом. Он смеялся и назвал Яна «божьей пташкой», а когда Ян поинтересовался, что это значит, он пообещал на днях зайти и все объяснить.
В субботу утром объявился Помянович и сказал, что видел рекламу и очень за него рад. Ян сразу почувствовал, что Помянович расстроен, но не стал задавать вопросов, лишь поблагодарил и попрощался.
Потом по очереди позвонили все, кто знал Яна по избирательной кампании, и сердечно поздравили, а он сердечно всех поблагодарил.
Вечером позвонил доцент Красуцкий и признался, что очень рад тому, что Яну удалось найти свое место в жизни. Ян хотел объяснить, что, по правде говоря, он еще не нашел своего места, но как раз в тот момент к пану доценту кто-то пришел, и разговор закончился. В воскресенье утром Ян почувствовал себя намного лучше и решил выйти погулять.
День был солнечный, но дул холодный ветер, поэтому он натянул шапку на лоб, поднял воротник плаща и пошел по Кручей в сторону Иерусалимских аллей. Как обычно, в воскресенье на улицах было довольно пусто, только на углу стояла группа подростков и что-то возбужденно обсуждала. Ян брел мимо, думая о своем, как вдруг заметил, что один из парней догнал его и пристально разглядывает. Ян закрылся воротником, но это не помогло. Юноша вернулся к товарищам, крича:
— Пириос! Ребята! Это Пириос!
Толпа подростков догнала Яна, окружила его, и парни по очереди стали выкрикивать:
— Пириос!!! Пириос!!! Люди, смотрите — Пириос!!!
— Ребята, оставьте меня в покос… — взмолился Ян. — Нет причины так кричать…
Но у подростков, должно быть, причина была, поскольку они теснее окружили Яна и громогласно орали:
— У нас Пириос! Люди-и-и-и! У нас Пириос!!!
Из соседних дворов выбежали другие девчонки и мальчишки, а следом за ними и взрослые. Вскоре вокруг Яна образовалась огромная толпа необычайно возбужденных людей, выкрикивающая:
— Пириос! Настоящий Пириос! Качать Пириоса!
Попытки Яна объяснить, что его на самом деле зовут не Пириос, он просто вышел погулять и что он простужен, утомлен и нуждается в тишине и покое, оказались бесполезными. Его никто не слушал. Каждый хотел потрогать героя телевизионной рекламы и получше рассмотреть. Ян почувствовал, что еще секунда — и его собьют с ног и затопчут, поэтому собрал всю свою волю в кулак, вырвался из окружавшей его толпы и припустил куда глаза глядят.
— Пириос сбежал! — крикнул какой-то парень. — Держите Пириоса!
И толпа бросилась в погоню за своим кумиром.
Ян никогда в жизни не бегал так быстро. Видя, что преследователи вот-вот настигнут его, он свернул во двор, пронесся по газонам, пересек автостоянку, перепрыгнул через ограждения, повернул направо, затем налево, но каждый раз, когда ему казалось, что он оторвался от погони и может немного передохнуть, за спиной раздавался крик:
— Вот он! Сюда! Держи Пириоса!
Наконец, сделав большой крюк, Ян оказался возле своего дома, в несколько шагов преодолел дворик, вбежал в подъезд, как сумасшедший влетел по лестнице на свой этаж, на мгновение замешкался с замком и оказался в квартире. Он закрыл дверь на засов и придвинул к ней всю мебель, какую было возможно. Сделав это, упал в плаще на кровать и закашлялся.
За окном был слышен топот, крики, проклятия, женский визг, немного спустя монотонно завыла сирена. Множество голосов слились в один, затем все стихло. Ян встал с кровати и на цыпочках подошел к окну. Осторожно отодвинул занавеску и похолодел. На тротуаре стояла безмолвная толпа детей, молодежи, взрослых и стариков. Все смотрели прямо в окно Яна. Кто-то, вероятно, заметил его потрясенное, словно приклеенное к оконному стеклу лицо, толпа заволновалась:
— Пириос! Пириос!
Ян мгновенно задернул штору. Но толпа не успокаивалась.
— Пириос! — кричали люди. — Покажись! Пириос! Покажись!
Ян сидел на кровати, дрожа от страха.
Крики постепенно стали слабеть, лишь под самым окном раздавался одинокий сдавленный голос, отчаянно зовущий:
— Пириос! Ты дерьмо!
Ян не пошевелился.
Прошло пять минут, десять, пятнадцать.
— Пилиос! — тихо запищал детский голосок.
Ян сидел в темноте и молился.
За окном были слышны шаги и шорохи. Видимо, толпа расходилась по домам.
Ян лег в кровать, натянул на голову одеяло и лежал, прислушиваясь к звукам, доносящимся с улицы. За окном становилось все тише и тише. Наконец Ян заснул.
Утром его разбудили уличный гомон и луч света, просачивающийся сквозь щель в шторах. Ян встал, на цыпочках подошел к окну и осторожно выглянул на улицу. Толпа стояла на прежнем месте, к ней присоединились какие-то люди с камерами и разноцветными микрофонами. Ян набрал номер Тедди. Трубку долго не брали, наконец Ян услышал заспанный голос Кошикевича:
— Люди, я же сплю. Что случилось?
— Спасите меня, — пробормотал Ян. — Помогите.
— Ясь, это ты? — спросил Тедди, начиная просыпаться. — В чем дело?
— Перед моим домом стоит толпа людей. К тому же у некоторых камеры.
В трубке раздался злорадный хохот Кошикевича.
— Это называется слава, Ясь. Ты прославился, разве тебя это не радует?
— Нет, — ответил Ян. — Я боюсь. Очень боюсь.
— Чего, черт побери, ты боишься?
— Этих людей. Мне страшно. Страшно до ужаса. Тедди понял, что дело не так просто, как ему показалось с самого начала.
— Я знаю, что слава может шокировать, — дружески сказал он. — Сейчас что-нибудь придумаем. Приготовь себе кофе, посмотри телевизор, а я тем временем организую операцию спасения. Жди моего звонка.
— Но я не хочу смотреть телевизор, — разнервничался Ян. — Я больше никогда не буду смотреть телевизор!
— Успокойся, Ясь. Ведь ничего особенного не происходит. Дай мне немного времени, хорошо?
Через сорок пять минут раздался звонок в дверь. Это был Тедди. Его сопровождала молодая женщина. Тедди держал в руке большой чемодан. Он положил его на кровать, открыл, а женщина стала доставать из него какие-то странные предметы.
— Снимайте куртку и свитер, — скомандовала она.
Ян попятился.
— Марта наш лучший гример, — объяснил Тедди. — Можешь без опаски отдаться в ее руки.
И Ян отдался в руки пани Марты. Через пять минут с кровати встал — нет, уже не Ян, а невысокий бородатый старик в забавной шерстяной шапочке.
Тедди, пани Марта и Ян не спеша вышли из квартиры, дождались лифта, спустились на первый этаж. Ян дрожал, выходя на улицу, но толпа лишь с любопытством глянула на них и вернулась к наблюдению за тщательно занавешенным окном на втором этаже. Вскоре очаровательный желтый «твинго» съехал с тротуара и помчался в агентство «Тедди и друзья».
Служащие агентства встретили Яна очень тепло. Секретарша отвела его на мансарду в комнату для гостей, где Ян удобно разместился на диване и под звуки спокойной музыки заснул.
Ему приснился странный сон. Будто он шел по парку мимо дворца культуры. Хотя обычно в этом месте многолюдно, на сей раз в аллее никого не было. Ян посмотрел в сторону дворца, но не увидел его. Вместо него была установлена гигантская реклама, с которой смотрел, улыбаясь, он сам, держащий упаковку «Пириоса». Потрясенный увиденным, Ян бросился в другую сторону и обнаружил, что стоящие напротив дворца прелестные дома в стиле модерн тоже исчезли, их место заняла реклама «Пириоса». В каждом закоулке, на каждой улице была установлена реклама с его огромной улыбающейся физиономией, которая вдруг показалась Яну омерзительной.
Над самой большой площадью в Европе вдруг разразился ураган. Огромные полотнища затрепетали, заскрипели держащие их конструкции. Рекламный стенд, установленный на том месте, где когда-то стояла гостиница «Форум», опасно прогнулся, какое-то время боролся с наступающей на него стихией, но в конце концов не выдержал и полетел вниз. Падая, он потащил за собой другую конструкцию, и еще одну, и так, словно аккуратно положенные костяшки домино, множество Янов с грохотом и треском, скрежетом ломающихся перекладин, свистом вырываемых винтов падали на землю. Над равниной, которая еще недавно была Варшавой, поднялась пыль. Ян добрался до какого-то дерева и изо всех сил обнял шероховатый ствол. Ураган постепенно стих, появилось голубое, как в рекламе пепси-колы, небо, а через мгновение в вышине возник дирижабль, несущий за собой красочный плакат с надписью «„ПИРИОС“ ОТБЕЛИТ ВСЕ».
— Помогите! — призывал Ян. — На помощь!
Но никто в дирижабле не обратил на него внимания, и воздушное судно проплыло мимо. Ян бросился вслед, пробираясь через сломанные и покореженные конструкции. Ему вдруг попался целый фрагмент рекламы, и Ян стал отчаянно размахивать куском полотна со своей улыбкой.
Дирижабль плыл по небу, прекрасный, серебристый, недостижимый. Он поднимался все выше и отдалялся, пока совсем не скрылся за горизонтом. Слово «Пириос» еще мгновение сверкало в лучах солнца, но вскоре тоже исчезло.
— Смилуйтесь! — кричал Ян. — Сжальтесь надо мной!
И с этим криком он проснулся.
На его вопль прибежал Тедди и все, кто был в агентстве. Яна успокоили, напоили лучшим коньяком, укрыли одеялом и спросили, что произошло.
Ян рассказал им о своем сне, который Тедди посоветовал ассистентам в точности записать. Потом с Яном случилась истерика. Он заявлял, что больше никогда не будет принимать участие в съемке рекламы, что ему хочется провалиться сквозь землю и тому подобные глупости. Ему снова дали коньяку. Тедди всех прогнал, уселся поудобнее в кресле и сказал:
— Ясь, то, что ты сейчас переживаешь, обычное дело, я бы даже сказал, банальное. Ты должен знать: сейчас тебя переполняют необычайно интенсивные эмоции, но они быстро иссякнут. Завтра о тебе все забудут, журналисты найдут себе другого героя, а соседи с улицы Кручей перестанут обращать на тебя внимание.
— Сегодня они меня преследовали, а завтра не заметят? — удивился Ян.
— Совершенно верно.
— Почему?
— Потому что мозг большинства людей устроен как дискета. Вчера мы записали на нее «Пириос», завтра его удалим и запишем кока-колу. Послезавтра уничтожим колу и на ее месте запишем рекламу «форда». Такая уж у нас работа, Ясь.
Хлопнула входная дверь, снизу донесся громкий разговор. Тедди лениво поднялся с кресла, дружески помахал Яну рукой и вышел из комнаты.
Глава одиннадцатая МИСС
Неизвестно, сделал ли свое дело хороший французский коньяк или сыграла роль приятная атмосфера, царящая в агентстве «Тедди и друзья», но Ян очень скоро пришел в себя. На следующий день около полудня он спустился вниз, поболтал с Тедди, заразился его оптимизмом и решил, что неплохо бы пройтись.
Дом, в котором располагалось агентство, стоял особняком. Ян выбрался из здания никем не замеченный. Выйдя на улицу, он поднял воротник, натянул на глаза шапку и дворами вышел на оживленную Пулавскую улицу. Первое, что Ян там увидел, это огромный билборд, на котором был изображен он сам с пачкой «Пириоса». Он попятился, но вдруг заметил, что пешеходы не обращают на рекламу никакого внимания. Яна это немного задело, ему захотелось закричать, что это его улыбка на билборде, и сам Боб Фестон из концерна, годовой доход которого в два раза превышает национальный доход Республики Польша, был им очень доволен. Но он справился со своими эмоциями и пошел дальше. Преодолев сто метров, он почувствовал себя настолько уверенно, что снял шапку, но и это не произвело впечатления на прохожих. Ян вздохнул с облегчением, одновременно ощутив обиду. Он вошел в магазин и попросил бутылку французского шампанского.
— Ваше лицо мне почему-то знакомо… — сказала продавщица, внимательно рассматривая Яна. — Вы снимались в каком-то сериале?
— Нет, я не снимался в сериале, — возразил Ян.
— Но ведь вы актер, да?
— Да… в некотором роде…
— Это, должно быть, здорово, — прошептала продавщица и мечтательно закатила голубые глаза. — Я каждый вечер читаю об актерах.
— Это тоже интересно.
— Да, — согласилась девушка. — Очень. Я читаю об актерах, а потом засыпаю, и мне все это снится. Вам тоже, наверное, снятся актеры?
— К сожалению, нет, — вздохнул Ян. — Мне почти ничего не снится.
— И не должно, — вздохнула девушка. — Ваша жизнь и так как сон.
— Правда?
— Да… — Она задумчиво улыбнулась. — Я читала об этом много раз. Вы ведь еще зайдете к нам?
— Зайду. Непременно зайду.
— Приходите перед закрытием магазина. Тогда у нас почти нет покупателей. Мы с вами сядем где-нибудь в уголке, и вы мне что-нибудь расскажете. Договорились?
— Расскажу, — пообещал Ян и быстро вышел.
В то время когда Ян шел по Пулавской улице, безуспешно пытаясь обратить на себя внимание идущих мимо людей, Тедди Кошикевич сидел перед огромным экраном и задумчиво рассматривал его улыбку. Что в ней такого необыкновенного? Какие элементы играют решающую роль? Может, все дело в чуть приподнятых уголках губ? А может, важен процент видных зубов? Немаловажное значение, вероятно, имеет и их форма. На эту улыбку работает все лицо, особенно глаза… Он перенес изображение улыбающегося Яна в компьютер и стал производить различные манипуляции с его лицом, пытаясь понять, когда еще то, а когда уже нет.
«Если бы мне удалось разгадать тайну Яна, — мечтал он, — мы бы могли смоделировать в компьютере любые образы».
Его размышления прервала дурацкая мелодия мобильного. Тедди нехотя поднес телефон к уху.
— Это Кеся, — услышал он страстный женский голос.
— Тедди слушает.
— Послушай, Тедди, у нас тут в Подлесной проходит конкурс красоты. В нем, естественно, принимают участие девушки из моего модельного агентства.
— Неужели они прошли кастинг? Это невозможно!
— Не ерничай. Мне нужна звезда в жюри.
— К сожалению, я не звезда, — с достоинством сообщил Тедди.
— В некотором роде звезда, но мне и не нужны суперстар.
— А сколько даешь денег?
— Нисколько, — нахально заявила Кеся.
— Ну, тогда у нас нет звезд для тебя, дорогая.
— Не будь свиньей, Тедди, придумай что-нибудь.
— Ну… разве только… прислать к тебе Яна.
— Что еще за Ян?
— Видела рекламу «Пириоса»?
— Постой-ка… Это тот парень с аистом над головой?
— Вот именно.
— Ну что ж… — пробормотала в трубку Кеся. — Реклама довольно известная, и парень вроде ничего.
— И он единственный, кого не интересуют деньги.
— Ладно. Договорились. Я пришлю за ним водителя в четверг около четырех дня. Целую.
— Пока.
В четверг ровно в шестнадцать ноль семь темно-зеленый «опель-астра» забрал Яна у агентства и повез в направлении Подлесной. Водитель оказался человеком разговорчивым и за время пути выдал Яну море полезной информации.
Находящаяся приблизительно в тридцати километрах от Варшавы деревня Подлесная еще в межвоенный период была известным дачным поселком. Со временем там стали покупать участки люди искусства, особенно музыканты и художники, а позже обосновались и предприниматели, привлеченные элитарностью этого места. В Подлесной появилось множество подобий вилл и дворцов, частенько безвкусных, но с годами строения приобрели присущий поселку налет аристократической патины. Артистов и художников там осталось немного. Им на смену пришли люди состоятельные и жаждущие известности. Они считали Подлесную самым лучшим местом на свете, название произносили с гордостью, надувая щеки, словно делали собеседнику большое одолжение (если он не имел честь сам проживать в этом элитном поселке). К такому типу людей принадлежала и знакомая нам уже Кеся, а также родители всех без исключения девушек, посещающих ее модельную школу. Водитель тоже находился во власти такого образа мышления и рисовал Яну картину настоящего рая, а Ян всему верил.
Так, мило разговаривая, подъехали к длинному мрачному зданию начальной школы. Ян засмущался, но элегантные дамы из оргкомитета быстро вытащили его из машины, обступили со всех сторон, и уже через мгновение пестрая группа, сопровождавшая Яна, оказалась у двери спортзала, где гостя познакомили с пани вице-председателем, женщиной средних лет, скромной красоты, невысокого роста, но исключительно элегантной.
После обмена любезностями Яна отвели в комнату, на двери которой была надпись «раздевалка для мальчиков». Он почувствовал сильный запах пота, смешанный с ароматом свежезаваренного кофе. Поскольку все стулья были уже заняты, кто-то предложил Яну забраться на козла. Он послушно влез на этот популярный гимнастический снаряд и сел на него верхом.
— Мой дорогой, — сердечно, но твердо заговорила пани вице-председатель. — Нам нужно выбрать самую красивую из тринадцати девушек. Их должно было быть четырнадцать, но одна сбежала. Родители и соседи ее сейчас ищут. Каждый из членов жюри выбирает своих фавориток, а потом мы суммируем очки и таким образом достигаем консенсуса. Через две минуты начало.
Ровно через двадцать секунд в школе раздался оглушительный звонок, и члены жюри проследовали в спортзал. Яна усадили на почетное место между пани вице-председателем и пани Кесей, которая оказалась худощавой брюнеткой неопределенного возраста, одетой в костюм из многослойного черного кружева, которое живописно колыхалось при каждом ее движении.
Напротив стола, за которым заседало жюри, был установлен обшарпанный деревянный подиум, над ним висела баскетбольная корзина, задекорированная розовой бумагой. На сетке и выцветшей шведской лестнице был натянут голубой плакат с надписью «Мисс Подлесная», украшенный гирляндами бумажных цветов и вырезанными из пожелтевшего картона толстыми бесполыми амурами. Прежде чем Ян успел их разглядеть, на подиум вышел известный местный конферансье Муся Выкрочук.
— Добрый вечер, дамы и господа! — воскликнул Выкрочук, повернув свою улыбающуюся физиономию к пани вице-председателю и согнувшись в раболепном поклоне. — Рад приветствовать вас на очередном конкурсе «Мисс Подлесная»!
Несколько человек принялись аплодировать. Конферансье снова поклонился, утер ладонью пот со лба, случайно обнажив манжет не очень свежей рубашки, и продолжил:
— Через мгновение перед вами предстанут тринадцать красавиц Подлесной. Конечно, в нашем поселке гораздо больше прекрасных девушек, но у большинства из них не хватило смелости принять участие в нашем конкурсе. — В этот момент конферансье украдкой глянул в угол зала, где собралась группа бритологовых молодых людей, выпивающих пиво. — Будем надеяться, что в будущем году нам удастся собрать их всех. Однако и те девушки, которых мы сегодня увидим, достойны восхищения, потому что, как сказал поэт…
— Кончай выпендриваться! — выкрикнул один из бритых парней. — Начинай уже!
Муся изменился в лице, словно хотел тотчас удрать, но ему удалось совладать со своими эмоциями, и он решительно объявил в микрофон:
— Номер первый — Сюзанна Банась!
На подиум вышла очень худая и сутулая девушка. Ее единственным достоинством была юбочка, настолько короткая что казалось, будто ее не было вовсе. Собравшиеся в спортзале могли как следует разглядеть необычайно длинные и худые ноги мисс Банась. Вероятно, они произвели впечатление, поскольку кое-где зааплодировали.
— Номер два — Амелия Робик! — продолжал Выкрочук.
Участница под номером два оказалась симпатичной, невысокой, слегка косоглазой блондинкой. У бритоголовых ее появление вызвало гул одобрения и многочисленные комментарии на тему, что бы они с удовольствием сделали, окажись с ней в интимной обстановке.
— Номер три — Анна Юрек, — как-то нехотя представил Муся следующую участницу.
Отсутствие энтузиазма у ведущего стало понятно зрителям, когда на подиуме появилась девушка, напрочь лишенная очарования и красоты.
— Уууу-у! — завыли лысые парни. — Уууу-у!
Девушка хоть и не была красавицей, зато имела характер. Она смело шагала вперед, не обращая внимания на вой из зала. На ее лице сияла улыбка висельника, но она все же дошла до конца помоста, с достоинством сделала пируэт и твердым шагом вернулась за Кулисы.
— Виолетта Кадлубская! — выкрикнул Выкрочук, стараясь не смотреть на зрителей.
И так одна за другой на подиум выходили участницы конкурса. Одни с гордостью несли роскошные груди, другие демонстрировали залу многообещающие бедра. Некоторые восхищали мастерски уложенными прическами или маленькими, ярко-красными губками-сердечками. Чем больше девушек выходило на подиум, тем сильнее разгорались страсти в зрительном зале, особенно в углу, который оккупировали любители пива. Ян внимательно наблюдал за происходящим, делал на бумаге различные пометки и то и дело отодвигался от пани Кеси, которая всякий раз, когда на подиум выходила претендентка из ее знаменитой модельной школы, проявляла неистовый энтузиазм. Так они дошли до момента, когда конферансье объявил:
— Номер тринадцатый и последний — Магдалена Бжозовская.
Из-за пыльной портьеры появилась стройная рыжеволосая девушка с огромными, красивыми глазами и тонкими чертами лица. Она так грациозно двигалась и выглядела настолько великолепно, что все обомлели. Даже Муся не мог скрыть восхищения и лишь вздохнул в микрофон. Девушка повернулась под баскетбольной корзиной, беззвучно скользнула по подиуму и исчезла за кулисой. Ян вдруг встал со своего места и захлопал, а следом за ним весь зал разразился аплодисментами, лишь остальные члены жюри сидели, не проявляя эмоций, хмуро уставившись в свои блокноты. Пани вице-председатель дала знак Выкрочуку, и конферансье продолжал:
— А теперь, дорогие подлесняне, пока наше замечательное жюри будет принимать решение, ожидание зрителей скрасит знаменитая вокалистка из нашего дома культуры Лаура Васонг, которая выступит с коллективом «Трусы инспектора Гаджета»!
На сцену резво выскочили коротко остриженные музыканты в футболках с большими красными буквами «ТИГ». Загрохотала басовая гитара, зазвучал тромбон, жалобно заиграл синтезатор, после чего на подиум вышла певица весом добрых сто килограммов и басом зарычала в микрофон:
— «Там, где было поле близко, скоро будет Сан-Франциско!»
Члены жюри под предводительством пани вице-председателя удалились на совещание.
На сей раз Яну не пришлось взбираться на козла — в раздевалке для мальчиков установили длинный стол и расставили стулья. Стол был сервирован бутербродами и пончиками, солеными палочками в сверкающих стаканах, были также чай и кофе в блестящих серебристых термосах. Члены жюри удобно расселись, некоторые закурили, другие принялись за еду. Очень скоро в раздевалке для мальчиков воцарилась аппетитная тишина, а потом пани вице-председатель громко прокашлялась и сказала:
— Предлагаю сначала выбрать пять девушек, потом из этих пяти троих, а из них победительницу. Лично я отдаю предпочтение следующим номерам: пятая, седьмая, восьмая, десятая, одиннадцатая. А вы, пани Кеся?
— Да… — Пани Кеся жеманно подняла руку, вокруг которой романтично развевались кружева. — Я придерживаюсь того же мнения: одиннадцатая, седьмая, десятая, восьмая и пятая.
— Семь, восемь, пять, одиннадцать, десять! — выпалила веселая толстушка, сидящая рядом с Кесей.
Пани вице-председатель вопросительно посмотрела на Яна.
— Тринадцатая, — сказал он.
— Кто, простите? — удивилась пани вице-председатель.
— Тринадцатая.
— Ну, раз вы так считаете… а кто еще?
— Только тринадцатый номер, — настаивал Ян. — Пять раз тринадцатый номер.
В раздевалке для мальчиков возникло замешательство.
— Но так нельзя! — воскликнула пани Кеся.
— Почему? — спросил Ян. — Если можно голосовать сразу за пять девушек, значит, можно пять раз за одну.
— Это одно и то же, — сказала толстушка и замолчала.
— Это не одно и то же! — запищала пани Кеся, и кружева грозно заколыхались вокруг ее фигуры.
Пани вице-председатель почувствовала: настал момент, когда она должна приступить к решительным действиям.
— Объявляю пятиминутный перерыв, — сказала она. — Вы пока побеседуйте, а мы с нашим дорогим гостем удалимся в кабинет директора и попробуем найти какое-то решение.
Она махнула рукой Яну, тот послушно встал, и они отправились в кабинет директора. Когда дверь за ними закрылась, пани вице-председатель театрально упала в кресло и вскричала:
— Пан Ян, дорогой, миленький, что же вы такое вытворяете?!
— Я? — удивился Ян.
— Разве вы не понимаете, что Магда не может пройти в финал?
— Почему? Ведь она самая красивая.
— Это не имеет значения. Она не может быть финалисткой, потому что не ходит у Кеси.
— Простите, но что значит «не ходит у Кеси»?
— Не посещает ее модельную школу и не принимает участия в показах.
— При чем здесь это?
— Какой же вы наивный. Пани Кеся предоставила наряды, декорировала зал, оплатила выступление Лауры Васонг и группы «Трусы инспектора Гаджет». Разве этого мало?
— Предположим, что много.
— Значит, мы многим обязаны пани Кесе. Очевидно, что звание «Мисс Подлесная» может носить только девушка из ее модельной школы.
— Но вы ведь сказали, что мы должны выбрать самую красивую.
— Красота — понятие субъективное.
— Но ведь все хлопали.
Пани вице-председатель глубоко вздохнула.
— Ладно, — сказала она. — Я не хотела об этом говорить, но есть и другие причины. Магда — дочь поэта, который живет в Подлесной, вы, наверное, слышали о нем, Петр Бжозовский, знаменитый литератор, его стихи переведены на многие языки.
— К сожалению, не слышал. — Яну стало неловко. — Но это, наверное, хорошо, что она дочь известного поэта.
— Может, он известный для французов, шведов, итальянцев и тому подобных. Для нас он просто выродок!
— Как же так?
— Вот так. Когда-то мы проводили большую акцию под названием «Украшаем Подлесную». В рамках этого проекта все устанавливали металлические заборы на кирпичной основе. Только поэт отказался. Заявил, что обшарпанный деревянный забор, который на одном честном слове держится, больше соответствует его внутреннему миру, поэтому он ничего менять не станет. Как вам это?
— Поэты — люди особенные, — сказал Ян. — Может, он действительно больше соответствует…
— Но не нам! Его забор нам всю улицу испортил. Кроме того, знаете, что он сказал о нас в газете?
— Что?
— Что у нас психология быдла. Там так и было написано: БЫДЛА! Нет, вы меня извините, но дочка этого негодяя не может стать «Мисс Подлесная»!
— Но она самая красивая!
Пани вице-председатель побагровела.
— Никакая она не красивая! — крикнула она. — Ни она, ни этот ее мерзкий папаша! Это мы красивые! МЫ! ВАМ ЯСНО?!!
— Ясно, — сказал Ян.
Он встал и пошел к двери.
— Мне надо пройтись, — сказал Ян. — Я еще не совсем здоров.
— Прекрасно! Прогуляйтесь и подумайте. Мы вас ждем на пончики. Только поторапливайтесь, публика ждет решение жюри.
Ян сбежал по ступенькам и вышел в ночь. Он повернул направо, затем налево и вдруг увидел слабо освещенный перрон.
Десять минут спустя пригородный поезд мчал его в Варшаву. За окном мелькали населенные пункты, но Яна они не интересовали. Казалось, он спит, но Ян все еще любовался стройной рыжеволосой девушкой с огромными серыми глазами.
Глава двенадцатая ФЕНАКТИЛ
Тедди Кошикевич, как всегда, не подвел друга. Он не спрашивал Яна о произошедшем в Подлесной. Яну тоже не хотелось говорить об этом с Тедди. У обоих были другие мысли в голове.
Боб решил использовать Яна в рекламе нового кондиционера для деликатных тканей. Средство называлось «Венера», что, разумеется, навевало ассоциацию с богиней любви. Для рекламы этой жидкости в других европейских странах привлекались женщины. Но Боб настолько поверил в возможности Яна, что и представить себе не мог, чтобы кто-то другой рекламировал новый продукт «Би-си-би».
Идея была банальная: Ян, стоя перед камерой, держит в руках упаковку и говорит: «„Венера“ — жидкость любви». И улыбается. Все.
Съемки заняли около двух часов, никто особо не напрягался, потому что заранее было известно: улыбка Яна сделает свое дело. После монтажа (которого почти не было) Тедди полетел отдохнуть на Сейшелы. А Боб, как обычно, уселся с бокалом виски в своем кабинете и стал ждать информацию из магазинов.
Однако на сей раз телефон молчал. Боб какое-то время думал, что внештатники стараются собрать для него более точные данные и поэтому откладывают звонки. Но через сорок минут он не выдержал и начал звонить сам.
— Ну как?! — рявкнул он на первую девушку, до которой дозвонился. — Почему не звонишь, черт побери?!
— Не идет… — слабым голосом промямлила та.
— Что значит: не идет? Как это?
— Никто не покупает «Венеру».
— Как это никто?!
— Я уже здесь два часа стою, и никто не взял ни одной упаковки.
— Ни одной?!
— Вот именно. Другие средства покупают, а «Венеру» нет.
Фестон положил трубку. Он почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Но пересилил себя и продолжил звонить другим консультантам. Дела обстояли хуже некуда. В Варшаве, Кракове, Лодзи, Познани и Вроцлаве никто не покупал кондиционер для тканей «Венера».
Боб стал звонить директорам гипермаркетов, умоляя их снизить цены, установить рекламные плакаты, словом, сделать все, чтобы предотвратить катастрофу. Через полчаса «Венера» была самым дешевым средством на рынке, но, даже несмотря на это, кондиционер никто не хотел брать.
Боб заперся в своем кабинете и решил, что должен немедленно застрелиться. В ящике его стола лежал пистолет, но ему вдруг стало себя жаль. Вместо этого он достал из бара весь запас виски и напился как свинья.
Узнав о провале, Тедди незамедлительно вернулся в Варшаву. В самолете он слушал Пата Метени и вышел в «Окенче» лишь слегка бледный и в состоянии легкой меланхолии. Сразу же из аэропорта поехал в агентство, ни с кем не разговаривая, прошел в своей кабинет и вставил в видеомагнитофон кассету с рекламой. Тедди посмотрел запись один раз, второй, третий, четвертый, остановил пленку на финальной улыбке Яна, долго смотрел на изображение и вдруг все понял.
Улыбка Яна не была лучезарной, радостной, открытой миру, как прежде. Она стала горькой и печальной. Никто не поверил, что Ян держит в руках жидкость любви. В рекламе не было любви, лишь усталость, потерянность, апатия. Тедди вытащил кассету и с размаха бросил ее в мусорную корзину.
— Что было, то прошло, — пробормотал он. После этого Тедди спустился в бар и объявил, что организует вечеринку под названием «Прекрасный провал». Кошикевич имел обыкновение устраивать празднества не только по случаю больших успехов. Неудачи тоже были поводом для торжества.
На следующий день после сытного завтрака, который оказал на него благотворное влияние, Тедди пригласил к себе Яна. Вытащив из корзины кассету, он вставил ее в видео и перемотал пленку до момента финальной улыбки.
— Ясь, ты видишь это? — мягко спросил он.
— Что я должен видеть? — не понял Ян.
— Твоя улыбка стала другой. В ней нет радости и оптимизма.
Ян вгляделся в собственное лицо.
— Может, я не постарался… — неуверенно сказал он.
— Нет, мой дорогой… — усмехнулся Кошикевич. — Ты ведь не актер, и раньше ты не играл. Это просто в тебе было. А теперь исчезло.
— Но почему?
— Не знаю. Что-то на тебя повлияло.
— И что же теперь будет?
— Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить как с другом. Ты бы мог остаться в нашем агентстве, благодаря тебе я много заработал, поэтому могу спокойно тебя содержать около полугода, но не знаю, хочешь ли ты этого.
— А почему я должен не хотеть?
— Давай посмотрим правде в глаза. В рекламе тебя больше никто снимать не будет. Другого занятия у меня для тебя нет. Ты можешь сидеть в буфете и пить кофе. И все.
— Я стал ненужным, да?
— Откровенно говоря, да.
— Что же мне теперь делать?
— Ты должен начать сам заботиться о себе. До этого всегда кто-то приходил, брал тебя за руку, направлял, а ты послушно шел. Настало время самому принимать решения. Не спеши. Ты получишь деньги за шесть месяцев, хотя, по-моему, и так не испытываешь в них недостатка. Что скажешь?
Ян встал и протянул Тедди руку.
— Я пойду, — сказал он.
— Позвони мне на днях.
— Позвоню.
В коридоре он снял с вешалки плащ и, ни с кем не прощаясь, вышел на улицу. Шел сильный дождь, но Яну не хотелось возвращаться. Он поднял воротник. Улица была пуста.
Несколько последующих дней Ян Август сидел дома и смотрел телевизор. Он надеялся, что зазвонит телефон и все изменится. Но шел день за днем, а телефон молчал. Тогда Ян решил пойти к Профессору, поскольку решил, что только тот сможет его понять. Был вторник, и Ян вспомнил: как раз завтра в отделении 3 «Б» день посещений.
В среду распогодилось, и Ян почувствовал себя лучше. По улице только что проехали две огромные поливальные машины, тротуары сверкали чистотой. Из витрин магазинов заинтересованно смотрели манекены, а прохожие спешили по своим делам. Ян шагал по улице и думал о том, что не стоит расстраиваться, ведь на свете столько всего интересного.
Однако чем ближе он подходил к больнице, тем меньше оптимизма у него оставалось. Он вспомнил о своей квартире, в которую никто никогда не приходил в гости, вечно молчащем телефоне, чужих людях вокруг и одиноких прогулках по городу.
А не лучше ли ему было в отделении 3 «Б»? Там он мог бы анализировать с Профессором творчество Шекспира, слушать музыку, читать умные книги. Ничего, что двери на волю закрыты. Подумаешь!
Ян дошел до больницы, поднялся на лифте на свой этаж и осторожно нажал на кнопку звонка.
Дверь открыла одна из медсестер. Какое-то мгновение она удивленно смотрела на него, потом воскликнула:
— Это же пан Ян! Проходите, пожалуйста.
Ян осторожно вошел. В коридоре было пусто, видимо, больные после утренней прогулки разошлись по своим палатам.
— А Профессор… — неуверенно спросил Ян, но в это мгновение ближайшая дверь широко открылась и показался доцент Красуцкий.
— Кого я вижу! — воскликнул он, увидя Яна. — Знаю, знаю, что у вас все в порядке, мой дорогой. Все получилось, и как!
— Что получилось? — спросил Ян.
— Это великое достижение психиатрии! — продолжал доцент, поднимая палец. — Со своим расстройством вы были обречены на безысходное существование в больнице, которое лишь ухудшало бы ваше состояние, а тем временем… нет, это неслыханно… à propos… кстати, вы ничего не вспомнили?
— К сожалению, нет.
— Ничего, мой дорогой. Самое главное то, что ваш случай доказал: безнадежно больной человек может нормально жить и функционировать в обществе. Да как! Вы знаете, что я пишу о вашем случае научную работу?
— Очень приятно, — сказал Ян. — Но если говорить о функционировании…
— Только не жалуйтесь, дорогой друг. Вы выиграли приз в лотерею, и не раз, а два. По правде говоря, так не бывает. Браво! Поздравляю!
— Спасибо.
— Что вас к нам привело?
— Я хотел бы увидеться с Профессором. Он еще здесь?
— А где же ему еще быть? Старый безумец. Нет, я не злорадствую… Конечно, он здесь, только теперь в другой палате, в самом конце коридора. Там немного темновато, но он доволен. Утверждает, что обрел покой, необходимый для размышлений. Я в эти его размышления, ясное дело, не верю…
В дежурной раздался звонок и послышался женский голос:
— Пан доцент, вас просят спуститься на второй этаж!
— Что за жизнь! — воскликнул Красуцкий. — Слышали, дорогой мой? Я у них как мальчик на побегушках. Последняя дверь направо. Этот старый чудак, насколько мне известно, как всегда, сидит там над своим Шекспиром.
Доцент Красуцкий поспешно пожал руку бывшему пациенту и ушел. В отделении было тихо. Лишь откуда-то из глубины Ян услышал голос, как ему показалось, пана Поняка:
— Бедный Том, что ест змей и ящериц, пьет стоячую воду, глотает крыс. Бедного Тома бесы секут на пустом поле, сажают в темницу и мучат ночью. У него есть три кафтана для спины, шесть рубах для тела, лошадь для езды и ружье для охоты.
Теперь же то крыса, то мышь на обед, А все же обедаю целых семь лет! Берегись злого духа: здесь злые духи… Тише, тише![12]Двери были приоткрыты. Ян заглянул. Профессор лежал на кровати, положив руки под голову, и задумчиво смотрел в потолок. В ногах примостился пан Поняк в помятой, запачканной пижаме. На его коленях лежала книга в твердом темном переплете, и монотонным, усталым голосом он читал фразу за фразой.
Увидев Яна, пан Поняк прервал декламацию, а Профессор оторвал взгляд от потолка и заинтересованно посмотрел на гостя:
— Неужели это наш пан Ян?
— Собственной персоной, — сказал Ян, входя в палату и садясь на указанный Профессором стул.
— Добро пожаловать, наш знаменитый пан Ян — предмет многочисленных научных симпозиумов, талисман политиков, тайная любовь домохозяек, головы которых настолько забиты покупками и барахлом, что без отбеливателя они не в состоянии ясно взглянуть на мир. Приветствую, дорогой коллега. Что тебя к нам привело?
Ян смутился.
— Я хотел бы, — сказал он, уставившись в выцветший, бесцветный линолеум. — Хотел бы здесь остаться…
— Должно быть, временная депрессия на почве слишком больших успехов. Я слышал о таких случаях. А ты, Поняк?
Пан Поняк кивнул головой в знак того, что он тоже слышал.
— Я бы хотел… остаться здесь навсегда… — повторил Ян.
— А что бы вы здесь делали, черт возьми?
Яну стало стыдно.
— Хотел бы… стать вашим учеником и ассистентом, пан Профессор.
И Ян рассказал обо всем, что с ним произошло. Шекспировед задумчиво смотрел на него.
— Да… — наконец сказал он. — Дело непростое… Да что там говорить, чертовски трудное…
— Что же тут трудного? Схожу на склад, выберу себе пижаму…
— Не получится. Вы не пациент. Вам не полагается ни пижама, ни фенактил.
— Почему?
— Согласно общепринятому мнению, вы здоровы.
— Но я не здоров.
— Конечно, здоровы. Вы никогда не задумывались о том, что ваши соседи по улице Кручей также одиноки, брошены и испуганы? Может, в молодости они и не боялись, но с возрастом человека все больше охватывает страх. Нет, не только перед смертью. Перед всем. Но они ведь сюда не приходят, а сидят в своих в квартирах, дрожат, плачут в одиночестве, а потом умирают, и очень скоро о них забывают.
— Это жестоко.
— Безусловно. Сверх всякой меры. Но все возвращается на круги своя. Сейчас, хоть вы ничего и не помните, вы способны вести нормальную жизнь здорового человека. Но через год снова можете заболеть. Такое ведь с каждым может случиться, правда, пан Поняк?
Пан Поняк кивнул, но было видно, что он не слушает Профессора, а думает о своем.
— Если вы снова заболеете, вас привезут сюда. Теоретически такое возможно.
— И мы будем читать с вами Шекспира? Профессор откашлялся.
— Если быть искренним, то и здесь возникают определенные трудности. Как вы, наверное, уже заметили, Поняк принял отвергнутое вами предложение стать моим учеником. Он очень старается. Сейчас мы как раз работаем над «Королем Лиром», и я должен признать, что некоторые интерпретации пана Поняка весьма… весьма неожиданны. Это творческий, необычный подход.
— Да… — сказал Ян. — Я пойду.
— Навещайте нас иногда. Мы скоро приступим к изучению «Макбета», а это драма власти. Вы, если я не ошибаюсь, многое знаете о проблеме.
— Увы, немного, — улыбнулся Ян.
— Значит, вы не сможете нам помочь в этом деле. — И Профессор протянул Яну руку. — Может, я должен был представить вам все в более радужных тонах, не быть таким категоричным… простите, если огорчил вас.
— Ничего, — сказал Ян.
В коридоре было пусто. Когда Ян дошел до двери, откуда-то появилась медсестра и с улыбкой открыла ему дверь.
Ян сбежал по ступенькам, вышел на улицу и остановился, не зная, куда направиться. Может, в парк, туда, где все и началось? Не долго думая, он пошел в сторону Уяздовских аллей.
На площади Трех Крестов он услышал вой сирен и взрывы. Перед министерством промышленности группа мужчин, человек двадцать, держала плакаты с надписью «Солидарность». Какой-то толстяк с повязкой на лбу исступленно крутил рукоятку сирены. Неподалеку несколько юношей в шапках с выцветшим слоганом «Солидарность» бросали дымовые шашки и петарды. Дверь министерства была загорожена металлическим щитом, за которым скучали трое полицейских. Один из них достал зубочистку и стал ковырять ею в зубах. Двое облокотились на щит, и один рассказывал другому о воскресной рыбалке. Прохожие шли по улице, не обращая на происходящее никакого внимания.
Один из демонстрантов, бородатый верзила, крикнул в рупор:
— Завтра нас будет пятьдесят тысяч! Здесь соберется пятьдесят тысяч!
— Ишь, разбежался, — заметил полицейский и выплюнул зубочистку.
Ян пошел дальше. На секунду он остановился перед костелом. По лестнице сбежал худой, нервный священник в пуловере. В руке он держал книгу.
— Польша погибает! — вскричал он, хватая Яна за локоть. — Родина наша гибнет!
— Я знаю, — сказал Ян, вырываясь из его рук.
Он прошел мимо жилых домов, американского посольства, перешел дорогу и оказался в парке.
Здесь ничего не изменилось. По аллеям прогуливались терпеливые мамаши, толкая перед собой коляски, и сгорбленные пенсионеры, меланхолично любовавшиеся деревьями. Ян нашел свою лавку и сел. Как зачарованный он смотрел на водную гладь пруда, но вскоре почувствовал усталость и закрыл глаза.
«Кто-нибудь обязательно за мной придет, — думал он. — Может, женщина? А может, ребенок? Придет, возьмет за руку, и мы пойдем…»
Где-то далеко заверещала птица, и ее песню сразу же подхватили другие.
«А если никто не придет?.. Тогда я могу еще раз… как сказал Красуцкий… могу все забыть…»
Он повернулся лицом к солнцу.
«Сегодня такой теплый ветерок… прекрасный денек… солнце светит для всех…»
И заснул.
Примечания
1
к слову сказать (лат.).
(обратно)2
кстати (фр.).
(обратно)3
Немецкий поэт-романтик (1770–1843). — Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)4
Польская объединенная рабочая партия — аналог КПСС в социалистической Польше.
(обратно)5
Крулевец — старое польское название Кенигсберга, нынешнего Калининграда. Имеется в виду немецкий философ Иммануил Кант.
(обратно)6
«Старые товарищи» (нем.).
(обратно)7
Часть гусарского снаряжения в виде больших крыльев, сделанных из птичьих перьев.
(обратно)8
Артур Гроттгер (1837–1867) — польский художник, иллюстратор.
(обратно)9
Роман Дмовский (1864–1939) — польский публицист и политический деятель.
(обратно)10
Герой повести Я. Пшимановского «Четыре танкиста и собака».
(обратно)11
Раптусевич, Каргуль, Мильчек, Павляк — герои комедии А. Фредро «Месть».
(обратно)12
Шекспир В. Король Лир. — Пер. А. Дружинина.
(обратно)

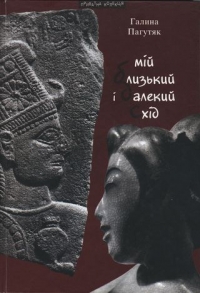
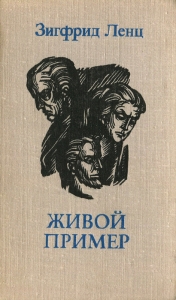





![Разлука [=Зеркало для героя]](https://www.4italka.su/images/articles/528360/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «Солнце для всех», Марек Лавринович
Всего 0 комментариев