Пионерская Лолита
И.О. с любовью
...
Пионерские тексты, встречающиеся в этой повести, собраны кафедрой педагогики и комитетом ВЛКСМ столичного пединститута имени Ленина и опубликованы ими в «Сборнике методических и практических материалов: Студент – вожатый отряда в пионерском лагере» (составители Гончаров, Николаев, Пантелеева, Кузьмин, отв. ред. Каспина В. А.), Москва, 1969 г., часть 2.
Автор приносит благодарность коллективу кафедры и комитету ВЛКСМ, сделавшим достоянием читающей массы эти ценные тексты, служившие доныне лишь узкому кругу пионеров и педагогов.
В сущности, эта поездка в лагерь была для библиографа Тоскина спасением – иначе он с неизбежностью угодил бы под сокращение штатов. Впрочем, может быть, спасением лишь временным, потому что сокращение грозило продолжиться осенью. Да и кому, честно говоря, нужны все эти библиографические кабинеты, если книг становится с каждым годом все меньше? Впрямую Тоскину о сокращении еще ничего не говорили, так что, объясняясь с собой, он мог придумывать какие угодно мотивировки, почему он согласился сюда поехать. Он согласился, скажем, потому, что ему надоело торчать в городе и представилась наконец возможность провести лето в деревне. Он согласился, потому что любит детей, – и это чистая правда. Он согласился, потому что в душе он – просветитель, а тут ему представляется возможность просвещать юные души, сеять разумное, доброе, прочее. Он согласился, наконец, потому, что не знал, как отказаться, когда предлагает начальство, как вообще отказывают начальству. Еще он согласился, потому что, как все библиографы и критики, считал себя в душе немножко писателем. Задавая себе вопрос, какой он писатель (в душе), он отвечал (себе же), что, скорее всего, он писатель детский, так что для него естественным был этот выход к материалу, тематике, детской аудитории.
Так или иначе, Тоскин дал согласие и был откомандирован педагогом в пионерский лагерь, обслуживающий КБ некоего ББ, закрытого предприятия, связанного с их бибкабинетом какими-то шефско-профсоюзными и комсомольско-партийными узами (о последних Тоскин знал совсем уж мало, поскольку был беспартийным и давно вышел из комсомола, так что, если бы не все приведенные выше резоны, он мог бы от такого летнего времяпрепровождения спокойно отказаться).
И все же, что ни говори, это было приключение, и он был теперь доволен, что согласился, даже сегодня не сожалел, в день выезда, день умопомрачительной суеты, когда вдруг показалось, что детей слишком много, что они слишком неорганизованны и что организовать их просто не представляется возможным. «Сэ тро», как выразилась худенькая пионервожатая Вера Чуркина. «Это уже слишком». Она сказала это по-французски, потому что была студенткой французского факультета, без пяти минут учительницей, и Тоскину, который французский язык (как и другие европейские языки) знал весьма умеренно, это «сэ тро» показалось более выразительным, чем русское «это уже слишком»: приятен был также тот факт, что незаметно – миловидная Вера произнесла это вполголоса, лично для него – наметился таким образом некий интеллектуальный контакт, ибо французский язык сам по себе был уже признаком образованности, если не целым образованием. Утешительно для Тоскина было и то, что не он один ощущал растерянность среди нынешнего столпотворения, а эта милая Вера тоже. Разглядев ее внимательней, Тоскин нашел, что она прекрасно сложена и очень мила (для Тоскина составлял предмет постоянного удивления и даже повышенного патриотизма тот факт, что при внимательном рассмотрении столь многие русские женщины содержат в себе нечто весьма привлекательное и достойное всяческого внимания). Справедливости ради Тоскин отметил про себя и тот факт, что они с Верой могли предаваться своей растерянности именно потому, что нашлись люди, которые в этой неразберихе и многолюдье чувствовали себя, как рыба в воде, – признанные полководцы и вожаки несовершеннолетней массы. Таков был отставной майор, начальник лагеря. И таков был старший вожатый Слава, атлетически сложенный, с правильными чертами лица и отлично поставленным голосом, словно бы специально созданным природой для таких вот случаев или детских профсоюзных елок где-нибудь во Дворце спорта. Славе удалось согнать эту массу в отряды, а потом разогнать ее по соответствующим автобусам, отделив от самых приставучих из родителей, которые устроили из этого события нечто вроде надрывных солдатских проводов. Позднее, уже на территории лагеря, Слава так же успешно сгонял и разгонял эту массу детей, пока наконец каждый из них не получил свое место в отряде, в спальне, в умывальной, в столовой и даже в уборной.
Только тогда, отправив детей на мертвый час, руководители смогли наконец оглядеться, перевести дух и собраться (с некоторым даже чувством одержанной победы) на первую летучку-планерку в кабинете начальника лагеря. Сидя за столом совещаний, Тоскин впервые рассматривал изблизи своих коллег… Вот жизнерадостная воспитательница Валентина Кузьминична, в зимнюю непогодь учительница русского языка где-то в глуши московских новостроек, женщина с могучим крупом и набело перекрашенными волосами. Вот вожатый Валера, который, конечно, не дотягивает до Славиного совершенства, но, без сомнения, к нему стремится. Вот старшая повариха, женщина с очень большой грудью и профессионально румяным лицом. Вот физкультурник, молчаливый сухопарый человек с лицом, изможденным бессмысленными физическими упражнениями. И наконец, вожатая Вера Чуркина – она застенчиво примостилась на краю стола, приготовив карандаш, чтоб записывать мысли начальника.
Начальник был весел и преисполнен энергии. Тоскин подумал, что он, может быть, после долгого перерыва получил наконец в свое распоряжение руководимые массы и мог предаваться привычному делу руководства. Во всяком случае, он начал свою речь со вкусом и с удовольствием:
– Итак, товарищи педагоги, – я всех вас называю педагоги, потому что партия всем нам доверила большое воспитательное дело, – итак, начнем, пожалуй, как говорил наш командир полка. Надо всем и каждому составить план работы и вручить его завтра или послезавтра в шестнадцать ноль-ноль Славику… – Слава серьезно кивнул. – И с ходу начнем развернутую подготовку к открытию лагеря. К нам могут приехать товарищи из завкома или даже из райкома. И во главе угла, товарищи, надо нашему новому лагерю дать свое наименование, потому что лагерь без наименования – это… – Начальник задумался. – Это как офицер без звания, вот как. Школьный отдел райкома предложил назвать лагерь именем пионера Руслана Карабасова – у них есть список, предусматривающий, чтоб все лагеря района не называть одинаковым названием – «Космос» или, скажем, «Ракета». Какие будут предложения, товарищи педагоги?
– В порядке справки, – сказал Слава, – Руслан Карабасов – это был маленький герой и мститель во время Великой Отечественной войны.
– Так и назвать «Пионерский лагерь имени пионера-героя Руслана», и дальше даже по отечеству и фамилии, – предложила Валентина Кузьминична.
– Очень длинно, – сказал Слава, – мне художнику заказывать материи не хватит.
– Может, «Маленький герой», романтика чтоб была, – предложил Валера, и тут все посмотрели на Тоскина, потому что он был в некотором роде литератор, во всяком случае, работал в каком-то там гуманитарном кабинете, где маленькая зарплата.
– Да вот так и назвать, – сказал Тоскин с небрежностью человека, получающего маленькую зарплату, – «Маленький герой». Или как вы еще сказали, Слава, кто он был?
– Юный мститель.
– Вот-вот, очень романтично, «Юный мститель», – проговорил Тоскин, смутно припоминая какое-то книжное заглавие (ибо значительную часть его эрудиции составляли именно заглавия, с аннотацией или без): С. Иванов, «Юный мститель», издательство ДОСААФ…
– Понятно, – сказал начальник, – после тихого часа весь личный состав прошу на полдник. И поторопиться с планами. Задача поставлена.
– За работу, друзья, – с энтузиазмом сказала Валентина Кузьминична. – Помните, как там у Горького…
Никто не стал домогаться, как там было у Горького, да Валентина Кузьминична не очень настаивала. Может, она уже и сама забыла, как там у него было написано, у Горького, и зачем.
Выйдя с планерки, Тоскин решил прежде всего оборудовать для себя приватный кабинет где-нибудь по соседству с так называемой «пионерской комнатой» – обширной верандой, оформленной по образцу полковых «ленинских комнат», то есть размещающей на своих стенах наибольшее количество печатных и от руки написанных пропагандистских материалов. Объясняя значение пионерской комнаты, начальник лагеря указал, что это «лицо» лагеря, по которому посторонние смогут судить об уровне боевой и политической подготовки (мирная терминология пока еще давалась начальнику с трудом). Надо сказать, что в надписях и лозунгах, украшающих стены, Тоскин обнаружил большое количество пока еще не вполне понятных для него терминов. Это были лингвистические отложения быстроменяющихся организованных кампаний и взрослых «придумок», направляющих детскую жизнь в общественно-полезное русло: «Светлые задумки – красным следопытам!», «По красным ступенькам в грядущую явь!», «Никакой халтуры – в сборе макулатуры!», «Дорогами отцов – путями эстафеты качества и зеленых патрулей!», «Для каждого сердца святые страницы…» (сами страницы на этой стене уже не уместились).
Поняв, что близ этой комнаты и будет протекать его трудовая деятельность (или – хотелось бы думать – имитация трудовой деятельности), Тоскин принялся искать индивидуальное логово. И вскоре нашел его. Одна из трех дверей пионерской комнаты была наглухо загорожена большим, во всю стену, стендом «Маршруты семилетки», в результате чего за пионерской комнатой образовалась малюсенькая веранда со специальным входом и крылечком, осененным молодыми кленами. Поскольку никто не посчитал этот лишенный своей прямой функции вход в пионерскую комнату за отдельное помещение, о нем и вовсе было забыто. Сторож, на основе личной договоренности (и личной же благодарности размером в три рубля), изготовил для Тоскина внутренний и наружный запоры к этой двери. Затем Тоскин притащил из заброшенного сарая маленький столик и портреты. Он заставил окна изнутри большими портретами Пушкина, Достоевского и Дзержинского, придав, таким образом, своему логову одновременно и внушительность и интимность. Других портретов Тоскин просто не смог отыскать в сарае, который он подверг разграблению. Теперь у Тоскина был свой уголок, и притом уголок достаточно укромный, что было очень важно для самой организации труда, ибо Тоскин установил в результате своей долгой трудовой деятельности, что никто не должен с точностью знать, чем ты занят и сколько времени ты затрачиваешь на ту или иную трудовую операцию. Он знал, что открытое безделье так же, как всякое занятие, не связанное впрямую с выполнением производственных заданий, подвергает тебя опасности гонений и дополнительных нагрузок. Посильная же конспирация приносит тебе как максимальное освобождение от постылых трудов, так и внутреннюю свободу. Эти полезные сведения Тоскин приобрел еще на заре своей трудовой бездеятельности, на армейской службе. И так как даже тогда у него не было юношеской амбиции прослыть лихим сачком и филоном, не было никакого геройского тщеславия, то он уже тогда ухитрялся без труда имитировать простейшие трудовые движения (от чистки картошки до чистки оружия), глядя при этом мимо рук – в книгу, раскрытую на коленях. В этой имитации бесталанного послушания и трудовой малопригодности протекала впоследствии вся взрослая жизнь Тоскина, слывшего когда-то, в ранней юности, многообещающим студентом…
Закончив оборудование своего гнездышка, Тоскин решил, что теперь он очень быстрым и деловым шагом пройдется по территории лагеря и покажется во всех отрядах, так сказать, в русле подготовки к открытию, а уж затем окончательно окопается у себя на верандочке в тени Достоевского с Дзержинским.
У соседнего финского домика вожатая Вера строила свой отряд на полдник. Кивнув ей, Тоскин сказал вполголоса:
– Надо обсудить кое-что. Позднее.
Прислонясь к веранде и наблюдая процедуру построения, Тоскин предавался ленивым размышлениям о том, что, будь он сейчас ребенком, он ни за что не поехал бы отдыхать в пионерский лагерь, где в столовую водят строем, а иногда дорогой даже заставляют петь. С другой стороны, Тоскин не мог упускать из виду, что в пионерский лагерь едут лица, еще не служившие в армии и не имеющие к ней отвращения, так что все устроено разумно и прекрасно. К тому же дети, в отличие от служилых мужчин, совсем не против поиграть в войну или в армию, иначе откуда взялись бы все эти скауты, бойскауты, юные разведчики, вот, кстати, было бы тоже неплохое название для лагеря, «Юный разведчик». Нет, нельзя сказать, чтоб они сейчас строились очень охотно, эти бунтующие современные дети (нелегко с ними приходится бедной Верочке), однако, в принципе, все эти дисциплинарные трюки, кажется, не вызывают у них ни вольнолюбивого бунта, ни даже серьезных возражений.
– В колонну по четыре… Девочки, у вас шесть человек… Хорошо, если хотите, разберемся по двое… В колонну по два…
Две передние девочки оказались возле Тоскина. Одна из них была яркая блондинка, очень налитая – такие формы и в двадцать три не всякая обретает, неудивительно, что она оглядывает мальчиков со снисхождением зрелой женщины, знающей им цену, но все же ожидающей, что хоть один из них поднимется до уровня взрослого мужчины, понимающего, в чем смысл жизни. Вторая… О, черт, вторая – она вдруг посмотрела на Тоскина ясным, безмятежным взглядом своих темных, блестящих, промытых глаз – только когда этот взгляд отпустил его наконец с повинной, он разглядел также ее припухлый носик, ее губы, удивительно дерзкого рисунка, тоже припухлые, разглядел припухлость ее груди и тонкую длинную руку, поднятую к густым волосам… И снова ее глаза поймали его – что-то в них появилось новое, вероятно, любопытство, чуть-чуть кокетства и, кажется, мысль, да, вот именно, это была мысль, девочка думала, она переживала какие-то свои тревоги… Тоскину на мгновение пришло в голову, что и ее любопытство, и тревога могли быть связаны с ним, с этим невольным пересечением их взглядов. Он пережил волнение, но потом стал гнать эту мысль прочь, как изгонял теперь из своей жизни все, что грозило осложнениями и неприятностями.
– Таня! Ну, Таня… – томно сказала ей половозрелая подруга. – Поправь же мне галстук!
«Таня. Значит, ее зовут Таня… Да, так о чем же я? А… ребятишки. Занятные. Верочке придется с ними трудно».
«И тебе придется с ними трудно», – прогундосил внутренний голос Тоскина.
«Мое дело сторона, – с твердостью ответил Тоскин, – я не вожатый. Я только воспитатель. Без четких обязанностей. И чуть-чуть наблюдатель. Будем сеять разумное, доброе, всякое. Ясно? Вообще, я не с ними. Я не здесь. Я всюду. Надо идти дальше».
Тоскин направился в соседний отряд, где происходило такое же построение под руководством энергичного карьериста Валеры. Пионеры строились мучительно бестолково, и Валера подбадривал их пронзительными криками, каким, по мнению Тоскина, он мог научиться только у армейского старшины. Увидев Тоскина, Валера стал кричать еще пронзительней, и при этом даже синтаксис у него стал старшинский:
– Брюкин, тебе касается!
Тоскин с независимым видом прошел мимо, бормоча себе под нос:
– Мне не касается. Вы тут наводите дисциплину, укрепляйте строевой шаг, поднимайте боевой дух, а я бочком, к другим, вот они маленькие, вот они…
Малыши, пионеры младшего отряда, чинно следовали на полдник, взявшись за руки, парами, как в детском садике. Они и были питомцы детского сада, оттуда принесли свои традиции, свежие еще воспоминания, закалку. Проходя мимо Тоскина, они нестройно его приветствовали:
– Здравствуйте, дядя!
Тоскину это было приятно. Он был, таким образом, отчасти вознагражден за огромную, трагическую разницу в их возрасте. Впервые он ощутил сегодня эту старческую тягу к почестям, столь очевидную у всякого старика, будь то редактор жэковской стенгазеты или маститый писатель Катаев.
Отряд прошелестел по траве мимо, а Тоскин еще стоял, утирая слезу умиления, когда увидел вдруг на дорожке пару «мальков». Может, первоначально они и не были парой. Может, это была отставшая шеренга, часть «колонны по два». Однако колонна ушла вперед, и шеренга стала просто парой. Это были худенький, белесый мальчик лет восьми и плотненькая, очень серьезная девочка.
Поравнявшись с Тоскиным, мальчик счел необходимым объясниться.
– Она отстала, – сказал он. – Она не знает, где столовая.
Девочка прямо и честно смотрела в глаза Тоскину. В этом взгляде был только один смысловой слой, и Тоскин подумал, что чуть позже, скажем в двенадцать, женский взгляд бывает куда более сложным. Мальчик шагнул вперед и заслонил девочку. Тоскину не хотелось, чтоб они уходили. И он спросил у мальчика:
– А ты… Откуда ты знаешь, где столовая?
– Моя мама – повар.
«Мама-повар, что ж такого?» – подумал Тоскин, но все в нем возмутилось против этого сообщения: значит, этот рыцарственно прекрасный тоненький мальчик с отважными глазами был сыном краснолицей поварихи, тыкавшей ему под нос свою непустяшную грудь.
– Идем, – сказала девочка. – Мы опоздаем. И нам ничего не достанется.
– Достанется, – сказал мальчик. – Я тебе достану сколько хочешь еды.
– А я ее не люблю, – сказала девочка.
Он посмотрел на нее восторженно и сказал:
– Я тоже. Я никакую еду не люблю.
– Мы опоздаем, – сказала девочка. – И нас будут ругать.
– Тебя никто не будет ругать, – сказал мальчик надменно. И добавил для Тоскина: – Нам надо идти.
Он взял девочку за руку и повел ее, бережно и неторопливо.
«Черт его знает, может, оно и правда что-нибудь такое бывает», – меланхолически сказал внутренний голос Тоскина.
«Не морочь мне голову, – отозвался Тоскин раздраженно. – Не морочь мне голову и не втягивай меня в неприятности. Ничего такого не бывает, и мне как писателю это видней…»
Тоскин был исполнен самых благих намерений. Там, впереди, среди мерзости дождливой и холодной московской осени, его ждали неприятности, какие угодно – от ангины до безработицы, но сейчас он был наилучшим образом пристроен в живописном уголке Средней России (так он торжественно называл Подмосковье), у него был свой угол, стол (о чем, как известно, только мечтать могла Марина Цветаева), он был не очень загружен и накормлен (повариха подложила ему сегодня даже лишнюю котлету, при этом, правда, она опять ткнула ему под нос свою незаурядную грудь). Короче говоря, у него были все условия для творчества, а тут же, рядом, за стеклом его клетушки, за полупрозрачным в полдень портретом Дзержинского, гомонили его герои, разгуливал на природе его жизненный материал (на случай, если он надумает стать именно детским писателем). Тоскин вынул из стола бумагу и стал ловить ощущение. Приходили в голову разные слова, чаще других «истома», но должное ощущение не появилось. Зато появился звук. Звук был, скорее всего, женский. Он был жалобный и очень тихий. Звук мешал сосредоточиться. Хотя в нем, пожалуй, тоже была истома. Тоскин подумал, что все его попытки творить кончаются всегда одинаково. Он подумал также, что звук и истома могут оказаться реальными. Он решил, что творить он сможет только позже, еще лет через десять. Тогда уж ничто не отвлечет его, никакой женский звук. Никакая истома. Тоскин спрятал авторучку и пошел навстречу истоме и звуку.
Он миновал гипсовую серебристую статую пионерки, поднявшей в пионерском приветствии непропорционально большую серебряную руку, потом направился к оврагу. Звук послышался снова. Он был жалобный, без сомнения, женский и, вероятно, все же реальный.
Тоскин пошел на звук и обнаружил строение, похожее то ли на амбар, то ли на туалет (в нашу эпоху упадка архитектуры не всегда можно с точностью определить назначение постройки). Надпись над дверями уточняла, что это пионерская сушилка. Тоскин затаился, подождал немного и снова услышал звук. Он исходил, по всей вероятности, от женщины, которой нужна была помощь. В то же время женщина кричала как бы и не очень охотно, не очень громко и внятно.
Положение Тоскина было сложным. С одной стороны, он, вероятно, должен был поспешить на помощь. С другой, его помощь могла оказаться нежелательной и даже излишней. В конце концов, это мог быть крик любовной истомы и даже стон кокетства, широко распространенный как в нашей стране, так и за ее пределами, о чем свидетельствует, например, индийское наставление по любовному делу под названием «Камасутра»…
Тоскина разбирало любопытство. У него пересохло во рту от волнения, и, уступая всем этим эмоциям, он решил, что долг обязывает его хотя бы заглянуть в окна сушилки. Однако заглядывать следовало осторожно. В конце концов, долг не обязывал его нарушать чужое уединение. И вовсе не побуждал его подвергнуть себя опасности.
Тоскин прижался к стене и стал медленно двигаться в сторону окна. Наконец ему открылся нижний угол окна, и Тоскин увидел, что в темноте сушилки белеют женские ноги. Ноги были длинные и стройные. В ареале пионерлагеря они могли принадлежать только Вере Чуркиной, и Тоскин отметил, что это были красивые ноги. Впрочем, чтобы наверняка убедиться в принадлежности ног и в том, что им угрожает опасность, надо было продвигаться дальше. Тоскин проделал это с большой осторожностью. Он увидел ноги чуть выше колен. Потом еще выше. Еще… И со вздохом отступил – как ученый, который сумел расщепить чуть не весь этот чертов атом, но в последний момент отступил перед ядром. Выше, в самой уже невозможной высоте, синела очень короткая джинсовая юбочка. «Еще короче не могла?» – спросил внутренний голос Тоскина.
– Что с вами, Вера? – громко спросил Тоскин.
Вера заплакала.
– Я зашла в суши-и-илку… – сказала она, всхлипывая.
– Да, да. Вы зашли в сушилку…
– А они заперли дверь снаружи. Пионерки.
– Это подлость, – сказал Тоскин.
Теперь он мог появиться перед окном, не таясь. Вера стояла в полумраке сушилки, длинная, тоненькая и беззащитная. Она сделала шаг в сторону двери, и спина у нее выгнулась, руки и волосы плеснули вдоль тела. Она была беззащитная и безвольная. С ней можно было делать все, что захочешь. И даже Тоскину было ясно, что с ней нетрудно было захотеть.
– А почему вы не кричали? Ну-у… Не кричали как следует? – спросил Тоскин.
– Я стеснялась, – сказала Вера, – и потом, я не знала, что кричать…
– Это просто подлость, – сказал Тоскин, вынимая снаружи щепочку, заложенную в петельки дверей.
– Они всегда что-нибудь придумают, – сказала Вера.
Ее ноги белели теперь во всю длину в полумраке сушилки, и Тоскин снова подумал, что в ее беззащитности есть большой соблазн.
– Да, вы правы, – сказал он, – они изобретательны. Позднее это проходит…
Тоскин шагнул внутрь сушилки и внимательно осмотрел Веру.
– Нам велели разучить с отрядом пионерские речевки, – поспешно заговорила она, вдруг почувствовав угрозу. – Старший вожатый сказал, чтобы когда отряд идет, то чтоб выкрикивать речевки. Знаете, речевки… Очень надо речевки… У меня есть речевки…
Тоскин понял, что этим вот и ограничится ее сопротивление – речевки, надо речевки…
– Что ж, речевки так речевки, – сказал он, отступая назад. – А что это, собственно, такое – речевки? – С этими словами он освободил Вере проход. И подумал, что стареет. Будь ему меньше сорока, он, может, и поговорил бы для виду про эти речевки (да что это такое, в конце-то концов?), но тем временем продолжал бы делать все, что положено. А теперь… Теперь он даже толком не знал, положено ли это делать.
– Речевки – это такие стихи…
– Стихи – это по моей части, – сказал Тоскин, – я пойду с вами.
– Это такие стихи, чтобы в ногу, – продолжала Вера, шагая с ним рядом (Тоскин отмечал, как она выгибается на ходу, такая стройная, длинная и длинноногая, как плещутся ее волосы, а узенькая полоска джинсовой ткани едва-едва скрывает, но все же скрывает…) – Вот, например, вы идете в столовую, – лепетала Вера. – Раз-два – Ленин с нами, три-четыре – Ленин жив…
– А-а-а, где-то я это слышал… – сказал Тоскин, – может, во сне. Выше ленинское знамя…
– Да, да, – обрадовалась Вера. – Пио-нерский кол-ле-ктив… Но это простая. Эту все знают. Надо больше. А я достала методичку. Очень трудно достать методичку, лето, все хотят методичку, а там все, все что надо, все типы…
– Ну, раз все типы, может, я вам и не ну…
– Нет, нет, – испугалась Вера. – Что вы, там даже надо придумывать, там такое задание, чтобы придумывать, и если вы будете, то они не так будут…
– Они вас не запрут в сушилку, – сказал Тоскин. И добавил: – Нет, конечно, я буду очень рад с вашими ребятами…
И понял вдруг, что он действительно рад, очень рад, потому что он увидит сейчас эту девочку с припухлыми губами, мягким припухлым носиком и чистыми глазами, в которых удается прочесть так много.
– Ребята! – сказала Вера, усадив отряд на скамьях. – Все знают, что такое речевки?
– Раз-два, Ленин с нами! – закричал черненький мальчик. – Три-четыре…
«Нахал и всеобщий любимец, – ревниво подумал Тоскин, – прелестный, бестия. Вот и я был такой. Куда все девалось?»
И по здравом размышлении Тоскин признал, что любить его, пожалуй, больше не за что: он не прелестен, не пострел и не бестия, он – старая зануда и неудачник.
– Повторим эту речевку, которую все знают, – сказала Вера. – Будь готов!
– Всегда готов! – откликнулись пионеры.
– Будь здоров! – крикнула Вера.
– Иван Петров, – невольно сказал Тоскин и подумал, что это дурацкое занятие засасывает.
Впрочем, пионеры ответили как надо. «Всегда здоров!» – крикнули они дружно, и Тоскин позавидовал их здоровью.
– Повторяем за мной, – сказала Вера. – Три-четыре. Бодрые, веселые, всегда мы любим труд. Пионеры-ленинцы, ленинцы идут…
Тоскин отыскал наконец глазами Танечку. Она была в новой пестрой кофточке. Она шепталась о чем-то со своей половозрелой подругой-блондинкой, и Тоскин испытал при этом двойственное чувство. С одной стороны, он ревновал. Он не доверял этой малолетке с четвертым размером груди. С другой стороны, ему было легче от того, что его Танечка не слушает сейчас Веру, что ее божественно вылепленные губы не повторяют за всеми «красноследопытскую» речевку.
– Итак, начали! – монотонно причитала Вера. – Левая половина: «Если нужно – завершим дело Ленина». Правая, мальчики: «Доберемся до вершин, нам доверенных». Левая: «Компас на ленинизм!» Правая: «Наша цель – коммунизм!» Левая: «На вершины брать равнение…» Правая, громче: «Гор-ны-е!» Так. Теперь я вам прочту, хотя это и для нас написано…
Вера открыла истрепанную методичку и стала читать скороговоркой:
– Сочинять речевку несложно. Обычно она представляет собой стихи или просто ритмический текст…
«Хорошенькое представление о стихах», – подумал Тоскин и вдруг напрягся, даже привстал: Танечка перестала болтать с подругой и теперь смотрела на него. В глазах ее было любопытство, кажется, даже благожелательное. Как в далекие, сладкие, почти забытые годы ранней юности, Тоскин пожалел о том, что у него нос чуть-чуть слишком длинный. Он смешался и сделал вид, что повторяет за Верой «космические» речевки:
– Нам везде с весельем нашим…
– Хорошо! Хорошо!
– Мы поем, танцуем, пляшем…
– Хорошо! Хорошо!
«О, черт! Вот заряд оптимизма! Но что же делать?» – маялся Тоскин, замечая, что Танечкины губы стали шевелиться вслед за его губами, точно она повторяла за ним пушкинские строки.
– «Всем ребятам на потеху», – зачитывала Вера. – И – все вместе: «Ха-ха-ха!» – «Пустим мы ракеты смело – ха-ха-ха!» – «Поднимается ракета! – Ш-ш-ш». – «Полетели до планеты – ж-ж-ж». – «Чертим небо ярким светом – з-з-з». – «Прилунилася ракета – бум-тра-та-там». И теперь все вместе, ребята: «Ура-ра-а!» Вот тут еще… – Вера добросовестно листала методичку. – Вот тут сказано, что пионеры сами могут придумывать речевки с традиционным зачином. Все поняли? Например: «Раз-два, смело в ногу…» Дальше? Кто дальше?
Черненький чертенок вскочил и крикнул, глядя на Тоскина:
– Честь и слава педагогу!
Все смеялись, но смех был добродушный.
– Повторим! – сказала Вера. – Раз-два. Смело в ногу!
И все повторили про педагога. И все смотрели на Тоскина. А Тоскин смотрел на Танечку и видел, что губы ее шевелятся. И он понял, как трудно устоять даже против такой совершенно идиотической лести.
– Знаете, друзья… – сказал он растроганно, – завтра вечером, если у вас будет время и если вожатая вам позволит… Завтра вечером мы начнем заседания литературного… э-э-э…
– Кружка, – подсказал черненький.
– Да, пусть так… Мы будем читать стихи…
– Эти самые? – спросил чертенок.
– Есть ли желающие посетить… посещать…
Тоскин со страхом смотрел в Танин угол. Рук было много, и Таня подняла длинную ручку. Ее половозрелая подружка тоже подняла руку, и Тоскин отметил при этом, что подмышка у нее была влажная. Он отвел глаза и оправдал себя тем, что писатель должен все замечать. Тем более детский.
* * *
Директор поймал Тоскина на дорожке. Они пошли рядом, и директор стал говорить, очень медленно и значительно, стараясь найти верный тон, потому что, с одной стороны, Тоскин был подчиненный, а директор был как бы командир, слуга царю, отец солдатам. Долгая служба в армии, точь-в-точь как аристократическое происхождение, дает офицеру твердое сознание своего превосходства и хамоватую простоту в обращении с быдлом. С другой стороны, директора все время мучило воспоминание о том, что он уже больше не в армии, что это свой брат педагог (потому что они же тут все, черт возьми, педагоги, он тоже теперь педагог), и еще о том, что Тоскин здесь единственный (сторож и физкультурник не в счет), кроме него самого, взрослый мужчина – нельзя же его так же, как Славика или этого, второго, как его, чуть не допризывника…
– Как у вас, Кстатин Матвеич, дела? Идут дела? Ну и отлично. Надо вот что…
Директор остановился, и голос его приобрел чрезвычайную серьезность. Борясь с неодолимой робостью, которая его всегда охватывала в присутствии начальства, Тоскин принял натужно непринужденную позу. Чтобы поддержать эту позу сколько можно, он через плечо начальника читал тексты на плакатах и стендах, украшавших главную аллею лагеря – от самых ворот и будки часового (точная копия армейского КПП) до столовой: «Огни пятилеток! Эпоха чудес! Мужал комсомол, возводя Днепрогэс». Дальше следовали весь перечень чудес и стихотворное же резюме: «Дела комсомола, его свершения – это революции продолжение».
– Я вот что хотел, Кстатин Матвеич, – сказал директор басовито-интимно. – Надо будет к открытию лагеря композицию подработать. На высоком идейно-политическом. И без отстающих. Могут из района приехать товарищи, так что уж вы подключитесь, пожалуйста. Вера Васильевна и Валентина Кузьминична из своих подразделений тоже выделят личный состав, а вы проследите. Конечно, старшие лучше в этой обстановке, тем более что Вера Васильевна, знаете, замечательное достала наставление, так что осталось только в рот положить. Уж вы сконтактируйте с ними, пожалуйста, и подключитесь. Понято?
– Понято, – бодро сказал Тоскин, сам поражаясь своей лингвистической гибкости.
– Действуйте! В добрый путь, как говорил наш начальник ГСМ. А я еще пойду по делам… – И директор энергично зашагал к столовой.
Тоскин столь же энергично двинулся в боковую аллею и только здесь, оказавшись в тени фанерных щитов с житиями пионеров и живых деревьев, позволил себе расслабиться, предаться обычной меланхолии, которая с неизбежностью привела его к любимому занятию – чтению. Всего, что попадается на глаза. Он очутился на аллее героев-пионеров, где со щитов, окаймлявших ее, глядели на него младенчески-суровые, а иногда и старообразные лица маленьких героев и мстителей. На первом портрете красовался, конечно, Павлик Морозов, подвиг которого был описан на отдельном стенде рядом: «Не колеблясь, Павлик разоблачил родного отца, когда узнал, что тот сочувствует кулакам. Имя героя-пионера Павлика Морозова первым занесено в “Книгу почета пионерской организации”». Тоскин подумал о том, что его безволие и профессиональная привычка читать всякий текст сделали его первым и последним читателем этих неуклюжих текстов, которые наверняка не замечают ни пионеры, ни их родители. («И напрасно, – подумал Тоскин, – родителям эта история про малютку Павлика могла бы особенно полюбиться».) Со следующего стенда на Тоскина сурово глядел пионер Руслан Карабасов. Юный мститель собственноручно поджег избу, в которой ночевали пятьдесят («Почему не сто пятьдесят?» – удивился Тоскин) немцев. Ни один из захватчиков не вышел живым из помещения. Пионер был замучен насмерть, но не сказал ничего. Умирая, он плюнул в лицо офицеру…
– Дядя, а вы мою маму не видели? – спросил тоненький детский голос.
«В твое время, мальчик, – прогнусавил внутренний голос Тоскина, – люди уже, вон, избы с живой силой перемалывали, а ты все: мама, мама – как маленький».
– Меня зовут Константин Матвеевич, – сообщил Тоскин, невольно загораживая телом историю Руслана Карабасова.
– А меня Сережа, – сказал мальчик. – В столовой ее нет. Тети сказали, что она пошла к директору. Но я не знаю куда. А вы не знаете, куда пошел директор?
– Куда-то туда… – сказал Тоскин, поведя рукой, как некий меланхолический Сусанин. – Он мне не сказал… А зачем тебе мама? Может быть, я смогу тебе помочь?
– Мама мне действительно ни к чему, – серьезно и печально сказал Сережа. – Просто я хотел ей сказать, что мы с Наташей решили друг с другом пожениться. Я не знаю, должен я ей сказать или не должен? Наверно, вам нельзя вместо нее сказать?
– Наверно, нельзя, – сказал Тоскин. Потом спросил, не удержавшись: – А зачем вы хотите пожениться? Я вот никогда не хотел пожениться.
– Ну, вы взрослый, – убежденно ответил Сережа. – А мы хотим пожениться, чтоб всегда играть вместе. Просто по дружбе. И чтоб жить вместе, когда первая смена кончится, потому что у Наташи путевка на одну смену. Чтоб всегда жить вместе. Потому что мы дружим. И чтоб друг друга защищать, а то мальчишки очень щипают девочек.
– Ты будешь ее защищать?
– Да, я всегда буду ее защищать. Но она тоже меня очень хорошо защищает, вы не думайте, она очень сильная…
Сережа вдруг исчез. Тоскин огляделся, поискал… Ни под щитом, ни за щитом мальчика не было. Даже в кустах его не было видно. Зато обнаружилась причина, по которой он исчез: по аллее героев энергично шагала Валентина Кузьминична.
– Мальчика не видели? – спросила она, тяжело дыша.
– Какого мальчика? – невинно спросил Тоскин.
– Стала пересчитывать, не хватает одного мальчика. Как дети персонала, так одна морока…
Широкий круп Валентины Кузьминичны исчез за кустами, и Тоскин решил поскорее укрыться в своем логове, где он сможет предаться литературным занятиям. Под литературными занятиями Тоскин понимал спокойно-мечтательное бдение среди книг и бумаг в праздных размышлениях, фантазиях и мечтах. Иногда Тоскин при этом читал, еще реже начинал вдруг набрасывать что-то, какие-то планы, отдельные стихотворные строчки, однако чаще он все же просто лежал и думал о том, как его литературный герой, или даже не герой, а просто он сам, Тоскин, отправился, к примеру, пешком по горной дороге в незнакомый кабардинский аул – он и на самом деле чуть-чуть не сделал это однажды, находясь проездом в Кабарде, однако все же не сделал, не пошел, просто присел, помечтал у развилки, на окраине Нальчика, потом, отметив командировку, вернулся домой – так вот, там, в ауле, к нему подошла горянка, скорее, горец, потому что горянки эти, кажется, очень дики и застенчивы, но, в конце концов, у этого горца наверняка была сестра, и вот ночью… Вообще, с этими кабардинцами шутки плохи, но в конце концов, если успешно повести дело, все могло было бы кончиться успешным браком, и теперь у Тоскина было бы по крайней мере три маленьких весьма забавных кабардинца, которые… Чаще всего Тоскину представлялся летний визит, во время отпуска, в этот кабардинский аул, где растут под надзором супруги его трое сорванцов – не в городской же клетушке их содержать – и где уважительная родня встречает Тоскина у околицы (слово явно не подходящее, а как же надо?), громко крича по-кабардински (как это, кстати, по-кабардински?) и по-русски, ну что-нибудь такое уважительное: например… «Честь и слава педагогу!»
Какие-то тени прошелестели на улице, по ту сторону Дзержинского. Тоскин привстал. Это были два мужчины, скорей всего Слава и Валера. Да. Послышался Славин голос:
– Давай еще пузырек и – в баню…
Тоскин притаился за портретами. Он решил не зажигать свет. Ему пришла в голову замечательная мысль: если сдвинуть стол, то он, пожалуй, уместится здесь на полу. Надо только перенести матрац из общей комнаты, где ему отвели койку вместе с Валерой и Славой. Выглянув из своего укрытия и убедившись, что горизонт чист, Тоскин совершил перебежку до ближайшего корпуса. И вдруг замер. Тоненькая фигурка медленно передвигалась вдали, на фоне еще светлевшего горизонта, по единственной безымянной аллее лагеря, которая вела от спрятанного в зарослях деревянного туалета до отрядных финских домиков. Фигурка была и тоненькая и мягко-припухлая в одно и то же время, ее неясные контуры сливались с сиреневыми сумерками, – казалось, еще немного – и она растает, растворится в сумраке, – и, словно испугавшись этого, Тоскин быстро пошел ей навстречу, потому что он уже узнал по каким-то ему еще самому неведомым признакам, он скорее не увидал, а почувствовал, что это была она, девочка Таня из отряда Веры Чуркиной. Тоскин успел выйти на аллею прежде, чем она поравнялась с ним, и сказал, тяжело дыша: «Добрый вечер, Танечка!» Девочка поздоровалась, взглянула на него пристально, с длительным любопытством, и Тоскин, смешавшись, уже готов был спросить первое, что пришло ему на ум: «Откуда вы?» – и остановился вовремя, потому что это могло бы смутить девочку, это могло бы все испортить, ибо она была уже не так мала, но и не так еще искушена, чтобы ответить с трогательной непосредственностью, что она ходила пописать перед сном, – да и вообще Тоскин был убежден, что непосредственность эта во всем, что касается физиологии, была не наша, не серединная, а с Запада или Востока и она еще не прижилась, еще не пришлась нам по душе…
Девочка сама выручила Тоскина, сказав с тоскливой жалобой:
– Уже отбой. Спать надо идти, так не хочется – сейчас свет погасят и даже читать не разрешат, хоть бы случилось что-нибудь такое, какая-нибудь авария – чтоб не спать…
– Да-да, – сказал Тоскин, оживляясь. – Мне всю жизнь было страшно досадно – а в детстве я плакал, – страшно досадно, что день уже кончается, что сегодня уже ничего не будет, а непонятливые взрослые утешают тебя завтрашним днем, но ты ведь еще хочешь жить сегодня… Это как религии тебя утешают, одни загробной жизнью, другие новым рождением, реинкарнацией, а ты еще хотел бы этой жизни… И еще так же обидно бывает в дороге, когда сгущаются сумерки, а ты идешь и хочешь идти дальше, дальше, только что разохотился… Или ты пришел в новый город и хочешь открыть его, но уже стемнело, пустеют улицы, нет машин и нет людей. И все потеряно до утра, но ты еще надеешься на приключение… Вот я был однажды в командировке на Кавказе, в Нальчике. Я стоял на дороге, ведущей в кабардинский аул…
Танечка и Тоскин свернули с безымянной аллеи на пустынную аллею героев-пионеров, и Тоскин, загораясь, стал рассказывать о кабардинском ауле, мешая свои впечатления от поездки со всем, что нагромоздилось в одинокие часы его литературных занятий, что он вычитал в книжках, а также со строками стихов, с давними химерами… У него не было угрызений совести, ибо вдохновение наконец посетило его, ибо это и было, в конце концов, его литературным досугом, – а бумага, что ж бумага, и кому нужны эти горы бумаги, какому читателю (для тупого – достанет макулатуры, жадно им поглощаемой, для утонченного – понаписано так много в золотые века искусства), а сейчас, в это мгновение, был перед ним самый главный его слушатель-читатель, самый трепетный, самый желанный… Итак, путешествие привело Тоскина на край горной пропасти, где его новый друг-кабардинец осадил своего коня, чтобы, спешившись, представить ему сестру-горянку. Танечкины зрачки сияли в незамутненной чистоте, расширенные любопытством, испугом, иногда страстью; они были сейчас даже более зрелыми, чем ее налитое негой тело девочки-акселератки из благополучной части этого континента. Она вдруг остановилась, присела на корточки и легко, едва ощутимо, тронула Тоскина за колено, от чего ноги у него задрожали какой-то забыто-сладкой дрожью…
– Вот, – сказала она, – репей.
Она хотела выбросить репей, оторванный от его штанины, но Тоскин протянул за ним руку с бессознательной надеждой коснуться ее руки, получить первый реальный знак того, что с ним случилось сегодня, чтобы сделать потом воспоминание и осязаемым и надежным, – как поступали издавна герои сказок, от всесветного дурака, хватавшего за хвост птицу счастья, до зарубежного принца, прижимавшего к груди хрустальный башмачок… И ему посчастливилось, он ощутил самым краем ладони мягкое тепло ее руки, очень теплой и очень мягкой, а потом девочка встала, повернулась и побежала прочь: то ли он спугнул ее, то ли она ждала этого прикосновения и вот – дождалась… Остановившись у края аллеи, она сказала:
– Ой, уже корпус закрывают. Пока-пока…
В этом глупом панибратском «пока-пока» было признание их уже совершенно не лагерных, не официальных, а каких-то особенных, своих отношений, и Тоскин медленно побрел за матрацем, спрятав на груди репей и лелея драгоценное воспоминание о последнем ее прикосновении, о ее силуэте в сиреневых сумерках, о собственных фантастических приключениях в Кабарде, обогатившихся ныне подробностями.
Девочка была так трогательно, так несказанно, так неприкасаемо хороша, что Тоскин мог бы сейчас… Да, он мог бы сейчас совершить что угодно ради нее и ради продолжения этой вот бессмысленной прогулки со всеми ее неожиданными репьями и кабардинскими эскападами. «Что же это? – в смятении думал Тоскин. – Что же?» И ответ пришел сам, пугающе логичный, подкрепленный тысячей примеров и множеством авторитетных источников – от шлягеров Сигизмунда Каца до шлягеров Зигмунда Фрейда: это вот ужасающее преувеличение достоинств женской особи, это вознесение ее на пьедестал неприкасаемости, это отчаянное нагромождение препятствий в виде разности уровней (истинной или мнимой, все равно), этот удушающий прилив благодарности – все это и есть любовь…
Это было безумно, безнадежно, неуместно и недозволенно, но Тоскин понимал, что именно эта безнадежность и является (во всяком случае, для него) основанием и залогом столь неоправданного, столь абсурдного и столь долгожданного чувства.
Надо было отправляться спать. Постель и вправду страшила Тоскина. Впрочем, уже не по той причине, что в детстве: он боялся теперь бессонницы, глухой сердечной боли, страшных снов пробуждения – всей этой маеты изношенного тела. Однако вопреки своим ожиданиям он уснул быстро и безмятежно, спрятав голову под письменный стол и упершись в дверь ногами, в благодетельной тени Пушкина, Достоевского и Ф. Э. Дзержинского.
Поручение начальника лагеря не показалось Тоскину особенно трудным, тем более что Вера Чуркина уже сама наметила участников торжественной «композиции» (в их числе была и Танечка со своей половозрелой подругой Томой). К тому же в замечательной методичке, которую раздобыла Вера Чуркина у себя в Ленинском педе, можно было найти все, что необходимо для лагерной жизни, в том числе и «Литературно-музыкальную художественную композицию, посвященную открытию лагеря»: оставалось только окончательно распределить роли и разучить текст. Тоскину выпала при этом необременительная роль наблюдателя и консультанта, к которому Вера время от времени обращалась с каким-нибудь вопросом (отчего-то каждый раз она при этом тушевалась и робела).
– Ребята, – начала Вера с подъемом, который явно стоил ей усилий, – это композиция, которую надо разучить к открытию лагеря. Наш отряд, ребята, борется за звание… Так что, приступим к делу. Может быть, вы хотите читать, Константин Матвеевич?
– Да нет, нет, ваша композиция, вы и читайте. – Тоскин сделал решительный и великодушный жест рукой, и Вера продолжала:
– Ты, Юра, будешь Первый пионер, ты, Андрюша, – Второй, записывайте, читаю медленно: «Первый: Мы не станем с вами удивляться,/ Что в Рязань идут потоки книг! («Это, положим, дезинформация, – подумал Тоскин уныло, – никаких потоков не идет, и ни черта там не достанешь».) Второй пионер: Что тайга в огнях электростанций. Первый: И что стал профессором калмык. («Вот уж есть чему удивляться, калмык, а туда же», – бурчал про себя Тоскин.) Второй: Мы привыкли с вами видеть это / В наших селах, в наших городах…» Так, ребята, это несложно, – сказала Вера (может быть, она прочла в методичке, что это несложно), – дальше. Два участника, остальные тоже участвуют. Ты будешь Пионерка, Тамара, а ты, Юра, Пионер.
– А я и есть Первый пионер, – сказал Юра.
Вера, не тратя сил на полемику, продолжала читать:
– «Пионерка: Тут глаза прищурил Ленин, / Спрашивает он… Пионер: А в таблице умноженья / Кто из вас силен? – Тут ребята переглядываются, пожимают плечами, смущенно опускают глаза…» – зачитала Вера. – Так, «смущенно опускают глаза». Давайте разделим, кто будет переглядываться, кто пожимать плечами…
– Я буду смущенно опускать глаза, – сказал Юра.
– Нет, лучше пусть Таня будет… – сказала Вера. – Так, читаю дальше. «Пионерка: Говорит товарищ Ленин… Пионер:
Вы должны понять:
Коммунистом без ученья невозможно стать!
Мы хотим, чтоб ток стремился
К лампочкам, станкам,
Чтоб в песках канал пробился
К дальним кишлакам,
Чтоб машина убирала
Урожай страны…»
– Чегой-то мне так много, а Томке две строчки, – сказал Юра.
– Но тут так написано, – Вера была в растерянности. – Как вы думаете, Константин Матвеевич, тут можно поделить?
– Конечно, – кивнул Тоскин серьезно. «Нет, я все-таки моральный урод, – думал он при этом, – дети спорят о количестве строк. Содержание стихов их никак не задевает. Они его просто не замечают. Как не замечают текстов, которыми исписаны все куски фанеры на территории. А может, это им только так кажется, что они не замечают. Может, каким-то внутренним зрением они все же читают все это. Учат наизусть. Запоминают… Нет, все-таки совсем неплохо, что я занимаюсь литературой только устно, непрофессионально. В противном случае, раньше или позже, корысти или славы ради, я бы сочинил, наверное, что-нибудь в этом духе, в минуту слабости…»
– Теперь твоя очередь, Танечка, запоминай: «Вижу далеких времен пионера, /Он сейчас на посту. Домна его, как дом Гулливера,/Видно за версту».
– Видно или видна? – спросил Тоскин. И подумал: «Как будто не все равно?»
Мальчики шептались о чем-то, хихикали. Тоскин сразу догадался о чем. Вместо домны они подставили что-то малоприличное. С одной стороны, Тоскин даже готов был приветствовать эту игру ума, это незагубленное «бель эспри». С другой стороны, ему жаль было Танечку: она выглядела усталой, невыспавшейся, ей показалось, что это над ней смеются мальчишки. Тоскин решил, что надо ее поддержать.
– Хорошо, Танечка, – сказал он. – Совсем неплохо.
Он был вознагражден ее удивительным, говорящим взглядом.
– Так, мальчики, вы, я вижу, скучаете, – сказала Вера. – Всем найдется работа.
«Ого, она уже педагог», – подумал Тоскин.
– Ты, ты и ты. – Вера выбрала троих. – Ты будешь Пятый пионер, ты – Шестой, ты – Седьмой, потом все вместе. Записывайте за мной. «Пятый: Слышите, люди, волнующий хор? Дети поют войне приговор. Пусть никогда малыши не кричат: “Мамочка, мама, где ты сейчас?”»
– Вера Васильевна, можно я буду пищать «мамочка-мама»? – спросил Юра.
– Нет. Таня будет пищать. У нее тоненький голосок.
– Можно двух мальков попросить у Кузьминичны, – сказал Юра. – Так интересней будет.
– Читаю дальше, – малахольно сказала Вера. – «Шестой: Люди на страже, люди не спят. Дети поют «Бухенвальдский набат». Седьмой…»
– Можно мы тут запоем «Бухенвальдский набат»? – спросила Тамара.
– «Бухенвальдский набат» – это замечательная советская песня, – строго сказала Вера. – Она у нас дальше в программе.
– А мы здесь запоем, – сказал Сережа.
Вера обернулась к Тоскину с вопросом, и он кивнул:
– Пусть поют.
– Хорошо. Здесь будете петь, – сказала Вера. – Читаю дальше. «Седьмой: Веселей зарю труби, трубач! Воинам славных побед / От имени нашего лагеря…» И все вместе: «Пламенный пионерский привет!» Теперь еще раз повторим текст, а потом будем разучивать песню…
– Ну что ж, – сказал Тоскин, наклонясь к Вере. – Очень мило. Вы тут поучите, а я пойду разработаю план…
Тоскин в последний раз взглянул на бледненькую и в бледности своей еще более нежно-припухлую Танечку. Она ответила ему смущенно и даже чуть-чуть испуганно, что пробудило в его душе некое победительное торжество. Тоскин встал и деловитой походкой направился в свое логово, чтоб предаться там мечтательно-литературным занятиям… Вот он шагает твердой походкой победителя по ночному лагерю, и Танечка, в пеньюаре, ну да, в ночном халатике, бросается ему навстречу: «Спасите, я больше не могу…» Она не может… Чего она не может? Не может более выносить дурацких разговоров в спальне, идиотических стихов, грубых штучек… Она прижимается к нему, прячется у него на груди…
Снаружи, за Достоевским, грянул хор. Вера начала спевку. «Красиво поют», – подумал Тоскин, пытаясь различить в хоре Танечкин голос. Один раз ему показалось, что он узнал ее, но он не был уверен в этом. Он подумал, что она поет, должно быть, тихо, чуть слышно. Однако вскоре Тоскин поймал себя на том, что, даже отчаявшись различить Танечкин голос, он продолжает вслушиваться. Лишенный в городе контакта с «теликом» и радиоточкой (и того и другого он избегал принципиально), Тоскин впервые явственно и разборчиво услышал здесь текст песни, любимой народом и рекомендованной для юношества:
Ты в тайгу пришел по сердцу, как по компасу,
Но едва огни взлетели над рекой,
Ты собрал своих орлов из первой комплексной
И увел на новый гидрострой.
Значит, время такое пришло,
Значит, ветер в дорогу позвал…
– Это черт знает что, – пробормотал Тоскин, который все же считал себя в душе писателем (пусть детским писателем), – это черт знает что…
Детские голоса звучали все задушевней:
И мечту твою ты выбрал,
А не выдумал,
И дорогу бесконечную свою,
Чтобы кто-то по-хорошему завидовал…
– Вот именно! – Тоскин даже вскочил с места, ибо здесь была разгадка художественной специфики времени. – «Выбрал, а не выдумал». Перед песенником лежал текст постановления, и этот шустряк-текстовик ничего не выдумывал (такое предположение было бы оскорбительным и для творца, и для человеческой фантазии), он выбирал из газеты пункты. И естественно, что вместе с пунктами к нему пришла газетная лексика, способ мышления, юмор. «По-хорошему», ах ты, падла…
– Ребята! – сказала Вера, – я вижу, что песню «Непоседа» знают все. Запомните, что это песня Яна Френкеля на слова Михаила Танича…
– Танич… – бурчал Тоскин, – это что же было? Натаныч. Или Танхумович. Непоседа – это прелестно. Это значит: беспокойные сердца, задумки, придумки… А ты… Кто ты? Ты просто завистник. Люди сочиняют простые и трогательные стихи для народа. В конце концов, лучше сочинять небольшие стихи за большие деньги, чем городить библиографический огород за девяносто рублей в месяц. А что такое твоя библиография…
– Все записывают, – громко сказала Вера, —
О славных делах добровольцев
В тайге, среди сопок и скал,
О честных делах комсомольцев
Поет молодой камчадал…
«Ну, послушай, какие честные стихи, – сказал себе Тоскин, – честные стихи о честных делах. Чуток примитивные, но, в конце концов, оговорено, что это поет молодой камчадал. Так что можно принять это даже за перевод с камчадальского. Рифма, правда, не новая, дежурная, но только одна, вторая же, право, недурна: скал – камчадал… Да, так припомним, что же случилось ночью, когда Танечка бросилась мне на грудь в ночном халатике? Что было?.. Ничего такого не было. Было ощущение тепла вот здесь, на рубашке…» Тоскин положил руку на рубашку, но почувствовал неуместное пробуждение плоти в другом месте. «Вот это уж совсем ни к чему, – подумал Тоскин, – придется смирять ее каким-то окольным путем…»
Он порылся в памяти. Повариха первой пришла ему на ум – недаром она все время тычет ему под нос свой бюст. Нет, нет, потом будет мерзко. Валентина Кузьминична с ее крупом тоже отпадает. Вот Вера Чуркина – прелесть, однако это все не так просто, она еще очень молода. О, извечная докука. Столько хлопот! Думать – и то обременительно… Тоскин привычно расстегнул верхнюю пуговицу брюк и опустил руку в промежность. И вдруг услышал тихий и робкий Танечкин голос:
В поселке, где к соснам прибиты скворешни,
Есть каменный дом небольшой.
Живет в нем совсем неприметная внешне
Девчонка с хорошей душой.
«Танечка, да, милая Танечка, – подумал Тоскин. – Тебе посвящается этот скромный холостяцкий акт любви. Ах, милая Танечка…»
Уж если влюбляться, пусть будет любимой
Девчонка с хорошей душой…
(А какие стихи! Истинный Асадов.)
Танечка кончила петь. Послышался монотонный голос Веры (что она, спит на ходу, что ли?):
– Запомните, ребята. Это была песня на стихи Игоря Шаферана. (Ах, какие стихи! Стыдитесь, Шатобриан! Браво, месье Шаферан!) А теперь нам надо выбрать что-нибудь боевое для открытия концерта. Что вы предлагаете? Так… Активности не вижу. Хорошо. Пишите:
Мысли пытливой нашей полет
В завтрашний день нацелен…
Упорно стремиться вперед и вперед
Учил нас великий Ленин.
И все вместе, ребята, припев:
Мечтать! надо мечтать!
Детям орлиного племени!
Есть воля и смелость у нас…
«А чего ты, собственно, хочешь? – спросил себя Тоскин. – Люди твердо стоят двумя ногами на почве реальной действительности, как говорил замполит в армии. Они создают свои шедевры под шум прибоя. И юные красотки с пляжа, раздеваясь у них в номере, благоговейно смотрят на машинку, стоящую на письменном столе… Жизнь дается человеку один раз, и надо прожить ее так… Вот они и стараются прожить ее так. Кто это, кстати, сказал? Горький? Островский? Да… Надо будет переодеть брюки…»
И здесь Тоскин вдруг услыхал Танечкин голос:
– Тут надо два раза, – сказала Танечка, – я хорошо помню. Я все песни Игоря Шаферана знаю. Тара-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра. И так нужно два раза.
– Начали, – уныло согласилась Вера.
И они начали:
Та-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра.
Возможно, что есть замечательный парень,
Грустить одиноко он тоже не рад.
(Ах нет, все-таки Асадов произвел на них на всех неизгладимое впечатление. А Танечка – прелесть, какая чистота…)
Возможно, механик,
Возможно, полярник,
Возможно, строитель,
Возможно, солдат.
(А может быть, и тот, и другой, и третий – все по очереди, потому что традиций группового секса у нас, кажется, нет. Впрочем, это мне так кажется, поскольку я отстал, вот лежу и в неудобной позе…)
Та-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра.
И очень возможно, пути их сойдутся,
Что часто бывает на этой земле,
Возможно, в Одессе,
Возможно, в Иркутске,
Возможно, в Тамбове,
Возможно, в Орле.
Последний куплет окончательно успокоил Тоскина:
– Возможно, в каждом из этих центров культуры, да, да, все будет, милая Танечка, но не сегодня, не здесь, моя трогательная, пухло-нежная, моя воздушно-осязаемая, прелестная. Не здесь и не со мной… А сейчас надо будет пойти похвалить их. Как я выгляжу? Ничего. На все сорок с лишком. Чуть томно. Но ведь так и положено творцу. Я творил. Я отдал силы. Сам Шаферан, наверно, выглядит не лучше после создания своего бессмертного шедевра «Та-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра…». Надо идти.
Тоскин вышел на крыльцо и в последний раз украдкой оглядел себя с ног до живота. Кажется, все в порядке…
* * *
На утренней линейке по правилам должен был присутствовать весь персонал лагеря. Вероятно, для того, чтоб начальство, окинув орлиным оком ряды, убедилось, что его личный состав готов провести еще один день пионерского отдыха в рамках дисциплинарного устава. Может быть, это имело и еще какое-нибудь, утилитарное или ритуальное, значение. Так или иначе, Тоскин еще в армии усвоил, что, кроме порядка и устава, есть еще традиции («У нас стало доброй традицией» – так начинают свои выступления даже очень большие начальники). И он постарался, чтобы его отсутствие на утренней линейке стало традиционным. Он брал на себя разнообразные и абсурдные поручения (чаще всего они исходили из самого высокого источника), чтобы во время линейки находиться где-нибудь в укромном месте – у себя в берлоге, под защитой Ф. М. Достоевского, в сушилке, за кустами, в овраге, даже в столовой. С него хватало и того, что он поневоле слышал из своего очередного укрытия надсадные команды вожатых, Славину неумеренную брань по поводу строевой выправки малолеток и их дисциплины, его полулегальные затрещины, а также воспоминания начальника, торжественные клятвы, заклинания, стихи, истеричные звуки горнов и нервную барабанную дробь при поднятии флага. При всей своей терпеливой беспринципности Тоскин был в некоторых вопросах все еще довольно нетерпим. Ценой некоторых материальных и моральных лишений он ухитрялся проводить свою жизнь в стороне от главного направления классовой борьбы, и, живя так, он с каждым годом все более убеждался, что теряет совсем немного (даже в сфере вожделенных, но скудных благ). Поэтому он иногда задавался вопросом, что же побуждает его сограждан к столь активному жлобству? И приходил к неизбежному выводу, что сограждан влекут не одни только выгоды. Чаще их подводит собственная активность, избыток энергии, направляемой в наиболее доступное русло. Граждане не виноваты (или не так уж сильно виноваты) ни в своей активности, ни в том, что единственно доступное русло именно таково. И все же созерцание Славиного жлобства, начальственного слабоумия, напыщенных ритуалов и климактерической педагогики Валентины Кузьминичны оставалось для него тягостным. Тоскин отважился даже однажды сказать об этом безответной Вере Чуркиной.
– Ой, это еще что, – взмахнула она тонкими белыми руками, – вот я на третьем курсе была в почтовом ящике в лагере – там целый день были эти линейки, репетиции, игры, отчеты…
Каждый раз, наблюдая за линейкой со стороны, Тоскин с удовлетворением отмечал, что он не принимает участия в этом первом утреннем насилии, и приходил к выводу, что армия все-таки не прошла для него совершенно бесследно: он хоть научился там сачковать.
А сегодня, слушая, как старший вожатый Слава с неумеренным ожесточением кричит на мальков, которые не умеют «держать равнение», Тоскин даже стал подумывать о том, что его берлоге необходима еще и звуковая изоляция. За этими мыслями его застигла повариха.
Захваченный врасплох, Тоскин не нашел ничего лучшего, как задать ей идиотический вопрос:
– Как вы меня нашли?
– Женщина всидда найдет, – сказала кокетливо повариха, для начала просовывая в дверь его берлоги свою огромную грудь. Она снисходительно отнеслась к горизонтальному положению Тоскина, но он тут же вскочил и предложил даме свой единственный стул. Он подумал, что в этом, конечно, есть определенный соблазн – в том, чтобы заняться с ней сексом под пение горнов, под четкие слова команды и бестолковое шелестение гравия, под рапорты и заклинания. Однако опасность перевешивала соблазны: потом она зажмет его в угол этой своей грудобрюшной роскошью и будет доить без устали, как жертвенного козла.
– Чем могу? – начал Тоскин вежливо и церемонно, и повариха сразу сдалась.
– По пять рублей решили, – сказала она просто, но, видя, что до него не дошло, пояснила: – Банкет по поводу открытия, решили всех без исключения сотрудников, даже сторожа позвать, для общей спайки.
Тоскин отдал (не без жалости) трудовую пятерку и остался в размышлении об омонимической и синонимической близости спайки и спаивания.
– Сторож, да, да, еще сторож… – припомнил Тоскин. – Вот, в сущности, член коллектива, чьи обязанности четко очерчены. Нет, конечно, его могут нагрузить, даже обязать (он тоже должен прятаться и как бы отсыпаться после бессонных ночей), зато его труд начисто лишен элемента педагогического, а это очень важно, когда работаешь в учреждении с идеологической направленностью…
Этого призрачного сторожа Тоскин видел только раз или два, в день приезда. Это был загорелый мужчина лет пятидесяти пяти, с короткими и густыми усами – истинный молодец-фанагориец (если уж словцо засядет в голове в нежную школьную пору, его потом не выкинешь – «ликвидатор наизнанку»).
«А ты вот никогда не решишься пойти сторожем, – попрекнул себя Тоскин. – Хотя бьюсь об заклад: жалованье то же… Что же тебе не позволяет? Снобизм? Кастовая гордость низкооплачиваемого интеллигента? Беззаветная преданность сортировке макулатуры?..»
Утреннее построение закончилось, смолкли трубные звуки, шаги, крики. Тоскин деловой походкой вышел, почти выбежал из своего логова и стремительно пересек лагерь, точно посланный по срочному делу кем-то очень влиятельным и полномочным. В лагере затевалась сегодня самая яростная суета, подлинная вакханалия суеты, ибо до открытия лагеря оставались считанные часы…
Должны приехать родители. Должны приехать шефы. Даже какое-то начальство из райкома. Последнее известие по каким-то совершенно необъяснимым причинам повергло всех в истинную ярость суеты и оцепенение страха. Причины были непонятны, ибо почти никто из персонала по-настоящему не зависел от положительных и отрицательных впечатлений, от милостей и гнева этого начальства. Ну, может быть, отчасти – начальник лагеря. И отчасти – Слава. Хотя, на более опытный взгляд, этого «отчасти», затрагивавшего центральный орган лагерного механизма, могло быть вполне достаточно для таких волнений. Тоскину всегда казалось, что суета эта объясняется скорее служебной нервозностью, абсурдным, неодолимым страхом перед начальством (это он мог понять) и, в еще большей степени, традицией армейских смотров, перенесенных начальником на мирную почву детского лагеря, чем истинной опасностью…
Медлительно ворочая в мозгу эти высокополитические соображения, Тоскин тем временем пересек территорию лагеря, выбежал на аллею героев и обмер. На мгновение утратив бдительность и чутье, он наскочил на военный совет. Начальник лагеря в окружении своих подчиненных стоял под портретом пионера-мученика.
– Кисти! – крикнул Тоскин, не снижая скорости. – Ищу кисти.
Он даже помахал для наглядности кистью руки и приготовился ускорить бег, едва будет получен разрешающий жест начальственной руки. Но рука начальника замерла, поднялась ко лбу.
– Так… Кстатин Матвеич… Берете половину младшего отряда и – на уборку территории. Так, первое: прочесать все поле. Второе: окурки. Корки. Бумажки. Очистки. Шишки. Третье: обрывки. Понятно?
– Разрешите выполнять? – спросил Тоскин, изумляясь легкости перевоплощения: он мгновенно перенесся на двадцать лет назад и почувствовал себя солдатом действительной службы в криво сидящей гимнастерке. И даже мысли его приняли истинно солдатский поворот: «Зигзагами надо было идти, кругами, по забору, а лучше отсидеться у себя, интересно все же, пуговка застегнута у меня на ширинке или нет…»
Тоскин получил от Валентины Кузьминичны в свое полное распоряжение полтора десятка отборных мальков. Маленький Сережа и его возлюбленная были среди них. «Воля и труд человека дивные дива творят», – напутствовала их Кузьминична. И уточнила без уверенности: «Кажется, Маяковский». «Когда кажется, – грубо подумал Тоскин, – надо креститься. И главное – молчать». Валентина Кузьминична вильнула им на прощанье крупом.
– Так, дорогие разведчики! – сказал Тоскин, млея от нежности к своим подчиненным. – Дорогие юные мстители из Эльдорадо. Мы пойдем цепочкой, подбирая что ни попадя. А затем, не замедляя шага, скроемся в кустах. А вот уж там, скрывшись с глаз, мы сядем в кружочек и будем… Что будем?
– Рассказывать сказки, – сказала плотненькая девочка, Сережина любовь.
– Умница! – сказал Тоскин. – Просто умница.
– Она очень умная, – подтвердил Сережа, и Тоскин подумал, что мальчик этот любит что-то уж очень по-взрослому.
Это и впрямь была неплохая идея. Они укроются в лесу и в самый разгар этой холуйской суеты будут рассказывать сказки друг другу. Надо только скорей смываться…
Они растянулись цепочкой и быстро пересекли поле. Тоскин завел их в чащу и усадил на круглой полянке.
– А куда это девать?
Сережа показал Тоскину окурок. Другие тоже потянулись к командиру. Они протянули ему обрывки газеты, клочки ваты, спичечные коробки, банку с застывшей алюминиевой краской (той самой, которой покрывают гипсовые статуи героев, спортсменов, пионеров и вождей), обгорелую палку, пакетик от презерватива, изготовленного на близкой всякому русскому станции Баковка Белорусской железной дороги…
– Это мы все зароем, – сказал Тоскин.
Они вырыли ямку и похоронили мусор.
– А теперь сказку, – нетерпеливо напомнила Сережина девочка.
– Кто первый? – спросил Тоскин.
– Вы первый, – сказал Сережа.
Тоскин схитрил и рассказал им кинофильм про мальчика, который попал к индейцам. Фильм был длинный, и Тоскин устал. Но дети хотели еще. Хотя по ходу рассказа выяснилось, что фильм они все видели и помнят его гораздо лучше, чем Тоскин.
– А теперь сказку, – сказала Сережина девочка.
И Тоскину все же пришлось рассказать им сказку. Обыкновенную сказку про трех братьев, из которых самый обаятельный и человечный был, как водится, дураком и лентяем. Тоскин вошел в раж, и уж он отыгрался на двух старших братьях, подхалимах, зубрилах, отличниках и стукачах, доставшихся нам от старого, феодального общества. А потом Тоскин прочел им детские стихи, которые помнил со времен своего собственного детства: «Жил да был крокодил…» В самой середине чтения он увидел Сережу и его девочку и вспомнил, что они хотят пожениться. «Надо отыскать дома эту книжку. Это будет прекрасный свадебный подарок: он истинный Ваня Васильчиков. Смотри, как они слушают, мои милые…»
Так успешно Тоскин не сачковал, пожалуй, со времени последней инспекторской проверки, в которой он принимал участие (в качестве инспектируемого) во время срочной службы, лет двадцать тому назад.
Как и все на свете, этот суматошный день, миновав самую высшую, самую жаркую точку, стал подходить к концу. Лагерь был открыт. Тоскин с ужасом вспоминал все эти хлопоты и треволнения – начиная с того странного, однако еще вполне сносного мига, когда он был выслан с пионерами в лес, на подъездную дорогу, чтобы машина «шефов» и машина «начальства» не только не сбились с пути, а, напротив, были остановлены и обласканы уже на дороге непреклонным и бдительным то ли «красным», то ли «зеленым» патрулем.
Потом были построения, перестроения (от которых Тоскин снова весьма успешно сачканул), потом было пение, и чтение, и концерт, и состязания… Тоскин из своего логова слышал, как Танечка читала «стих», рядовое произведение рядового поденщика, содержащее клятвы и заверения, сдобренные лежалой рифмой, вроде «народы – свободы», «клянемся – собьемся», «труд – поют»… Тоскин слушал с болью и нежностью и размышлял о том, может ли регулярное и длительное чтение таких стихов испортить удивительный рисунок ее губ, стереть самую их припухлость. По длительном размышлении Тоскин пришел к выводу, что, вероятно, все-таки может, но только не сразу, наверно, еще не скоро.
– С полувзгляда узнавать врага! – Танечкин голос зазвенел, оборвался. Послышались аплодисменты. Слушатели были согласны узнавать врага с полувзгляда. Они были окружены врагами, они росли с этим словом. Даже их гуманизм, их доброта были ненавистью. «Гуманизм – это ненависть к врагу!» Так сказал самый знаменитый детский писатель. Он не указал, что было главное в гуманизме. Вероятно, ненависть. Гуманизм – это ненависть. Но может быть, и понятие – враг. У гуманизма – враги. Он сам враждует. Вот и опять выходит, что главное для гуманиста – ненависть. Детский писатель был прав. Тоскин чувствовал, что еще немного – и его ненависть к детскому писателю переведет его в ранг настоящих гуманистов-каратистов… И он постарался отвлечься, прислушался к топоту на площадке. Там кончались торжества.
Потом Тоскин услышал, как Слава за корпусом яростно, не стесняя себя в выражениях, распекает черного чертенка Юру, допустившего какой-то неуважительный, а может, даже опасный поступок в присутствии высоких гостей. Чертенок защищался умело, он был и умнее, и красноречивее Славы. Разговор этот, вероятно, зашел в тупик и угрожал веселому чертенку затрещиной. Тоскин понимал, что следует выйти, чтобы показать Славе, что есть свидетели, однако это раскрыло бы Славе как нынешнее дезертирство Тоскина, так и место, где он обычно скрывается…
Когда после мучительных колебаний Тоскин все же решился выглянуть, диспут уже был закончен. Слава спешил к делам руководства – об этом говорила его атлетическая спина, обтянутая белой рубашкой. Чертенок убегал очень весело и на бегу даже скорчил Тоскину рожу: это значило, что Слава побоялся его тронуть в этот торжественно-небезопасный день, а моральной победы как существо умственно отсталое Слава одержать не мог…
Наконец все, даже спортивные состязания, даже раздача призов, флажков и грамот, даже подведение итогов – все подошло к концу. Удовлетворенное начальство разъехалось, день догорал, усталых, возбужденных детей повели спать. Они уходили, еще жуя конфеты, привезенные из Москвы, меняясь фруктами, автомобилями, иностранными монетами, жвачкой, марками, пистолетами и другими предметами, имеющими истинную цену.
Утомленные сотрудники потянулись в столовую на свой первый дружески-учрежденческий сабантуй. Стол был накрыт в отдельной комнате, о существовании которой Тоскин раньше мог только догадываться, видя, как по временам исчезают за таинственной дверью директор и представители разнообразных инспектирующих организаций (от пожарной охраны до педагогических методцентров). В этой потайной комнате стоял длинный стол, а стены ее, сиротливо обойденные лозунгами, были окрашены противной масляной краской. Однако стол превосходил все ожидания. Уже начавший привыкать к лагерному общепиту, малопьющий гурман Тоскин увидел здесь цельную, чисто вымытую редиску, свежие огурчики, блюдо салата «оливье», рыбу, полукопченую колбасу и другие исчезающие ценности. Мысль о том, что все это лишь отчасти оплачено, а отчасти все-таки «списано» и украдено у его питомцев, пришла к Тоскину позже, когда миновал голод и рассеялось недолгое похмелье. Пока же стол привлекал свежестью красок («Общепит заставляет нас забыть истинный, натуральный вид продуктов питания», – подумал Тоскин), звонким обилием посуды, незапятнанной чистотой скатерти.
Эта привлекательность стола вносила в предстоящее мероприятие (в сущности, малопривлекательное для Тоскина) некую нотку торжественной праздничности. Дамы постарались поддержать ее пестрыми, безвкусными кофтами и вечерними туалетами, нелепыми и как бы даже маскарадными, а также париками, лихо сбитыми набок будто кавалерийские папахи. Приятной неожиданность был лишь костюм Веры Чуркиной: она пришла в той самой очень коротенькой мини-юбочке, и от этого ноги ее, обнаженные до бесконечной длины, являли бесконечно волнующий контраст с нескладными пиджаками, кофтами и платьями старших. Славик и Валера явились в торжественных черных костюмах, на их атлетических фигурах выглядевших довольно жлобски. Поразил Тоскина (который явился в чем был, только застегнул, в порядке исключения, все пуговицы на ширинке) таинственный сторож, на котором – при всем прочем довольно небрежном облачении и телогрейке – был галстук-бабочка. О начальнике можно было сказать, что он был в штатском: несмотря на уже немалую, видно, жизнь, проведенную вне армии, его партикулярное платье все еще наводило на мысль о переодевании.
Повариха заканчивала на столе последние приготовления, и Тоскин не удержался от комплимента. И хотя это был комплимент сервировке стола, она приняла его близко к сердцу и начала активно бодаться грудью. Наконец все уселись, и Вера Кузьминична как профсоюзный, а может, также и партийный лидер предоставила слово начальнику.
Он встал, дождался тишины и начал очень-очень тихим голосом, что должно было придать особую значительность его словам (значительность, но не интимность). Он научился этому приему у кого-то из вышестоящих товарищей, и способ этот имел те преимущества, что люди, не расслышавшие ни слова, могли подумать, что они пропустили нечто воистину значительное.
Тоскин сидел рядом, слушал с интересом, расслышал все и был немало удивлен. Это был самый настоящий доклад профсоюзно-жэковского деятеля средней руки, приуроченный к какому-то неизвестному, но вполне официальному празднеству.
Начальник рассказал о победах страны в космосе, о злейшем враге всего нормального человечества – сионизме, о сказочном преображении Нечерноземья, а также о роли детей как пособников комсомола, который, как известно, является, в свою очередь, подручным партии… На этом месте, отдаленном от начала выступления добрым получасом, мысль его сделала неожиданный поворот, и он вдруг провозгласил здравицу руководителям районного комитета партии, отрезав себе таким образом путь к продолжению, потому что все стали чокаться, а сторож почему-то даже сказал:
– Горько!
Повариха, загодя занявшая место между начальником лагеря и Тоскиным, стала вынуждать последнего выпить стакан до дна, и Тоскин выпил. Пил он редко. При этом сразу пьянел, ненадолго, а иногда не пьянел вовсе. Сейчас он захмелел слегка и навалился на еду. Впрочем, наедался он еще быстрее, чем пьянел. Повариха часто привставала с места и, оглядывая стол, клала свою грудь на плечо Тоскина. Это не было для него неприятно – впрочем, не создавало и особых удобств. Он с сожалением думал о том, что на кухне, вероятно, царит климат, близкий к тропическому: в свои сорок она выглядела такой безвозвратно поношенной, как могут выглядеть только русские женщины, живущие на Юге.
Когда повариха, после пятого или шестого тоста (один из них, отчего-то для всех неожиданный – «За детей!», – был предложен самим Тоскиным), удалилась по делам на кухню, начальник вдруг доверительно склонился к Тоскину и сказал:
– Видели, какая у нее грудь? Склад ПФС.
– Да, да, склад продовольственно-фуражного снабжения… – ностальгически припомнил писарь комендантского взвода рядовой Тоскин и, точно услышав голос старшины («Рядовой Тоскин, вам касается»), робко пояснил: – Я, собственно, был по ОВС, по обозно-вещевому…
– Тысяча одна ночь. Вообще аппетитный бабец. Надо ее уеть, как вы полагаете? Я хотел вначале Валентину Кузьминичну, вон, поглядите, у нее зад какой, спинища, лошадь, конь с яйцами? А потом передумал – ну ее, по общественной линии, то-се, интеллигенция, педагог, только свяжись, как вы думаете?
Тоскин склонил голову, что должно было обозначать согласие с мыслями руководства по этому щекотливому вопросу. Если быть откровенным, он и впрямь считал, что начальству следует отодрать повариху, что она предпочтительней шкрабши. А главное, для него приятной неожиданностью (после помпезно-безысходного застольного доклада) показалось это простое, как мычание, и столь же искреннее изъявление начальственных мыслей. Боевой командир в двух словах изложил подчиненному (и притом со всем обаянием доверия) свою жизненную программу, не делая вид, что он способен на что-то другое (а может, и не подозревая о существовании другого), чем завоевал симпатию подчиненного. Тоскин уверен был, что темная, как ночь, первобытная Кузьминична никогда не поднялась бы до таких высот откровенности. Нет, конечно, Монтень не причислил бы военных к избранному народу крестьян и философов, но, право же, это был не самый тяжкий случай…
Неожиданно начались танцы. Слава и Валера вытащили на середину Веру Чуркину, и они втроем предались современной ритмической гимнастике. У них получалось совсем не худо, особенно у Веры. Ее длинные ноги волнующе прогибались и вздрагивали, волосы бились о бедра. Валера и Слава танцевали неплохо, может, чуть-чуть слишком спортивно, и Тоскин, в который уж раз за свою жизнь, посетовал, что не может достичь успеха ни в одной области, связанной с физическим совершенствованием и упражнением. Он завидовал сейчас Славе и Валере и немножко ревновал к ним Веру, хотя не связывал с ней никаких надежд и планов. Она была просто очень хороша и привлекательна в своей десятимиллиметровой юбочке, она даже волновала его, и было бы жаль, если бы она досталась сегодня (почему-то именно сегодня) этим жлобам. А это могло произойти совсем просто: Тоскин не мог себе представить, как она, такая сонная, пассивная и в то же время, кажется, сексуально возбудимая, станет сопротивляться.
Но жлобы, судя по всему, не проявляли никакой настойчивости. Они танцевали – вот и все. Когда они не танцевали, то для поддержания компании говорили тосты о дружбе, о пионерской чести – и глотали водку. Иногда они деловито о чем-то переговаривались, и Тоскин на мгновение заподозрил даже, что они гомики. Однако тут же с возмущением отверг эту гипотезу: даже в самом темном гомике можно обычно уловить какой-то, пусть совсем незначительный, элемент растления искусством (пусть это даже будет пристрастие к джазу, к кинематографу, куда уж ниже, или к художественной гимнастике). Эти двое были цельными и безупречными – как гипсовый пионер на аллее героев.
После восемнадцатого тоста Слава, закончив тайные переговоры с Валерой, повеселел и даже подсел к Тоскину с откровенным разговором: все-таки они были мужчины и соратники (Тоскину показалось даже, что он представляется Славе человеком переходного возраста – от сторожа и начальника к самому Славе), они были коллеги, борцы с анархической пионерской массой. Слава решил раскрыть Тоскину свое жизненное кредо, потому что считал это кредо достойным уважения, доказывавшим, что Слава был не какое-нибудь ничтожество, пропойца и вечный вожатый, а настоящий человек, и притом человек современный. Так вот, для него, для Славы, этот пост старшего пионервожатого (у него, если хотите знать, бывали лагеря и покрупней этого) был временным этапом – просто он, Слава, много занимается общественной работой и скоро уже вообще перейдет в райком. Тот парень, который здесь раньше был пионервожатым, теперь он уже завотдела в райкоме, так что у него, у Славы, программа вполне четкая – райком комсомола, потом дальше. Он человек простой, он любит компанию, а этот, который здесь раньше был старшим вожатым, он звонит и говорит, что запросто… Так что у себя в НИИ, где он наладчиком, Слава уже не появлялся, наверно, год, и этот, который тут был раньше…
– А давайте анекдоты рассказывать, – сказала вдруг повариха. И сама первая завела анекдот про какую-то там парижскую любовь, которая для всего цивилизованного мира, как известно, является образцом черт знает чего. Это самое черт знает что было таким мерзким, что повариха о нем знать не хотела и не знала, а что до ее анекдота, то он был самый детский и невинный, о длине мужского органа, а концовку его, самую соль («там была одна фраза, очень смешная»), повариха, конечно, забыла, да она бы ее все равно не смогла выговорить, потому что заранее начала смеяться. Услышав начало анекдота, Слава отмахнулся и перевел разговор на дисциплину в лагере.
Хаотическая масса пионеров, как уже и раньше подозревал Тоскин, представлялась ему враждебной, точно китайская армия, стоящая вдоль Амура. С этими мерзавцами надо быть строгим и беспощадным, потому что они уважают только силу. О, они не так просты, эти дети, они очень коварны, и нет таких пороков на земле, каких бы у них не было. Уж он-то, Слава, знает, как с ними обращаться…
Тоскин смотрел на Славу с искренним страхом, который сильно захмелевший уже Слава принял за признание и восторг, а их ему почему-то все еще не хватало…
Поварихе пришлось закончить свой рассказ: она так и не смогла припомнить смешную фразу, зато сама насмеялась всласть, причем начальник смотрел на нее с большим одобрением.
Услышав, что за столом снова установилось молчание, Слава сказал:
– А вот еще есть анекдот. Из школьной жизни. Чудак хотел пригласить десятиклассницу. Пригласил и не знает, как за ней ухаживать. То-се. Диск ей поставил фирменный. Мороженое купил, портвейн. Картинки на стол положил из журнала. Она приходит, пальто снимает, он смотрит – на ней школьная форма, ну, думает, все пропало, пионерский сбор проводить будем, это, говорит, зачем? А она: «Утром я от вас в школу пойду, это чтоб не переодеваться».
Смеялись добродушно и умеренно.
– Да, это точно, – сказала Валентина Кузьминична. – А вот еще – кто знает школьные приметы? Какой первый признак беременности? Не знаете? Уроки учить не хочется.
Тоскин, оглядывая присутствующих, вдруг с облегчением заметил, что начальника эти анекдоты не веселят, даже посуровел он как-то и вдруг сказал:
– Давайте, товарищи, споем какую-нибудь хорошую песню.
И Валентина Кузьминична, сразу отметившая, что она не попала в струю, первая затянула:
Среди зноя и пыли
Мы с Буденным ходили…
И по лицу начальника увидела, что угадала. Хотя ему уже не пришлось ходить с Лазарь Моисеичем Буденным на рысях на большие дела, он тоже был сын орлиного племени, над ним тоже реяло знамя интендантских боев, и поэтому он запел, а за ним дружно грянул весь коллектив воспитателей и сотрудников:
На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости…
«Интересно, о чьих костях идет речь? – размышлял Тоскин. – Вероятно, все-таки это про кости белых. Не стал бы поэт писать про кости красных, что они тлеют. С другой стороны, у красных кости тоже белые. Вот и дальше: «помнят польские каты»…»
Песня сменяла песню. Лязгали танки, и даже в самых сердечных песнях шумели моторы, потому что у людей этого племени был «вместо сердца пламенный мотор», без пощады била по врагу четырехколесная тачанка-ростовчанка, в светлую минуту произведенная на свет поэтом Рудерманом. («Бедняга, – подумал Тоскин, – больше он ничего не смог произвести, так и дожил до наших дней как автор этой стреляющей брички, впрочем, как и Всеволоду Иванову, писавшему потом еще добрые тридцать лет, пришлось умереть автором бронепоезда…»)
Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет…
Концерт затянулся, и Тоскин уже стал подумывать о том, как бы это уйти понезаметнее, когда повариха вдруг – вот, живая душа! – внесла в концертную программу долгожданные перемены.
– Выпьем! – крикнула она. – Давайте выпьем за нашего дорогого начальника… И давайте что-нибудь повеселей. А? Где гармошка? Давай, наяривай…
Она вдруг выскочила на середину, взмахнула салфеткой и пошла, неистово тарабаня каблуками в пол, точно желая насквозь пробить казенные половицы:
Э-эх! Милка с летчиком гуляла,
Вместе делала полет,
Через год она родила
Трехмоторный самолет!
И тут сорвался с места сторож, забил сапожищами в ту же самую, уже трепещущую половицу и заорал хриплым голосом, словно бы самой природой сотворенным для таких частушек:
Я по улице прошел,
Путной девки не нашел:
То брюхата, то с родин,
То подбитый глаз один.
Бабочка и сапоги придавали сторожу вид артистический, а частушка его вызвала одобрительную улыбку начальства, тем более что она шла в поддержку поварихиного тоста и ее почина. Видя это, сторож продолжал с видом невинным и даже как бы чуток сонным:
Я на печке спала
И чулки обоссала,
И сижу любуюса,
Во что же я обуюса.
Тут сторож даже придал себе какой-то кокетливой томности, как делал потом всякий раз, исполняя женскую партию, а повариха рядом с ним почувствовала себя вдруг такой чистюлей, такой девочкой и запела что-то уж вовсе анахроническое:
Не ругай меня, мамаша,
Не ругай грозно —
Ты сама была такая,
Приходила поздно.
– О-ох! – Сторож повертелся, потопал, взмахивая платочком, и ответил с жалобой:
Никому так не досадно,
Как моему Шурочке:
Сам на печке, хуй в горшечке,
А муде на печурочке.
Валентина Кузьминична со страхом и уже заготовленным возмущением взглянула на начальство, но оно не ответило на ее немой вопрос. Начальник брезгливо и упорно расковыривал банку с грибами: это было, конечно, опасное занятие – уж какой-нибудь из этих ненадежных, черных-пречерных грибов мог запросто отправить человека к праотцам…
Повариха зарделась, но не сдала позиции:
У меня на сарафане
Петушок да курочка.
Меня трое завлекали —
Петя, Ваня, Шурочка.
Она лихо взвизгнула, затопала и добавила еще:
Петя, Ваня, Шурочка,
Да я же вам не дурочка.
Сторож басовито поддержал эту сарафанную тему:
У тебя на сарафане
Петушок с цыплятами,
Девки моду поимели
Ночевать с ребятами…
Усыпив бдительность Валентины Кузьминичны, он страшно задолбил сапогами, а потом, остановившись перед ней, спел:
Запрягу я кошку в ложку,
А собаку в тарантас.
Повезу свою разъебу
За границу напоказ.
Валентина Кузьминична вспыхнула, а сторож, фасонно покружив, остановился на том же месте и продолжил:
Я на печке лежал,
Да на самом краешке,
Я схватился за пизду,
Думал, это варежка.
Валентина Кузьминична встала и нетвердо пошла к выходу. Это была достаточно заметная акция, однако все же недостаточно демонстративная с ее стороны, ибо начальство не давало никакого сигнала и по-прежнему ковырялось в грибах. Тоскин получил истинное удовольствие от смены репертуара, он высоко оценил отвагу и артистизм сторожа (он был здесь один истинный, шестидесятирублевый пролетарий, которому нечего было терять, кроме цепей), однако Тоскину жаль было Веру, которая краснела против своей воли и не знала, как ей себя держать и куда глядеть.
– Ладно, старый, кончай, – небрежно бросил Слава, оторвавшись от увлеченных переговоров с Валерой.
Но сторож не обратил на Славу никакого внимания. Зато теперь в бой бросилась повариха – и запела с торжеством (потому что соперница-то ее, вильнув своим завидным крупом, бросила поле брани, бежала, сдалась, ушла вместе со своими анекдотами, со своим законченным институтом и общественными нагрузками):
Меня милый изменил,
Изменил за дело,
Чтоб любила одного,
А десять не имела.
И сторож поддержал ее, напористо и нежно:
«Куда, миленький, уехал?»
«Дорогая, на Кавказ!»
«Дорогой, возьми с собою!»
«На какой ты хуй сдалась?»
– Мы, пожалуй, можем идти… Во всяком случае, можем пойти прогуляться, – сказал Тоскин, наклоняясь к Вере.
– Вы думаете? – Она почти опрометью бросилась из-за стола.
Тоскин стал пробираться за нею, а сторож еще басил им вслед про свой отъезд на Кукуй и в другие малоизвестные места, смачно посылая при этом свою милку куда подальше…
Ночь была прохладная, нежно-звездная, и Тоскину сразу стало жаль вечера, проведенного вдали от этого неба и этой вечерней прохлады – еще один вечер…
– А ничего было… Да? – спросила Вера. – Весело.
– Весело?
– Ну, так. Ничего, – сказала она послушно, давая ему понять, что ей, в общем-то, все равно, как было, и она вообще не настаивает на каком-нибудь своем мнении.
– Мы можем пойти погулять, – сказал Тоскин, разглядывая в полумраке длиннющие Верины ноги.
– Только надо в корпус зайти. Пионериков поглядеть, – сказала Вера.
– Да, да, идем, – согласился Тоскин, отмечая с волнением, как она прогибается на ходу, как плещут о бедра ее длинные волосы и ходит ходуном юное гибкое тело на длинных ногах.
У корпуса, когда она уже поднялась на ступеньку крыльца, он вдруг удержал, потянул ее руку и увидел, что она не может стоять, падает в его сторону. «Вот так будет, когда мы пойдем в лес, или в поле, или ко мне в комнату, – подумал Тоскин, – я потяну ее – и она сразу начнет падать…»
«А вы бы чего хотели, Котик? – спросил у Тоскина внутренний голос. – Вы бы хотели, чтобы она стукнула вас по личности?»
– Я пойду с вами, – сказал Тоскин Вере. – Посмотрю, как они спят.
В палате мальчиков стояла напряженная тишина, и, только выйдя на улицу, Тоскин понял, в чем дело: мальчишки не спали, только притаились и ждали, пока они уйдут. Девочки дышали ровно и разнообразно – верилось, что они спят. Тоскин вошел вслед за Верой, сделал шаг от двери и увидел спящую Танечку. Свет фонаря через занавески падал ей на лицо. Мягкие губы ее были полураскрыты, на нижней губе по-детски блестела слюна. Тоскин с трудом удержался от соблазна вытереть ей ладонью губу, поправить одеяло, дотронуться до плеча.
– Я, пожалуй, пойду, – шепнул он вдруг Вере.
– Хорошо, – сказала она покорно. – А я лягу спать. Устала. Вставать рано.
– Спокойной ночи, дитя мое, – сказал Тоскин, не зная наверняка, к какой из них двоих он обращается. Обе годились ему в дочери. – Дитя мое… – твердил он, возвращаясь. – Что за милое дитя. Мое милое дитя…
* * *
Жизнь вошла в колею. Тоскин, который в первые же дни составил обширный план эстетического воспитания, так порадовавший приезжее начальство, теперь наводил марафет «выполнения». Ему пришлось проводить «литературную игру», которую он рекламировал в своем плане под четырьмя разными соусами (и в четырех разных разделах плана): как «литвикторину», как «литературную игру», «литературный КВН» и «литературный марафон». Вера пыталась помочь ему своей методичкой, где была обозначена игра «Литературный КВН» и дана точная инструкция для двух соревнующихся команд Клуба Веселых и Находчивых:
«Ведущий указывает на обыкновенный пятачок и листок красной бумаги, на котором латинским шрифтом напечатан какой-то текст. Очевидно, это листовка. Одно слово ребятам удается прочитать: Батиста. Значит, листовка кубинская. Наконец одна команда догадывается: и листовка, и советский пятачок принадлежат Пепе – герою книги «Пепе – маленький кубинец» В. Чичкова. Отгадавший получает два очка».
Тоскин оказался в трудном положении, так как не был знаком с творчеством В. Чичкова. Тогда он решил вернуться к классике. Поначалу он решил использовать принцип, предложенный методичкой, и долго изображал перед Верой то «Анчар», то «Пророка», то «Три пальмы», то «Еврейскую мелодию»…
Вера сказала, что по-настоящему похожей была только битва с барсом из поэмы Лермонтова «Мцыри», но битва эта окончательно истощила физические и нравственные силы Тоскина. Он решил отказаться от театральных фокусов и пошел по пути наименьшего сопротивления. Он выступил перед пионерами в скромной роли чтеца. Аудитория была немаленькая, потому что Вера привела к нему весь отряд, строем.
Мне не к лицу и не по летам, —
читал Тоскин, —
Пора, пора мне быть умней,
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей.
И смотрел на Танечку. Губы ее были полураскрыты, глаза затуманенны. Впрочем, и остальные тоже слушали. Даже черненький чертенок сидел смирно. Даже полногрудая Танина подруга. Тоскин читал им любовные стихи, всякие романтические штуки и даже эпиграммы. От Пушкина он перешел к Лермонтову, А. К. Толстому, Саше Черному, Гумилеву, Пастернаку, отважился прочесть стихотворение Мандельштама… Это было поразительно – они слушали. И может быть, даже слышали. Он не мог поручиться, что они понимали и воспринимали все. Ну а кто же понимает и воспринимает все? Но что-то шевелилось в их душах, музыка стиха, заклинания Тоскина их завораживали. Даже старомодный рокот Державина, даже смиренная гордыня Баратынского… Это был полный успех.
Позднее Тоскин написал в отчете, что он читал стихи, посвященные эстетическому воспитанию трудящихся, развитию в них патриотических чувств и преданности своей социалистической родине. Он растянул это мероприятие (в соответствии с вышеизложенным) на четыре пункта плана и решил, что с избытком выполнил свой долг перед подрастающим поколением. Однако его педагогические усилия еще нужны были народу. Он убедился в этом назавтра, в полдень, когда дремал на лаврах в своей берлоге и предавался праздным мыслям о литературе.
Дверь его берлоги приоткрылась, и в нее просунулась поварихина грудь. Теперь, когда повариха больше не бодала его грудью по всякому поводу и не угрожала его сексуальному равновесию, когда она окончательно завоевала начальника лагеря, однако при этом не употребила во зло свое общественное влияние (и даже питание при этом не сильно изменилось к худшему), Тоскин стал гораздо терпимее относиться к этой простой, одинокой женщине. А она сохранила к нему почтительный интерес, видя в нем одном среди присутствующих черты интеллигентности и интеллектуализма, к которым так чувствительны женщины (даже те, которые не знают этих слов).
– Я вот посоветоваться, – сказала повариха.
– Да, да, пожалуйста, – сказал Тоскин, приводя в порядок свои брюки.
– Сережка-то мой жениться надумал, – сказала она и заплакала.
– Это вот маленький такой, Сережа, – на всякий случай уточнил Тоскин.
– Ну да, он, один у меня… – Повариха отерла слезу.
– Сколько ему? Девять?
– Восемь…
– Ах, восемь, – сказал Тоскин задумчиво. – Так чего ж тут плакать? Ранние браки… Я лично одобряю ранние браки. А-то вовремя не женишься и будешь вот… – Тоскин развел руками, и стало очевидно, что майка на нем рваная.
– Заверните мне чего надо перечинить, – сказала повариха и всхлипнула.
– Так вот я лично не вижу ничего худого… Я вот читал, что Неру… А может быть, Ганди. Это безразлично – так вот он тоже очень рано женился. Кажется, в девять. Конечно, тут возникают кое-какие трудности у родителей… Но в любом случае у родителей есть трудности.
– Прокормить-то я прокормлю, – сказала повариха, успокаиваясь. – С моей специальностью с голоду у меня не околеют.
– Вот видите, – сказал Тоскин. – Тем более плакать нечего. Ее, кажется, Наташа зовут, девочку? А может, и те, родители ее, тоже помогут…
При мысли о тех родителях горизонт омрачился. Повариха снова начала плакать.
– Это они узнают, что ж тогда будет… Каб оно от меня зависело… И начальник чего скажет? А Валентина-то Кузьминична…
– Да. Это будет ужасно, – сказал Тоскин. – Они умрут от страха. Но еще раньше они нам детей… Вот что самое страшное.
Повариха теперь плакала навзрыд. Положение было безнадежным.
– Они, конечно, могут еще десять раз передумать, наши детишки…
– Не. Он в отца, Сережка. Такой решительный. Отец вон сказал: «Жизни себя решу или уеду».
– И решил?
– Уехал.
Они долго и тягостно молчали. Боевая песня доносилась с линейки, где Слава проводил урок строевой подготовки.
– Я вижу один выход… – сказал Тоскин, и повариха с надеждой взглянула на него. – Это надо сохранить в тайне, – сказал Тоскин, чувствуя неудобство от того, что теперь он замешан еще в одну чужую тайну.
– Как же хранить, когда они, вон, пожениться хотят, – сказала повариха и сама испугалась своих слов.
– Пусть поженятся, – сказал Тоскин. – Так это даже скорее кончится, эта их затея… Или не кончится, – добавил он мечтательно.
– Ну и как же, чтоб не узнали?
– Надо сохранить этот брак в тайне. Они что, хотят – венчаться? Церковный обряд?
– Зачем? Что ж они дурнее нас, что ли?
– Да, да… – сказал Тоскин. – Мы не рабы. Рабы не мы. А как же они хотят?
– Расписаться. Как все. – И повариха заплакала. Она плакала долго и так безутешно, что Тоскин, не видя, чем еще он может остановить этот бесконечный поток слез, сказал:
– Ладно. Присылайте их. Пусть приходят. Я их распишу. Только совершенно секретно… И не надо. Не надо! Не за что меня благодарить. Я это вовсе не для вас. Ради них.
И, сказав так, Тоскин понял, что это чистая правда. И еще раз удивился тому, что чем меньше он думает, тем точнее он выражается. Тоскин не был слишком высокого мнения о своем интеллекте.
Конечно же, он сделает это ради них, таких взаправдашных и прекрасных.
Литературный труд выгодно отличается от труда композиторского, труда художника или скульптора: не нужен дорогостоящий рояль, не нужны нотные переписчики, не нужны холст, бумага, краски, светлая студия. Бывают литераторы, которым нужен стол, которые исписывают горы бумаги, стучат на машинке, диктуют в дорогие диктофоны. Тоскину даже этого было не нужно. Он творил лежа, так сказать, в уме. Но даже ему, как очень скоро выяснилось, трудно было найти на земле уголок, удобный для творчества. Ибо едва он улегся на подстилку в своей берлоге после полдника, едва он успел вознестись мыслью в далекий кабардинский кишлак, куда он приглашен был (поехал или не поехал? – это еще надо решить) на праздник обрезания (кстати, что они там режут, в конце-то концов?), едва он ослабил поводья реализма, чтобы его художественная мысль могла забраться в дебри истинной художественности, – как чей-то натужно-оптимистический голос закричал над головой у Тоскина:
Мы каникулы подарим деканату
И в пути на верхней полке отдохнем.
Это был голос очень упитанного мужчины, который много кушал и отдыхал, притом, конечно, не только на верхней полке. Это был голос жлоба, который не уступит и дня из своего законного отпуска. Впрочем, Тоскин понимал законы творчества: жлоб изображал нищего студента:
Позади – экзамены,
Впереди – экзамены,
Впереди, пожалуй, потрудней.
Нет, это как раз можно было понять (но не простить). Единственное, чего не понимал Тоскин, – это откуда взялся голос. Нет, Тоскин был не так малоразвит, чтобы не понять, что это радио, самое шумное, а потому (нет, не только потому) самое ненавистное изобретение XХ века, вестник дурных перемен. Тоскин не мог понять, откуда взялось радио у него над головой. Ведь его не было все эти дни. Тоскин решил выждать. И он не дождался ничего доброго. Сначала шла какая-то рифмованная информация под натужную музыку (натужным же голосом):
Реки гремят в турбинах,
В песнях любой машины —
Наш вдохновенный труд!
Дальше последовали искренние, но малохудожественные, хотя и высокооплачиваемые, клятвы:
Если ЦК нам скажет,
Если народ прикажет —
Жизнь отдадим мы даже,
Чтобы исполнить долг.
Потом хор пенсионеров грянул с большим задором:
Так нам сердце велело,
Завещали друзья…
Комсомольское слово,
Комсомольское дело,
Комсомольская совесть моя!
Диктор, точно желая снять с себя ответственность (наивному Тоскину почему-то всегда казалось, что дикторы стесняются своей работы), пробормотал, что стихи эти (ах, это еще и стихи!) были написаны Львом Ошаниным.
Тоскин понял, что это всерьез. Он выбрался из берлоги и увидел на крыше «серебряный колокольчик» громкоговорителя, не замеченный им раньше по причине его («колокольчика») немоты. Когда-то старик абсурдист Бернард Шоу сказал, что радио – величайшее изобретение века: повернул ручку – и оно замолчит. Из всех наивных суждений Шоу это было, пожалуй, самое наивное. При всей своей наивности (вообще, в нашей части света люди все-таки не опускаются до наивности западного интеллигента) Тоскин понимал, что радио бывает не так легко выключить: легче бывает или притерпеться, или оглохнуть. Оба разумных выхода вызывали в Тоскине протест, и он решил бороться. Вооружившись перочинным ножом, он отправился искать столб с предательским проводом. Он понимал, что то, что он задумал, есть не что иное, как диверсия. В худшие времена это грозило бы ему – страшно подумать, чем бы это ему грозило. Но и в наши, мягкие, прекрасные времена дело это могло пахнуть керосином – так что Тоскин подражал поступи команчей, хитрости маленьких партизан, ловкости прославленных красных дьяволят: сам Руслан Карабасов не провел бы операцию более успешно.
Однако едва Тоскин успел перерезать провод, как появился отряд Валеры, топавший в кино.
– Что-то случилось с радио! – крикнул Валера тревожно.
– Да, да, да, – лицемерно запричитал Тоскин и уже хотел отойти от столба, как вышел Слава.
– Безобразие! – сказал он. – Халтурщики. Только радио заработало как следует – и вот тебе… Уверен, что эта наша сволота, пионерики. Ух, поймаю – руки-ноги выдеру…
Тоскин поежился и пошел прочь. Боком. Пожимая плечами: отчего они так помешаны на этом радио? Может перегореть свет, засориться сортир, опоздать на два часа обед, библиотека может закрыться на десять дней для переучета предвыборной литературы – все что угодно, только не радио. Вероятно, когда играет радио, у этих людей сохраняется ощущение, что жизнь бьет ключом, что все в мире прекрасно. А здесь радио увеселяет пионерскую массу (снимая к тому же груз забот с тех, кто отвечает за этот участок борьбы), радио ведет агитработу, радио сообщает точное время и сегодняшнюю погоду лучше и точнее, чем это делают часы или проливной дождь… А главное в том, что эти люди умеют не слышать радио, даже если оно включено на полную громкость… Вернувшись в берлогу, Тоскин дал страшную клятву: он будет бороться с этим злом всегда, несмотря на опасности и технические трудности. Тоскин с детства ненавидел слово «борец». Однако если бы его назвали «борцом против радио» (где угодно, хоть в некрологе), он бы не обиделся.
В тот вечер Тоскин перерезал провод еще в двух местах. Один обрыв он сделал там, где провод проходил под землей, и он очень гордился этой операцией. В ее осуществлении ему очень мешали пионеры. В тот вечер в лагере было кино. Киносеанс был здесь мероприятием исключительным, и, если бы не радиопроблемы, Тоскин и сам взглянул бы одним глазком на экран, тем более что Слава за ужином так нахваливал фильм. Позднее Тоскина поразило, что так много пионеров слоняется по территории. Одного из них, упорно не желавшего отойти от Тоскина, который копал землю у столба, Тоскин спросил, про что сегодня кино.
– Про чекистов, – сказал пионер. – Чекисты под водой.
– Отчего не смотришь? – спросил Тоскин.
– Все ушли, – сказал пионер. – А я что, рыжий?
Тоскину пришлось прибегнуть к крайним мерам, чтобы остаться наконец одному у столба.
– Как фамилия? – спросил Тоскин.
Пионер начал отступать.
– Номер отряда… – Тоскин закреплял успех.
…Наутро он узнал о плодах вечерней активности пионеров. Им удалось разобрать на мелкие части кровать вожатого Валеры. С точки зрения Тоскина, в этом была только одна печальная сторона: ему не у кого было узнать, что же делали чекисты под водой.
* * *
Военная игра «Зарница», которую с таким шумом готовили начальник лагеря и старший вожатый, наконец разразилась. Из какого-то военкомата приехала машина, и пионеры стали радостно разгружать обмундирование х/б, противогазы и даже автоматы (Тоскин надеялся, что уже непригодные для убийства). Руководил этой операцией капитан с очень желтым лицом. Судя по цвету лица, это и был тот самый Геморрой, который ведал секретной частью в полку у Тоскина еще в пору его солдатской службы, двадцать лет тому назад. Геморрой приходил в полк раньше всех, запирался за дверью, обитою кожей, и появлялся только перед концом дня, желтый, с красными глазами. Так как секретные документы поступали в полк редко, полагали, что Геморрой спит там у себя, за толстой дверью. По здравом размышлении Тоскин вычислил, что тому Геморрою теперь должно было быть уже лет шестьдесят, так что это был все-таки другой Геморрой. К тому же этот Геморрой оказался очень активным, и это его стараниями Тоскин был поставлен во главе какого-то взвода, державшего оборону за картофельным полем, у канавы. Отсиживаясь в канаве, Тоскин рассказывал своим бойцам об удивительной жизни Сервантеса. Он уже хотел перейти к рассказу о Дон-Кихоте, когда вдруг началась атака.
Дети были возбужденны. Им нравилась война и нравилась армия. Если б они сохранили эту любовь, может, и военная служба показалась бы им желанной… У Тоскина не было желания выварить их в том же котле, в который когда-то угодил он сам. Он определенно желал им добра. Правда, он не мог бы сказать наверняка, что явится для них добром.
«Настоящий педагог должен это знать», – злорадно сказал внутренний голос Тоскина, заглушаемый радостной детской стрельбой.
Взвод Тоскина отстоял свой картофельный фланг и пошел сдавать оружие. По боковой аллее с маршевой песней шагал взвод Валеры. Возле лазарета Валентина Кузьминична ругала маленькую санитарку Наташу за то, что она извела на Сережу все бинты.
– Но ведь он ранен! – воскликнула Наташа, и слезы показались у нее на глазах.
Война окончилась. Были вручены призы и военные грамоты. Геморрой сказал речь, пожелав всем успехов в боевой и политической подготовке. Слушая его речь с закрытыми глазами, можно было подумать, что говорит начальник лагеря…
Потом лагерь стал затихать ко сну. Тоскин отдыхал на крылечке своей берлоги. Мимо пробежал возбужденный, счастливый Слава.
– Ну, мы повоевали, Кстатин Матвеич, а? Ну, мы дали жизни. Ваш взвод нынче молодцом. А что вы все один да один… Надо же отметить. – Слава был сегодня великодушен, и ему жаль стало одинокого чудака Тоскина. К тому же Тоскин, вероятно, показался ему человеком безвредным – не очень старый и безвредный, то есть почти свой. Заговорщицки наклонившись к Тоскину, Слава сказал: – Мы с ребятами собрались обмыть… Есть тут одна хата… – Слава неопределенно махнул в сторону оврага. – Можем вас взять…
– Спасибо! – сказал Тоскин, тоскливо ища причину для отказа. И вдруг просиял: – У меня что-то с животом нынче: несет, как из пушки… Дрист напал. Может, из-за войны.
Это был верный тон. Он отказался, но не перестал быть своим в доску.
– Глядите, – сказал Слава. – А то водочка, лучше нет при любой болезни.
– В другой раз, – сказал Тоскин, и Слава жизнерадостно побежал дальше.
«Значит, они там поддают, – подумал Тоскин. – Так я и думал. А что еще они могли придумать? Впрочем, и все прочие не смогли придумать ничего другого…»
Лагерь затих. Луна вскарабкалась на плоскую крышу столовой, посеребрила пионерку с горном, малолетнего вождя со стопкой толстенных книг, плечистую женщину с веслом. Тоскину вдруг стало грустно от того, что дети уже легли спать. Все-таки с ними не так скучно. Они украшают и оживляют мир своей красотой, самой своей жизнью, они под стать этому прекрасному миру, сотворенному Господом. А теперь вот они уснули, и бодрствуют только взрослые – безобразные, глупые насильники. Впрочем, нет, не все они так уродливы и агрессивны… Вера вот, кажется, не безобразна и не назойлива. Тоскин пожелал, чтобы она явилась сейчас, чтоб она догадалась и пришла сама. Словно в ответ на свое пожелание он услышал легкие шаги. Вернее, они даже не были легкими, они были только небрежными и неспешными. Но и легкими тоже. Человек этот умел ходить. Тоскин вспомнил, как ходит Вера, и ему захотелось, чтоб это были ее шаги. Ему даже показалось, что шаги эти – неторопливые, сонные… Тоскин в ожидании глядел на угол корпуса, за которым уже совсем рядом… Из-за угла вышел сторож.
– А, это вы? Добрый вечер! А я давно хотел с вами побеседовать, но вас не видно, – Тоскин говорил с нарочитой бодростью, чтоб скрыть свое разочарование. В то же время он не говорил и неправды, потому что из всех мужчин, которые были в прошлый раз на сборище, с одним сторожем у него возникло желание перекинуться словом, и Тоскин даже размышлял однажды о том, где же искать этого невидимого сторожа, где сумеют его найти потенциальные воры-грабители.
– А что ж, – сказал сторож. – Жить в соседях – быть в беседах. Отчего умным людям вечерком не побеседовать?
– Мне еще тогда… Помните… Когда вы плясали… Но там, все эти странные, глупые тосты…
– А-а-а, там, – сказал сторож. – Там чего ж… Каковы встречи, таковы и речи.
– Эта бесконечная, унизительная болтовня…
– Оно верно подметили. Чьи-то курочки несутся, а наши в крик пошли. Однако не все, что говорится, в дело годится.
– Да какое там дело? Где оно? – Тоскин впервые чувствовал единомышленника. – Кто делает дело?
– Оно тоже верно, – сказал сторож. – Крылаты курицы, да нелетны.
– А песни? – сказал Тоскин. – Про великого покойника…
– Да уж. – Сторож присел рядом с Тоскиным. – Славили, славили, да под гору сплавили. Хотя и оно верно: одного рака смерть красит…
– Но вот же у вас нашлись какие-то человеческие слова…
– Да, уж… Молчал-молчал да и вымолчал… Однако за такой беседой хорошо бы нам выпить. Да где взять? Взять-то где?
С рюкзаком за плечами пробежал Валера.
– Молодость рыщет… – сказал сторож. – Пора и мне, наверно. Сколько ни говори, еще и на завтра будет, а обнявшись веку не просидеть…
– У них, вероятно, есть… Чтоб вам выпить… – сказал Тоскин.
– Вот и я тоже думаю, – сказал сторож. – В поддаче больше удачи. Пойду-ка я их поищу. Спокойной ночи!
«Умный человек, – подумал Тоскин. – Разве среди этих недоучек встретишь такое понимание. Вот что значит – народная мудрость. Сейчас он откопает Славкину хату, подыщет несколько перлов народной мудрости, одобряющих этот вожатский разгул (да вот, этот, насчет поддачи, он уже заготовил заранее), получит свой стакан водки и молчок, шито-крыто, пойдет дальше. Спать, вероятно, пойдет… Надо и мне. Только бы уснуть. Что-нибудь почитать на ночь такое нудное».
Тоскин вспомнил третий том русского полного собрания сочинений Мао Цзэдуна (кто-то принес ему, подарил, потом кто-то и унес): вот это был текст – серый, как солдатское сукно, как панель, и такой же плоский – двадцать пунктов о соблюдении дисциплины командирами 6-й роты… Нет, не годится: сейчас, когда покойный Папа Мао стал кумиром вольнолюбивых западных интеллигентов, чтение это могло бы не усыпить, а растревожить…
* * *
Поутру Тоскин проснулся под звуки горна и ощутил беспокойство. Чтобы снять его, он настойчиво перебирал события прошедшего дня и обрывки сновидений, ища источник мерзкого ощущения и тревоги. Может быть, вчерашний Геморрой взбудоражил давнишние армейские впечатления. Нет, нет, а что же еще? И вдруг Тоскин явственно, почти наяву услышал голос Валентины Кузьминичны, отчитывавшей самоотверженную Сережину толстушку.
«Надо их навестить, – подумал Тоскин. – После завтрака навещу. Как бы они там не наделали глупостей…»
После завтрака Тоскин пошел к маленьким и нашел там мир и благоденствие. Кузьминична сидела на террасе и сочиняла отчет о проделанной работе, контролируя детскую жизнь через открытое окно. Детям она дала книжку из жизни перуанских мальчиков, угнетаемых американскими монополиями, и мальки читали ее по очереди. Нельзя сказать, чтоб занятие это их очень веселило: читали они не все быстро и не все складно, так что следить за судьбой маленьких рабов империализма было довольно трудно. И главное – нудно.
Тоскин с ужасом слушал суконную прозу, но вскоре заметил (испытав при этом облегчение), что мальки и не слушают. Более того, они разговаривают вполголоса о чем-то своем. Тоскин занимал выгодную позицию: его макушка не возвышалась над дощатым барьером веранды и Валентина Кузьминична его не видела; с другой стороны, угол веранды скрывал его и от детей, однако он был от них совсем близко и мог слышать, о чем они там бормочут. Он прислушался и узнал Сережин голос:
– Мысль – это не вещь, потому что ее нельзя взять в руки.
– Да? Не вещь? А тогда чем же человек думает? (Тоскину не видно было, кто был маленький материалист, но он терпеливо ждал Сережиного ответа.)
– Я не знаю очень точно. Наверно, человек думает кровью. Потому что я знаю: если человеку вскрыть вены, то человек теряет сознание. А сознание – это ум.
– Значит, когда ты не жил, ты не думал, правильно?
– Я всегда жил, – серьезно сказал Сережа. – Может, конечно, я был каким-нибудь зверьком. Например, я был кролик. Но я жил.
– А сознания у тебя не было. И ты не думал, вот. А кровь ведь у кролика есть.
– Почему же ты думаешь, что у кролика нет сознания? – возмущенно вскрикнул Сережа.
Уродливые локаторы Кузьминичны, торчащие из-под перманента, уловили этот всплеск человеческой речи.
– Разговоры! Разговоры! – сказала она. – Буду наказывать.
Тоскин решил, что самое ему время вылезти из укрытия.
– Они читают… Ах, как трогательно! – Он старался быть милым и обаятельным.
– А как же, у меня читают, я как-никак литератор… – горделиво сказала Кузьминична. – Что вас к нам привело? Какая звезда?
– Я хотел рассказать им что-нибудь, почитать… – сказал Тоскин, но тут же поправился: – Надо мероприятие. Литчас.
– Это прекрасно, – сказала Кузьминична и любовно, как художник, рассматривающий холст, поискала глазами графу, в которую удобнее вставить мероприятие. – Вы можете начинать. Я сейчас объявлю.
Не сходя со своего места, она зычно объявила, что сейчас будет проведен литчас, посвященный советской литературе.
– Ребята, все вы знаете… – сказала Кузьминична, и голос ее неосмысленно завибрировал.
«Вот так она вибрирует на уроках, – подумал Тоскин. – Часами…»
– Все вы знаете, что советская литература самая большая и самая передовая в мире. Например, Горький, Маяковский, Фадеев, Вадим Кожевников, Алексей Сурков. Только в нашей стране, как известно, существует великая детская литература. Каких вы знаете знаменитых детских писателей? А ну, вспомним! А ну, побыстрей, побыстрей! Вспомните свой список обязательного чтения…
– Баруздин.
– Правильно! Еще.
– Воскресенская.
– Молодцы. «Рассказы о Ленине», чьи еще рассказы о Ленине?
– Прилежаева.
– Еще?
– Юрий Яковлев.
– Еще.
– Феликс Лев.
– Ну, это уж я и сама… Достаточно, – сказала Кузьминична. – А теперь Константин Матвеевич вам расскажет…
Тоскин поскучнел и стал тасовать в памяти картотеку.
– Писатели – лауреаты Государственной премии, – сказал он, – Алексин, Носов, Дубов, Михалков, Барто. Чехов. Нет, не Чехов. Что же я хотел о Чехове?
– Каштанка, – сказал маленький Сережа.
– Спасибо, да, вспомнил. Чехов написал: «Так называемой детской литературы не люблю и не признаю. Детям надо давать только то, что годится и для взрослых. Андерсен, Фрегат Паллада, Гоголь…»
– Правильно. И он ошибался, – сказала Валентина Кузьминична, не отрывая глаз от своих графиков.
– Кто? Ах, Чехов. Да, он ошибался. Впрочем, Бернард Шоу считал так же…
«Черт, что я тут делаю, – думал Тоскин в отчаянье, – бедные мои мальки, до чего же я бездарен. Явился…» И вдруг его осенило.
– А теперь, – сказал Тоскин, – я расскажу вам сказку, написанную лауреатом Государственной премии писателем Берды Кербабаевым. К сожалению, она не напечатана в переводе на русский язык, и я не очень хорошо ее помню, но попробую ее рассказать своими словами…
И Тоскин завел длинную сказочную импровизацию на восточные темы. При этом он бессовестно крал сюжеты у Перро и братьев Гримм, переиначивая их на восточный лад. Это был беспроигрышный номер. Тоскин даже не мог припомнить, какой из цветущих братских литератур принадлежал этот Кербабаев. Однако он существовал и был лауреатом, за это Тоскин был готов поручиться (можно себе представить, что он там насочинял, этот Берды).
Мальки слушали сказку с таким сосредоточенным вниманием, что Тоскину порой становилось стыдно и он сбивался. Когда он заврался окончательно и сказка его зашла в тупик, он выволок на сцену птицу Рух (она же птица Симург), которая оживила героев, с тем чтобы Тоскин смог продолжить рассказ…
Кузьминична давно уже перестала слушать, и, только когда Тоскин умолк окончательно, она тряхнула головой, как лошадь, отгоняющая слепня, и подытожила:
– Ребята! Константин Матвеич познакомил нас с творчеством еще одного замечательного братского национального писателя. Вы должны знать, что только у советской литературы существует братская национальная литература, которая при царизме даже не имела своей письменности. Поэтому советская литература самая богатая и самая непобедимая в мире. Теперь, ребята, все вместе поблагодарим Константина Матвеича…
Возвращаясь к себе, Тоскин решил заглянуть к старшим. В палате девочек было пусто – никого, даже дежурного. Тоскин осторожно, на цыпочках бродил среди коек, на которых были аккуратно разложены пионерские галстуки. Тоскину смутно припомнилась «пионерская символика» его детства – каждый конец галстука должен был что-то символизировать – то ли союз рабочих и крестьян, то ли единство партии и народа. На переменах они хватали друг друга за галстук (между собой его называли «селедка»), требуя: «Ответь за галстук!» Отвечать надо было формулой: «Не трожь рабочую кровь, оставь ее в покое». Был еще апокрифический вариант ответа: «Не трожь рабочий класс, а то получишь в глаз». Интересно, что они говорят теперь?
Тоскин взял в руки один из галстуков и вдруг увидел, что он весь исписан чернильным карандашом: «Закрепи в своей памяти это первой любви пионерское лето». И неразборчивая подпись. Ну и наглость – пишут на галстуках! А вот еще надпись: «Милой подруге от подруги первой смены Люси». И еще знакомый стишок – «Люби меня, как я тебя…».
Тоскин сложил галстук и аккуратно положил на место. Да, это уже что-то новое. Раньше они ни за что не решились бы писать прямо на галстуке. Может, просто дети были бедней, а галстуки дороже. Нет, все-таки главное – отсутствие страха, пренебрежение… Но стихи-то, стихи. Восемь-девять классов школы точно прошли для детей безнаказанно. По-прежнему в ходу кич, бессмертные творения безымянных авторов. Что мы, собственно, можем возразить против кича: это тот же Ошанин или Асадов. Тот же Шаферан или Долматовский… С замиранием сердца Тоскин развернул Танин галстук. Чисто! Умница, лапочка, аккуратистка… Тоскин не удержался, приподнял подушку… – О, Боже! Там была кукла. Самая настоящая, немецкая голубоглазая идиотка… Значит, она еще играет в куклы. Или это просто сувенир? Надо спросить у Веры…
На крыльце загремели шаги. Тоскин выпрямился, пошел к двери. Вбежала пионерка. Начала рапортовать, еще не отдышавшись:
– Товарищ воспитатель! За время моего дежурства…
– Вольно, – сказал Тоскин. – Я, собственно, так… Зашел взглянуть, все ли у вас в порядке…
– А мы с девочками…
– Продолжайте, – сказал Тоскин, боком выбираясь из палаты. – Продолжайте. Не буду вам мешать.
* * *
Тоскин из-за угла наблюдал, как Верин отряд строем идет на ужин. Он еще издали увидел, как сгибаются при ходьбе длинные Верины ноги, как плещут и бьются о бедра ее волосы, как странной, тревожащей его волной прогибается все ее тело. Когда отряд поравнялся с ним, он стал искать взглядом Танечку, нашел ее чуть порозовевшую от солнца милую мордашку, увидел новые веснушки, проступившие на вздернутом, припухлом носике…
При этом он увлекся, забыл о бдительности и, выйдя из своего укрытия, попал на глаза начальству.
– Констатин Матвеич, – сказал начальник лагеря. – Зайдемте ко мне на минутку.
«Вот так, – думал Тоскин. – Стоит только ослабить пролетарскую бдительность… Хорошо теперь, если отделаюсь каким-нибудь простым заданием».
Тоскин заметил, что начальник ведет его не в лагерную канцелярию, а в свой коттедж, домой: значит, он придает разговору особенно важное значение. А может, все-таки обойдется. Может, наоборот, это знак расположения. А может, ему просто удобнее сюда после обеда и не хочется идти в кабинет, где его могут побеспокоить…
Войдя к себе, начальник позволил себе расслабиться и стал вдруг добродушным пожилым пенсионером.
«В сущности, он ведь не намного старше меня», – подумал Тоскин.
– Как насчет того, чтобы по маленькой? – Начальник достал бутылку какой-то прозрачной жидкости. – Любопытнейшая вещь. Местное. Это меня вчера здесь угостили. И я из чистого, так сказать, любопытства… Не хотите? Ну я тогда сам, с вашего позволения.
Тоскин украдкой разглядывал жилище командарма. Постель была аккуратно застелена, все вещи стояли на местах. «Вот что значит военная выучка, – подумал Тоскин. – Впрочем, может быть, повариха наводит порядок. Или уборщица».
– Я вот, собственно, о чем… – сказал начальник. – Приближается закрытие первой смены. Надо бы сделать композицию. С учетом, так сказать, нашей специфики. Я думаю, вы как человек литературный, вы много читаете, так что вы сможете написать, я даже не сомневаюсь. Хорошо бы, конечно, стихи… Так уж принято. Вот у нас в части был начклуба!..
«Для него чтение и писание – процессы равнозначные, – подумал Тоскин. – А может, он вообще никогда над этим не задумывался, это естественно…»
– У Веры Васильевны есть разработка закрытия, – сказал Тоскин солидно. – Но мы, конечно, сможем ее дополнить. Учесть специфику нашего лагеря и так далее. Даже есть стихи…
– Вот и прекрасно, – сказал начальник и налил себе еще стаканчик. – Напрасно вы все же не попробовали. Это ничего, что самогон. Зато это чистая вещь. Из сахара. А из чего там на заводе делают, этого нам с вами не скажут. Знаете этот анекдот: «И как ее пьют беспартийные?» Да-а… – Начальник потеплел и сказал доверительно: – А я ее все-таки уеб, повариху. Да. Она ничего…
«Что у него там на стене? – думал Тоскин, глядя в полутемный угол у занавески. – Портрет чей-то…»
Услышав паузу, он поспешно сказал:
– Да, это верно. Совершенно правильный шаг.
– Я тоже думаю, я не прогадал. Потому что кто? Кузьминична, она, конечно, лакомый кусочек, зад что надо, но она все ж таки баба партийная и, видно по всему, склочная. А у меня семья. Опять же, образование у нее, свяжись только. Кто еще? Вожатая? Дак она, во-первых, молода. И малахольная она какая-то. А во-вторых, простите меня, ни сиси, ни писи, а тут берешь – маешь вещь…
В комнате стемнело. Начальник протянул руку, щелкнул выключателем, и тогда Тоскин разобрал, что у него в углу на картинке. Там стоял во весь свой карликовый рост отретушированный до ангельской чистоты бывший любимый вождь и генералиссимус. Это был старый послевоенный плакат, над вождем реяло красное знамя с бессмертными словами: «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира!» А вокруг вождя был какой-то серый икряной фон. Тоскин пригляделся и увидел, что каждая икринка была человеческой головой, это были массы, те самые, что, подпирая гигантскую фигуру своего кумира, стояли и отстаивали…
«Стоим и отстаиваем, – думал Тоскин. – Истинная поэзия. Поэзия заклинаний! Иначе не убедишь. Сейчас у Кольцевой, возле Химок, написано: «Борьба за мир – дело всех и каждого». В том же стиле, но даже менее грамотно. Так, так… Значит, сердце командарма томится по прошлому. Или просто по идеалу, по святым и кумирам…»
– Она, знаете, оказалась заботливая такая. Всегда закусочку старается повкусней, не поленится, иногда даже на базар съездит… Хорошая женщина…
«А что поделать, – думал Тоскин, смиряя свою тоску. – Все ведь зависит от точки зрения. Откуда смотреть: со склада, из окопа, из тюрьмы… С одной – кровавый мясник. С другой – благородный вождь, учитель, полководец, благодетель, защитник народа. Вождь-утешитель. Вождь-потрошитель. Ну да, конечно, но ведь об этом тоже надо еще знать. А может, он не виноват? Может, он не знал? А может, он был обманут? Может, ему ничего не говорили? У людей есть потребность в идеалах. В кумирах. У тебя есть картинки дома? Нет? Значит, просто не нашел места. Не то бы непременно повесил кого-нибудь. Хемингуэя. Устарело? Эх ты, пижон. Ну, Исаича повесил бы, поновей. И побольше щекочет. А их усатый тоже щекочет – развенчанный император. Обиженный гений. И вот они вешают – по всей России. А уж в Закавказье-то, в Средней Азии – каждый сапожник в своей будке, каждый частник в своей машине: моя машина, мои боги. Каждый шофер в автобусе: хочешь не хочешь – терпи, все-таки вызов, своего рода фронда».
И вот вешают пастухи в горных кишлаках переснятые фотографии, купленные втридорога, вешают продавцы в сельмагах. Вешают даже представители репрессированных, безжалостно раздавленных наций – балкарцы, карачаевцы, чеченцы… Вечная история, старая, как мир. А что, гран Наполеон был меньшая сука? И если юный Лермонтов оплакивает рухнувшего кумира, что ж тогда говорить о грузинском торговце, таджикском пастухе или бедном командарме. Командарм помнит, что с этим именем на устах он одержал все свои интендантские победы в суровые годы войны…
– Но я вам, между прочим, скажу, – вдохновленный мечтательным вниманием Тоскина, начальник склонился к нему через стол, – я вам скажу, жене моей, Зинаиде, скоро пятьдесят шесть, а она не хуже, нет, поверьте моему слову, и тело у нее не хуже…
Тоскину не о чем было больше просить судьбу. Он проник в святая святых, в семейный альков командарма, он был выделен, отмечен и приближен. Он был удостоен и обласкан. Он мог теперь почивать в берлоге. Он благодарил за угощение. Он прощался.
– Ты заходи, Кстатин Матвеич, – звал его добрый командарм, – ты мужик простой. Как всякий настоящий ученый. Вот у нас замполит был – две академии кончил, а тоже простой…
Тоскин гордо шел назад, увенчанный академическими лаврами, однако, увидев издали Славу, он вспомнил армейскую мудрость о том, что большой начальник еще не может гарантировать тебе полной безопасности, так что он обошел краем лагеря и благополучно добрался до своего логова, где укрылся под сенью Дзержинского и Достоевского. Он мог отдаться любимому делу. И любимому безделью. Больше отдаться было нечему. Честно говоря, безвыходность ситуации несколько томила его. Томил наступивший вечер. Томила утрата дня, бесперспективность ночи… В этот момент он услышал голос Веры Чуркиной:
– Ребята! Вы что, отбой не слышали? Вас что, не касается?
И лексика, и синтаксис ее речи противоречили безвольной мягкости ее голоса, ее тону, ее вялому безразличию. Где же ей было справиться с этими дьяволятами? Тоскин встал, натянул брюки.
«Обрати внимание, – говорил он себе при этом. – Никто сейчас не мешает твоей литературной работе, никто не отвлекает тебя…»
«Неправда, – сказал внутренний голос Тоскина, – дьявол отвлекает меня. И ясно, к чему он клонит. А если ему не подчиниться, он к ночи еще не такое учинит».
«А что он может учинить? – подумал Тоскин, наспех застегиваясь. – В конце концов, мастурбация не такое уж большое зло с точки зрения социальной, да и моральной тоже, куда меньшее, чем все прочее… Кстати, забавно, что этот внутренний голос вовсе не является голосом моей совести – скорее даже наоборот…»
– Мальчики! – сказал Тоскин, выходя на крыльцо и придавая своему голосу максимальную грубость. – А ну, быстренько в палату. Не заставляйте Веру Васильевну повторять два раза.
– Двадцать два, – начал черненький бесенок, но сник под взглядом Тоскина и повернул к палате. Остальные побрели за ним, перешептываясь.
– Что вы делаете, когда они уснут? – спросил Тоскин у Веры.
– Они уснут? – удивилась девушка. – Да я раньше ихнего засыпаю. Они всегда ждут, девчонки, пока я усну.
– А потом?
– Не знаю. Потом убегают, наверно…
– Вот и вы убегите, – сказал Тоскин, стесняясь своей неуклюжести.
– Сюда? – спросила Вера покорно.
– Хоть бы и сюда.
– Хорошо, – сказала она. И пошла к своему отряду.
Тоскин с волнением смотрел на ее спину (Боже, как прогибается ее спина, вот-вот переломится), понимая, что теперь, до самого ее прихода, он места себе не найдет. Ну, а потом, что будет потом, после ее прихода, зачем это все, и надолго ли это его займет – через сколько часов это станет ему скучно?.. Он с удивлением обнаружил, что его чувство к Танечке, да что там, можно уже сказать, его любовь к Танечке была гораздо более перспективной: именно вследствие своей бесперспективности, своей безнадежности, своей неисчерпаемости… Боже правый, что за странные наступали для него времена, что за странные штуки выкидывал с ним возраст…
Она пришла через час, Тоскин взял ее за руку и повел в сторону леса, как будто там, в лесу, была меньшая опасность, чем здесь, в его берлоге. Впрочем, опасность чего или для кого? На эти вопросы он не смог бы ответить, но, касаясь на ходу ее тела, понимал все яснее, что то, чего он ждал и чего отчасти опасался, неизбежно и это неизбежное случится, должно быть, даже сегодня. Она еще бормотала что-то на ходу – про своих пионериков, что они там притаились и, конечно, не спят, беда с ними, за что ей это наказание, и он, вероятно, утешал ее, а может, и молчал, потом ему трудно было вспомнить, что он делал тогда, во всяком случае, у них было ощущение сообщничества и близости, взаимного сочувствия и взаимной симпатии: это было не просто физическое влечение, нет, это было совместное одиночество, неизбежный выбор и соединение, единственно возможное в этой многолюдной пустыне…
Как он и ожидал, она была покорной, прижималась к нему со стоном, когда он обнимал ее, потянулась за ним, когда он потянул ее за собой – куда-то вниз, на мхи и кустарники, вскрикнула, оцарапавшись, и поздней еще раз, когда они лежали вместе, а потом успокоилась, прижалась к нему и, хотя не ощутила очень уж многого, все же была послушной и в меру нежной, тоже как он ожидал…
Они шли обратно. Его страх проходил, он чувствовал, что их близость не отдалила его от нее, что Вера не наскучила ему и, возможно, не скоро наскучит. Может, потому, что она молчала, была отзывчивой и покорной, не отягчала его слух и совесть, не теребила его, не бормотала лишнего (Боже, что за требования были у него теперь к женщине, что за странные, извращенные требования, удивлявшие даже его самого!).
А потом, уже возле корпуса, она сказала:
– Спокойной ночи! Побегу погляжу, как там мои пионерики.
И убежала – ушла совсем, исчезла, скрылась из виду, не оставив ничего в мыслях и воспоминании, только легкость, освобожденность, свободу, блаженную пустоту. В эту пустоту хлынули усталость, сонные мысли о Танечке, ее коротком, чуть вздернутом припухлом носике, уже опаленном солнцем, о ее мягкой, тающей, припухлой фигурке, теплой, чуть влажной ладошке и даже ее идиотке-кукле. То, что произошло у него сегодня, не отдалило его от Танечки, а, напротив, скорее даже приблизило к ней, и, засыпая, он думал о том, что должен быть за это благодарен Вере.
А наутро он проснулся под бодрые крики возле умывалки, долго вспоминал, что с ним случилось – или, может, приснилось – плохого, но не припомнил ничего, а все же была какая-то тягость, может, оттого, что ныло сердце, тянуло левую руку, а может, оттого, что он снова на сколько-то золотников греха отягчил свою совесть или что там еще в человеке (что-то очень материальное, очень реальное), что принимает на себя всю тяжесть, накапливаемую в пути. И тогда он стал вспоминать Веру. И стал гнать от себя тяжелые мысли – ведь им было хорошо вчера, и она так мила, так ненавязчива, да и человечек она в общем-то неплохой. Тоскин оделся в тесноте своей берлоги, скатал и запихнул под стол матрац, вышел на крыльцо, увидел дальнюю зелень оврага на краю картофельного поля, где он рассказывал о Сервантесе своему взводу, – и ему стало хорошо. Потом он привычно опустил взгляд на ширинку, как всегда, конечно, не застегнутую, и увидел пятно. Темное пятно. Скорей всего, кровь. Что-нибудь случилось с ним? Нет, ничего. Кажется, ничего. Значит, она… Он вспомнил, как она вскрикнула вчера, – черт, почему же она ничего не сказала, ни до ни после, главное – до…
Тоскин вернулся, чтобы переодеться, и сам не заметил, когда это раздражение против нее сменилось жалостью, нежным сожалением, покровительственно-ласковым снисхождением – дурочка бессловесная, кто повел, тот и успел…
Позднее Тоскин остановил Веру, которая задерганная, злая, в наспех натянутой на плечи кофте вела свой отряд на завтрак, и сказал со всей добротой и нежностью, на которую был способен, сперва громко для всех: «Я сегодня приду к вашим ребятам, Вера Васильевна. Вы на речку? Вот вместе и пойдем… – а потом вполголоса для нее: – Вечером вы опять ко мне, хорошо?» И она кивнула («Боже, да она разве умеет отказывать?»), но кивнула едва заметно, так что он остался стоять, терзаясь неясностью и успокаивая себя тем, что еще будет у него время все выяснить.
Однако сразу уйти на речку вместе с Вериным отрядом Тоскину не удалось. И не только потому, что сегодня он еще должен был отдать пионеру-художнику материал для редко кем читаемой и никому на свете не потребной белиберды, именуемой «стенгазетою» и занимающей почетное место среди прочей как бы добровольной, неоплачиваемой белиберды, которая повсеместно называется «работой», однако с присовокуплением двусмысленного эпитета – «общественной работой» (по давнему наблюдению Тоскина, общественная работа, которая по идее должна была отличаться от всякой другой бессмысленной работы своим воистину бескорыстным характером, все-таки оплачивалась так или иначе, иногда даже весьма высоко: освобождением от непосредственных обязанностей, бесплатными путевками и веселыми семинарами в домах отдыха, даже льготными заграничными поездками). Тоскин с чистой совестью включил выпуск стенгазеты в обширный план своего трудового марафета.
Впрочем, не только эта малообязательная возня со стенгазетой задержала сегодня Тоскина: неожиданно заявилась повариха, а с ней Сережа и его девочка. Тоскин понял все и поспешно увел их из пионерской комнаты к себе – под сень Дзержинского.
– Что? Стоит на своем? – спросил он повариху дорогой.
– Что же я с ним поделаю? Он у меня один…
Тоскин сочувственно похлопал по плечу Сережу, сказал:
– Разве это главное – расписаться? Главное, чтоб вы двое это знали, чтоб дали слово друг другу и сдержали его. Это важней.
– Мы хотим расписаться в книге, – сказал Сережа, – у вас есть книга?
«Ну что ж, – подумал Тоскин, – в жизни почти каждого мужчины бывает этот необъяснимый момент, когда ему хочется расписаться. И редкий мужчина сможет вразумительно объяснить, на кой черт ему это нужно, именно это… Чего ж требовать от мужчины малолетнего?»
– Чего доброго, – сказал Тоскин, – а книга-то найдется.
По приезде в лагерь ему выдали несколько огромных Книг учета и Книг регистрации. Вероятно, это был щедрый подарок шефов. В Книгу регистрации клерки шефствующего предприятия, вероятно, вписывали какие-нибудь виды полувоенной продукции – Бог его знает, что они там вписывали, эти клерки. А может, книги эти давно устарели (была инструкция перейти с формы 535 на форму 813) и томились на складе. Тоскин вписал в эту книгу под номером один Сережу и Наташу, потом дал им расписаться.
– В чем теперь ваш долг, вы знаете? – спросил Тоскин.
– Заступаться друг за друга, – сказал Сережа.
Наташа покраснела, потом подняла голову, сказала:
– Любить только друг друга. И ни с кем другим не играть. А можно с другими играть?
– Наверное, можно, – сказал Тоскин. – Но Сережа прав: всегда заступаться друг за друга.
Повариха всплакнула.
– Обойдется, – сказал ей Тоскин сочувственно. – Они очень милые.
– Да-а-а, обойдется, а если эта сука пронюхает, кобыла проклятая…
– Может, еще не узнает, – сказал Тоскин. – Бог не выдаст, свинья не съест.
Она убежала, сунув ему в руку пакет с пирожками.
«Вот и гонорар, – подумал Тоскин. – А я ведь еще успею на речку…»
Как всегда, выйдя на бугор, за ограду лагеря, Тоскин поначалу долго озирался, кружил на месте и размахивал руками, как птица. Потом предался сожалениям о потерянном времени. Все время, которое он провел не здесь, не на этом бугре и не в этом лесу, не озираясь, не нюхая, не кружа на месте, не умиляясь, – все это время было для него потерянным, а осталось так мало, ах, как мало оставалось ему времени здесь, на земле среди этой вот красоты…
Купание уже было закончено, и пионеры бродили по берегу. Первыми Тоскин встретил Танечку и ее подругу Тамару. Они шептались в одиночестве, за кустами, и Танечка взглянула на Тоскина опасливо, недоверчиво, а Тамара, напротив, с вызовом, и Тоскин подумал, что скоро уже, скоро эта девочка начнет бодаться, как повариха. Не меньше как четвертый размер… Танечка выглядела усталой, под глазами у нее были круги, и у Тоскина сердце защемило от жалости.
– А ну, честно, есть хочется? – спросил Тоскин. И протянул девочкам по два пирожка. Они взяли, как будто бы неохотно, но тут же начали есть.
Тоскин понял, что говорить с ними с двумя он не сможет, что молчание становится тягостным, а им так хорошо было секретничать без него. И он пошел дальше, унося с собою печаль.
Чуть повыше, над берегом, на бугре сидела Вера, наблюдая сверху за своими пионериками. Тоскин подошел, угостил ее пирожками, присел рядом. Он внимательно посмотрел на нее сбоку – она была такая сонная, беззащитная, так потерянно оглядывала берег. Тоскину показалось, что любой из пионериков может подойти и обидеть ее. Он сказал:
– У вас что, никого не было до меня?
– Нет.
– Первый раз?
Она кивнула, не глядя на него.
– Почему же вы мне не сказали?
– Я думала, вы знаете…
– Нет, я не знал. Если бы знал… – Он осекся. Не нужно говорить этого. Ничего не надо говорить. Надо пожалеть, приласкать. Но она, кажется, не хотела, чтоб ее жалели. Может, ей все это было безразлично. Тоскин подумал вдруг, что народилось целое поколение таких вот полусонных, слабых, бледнолицых, безразличных к себе и другим.
– Вы огорчены?
Она пожала плечами. Кажется, нет, не очень. Точнее, она не знает еще, должна ли она огорчаться. И она не получила никакой радости. Это очевидно.
– Вы такая милая… – сказал Тоскин. – Все будет прекрасно.
– Эти вот оглоеды, – сказала Вера, – не знаю, что делать… Сегодня утром вышла и гляжу…
– Вервасильна! – крикнул черненький чертенок. – Обед скоро? Есть охота.
– Надо идти, – сказала Вера.
– Так вы не забудьте. Я жду вас, – сказал Тоскин.
Она ответила:
– Угу.
Отряд потянулся к лагерю. Тоскин, оставшись один, предался праздным размышлениям. Он думал о том, может ли быть что-нибудь существеннее и прекраснее летнего среднерусского пейзажа: березы над рекой, пронзительная зелень июня, скромные цветы, безмятежная чистота этой мелкой речушки, кладбище за бугром, без гранитных излишеств, зато с большими ивами и березами… И коровья истома. И пяток бревенчатых избушек невдалеке от моста. И птичий щебет. И след длинных Вериных ног на примятой траве. И детский смех вдали. И тишина. Прекрасней ли этого, скажем, самая прекрасная заграница? Это был праздный вопрос, ибо Тоскин никогда не был за границей, и все неведомые заграницы представлялись ему прекрасным путешествием, а ничто не заменит путешествий. И все же оно всего лишь экскурсия. А эта вот речная красота – твой насущный хлеб. И она, должно быть, точь такая же во Франции и такая в Германии – только бы иметь ее досыта. Ее, да еще свободу передвижения. Не захотел здесь – уехал за реку. Без свободы все сразу может опостылеть, ибо трудно будет отвлечься от одной-единственной язвы – несвободы. Тоскин вспомнил свою собственную армейскую службу в виноградной долине, у подножья двуглавой снежной горы. Пушкинскую ссылку в живописном Михайловском…
«Обедать не пойдем», – решил Тоскин. Он сжевал последний пирожок и повернулся на спину.
Облака плыли над головой. Непостоянные и вольные. Пересекали границы районов, областей и даже стран. Никто их даже не обыскивал на границе как следует, и это было, конечно, упущением властей. С обеих сторон.
Во время ужина Тоскин попытался осуществить очередную радиодиверсию. Радио в лагере чинили с большой оперативностью, и днем его разнузданные крики долетали даже на речку. Начальник, установивший в своем скромном алькове радиолу и слушавший по ночам то пекинские, то парижские передачи (нет нужды уточнять, что по-русски), конфиденциально сообщил Тоскину, что где-то на Корсике какие-то там националисты или террористы взорвали телецентр, и Тоскин (как русский интеллигент семидесятых годов не одобрявший ни террористов, ни националистов) подумал, что все-таки его здравая идея овладевает массами. Однако на Корсике или где там жили буржуазные раззявы, а в краю поголовной бдительности диверсанту приходилось куда труднее. И сегодня, всякий раз, как Тоскин с ножом подступал к проводу, кто-нибудь возникал – из кустов, из сортира, из столовой, из сушилки… Наконец в самый ответственный и самый отчаянный момент перед Тоскиным вдруг (неизвестно откуда) возник сторож со своей берданкой и сказал невинно:
– Покурить не найдется, Матвеич?
Тоскин извинился и подумал, что какой он, должно быть, никчемушный человек, с точки зрения сторожа: ни закурить у него, ни выпить, и еще покушается на провода – у Тоскина не было сомнения, что сторож об этом знает. Тоскин наблюдал, как сторож вытащил грязный кисет и стал набивать трубку, приговаривая:
– «Вынул дедушка свое ремесло, засадил туда, где шерстью заросло». Это ты думаешь что, Матвеич? Не. Не то думаешь. Это, милок, трубка. А во еще: «Повыше коленок, пониже пупа. Куда суют. Как зовут?». А, как зовут, Матвеич? – Тоскин пожал плечами. – Карман. А вот еще… – Сторож хитровато прищурился, внимательно наблюдая за Тоскиным. – «Стоит девка на юру, ращепила дыру, кто мимо идет, тот и ткнет». А? Думай, думай, Матвеич. Ладно. Ты уж невесть что и подумал, а это колодец. Ну, еще тебя испытаем, про что ты думаешь. «Черный кот матрешку трет. На матрешку вскочит, еще захочет». Ну-ка, ну-ка. Ладно, это я тебе подскажу, потому что это из женского обихода: сковорода это с метелочкой, а вот еще оттуда же, теперь тебе полегше будет… Только ты все не туда думаешь, а? Вот. «Брюхом трет, ногами упрет, расщеперится, втолкнет…» Вот это сам думай, это не подскажу…
И сторож ушел, а Тоскин остался в размышлении. И мучил его вовсе не загадочный предмет, который трет брюхом, а совсем другое: что имел в виду сторож, изливая на него этот поток народных двусмысленностей, что он знал, этот человек, шаставший ночью, как тень, что он мог знать, на что намекал…
Вера пришла к нему сразу после отбоя, и случилось то, чего он вовсе не ожидал: ей было хорошо с ним – это бесконечно разогревало его, и оба они нашли забытье в занятии, которое теперь являлось для Тоскина чаще поводом для беспокойства и докуки, чем для истинного удовольствия. Опустошенные, измученные и сближенные этой нежданной радостью, они лежали, раскрывшись, в берлоге у Тоскина, изредка переговариваясь, – и он выяснил то немногое, чего по лености не узнал о ней раньше: что ей был двадцать один и что через год она станет училкой. Что ее вовсе не расстроило то, что вчера с ней случилось, потому что раньше или позже это должно было случиться, а подруги ее уже все успели давно. И что он, Тоскин, ей понравился с первого дня, потому что он такой умный и при этом не пьет. И что в лагере ей приходится очень трудно, потому что пионерики не слушаются, а начальник все время говорит, что придется за них отвечать. В этом месте разговора Тоскин уже начал погружаться в сладостный, волной наплывающий на него сон изнеможения, и он пробормотал, уже сквозь сон, что непременно за нее заступится, что он ее в обиду не даст, потому что начальник – мужик, в сущности, неплохой, так что он… Тоскин не слышал, как она оделась и ушла, и был очень благодарен ей за все, и за это сострадание к его слабости тоже.
Днем Тоскин с разрешения Валентины Кузьминичны провел у маленьких занятие по зарубежной литературе. Кузьминична предупредила его, что это не входит в школьную программу, однако на всякий случай с аккуратностью занесла его тему в свой журнал мероприятий. Опасаясь противодействия, Тоскин сказал ей, что будет рассказывать о прогрессивных писателях Запада, начиная с Томаса Мэллори.
– Ну, тогда конечно! – воскликнула она с таким энтузиазмом и почтительным придыханием, как будто этот Мэллори был побочный сын Анны Зегерс и Джеймса Олдриджа. Более того, она разрешила Тоскину увести детей за ограду, на опушку леса, и здесь, усадив их вокруг себя под сосной, Тоскин завел длинную историю о рыцарях Круглого стола, о подвигах Ланселота, о любви Тристана с Изольдой, о благородных, абсурдных клятвах и джентльменской верности этим клятвам, о преклонении перед женщиной, которое нисколько не принижает настоящего рыцаря, а принижает, мол, только хама. Тоскин видел расширенные глазенки своих слушателей, видел, как они страдают вместе с Тристаном, как сочувствуют Ланселоту… Рассказывая, Тоскин думал о том, как не похож маленький Сережа на свою в общем-то не плохую, но такую вульгарную маму и что остальные его слушатели, видимо, еще разительнее отличаются от своих пап и мам.
«Вот такими выходим мы из рук Творца, – думал ненаучный атеист Тоскин. – А потом, отбыв свой срок в школе и пионерлагерях, на стройке и в конторе, выварившись в котле брака, превращаемся… Боже, во что мы превращаемся, и как скоро, о Боже, очень скоро – даже гладкий атлет Слава, даже подвижный Валера, впрочем, эти только физически, Боже, что за быдло…»
Окончательно погиб Тристан, и Тоскин увидел слезы на глазах плотненькой Сережиной подружки. Сережа придвинулся к ней ближе, потому что кругом были опасности и для защиты ей мог пригодиться его меч.
Дети были такие разные, носатые и курносые, рыженькие и белесые, черные и бесцветные. Попадались, впрочем, туповатые лица, но они тоже сейчас были согреты человеческим интересом и состраданием. Если бы Тоскин знал сейчас дорогу ко двору Артура или в какой-нибудь зачарованный уголок леса, стоило бы рискнуть: встать и увести их за собою, лесной тропкой, сразу, не заходя в лагерь, не целуя прощально Кузьминичну, не давая весточки Славе… Но он не знал этого пути, его не знали ни цари, ни воспитатели царских детей, не знали Лагарп и Жуковский, не знали ни принцы, ни эти нищие – педагоги. Умный лорд писал из Лондона воспитывающие письма своему амстердамскому бастарду – а бастард шел своей дорогой: письма были нужны самому лорду и пригодились читателю еще через две сотни лет. Не заплутавшему Тоскину дано было найти этот путь!..
Тоскин встал и повел свою растроганную, растревоженную паству под крылышко Валентины Кузьминичны, женщины с могучим крупом, прочитавшей всего Вадимкожевникова. Сам же Тоскин, растревоженный не меньше своей паствы, укрылся в надежной тени Достоевского и Дзержинского…
А вечером к нему пришла Вера, и опасения его не оправдались – потому что было не скучно, им было опять хорошо, даже еще лучше, и причина этого неубывающего восторга растрогала Тоскина. Причина была в том, что Вере было хорошо, все лучше и лучше. Такая меланхоличная, сонная, она оказалась чувствительной к каждому его прикосновению, по многу раз умирала и снова оживала в его руках, и это наполняло Тоскина гордостью, уверенностью в себе, придавало ему силы. «Значит, даже такая вот связь, – думал он, глядя на ее изможденное, побледневшее личико, на темные круги под глазами, – даже она не является совершенно эгоистической и только тогда дает радость, когда наслаждение получает партнер. А раз я так озабочен ее чувствами, то это недалеко от любви…» Тоскину вспомнилась песенка, которую он часто пел когда-то, – о простолюдине, влюбленном в циркачку: «И соблазнить ее пытался, чтоб ей, конечно, угодить». Он, Тоскин, приближается уже к возрасту, когда важнее становится «угодить». Говоря откровенно, угодить теперь даже важнее, чем получить это элементарное удовольствие, которого он искал когда-то, «занимаясь любовью» (нет, все-таки русское «заниматься любовью» не полностью соответствует такому конкретному и точному английскому «мейк лав» или французскому «фэр амур» – русское звучит отчего-то и бюрократичней и возвышенней). А может быть, ему предстояла теперь в жизни длинная череда влюбленностей со всеми их трудами угождения, трагедиями неугождения и неугодности… Во всяком случае, он смотрел на лежащую в забытьи Веру с покровительственной нежностью, ждал ее пробуждения, чтобы обрушить на нее эту нежность, оснащенную хоть и скудным, но все же опытом свободной мужской жизни…
Ее волнующая гибкость не обманывала – она была податливой, нежной, пугающе чувствительной, она была прекрасной возлюбленной, редкостной партнершей, и Тоскин не переставал удивляться, отчего ему, искавшему этого всю жизнь с таким любопытством и энтузиазмом (слово «страсть» было бы здесь, пожалуй, излишне сильным и возвышенным), только под занавес впервые попалась столь совершенная женщина (точнее сказать, попалась девочка, ибо это на его долю выпала сомнительная честь перевести ее в ранг женщины)…
Когда силы их наконец иссякли, они долго лежали в истоме бок о бок, и это был один из редких случаев в жизни Тоскина, когда ему не хотелось отодвинуться, отвернуться, остаться одному. Вера заговорила наконец: Боже, как она была немногословна.
– С оглоедами неприятности, – сказала Вера, и наступила долгая пауза.
– Да, да… – поторопил Тоскин. – «Сегодня утром встала и гляжу…»
– Гляжу – лифчика нет, – сказала Вера трагично. – А они смеются.
– Да уж, юморок, – сказал Тоскин. – И где же он был?
– На мачте. Развевается…
Тоскин хотел издать сочувственный звук, но хрюкнул от смеха. Теперь уже все было потеряно, и он насмеялся досыта, часто ли бывает случай. Потом счел все-таки нужным объясниться:
– Понимаете, это смешно. Если б это был лагерь имени Тани Пчелкиной… А так, Руслан – и лифчик на мачте. Разлад. Как говорят критики: разлад мечты и действительности.
– Вам хорошо смеяться, – сказала Вера бесцветно. – А меня вон начальник вызвал и говорит: «Если в твою смену забеременеет, ты будешь отвечать».
– Кто забеременеет? – спросил Тоскин беспечно.
– Да пионерка какая-нибудь…
Тоскин поднялся на локте, посмотрел на Веру в свете уличного фонаря, падавшего на ее бледное лицо через разноцветного Достоевского.
– А что, разве они… уже…
– Ого! – сказала Вера. – Да они только и ждут, чтобы я уснула. Они поэтому меня любят, что я засыпаю. А ночью попить встанешь – одной нет, второй нет…
– Куда же они?..
– Кто куда. Ну, эти, которые в баню к вожатым, эти ладно. Вожатые сами пусть отвечают. А теперь еще деревенские стали ходить. Так одна у меня такая наглая… Это из-за нее начальник и вызвал. Сказал, если она в мою смену забеременеет, уж тогда меня точно… Велел идти искать. Чтобы выгонять из лагеря. А что я могу? Я ничего не могу сделать…
Она говорила очень жалобно, почти плакала, но Тоскина больше не трогали ее невзгоды. Рушился огромный мир, и неприятности Веры, начальника, парторга Кузьминичны и кого там еще – все это была только пыль на месте гигантской катастрофы.
Она замолчала, ожидая от него совета, может быть, помощи.
– Что собираешься предпринять? – выжал он из себя.
– Пойду сегодня искать. Только что я им скажу, если найду. Потом… я боюсь.
– Хорошо. – сказал Тоскин и начал одеваться. – Я тебя провожу.
У него было сильное искушение – собрать вещи и бежать прочь из лагеря. Сейчас же. Ночью. Чтобы не знать ничего. Он преодолел искушение и шел теперь навстречу своему ужасу, своей боли, крушению всего…
Когда они вышли, ночь была черная, звездная.
– Куда идти? К бане?
– Нет, туда нечего, – сказала Вера. – Там вожатые. Они пусть сами разбираются. А деревенские туда не ходят. Вот, может, сюда, к оврагу… Не очень-то хочется. А надо. Вдруг она в мою смену забере…
– Действительно, – сказал Тоскин. – Вдруг в твою смену. Идем к оврагу.
И он двинулся к еще более черному, чем сама ночь, оврагу. Вера держалась за него, и Тоскин чувствовал, что она дрожит.
Возле оврага они остановились, прислушались. Ни звука. Бдительный Тоскин поднял палец, и они постояли еще немного в неподвижности. Вспорхнула птица. И снова тишина.
– Еще надо у забора посмотреть… – шепнула Вера. – Идем. Если там нет, черт с ней…
– А если понесет?
– Куда?
– Не куда, а кто.
– А-а-а… – Вера безнадежно взмахнула тонкой рукой. – Какая разница. Может, уже понесла.
Пробираясь к дальнему забору, они осторожно ступали по влажной траве.
– Тише! – сказал Тоскин.
Они остановились.
– Да, что-то есть… – шепнула Вера, вцепившись в него. – Я слышу…
Тоскин таращился в темноту. И вдруг… Сперва он видел на земле что-то черное. Потом что-то белое. Потом увидел гораздо больше. А может, просто его воображение дорисовало все это – и белый зад, и белые ноги… Во рту у него пересохло.
– Вы что-нибудь видите? – спросила Вера. – У меня очень плохое зрение.
– Пожалуй… – сказал Тоскин.
– Ну, так скажите им. Скажите, чтоб они прекратили немедленно.
– Нет уж… – прошипел Тоскин. – Вы сами.
– Как же быть? Начальник… – в отчаянье прошептала Вера. И вдруг она шагнула вперед, крикнула: – Эй вы, кончайте там!
Возня под забором не прекратилась. Потом девичий голос ответил, прерываемый смехом и тяжкими усилиями:
– Это я, что ли? Я уже давно кончила…
«Нет, нет… голос не тот, – с облегчением вздохнул Тоскин. – Но я… что я тут делаю?»
– Пошли, – сказал он. – Как-то нам здесь…
– Правильно, – сказала Вера. – Завтра доложу директору – пусть он ее выгоняет. Тогда уж никто не скажет, что я виновата.
– Какая она? – спросил Тоскин.
– Да такая красномордая, с челкой. Наглая такая, ужас.
– Да, да… Конечно… Завтра… До завтра…
Они расстались у ее корпуса, и он преодолел соблазн зайти вместе с ней, посмотреть на спящих пионериков. Он боялся увидеть пустую постель. Он очень живо представил себе – пустая подушка, провисшее казенное одеяло, не заполненное округлостью тела. Неизвестность мучила его, но страх был сильнее этой муки.
Когда он вернулся к себе в берлогу, отчаянье охватило его с новой силой. Конечно, это была другая девочка, такие есть всюду, наверно, бывали во все времена. Да и вообще – чего уж он так… Но рассуждения не помогали. Не исцеляли его горя. А с Верой… Все было так хорошо… Теперь ему казалось, что это невозможно. Ничто не возможно…
«Не надо печалиться, вся жизнь впереди», – сказал внутренний голос.
– Пошел ты знаешь куда… – мрачно пробурчал Тоскин, расстилая матрац, как всегда, ногами к Достоевскому, головой под стол. Впрочем, он не надеялся уснуть сегодня.
День прошел в непроходящей муке. Ему хотелось подойти к Вериному отряду, хотя бы посмотреть на Танечку – ему казалось, он все сразу увидит. И он боялся подойти. Боялся, что не увидит. Убедится в том, что ничего и увидеть нельзя, а значит…
Он не говорил с Верой ни о чем. Не подходил к ней. Он издали видел и ее, и ее отряд. Отряд выкрикивал речевки по дороге в столовую:
Раз, два —
Синева!
Три, четыре —
Солнце в мире.
Мы за мир,
И мир за нас…
В бодром хоре Тоскин не мог расслышать Танечкиного голоса, но знал наверняка, что в этом хоре звучит и голос той самой вчерашней, подзаборной, и тех, которые ходят в вожатскую баньку за овраг.
Вечером мука неизвестности стала невыносимой и пересилила его страх. К тому же не пришла Вера. Это и огорчило его, и обрадовало. Он не долго думал над тем, что это значило. Не так уж ей хотелось, наверно. А может, она просто была тактичной – он не сказал ей прийти, и она не пришла. Скорей же всего, эта ее удивительная пассивность: он потянул ее за руку – и она упала, он не тянул, и она стояла на ногах.
После полуночи Тоскин оставил все попытки уснуть, оделся и направился в темноту, за овраг. Где-то там должна быть банька, та самая «хата», о которой он слышал, но которой не видел еще ни разу. Тоскин думал о том, что случилось бы, если б он тогда принял Славино приглашение. Воображение услужливо нарисовало ему сцену совместного пьянства, потом объятия пионерки – как знать?.. Едва нащупывая тропку, он спустился в овраг и вдруг невдалеке среди кустов отчетливо различил огонек. Тоскин подошел чуть ближе и увидел, что это электрический свет пробивается через щель в досках. Вероятно, это был неплотно прикрытый ставень. Воображение предложило ему новый вариант… Он, Тоскин, рассеянно гладит по заду вчерашнюю красномордую пионерку, в то время как Слава тут же, рядом, стягивает с Танечки ее дешевые трусики… Тоскин застонал и продвинулся еще на несколько шагов по тропке. И вдруг он услышал музыку. Магнитофон. А может, проигрыватель. Музыка была мяукающая, сладкая. Она замерла, будто захлебнувшись в собственных соплях. Заиграло что-то знакомое. Откуда бы? Только услышав незабываемый припев: «Та-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра», Тоскин вспомнил, что это та самая песня о замечательном парне, который проживает на периферии и овладел какой-то полезной профессией: возможно, механик, возможно, строитель… Песенка на слова Шаферана, которого так нежно любит Танечка. Тоскин заскрежетал зубами, застонал… А потом вдруг услышал, что он не один в овраге. Кто-то осторожно шел по тропинке ему навстречу. Тоскин хотел спрятаться в кусты, но боялся наделать слишком много шума: ведь его все равно не видно, только слышно. Вдобавок он обнаружил, что ему трудно сдвинуться с места. Ноги у него были как чужие.
Человек подошел совсем близко, вплотную, и Тоскин узнал сторожа.
– Вы туда? – сказал сторож. – А я оттуда. Выпил сто грамм – пошел по делам. А вам надоело, чай, одному-то сидеть, – сказал сторож с хитрецой, и Тоскин понял, что он уже знает про Веру (он тут, наверное, все знал). – Правильно, – сказал сторож. – Жить да молодеть, добреть да радоваться. Оно так и лучше…
– А там еще… еще в разгаре? – спросил Тоскин.
– А как же. Молодой месяц на всю ночь светит, – сказал сторож, и Тоскин понял, что он ничего больше не узнает, а главное – ему все еще страшно узнать. И еще понял, что ему трудно разговаривать с этим человеком, который был там и, может быть, видел…
Тоскин махнул рукой, прошел мимо сторожа, а потом присел под кустом во мраке. Когда шаги сторожа смолкли, Тоскин почти бегом вернулся к себе в берлогу.
«Уеду, – решил Тоскин. – Доживу день-два до закрытия смены – и уеду. Только бы хватило… дожить…»
Назавтра он встал измученный бессонной ночью и, не сумев придумать себе никакого занятия, пошел в отряд к старшим. Вера сидела в отдалении, на краю трибуны и читала книжку, которую два дня назад ей дал Тоскин. Отсюда, с трибуны, ей хорошо видны были ее пионерки, во всяком случае те, что не разбежались. Тоскин присел рядом с Верой и стал наблюдать. Он увидел Танечку и ее полногрудую подружку Тамару, но не сразу понял, чем они там занимаются, на крыльце, а поняв наконец, воскликнул, изумленный и растроганный, еще не веря своим глазам, хотя ему уже припомнилась идиотка-кукла, которую он видел у Танечки под подушкой.
– Это они что? Они в куклы, что ли, играют?
– Да, – равнодушно сказала Вера, не поднимая глаза от книжки. – Днем в куклы играют, как дети, не оторвешь… А ночью в баню бегают – как большие.
И продолжала читать, ничего не замечая вокруг. К счастью, не замечая. Тоскин, с трудом справившись со странной хрипотой в горле, с непонятным зудом в левой руке, с приступом тошноты и страха, все же пересилил себя и спросил задавленно:
– Неужели и эти, маленькие?
Вера бросила взгляд на детей и тут же вернулась к книге, не заметив ни его тона, ни его смятения:
– Ну да, а кто ж? Все они тут маленькие…
И Тоскин, уже приготовившись к бегству, к погибели, все же сделал последнюю попытку уцелеть, выплыть на поверхность, уцепиться за последний островок суши:
– И Танечка… тоже…
– Да, – сказала Вера, вставая, – Танечка и эта вот подружка ее, они самые первые в баню и пошли. Так поглядишь – ни за что и не поверишь. Куколки, хиханьки… А ну, Ахмеджанов, оставь кошку! Сейчас же оставь!
Вера убежала в палату, где, судя по кошачьему истошному воплю, Ахмеджанов проводил какой-то мучительный, хотя, может быть, и ценный для науки эксперимент над кошкой. А у Тоскина, который остался один на краю трибуны, была теперь только одна, но очень важная, жизненно важная задача: уйти, добраться по возможности невидимым, незамеченным до своей берлоги – добраться любой ценой… Но как раз эту ничтожную малость ему оказалось очень трудно осуществить, и вдобавок… вдобавок еще Танечка – вдруг отложила куклу и подняла на него огромные свои, блестящие глаза… К своему ужасу и смущению, Тоскин прочел в этом взгляде благожелательность, интерес и даже симпатию, да, симпатию, и это наконец обратило его в бегство, которое спасло его, помогло ему добраться до своей берлоги как раз вовремя, потому что едва он успел закрыть за собой дверь, как силы его оставили – и он заплакал…
Горе его было таким истинным, таким безграничным, что временами он находил себе горькое утешение в мысли, что настоящая любовь наконец-то постигла его, что он оказался способен на такую любовь. Но зато по временам, воображая, как она в первый раз пришла в ту баню, как она выпила водки, как она нежилась, слушая любимого Шаферана, как этот мерзавец Слава… Или может быть, этот мерзавец Валера. А может, это был кретин-физкультурник… Тоскин скрежетал зубами и начинал подозревать, что он способен на самую страшную месть, как какой-нибудь настоящий кабардинец. Или даже корсиканец. Но он не был ни кабардинец, ни корсиканец – он был русский интеллигент, к тому же еще отчасти и писатель (может быть, даже детский), и у него между самой пылкой мыслью, порывом и самым незначительным делом протянута была длинная и, пожалуй, не очень прочная цепь – размышлений, выводов, побочных наблюдений… Цепь эта, разъеденная ржавчиной сомнений, рефлексии, скепсиса, обрывалась где-то на середине, и тогда Тоскин с трудом собирал ее разрозненные звенья, начиная от нового порыва ярости или ревности или, наоборот, от воспоминания о Танином сегодняшнем взгляде. Однажды, в самый разгар этих мучительных построений, Тоскин услышал вдруг на аллее Маленьких Разведчиков голос Славы и, приведя себя в порядок, выбежал ему наперерез, еще не придумав даже, что он скажет и с чего начнет…
Слава шел после очередной стычки с враждебным ему племенем пионеров и, разгоряченный этим сражением, с ходу взял Тоскина за уцелевшую пуговицу на рубахе и стал рассказывать.
Из его бессвязного рассказа Тоскин понял, что пионеры вынесли спящего (и, очевидно, сильно нетрезвого) Валеру из спальни, вместе с кроватью (Тоскину представлялась при этом иллюстрация из свифтовского «Гулливера у лиллипутов»), и отнесли – это ж надо! – на линейку; священное для всякого пионера…
При этом сообщении Слава окончательно потерял связность речи и начал ругаться:
– У, бля, как надоели, врот пароход, всех бы к стенке. Или вон, в овраг…
– В Бабий Яр! – выдохнул Тоскин, с ненавистью глядя на Славу.
– Хоть в Бабий, хоть в какой. Они думают, это для меня большое дело – тут вожатым. Это же я согласился, потому что друзья попросили. У меня не такие планы. Не на то способен. Я приеду, ребята меня к себе заберут, в райком, а еще год-два…
Тоскин уже не в первый раз слушал эти Славины рассказы о будущей карьере и давно понял, что именно это стремление к дальнейшему росту, к какой-никакой, а карьере переводит Славу из числа простых жлобов в разряд «интересных людей», имеющих «цель в жизни», в разряд «идейных» или каких там еще… Так что, может быть, выпивка в Славиной компании проходит по рубрике «Встречи с интересными людьми», как знать?
– Представляешь? – Тоскин вернулся к действительности и понял, что Слава еще не кончил. – Насрать на линейке? Самое святое, что может быть у пионера… Но ничего! Я найду этого засранца. Я заставлю его уважать нравственный кодекс строителя, который у нас есть…
«Да, да, – вспомнил Тоскин. – У него есть нравственный кодекс. Кодекс строителя. Со списком стройматериалов».
– Он у меня три года собственным дерьмом плевать будет, потому что ведь я его заставлю… Он у меня свое вылижет. Языком вылижет… – Тоскин кивнул, преодолев тошноту. – Да, да, вылижет, – сказал Слава, ликуя, – так что не грусти, старик…
Как только Слава отпустил его пуговицу, Тоскин пустился наутек, но, отдышавшись, отметил, что еще на бегу он успел придать себе вид не просто ошалевшего, но и очень занятого, очень загруженного человека. С тем же видом крайней занятости Тоскин ворвался в свою берлогу, едва прикрыл дверь – и лег на пол. Он стал придумывать достойную казнь для Славы, заодно и для Валеры, на всякий случай также для физкультурника. Сказать по правде, никогда еще Тоскин не был в своих занятиях так близок к «литературе». Одной из самых ужасных казней, придуманных Тоскиным для Славы, была старость (казнь эта была удобна, так как не требовала от Тоскина палаческих усилий): когда Слава уже не сможет «заниматься этим», когда он не сможет танцевать и проводить зарядку – куда он денется, пустой, бездуховный, алчный? Чем он себя займет, пьяный, сморщенный, тупой?.. Эту мысль Тоскина омрачала невозможность для него присутствовать при казни – вряд ли он переживет Славу…
Уединение Тоскина нарушила повариха. Она вторглась без стука и сказала, глотая слезы, что детишки засыпались и теперь эта сука мучает мальчика.
– А он ведь такой… такой… – повторяла она, всхлипывая. – Весь в отца… Когда я говорила ничего не говори, дак он ей ляпнул. А теперь, когда она говорит скажи, он ни в какую.
Тоскин стал одеваться. Повариха горько плакала. Чужое горе помогло Тоскину выйти из неподвижности.
– Что она хочет узнать?
– Ну это… кто его регистрировал?
«Еще не легче», – сказал внутренний голос Тоскина.
Одевшись, он на всякий случай закопал свои «Книги регистрации» под кучей бумажного хлама.
– Я начальнику боюсь говорить – у него, бедного, и так с девчонками неприятности, а тут на́ тебе, младший отряд… А у него печень…
– Хорошо. Попробую, – сказал Тоскин.
– Вы уж пожалуйста, Кстатин Матвеич, – простонала повариха. – Они вас так детишки любят, так любят…
Тоскин внимательно посмотрел на нее. Если она и льстила ему, то невольно. У него впервые за сутки чуть-чуть отлегло от сердца.
– Хорошо. Вы идите. Я что-нибудь попробую, – сказал Тоскин.
Через раскрытое окно веранды Тоскин услышал громкий голос Валентины Кузьминичны:
– Значит, ты не хочешь сказать, кто тебя зарегистрировал? И ты не боишься меня огорчить, Сережа? Вот видишь, боишься…
«Я и сам тебя боюсь, крокодил», – подумал Тоскин.
– Вспомни Павлика Морозова, – сказала Кузьминична. – Этот мальчик не побоялся выдать своего родного отца. А ты…
– А я… А я… – Сережин голос дрогнул. – А я как Руслан Карабасов. Он никого не выдал.
«Как хорошо, когда есть выбор, – подумал Тоскин. – Но право, мне уже пора вмешаться…»
Тоскин вошел и сказал сладким голосом:
– О, у вас какой-то диспут… Ну, я не буду мешать. А-то я как раз хотел прочитать детишкам поэму «Дети Памира». Причем это даже не про детей, а про Ленина…
– Ах, про Ленина, – сказала Кузьминична. – Это очень важно. А кто автор?
«Все равно ты не запомнишь, клизма», – подумал Тоскин и произнес со значением:
– Мирсаид Миршакар, лауреат, ученик Мирзо Турсуна-заде, лауреата двух премий.
– Ну как же! Как же! – всплеснула руками Кузьминична. – Пожалуйста. Садитесь. У нас, признаюсь вам в узком кругу, неприятность. Дети так редко меня огорчают, а тут…
– Что же случилось?
– Сережа сказал, что он зарегистрировал свой брак, вы представляете…
– Это же прекрасно, – сказал Тоскин вполголоса и склонился к Кузьминичне, имитируя интимную доверительность. – Вы поглядите, как у него развито воображение. Это признак эстетического воспитания. А его пример с Русланом Карабасовым – я был невольный свидетель – это было прекрасно. Советский писатель Пантелеев написал рассказ про такого мальчика. Вы молодец. Вы говорите, что они редко вас огорчают? Отчего?
– Да так, – сказала Кузьминична. – Они меня любят.
Она сказала это очень просто, без фальши. Тоскин поверил ей и расстроился. Значит, их любовь так же слепа… А значит, любить их так же абсурдно, так же бесперспективно, как любить женщину…
– К тому же я методику знаю и педагогику, – продолжала задумчиво лошадь. – Знаете, их обмануть очень трудно. Для этого существует методика. Мы это, конечно, изучали в вузе, но уж на практике до всего сам доходишь. А эти трудные дети, их еще легче обмануть…
Все это было обидно. И Тоскин, переживший за последние сутки достаточно разочарований, решил не слушать больше про эту методику обмана. Излив на Кузьминичну последний вымученный комплимент, он попросил разрешения перейти непосредственно к поэме о детях Памира и, получив это разрешение, очутился наконец нос к носу со своей возлюбленной аудиторией. Валентина Кузьминична прервала его еще только один раз, чтобы уточнить труднопроизносимую фамилию поэта, а также спросить, как он считает, по какой рубрике это можно записать: «Писатели – любимцы народа», «Лауреаты ленинско-государственных премий» или по рубрике «Встречи с прекрасным». Тоскин посоветовал внести эту беседу во все три рубрики и обещал четко разграничить эти три темы своего рассказа как не имеющие ничего общего. Он и в самом деле не был уверен, имеет ли эта поэма отношение к миру прекрасного, поэтому, лишь скупо упомянув о писателе – любимце народа (честно говоря, он не сразу припомнил, любимцем какого народа считался этот поэт), Тоскин стал рассказывать о таинственном Памире – о тропах, оврагах, верных исмаилитах, карликовых полях на уступах скал, горных катастрофах, архарах, мистических обрядах, и о детях, конечно, тоже…
Тоскин видел широко открытые глаза, пока еще раскрывавшие, а не скрывавшие намерения и мысли их владельцев, – и мало-помалу жалкие страдания ревности уходили из его души. Он не ревновал больше к задастой Кузьминичне, ведь и на его долю выпало сегодня так много детской любви, а она… В конце концов, она тоже могла любить их, и она с ними немало возилась. Жаль, конечно, что она уводила их прочь от нынешнего их состояния, от его любви. Но ведь и все в этом мире, каждый новый год их жизни уводил их прочь от их теперешней чистоты, непосредственности, таланта, обаяния, делал их существами, любить которые бывает так трудно… Каждый новый год. Даже этот первый их год, проведенный в школе… А что же тогда говорить о тех, кто провел там восемь и даже девять суровых лет. И что говорить о взрослых…
До ужина оставалось еще полчаса, и Тоскин повел малышей погулять немного – за ограду, туда, откуда открывался вид на речку, на дальнее поле, на еще более далекий лес. Сережа сжимал его руку, а Наташа тянулась за Сережей. Тоскин остановился на бугре, за оградой. Был его любимый час предвечернего угасания, когда все окрашено в драгоценный золотой цвет и так боязно расплескать драгоценные миги краткого угасающего дня, краткой угасающей жизни…
– А когда Сережа туда смотрит, он грустный-грустный, – сказала Наташа.
– Отчего ты бываешь грустный? – спросил Тоскин.
– Там красиво… А далеко-далеко… там тоже, наверное, красиво. Но я никогда там не буду, и мне грустно…
Тоскин хотел утешить, броситься Сереже на помощь, повести его за синие лесные дали. Но потом понял, что мальчик говорит о необъятной и недоступной красоте мира, и удивился, и погрустнел вместе с ним.
Природа была утонченно и нежно хороша. Но сознавала ли это она сама? Не была ли она в неведенье обо всем, что прекрасно и что безобразно, что благородно, а что жестоко?.. Иначе как объяснить вон ту кучу, где муравьи копошатся, растаскивая дохлого воробья? (Тоскин ускорил шаг, радуясь, что ни Сережа, ни Наташа не взглянули в ту сторону, и в то же время стыдясь этой своей стыдливости – а надо ли стыдиться естественности природы, ее бессознательности?.. Танечка была такая же, она была так же прекрасна, естественна и жестока… Что пользы упрекать дерево, цветок или камень? Любуйся ими, пока ты способен на это…)
Валентина Кузьминична, благодаря Тоскина за очень содержательный доклад, сказала, слегка извиняясь за утреннее расследование:
– Я с вами совершенно согласна насчет фантазии. Но я просто не хочу, чтобы у них были ранние любовные впечатления. Чтобы это мешало их патриотическому развитию. Вот я лично утратила невинность в двадцать девять лет. И, как видите, никуда не опоздала – на сложение свое не жалуюсь…
– Грех было бы жаловаться, – любезно сказал Тоскин, и они расстались друзьями.
У себя в берлоге Тоскин уже не так безнадежно смотрел на белый свет. Он смотрел на него через портреты Пушкина, Дзержинского и Достоевского, свет был пестрым, разноцветным, и ретушь выглядела смешной. И все же свет был прекрасен, нелепая раскраска могла его окончательно испортить, даже теперь, когда сгущалась темнота за окном и портретная живопись мрачнела, хотела выглядеть серьезной. Это удалось одному Достоевскому, он казался очень старым, старше всех старцев… Старец пришелся Тоскину очень кстати (сегодня вечером все шло ему на помощь), это ведь он в доброте сердечной учил не зарываться, не бояться людского греха, любить всякую вещь… Тоскин думал о Танечке. Он хотел увидеть ее, в сердце его не осталось горечи. Что такое Слава? Лишь обстоятельство – дорожная пыль, пристающая к ногам пешехода, или река, которую переходят вброд, соприкосновение с ними неизбежно. Шаферан хуже: он не спал с малолетней Танечкой – он заполнял вакуум ее души, правда без злого умысла, зарабатывая на кусок хлеба с маслом или с чем там еще. Но ведь и ему, Тоскину, была открыта ее душа, он мог еще писать на этом чистом листе, у него было много способов сделать это…
Он вдруг вспомнил один из них: через Веру…
С этими жалкими, но облегчающими душу мыслями Тоскин пересек аллею Маленьких Героев, миновал Страну Гайдарию, Страну Фантазию, Лужайку Веселых и Находчивых (на дощечке кто-то из Находчивых отчетливо, хотя и не очень грамотно, нацарапал: «Жопа с камарами» и еще подальше – «Ночной бар Гандон») и вышел к Вериному отряду. Тоскин ходил взад и вперед по аллее, пока наконец Танечка не попалась ему навстречу. Она бежала к маленькому домику, со всей очевидностью, по нужде, и Тоскин не стал ее останавливать, дождался ее возвращения, и тогда они пошли рядом, собеседуя. Он не давал себе труда придумывать что-либо, речь его текла свободно. Он только долгое время не мог посмотреть ей в лицо… Отчего-то он стал пересказывать ей то, что рассказывал однажды маленьким, – о рыцарях короля Артура: и она оказалась столь же чувствительной к средневековым сантиментам. Потом он читал ей стихи. А потом он наконец увидел ее глаза – Боже, как они еще были чисты. И хотя Тоскин знал уже, что это глаза женщины, что и взрослая, зрелая, грешная женщина может долго сохранять такие глаза, и хотя он даже не знал толком, чего он добивается от нее и что хочет ей дать, он поклялся теперь каждую свободную минуту быть рядом, постараться помочь ей, потому что любовь вовсе и не должна быть торжествующей, она должна быть, скорее, униженной, страдающей, бескорыстной – он почти с благодарностью вспоминал теперь эти сутки кошмаров и готов был пережить их снова…
– Приходите почаще… – Танечка попросила его об этом так искренне, так нежно, и Тоскин сказал себе, что не надо зарываться, не надо просить невозможного, того, что ты и сам не можешь себе ясно представить. Надо любить и быть любимым, хоть самую малость, вот столько.
Подошла Вера и послала Танечку на построение. Она восприняла эту беседу Тоскина с Танечкой как еще одну его попытку помочь ей в ее трудном положении, уберечь ее, Веру, от гнева начальства. Она хотела выразить ему свою благодарность и не смогла: речь и глаза ее были невыразительны. Красноречивым было лишь ее юное, неистощимое на ласку тело. И тогда она сказала ему, сама, первая:
– Я к вам приду сегодня…
Тоскин задами пробирался к своей берлоге. Он должен был переписать компиляцию, посвященную закрытию лагеря («Мы поправились за лето /Вместе все на сто кило. /Каждый может видеть это:/Бегать стало тяжело» – стихи принадлежали кому-то из детских классиков, и Верина методичка разумно предлагала приспосабливать их к условиям лагеря), а главное – ему было сегодня над чем думать…
В день отъезда моросил дождь. Накануне Тоскин лег поздно, а с самого утра ему пришлось выручать Веру из беды. Услышав после подъема счастливый визг, Тоскин подошел к ее домику и даже не сразу понял, что случилось с паскудной гипсовой пионеркой, стоявшей на клумбе. Во-первых, она была сегодня менее гипсовой и менее паскудной. Подойдя ближе, Тоскин не мог сдержать улыбки: на образцовой серебряной пионерке были Верина мини-юбочка, чей-то пионерский галстук, Верин бюстгальтер, чьи-то трусики… В непропорционально длинной руке, вместо горна, был чемодан.
Тоскин отдал Вере, запертой в спальне, ее имущество и долго, добродушно объяснял ей, что это, конечно, обидно, но это к тому же еще и смешно, право же, не лишено остроумия.
А потом они стали грузиться в Верин автобус. Отряд Веры уезжал последним, и Тоскин поехал с ним. Они долго не отправлялись (пропал чертенок Юра, и его искали). Тоскин сидел у окна и смотрел на сторожа, чинившего ворота, на портрет Руслана Карабасова, обезображенный дождевыми потеками, на аллею Маленьких Героев и на аллею Свершений, украшенную так никем и не читанными (а теперь уж и неразборчивыми) надписями.
Потом, когда чертенок Юра нашелся, Вера села на свое место, рядом с Тоскиным, и автобус тронулся. Тоскин обернулся назад – за дождем еще маячили ворота с именем Руслана Карабасова, темная фигура сторожа, а совсем рядом, сбоку, почти у лица Тоскина, светились, невзирая на дождь и непогодь, удивительные Танечкины глаза…
Тоскин пристально вглядывался в уходящие ворота, и ему вдруг почудилось сквозь пелену дождя, что над воротами был водружен так хорошо знакомый ему, размытый дождем лик Федор Михалыча, а чуть ниже, под портретом, – лозунг: «Не бойтесь греха людей и любите всякую вещь!»
1977
Гоч Фантастическая повесть
Часть I Азия
Ни днем, когда солнце сияло над снежными склонами, ни даже под вечер, когда тень неумолимо ползла вниз вдоль подъемников, а вдали, за первой чередою вершин, солнце колдовало закатным зельем среди палевых, розовых, почти прозрачных или угрожающе-черных облаков, томительное ощущение неясной тоски и тайны не посещало Невпруса. И лишь после спуска, когда, топая тяжеловесными ботинками по коридору горнолыжной гостиницы, подходил он к своей двери, он сразу вспоминал обо всем – о странных следах в коридоре, о явственном сопении под дверью, о голубоватой светящейся тени под окном, о своей тревожной бессоннице, о медленно-тягучем времени, о неодолимой здешней тоске…
Впрочем, на ближайшие несколько часов после лыж у него еще оставались кое-какие занятия: переодеться, поесть, написать страничку-другую, чтоб отчитаться в Москве за командировку, почитать толстую книжку об офицерах 1812 года. Но вот уж после этого… После этого заняться ему было решительно нечем, и состояние его духа становилось весьма плачевным.
Писать в эту пору не хотелось, надоевшая книжка подходила к концу, а спускаться вниз в долину, спасаясь бегством, тоже не было смысла – нигде в мире солнца сейчас не было, здесь же… Поколебавшись немного, Невпрус оставался еще на неделю, потом еще и еще, хотя изнывал вечерами от скуки и все больше мучился из-за ночных страхов. Не испытывая сомнений в своем душевном здоровье, он пытался отыскать реальную причину своего страха, проводя всяческие эксперименты, расставляя капканы и ловушки (в том числе и себе самому), однако обшарпанная горнолыжная гостиница не открывала ему своей тайны.
Гостиница расположена была всего километрах в шестидесяти от столицы республики, на окруженном горами суровом плато, невдалеке от столь же сурового кишлака. Горные лыжи были здесь в новинку, так что во всей мусульманской республике не насчитывалось и двух сотен горнолыжников, и ведомственная эта гостиница чаще всего пустовала. Впрочем, вокруг нее любители катания понастроили всяких домиков и наставили жилых вагончиков, так чтобы им можно было приехать сюда покататься – на несколько дней или хотя бы на субботу и воскресенье. По воскресеньям приезжали сюда на ведомственных или частных машинах также и не охваченные горнолыжным спортом жители этого города, в котором снег был редкостью. Они так радовались снежному склону, точно это было какое-нибудь северное сияние или пальмовая роща на берегу океана. Визжа, они валялись в снегу, а также съезжали вниз по дороге, усевшись на полиэтиленовые подстилки и куски клеенки. Потом они выпивали, закусывали и отбывали в город, а на суровом плато снова воцарялась тоскливая тишина. Вот тогда-то, в черной непроглядности и одиночестве ночи Невпрус покидал свою убогую комнатку и, выйдя под звездный полог среднеазиатского неба, с тревожной тоской оглядывал тихий корпус гостиницы и раскиданные по склону жилые вагончики. В некоторых из них горел свет: значит, кое-кто остался, чтобы покататься и в будни, за счет своего отпуска, отгула или просто прогула. Удивляясь самому себе, Невпрус вздыхал облегченно, радовался, что он был не один на плато. Странно, разве не затем поселился он здесь, чтобы побыть одному? Противоречие это было неразрешимо: человек стремится к одиночеству, оно плодотворно для его работы, оно успокоительно. Однако, оставшись один, человек начинает тянуться к людям, хоть каким-нибудь людям.
Невпрус заходил в сторожку, пил зеленый чай, угощался лепешками, выслушивал рассказы сторожей о семье и детях или воспоминания об армейской службе. Иногда, не выдержав одиночества, Невпрус шел куда-нибудь в вагончик нефтяников или энергетиков. Это все были начинающие горнолыжники, городские инженеры или даже ученые. Вечерами они играли в преферанс перед громко кричащим телевизором. Современные русские инженеры не любили интеллигентских разговоров, им хватало телевизора. Вполне возможно, что они, будучи сослуживцами, давно уже знали все, что может сказать каждый из них. Во всяком случае, телевизор был гораздо компетентнее их по части говорения, и они доверяли ему всю разговорную часть. К тому же телевизор умел показывать живые картины – движущиеся трактора, рыбу, которая сыпалась из сетей в трюмы сейнеров, суетливые шестерни машины, а порой и людей – передовиков производства и передовых деятелей наук, искусств и партийных ремесел. Международные комментаторы благородными голосами говорили о коварных замыслах президента Рейгана («Что с ним до сих пор церемонятся?» – рассеянно встревал иногда кто-нибудь из картежников, но тут же возвращался к делу, которое не терпит рассеянности) и миролюбивых намерениях известного гуманиста полковника Каддафи, потом терпеливо перечисляли все несчастья и катастрофы, имевшие место за истекшие сутки на просторах Европы к западу от Берлинской стены или же в злосчастном Западном полушарии. Невпрус терпеливо ждал, когда энергетики кончат играть в карты и выключат телевизор, но в самый последний момент, когда уже начали накрывать на стол, он вдруг уходил, устыдившись своей бесцеремонности.
Перед сном Невпрус снова читал книгу про незабываемый 1812-й, про поэтов в эполетах, гусаров-красавцев и образованных графов, про декабристский альтруизм, про мадригалы и балы, про жестокую расплату за альтруизм, за непослушание, за доброхотство… Незаметно он переходил в сон, однако вскоре просыпался, заслышав хрустящие шаги под окном. Невпрус поднимался с постели, стараясь не производить шума, и иногда ему удавалось увидеть тень, призрак тени, ускользающей из-под его окна, – очень странная была тень, с голубыми лунными пятнами сверху и по бокам, со скользящей походкой…
Невпрус знал, что теперь, если долго-долго лежать без сна, можно будет еще различить шаги в коридоре. Но он уже знал и то, что вскакивать бесполезно, потому что прежде, чем он распахнет дверь в коридор, шаги ускользнут, смолкнут, а светящийся силуэт… Впрочем, останутся мокрые снежные следы на полу в коридоре – их можно сразу отличить от других мокрых следов в коридоре, потому что эти загадочные следы совершенно не пахнут мочой. Впрочем, признак этот был не всегда надежен: вся эта маленькая горнолыжная гостиница навсегда провоняла мочой. Она была построена недавно, из каких-то вполне современных панелей, со всеми удобствами, но суровое плато и его обитатели, непривычные к этим удобствам, почувствовали себя свободно только тогда, когда вывели из строя все, что делало эту гостиницу такой чуждой их обычаям, – и радиаторы отопления, и бачки в туалетах… В конце концов, и в переиначенной на кишлачный лад гостинице жить было можно, да, можно, только вот туалеты, конечно… ну а что, собственно, туалеты? Кто нам скажет сегодня, где мочились, например, благородные мушкетеры короля, обсуждая план спасения королевы? Или сам граф Рошфор? Или герцог, извините нас, Бэкингемский? Да тут же, в комнате, у стены, в элегантном алькове, у себя в кабинете, даже в приемной, отойдут к стенке – и отольют. И только эта лиса, Ришелье, негодяй и чистюля, с регулярностью писал в камин, присыпая свою мочу золой, ну и что с того? Кем вот вы хотели бы стать – негодяем Ришелье, скажем, или нежным любовником Арамисом? То-то. И все так, а потому закроем ненужную и неважную тему. Туалеты будут у нас такими же еще, наверное, столетие, да и Бог с ними, но вот беседы, куда подевались застольные беседы? Верните нам чахоточного Белинского, верните нам трепача М. Бакунина, мы обсудим с ними вопрос о существовании Бога…
Вы подумали, что это автор взывает к прошлому, тоскуя? Нет, это кручинится наш герой, один из героев повести, причем герой вовсе не положительный и не первостепенный – Невпрус (что за странное имя, однако, может быть, это вовсе не имя, а кличка?).
Вконец растревоженный, с замирающим сердцем Невпрус возвращался к себе в постель и пытался уснуть, накрыв одеялом голову и отгоняя непрошеный страх. Он объяснял самому себе, что для страха не может существовать никакой внешней, объективной причины, потому что здесь в горах нет ни хулиганов, ни разбойников, ни городского жулья. Страх же его рожден, скорей всего, сердечным недомоганием. Конечно, это само по себе не так уж весело, однако если спокойным логическим рассуждением изгнать страх, то и сердце успокоится, а в здоровом теле, как известно, и дух, и духи, и так далее. Здоровье Невпруса и впрямь укреплялось понемногу на горном склоне, да и душевный упадок, к которому приводила его городская жизнь, как будто отступал, однако ночные странности продолжали его мучить: и шаги, и тень, и вздохи, и шорохи, и странное свечение какого-то предмета, похожего на человеческую руку, прижатую снаружи к его оконному стеклу, и мокрые следы на полу в коридоре… Однажды Невпрус обнаружил эти мокрые (и непахнущие) следы даже у себя в комнате. Заметно было также, что кто-то трогал его книги, кипятильник и пишущую машинку (три литеры, сцепившись, застыли в воздухе, отчего клавиши так и остались вдавленными – робкий нажим дилетанта, не желающего к тому же производить шум)… Невпрус осторожно, успокаивая шум сердца, оглядывал убогую гостиничную комнату и уговаривал себя, что к нему мог заглянуть украдкой кто-нибудь из сторожей (только что притопал из кишлака по первопутку, так что запах мочи еще не успел пристать к талым следам). В конце концов, что это может быть? Призраков, как известно, не существует. Похоже, что сам Жуковский в них не верил. И вообще, разве современный человек может бояться призраков? Он боится бандитов, хамов, милиции, боится уличных хулиганов и наружного наблюдения, боится мнимых и реальных своих прегрешений перед государством и правом, боится собственных страхов, боится болезней – но призраков… И все же – что это за следы уходили вверх от самой верхней станции канатки? Куда там было идти? И кому? И зачем? И еще – эти проклятые двери: в целой гостиничке не осталось ни одного запора: потяни за ручку, входи…
Дневная усталость и воздух заоблачного высокогорья в конце концов брали свое: Невпрус, намаявшись, засыпал и спал крепко. Вот если б еще ложиться попозже, все было б славно, но вечер ему было нечем занять. Книга про 1812-й подошла к концу, и теперь Невпрус еще дольше просиживал у сторожей за чаем. Присутствие этих людей хоть в плохоньком, а все же горнолыжном отеле волновало его безмерно. Двадцать минут пешего подъема (или спуска) отделяло их от своего кишлака, но они были здесь посланцы, лазутчики иного, медленно-недвижного, традиционного мира. «А может, все не так? – задумывался иногда Невпрус. – Может, мир и вообще остается единым и одинаковым? Может, различия эти только внешние? Или вообще иллюзорные…»
Сторожа были моложе Невпруса, но каждый из них успел завести шесть или восемь детей. Жен им выбирали родители – незнакомых, из другого селения (где была девица на выданье, там и брали), без всяких там несущественных смотрин и предварительных знакомств: приезжала делегация, обговаривала размеры выкупа, стоимость свадьбы и подарков. Сторожа соблюдали мусульманские традиции, не пили вина, а двое из них даже совершали пятикратно намаз. Особенно сильное впечатление на Невпруса произвело сообщение о том, что поголовно все мужчины республики – от первого секретаря до последнего пастуха – были обрезаны. «Поголовно! – изумленно повторял Невпрус. – Все поголовно! По самую головку!»
В комнате сторожей пахло стегаными халатами, кислым молоком, кизяком, зеленым чаем, насваем и лепешками. А в гостинице жили городские спортсмены, школьники и прочие русские люди, которые придерживались новых городских законов (а может, и вовсе не имели законов), так что неудивительны были и беспорядок, царящий в их семейной жизни, и болезни их, и несчастья, и странные их, немыслимые в этих местах отношения с собственными детьми. Городские соблазны все ближе подступали к кишлаку, и как знамение и угроза объявилась уже кишлачная девушка, которая первой уехала на учебу в городской пединститут. Гостиничный завхоз, молодой парень в американском тренировочном костюме, сказал Невпрусу:
– Мой сестренка отличница, тоже пединститут хочет, понял? Я, старший брат, что делать должен? Я такой хитрость делал. Я ему говорил, сестренка: школа все пятерки будет, поедешь институт. Сам тихонько директор школа ходил, плов делал, так говорил: два четверка ему делай, платить буду.
Все качали головой, удивляясь такой братской заботе и такой хитрости, и Невпрус тоже качал головой со всеми. Сперва он подумал, что в этом, может, и нет ничего страшного, если они все будут ездить в пединститут, здешние сестренки, но, поразмыслив, он приходил к выводу, что все не так просто в чужой жизни. В пединституте девушка и впрямь ничего полезного для здешней жизни узнать не может, зато она узнает вкус городской свободы и наслушается всяких глупостей про любовь. Того чище – вернется с брюхом, окончательно себя уронив в глазах односельчан. Впрочем, и без брюха ей нелегко будет принять с готовностью и безропотно слепой родительский выбор, а потом быть хорошей женой не ею самой выбранному супругу. Так зачем тогда эти эксперименты? Пусть городские люди ставят их на своих собственных детях. А тогда прав гостиничный завхоз, молодой парень, повидавший и русскую и заграничную городскую жизнь и знавший ей цену. За границей он, как и все здешние парни, был, конечно, в ГДР, где проходил срочную службу. Ну сам-то этот огрызок Германии ему повидать не удавалось, потому что служба за границей очень строгая и с иностранными подданными, которые все как есть немцы, общаться нельзя (даже ихнее пиво пить запрещается), но все-таки каждый солдат привозит домой обширные знания о мире. Самое большое впечатление на Невпруса производили их рассказы про «дедов» – старослужащих и прочих «старичков». Сажая новичка-«зеленку» на пирамиду из табуреток, они заставляли его вслух читать напечатанный в газете приказ об их «дедовском» дембеле. В какой-то роковой момент (еще и не дослушав до конца приказ) они вышибали из-под зеленого чтеца (который мог оказаться не только «зеленка», но и «фазан», и «плафон», и «чижик») нижнюю табуретку. Падая, он калечился, впрочем, далеко не всегда. Горше ему доставалось тогда, когда, вознамерившись отсчитать месяцы истекшего срока, его привязывали к койке и били пряжками ремней по заду. Однако и тогда ему оставалась надежда: он видел, что «деда» тоже кладут на койку, но бьют уже не ремнем, а ниткой, и притом не по голому заду, а через гору подушек. Это было утешительно, потому что каждый «чижик» имел надежду стать со временем «дедом». Время приносило освобождение! И вот теперь, вспоминая эти славные обычаи, каждый мог по заслугам оценить преимущества воли и, приняв в ладони пиалу зеленого чая, возблагодарить Аллаха за то, что все кончилось, что ты дома, что Он сберег тебя, а потом еще послал тебе жену и детей и они подают тебе вечером чай и пекут лепешки в тандыре…
Перед сном Невпрус обычно выходил на улицу подышать. Днем снег вокруг гостиницы таял, обнажалась глина, полнились лужи; ночью подмораживало, и наледи блестели, как замерзшие плевки или сопли, и если б только можно было предположить, что здешние люди насморкали вокруг так много, то во всем этом блистающем лунном пейзаже нельзя было бы найти никакой красоты. Однако Невпрус точно знал, что все это от снега и солнца, и он с благодарностью любовался природой.
Он глядел на лунные снега, на прозелень ледника вдали и думал о том, что скоро и ему тоже придется, оставив тепло комнат и чаепитий, уйти туда, где лед, и холод, и одиночество, уйти насовсем, навсегда. От этой мысли ему становилось зябко и неуютно, однако не слишком страшно, потому что, может быть, это с ним случится без боли и при этом условии он примирится уж как-нибудь с новым своим положением, как примирился некогда с тем, что ушла юность, а теперь вот ушли и зрелые годы…
Снова и снова случалось, что Невпрус все же не выдерживал своего вечернего одиночества и, смирив гордость, забредал на огонек в вагончик к химикам, а чаще – к энергетикам. Там по-прежнему играли в карты, изредка оглядываясь на телевизор, по-прежнему рассказывающий про миролюбивый ливийский народ, которому хотят помешать. Иногда сообщалось также о радостных достижениях северокорейского и вьетнамского народов, которые тоже строили. Последнее сообщение вызвало взрыв эмоций в вагончике энергетиков, потому что одна женщина-энергетик побывала в народном Вьетнаме и даже присутствовала там на каком-то собрании вьетнамской общественности, где ей довелось видеть самого Фам Вам Дома. Впрочем, может, это был не Фам Вам Дом, а другой видный представитель, точнее она не могла вспомнить, но она запомнила, что это была очень знаменательная минута в жизни народов.
Один раз Невпрус застал в вагончике альпинистов, которые рассказали про альпинистские сборы, где они видели то ли самого Абалакова, то ли его дочку. Невпрус обычно не участвовал в этих разговорах, потому что он ничего не мог добавить, а всякие его глупости, вроде Федора Достоевского и Франсуазы Саган (не говоря уж про Кожина и Палиевского), никому не были интересны. Даже если в вагончике заходил когда-нибудь разговор про книжку, то редко кто мог вспомнить толком ее название и, уж конечно, никто и никогда не мог вспомнить, как зовут ее автора. Из этого Невпрус заключал, что всякому литературному занятию должен скоро прийти конец на земле и вовсе не удивительно, что люди умные давно уже не интересуются тем, как и что написано кем-то, а просто стараются извлечь из этого пережитка человеческой деятельности все возможные выгоды. Особенно наглядно эти достижения прогресса были заметны в детях, которые были изрядно знакомы с телевизионным вещанием, но книг не имели и не читали вообще никогда. Родители их, понимая насущные требования современности, впадали в ужасное беспокойство, когда в вагончиках по каким-нибудь горнотехническим причинам вдруг пропадала телевизионная видимость. Они правильно судили, что дети их тем самым не только теряют главную радость жизни и развлечение, но также и упускают какие-то важные воспитательные моменты (особенно если в программе, к примеру, предвиделся многосерийный немецкий телефильм про войну на Кавказе или, скажем, про басмачей). В многосерийных фильмах показан был всегда остросюжетный захватывающий момент исторической жизни. И хотя можно было наперед догадаться, что наша разведка всегда перехитрит американскую или немецкую (хотя бы и в фильме производства ГДР) и что даже советский человек, пошедший на подлое сотрудничество с врагом, окажется в конце концов нашим агентом, несмотря на это, каждая новая серия заставляла зрителей с волнением ждать следующей (забывчивый Невпрус напрасно напрягал память, чтобы запомнить, когда будет следующая серия, чтоб и на нее не угодить).
Изредка за столом возникали краткие дискуссии о том, какие мы, русские, дураки, потому что всему миру всегда помогаем и все свое отдаем и от этого своим ничего не хватает. В такие споры Невпрус тоже не ввязывался. Во-первых, из-за плохого знания, кто кому что отдает и что получает, а во-вторых, из-за своей не вполне русской фамилии (возможно, это даже было имя или сокращенная кличка сама по себе не вполне понятного национального обличья, в развернутом виде означавшая попросту Не Вполне Русский). Из-за этой фамилии его неоднократно принимали то за латыша, то за литовца, но он не ужился ни в одном из этих качеств, потому что ему не хватило интереса к прибалтийским национальным проблемам и, как он ни бился, он вовсе не смог вызвать в себе антирусского энтузиазма. Впрочем, и в жалобах на русское самоотречение в пользу мнимых друзей Невпрус не нашел приятных для общества аргументов, а на прямой вопрос одной интеллигентной женщины об американцах и вовсе не нашелся чего ответить, хотя она спросила у него очень простую вещь.
– И за что они нас, – спросила она с чувством, – эти американцы, так ненавидят? Поверите, маленьким детям отравленную жвачку подбрасывают!
Невпрус не мог отрицать, что жвачка была американским изобретением, к которому он сам относился скорее с отвращением, чем с энтузиазмом, однако во всем, что касается подбрасывания, он оплошал и только развел руками. После этого к нему с вопросами больше никто не обращался, потому что он сам как бы признался в собственной неосведомленности и неинтеллигентности.
В субботу горное плато вокруг гостинички и канатной дороги снова заполнилось городскими людьми, служебными автобусами и частными автомобилями. В комнату напротив Невпруса въехало обширное семейство во главе с могучим краснолицым мужчиной, который вынес из машины тяжелый цветной телевизор. Семейство щебетало в коридоре и на кухне, мужчина же сразу улегся на полу перед телевизором и стал смотреть мультфильм.
Невпрус понял, что ему самое время сбежать с лыжами в горы. Поднявшись до последней опоры канатной дороги, он остановился на солнышке передохнуть. Отогреваясь, он с ужасом вспомнил зимнюю городскую улицу, каменную и бессолнечную. Прожив на ней зиму, городской человек убегает, чтоб отогреться, на южные пляжи, на солнечные горные склоны. На улице Невпрус сразу мог узнать человека, который давно не бывал на солнце: человек этот похож на червя. Солнце не просто согревает кровь и кожу, оно очищает нутро человека от лишней желчи, его голову – от скопления мелких и ненужных мыслей. Человек, разогретый солнцем, не думает ни о чем…
Сверху Невпрусу были видны вторая и третья гряды гор, между которыми уже поднимались черные, серые и сизые облака, творилась погода или судьба. Где-то там, далеко внизу, притулились крыши самых гордых городских небоскребов, высокие инстанции, рубиновые звезды Кремля, президент Рейган, Алла Пугачева, Майкл Джексон и Останкинская башня московского телевидения. Не только их передвижения по земной коре, но и самые объемы их были неразличимы с этой снежной сверкающей высоты, не говоря уже о ячеистых кабинетах начальства или, скажем, отрывном блокноте на столе завотделом журнала «Жизнь» Феликса Львовича Кремнева-Птицына с записью ста шестидесяти двух неотложных звонков и дел…
От опоры канатки лихо съехал тренер республиканской спортшколы. С ходу притормозив, он взметнул струйку снега и поинтересовался, что за марка лыж и креплений у Невпруса. Потом сказал задумчиво:
– Тоже хотел в Москву перевестись. На станцию Катуар. Школа олимпийского резерва. Вход по пропускам, никого лишнего. Питание по спецнорме и спецбуфет. Все новейшее оборудование. Электронное. Не выходит, мать иху…
Подкатил мальчик на лыжах. С подозрительностью оглядев неспортивную фигуру Невпруса, спросил:
– А ты чей? Пропуск имеешь на канатку?
Канатка была ведомственная. Но Невпрус ответил с сонным достоинством:
– Я чечмек.
– А-а, – сказал мальчик и лихо покатил вниз, вслед за своим тренером. Ответ Невпруса его, наверное, удовлетворил: с чечмека и спрос другой.
На вершине один за другим стали появляться ученики спортшколы, а также тренеры. У них были однообразные, мужественные и, пожалуй, даже симпатичные лица, черты которых были, впрочем, как бы несколько стерты и лишены индивидуальности. Вероятно, виной тому являлись усиленные занятия спортом. Впрочем, горные лыжи – это ведь особый спорт. Человек не карабкается в гору, а только съезжает, элегантно балансируя. Яркие лыжи вкупе с яркими, всегда заграничными, костюмами усиливают это впечатление элегантности, а яркое солнце и сверкающий снег создают атмосферу элитарного праздника. «И при всем том, – подумал Невпрус, – что-то мне не хочется сегодня съезжать с горы. Стар я уже для спорта и ленив. Поезд ушел. Спустишься, а потом надо снова подниматься. Лучше уж так постоять…»
Канатка остановилась. Она была старенькая и часто выходила из строя. Как всякое строительство в этих краях, сооружение ее обошлось вдесятеро против потребного, потому что каждый год перед началом стройки подчистую разворовывали стройматериалы. Потом канатка все же закрутилась, задвигалась. Говорили, что внук Пидулова увлекся горными лыжами. Кто такой Пидулов, Невпрусу было неизвестно, но уж кто-нибудь он, наверное, был такой, раз с пол-оборота закрутил канатку.
Канатка встала – значит, спуститься можно было только один раз. Что ж, хватит и одного. Невпрус скользнул вниз. Не разгоняясь и делая повороты с большой осторожностью, он скидывал скорость: ноги у него были не казенные и к тому же не молодые.
Завершив какой-нибудь отрезок спуска, Невпрус подолгу стоял на солнечном склоне, любуясь пейзажем или просто отдыхая. Чувствуя, что он все еще на ногах. И притом на лыжах. На горном склоне. Думая о тех, кого уже нет. Ни на склоне, ни на поверхности. Большинство друзей Невпруса были уже Там. Там, куда идем мы все. Или же Там, в рассеянии, куда мы не захотели уйти. И те и другие были уже не с нами, но те, кто предпочли горький хлеб изгнания (надеясь втайне, что он все-таки будет сладок), были поначалу все же реальнее и живее тех, кто переселился в совсем иной или, как еще говорят, лучший мир. Они, эти изгнанники, испытывая неизбывный, неугасающий интерес ко всему, что происходит здесь, на оставленной ими родине, они как бы посылали сюда весьма ощутимые токи, которые не могли не учитывать и не чувствовать их оставленные, предоставленные превратностям своей судьбы соотечественники. Однако с годами токи эти становились все слабее, неразличимее, они тонули в реве глушилок и магнитных бурях, в ограждении границ, бетонных стен и зданий, и мало-помалу те, кто были в рассеянии, сравнялись для нас с теми, кто ушел насовсем, навсегда и кто (будем надеяться) ждет нас там, всех нас – и здешних, инертных, рассеянных, и тамошних. О Боже, как мы будем спорить при встрече о том, кому в этой жизни пришлось горше, кого остервенелее клевал жареный петух. Как трудно нам будет договориться!
…Внизу, в гостиничке, уже кипела предобеденная суета, стучали по коридору тяжелые ботинки, перекликались голоса, и надо всем гамом лился из двух мощных динамиков сладостный стон то ли иранской, то ли индийской певицы. Невпрус похлебал столовской баланды и уединился в своей комнате. Он хотел снова подумать о своей судьбе или о героях 1812 года, которые все как один были и красавцы, и таланты, и поэты, да еще и аристократы в придачу. Подумать об их отшумевшей жизни, об их злополучной судьбе. Однако телевизор, установленный в соседней комнате на полу, не давал ему ни о чем думать. Телевизор непонятно хрюкал и вскрикивал; дети, отчего-то изгнанные из комнаты, гомонили в коридоре. Невпрус вынес на улицу стул и устроился на солнышке. Он согревался, он таял, он набирался тепла впрок. Остылость была похожа на смерть, а может, она и была смертью. Впрочем, греясь на солнышке, он сейчас словно бы растворялся в его лучах, переставал существовать. Это был сладостный конец, истинная нирвана…
Над головой снова грянула иранская музыка, сладкая, как шербет, – радист отрабатывал свое скромное жалованье: сегодня все начальство было в сборе и радист, как Лев Толстой, просто не мог молчать. Прошел очень степенный, еще молодой и красивый человек в черном костюме, белоснежной сорочке и галстуке. Рядом с ним была русская жена с огромной, воистину необъятной грудью. Человек этот был, наверное, Пидулов. А может, это был Бидоев, сменивший Пидулова. Невпрус помнил только две начальственные фамилии. Вероятно, это и были самые славные имена в горном крае. Иранская певица перешла на интимный шепот: может, она тоже узнала Пидулова. Или она знала, что это Бидоев. Невпрус подумал о том, что станет с грудью пидуловской (или она бидоевская?) жены, если ее освободить от тесного покрова тканей, осядет она, растечется по древу или сохранит какую ни на есть округлую форму…
Сторожа позвали Невпруса пить чай. Они обсуждали кишлачную свадьбу. Говорили о том, какой калым пришлось уплатить жениховой родне. Платить калым было, по всей видимости, занятие пустое и обременительное. Однако здесь это было принято, таков обычай. Степенно держа пиалу на ладони, Невпрус думал о силе и пользе обычая. Обычай объединяет жителей кишлака, обороняет их от нашествия чужих нравов, от вторжения чужой беды. У них здесь были свои, привычные беды, а на те, что случались за границей их круга, они с ужасом смотрели по телевизору. Здешним жителям не грозили пока ни рост преступности, ни наркотики, ни сыновняя непочтительность, ни разврат дочерей. Самую возможность считать себя достойным, счастливым или удачливым человеком давала та же самая замкнутость их круга. В этом кругу каждый человек получал и подтверждение своего достоинства. Выпав за границу круга, человек терял и правила, и достоинство, и надежду на уважение. Он падал в неведомую пустоту, где нарушены были законы тяготения, и в нее проваливался. Он долго и отчаянно махал руками в пустоте, пока ему не удавалось очертить для себя новый круг (в виде семьи, религиозной общины или еще чего-нибудь в этом роде), но к этому времени он уже твердо знал, как опасно соблазняться чужой вольностью, и чужим богатством, и чужой красотой. Так вот, наверное, и возникали на ошалелой нью-йоркской улице полудикие хасидские общины. Так продолжал жить рядом с какой-никакой, а все же горнолыжной гостиничкой неизменный кишлак Ходжа-дорак. Так сосуществовал с Генри Миллером и Артуром Миллером, с Сэлинджером, Апдайком или Филипом Ротом неизменный ребе Хаим Поток с его до вшивости иешивотными романами.
Невпрус вспомнил историю про девочку, которая ушла учиться в пединститут, и понял вдруг, что это был бунт, настоящее восстание, что это была драма, старомодная история, истинное ретропредставление в стиле Байрона. Ведь девочке этой было, наверное, очень страшно, и обтрепанный ее папа, больничный сторож из кишлака, представал перед ее глазами как фигура весьма грозная, как зловещий тиран (Отец, отец, оставь угрозы… Самовластительный злодей…). Выразив гуманное сочувствие бедной кишлачной повстанке, Невпрус должен был все же признать со старческим вздохом, что прав был, наверное, обтрепанный папа, а не юная кишлачная суфражистка, которая в своей борьбе за женскую вольность наверняка оправдала где-нибудь в убогом городском общежитии самые страшные папины опасения.
В благодарность за чай и сочувствие Невпрус поведал сторожам печальную историю своего первого брака, за что был вознагражден сочувственным возгласом «Молодец!». Возглас этот он объяснял исключительно скудостью словарного запаса своих собеседников. Вот уж кем он не был ни в первом, ни во втором своем браке, так это молодцом…
На улице, за окном, вдруг что-то случилось, и Невпрус не сразу смог понять, что там произошло, что переменилось. Переменилась музыка. Вместо сладкой восточной певицы вдруг закричал по-русски хриплый голос человека из ресторана. Голос был лихой, свой в доску, почти Высоцкий, но не Высоцкий, а кто-то рангом пониже и голосом пониже – то ли это был Северный, то ли Розенцвейг. «Вот, пожалуйста, Розенцвейг, – закручинился Невпрус. – Ведь с такой фамилией ни в одно приличное учреждение не берут, а он хоть бы что, поет себе где-то в ресторане, и вот уже сто тысяч пленок разносят его голос по родимой стране, да еще и такое поет человек, что ни один худсовет этого бы не выдержал, а на хрена ему худсовет? Эти пленки играют таксисты, и горнолыжники, и храбрые офицеры, пережившие ночной страх Кабула, все секут, принимают его юмор, и никому поперек горла не встало, что он – Розенцвейг, вот, бывает же такая судьба…»
Все эти горькие, хотя отчасти также и приятные размышления Невпруса были прерваны вдруг весьма естественным и все же весьма удручавшим его в гостиничных условиях позывом, с удовлетворением которого нельзя было более тянуть. Дело в том, что и горцы, и юные спортсмены с трудом привыкали к европейскому, пусть даже полуевропейскому туалету, а потому отхожее место в гостиничке было всегда тягостно изгажено и густо усеяно клочками маркой и замаранной «Ходжадорацкой правды». Вследствие этого всякий визит, продиктованный регулярной потребностью натуры или ускоренный подозрительным качеством столовской пищи, превращался для Невпруса в хотя и смехотворное по своей незначительности, а все же весьма серьезное испытание. В преодолении этой трудности могли помочь только неприхотливое мужество и полнейшая настроенность на внутреннюю духовную жизнь. Так, сидя в туалете и стараясь глядеть только вверх, Невпрус скорбно думал о том, что человек, от рождения до смерти читающий «Ходжадорацкую правду», в сущности, очень надежно защищен от всей несущественной информации и пресловутого мильона терзаний. Человек этот не приспособлен, конечно, для интеллигентного общения, зато он и не впускает все эти глупости слишком глубоко в свою жизнь, в отличие от какого-нибудь европейца, занятого Бог знает какими заботами. «Ходжадорацкая правда» дает ему твердые ориентиры во всех малодоступных и не слишком существенных для него областях жизни, так что даже если у него и возникнет какой-нибудь (для здешнего населения вовсе не типичный) скепсис по отношению к этому правдивому (что из самого названия газеты видно) и принципиальному органу печати, то выхода у него все равно никакого не будет, потому что все свои знания, оценки и термины он получил именно отсюда, а других ему не было дано. Разве уж случится, что в каком-нибудь нервном остервенении он начнет налево и направо подставлять частицу отрицания (через черточку или слитно?) к вызвавшим его сомнение эпитетам. Скажем, «не-трудолюбивый», «не-миролюбивый» и «не-талантливый», «не-бескорыстная не-помощь», «не-мирные не-намерения», «не-единодушное не-одобрение», «невсеобщая не-поддержка», «не-партийная не-принципиальность» или даже «не-беззаветная не-преданность». Но во-первых, такая перемена знаков мало что может дать. А во-вторых, что-либо в этом роде (особенно здесь, на Востоке) может прийти в голову только пациенту психдиспансера, да никто другой и не сможет позволить себе подобной роскоши (Невпрус позволял, но, во-первых, только мысленно, а во-вторых, находясь в уголке весьма укромном, хотя и сильно загаженном). Поздним вечером, готовясь уже отойти ко сну, Невпрус услышал под окном странный разговор.
– Голова должна пролететь через комнату очень быстро, – сказал молодой голос. – Веревки есть?
– Немножко есть, немножко нет. Студия можно ехать… – ответил голос постарше и погрубее.
Отвергнув с полдюжины криминальных и мистических гипотез, Невпрус в конце концов успокоил себя открытием, что речь могла идти о киносъемках. Голову будут отсекать, наверно, классовому врагу, скорей всего басмачу. Не станет же голова комиссара летать по комнате. Когда все встало на свои места, Невпрус уснул.
Проснулся он от каких-то возбужденно-фальшивых вскриков и стонов. Сперва он подумал, что в комнате напротив происходит оргия или драка. Потом он усомнился в своей гипотезе. Женщина стонала слишком громко и театрально. К тому же, несмотря на бурное течение сексуальной революции, групповой секс как-то не приживался в этих местах: сказывались традиционный мусульманский «мачизм» и «фаллократия».
Невпрус догадался наконец, что стонет цветной телевизор. Было уже два часа ночи. Впрочем, столичная Москва еще могла передавать какие-нибудь лагерно-антифашистские или военно-приключенческие ужасы.
Невпрус нащупал кеды и зашлепал по лужам в туалет. Какие-то мужчины потрясенно курили в коридоре. Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта, телевизор стонал в неприкрытой и фальшивой истоме.
– Дверь бы закрыли, братцы, – сказал Невпрус миролюбиво. – Он у вас сейчас кончит, ваш телик.
Невпрус был удивлен готовностью, с которой курильщики бросились закрывать дверь. «Интеллигентные люди, – думал Невпрус у себя в постели. – Наши простые интеллигентные люди. Такие простые, такие восточные и такие интеллигентные. Другие бы морду начистили за такой совет. Или затеяли свару…»
Вторично Невпрус был пробужден под утро. Визжали и вздрагивали трубы центрального отопления. Никакой мистики в этом, конечно, не было. Невпрус уже знал, что персонал год за годом разбирает помаленьку гостиничную сантехнику для своих кишлачно-бытовых нужд. Невпрусу даже приходилось однажды подписывать вместе со всеми акт на списание всех этих как бы негодных казенных труб. Так что сейчас, снисходительно улыбаясь во мраке, он с терпеливостью дождался конца работ, потом поднялся с постели и заткнул лыжной рукавицей черный проем, зиявший теперь в стене на месте трубы отопления. Само отопление давно уже не работало в гостинице, может быть, оно не работало никогда. Комнаты обогревались железными прутами, которые добела раскаляло электричество. Обугленные провода и вырванные розетки внушали некоторую тревогу, но пока еще Аллах миловал, и в комнатах было тепло. Только кислороду чуток не хватало, но всех удобств совместить нельзя. Можно было встать и пойти подышать среди ночи, а потом снова на боковую. Привычно потерев ноющую левую руку, Невпрус сунул ноги в лыжные ботинки и, громыхая, пошел к выходу.
Лунный свет торжественно стекал со снежного склона. Ледяная красота и завораживала и отпугивала. Страшно было подумать, что живые существа или даже их души могут оказаться в этом леденящем раю, вдали от жилья и тепла. Холод, одиночество – кто и что сможет там выжить? В прогретом муравейнике гостиницы, в червивом яблоке города копошится живая жизнь, отогреваются или сами собой зарождаются мысли и страсти, похотливо болбочит телевизор, зачинаются и рождаются дети, расцветают болезни – но здесь, на леднике…
Невпрус обмер. Тень у стены светилась по краям голубовато, прозрачно. Странно. Очень странно. Тень напоминала человеческую фигуру, а свечение начиналось там, где кончались рукава одежды и воротник. «Рука на стекле, – вспомнил вдруг Невпрус и стал уговаривать себя, что страшиться совершенно нечего. – Какое-то научное явление, – внушал он себе, – или ненаучное. Просто человек. Главное, что явление». В слове «явление» он находил успокоение научности. Явление исключало мистику и всяческую чертовщину.
С другой стороны…
Одумавшись, Невпрус упрекнул себя в недоверии ко всемогуществу Божию. Ну, а если тебе явится ангел Божий или Пресвятая Богородица, ты что, вот так же будешь дрожать? Или будешь искать термин из школьной физики? Общение с небом не останется вечно односторонним, и человек должен быть готов к знамениям, и посланцам, и знакам.
Несколько подбодренный этими соображениями, Невпрус на шаг приблизился к светящейся тени, которую он вознамерился было назвать светотенью, но вдруг вспомнил, что прекрасное слово это уже опошлено искусствоведами.
– Добрый вечер, – сказал он учтиво, не находя другого приветствия, которое лучше подошло бы к столь глухому предутреннему часу.
Человек, стоявший в тени и при этом казавшийся тенью, сделал шаг от стены, из тени, и учтиво поклонился Невпрусу, сразу рассеяв его опасения.
– Рад вас приветствовать, благородный горножитель, – сказал молодой человек. Лицо его больше не голубело теперь, но все же отливало какой-то светящейся лунной бледностью, хотя и природная смуглость заметна была тоже. – Вы первый из здешних жителей, с которым мне довелось вступить в прямое общение. Вообще не припомню уже, когда я в последний раз…
– Вы здесь давно? – осведомился Невпрус, стараясь, чтоб голос его звучал вполне светски.
– Незапамятно… – Молодой человек протянул руку, и кисть ее замерла во мраке. – Чаще всего вон там. – Он показывал куда-то вдаль, на блистающий зеленым стеклом ледник, и Невпрусу стало не по себе. – Необъяснимо, – продолжал молодой человек, – что вы заговорили со мной первым, опережая мое давнее желание. У здешних горножителей так многообразны возможности совместного времяпрепровожденья… Говоря простее, общенье доступно им всегда.
– Однако у меня не так, – посетовал Невпрус. – Впрочем, может, вы знали об этом?
– Да, вполне вероятно, что я ощущал это, ибо темное ваше окно обладало особенным притяжением. Однако разве все эти люди, окружавшие вас и понимавшие вашу речь, – разве они не могли стать вашими собеседниками? Или вследствие каких-то тайных причин вы даже не пытались собеседовать с ними?
– С ними? О чем говорить с ними? – Невпрус махнул рукой безнадежно. – Мне хотелось говорить о будущем и о Боге. А также о грустном занятии литературой. И то, и другое, и третье было им скучно. К тому же я и не мог быть для них толковым собеседником. Я не узнавал лица, возникающие на экране телевизора, не помнил предыдущие двенадцать мгновений весны и не мог отличить команду группы «А» от военной команды или воинского подразделения… Да, мне действительно хотелось найти собеседника, которому физиологическая неприязнь к иному цвету лица, к иной речи, к иным примесям крови не преграждала бы путь к общению, который был бы менее заангажирован, менее загружен хламом ничего не стоящих сведений и отходами чужих политических игр, более межмирен, что ли…
– Я не все понял, – сказал молодой человек. – Но я понял, что встреча наша произошла неслучайно. По всей вероятности, я был привлечен, притянут вашей тоской. А может, это судьбонамеренное совпадение. Ведь уже третий год я спускаюсь от ледника то сюда, то к селению, я смотрю на огни, вижу, как люди вкушают вечернюю трапезу, как их руки ласкают детей, как потом они укладываются на покой. Или позднее – как они выходят во двор, сонно зевая, и, повернувшись спиной к лунному свету, серебристую испускают струю…
– Жениться бы вам пора, – сказал вдруг Невпрус сочувственно. – А где вы раньше-то были?
– Где-то там, на Кавказе. – Молодой человек небрежно махнул рукой за отдаленный хребет. – Служил… Впрочем, уже давно. Помнится, я был поручик лейб-гвардии корсарского полка имени Лейли Меджнун. Впрочем, с тех пор – столько разнообразных перемен и так много скитаний…
– И в то же время, – сказал Невпрус, – больше двадцати трех я вам бы не дал.
– Холод, – сказал горный человек. – Все проклятый холод. Все ледник, холодильник…
– Да уж. – Невпрус оглянулся на ледник, поежился и увидел, что он один.
Только сейчас он почувствовал, как сильно продрог, собеседуя, и устремился в гостиницу. Только сбросив с ног лыжные ботинки и укутавшись в одеяло, Невпрус вспомнил, что только что разрешилась тайна всех этих странных ночных происшествий, его тревожащих. Впрочем, еще через некоторое время, припомнив свою беседу с незнакомцем, Невпрус осознал, что узнать ему, в сущности, удалось совсем немного. А может, и ничего. Напротив, этот таинственный юноша…. главное, что Невпрус не уяснил себе сути этого ненаучного явления Ну, хорошо, лейб-гвардия, Бог с ней. Всем теперь хочется быть корнетами или корсарами, но вот, скажем, ледник. И потом – где мы, а где Кавказ… И как это, все время по горам? Все это время в горах?
Невпрус был пробужден хохотом и громкими разговорами на кухне, которые раскрыли для него еще одну тайну, впрочем, вполне ничтожную: он понял, что соседи его гоняли полночи порнофильмы по видеомагнитофону и собирали для просмотра (может, и не вполне бесплатно) чуть не всех обитателей тургостинички. Что ж, это было логично. Великое изобретение ширпотреба было поставлено на службу широкому непотребству…
* * *
В то утро работа его наконец двинулась с места. Он не только отчитался по командировке. Он даже написал две страницы сверх обещанного, просто так, для себя. И, написав, задумался о губительной привычке к труду, прокравшейся к нам с полей умирающего Запада. Там, на этих полях, люди, не умеющие остановиться и не знающие удержу, не научившиеся иначе проводить свое время, как только в труде, в обильном производстве всяких материальных благ и в добывании денег, люди эти пришли к невылазному кризису перепроизводства. Молоко у них там лилось рекой, масло громоздилось в холодильных амбарах, а люди все не могли остановиться. Обилие продуктов и товаров грозило обесценить их труд; хитроумцы, стоящие у кормила власти, изобретали тысячи способов, чтобы отвлечь неистовых европейцев от губительного труда и зарабатывания лишних денег; их досрочно увольняли на пенсию в расцвете сил, обеспечивая их материально на весь остаток жизни; безработных развлекали лингвистикой или информатикой, пытаясь отвлечь от труда, и даже кормили их при этом задарма, но западный человек без работы хирел. Кроме того, он не мог примириться с тем, что уровень его благосостояния застынет на мертвой точке. «Процессы необратимы!» – восклицали социологи. «Работы и справедливой платы за труд!» – настаивали народные вожди. Иногда, одумавшись, все они с завистью глядели на восток, где население, расслабившись, не спешило к пределам обогащенья. Все дальше и дальше на восток, где после бурной и бестолковой русской пляски вступала медлительная мелодия мусульманской Азии. Здесь людям никогда не грозило перепроизводство. Низкие заработки предохраняли их от переутомления…
Впрочем, и в этой многонациональной семье было не без урода. Таким уродом считал себя Невпрус. Напрасно он сдерживал себя, укорял себя в абсурдности трудолюбия: гены его неполной русскости одерживали верх над благоразумием. В приступе добросовестности он терзал свою пишущую машинку, сочиняя ему одному на целом свете потребную прозу.
Он писал, а тем временем за его окном разыгрывалась эпопея киновойны с басмачами. Всем в этом краю было с детства известно, что басмачи, отчаянно сопротивлявшиеся установлению новой (и, по всем признакам, русской) власти, были наемники английского капитала. Так что, хотя многие из здешних жителей насчитывали среди сгинувших и уцелевших басмачей своих близки родственников, слыхом не слышавших о существовании такой нации, как англичане, общая оценка движения не вызывала сомнений. Что же касается кинематографистов республики, то для них басмачи были такой же общепризнанной творческой находкой, как, скажем, индейцы для Голливуда.
В тот день на склонах Ходжи-дорака снимался очередной антибасмаческий фильм местной студии под рабочим (оно же было условным) названием «Бесславный конец Абдулаи-бека». Съемочный день подходил к концу, и ожиревший актер, которому досталась ответственная роль бека, был почти так же измучен, как его дублер, который, хотя и не кончал актерского училища, умел почти без ущерба для своих костей падать с лошади.
По причине сверхплановой экономии пленки, съемочная группа не могла в тот день позволить себе больше двух дублей, и вот именно на этом втором бесценном дубле и произошло недоразумение, свидетелем которого стал Невпрус. Он вышел из своего убежища, привлеченный необычным шумом. Когда актер, исполнявший роль комиссара Друнина, занес свою беспощадную саблю над головой бека (чей дублер предварительно упал с коня без сколько-нибудь серьезных повреждений), из рядов публики выскочил и с разительной скоростью преодолел расстояние, отделявшее его от площадки, какой-то странноватый юноша, напоминавший одновременно и пастуха, и дервиша, и учителя военной подготовки из Ходжадорацкой средней школы имени Абуали ибн Сино.
– Простите, милостивый государь, но это, поверьте мне, недопустимо, – сказал юноша, заслоняя своим телом вконец умученного артиста. – Здесь нарушены все правила дуэли и даже просто честного боя. Ваш противник, как видите, лежит. И он безоружен.
– Так это ж ставленник, – сказал комиссар Друнин несколько удивленно, но все же не выходя из роли. Он даже не сразу осознал, как далеко ушли они от режиссерского сценария.
– Ставленник или не ставленник, сударь, но вы ведете себя как человек непорядочный. И как таковому вам придется дать мне…
– Что там еще? – спохватился молодой режиссер Хапузов. – Да гоните вы его к е… матери. Эй, кто там? Кто пустил эту б… на площадку? Сколько раз я вам…
Увлеченный своей правотой, режиссер и не заметил, как странный военрук или дервиш, в один миг преодолев площадку, оказался возле него. Уже в следующее мгновение юноша с неожиданной силой пнул режиссера ногой под зад. Перелетев через ассистентов, мастер антибасмаческого жанра ткнулся головой в снег. Тут разом заорали все пьяные осветители, звукооператоры, ассистенты и прочая кинодворня, и тогда Невпрус, до сих пор с интересом наблюдавший издалека за развитием событий, понял, что ему самое время вмешаться.
– Это было блестяще, синьор, но нас ждут, – сказал он, отвесив поклон Горному человеку.
Кинодворня расступилась, они вышли с площадки, завернули за угол гостинички, и здесь Невпрус сказал торопливо:
– А теперь надо смываться. Ясно?
Они юркнули в коридор, добежали до комнаты Невпруса, закрыли дверь и приперли ее койкой.
– Да, лихо, – сказал Невпрус. – Думаю, что он теперь не скоро очухается.
– Настоящий хам, – сказал Горный человек надменно. – Впрочем, я мог ведь и ошибиться… Все так сильно переменилось за то время, что я шел по горам.
– Ничего не переменилось, – успокоил его Невпрус. – Хам – он и есть хам. Все как раньше.
– Ну, нет, – сказал Горный человек, – многое в жизни людей переменилось. Например, появились неизвестные мне предметы.
– Это да, – согласился Невпрус. – Появились новые игрушки. Впрочем, чаще всего несущественные. Пишущая машинка была уже в прошлом веке, велосипед и лыжи – старье. Вот горнолыжные крепления есть новые, это правда. «Саломон», например, 777. Но разве это так уж важно?
– А вот мне не у кого было спросить, что это за синенький такой светильник? Он стоит у стены, а люди сидят напротив. По многу часов подряд. Вероятно, они молятся? Или они гадают о будущем? Лишь то я понял, что это очень важное занятие. Однако что представляет собой этот синий огонек…
– А вы как думаете?
– Ну, полагаю, что это алтарь какого-то нового бога. Здесь ведь и раньше жили оташпараст, огнепоклонники, в этом самом горном крае…
– При чем тут край! – махнул рукой Невпрус. – Да сейчас весь мир горит этим голубым огоньком, по вечерам, иногда по утрам, а если учесть временные пояса, то практически круглые сутки – все континенты, острова, города, деревни. И только ваша оторванность от наших равнинных дел… У меня, впрочем, тоже… – сказал вдруг Невпрус гордо, – у меня, в моем доме – в каждом из моих временных домов, – у меня тоже никогда не было этого огонька. Он называется телевизор, или телик. Второе – название неофициальное и весьма ласковое, наподобие того, как бандит называет свой наган дружком…
– Вы дали мне понять, что огонек этот опасен для человеческой жизни? – спросил Горный человек.
– Нет, не то чтобы опасен для жизни. Однако губителен, да, вполне губителен для души. Это довольно миниатюрный стеклянный квадрат, на поверхности которого сменяют друг друга движущиеся картины, говорящие люди, поющие люди…
– Но это же великолепно! Сколь удивительно это проникновение человека в тайну магии. Но кто эти люди, которые читают проповедь?
– Как правило, специальные артисты. Иногда служащие специальных учреждений, как правило, руководящие лица…
– Они рассказывают легенды и сказки?
– Нет, пожалуй. Они толкуют о каких-то производственных, чаще всего никому на свете (в том числе им самим) не интересных делах. Хвалят учреждения, которым они служат. Иногда товары, которые им надо продать.
– Эти люди известны своей правдивостью?
– Ну, вряд ли. Так, пожалуй, не думают и сами зрители. Нет, зрители стараются не думать об их правдивости. Телевидение, так же как и кино (Боже мой, вы даже, наверно, еще и с кино не знакомы, мой корсар!), вообще не вызывает никаких ассоциаций с реальностью. Это просто картинки и какие-то истории, весьма, надо сказать, примитивные.
– О чем они?
– Чаще всего о шпионах. Или бандитах. О сыщиках и милиции, другими словами, полиции… В нашей стране…
– В Российской империи?
– Да, если хотите. Так вот, у нас часто говорят также о последних двух войнах.
– Но люди, которые выступают, – их мнение интересно?
– Нет, нет, не в том дело! Чаще всего они вообще не имеют никакого мнения. Они читают что-то по бумажке, иногда учат чужой текст наизусть. Однако и у тех, кто пишет тексты, у них тоже нет мнения.
– У кого же есть мнение?
– Это загадка. В обиходе сейчас фраза: «Есть мнение». Но не известно, чье это мнение. Однако мнение это является обязательным. Ибо других мнений нет. А раз нет других, все разделяют именно это непонятно чье мнение. Присоединяются к этому мнению. А иногда просто запоминают, не думая, какую-нибудь фразу, слово. Чтоб вставить их при случае. Боюсь, что вы не поняли. То, что говорят или показывают на стеклянной поверхности, называемой экраном, оно и вообще может быть лишено всякого интереса и содержания. Однако весь мир смотрит неотрывно.
– Отчего же? Это что, обряд? Или это является обязанностью гражданина?
– Ни то, ни другое. Это привычка. Она помогает заполнить время, убить его. Это занятие, замена любому занятию. Кроме того, это развлечение, и что соблазнительно – самое пассивное из развлечений. Более пассивное, чем игра в карты, скажем, в подкидного дурака. Занятие это не требует даже минимальных усилий ума, воли. Поверни рычажок и смотри. Занятие это дает иллюзию участия в жизни, приобщенности к культуре. Оно порабощает умственно, и тем оно тоже приятно большинству. Оно не требует от человека выбора. За тебя уже выбрали, что тебе смотреть, как тебе думать и как потом говорить об увиденном.
– Что ж тут соблазнительного?
– О нет, не говорите – в этом огромный соблазн освобождения от всех усилий. И к тому же максимум удобств. Телевиденье – одно из величайших удобств цивилизованных стран. Оно даже выше свободы. Если бы состоялись свободные выборы под двумя лозунгами – свобода или телевидение, то победило бы, конечно, телевидение.
– Значит, это все же скорей политика, чем магия?
– Нет, нет, – живо возразил Невпрус, – магия здесь все-таки присутствует, иначе этот голубой огонек не совершал бы столько чудес. Ну, например, он наделяет колдовской силой того, кто появляется на экране. Человек, попавший на экран телевизора хоть однажды, становится неизмеримо значительней того, чем он был раньше, и все только потому, что изображение это видят сразу миллионы людей. То есть он становится известен миллионам людей, а стало быть, знаменит. Это особенно важно, если его профессия требует известности. Он сразу становится знаменитым политиком, знаменитым писателем или знаменитым артистом, и вы без труда поймете, что это не то же самое, что просто политик, просто писатель… В странах более корыстных, чем наша, это приносит еще и богатство. Более того, человек отчего-то чувствует себя по-иному после такой демонстрации, даже если ему это и не принесло никакой утилитарной выгоды… Вы поняли, Гоч, что я имел в виду?
Горный человек откликнулся на эту аббревиатуру с такой же готовностью, с какой сам Невпрус примирился когда-то с новой кличкой, закрепляющей его национальную неполноценность:
– Кажется, я понял. Ведь так было и раньше – то же самое желание заявить о себе, выйти из ничтожества безвестности. Я помню, на Кавказе, у нас там был полковник в отставке, Мартынов Николай Соломонович… – Гоч покривился при этом воспоминании, точно от какого-то неудобства, потом продолжил: – Оно идет от страха смерти, это неукротимое желание распространить свое имя среди многолюдства, надежда оставить хотя бы внешний очерк лица, хоть слово. Эта надежда уцелеть, сохраниться…
Что ж, надо сказать, ваш Николай Соломонович преуспел в своем начинанье, мерзавцы вообще преуспевают и тем немало способствуют распространению безнравственности…
Невпрус взглянул на Гоча и увидел, что гость его совсем разомлел в тепле, распространяемом железным прутом-обогревателем, включенным в сеть. Глаза у него посоловели, утратили свой пронзительный ледниковой блеск.
«Он стосковался по теплу, – с жалостью подумал Невпрус и невольно поежился, вспомнив бутылочное сияние ледника под луной. – Он стосковался и по общению. Вообще – молодой парень, всегда один…»
– Жениться вам надо, – сказал Невпрус покровительственно. – Без этого трудно…
– А с этим? – Взгляд Гоча сверкнул надеждой.
– С этим… – Невпрус развел руками. – С этим – почти невозможно… Нет, нет, вы меня не слушайте, старого циника. Во-первых, я все-таки сказал «почти». А во-вторых, в браке бывают дети.
– Дети? – переспросил Гоч. – Да, конечно, и дети. С чего бы это? Но главное – конечно, тепло. Я видел: на ночь они уходят к себе. Потом гаснет свет. И людям там, наверно, тепло. Вместе.
– А одному как согреться… – задумчиво проговорил Невпрус.
– Что-то знакомое, – оживился Гоч.
– Вы должны знать, – сказал Невпрус. – Это Екклесиаст. Впрочем, вы, возможно, мусульманин? Или может, даже огнепоклонник? Так вот, друг мой, жениться вам здесь будет весьма непросто. Какой-никакой, а потребен выкуп. И тысячью рублей вам не обойтись. Тем более у вас ведь здесь никакой родни, так ведь? Где вы обитали в последнее время?
– И там. И там… – Рука Гоча рассеянно указывала то на один, то на другой ледник и хребет, а может, он отсылал собеседника еще дальше, за перевал.
– Вот если бы вам жениться на русской девушке. Если вы, конечно, не против русских женщин и девушек.
– Против? А почему? Чем отличаются русские женщины? И вообще русские? Разве не все нижние люди одинаковы?
– Может, и не вполне… – сказал задумчиво Невпрус. – Может быть. Хотя наши видовые и еще так называемые национальные различия обычно сильно преувеличивают.
– Они и впрямь существенны? – поинтересовался Гоч. – Скажем, русские женщины устроены по-другому? Или они по-другому чувствуют?
– Нет, нет. Все то же самое… Они несколько иначе воспитаны. Но они… они прекрасны, – сказал Невпрус. – Я всю жизнь… Всю свою жизнь…
– И вы достигли с ними счастия? – спросил Гоч торжественно.
– Счастия нет. – Невпрус покачал головой. – Счастье недостижимо. Но я считаю, что мне дано было много покоя и воли и всяких радостей. И я просто уверен, что вот вы, вы могли бы быть счастливы с женщиной. В том числе и с русской. – Он увидел мечтательное лицо Гоча и добавил с воодушевлением: – Сегодня же вечером я поведу вас в вагончик энергетиков. Там есть весьма и весьма милые женские существа. Когда я гляжу на них… Куда вы?
Гоч выглянул в коридор. Прошептал от двери:
– Значит, до вечера?
И исчез, точно растворился. Не слышно было ни шагов, ни скрипа дверей. Однако, выглянув в коридор, Невпрус сразу увидал на полу эти чистые мокрые следы без запаха мочи.
* * *
– Конечно, если бы ты посватался к местной девушке, все стало бы и сложнее, и проще, – объяснял Невпрус дорогой. Они с Гочем взбирались по склону к вагончику энергетиков, где приветно светились окна. – Мы внесли бы за тебя калым, потом была бы свадьба, и на ней ты увидел бы свою невесту. К сожалению, мой горный друг, оба мы небогаты. До такой степени небогаты, что ни о каком калыме просто не может быть речи, иначе я женил бы тебя здесь, и только здесь… – Гоч растроганно кивал. – С русской девушкой все будет иначе, – продолжал Невпрус увлеченно. – С ней нужно познакомиться заранее, до свадьбы. Ей еще надо понравиться. За ней, может, придется поухаживать, надеюсь, впрочем, что не очень долго. Для меня все это было бы слишком утомительно, но ты еще молод, и тебя это, может быть, даже развлечет. Зато, конечно, никогда нельзя поручиться за прочность такого недорогостоящего союза. Впрочем, все тут будет зависеть от вас, от вас обоих, и только от вас, от вашей, так сказать, осознанной или неосознанной необходимости, ибо мы живем в царстве сексуальной свободы…
Энергетики, привыкшие к самозванцам, встретили их со спокойным и даже несколько сдержанным радушием (конечно, на несколько тысяч километров западнее такой прием показался бы теплым и даже восторженным): видно, гости все же поднадоели им за вечер.
– Заходите, мы всем рады, – сказала девушка Фая и принесла им чай с карамелью.
– Наш дом открыт… бум-бум… особенно для иностранных, – сказал старший энергетик Геворк Соломонович, передвигая фигуру на шахматной доске.
«Как в воду глядел начальник», – усмехнулся про себя Невпрус.
Телевизор в тоске бубнил что-то про узкопропашное мелкобороздье. Ясно было, что кривая подъема сельского хозяйства уползает куда-то в заоблачную высоту. Оставалось пожинать плоды. Однако время жатвы еще, вероятно, не приспело, что не могло умерить энтузиазм диктора. Энергетикам, кажется, не мешал бубнеж телевизора. Он, похоже, не оскорблял их эстетического чувства. Он вообще не задевал их чувств. Когда Гоч, желая быть предельно светским и общительным, кивнул на лысого диктора и спросил, всегда ли говорит правду этот человек, лишенный волос, – на него посмотрели как на бедолагу, удравшего из районной психбольницы. Геворк Соломонович нахмурился и еще глубже ушел в шахматную игру: он терпеть не мог провокаторов. Электрик Болтусовский только хмыкнул, а девушка Фая, жалостливо взглянув на Гоча, принесла ему остатки торта. Закаленный Гоч съел их на глазах у изумленного Невпруса и, вероятно, даже переварил.
«Все так, все правильно, – подумал Невпрус, – он и должен давить на жалость. Фая нам, пожалуй, подходит. Она татарка. Или она смесь татарки с украинкой. Это было бы еще лучше…»
Телевизор сообщил, что президент Рейган вербует головорезов для того, чтобы вырезать на корню все миролюбивые народы.
– Боже, – сказал Гоч. – В какие неделикатные руки народы вверяют свою судьбу!
Никто не понял, к чему это относится.
– Хотите манной каши? – откликнулась Фая. – Много каши осталось.
Гоч на время заткнулся манной кашей. А Невпрус думал о руках. Разве деликатные руки смогут удержать вожжи правления? И может быть, у Александра Федоровича были деликатные руки. Впрочем, ведь и вполне холеные руки могут себя марать без колебаний. Петр Аркадьевич вручал денежки на «Союз русского народа»… Певец Петра Аркадьевича об этом умалчивает. Он вяжет свои узлы, просеивая чужие мемуары и словарь Даля (ах, вы, наш сеятель!), а в промежутках играет в теннис. Играть как Владим Владимыч он, впрочем, уже не научится, поздно начал. Но с Далем, что ж… Безошибочный инстинкт Даля влек его в те края, где русские были еще более русскими, чем в самой России. Неспроста же он мечтал быть казаком, да еще луганским. Может, он предвещал появление храброго Клима, замудоханного Палеевского или дерзновенного Шолохова. А может, и самого автора узловатой истории нового века…
– Главное – это человеческий фактор, – сказал вдруг с уверенностью Геворк Соломонович и сделал рокировку. Никто не понял, о чем он, однако всем было известно, что старший энергетик зря болтать не станет.
Гоч отер губы рукавом своего странного бешмета и, привстав, поцеловал Фаину руку.
– С Кавказа, что ль? – пренебрежительно спросил электрик Болтусовский.
Гоч кивнул и неопределенно махнул рукой за перевал.
– Откуда именно с Кавказа? – упрямо спросил Болтусовский.
– Мой друг – дагестанец, – ввернул Невпрус.
– Собственно говоря… – начал Гоч неуверенно.
– Дагестанец дагестанцу тоже рознь, – упрямо сказал Болтусовский.
– Правда?
– А то нет? – Болтусовский был в раздраженном недопитии. – Аварец, к примеру, и даргинец – тут две большие разницы. И лакец, к примеру, им не ровня.
– Это возможно, – согласился Невпрус, размышляя над тем, какой же из этих загадочных народов стоит выше на энергетической шкале ценностей.
– Опять же, рутулец и табасаранец или, скажем, лезгин – это не то что тат. А вот возьмите кумык или ногаец – опять совсем другая статья…
– Столько прекрасных подвидов, – сказал Невпрус, соображая, как бы ему увести разговор в более спокойные воды.
– Подумать, сколь изумительно это почти неразличимое с высоты разнообразие мира Божьего! – сказал Гоч восхищенно.
– Однако разница между табасаранцем и татом простым глазом видна, – с вызовом сказал электрик.
Невпрус покосился на него с опаской: черт его знает, чего от него ждать. И чего он вообще хочет? Может, он борец за освобождение табасаранского народа от гнета рутулов. А может, просто он пил сегодня не то и некстати.
– Может, вы икры кабачковой хотите? – вполголоса спросила Фая у Гоча. – Все равно выбрасывать.
«Она устремляется в его сердце самым прямым путем», – подумал Невпрус, одновременно и радуясь успеху затеянной им интриги, и опасаясь за ее последствия.
– Я не знаю, что это значит, – сказал Гоч, поклонившись, – но я постараюсь съесть эту икру.
– Из каких же вы таких нацменов? – спросил Болтусовский с обидой на недостаточное внимание.
– Из этих… Из всяких… – неопределенно сказал Гоч. – А что такое, объясните мне, чечмек? – спросил он вдруг.
– Н-ну, это вот эти разные, которые тут у нас живут, – объяснил Болтусовский, со смущением глядя на старшего энергетика, принадлежность которого к чечмекам оставалась как бы невыясненной.
– Значит, я чечмек, – обрадованно сказал Гоч и бесстрашно налег на икру.
Когда он наконец очистил опустошенную банку корочкой белого хлеба, Невпрус взял его за руку и торопливо простился. Фаечка вышла вслед за ними под звезды.
– Теперь вы, молодежь, можете погулять, а я спать пойду, – сказал Невпрус, деликатно удаляясь в тень. – Ты только не заморозь девушку, друг мой Гоч.
Уже с дороги Невпрус услышал юный голос Гоча:
– А чечмек и чеченец – это тоже разные люди?
Невпрус с любопытством дожидался ответа, однако пауза что-то затянулась. В завершение ее раздался чмокающий звук. Похоже было, что вопрос Гоча решил в его пользу последние Фаины колебания. Чмокающий звук наводил на мысль, что целоваться Гоч толком не умеет. Впрочем, могло случиться, что он был представителем иной, не вполне современной любовной школы… Невпрус вдруг ощутил на плечах тяжкий груз моральной ответственности и отправился к сторожам, чтобы рассеять тягостный привкус неудавшегося европейского чаепития.
– Молодец, – сказал сторож в чалме, наливая ему чай в пиалу. – Ой, молодец! Совсем как наши люди.
– Я такой – и нашим, и вашим, – сказал Невпрус, прижимая к сердцу левую руку. – Это я вам говорю как табасаранец табасаранцу…
* * *
Роман Фаи с Гочем развивался с той стремительностью, с какой прогрессирует всякое недомогание в высокогорье. Иногда, вспоминая о тягостных морально-физических претензиях, свойственных романтической русской девушке, Невпрус начинал испытывать угрызения совести. Надо было все же набрать денег и женить парня на местной девушке. В конце концов, можно было придумать какую-нибудь финансовую авантюру. Например, похитить супругу Пидулова (или супругу Бидоева) и потребовать за нее выкуп серебряными тканями, арабским сервантом, конфетами, халатами и барашками. Женщина, каждая грудь которой весила добрых полпуда, стоит выкупа, а солидная женитьба для Гоча стоит всяких авантюрно-криминальных хлопот. Другими словами, игра стоила свеч. Если б еще уметь… Теперь же оставалось только ждать дальнейшего развития событий. О нем Гоч докладывал Невпрусу. Сам Гоч на правах жениха окончательно переселился теперь в вагончик энергетиков (даже Геворк Соломонович не возражал против этого, поскольку речь шла о жизненном устройстве его ценной работницы и активистки). Фая призналась Гочу, что в ее жилах, наряду с татарской, течет русская (рязанская), а также еврейская (гомельская) кровь. Последнее, особо доверительное сообщение она сделала страшным шепотом, но Гоч все равно не понял, в чем смысл этой странной алхимии. Фая призналась также, что она не девушка (без предупреждения Гоч, вероятно, ничего бы не заметил, а предупрежденный – был озадачен) и что у нее есть пятилетний ребенок (это Гоч наверняка заметил бы и сам позднее). Она работала техником и активно занималась профсоюзной работой. Работу эту (на основе Фаиных рассказов) Гоч понял как род благотворительной деятельности, сопряженной, впрочем, с большим количеством бесчисленных обрядов, а также устаревших ритуалов, например продолжительных собраний с заклинаниями и групповым гипнозом. Во время того единственного их свидания, когда им удалось остаться наедине в домике энергетиков, Гоч обнаружил в Фае некоторые запасы нерастраченного тепла и был окончательно покорен. Смысл происшедшего остался ему, впрочем, непонятен, и Фая, растроганная его неопытностью, обещала ему «привыкнуть», а также «перестать стесняться».
Невпрус сделал свое дело, но это не принесло ему радости. Во-первых, он терял в Гоче благодарного собеседника, во-вторых, уже начинал сожалеть, что бедный юноша, поселившись в горной республике, так и не увидит ни степей, ни приморья, ни готических соборов, ни древних русских монастырей, что он не воспарит душой в театральной зале или наполненной тихим людским шорохом публичной библиотеке. Невпрус был горячий патриот Родной Империи и неутомимый путешественник. Естественно, что он ждал единомыслия от своего восприемника. Впрочем, полной ясности с Гочем пока еще не было, и Невпрус не торопил события. В понедельник канатка встала на профилактику, и вся лыжная публика возвращалась воскресным вечером в город (в республике был практически один город, он же столица республики, населенная горожанами в первом и от силы во втором поколении, людьми, нежно привязанными к городской жизни).
У Невпруса еще оставались в городе кое-какие командировочные дела. На худой конец он мог придумать себе какое-нибудь небольшое дело на каждый день, например зайти на почту, на базар или в Союз писателей, а потом, утомившись, погреться на зимнем солнышке в городском сквере, прежде чем отправиться на отдых в гостиницу. И конечно же, он почти ежедневно встречался в городе со своим подопечным. Гоч жил теперь у Фаи. Они пока не могли сочетаться официальным браком, потому что у Фаи еще не было развода, а у Гоча – вовсе никаких документов. Впрочем, всему «Энергопроекту» уже было известно, что они муж и жена. Когда Фая уходила на службу, Гоч бывал свободен. Вместе с Невпрусом они ходили в краеведческий музей и на базар или же, сидя на скамейке в сквере перед памятником какому-то древнему поэту, созерцали линию гор, подступающих к столице.
– Хорошо в городе, тепло, – говорил Гоч, и Невпрус понимал, что друг его сам себя уговаривает, отгоняя неизбежную тоску по горным вершинам и безлюдным снегам. Гочу нравилось в городе многое. Он любил, например, изобилие восточного базара и веселую толчею у горзагса, где наряженные в серебристую одежду юные пары под свиристение музыки шли на регистрацию брака. Однажды Фая и Гоч были приглашены на свадьбу к сослуживцу. Свадьбу праздновали в городском ресторане «Быр-Тер-Кала», хотя и не самом лучшем, но далеко не худшем ресторане города. Гоч восхищенно таращился на панораму ущелья Быр-Тер-Кала, намалеванную на стенке ресторана, слушал разухабистую музыку оркестра и наблюдал пляски энергетиков, которые становились все неистовей. Потом Гоч попробовал вина. Позднее он так описывал Невпрусу свое ощущение:
– Мне показалось, что я оступился и лечу в пропасть. Было страшно – и прекрасно. А назавтра во дворе сосед дал мне зеленый порошок. Я положил его под язык, и снова кружилась голова, как над пропастью, где река. Ты летишь, падаешь, но не разбиваешься…
– И не блюешь тоже? – брезгливо спросил Невпрус, который был отчасти зануда и полный трезвенник.
– Нет, только чуть-чуть тошнит. Зато как страшно, и как хорошо.
– Такие люди, как ты, спиваются, – предостерег Невпрус.
Гоч еще дважды бывал в ресторане и даже научился танцевать.
– Мне бывает так жарко! – рассказывал он. – Все кругом веселы. Только чуточку слишком пахнет потом…
Как-то поутру Невпрус и Гоч совершили автобусное путешествие за город, на толкучку, где продавали баранов. Бараны шарахались от Гоча, он жадно вдыхал запах овчины и обводил ближние горы тоскующим взглядом. Невпрусу пришла в голову мысль, что у себя в горах Гоч время от времени отлавливал и съедал барана. Невпрус поморщился, однако по здравом размышлении решил, что, даже если оно так и было, в этих проступках Гоча слабой стороной была не нравственная, а правовая: бараны были чужие, они принадлежали пастухам или колхозам. В то же время у Гоча могла существовать на этот счет своя правовая точка зрения и даже какой-нибудь свой горно-уголовный кодекс. Тем более что ни равнинный, ни тем более общерусский уставы не годились, как он заметил, для здешней жизни вообще.
Многие события в его новой жизни представлялись юноше весьма странными. Однажды после просмотра нового кинофильма, состоявшегося в городском Доме кино, он долго сетовал на необъяснимый характер здешних жителей. Фая была приглашена туда другом-осветителем и взяла с собой Гоча. Ничего не поняв в фильме, Гоч безмерно скучал в темноте и, оглядывая публику, обнаружил, что другие скучают тоже. Однако когда зажегся свет, все стали хвалить режиссера и делать вид, что они прекрасно провели время. Гоч ломал голову над странностями поведения зрителей.
– Вполне возможно, что это происходит от их доброты, – сказал Невпрус, утешая друга. – Они знают, что изготовители кинолент – люди болезненно тщеславные, так что всякое неосторожное, то бишь нехвалебное, слово может их жестоко ранить. Вполне возможно также, что создатель этой картины является человеком опасным или влиятельным, тогда зрители его побаиваются.
– Разве жизнь в городе опасна? – удивился Гоч.
– Не в прямом смысле… – задумчиво сказал Невпрус. – Прямой опасности для жизни нет, людям не грозят ни смерть, ни голод, но городские люди боятся всего. И они очень дорожат мелкими достижениями, которые позволяют им сохранять равновесие психики. Я готов согласиться, что это мелкие чувства, но от равнинного человека и нельзя требовать слишком многого. Между тем и здесь, в городах, по временам встречаются и нежность, и доброта…
– Да, да, конечно, – сказал Гоч неуверенно, – я не могу спорить…
По его неуверенному тону Невпрус впервые понял, что семейная жизнь Гоча складывается не вполне благополучно. Догадку эту подтверждал тот факт, что Гоч весьма часто рассказывал другу о доброте, о красоте, остроумии и прочих совершенствах пятилетней Фаиной дочки, Женечки, но ни разу не упомянул больше о Фаиной доброте и ее тепле, которыми был совершенно покорен в горах.
– Вот вчера, – рассказывал Гоч, – Женечка сказала: «Дядя Гоч, давай споем для этой собаки». И мы спели. Но собака ушла от нас, и Женечка сказала: «Как жаль, что ей это не понравилось, Гоч. Надо было нам петь по-собачьи»…
Слушая, Невпрус думал о том, что семейная жизнь Гоча, вероятно, не ладится, и однажды, во время их беззаботной прогулки по базару, Гоч подтвердил худшие опасения Невпруса. Он рассказал, что физическая близость не сблизила их с Фаей, а напротив, только отдалила. Фае недостаточно было простого прикосновения, их телесного тепла и даже самого восторженного таяния. Она требовала все более и более энергичных движений, некой суетливой и неутомимой гимнастики, на всем протяжении которой она напряженно прислушивалась к голосу некоего ненасытного бога, требовавшего этой жертвы, и совершенно забывала о нем, Гоче, о близком человеке, жаждавшем лишь ее тепла. Упражнения эти только докучали Гочу и даже оскорбляли его малозначительностью достижений. На таких условиях он вообще хотел бы избежать того, что люди столь неточно называли сближением и что только мешало их настоящей близости. В общем, Фае стало более или менее ясно, что он был горный фаллократ, помешанный на своих антитезисах тепла и холода. Ему же в постельной гимнастике чудился лишь унылый холод, навеянный бетонными стенами города. Холод проникал в его кости, душу, в его половые органы.
– Да, да, охлаждение, фриджидизация, замораживание, фригидность, дип-фриз… – бормотал огорченно Невпрус, листая англо-русский политехнический словарь. Словарь пренебрегал техникой, а если на то пошло, то и политехникой брачной жизни. Он мог предложить лишь «рефрижераторные суда» и «глубокое охлаждение».
«Поскольку постельные расхождения уже обозначились, – думал Невпрус, – им грозят теперь идейные разногласия…» Он глядел на растерянное лицо Гоча и думал о том, что ему самому уже пора ехать по своим командировочным делам в степь, а потом и в Москву. Так что придется бросать своего подопечного на произвол судьбы в незнакомом городе. Невпруса мучило чувство вины. Нет, надо было все-таки умыкать русскую жену Пидулова и ждать, пока толстосумы не выгрузят на снег у кишлака арабский сервант, трюмо и ящики с карамелью. Кишлачная девушка все поняла бы про человеческое тепло, а главное – ни за что не приставала бы к мужу со своими эгоистическими глупостями: она терпеливо ждала бы первой беременности, чтобы потом зачать второго ребенка. Впрочем, Невпрус еще не догадывался, как сильно они просчитались и сколь легкомысленны были его советы. Не мог он предусмотреть и направления, в котором будет расширяться трещина, едва обозначившаяся в семейной жизни Гоча. Поэтому он немало был озадачен, когда Гоч явился к нему в гостиницу ранним утром и чуть не плача сообщил, что Фая запретила ему общаться с ребенком:
– Я даже не понял отчего. Я вообще ничего не понимаю. Она избила ребенка. Я хотел выбросить ее за это в окно. Потом я успокоился и выпрыгнул сам. Я бежал.
Невпрус сказал, что так все-таки нельзя. Он сказал, что надо вернуться и все выяснить по-хорошему. Он добавил, что всякая семейная жизнь полна подобных столкновений и в этом заключаются ее неудобства.
– Я не боюсь неудобств, – сказал Гоч. – Я боюсь, что не смогу теперь ощутить тепла в постели. И даже тепла в разговорах. К тому же, если из-за меня будут бить несчастного ребенка, я этого не перенесу. Разреши мне заночевать у тебя…
Наутро Невпрус должен был ехать в командировку в дангаринскую степь для освещения передового опыта какого-то чабана-каракулевода. Гоч увязался за ним, настаивая на том, что чабаны и овцы – это его стихия. Районное начальство, благосклонное к творческим замыслам Невпруса, вывезло обоих друзей на летовку, где чабан-орденоносец без устали и без остановки гонял по кругу беременных каракулевых овец. Ожидая возвращения старшего чабана в кошару, Невпрус и Гоч лежали на прогретой солнцем земле и смотрели вверх, на облака, или по сторонам, вдоль линии библейских холмов.
Как только пастух вернулся, он стал варить мясо. Он понимал, что городские люди изголодались по мясу, и привык к тому, что они приезжали к нему обжираться мясом, притворяясь при этом то корреспондентами, то контролерами, то распространителями его замечательного передового опыта. Опыт заключался в том, что чабан способствовал рождению здорового и кучерявого ягненка с хорошими смушками, после чего ягненка следовало немедленно зарезать. Овцы, впрочем, не знали, к какому финалу приведет их столь хлопотная беременность: они смотрели на старшего чабана покорно и даже подобострастно, а на гостей с доверчивым любопытством.
Доверив отару подручному, чабан решил покатать гостей по холмам на собственном газике. Он ехал напрямик, через холмы и степь, и Гоч сказал, что это напоминает ему путешествие по Монголии. Однако он не мог вспомнить, когда он был в Монголии и зачем. Сдается, что он сопровождал отряд незабвенного Петра Кузьмича Козлова, но в ту пору еще, кажется, не ездили на машинах, даже в Монголии. Вообще воспоминания Гоча не внушали Невпрусу никакого доверия, потому что на исходе дня Гоч вдруг вспомнил, что он, кажется, действительно ездил по Монголии на автомашине, выполняя задание какой-то земской газеты. То ли какой-то сельской газеты. Вообще со временем и временами у него был явно какой-то сдвиг, приводивший к неувязкам. А может, никаких неувязок не было. И разве уж так все связано в нашей с вами (куда более упорядоченной, чем у какого-то там Горного человека) жизни?
Старший чабан пригласил их заночевать у себя в кибитке, которая даже нетребовательному Невпрусу показалась до крайности убогой, тем более что старший чабан занимал весьма высокое общественное положение. Заработки у него были тоже высокие, хотя сама по себе оплата каждого убиенного агнца и выпаса его безутешной матери была ничтожна. По всей вероятности, доход поступал с какой-то другой стороны. Может быть, со стороны неучтенного, как бы тайного стада, размеры которого в республике давно переплюнули размеры тайной эмиграции в странах загнивающего мира. Невпрус сказал, что ему никогда, наверно, не удастся постигнуть сложные законы социалистического доходообразования.
– Как твой статья будет назвался? – спросил чабан.
– «Заботы Ирода». Или, если хочешь, – так: «Иродиада».
Чабан одобрил оба названия, хотя, кажется, оба ничего ему не сказали. Пастух объяснил, что мировые цены на каракуль стремительно падают, так что труд его больше не приносит родине ценных ненаших денег, которые ценятся отчего-то больше, чем наши. Если бы не эти проклятые шкурки, можно было бы дать ягнятам вырасти и накормить мясом всех приезжающих представителей, сколько бы их сюда ни прислали. Невпрус призадумался и сказал им, что, может быть, следует назвать статью «Плов входящему».
Так или иначе, через три дня они вернулись в город, и Невпрус сказал, что Гоч непременно должен пойти к Фае.
Невпрус проводил Гоча до дому и подвигнул его на подвиг терпения. Однако уже через день Гоч прибежал к нему очень взволнованный и бледный.
– Она сошла с ума, моя жена, – сказал он. – Она ревнует меня к своему ребенку. Она говорит, что я влюблен в девочку.
– Что же тут худого? – спросил Невпрус уныло.
– Еще говорит, что руки у меня по ночам светятся. Невпрус хмыкнул:
– А это чем плохо? Она это видела и раньше…
– Теперь она говорит, что это от воздержания.
Невпрус взял на себя переговоры с Фаей. Он долго и старательно доказывал ей, что ни в доброте Гоча к ребенку, ни в свечении его кожи нельзя найти ничего по-настоящему безнравственного.
– Может, это, конечно, все так, как вы рассказываете, – горько сказала Фая, – хотя все же обидно, если собственный муж избегает твоей близости. И все же одно вы не будете отрицать – что он не наш человек…
Формулировка показалась Невпрусу близкой к истине. Однако от нее веяло таким ледниковым ужасом, что Невпрус решительно замахал руками и призвал к себе на помощь всю свою газетную эрудицию. Он убеждал Фаю, что, напротив, Гоч очень даже наш современник и чем-то напоминает ему то ли героев знаменитой «Молодой гвардии», то ли героев писателя Поваляева. Фая (как, впрочем, и сам Невпрус) «Гвардию» изрядно уже подзабыла (а Поваляева, как и он сам, не читала вовсе), так что спорить основательно не могла, однако столь высокие параллели заставили ее впредь формулировать осторожнее.
– Скажем так: он человек необычный, – продолжал Невпрус, развивая свой успех. – Еще бы – столько времени провести в горах. Конечно, с нашей стороны было ошибкой…
– Отчего же это ошибкой, – агрессивно сказала Фая, и Невпрус понял, что так просто это дело не кончится. Он заговорил еще более примирительно и высказал надежду, что все в конце концов образуется и что Гоч привыкнет мало-помалу к нашей городской и семейной жизни. Именно в этом примирительном направлении Невпрус собеседовал позднее и с самим Гочем, однако еще через два дня произошла история, которая поставила Невпруса перед необходимостью принять решение, ибо груз ответственности, сгибавший его плечи, стал невыносимым.
Произошло же следующее. Фая попросила Гоча встретить ее в вестибюле «Энергопроекта», а потом, отвлекая разговором, повела его наверх, так что в конце концов Гоч оказался перед столом в какой-то весьма празднично (с явным преобладанием красного цвета) убранной комнате, лицом к лицу со множеством озабоченных людей, восседавших за длинным столом. И вдруг в самом центре стола Гоч увидел знакомое лицо Геворка Соломоновича и, обрадовавшись, приветливо ему улыбнулся. Однако Геворк Соломонович не ответил на улыбку Гоча. Вообще он мало похож был на того солидного и отечески доброжелательного уродца, каким он представал перед Гочем в горах, за шахматной доской. Здешний Геворк Соломонович, откашлявшись, заговорил сурово и нудно:
– К нам в партком поступили неоднократные сигналы… хотя вы не состоите на учете в нашей организации, сигналы, поступавшие неоднократно от нашего ценного работника-активистки, мы не могли, руководствуясь человеческим фактором… – И так далее и тому подобное.
Последовало дотошное расследование семейной жизни Гоча с Фаей, их отношения к ребенку и даже их интимных отношений. Гоч не понимал, какой смысл может иметь подобное непрофессиональное обсуждение их супружеских затруднений, тем более что Геворк Соломонович сам при этом настаивал, что он не врач-сексолог, и вообще секса как буржуазного занятия не признает, и хочет только установить высоту морального уровня гражданина и ему помочь. Услышав вопрос председательствующего, чем партком мог бы помочь Гочу и Фае, чтобы Гоч исправился и лучше понял свои семейные обязательства, Гоч долго раздумывал и сказал наконец, что он давно замышляет ремонт и хотел сперва, чтобы Геворк Соломонович помог ему вынести в коридор тяжелый шифоньер. Однако теперь поскольку он раздумал делать ремонт и вообще не знает, что ему делать с Фаей и как с ней поступить, то, может быть, шифоньер выносить даже и не придется, спасибо. Вот разве что… Гоч вдруг вдохновился своей новой идеей и предложил Геворку Соломоновичу прийти к ним как-нибудь ночью и попробовать сделать все, что требует от него Фая и что, наверно, умеет партбюро, или хотя бы показать ему, как все это делается и зачем, потому что сам он, Гоч, всего этого понять совершенно не может. Услышав такое предложение, Геворк Соломонович засопел обиженно и сказал, что придется, наверное, вызвать Гоча еще куда-нибудь повыше и пусть он там выступит со своим хамским предложением – перед Бидоевым или перед Пидуловым. В ответ на это Гоч легкомысленно сказал, что его вообще сюда никто не звал, они просто так, случайно зашли, потому что Фая забыла, кажется, какую-то там сумку или не сумку, так что… Неожиданно поклонившись президиуму, Гоч вышел вон и отправился к Невпрусу, которого и просил объяснить, почему это так много некомпетентных людей собирались, чтобы обсудить их с Фаей семейную жизнь.
– Я и сам никогда не мог понять подобных вещей, – сказал Невпрус огорченно. – Одно я понял, друг. Что тебе надо линять. Женитьба твоя не удалась, и в этом отчасти и моя вина тоже. Убегать надо, понял ты? И куда подальше.
– Куда же? – спросил Гоч, затравленно озирая кольцо гор.
– Ну, скажем, в Москву.
– А-а-а!
Гоч за последние недели так много раз слышал упоминания о Москве, что подобное предложение вызвало у него детский энтузиазм. Он знал, что Москва – это самая настоящая столица и самый большой город на земле, что там всякие встречи с интересными людьми, а Фая, например, часто говорила, что в Москве имеются продукты и промтовары, а также большой ассортимент. И вот теперь Гоч поедет в Москву, и, хотя он не знает, что такое ассортимент, он рад. Гоч обнял Невпруса и спросил, нельзя ли ему уехать скорее, даже сегодня. Невпрус посмотрел на часы и сказал, что можно, вероятно, и что так даже лучше. Надо только зайти в ЦУМ и купить что-нибудь теплое, после чего можно ехать на вокзал. Сам Невпрус собирался лететь позднее, на самолете и встретить Гоча уже в Москве. Невпрус спросил на всякий случай, не хочет ли Гоч попрощаться с женой, и с облегчением обнаружил, что у Гоча нет на этот счет никаких предрассудков: он не хотел. Он сказал, что целиком полагается в этом вопросе на Невпруса.
– Ты дал мне эту жену, – сказал Гоч. – Раз она не оправдала твоих ожиданий, о чем же мне с ней разговаривать? К тому же… – добавил он менее торжественно, но зато более горячо и простодушно. – К тому же она надоела мне до ужаса. Если ты все же хочешь, чтоб я с ней поговорил, или хочешь поговорить с ней сам…
– Упаси Боже! – воскликнул Невпрус. – Так как собирать тебе нечего, мы можем уходить. По дороге нам еще надо зайти и купить пальто. – Невпрус глубокомысленно порылся в бумажнике и добавил: – А может, ты просто наденешь мой свитер под свой бешмет, а уж там, в Москве, я тебе добуду что-нибудь дармовое.
– Ты великодушен и щедр, – сказал Гоч. – Мое сердце полно благодарности, но не теряй же времени! Я хочу увидеть поезд. И хочу как можно скорее увидеть Москву. Там действительно есть златоглавые рубиновые звезды?
– Боюсь, ты будешь сильно разочарован, – сказал Невпрус. – Впрочем, как говорила одна интеллигентная дама (Боже, в каком обществе я циркулировал в юные годы!), реакции твои непредсказуемы, Гоч. Может быть, тебе и понравится дорогаямоястолица, так сказать, золотаямоямосква. А может, и поезд тебе понравится, электровоз, вперед лети, кому не остановка?
– Льщу себя надеждой, – сказал Гоч, укромно загибая обтрепанные рукава своего бешмета.
– Ого, остолбеныть! – сказал Невпрус. – Ты тонкий стилист, Гоч. Что ж, поехали на вокзал.
Гоч был несколько смущен теснотой и многолюдьем плацкартного вагона.
– Ничего, освоишься, – сказал Невпрус. – Я в юности немало постранствовал в таких говнюшниках. Так или иначе, на купейный у меня уже просто не хватает денег, а занять нам здесь, дружище, не у кого.
– Ничего, – сказал Гоч, стараясь быть и веселым, и вежливым. – Тут очень тепло. Мне, наверно, понравится…
– Еще как понравится, – сказал Невпрус. – Стерпится – слюбится.
Он улыбнулся, махая вслед вагону, и все же на душе у него было смутно. Черт его знает, что может приключиться в дороге с ненашим человеком, да еще и не имеющим бумаг, с этаким беспачпортным бродягой в человечестве. А вдруг проверка документов. До такого сам неистовый Виссарион не додумался бы.
Гоч не объявился в Москве ни на четвертый, ни на шестой день, и беспокойство Невпруса (а с ним и угрызения его вечно нечистой совести) достигло предела…
* * *
По всем расчетам поезд должен был прибыть в Москву уже на четвертые сутки, а Гоч все не появлялся. «Даже если с ним ничего плохого не случилось в дороге, он может и не подумать о том, что друг его беспокоится, – утешал себя Невпрус. – Все эти беспокойства, волнения, все эти условности, знаки вежливости и чувства благодарности ему чужды».
Однако утешение это не возымело действия. С Гочем могло случиться что угодно: у него не было документов, он был человек непривычный и нездешний, вид у него был до крайности подозрительный, речь его казалась странной. Невпрус съездил раз или два на Казанский вокзал, однако ничего не смог там узнать о странном человеке по имени Гоч. Напрасно Невпрус говорил себе, что, в конце концов, он Гочу не отец и не прислуга, что юноше надо как-то начинать самостоятельную жизнь в этом мире: ни один из этих аргументов не смог окончательно усмирить терзания его щепетильной совести.
Гоч объявился ранним утром, дней через десять. Голова у него была горделиво украшена железнодорожной фуражкой, а в манерах его появилось что-то простонародное. На возбужденные расспросы Невпруса он отвечал одной фразой, произносимой нараспев:
– Чайку б теперь испить, самое время, охота, страсть…
За чаем он вернулся мало-помалу к обычной своей речевой манере и поведал следующее.
В поезде ехать Гочу определенно нравилось. Во-первых, за окном пробегали непривычные пейзажи: Гоч даже не подозревал, что на свете может быть так много плоской, равнинной земли. Он был поражен этим открытием и почти все время проводил у окна. Во-вторых, ему понравились попутчики (Гоч почему-то упорно называл их «простые советские люди»). Когда у Гоча кончились припасы и деньги, выданные ему Невпрусом, простые советские люди давали ему то сушку, то соленый огурец, а то и просто ломоть хлеба. Это было с их стороны очень благородно и приходилось всегда кстати, так как аппетит у него в дороге был отличный. Скорое обнищание Гоча объяснялось тем, что два его соседа постоянно приглашали его выпить спиртного и Гоч должен был «скидываться с ними на троих». Подобных дорожных расходов Гоча Невпрус, конечно, предусмотреть не мог.
– Не люблю, когда пьют на чужие! – вдруг с пафосом заявил Гоч за чаем.
– А вообще ты разве любишь, когда пьют? – удивился Невпрус.
Оказалось, что Гоч и вообще не любит, когда пьют, но еще больше он не любит, когда пьют на чужие.
– Пить на свои, – заявил он серьезно. – Это главный этический принцип русского человека.
Дорогой Гоч ознакомился также с главным этическим принципом мусульманского человека: хороший человек – это тот, который уважает старших и хорошо относится к родственникам и к односельчанам. У интеллигентных людей, как выяснил Гоч в вагоне, этические принципы были еще проще.
– Там был один профессор, – вспоминал Гоч. – Он говорил так: «Хороший человек – это тот, кто ко мне хорошо относится. Очень хороший человек – тот, кто ко мне очень хорошо относится. А плохой, соответственно, тот, кто относится ко мне плохо». Однако здесь речь шла о нравственных людях, – продолжал Гоч. – О людях, которые руководствуются теми или иными этическими принципами, а между тем встречаются даже у нас простые советские люди, которые не имеют никаких нравственных принципов. Они пьют на чужие, они не помогают престарелым родителям, они не делают разницы между своим и чужим родственником, они обижают земляков…
* * *
Собутыльником Гоча, кроме диспетчера чего-то и руководителя где-то, был однажды проводник их вагона Василий, который как раз и оказался человеком неэтическим. Во-первых, он пил не на свои и при этом был пьян постоянно. Во-вторых, он облевал купе и убирать за ним пришлось его жене и напарнице Шуре. В-третьих, он не заботился о своих родителях и даже о своих детях. Кончилось тем, что Василий, проспав двое суток, потерялся на какой-то станции и вагон остался без второго проводника. Руководитель чего-то и диспетчер где-то осуждали блюющего проводника Василия и высказывали подозрение, что с таким, как он, коммунизма, скорей всего, не построишь. И напротив, они очень рассчитывали в этом смысле на Гоча, который, по их мнению, был в доску наш человек и притом еще настоящий человек, хотя и чечмек.
– Вот Маресьев, – говорил о Гоче подкованный диспетчер чего-то. – Он тоже ведь был какой-то там не наш. А я вот всегда говорил, что среди чечмеков попадаются настоящие люди, как наш брат русский.
Похвала эта относилась в первую очередь к тому, что Гоч все свои скромные средства, до последнего рубля, честно внес в алкогольную складчину и при этом не старался выжрать больше других. Кроме того, он охотно и бескорыстно помогал проводнице Шуре, которая, несмотря на свое руководящее положение в вагоне, при ближайшем рассмотрении тоже была простой советский человек. Когда последний рубль Гоча был унесен порочной страстью его попутчиков, Шура начала помаленьку подкармливать Гоча в своем проводницком купе, где у нее были обширные запасы провизии, приготовленной для съедения и для продажи на станциях. Ласково глядя на Гоча, поедающего жареную картошку прямо со сковороды, Шура делилась с ним разнообразными полезными сведениями, приобретенными ею в труде. Она очень точно знала, на какой станции что нужно купить и где потом это же самое продать, чтобы способствовать бесперебойному снабжению нашего народа, а также повышению ее собственного несправедливо заниженного проводницкого оклада жалованья.
«Ну какой же человек хороший!» – невольно восклицала Шура, глядя, как внимательно слушает Гоч и как быстро он ест.
«Какая умная, какая замечательная женщина! – говорил о ней Гоч. – Она могла бы стать министром торговли, если бы только женщине было прилично заниматься политикой. Но ей и не нужно этого. Она и так совершает большую и нужную для страны работу, не оставляя при этом приготовления пищи и не теряя своего женского обаяния».
Сидя в купе у Шуры, Гоч не раз чувствовал, что от нее исходит очень явственное человеческое тепло, и вот однажды, после того как он отдежурил за нее полночи и пришел к ней в купе, чтоб ее разбудить, ему представился случай убедиться, что ответственная железнодорожная работа не лишила Шуру интимной прелести и того избытка женского тепла, который Гоч искал в городе, но которым, на его несчастье, оказалась обделена активистка Фая. Поскольку проводник Василий до самой Москвы так и не объявился, то в следующий рейс Гоч отправился вместе с Шурой (она посоветовала ему не оформляться и вообще пренебречь мелочью зарплаты, потому что не из этого складывается доход профессионально опытного человека). Для Гоча и Шуры это было воистину свадебное путешествие, и долгими бессонными ночами они беседовали о будущем, а также делились друг с другом своими жизненными мечтами. Мечтой Шуры была проводницкая работа в поезде Москва – Париж. Она не только заранее досконально изучила все станции этого рейса, но даже (несмотря на полное незнание французского языка) довольно неплохо освоила по карте город Париж, знала окрестности его Северного вокзала, все его дешевые магазины и его «вшивые» (по-французски будет «блошиные») рынки. Все это она умела показывать на карте, и Гоч сказал ей восторженно, что она могла бы работать не просто торговым министром, но даже министром внешней торговли.
– Смогла-то я бы смогла, – кротко согласилась Шура. – Ленин вон писал, что и кухарка смогла бы, не только что проводница дальнего следования. А только некому меня на это место двинуть, своего человека нет. А там везде нужен блат для хороших-то мест…
Мирные беседы их иногда прерывались приходом старшей проводницы или начальника поезда, которым Шура безропотно и даже охотно вручала часть своего постороннего заработка.
– Что ж, – говорила она, – это по совести. Раз они другим людям не мешают заработать, им тоже дать нужно, а они выше дадут, и так выше, выше, до самого что ни на есть верху. А которые для контроля приставлены специального над злоупотреблением, тем и вдвое перепадет.
Мир, по Шуриному мнению, был устроен разумно и справедливо, только она не могла точно сказать, сколько же, к примеру, доходит приварку до самого государственного верху, более или менее, чем, скажем, начальнику поезда. С одной стороны, там и дела как будто должны были бы обделываться покрупнее, а с другой, подумаешь, сколько же по дороге осядет (к рукам прилипнет) у всяких бригадиров и диспетчеров, дойдет ли чего наверх? Когда Гоч высказал убеждение, что государь император не опустится до того, чтоб брать, у Шуры даже слезы на глазах выступили от одного подозрения о возможности такого благородства.
Гочево проводниковство кончилось скандалом, потому что он не знал и не учел (Шурино было упущение), что милиционер, хотя бы и самый маленький, тоже является разрешающе-запрещающим начальством, которому надо давать безотказно. По горной своей наивности он пытался оградить Шуру от таких неожиданных поборов и объяснялся так высокопарно и невразумительно, что милиционер с безошибочным чутьем потребовал у него документы. Кончилось бы это и совсем плохо, да Шура поспешила на выручку, заперла Гоча в своем купе от скандала и откупилась щедростью и умением, выдававшим в ней знание психологии. Дальнейшее путешествие Гоча стало теперь небезопасным, и Шура срочно отправила его со знакомой проводницей в Москву.
– Это была неутомительная и очень ценная в просветительском смысле работа, – сказал Гоч, подходя к концу своего рассказа о должности проводника. – Кроме того, она очень полезна населению. Я с удовольствием продолжил бы эту деятельность под руководством Шуры, на которой я мог бы жениться, если б только я имел документы, а она смогла бы получить развод у Василия, который безвременно пропал, но и до своей пропажи был все время бесполезный и безнравственный гражданин нового общества.
Гоч попутно посетовал на трудности построения коммунизма с такими вот отдельными Василиями, которых, увы, еще немало, и сообщил, что на первое время он поселился у Шуриной тети, которая, к сожалению, совершенно глуха, но при этом, к еще большему сожалению, очень разговорчива.
Невпрус обещал серьезно задуматься над перспективами московской жизни Гоча. Перспективы эти были пока довольно туманны, так как у Гоча не было московской прописки. И, словно вознамерившись еще более затуманить эти перспективы, Гоч исчез после своего визита на добрых два месяца, в течение которых Невпрус все же навел кое-какие справки о возможностях его трудоустройства. Возможности эти были весьма ограниченными. Невпрус знал, что бывают какие-то очень неплохие, так называемые штатные, должности даже в той области, к которой он с гордостью считал себя причастным. Однако ему как невпрусу никто никогда не предлагал этих должностей, и как их вообще добывают, Невпрус не знал. Ему самому время от времени предлагали какую-нибудь внештатную работу, по большей части «негритянскую», то есть на условиях творческой анонимности. А также давали командировки, раз у него, Невпруса, нет никаких других способов вступить в деловые отношения с государством. По каким-то неведомым причинам (вероятно, у него все же были на это какие-то свои резоны) Невпрус считал себя любимым сыном государства и целую свою жизнь приводил в подтверждение этого тезиса. Некоторые (чаще всего наиболее завистливые) с ним соглашались: какой-то не вполне русский человек занят непонятно чем, ездит и что-то пишет, а чаще и вовсе свободен, хотя и не вполне тунеядец. Иные пожимали плечами – что уж там такого приобрел в жизни этот бедолага, другие, даже не вполне русские, люди у нас имеют свой автомобильный транспорт и всякую личную технику, а также дорогостоящие предметы домашнего обихода и главное – имеют власть и могущество, которые заключаются в умении все достать, что станет для них необходимым. Впрочем, и та и другая категории невпрусовских знакомых относились к нему со снисходительной жалостью.
Убедившись, что он бессилен найти что-либо стоящее для Гоча (не имеющего к тому же ни паспорта, ни московской прописки), Невпрус успокоил себя тем, что, во-первых, Гоч куда-то исчез и можно хотя бы временно не беспокоиться о нем (в отличие от большинства не вполне русских людей, Невпрус не любил беспокоиться впрок), а во-вторых, тем, что Гоч показал ему во время своего визита довольно внушительную пачку красных десятирублевых бумажек, которую подарил ему на прощанье диспетчер чего-то.
– Его зовут Диспетчер, – сообщил Гоч доверительно, – он объяснил мне, что денег у него, как мусора. Он даже сказал еще грубее. Он требовал от меня, чтобы я вносил свой рубль на выпивку, только оттого, что он человек принципа. При расставании он сказал мне, что я выдержал испытание как человек, как гражданин и парень. И он добавил, что деньги смогут мне очень пригодиться. Но они не пригодились. Я боялся, что если я буду щеголять деньгами, то смогу лишиться Шуриного тепла и сострадания, поэтому я отложил их про черный день, тем более что Шуре было тоже известно, что не в деньгах счастье, – она сама мне об этом сказала. Теперь на эти деньги мы сможем жить с Шуриной тетей до самого Шуриного возвращения. Кстати, руководитель где-то, который пил с нами, тоже обещал мне всякое содействие в жизни, однако диспетчер чего-то сказал, чтобы я не особенно полагался на такие обещания, потому что всякое руководство временно, а диспетчерство более или менее постоянно.
– От тюрьмы до тюрьмы, – уточнил руководитель где-то, но Гоч считал, что это была мрачная и неуместная шутка.
Итак, вспомнив о красных бумажках, подаренных Гочу нравственным диспетчером чего-то, и даже успокоив себя дополнительно воспоминаньем о посулах руководителя где-то, Невпрус смог целиком отдаться своим проблемам, которые, несмотря на некоторую их эфемерность и даже, вероятно, полную несерьезность, в последнее время занимали и беспокоили его все больше. Дело в том, что, по мнению некоторых из его друзей, проза, которую всегда с таким энтузиазмом и с такой беспечностью писал Невпрус, достигла того замечательного уровня, на котором ее уже можно было читать без скуки, а также совершенно добровольно. Между тем, как смог убедиться Невпрус, прочитав во время вынужденных задержек в аэропортах подряд несколько выпусков роман-газеты, даже прозу, издаваемую столь широко и благоприятно, читать было мучительно. Из этих двух открытий Невпрус сделал совершенно ложный вывод о том, что, стало быть, его собственную столь безболезненно читаемую и даже порой осмысленную прозу можно и нужно печатать для пользы великого народа, который он, несмотря на свой не вполне безупречный национальный профиль, считал определенно и окончательно своим. Сделав первые шаги на этом малоприятном и заведомо корыстном пути, якобы ведущем к изданию художественных произведений, Невпрус столкнулся не с какими-нибудь там отдельными препятствиями, а с глухою стеной неприятия, замаскированной всякими коварными плакатами вроде «Боритесь за качество!» или «Добро пожаловать!». Если бы не любовь к родной природе и не повышенное пристрастие к русским женщинам, Невпрус мог бы, отчаявшись, ощутить себя пасынком в родном краю. Впрочем, даже усиленное общение с природой и русскими женщинами не всегда помогало ему напрочь забыть о печальном неблагополучии, которое чудилось ему в сфере отечественного издательского дела (оговоримся здесь сразу, что неблагополучны были только дела Невпруса, а родное наше издательское дело развивалось по своим незыблемым законам и потому уже не могло считаться неблагополучным, что принесло прочное благополучие столь многим литературным и окололитературным семьям).
Между тем время шло, а Гоч все не появлялся. При всей скромности своих собственных бытовых потребностей Невпрус был не настолько генералиссимус, чтобы полагать, что на сто рублей можно жить вечно [1] . Конечно, можно было предполагать какое-то воспомоществование со стороны проводницы Шуры (ее образ в описании Гоча произвел на чувствительного Невпруса весьма трепетное впечатление), однако сомнительно было, что гордый горец станет так долго жить на содержании трудящейся женщины. Здесь крылась какая-то тайна, и она раскрылась при новом посещении Гоча, последовавшем в разгаре лета. Выяснилось, что Гоч все это время не сидел без дела.
Поначалу ему посчастливилось попасть в сообщество азербайджанцев, вместе с которыми он начал торговать цветами. Впрочем, это продолжалось недолго. Подвело Гоча нечеткое знание азербайджанского языка (он отчего-то все время путал его с лезгинским), а также привычка раздавать цветы детям. Чуть позднее Гоч вышел на осетин, которые охотно приняли его в свою компанию и даже сумели раздобыть ему паспорт.
– Это стоило немалых денег, – сказал Гоч горделиво. – Но ведь самое важное для человека – паспортизация и прописка. Зато это дало мне возможность познакомиться со многими хорошими людьми в милиции, так что скоро я и сам начну работать милиционером. Однако сперва я должен отдать долги. Приходится крутиться, делать дела…
– Как ты крутишься? – изумленно спросил Невпрус.
– В данный момент я продаю свою фамилию, – сказал Гоч.
– Какая у тебя теперь фамилия?
– Неплохая. Я Гочоев. Оказалось, что в Москве немало людей, которые хотели бы купить мою фамилию. Я никому из них не отказываю.
– Фантастично. И что это за люди?
– Толком я не знаю. Они называют себя евреи. Им всем зачем-то нужна моя фамилия. Один сказал, что он без моей фамилии не станет заведующим лабораторией. Сейчас он уже, наверно, заведующий, и если тебе, Невпрус, нужно сделать анализы…
– Мне не нужно делать анализы, – грустно сказал Невпрус. – Я о себе все знаю. А зачем еще может пригодиться еврею твоя фамилия?
– Один из них сказал, что он лектор по сионизму. А со своей фамилией он даже приличное объявление дать не может. Про другое же он не умеет рассказывать… Тебе стало жалко фамилию? Не огорчайся! Когда я выплачу долги осетинам и стану сам милиционером…
– Ты окончательно испортишь себе трудовую книжку, мой мальчик, – озабоченно сказал Невпрус и вдруг вспомнил, что у него самого никогда не было трудовой книжки («Боже, какую эфемерную жизнь я веду у себя же на родине!»).
– Я знаю, – сказал Гоч с теплотой. – Ты прочил меня в литературу, отец. Но мой час еще не пробил, вот и все. Кстати, кто такой был Мандельштам? Ты читал Мандельштама?
– Это в милиции тебя спрашивали о Мандельштаме? – насторожился Невпрус.
– Да, один милиционер много говорил про него. Милиционер-осетин. Он меня не спрашивал. Он мне сам сказал, что это был лучший советский поэт, потому что он один в то время писал правду. Это он объяснил, в чем была главная из заслуг генералиссимуса.
– В чем же была его главная из заслуг? – против воли поинтересовался Невпрус.
– А-а! Вот ты не знал! У него была широкая грудь осетина. Теперь это стало всем известно. За это мои друзья очень высоко ценят оду Мандельштама, воспевающую генералиссимуса. Никто не смог показать лучше его величие, чем Мандельштам. Вот если б ты, отец, мог написать такое стихотворение…
– Не приведи Господь! – сказал Невпрус, побледнев.
– А жаль, – сказал Гоч огорченно. – Марина говорит, что я тоже мог бы писать стихи. Она находит, что у меня возвышенный слог и высокая душа. Только она считает, что мне подошла бы фамилия Шан-Гирей. Она про это все знает. Она литературовед.
– Но Шура? Где Шура?
– Шура… это грустная история. Нашелся Василий, и Шуре приходится отдавать ему все тепло. Жаль! У Шуры было так много тепла… Я никогда не забуду ее. Марина, впрочем, тоже человек очень добрый, и она любит меня греть. Она хотела переводить осетинскую литературу, но у нее нет мужа, который достал бы ей перевод. И нет ни одного стоящего любовника.
– А ты?
– Она говорит, что я просто возлюбленный. От этого мало толку. Она очень теплая. Хотя, конечно, не такая теплая, как Шура.
– Мне бы твои несчастья, Гоч. Женщины любят тебя, – проговорил Невпрус задумчиво. – Они принимают твою холодность за серьезность намерений. Ты ведь и впрямь не лезешь к ним с первого раза под юбку. Ты разогреваешься, греешься, и тут они правы: это и есть нежность… К тому же им почти не приходится ревновать, у тебя так мало земных воспоминаний. Да и те, как правило, не любовные. Так что же, теперь все у тебя в порядке?
– У нас немало трудностей. Через неделю Марину выгоняют из ее комнаты. Хозяин возвращается из ЧССР. Я не знаю, зачем он возвращается, если ему там хорошо. Марина говорит, что ему там хорошо. Нам тоже было хорошо без него. Но теперь…
– Переедете ко мне, – сказал Невпрус героически. – Я, может быть, достану себе командировку. Уеду, а вас оставлю.
– Я знаю, что ты добр, отец, – сказал Гоч.
– Но может быть, он все-таки не вернется, ваш хозяин. Раз ему там хорошо…
– Раз это больше не секрет, что ему хорошо, вряд ли он там удержится.
– Ты стал очень опытным, – сказал Невпрус. – Ты развиваешься семимильными шагами. Как ребенок.
– Марина тоже так считает, – скромно согласился Гоч.
– Однако мне показалось, что ты стал предпочитать осетинский народ другим кавказским народам, – сказал Невпрус. – Так ли это?
– Это невозможно, – сказал Гоч с жаром. – Эта ваша странная игра в названия. Люди убеждены, что их названия и в самом деле что-нибудь значат. Что все обретает смысл в тот самый момент, когда им дадут или они сами себе дадут название.
– Что ж, все началось со слова…
– Нет, нет, не шути, я хочу, чтобы ты серьезно сказал мне, что ты сам по этому поводу думаешь.
– Я думаю примерно так же, как ты. Может, из-за этого мы и встретились, – сказал Невпрус. – Знаешь, иногда мне кажется, что не только то лишено всякого смысла, что я русский, но и то, что я не вполне русский. Хотя последнее, конечно, существенней. Оно хотя бы дает мне ощущение неполной принадлежности. Оно дает мне сомнение, дает свободу, дает терпимость и взгляд со стороны. Ну а ты? Кому ты принадлежишь? Принадлежишь ли ты Кавказу? Принадлежишь ли этому миру? Имеешь ли отношение к тому, нездешнему?
– Ни на один из этих вопросов нельзя ответить наверняка, – сказал Гоч. – Может быть, так? Гонимый миром странник?
– Твоя Марина права, – усмехнулся Невпрус. – Ты мог бы сочинить что-нибудь этакое. Если бы оно не было уже написано до тебя. Все этакое.
– Если бы все думали так, – сказал Гоч, – творческий процесс остановился бы. Но творчество рождается из потребности писать, а вовсе не из желания усовершенствовать форму. Так что, если у меня появится потребность писать (а я чувствую по временам, что я недалек от этого), я снова напишу «гонимый миром странник». И снова найдется читатель, которому это будет по душе. В конце концов, как говорит Марина, искусство служит не скучающей героине…
– Она так и сказала?
– Именно так. Хотя, может, и это говорили до нее.
– Может случиться.
Гоч ушел, а Невпрус полез уточнить цитату. Он забыл, кому там еще не служит искусство. Кому оно служит, он помнил очень хорошо. Он испытал это на своей шкуре. Затрепанный цитатник запропастился куда-то среди прочих изданий. Невпрус так остервенело шарил среди них, что уронил целую полку. Рукописи и книги разлетелись по полу. Это еще более омрачило настроение Невпруса. Достаточно того, что Марина цитирует и что Гоч повторяет. Так вот тебе еще – сперва пропал цитатник, а потом обрушилась полка.
Невпрус встал на колени, потом сел на пол среди разбросанных на полу листков. Он брал их наугад и читал. Некоторые узнавал сразу – ну да, это же я писал либретто. А это старый роман. Но некоторые из листков он даже не мог вспомнить – как будто не он писал. Он, конечно, он, кто же еще? Чьи же листки будут тут валяться? Да и стиль… И все же это было удручающе – столько понаписать всякого. И по большей части впустую, вхолостую – уже сейчас можно выбрасывать, не надо ждать смерти… Кое-что, впрочем, принесло ему какие-то деньги или хотя бы удовольствие. Кое-что даже останется каким-нибудь безмерно любопытным потомкам («его найдет далекий мой потомок»). Однако большую часть все же можно выбросить… Но сколько работы, Боже правый, сколько работы! И неужели никому на целом свете все это не нужно? Нет, нет, вопрос поставлен неправильно. Вот это нужно тебе. А это было бы нужно кому-то, если б было издано. Не всем, но кое-кому. Однако ведь и то, другое, вовсе бездарное, что выходит, что ухитряется пробиться в печать, – оно тоже находит своего читателя, и почитателя, и поклонников и заслуживает слово одобрения, так что при чем тут нужды твоего читателя? Он тут ни при чем. Он все съест. И собратьев своих не надо упрекать, всем им хочется издаваться. Кто смел, тот и съел. Но и тот, кто не смел и кто не съел, он тоже получает свое. И кайф работы, и свою относительную свободу. Разве уж, кроме свободы печати, не существует других писательских свобод? Есть они, есть. Значит, не надо гневить судьбу…
* * *
Открыв дверь, Невпрус не сразу узнал посетителя. То есть он увидел уже, что это милиционер, а дальше мысли его были заняты не тем, какой именно милиционер, а тем почему. И зачем?
– Чем могу служить? – спросил Невпрус, стараясь быть вежливым и в то же время независимым. И уж нисколечко, упаси Боже, не испуганным. Конечно, все мы под Богом ходим, а милиция выполняет свой долг (как бы он ни выглядел, ее долг, в тех или иных обстоятельствах), так что глупо вести себя слишком вызывающе, но в то же время честный человек не должен выказывать страх (кому ж тогда, впрочем, еще бояться такого вот нежданного, но вполне ожидаемого в нашем упорядоченном обществе визита?).
– Ну как? – спросил милиционер, сияя, как новый гривенник.
– Что как? – все еще не решив, как он должен вести себя, спросил Невпрус.
– Как мне форма, идет?
Только после этого Невпрус обнаружил в милиционере черты физического сходства с Гочем. Еще через минуту ему стало ясно, что это действительно Гоч, и тогда Невпрус с облегчением отступил от двери, пропуская гостя.
– Несколько странная реакция со стороны граждан, – сказал Гоч за чаем. – Так, будто ты урод и собеседник пытается не замечать твоего уродства, держаться с тобой запросто, чтоб тебя не обидеть. И еще чтоб не выдать свой страх. Но ничего у него не выходит. Как глянет на твое безобразие… На твой клык… На твой хвост…
– На твою форму?
– Да, прежде всего на форму. Однако кривят душой. Говорят тебе, что милиция страж порядка. И ведь действительно, чуть что, даже семейная ссора, – тут же кричат: «Милиция!» Тогда мы им нужны…
– Не переживай, – сказал Невпрус, бодрясь. – Это не твои личные проблемы. Это общие проблемы власти.
– Между тем в нашей, милицейской среде… – сказал Гоч так небрежно, точно он полжизни провел в органах милиции, – там то же самое разделение, что и всюду. То же количество хороших и плохих людей, что и везде, скажем у электриков. Даже есть подлецы и жулики. Это, конечно, опасно, потому что у них иммунитет нашей формы. К тому же интеллектуальный уровень, пожалуй, еще ниже, чем среди друзей Марины.
– Среди литературоведов?
– Да, среди них.
– Прискорбно. А что говорит на это Марина? Я имею в виду форму.
– Она довольна. Она говорит, что от меня исходит ощущение силы. И чаще советует мне писать стихи.
– Да, может быть… Вот эта штука может выйти – о хвосте, о клыке, о том, как люди прячут взгляд… Да, это, пожалуй, могло бы получиться.
– Нет, нет, это мелкотемье, – небрежно сказал Гоч, – я написал стихи о патрульной службе. Когда одиночество подобно ночи в горах. И ты стоишь, как защитник мирной отары. Я думаю, что это мне наконец удалось. Вначале меня преследовали неудачи. Стихи были слишком личными. Например, я писал о том, как светится в ночи рука постового на фоне черной палочки. Редактор это принял за метафору. Но это же я писал о себе. Дальше было хуже. Я написал: «Лицо постового сияет во мраке», и редактор сказал, что мой постовой с сияющей рожей да еще в сезон усиленной борьбы с пьянством играет на руку… Но теперь я отвлекся от этих деталей, и мне, кажется, удалась эта штука с отарами. Ты хочешь послушать?
– Нет, нет! – поспешно сказал Невпрус. – Потом, когда это будет уже напечатано, я погляжу. Об овцах, отарах, охране… – Он добавил, извиняясь: – Прости, ведь я и сам писал такие стихи в армии. Непреодолимый соблазн. И патрульная скука… Ты уже продал их в журнал «Постовой»?
– Нет, в «Постовой» пишет вся милиция. Я отнес их повыше, в журнал «На страже – закон». Там более высокий профессиональный уровень. Я пошел туда сам, прямо к главному редактору.
– И что он сказал?
– Между прочим, много интересного. И совершенно нового для меня. Он раскрыл мне глаза на существование заговора.
– У нас здесь?
– Почему у нас? Повсюду. Это международный заговор. Есть такая разновидность человеческого рода, которая называется евреи, ты слышал?
– Что-то такое слышал, – согласился Невпрус после долгого молчания. – Краем уха. Это те самые, что покупали у тебя фамилию.
– Оказалось, что они представляют большую опасность для мира и счастья народов. Так что с ними, вероятно, не стоит церемониться.
– Вероятно, так, – сказал Невпрус.
– Главный редактор сказал, что русская литература не может остаться в стороне от этой битвы. Сам он приступает к формированию гвардии. Он сказал, что для меня найдется в ней место поручика.
– И ты снова будешь у нас гвардии поручик?
– Тебе там тоже найдется место. Я упоминал о тебе. Ты ведь служил в армии, и твой литературно-стратегический опыт…
– Я раскрою тебе одну тайну… Собственно, я думал, что тебе это все равно, а поэтому я не сообщал тебе эту постыдную подробность моей биографии. Моя мать была еврейка.
– Понимаю, – сказал Гоч озадаченно. – И ты участвовал в мировом заговоре. Не беспокойся, я не выдам тебя…
– Нет, нет, – слабо улыбнулся Невпрус. – Я не участвовал в заговоре. Я даже сейчас еще не уверен, что он существует. Хотя умные люди предупредили о нем еще и до Гитлера.
– Понимаю, – сказал Гоч. – Узы крови. Это важно. Но ведь ты сам учил меня выбирать главное. И раз главная опасность так велика… Раз есть наконец возможность покончить с мировой преступностью и установить жесткий порядок… Решайся!
– Боюсь, что мне все же придется отказаться от предложенного чина. Я так долго стоял в стороне от всех классификаций. Евреи же казались мне просто одной из разновидностей. Каким-то подвидом – как, скажем, кубачинские даргинцы. Есть еще и другие. Так и здесь – польский еврей как разновидность поляка, впрочем еще более ущербная, чем сам поляк. Имеет претензии и к русским, и к украинцам, и к полякам. Имеет к ним счет. Нуждается в более долгом лечении терпимостью. Может, еще и в дополнительном питании, в солнечных ваннах. Если дать Польше три километра черноморского пляжа… Видишь, я все же недооценивал опасность заговора…
– Жаль, что ты не знаком с главным редактором, – сказал Гоч сочувственно.
– Я знаком с ним, – вспомнил Невпрус. – Он раньше был главный редактор журнала для школьников. Он велел делать всем Дедам Морозам курносые и ни в коем случае не красные носы. Он говорил, что это русофобство – делать им красные или длинные носы. И еще он любил печатать в журнале свои школьные сочинения. Мне казалось, что он просто жулик. Может, еще чуть-чуть сумасшедший. Но ты прав: он оказался человек идеи. Идея небогатая, но все же идея, полмира ею кормится. Она идеальна, хотя материальные интересы его тоже не страдают, кажется. Я не читал этот ваш журнал. Наверное, там тоже печатаются его курсовые работы.
– Что же мне делать? – спросил Гоч растерянно.
– Служить! – воскликнул Невпрус. – Ты не можешь отказаться от гвардии. А меня ты не слушай. Я пристрастен. Неполноценность по материнской линии не дает мне мыслить широкими мировыми категориями. От всех предупреждений о мировой угрозе я отмахиваюсь какими-нибудь философскими или простонародными формулами.
– Например? – спросил Гоч с надеждой.
– Например? Ну, например, Бог не выдаст – свинья не съест.
– Свинья мирового еврейства? – удивился Гоч. – Но ведь они не едят свинину.
– Нет, любая свинья не съест. Даже свинья мирового гвардейства. И всемирного юдофобства. Как видишь, в моих формулах мало боевитости. А ты молод, так что ты не должен меня слушать. Помни только, что в любых трудностях твоей новой боевой судьбы ты можешь на меня рассчитывать. В конце концов, это моя вина, что ты…
– Это твоя заслуга! – Гоч встал и порывисто обнял Невпруса. – Я зайду через неделю. Мы должны будем отпраздновать мою первую лычку…
– Где вы, кстати, живете? Хозяин остался в ЧССР?
– Увы! – сказал Гоч. – Его вернули. Ему слишком нравилось там. Ему грозила опасность перерождения. Он мог стать бюргером. И даже чешским националистом. Нас пустили пожить в общежитии литинститута – у Марининой подруги пустовало полкомнаты. Но с моей профессией… Ты понимаешь?
– Не совсем.
– Эти бедные студенты все время живут на грани законности и правопорядка. Я не говорю уже о порядке. То день рождения, то попытка самоубийства в нетрезвом виде. Кроме того, Марина там очень нервничала…
– Слишком много литературы?
– Нет, ей казалось, что латышская поэтесса хочет меня соблазнить.
– Это неправда?
– Я думаю, что нет. Просто ей нравилось, что мое тело светится в темноте. Это вдохновляло ее… Короче говоря, нам пришлось снять комнатку в Перхушкове. На счастье, это не холодная дача. Это небольшая комнатка в избе. И – там очень тепло. Но добираться туда после дежурства…
– Моя комната всегда… – сказал Невпрус.
– Я знаю, – сказал Гоч с достоинством.
Он стоял теперь в дверях, и вид у него снова был до крайности милицейский. У Невпруса было странное ощущение, будто ему хочется извиняться за что-то, непонятно за что. Может быть, за то, что у него ничего не нашли при обыске. Хотелось сказать что-то жалкое, что он, скажем, всегда готов в меру своих слабых сил споспешествовать…
Визит Гоча и удивительная история про гвардию главного редактора не прошли для Невпруса безнаказанно. Он вспомнил лицо этого бывшего друга дошкольников: у него были сумасшедшие глаза. Теперь у него под рукой еще и гвардия. Он, наверно, тренирует ее где-нибудь на полигоне, вооружив дубинками. Или чем похлеще… Воображение разгулялось. Невпрус смотрел слишком много наших и чужих фильмов о ненаших невзгодах. По ночам ему снились теперь Мюнхен, «кристальнахт», Камбоджа, красные кхмеры, красные бригады, красные сумасшедшие глаза редактора, стоящего на страже порядка, который он защищал от желтого мирового еврейства. Понятно, что он, Невпрус, русский писатель и русский патриот, не имел прямого отношения к еврейству, тем более мировому, но ведь редактор-то был сумасшедший, и работал он в милицейском журнале, так что из всех способов определения человеческой принадлежности он знал один – расовый: анкета, а еще точней, подробная анкета (девичья фамилия матери, девичья фамилия первой жены, фамилия бывшего мужа первой жены). Просыпаясь, Невпрус шел к дверям и проверял цепочку. Потом брал под подушку увесистый медный пестик из ступки, стоявшей в его русофильской коллекции. Он поклялся, что не отдаст свою жизнь так дешево, но вскоре его охватили сомнения: не сыграет ли его пестик на руку мировому еврейству… они ведь могли все – даже русофильскую коллекцию Невпруса они могли поставить на службу своему русофобству…
Когда Гоч явился к нему обмывать первую лычку, Невпрус, запинаясь, спросил, не сможет ли Гоч хоть изредка оставаться у него на ночь, потому что нервы у Невпруса что-то совсем…
– О чем речь! – воскликнул Гоч. – С удовольствием! – Он с вожделением оглядел книжные полки. – Я, кстати, давно уже собирался начать систематическое чтение.
Гоч остался ночевать, и они прожили вдвоем идиллическую неделю. Пили чай, а потом занимались чтением и литературным трудом. Гоч одолевал Гоголя вперемежку с Мережковским. Иногда, слюня шариковую ручку, он сочинял стихи, мучаясь от недостатка тем, идей и образов. Невпрус переписывал чей-то сценарий для «Уйгурфильма». Потом приходило ночное отдохновение. Невпрус спал спокойно. Гвардия сумасшедшего редактора стояла (точнее, лежала, мирно посапывая) на его охране. Поутру Невпрус упрекал себя в эгоцентризме. Младенцам Иудеи грозило избиение, а он спал, обезопасив себя личной армией Ирода. Он утешал себя тем, что так далеко дело еще, скорей всего, не зашло. Главный редактор журнала – это еще не Самый Главный Редактор, и неясно, сколь велики его шансы на Главенство. К тому же Господь приходил иногда на помощь Избранному народу, порой даже раньше, чем сам Избранный успевал осознать всю серьезность положения. Так уже было раз на памяти Невпруса, в 1953-м. Конечно, немало можно было насчитать случаев, когда и не приходил, но отчего нужно вспоминать именно эти случаи?
Прошла неделя, и Гоч стал выказывать признаки беспокойства. В конце концов он признался Невпрусу, что Марина претендует на его мужское внимание.
– Особенно ночью, – сказал он сокрушенно. – Именно ночью. Она говорит, что ночь создана для любви. Тем более что из Перхушкова ее уже выгнали, скорей всего за неуплату. Я ее предупреждал о соблюдении законности, но у нее, скорей всего, нет денег. С ней еще не заключили договор, так как она не стоит в плане редподготовки на 1996 год.
– Так в чем же дело! – воскликнул Невпрус с фальшивым энтузиазмом. – Пусть она тоже переберется сюда… А ей нельзя тоже записаться в гвардию? – спросил Невпрус по размышлении. – Во многих идейно созревших странах, например в Ливии, женщины составляют ядро гвардии.
– Боюсь, что мы не найдем в ней чистого русского происхождения, – сказал Гоч опечаленно. – Хотя, честно вам сказать, я так и не разобрался во всех этих ваших тонкостях генетики.
– Это не просто, – согласился Невпрус, все еще мысленно витая в сферах литературоведения. Он думал о том, что литературоведка, считающая, что ночь создана для любви, осудит всякого автора, у которого ночь будет создана для отдохновения, а также для вдохновения, для бессонницы, для мокрых дел, для звуков сладких и молитв. Литературоведка в доме представляла собой, конечно, немалое неудобство (гораздо большее, чем милиционер). Она могла, например, уловить литературные огрехи Невпруса и учить его правильной литературе. Она могла рассуждать…
Опасения Невпруса оказались не напрасны. Среди немногочисленных предметов обихода, которые литературоведка принесла в их дом, наряду с зеркалом и специальной вешалкой для юбок оказался телевизор. По вечерам она отнюдь не собиралась рассуждать о литературе. Она обогащала себя знанием жизни и культуры, сидя перед телевизором. Тем самым Невпрус был безжалостной рукой брошен в мир массового потребления, который литературоведка называла миром интеллигентного человека. Невпрус познал все искусы телевещания. Он видел дождевальные машины и тонкости снегозадержания, он познакомился с биографией товарища Дзержинского и его товарищей, он видел знатоков, ведущих следствие, и все следствия недосмотра знатоков в недружественных нам странах. Он был в курсе текущих событий, а также всех опытов быстротекущей жизни. В сущности, ничто никуда не текло – перед ним неизменно колебался нечетко различимый, но полный до краев океан пошлости. Ночи Невпруса снова стали беспокойными. Правда, он не боялся теперь вторжения передовых отрядов гвардии, но зато его стали мучить сексуальные кошмары. Литературоведка столь агрессивно теребила по ночам плоть стеснительного Гоча и столь убедительно (и громко) шептала ему при этом о его мужском и гражданском долге, что выполнение Гочем его супружеских обязательств становилось просто неизбежным. Так как литературно-милицейская чета спала на полу в непосредственной близости от сиротского ложа Невпруса, он становился невольным, и не всегда умиленным, свидетелем их соития. Впрочем, и Гоч, сохранивший где-то в завалах памяти джентльменские воспоминания об иных, нездешних условиях жизни, сочувственно прислушивался при этом к метаниям Невпруса.
Однажды, после какого-то районного рейда против музицирующих панков, Гоч торжественно вручил Невпрусу дорогой подарок. Это был крошечный кассетный магнитофон с наушниками, тот самый, при помощи которого западноевропейские недоросли пытаются отгородить себя от абсурдного и несущественного мира взрослых.
– Кассет только две, – с сожалением сказал Гоч. – Но зато… – Он хитро и печально улыбнулся, подняв палец: – Одна из них колыбельная.
Колыбельную исполняла по-русски Марина Влади. Басисто и отстраненно, без намека на иронию, она пела в самое ухо Невпрусу:
– Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю…
В конце концов, ее пение и в самом деле было меньшей помехой для сна, чем любовные баталии Гоча с литературоведкой.
Впрочем, всем этим сложностям уже был виден конец. Невпрусу представилась возможность снова покинуть столицу. Студия «Уйгурфильм» приглашала его в горы для обсуждения шестого варианта сценария «Уйгур из гор», который Невпрус (с согласия первых четырех соавторов) переименовал в «Горькое горе уйгура». Четыре соавтора ждали спасителя Невпруса на товарищеский плов. Кроме того, он должен был получить там скромные остатки гонорара, которые студия рачительно сберегла от непроизводительных местных авторов. Получив телеграмму со студии, Невпрус быстро собрался и улетел на обсуждение и товарищеский ужин с гурманами-уйгурами.
Жизнь в теплом уйгурском захолустье всегда представала перед Невпрусом в розовом свете. Деятели уйгурского кинематографа и литературы были так поглощены борьбой за свой котел плова (в более широком смысле сюда входили и котлы парового отопления в их скромных особняках, и двигатели внутреннего сгорания их новых автомобилей), а также борьбой с более энергичными локайцами и карлуками, что на мысли об угрозе мирового еврейства или панисламизма у них просто не оставалось ни сил, ни времени. Невпруса они принимали терпимо, как иноземного специалиста, каковой поможет наконец сценарию выйти на уровень дальнейшей оплаты, а также как ненавязчивого представителя старшего брата, русского народа, который по сравнению с наглыми локайцами представлял, право же, совсем несерьезную угрозу.
Все пять соавторов представили новый (на сто процентов невпрусовский) вариант сценария на худсовет студии, и дружественный худсовет одобрил его стопроцентное национально-уйгурское звучание. Затем спасителю Невпрусу была вручена скромная, но весьма для него существенная сумма отечественных денег, а каждый из четырех соавторов устроил в его честь прием в своем переполненном детишками доме. Наконец, один из соавторов даже увез его в родное село, где Невпрус окончательно отогрелся в лучах щедрого уйгурского солнца.
Созерцая дымку мелкой пыли, взбитой курдючными овцами, Невпрус со сладостной печалью думал о том, что каждая из этих пылинок была прахом какого-нибудь великого поэта, царя или звездочета древности…
В ослепительном сиянии уйгурского солнца рассеивались сырые и нелепые московские страхи. «Было прахом, будет прахом», – повторял Невпрус, нежась на солнышке, и эти стихи поэта-коммуниста Валерия Брюсова возвращали ему веру в будущее.
Дома Невпрус застал значительные перемены. Гоч больше не работал блюстителем порядка. Во-первых, какой-то настырный панк из весьма ответственной и влиятельной семьи довел дело с изъятым при налете магнитофончиком до нежелательного финала. Во-вторых, погорел главный редактор журнала, у которого оказались нежелательные связи с враждебными внешними силами (может быть, даже с Антантой). Редактор не успел перед обыском съесть списки своей гвардии, и перспективные гвардейцы подверглись неминуемым репрессиям. Сам главный был лишь на время понижен в должности, однако тех, кого понижать было дальше уже некуда, пришлось попросту уволить. Был уволен и Гоч.
Литературоведка ухитрилась достать ему для перевода поэму какого-то чеченского поэта, лауреата местной премии ДОСААФ, однако, ознакомившись через неделю с продукцией Гоча, она убедилась, что в его переводе поэма почти дословно повторяет знаменитый шедевр русской поэзии «Измаил-Бей». Оставалось лишь удивляться тому, что Гоч так точно воспроизвел это произведение по памяти. Проклиная чеченского плагиатора, литературоведка заставила Гоча переписать поэму наново. Гоч трудился усердно. Получилось совсем неплохо, однако и теперь поэма была мучительно похожа на что-то смутно знакомое, хотя и отличалась от «Измаил-Бея». Через неделю возмущенный редактор вернул Гочу работу. Он случайно обнаружил, что это «Ашик-Кериб». Слово в слово.
Литературоведка целый вечер занудно пилила Гоча.
– Надо учиться у классики, а не запоминать ее наизусть, – назидательно говорила она.
– Но я даже не заметил, как впитал это наследие, – резонно защищался Гоч. – Оно вошло в мою плоть и кровь…
Материальное положение молодой семьи становилось угрожающим. Литературоведка предложила продать те книги Невпруса, которые не отвечали новым установкам и требованиям науки о литературе и таким образом только зря загромождали комнату. Гоч возражал, твердо стоя на позициях социалистической законности. Ему удалось устроиться на полставки в районный Дом пионеров, где ему доверили литературный кружок.
По возвращении Невпруса Гоч излил на него свой педагогический энтузиазм. Он говорил, что Дом пионеров – это прототип будущего общества, в котором все люди станут пионерами, а все дома соответственно Домами пионеров с их синкретическим искусством, с их ансамблями танца, с хорами и буфетами… Впрочем, полставки в Доме пионеров никак не решали материальных проблем молодой литературной семьи. На счастье, Гоч встретил на улице диспетчера чего-то, своего давнего попутчика, и тот, щедро подарив Гочу четвертной, обещал заглянуть на днях к ним домой, чтобы познакомиться с его подругой жизни и с литератором Невпрусом, а также вместе серьезно подумать о будущем.
Диспетчер не пришел ни через день, ни через неделю, и Невпрус с облегчением подумал, что этот человек уже никогда не придет. Однако на исходе второй недели диспетчер чего-то объявился у них, обремененный обильной выпивкой, «батоном хлеба» и «палкой колбасы».
Выпив, диспетчер обнял их обоих (литературоведку он обнимать отказался, не объясняя своего поступка) и взялся открыть им глаза на мир. Он сказал, что целый мир теперь управляется разными кодлами, так что в одиночку очень трудно чего-нибудь заработать. Это все знают, однако всякая кодла старается выдать себя за лучшую и самую порядочную. Они даже имена себе придумывают поприличнее, например группа или там, скажем, объединение. Или вот – союз, или какое-нибудь, к примеру, сообщество. А те, которые не ихние, тех они называют банда или шайка. Которые у чужих, называют сообщники. А которые свои – товарищи или соратники. В общем, не наши, те все – кодла.
– Камарилья, а также мафия, – добавил Невпрус к удовольствию диспетчера.
– Во-во, – сказал он. – А по-честному, дак везде кодлы и мафии. И это хорошо, я вам скажу, потому что помогать друг другу нужно. Человек человеку друг и брат. А я вот как его в поезде увидел, я сразу понял, что он ничей, так что пропасть ему. Тут вот он к осетинам пристал, это дело, а теперь, гляди, и от них отсеялся, так что трудно тебе будет, Гоч. Мы вот, люди строительного профиля, мы все можем. Потому что сам я, например, диспетчер. Машину туда, машину сюда, стройматерьял все же для строительства новой жизни идет, золотое дно. Конечно, песня, она тоже – строить и жить помогает, но главное – это стройматерьял, верно я говорю? Так что, лично я, я его по любой линии жизни могу двинуть, Гоча нашего… Ну вот ты сейчас, к примеру, чем занят, а, Гоч?
– Литературой, – надменно сказала литературоведка, обиженная мужским невниманием и хамскими манерами диспетчера.
– Можно и литературой, – спокойно сказал диспетчер. – Книжки, что ли, хочешь печатать? Или где на должности сидеть?
– И то хорошо, и это, – сказал Гоч. – Лучше все же для начала на должность. Книжки – это хорошо, но боюсь, зуда у меня не хватит. Это ведь как болезнь. Этим болеть надо. И усидчивость нужна…
– Литература – дело особое, тонкое, – сказала литературоведка назидательно. – Боюсь, так просто даже и вам туда не просочиться. Нужны заслуги, связи и многие годы упорного…
– Много ты знаешь, – пренебрежительно сказал диспетчер.
Слезы проступили на глазах литературоведки, и Невпрусу, не питавшему к ней особой симпатии, стало ее все же чуть-чуть жалко.
– Да у меня, если хошь, самый ваш главный пахан пасется, – пер на нее диспетчер. – Мы с ним уже четвертую дачу строим, так что он у меня в каждом случае на приколе. Для кого дачу? Для его, конечно. Вот башковитый мужик. Там у них фонд какой-то есть на литературную бедность, дак он из этого фонда деньги на дачу хапает безо всякого нищеебства. Он мне говорит: «На хера бедным деньги. Они и должны быть бедные, раз у них такое мировоззрение пролетарское. Они, может, на своей бедности кайф ловят. Они без денег честней будут. А деньги они промотают, или все удовольствие из их жизни уйдет. А у меня не уходит. Я родную, можно сказать, страну домами застраиваю и тоже на этом свой кайф ловлю». Понял, как он это дело повернул? Отличный мужик. Еще у них там союз какой-то есть свой, тоже какое-то кодло. Хошь, они тебя туда примут, а, Гоч?
– В Союз примут? – спросила литературоведка, замирая в сладком ужасе.
– Да хушь в кодлу, хушь на работу, куда хошь. Я пахану завтра же позвоню. А то и сам съездию. Завтра он на четвертой даче от мово человека стройматерьял будет принимать. Матлахскую плитку. Вот я с плиткой и заявлюсь. Если там хушь одно место будет или хушь полместа, считай, дело в шляпе. А не будет места, мы его сделаем. Плитка-то, она целая бывает, а можно ведь и битую подложить за ту же тыщу…
Диспетчер долго хохотал, поддерживаемый беспечным горцем, а Невпрус с литературоведкой молчали оцепенело. В сознании Невпруса начальственно-мрачный пахан соединялся с хохочущим диспетчером, и панорама родной словесности принимала все более фантастические и зловещие очертания…
Все оказалось вполне реальным. Через три дня диспетчер явился к ним пополудни и, с трудом читая по бумажке, сообщил им, что, конечно же, отыскалось место консультанта по урметанской литературе в самом что ни на есть главном Союзе писателей.
Гоча поначалу сильно смущало, что он вовсе не знаком с урметанской литературой, однако Невпрус, полазив с четверть часа по справочникам, его успокоил, объяснив, что литературы этой еще, по-видимому, не существует, а раз штатное место уже есть, то оно должно быть кем-нибудь занято. И лучше, если оно будет занято своим Горным, восточным человеком, чем каким-нибудь москвичом или даже прибалтом. Тем более вполне может случиться, что именно для Гоча это место и было придумано.
– Именно так! – закричал диспетчер, который на этой стадии спора уже вернулся из гастронома, тяжко нагруженный всякой выпивкой. Пили за здоровье молодых, за старика Невпруса, которому еще, может (как знать?), придется, не ровен час, сочинять сценарий для молодого урметанского кинематографа, за литературные успехи Гоча и за процветание братской урметанской литературы, равной среди равных. Диспетчер предложил также выпить за старшего брата, который ведет нас от победы к победе.
– Винтиков у него нет… – говорил диспетчер, стоя со стаканом портвейна в руке и мучительно вспоминая слова великого тоста, – чинов у него, сам знаешь, каких ему, на хер, чинов, и живеть он впроголодь. Но он нас дуржить. И он нас терпить, несмотря ни на что, как обоснование дуржить своего механизма.
Диспетчер разошелся и предложил еще выпить за тех, кто «каждый день с опасностью на “ты”». Он прослезился при этом тосте, и всем стало ясно, что он говорит также о себе, о своей ответственной и опасной работе. Гоч встал и порывисто обнял диспетчера.
– Отныне, – сказал Гоч, – при таком окладе жалованья, как у меня, сто двадцать, все вы будете пить только на мои.
– Эх ты, бедолага, – сказал диспетчер, умиленно глядя на юношу. – Даром что нерусский, а такой… такой, знаете, человечный человек… Ты вот только того, примечай – книжки тебе свои надо печатать. Это ж чистые деньги, и никакой уголовной опасности. Ты вон погляди – пахан. С его ряхой какой с его писатель? Дак он и грамоте не учен. А на его сколько людей работает? Он и семью всю приспособил. Как этот, знаешь, балкарец: сам на машинах раскатывает с бабцом, а семья у его мохер цельный день чешет. Когда по сотне в день, когда больше. А у пахана больше тыщи в день выходит, он мне сам хвастал…
В заключение долгой и малосвязной под конец речи диспетчер попросил, чтобы они спели все вместе его любимую кавказскую песню про бедную саклю Хасбулата. Диспетчер объяснил, что вот так он себе и представлял эту саклю, как дом Невпруса – не имеющий даже какого-нибудь приличного ковра или коня…
Уже через неделю Гоч сидел в просторной комнате дворянского дома на улице Воровского, где он был пока единственным в мире представителем не рожденной еще урметанской литературы, даже в своем темном прошлом не имевшей никакого письменного или, скажем, устного прецедента.
* * *
Невпрус теперь стал изредка бывать в писательском клубе. Сперва он заходил в кабинет к Гочу, куда регулярно наведывалась также литературоведка Марина. Потом они всей семьей шли в кафе, где после невкусного, хотя и недорогого обеда пили чай с пирожными или с вареньем. Иногда в кабинет Гоча приходил и сам диспетчер. Ему нравилось, что он так, впрямую, минуя малоинтеллигентного пахана, общается с высоким миром литературы. К тому же высокое положение Гоча как бы отражало его собственное всемогущество, и это было ему тоже приятно.
Однажды он привел с собой к Гочу какого-то развязного и отчасти даже интеллигентного человека.
– Вот, – сказал диспетчер. – Через наши дачные дела нашел тебе нужного еврея. Он тебе всю эту ихнюю литературу сверху донизу перепишет. Деловой человек. Две машины плиток у меня взял.
– Все правильно, – подтвердил развязный человек. – Я перевожу эти всякие литературы. Точнее было бы сказать, между нами, я их просто пишу заново. Но при этом я должен обязательно подписаться в качестве переводчика. Это у меня слабость. Как говорят теперь, комплекс. Я ведь даже стихи, поверите?.. Я жене своей как-то написал объяснение в любви (давно уж, конечно) и подписал: «Перевод с дунганского».
– Бывает, – сказал Невпрус. – Это от робости…
– А то еще от жадности, – сказал диспетчер. – И еще есть, которые тюрьмы сильно боятся.
– Как пример можно взять Фицджеральда, – сказал Невпрус. – Но я не о тюрьме, конечно.
– Вот-вот, – обрадовался развязный человек, который на поверку оказался и впрямь довольно робким, – Фицджеральд тоже не мог стихи напечатать, пока не подписался – Омар Хайям.
– Омар по хуям! – заржал диспетчер.
– Да уж, кошмар по хуям, – подтвердил Гоч. – Так что же вы для нас все же напишете?
– Я прочел, что там у них табаководство, которое очень выгодно для народа. Так вот, я сделаю вам роман. Скажем, через месяц. Табаководство выгодно народу, консервативный аксакал не хочет, чтоб сажали табак. Молодые борются за урожай. Тут мулла, байские пережитки, потомок басмача и все такое. Потом прогрессивный аксакал вспоминает, что здесь уже сеяли табак, во времена Согдианы.
– А опиум они тогда не сеяли? – спросил Невпрус.
– Это не имеет значения, – сказал робкий нахальный переводчик. – Через месяц вы будете иметь роман, уже в переводе на русский язык. А я поеду туда и найду вам автора оригинала. Я буду только переводчик. Там, на месте, я также похлопочу, чтобы автора выдвинули на премию.
– Автора?
– Ну да, и роман, и его автора. Тогда роман пойдет еще в серии «Наши лауреаты». И тираж получится другой.
– Учись, – сказал диспетчер и уехал на стройки новой жизни. Переводчик убежал следом, о чем-то договариваясь с ним на ходу, а Гоч с женою и Невпрусом пошел вкушать комплексный обед в верхнем кафе писательского клуба.
– Так или иначе, у тебя появится для начала урметанская проза, – сказал Невпрус. – Поэзию, мне кажется, ты мог бы написать и сам. Тоже в переводе.
– О чем? О табаке? – растерянно спросил Гоч.
– Зачем же? Ты мог написать что-нибудь антиникотиновое. Тогда возникла бы сразу борьба мнений. А мог бы из старых впечатлений – об охране общественного порядка.
– А я бы тогда засела за историю становления урметанской литературы, – сказала Марина. – Для начала я, конечно, прочла бы все, что так или иначе связано…
Академизм погубил ее. Она опоздала. В тот самый день, когда увесистый роман «Листья табака», написанный неким Файзи Урметаном (авторизованный перевод с урметанского А. Козлобровского), лег на ведомственный стол Гоча, ему нанес визит второй по-серьезному развязный человек. Может быть, и он тоже был еврей: различать эти нюансы было пока свыше возможностей и вне интересов Гоча. Человек принес обширную критическую статью.
– Дело табак, – сказал он. – Вредоносный табак с этого года больше не будут сеять в народном Урметане. Табак оказался экономически невыгоден. Там будут сажать фейхоа. Так что писатель Урметан поплелся в хвосте у жизни. А боевая литература должна бежать в ее авангарде. Тут у меня это все очень подробно обосновано. Эпиграф из последних решений.
– Идет, – сказал Гоч. – Этим мы и положим начало урметанской литературной критике. А Урметану мы следующий роман закажем, про фейхоа. Я чувствую, что рождается очень боевитая литература. Литература с нервом. Со своим, не общим выражением лица.
«Он уже знает все эти мерзкие слова, – с отеческим умилением подумал Невпрус. – Может быть, он далеко пойдет…»
Далеко… При этом слове Невпрусу представлялись дальние горы, ночь, горнолыжная база, лунное свечение ледника…
Невпрус ошибся в своих прогнозах. Гочево далеко лежало на ближайшее время вовсе не в том направлении. Но ведь, может, он и не был таким уж умным или дальновидным человеком, старый литератор Невпрус. Именно так, например, думал о нем диспетчер чего-то. Хотя, конечно, и великим диспетчерам нашей жизни свойственно ошибаться, раз уж ничто человеческое им не чуждо. Тем более что великий диспетчер испытывал какую-то непреодолимую симпатию и к этой недальновидности, и к смехотворной глупости образованных людей, и к их суетливой непрактичности…
* * *
Вскоре они всей семьей впервые поехали за границу. В этом была, конечно, заслуга Гоча, но ему удалось пробить эту поездку без особых трудов. В ГДР проводился месячник уйгурской литературы. От Союза мероприятием руководил критик Иван Питулин. Поскольку в Союзе консультанта по уйгурской литературе не было, он взял в помощники Гоча (может, исходя из созвучия урметанского с уйгурским). Уйгурская литература тоже была еще в процессе становления и, в сущности, не намного опередила урметанскую. У Гоча были, конечно, все основания привлечь к поездке Невпруса как одного из главных в Москве знатоков уйгурской литературы, национального кинематографа и быта. Литературоведка была привлечена для написания доклада Питулина и ответов на вопросы немецких читателей. Гоч не мог придумать, для чего он смог бы привлечь диспетчера, но диспетчер, на счастье, сам отказался ехать. Он сказал, что, во-первых, у него сейчас самый аврал, а во-вторых, он хочет поехать с женой на Балатон, и, хотя пахан давно предлагал ему такую поездку с писателями, он хочет лучше поехать с министерскими, потому что они дорогой смогут вместе выпить и обсудить кое-какие важные дела ко всеобщей пользе.
– Лучше нам своей кодлой повеселиться, да и дела обсудить, – сказал диспетчер Гочу, объясняя свой отказ. – А клиент, он к нам теперь, Гоча, и так валом валит. Ваш, умственный, тоже, на это у меня пахан в корешах.
Как типичный представитель уйгурской литературы в группу был дан писатель Полван Баши, которого Питулин на первом, самом торжественном открытии месячника назвал Болван-паша, чем сильно обидел писателя. Уйгурский классик обратился к интеллигентному вмешательству Невпруса для того, чтобы внятно объяснить Питулину, что Полван – это есть народный богатырь и борец, а может быть, также борец за мир и процветание всех народов социалистического лагеря.
– Не стоит обижаться, – сказал Невпрус. – Вполне возможно, что эти два слова происходят в русском от одного корня.
Этой гипотезой Невпрус еще больше разгорячил уйгурского классика.
– Нет, нет, я, конечно же, все объясню ему, – поправился Невпрус, – хотя должен вас огорчить предположением, что ошибка эта может теперь повторяться. Эта, так сказать, «слип эв дэ танг». Это все подробно объяснял Зигмунд Фрейд, хотя в применении к данному, питулинскому случаю, да еще при столь сильной алкогольной интоксикации…
Своими невразумительными объяснениями Невпрус только запутал Полвана, который, готовясь к нынешнему ответственному выступлению и стараясь схватить на лету как можно больше сведений про неведомую трехбуквенную страну ГДР, запомнил лишь неоднократно повторяющееся заклинание Зигмунфрей, которое он из-за частотности повторения и уважительного тона Невпруса принял то ли за имя президента республики, то ли за имя главного ее писателя и которое он старался теперь при случае ввернуть в разговор. Это не повело ни к каким существенным скандалам, однако все же посеяло среди публики некоторую неясность, скорее все же положительного, чем отрицательного свойства. Дело в том, что ни Питулин, ни немецкая переводчица ни слова не понимали из того, что Полван Баши с таким энтузиазмом говорил по-русски. В результате между Полваном, его русскими коллегами и немецкой переводчицей возникло по необходимости еще одно звено – Невпрус, который понимал уйгурский акцент и переводил невнятную русскую речь Полвана на вразумительный и грамматически связанный русский язык. Однако скучающая литературная интеллигенция, не только не понимавшая по-русски, но и не желавшая слушать официальную переводчицу, сумела уловить в варварской импровизации Полвана это любезное ее сердцу имя врага всего прогрессивного человечества: Зигмунфрей. Результатом явилось то, что некоторые газеты республики, заслоняясь от попреков авторитетом старшего брата, намекнули в своих отчетах, что даже в далекой Уйгурии многие знаменитые достижения психологической науки взяты сегодня на вооружение местными литераторами. На это намекал, в частности, известный левый критик Штрумпф Гадике, стоявший тотчас по правую руку от западногерманских левых, и сам почти такой же молодой и зеленый, как западногерманские «зеленые». Все эти намеки были, впрочем, так зашифрованы, что сути этого комплимента не поняли ни в Москве, ни в Полван-Чор-Базаре, где журнал «Быдыыкы магаибидиет» полностью перепечатал все отклики из ГДР.
Возвращаясь к личности переимчивого Полван Баши, надо сказать, что он, по сути, и не был человеком, одержимым прискорбным писательским недугом (если понимать под этим бесполезное пристрастие к сочинительству). Он был, как сказали бы на чуждом нашему Востоку их Западе, скорее человек, пригодный для «паблик рилейшнз», и напрасно полагают, что понятие это не имеет никаких аналогов в нашем высокоразвитом обществе. Просто у нас это понятие гораздо меньше связано с рекламой и сбытом (поскольку сбыт у нас и так прочно и постоянно обеспечивается дефицитом), а более связано с представительством. Если даже не слишком просвещенному русскому человеку сообщить о приезде «представителя», он поймет это недоступное западному уму понятие с ходу. Причем не какой-нибудь там представитель фирмы (опять же ничтожный продавец и заискивающий коммивояжер), а наш, солидный и малопрактичный «представитель», которому уже по определению положены особый прием, уважение и некоторые привилегии («корреспондент», как неоднократно убеждался Невпрус, является только одним из видов «представителя», и не обязательно самым низким его видом).
Так вот, Полван Баши был скорее представителем молодой уйгурской литературы, чем просто творцом или протирающим штаны литератором, и, справедливости ради, следует сказать, что для молодой, еще только нарождающейся литературы хороший, активный и предприимчивый представитель не менее важен, чем какой-нибудь там сладкоголосый певец, понятный только скучающей героине да двум-трем тысячам своих наиболее грамотных соплеменников. Такой человек, как Полван Баши, умел сделать молодую, пусть даже еще и не существующую, литературу родной своей полуавтономной полуреспублики достоянием многонациональной культуры нашей огромной страны и даже заграницы. Глядя на него и слушая его невразумительный (пренебрегающий категориями рода, падежа и числа) поток русской речи, Гоч неоднократно ловил себя на мысли, что им в новой урметанской литературе очень не хватает еще такого вот солидного, пусть хотя бы и малотворческого, основоположника, не хватает видного имени, короче, не хватает своего Полвана. Справедливость требует отметить, что ко времени поездки в ГДР, тучнея, богатея и все реже добираясь до отар родной Уйгурии, Полван Баши растерял в московской суете и пьянке почти все свои замечательные представительские качества. Конечно, и в более тусклые свои года он не окончательно забыл коронный тост о бараньих яйцах, которым он так потешал верхушку Большого Союза на банкетах, однако оружие его народной хитрости и его бдительность все более притуплялись, потому что он без меры употреблял теперь все, от чего так разумно предостерегает человека родная религия, – и вино, и распущенных белых женщин, и мясо нечистой свиньи в колбасной обманчивой форме. Конечно, нельзя без ущерба для интернационализма сказать, что Полван пил больше, чем его старший литературный брат Питулин, однако в отличие от Питулина, пьянея, он не обретал спокойного размаха и достоинства, а становился попросту жалок, противен, неразборчив в речи и закусках.
Именно таким предстал он взорам Гоча и Невпруса в конце первого дружеского банкета в честь открытия месячника. Пока Невпрус и Гоч вдохновенно (хотя и через переводчицу Герду) импровизировали перед старательно записывающим Штрумпфом Гадике и еще полдюжиной корреспондентов на темы Уйгурии, переводов Наума Гребнева и кавказских поэм Лермонтова, Полван спал, всхрапывая по временам, как поросенок, под широким Гочевым креслом.
– Нет привычки к вину, – извинился Гоч перед гостями. – Маленькая безалкогольная Уйгурия. А тут такой наплыв дружеских чувств…
– ГДР славится своим гостеприимством, – сказал Штрумпф Гадике и попросил их вернуться к обычаям этой маленькой страны, к ее культурным и животноводческим традициям.
Давая передохнуть разнузданной фантазии Гоча (который, к сожалению, не бывал в долинах Уйгурии и в жизни не читал ничего даже псевдоуйгурского), Невпрус разразился гимном уйгурскому ковроткачеству, кошмовалянию, урюкосушению и обрезанию. Немного передохнув, Гоч сменил Невпруса и прочел гостям несколько восточных стихов Лермонтова и Байрона, переложенных верлибром. Так в ходе этого долгого интервью (за которое им было тут же, и как бы в обход ВААПа, заплачено неконвертируемой восточногерманской полувалютой) у Гоча с Невпрусом сложилась вчерне программа их будущих парных выступлений, ибо на Полвана и на Питулина рассчитывать не приходилось, а Марина была задавлена грузом академических знаний и непереводимого литературного жаргона.
Когда интервью было закончено, Гоч удалился с переводчицей Гердой, чтобы согласовать с ней наедине некоторые вопросы программы и перевода. Невпрус заключил из этого, что, несмотря на все региональные барьеры, немецкие женщины тоже обладают известным запасом женского тепла, способного привлечь горного человека. Это было прискорбно, ибо Невпрус собирался отправиться с Гочем на прогулку для совместного изучения первой в их жизни европейской столицы, города философов, музыкантов, бесчисленных исторических потрясений, рейхов, бундов и кригов. Невпрус желал оглядеть королевские дворцы и Унтер-ден-Линден, а также взобраться на Берлинскую стену и, хотя бы издали, поглядеть на Западную Европу, втянуть чуткими ноздрями запах загнивания.
Увы, и сам Берлин, и нестерпимое одиночество его шпацера обманули все самые пылкие ожидания Невпруса. Оказалось, что на пресловутую стену не только нельзя взобраться, но ее даже нельзя пощупать, потому что подойти к ней практически невозможно. Унылые берлинские улицы, опустевшие с приходом сумерек, не давали никакого представления ни о крае, ни даже о стране света. Архитектурные памятники и каменные страницы истории то ли отсутствовали вовсе, то ли были неотличимы от новейших жэковских обиталищ. Некоторые признаки дополнительной освещенности маячили, впрочем, на главной площади города, называемой в просторечье Алекс, но ее асфальтовая пустыня была не многолюднее, чем ночное плато Ходжа-дорак, хотя и менее красива. После минутного осмысления Невпрус с негодованием отверг это сравнение с Ходжа-дораком и придирчиво пошарил в памяти. Ему вспомнилась в конце концов центральная площадь таджикского райцентра Дангара вскоре после начала последнего вечернего киносеанса, вот примерно в эту же пору, в половине девятого… При ближайшем рассмотрении, впрочем, он обнаружил, что учреждения общественного питания на Александерплац все еще функционировали (какие-то столовые, кафе, бары или «грили») и в них сидели приблудные алжирцы и турки с неразборчивыми берлинскими девушками (второго и третьего разбора). Никого похожего на Гете, Шиллера, Клопштока, Марлен Дитрих или даже Карла Либкнехта Невпрус не обнаружил в этих сверхсовременных пунктах питания. Европейская культура ускользала от его неопытного взгляда. А может, Европа уже была похищена быком цивилизации или спряталась под восточной чадрой. Разочарованный Невпрус вернулся в их роскошное общежитие «Беролина» и здесь еще должен был создавать алиби непутевому Гочу, так как первой ему навстречу попалась сгорающая от ревности литературоведка. Невпрус сказал, что Гоч потерялся где-то в лабиринте неосвещенных берлинских улиц и что он непременно найдется до утра. При этом Невпрус с таким ужасом махнул рукой в сторону ночного Берлина, что литературоведка отступилась и ушла спать в одиночестве.
Назавтра их делегация выступала в провинции перед воинами Советской армии, среди которых было много молодых уйгурцев. Успевший опохмелиться Полван был в ударе и рассказал воинам о своем бедном детстве, когда он еще не ел колбасу, а питался похлебкой из разведенного водой сушеного молока (род «курута»). Полван с таким чувством описывал далекую родину, горькие запахи горящего кизяка и лепешки, испеченной в тандыре, что в маловозрастной солдатской аудитории послышался горький плач. Большую часть своей трогательной речи Полван произнес по-уйгурски, так что Невпрус и Гоч имели время для доверительной беседы. Невпрус в очень сильных выражениях высказал Гочу свое чувство возмущения. Он отчего-то назвал при этом немецкую переводчицу «девкой» (бедняжка Герда не поехала с ними в русскую часть и отсыпалась в Берлине) и заявил, что девки везде одинаковы и что ради девок не стоит ехать за границу. Гоч отвечал убедительно и с достоинством. Он обвинил Невпруса в фарисействе, в утрате либидозных стимулов и закончил патетическим вопросом:
– Кому из нас известно, через какие пути и каналы наиболее прямым и доступным способом происходит взаимосообщение культур и передача этносоциальной информации? Не является ли именно женщина с ее открытостью революционизирующим культурологическим процессам и верностью традиционным эндемам…
И так далее и тому подобное.
Невпрус принужден был согласиться, что в методике этнически-культурного исследования, предложенной Гочем (впрочем, уже известной человечеству с незапамятных времен, вспомним хотя бы Язона, Энея и иже с ними), есть рациональное зерно. Покоренный терпимостью старшего товарища, Гоч признал, что в конечном счете и по большому счету переводчица Герда все-таки является «девкой». Признав наличие рационального зерна в критическом выступлении Невпруса, Гоч выразил готовность тотчас же после выступлений и товарищеского обеда в армейской столовой приступить к осмотру чужой страны, начав прямо с расположенного в непосредственной близости к воинской части небольшого, но (несмотря на обилие русских солдат) все еще немецкого городка.
Обед в офицерской столовой несколько затянулся, потому что предварительно в каком-то весьма интимном кабинете с занавешенными окнами им было предложено спиртное (судя по его безнациональной чистоте и прозрачности, это был разбавленный спирт). Питулин, неравнодушный к подобным чистым напиткам, так и остался в кабинете у заветного источника, но Полван, вырвавшись наконец на просторы офицерской столовой, произнес довольно длинную и сумбурную речь. Верно сориентировавшись, он, впрочем, говорил по-русски, и, более того, учитывая почти исключительно русский характер аудитории, он более не говорил жалких ностальгических слов о похлебке из сушеного молока, а сразу перешел к колбасе. Он произнес настоящий гимн этому нечестивому продукту и тем самым утвердил свою репутацию атеиста и человека современного. Он сказал, что давно уже не закусывал такой великолепной колбасой, как здесь, на чужбине. Он говорил о полях Украины, с которых к нему доносился отчего-то запах родной колбасы и даже родного сала. Потом он стал говорить вовсе не разборчиво, и Невпрус напрасно пытался сварганить из этого что-либо пригодное для восприятия офицерским составом. Вся эта мука была прервана властным окриком Питулина из интимно-алкогольного кабинета, расположенного по соседству со столовой:
– Болваша, кончай колбасить, уйгурская морда! Иди сюда, выпьем за дружбу народов.
Вся эта сцена произвела, как ни странно, весьма благоприятное впечатление на младших офицеров, которые сочли, что писатели люди простые, свои в доску и нисколько не кичатся своим чрезмерным образованием. Правда, замполит-осетин слегка покривился, видя это неумение пить со сдержанностью и благородством, но Гоч сумел польстить ему, произнеся по-осетински с почти переносимым акцентом:
– Жагмамын дохооржэхэй!
Потом Питулин перешел отдыхать в их комфортабельный немецкий автобус, Полван Баши без чувств свалился на пол и был перенесен в укромную каптерку, а Невпрус с Гочем, прихватив Марину, пошли побродить по немецкому городку и поглядеть на Западную Европу, хотя бы и с восточной ее стороны.
Городок был прелестный. В центре его улицы были составлены из трех– и четырехэтажных старинных домов, над дверьми которых сохранились старинные гербы, выбитые в камне, вывески цехов и мастеровых. Впрочем, и современные вывески с их непривычным латинским, а то и готическим шрифтом вводили приезжих в атмосферу чужестранности и средневековости. Попадались дома с картинно перекрещивающимися на фасаде деревянными балками – «фахверке», и не верилось, что эти дома-дворцы строили для себя не графы и герцоги, а самые обыкновенные сапожники, пекари или жестянщики. И какой вкус, какое чувство пропорции! Как было не скорбеть об ушедшем, о нынешнем упадке вкуса? Как не вздыхать и горестно, и сладко?
Они зашли в булочную, где за каких-нибудь несколько марок им насыпали полный пакет свежих, еще горячих, хрустящих булочек-«бротхен».
– У вас тут что, всегда горячие? – спросил Гоч.
Невпрус вступил в мучительную (по причине слабого знания языка) беседу с булочником и в конце концов выяснил, что булочки здесь у них всегда горячие, потому что булочная – частная. А рядом, в частной мясной, если верить булочнику, всегда можно было купить очень свежее мясо.
Поддавшись на эту частнособственническую пропаганду, Гоч воскликнул:
– Раз все решается так просто, значит, надо просто открыть у нас в Москве частные магазины – и тогда у жителей столицы всегда будет свежая пища! И мне верится в это. Вспомни, отец, даже на базаре в горах можно купить горячую лепешку, только на руках, а не в магазине.
Литературоведка объяснила Гочу, что все это только кажется простым, а на самом деле представляет собой очень сложную науку политэкономию, потому что если откроется много частных лавочек, то власть не может больше концентрироваться в одной пролетарской руке, а ведь это может поставить под угрозу всеобщее равенство (которое, конечно, является утопической уравниловкой) и даже братство. Какое отношение имели булочки к братству народов, литературоведка толком объяснить не могла, потому что она ведь, в конце концов, и не была никаким экономистом, а просто она позже Невпруса сдавала экзамен по политэкономии.
Так или иначе, булочки были хрустящие и горячие, а растроганный индивидуалист-пекарь предложил им вдобавок по стакану свежего холодного молока.
Это было прекрасно, хотя они отлично поняли, что это еще один, вполне предательский аргумент в пользу частной торговли, которым их было не сбить с пути.
Пройдя до конца улицы, они вдруг вышли за город и увидели, что зеленое немецкое поле тоже прекрасно. Ряды деревьев окаймляли его, а посреди поля немецкие мальчишки гоняли в футбол.
– Смотрите, наш солдат! – воскликнула литературоведка, которая была очень наблюдательна и чутка к явлениям реальной жизни.
Они подошли поближе и увидели, что один из мальчишек был действительно уйгурский солдат: они узнали его не только по кирзовым сапогам и брюкам х/б, но также и по уйгурскому выражению лица и очень черным волосам. Гимнастерка его лежала на краю поля, а на ней – грозный автомат Калашникова, с которым играли два немецких младшеклассника, завершавших неполную разборку затвора.
– Эй, друг! – крикнул Гоч, и солдатик, отирая со лба пот, подошел к ним.
– Я вас сразу узнал, – сказал солдат, – это вы рассказывали в клубе про наши горы.
– Что ты тут делаешь? – спросил Невпрус.
– Дополнительный пост номер один. У нас сегодня сбежало два молодых солдата. После вашего рассказа они убежали, не выдержав тоски по родине. Ротный сказал, что, может быть, они убежали вон туда, к границе, где стоят войска поджигателей рейхстага, бундесвера и вермахта. Поэтому меня и поставили здесь для дополнительного наблюдения.
– Все ясно, – сказал Невпрус. – Ты, наверное, отличник политической подготовки.
– Да. И боевой, – сказал солдат. – После вашего выступления я хотел убежать тоже. Прямо с поста. Но заигрался в футбол и опоздал. Может быть, я еще убегу. Ночью… – Он махнул рукой куда-то в сторону горы Брокен и западной границы.
– Но разве наша страна там? – удивился Гоч.
– Нет, конечно, но там дольше не поймают. А если идти по горам, можно всегда прийти в наши горы, – сказал солдат.
– Ничего не понимаю! Какая-то галиматья! – возмущенно сказал Невпрус.
– Нет, это правда, – сказал Гоч задумчиво. – Все горы этого мира сообщаются между собой. Для гор нет границ. Я слышал об этом от одного дервиша. Он был декабрист, и он шел в Италию… Но не лучше ли тебе, земляк… Не лучше ли тебе, друг, попросту уехать с нами в Москву, а оттуда на поезде добраться в Уйгурию.
– Как это так? – Невпрус даже задохнулся от абсурдности и дерзкой нелепости этого плана. – Как он пересечет границу?
– Все просто, – сказал Гоч. – Я придумал. Он поедет с нами по документам Полвана. В конце концов, для немецких и русских пограничников, так же, как для Питулина, все уйгуры (а если уж на то пошло, и вообще все чечмеки, кроме Айтматова и Гамзатова) – на одно лицо.
– Ну, а дальше? А дома? Его ведь будут разыскивать дома! – продолжал отчаянно Невпрус.
– Дома там что? – сказал солдатик мечтательно. – Дома у меня дядя начальник милиции. Дома можно сказать, что это не я, а мой старший брат, он тоже неженатый. А старшего брата за дядю выдать. А дядя у нас давно пропал со стадом, так что его ни за кого не надо выдавать.
– Неплохая идея, – сказала литературоведка. – Мне кажется, на этом этапе своего поступательного развития уйгурская литература уже может обойтись без Полвана.
– Вот именно, – сказал Гоч, и его даже передернуло при воспоминании о пьяной неразборчивости Полвана Баши. – Раз он так любит колбасу, пусть и остается здесь, в колбасном краю. Навек! И где у нас с вами гарантия, что он не ушел на Запад, гонимый своей низменной колбасной мечтою?
– Граница-то на замке, – машинально сказал солдатик, уже надевая сноровисто пуловер Гоча и брюки литературоведки, которые были ему чуть широковаты.
– Так-то оно так И все же гарантии у нас нет, что этот хитрец не прошел, – упрямо сказал Гоч, и Невпрус подивился его дерзости.
Дорогой они в деталях разработали план действий на весь остаток месячника. Питулина они будут оставлять в гостиничном буфете, Невпрус будет выступать с Гочем, Гоч спать с литературоведкой, а солдат – с переводчицей Гердой. Таким образом, удастся до самого отъезда сохранять статус-«куо». Для немецкой публики уйгурскую литературу будет представлять сам Гоч, уйгурскую критику – литературоведка, перевод – Невпрус, а освещение месячника в прессе возьмет на себя Штрумпф Гадике, которому они уже надиктовали материала не то что на месячник, а даже на целый високосный год.
Невпруса все же несколько тревожила такая подмена, хотя он не мог не признать ее благородного и вполне гуманистического характера. Однажды, впрочем, он наблюдал, как Питулин, пробудившись, долго и пристально смотрел на юного солдата, после чего наконец сказал:
– А-а, это ты, Болваша. Гляди, опохмелился – и вроде как даже помолодел. Как с гуся вода. Ох, и живуч ваш брат этот, как его… Ну, месячник…
После этого предстоящее пересечение границы в обществе беглого солдата стало меньше тревожить Невпруса.
И в самом деле: немецкого пограничника, проверявшего вагон, больше волновало, не спрятался ли кто-нибудь на потолке, чем то, кто же на самом деле едет в составе делегации. Он козырнул им в заключение, как актер из военного кинофильма, и, не желая выходить из роли, рявкнул вежливо, но резко:
– Ауфвидерзейн!
Что до русского пограничника, то он, безмятежно глядя то в паспорт Полвана, то в юное лицо солдатика, сказал только, что у них дома, в деревне собака такая была – Полкан.
Невпрус не стал поправлять его, и солдат улыбчиво удалился.
Менее гладко прошло у них с Питулиным, лицо которого от дармовой немецкой выпивки и большого количества пива получило вдруг неожиданный левый перекос.
– Это у меня за границей такая аллергия бывает, – объяснял Питулин молодому пограничнику. – Каждый раз морду перекашивает. Вот вы справа зайдите, еще правей, теперь глядите – и чирей наш, фамильный, и морда – моя, верно говорю?
– И верно – справа больше на фоту смахивает, – сказал солдат. – Ладно. С возвращением на родину, товарищи! Творческих вам успехов.
– Вот кабы мы в ту сторону ехали, на Запад, – сказал, усмехнувшись, Гоч. – Вот там уж был бы шмон как надо.
Слушая его, Невпрус думал о том, что каким-то неведомым образом этот молодой человек принес с собой оттуда, с гор, незаурядный контрабандистский опыт. Впрочем, если предположить, что юный Гочев возраст не является обманчивым, то опыт этот просто был запрограммирован где-то в его памяти… На радостях Питулин в тот день не раз гонял солдатика, которого ласково звал Болвашей, в вагон-ресторан за пивом, щедро снабжая его при этом нашей родной, хотя и неконвертируемой, зато и не принимаемой так уж всерьез советской денежной валютой.
После четвертой бутылки Питулин оглядел ласково своих попутчиков и сказал:
– Ну сознавайтесь, что вы все, окроме, может, дамы, все как есть чечмеки. А чечмек он и есть чечмек. Из-за своей вековой отсталости. И никогда ему нашим русским человеком не сделаться. Не вытягивает. Сил не хватает. Хотя бы и ты, друг Болваша. Ну сколько же ты сосал водки на дармовщину, а все старше никак не сделаешься. Значит, ты ее не всерьез принимаешь, проклятую. А что же, скажи, есть еще такого на свете, чего может человек с чистой совестью, наш, настоящий человек, принять всерьез? Вот и молчишь. Нет, что ни говори, не проходит вам даром прыжок от феодализма в царство необходимости. В царство, можно сказать, справедливости. А третьего не дано. Или, может, скажете, вам дано Магометом? Нет, нет и нет. Ни Бог, ни царь и ни герой. Ни Шамиль, ни Хаджи-Мурат, ни Хасбулат удалой, никто…
На этом митинг был закончен, потому что Питулин уснул. А пополудни они уже въехали в столицу нашей родины, порт пяти морей и надежду всего сколько его ни расселилось человечества.
В тот же вечер Невпрус и Гоч поездом отправили молодого уйгурца на родину.
– Черт-те что, – ворчал Невпрус, ворочаясь перед сном в своей постели. – Вместо обстоятельного знакомства с Западом я был втянут тобой в какую-то кавказскую, чисто эксовскую авантюру.
Не поняв сути его претензий, Гоч сообщил ему откуда-то из-под литературоведки, что теперь Невпрусу осталось уже недолго, потому что Союз писателей, в котором он на очень хорошем счету, и лично папаша (так Гоч из природной благожелательности и деликатности называл пахана) обещали ему, Гочу, в ближайшее время если не квартиру, то на худой конец свою комнату в коммунальной квартире. Невпрус хотел возражать и объяснять, что он был неправильно понят, но, прислушавшись повнимательней к шуму, срочно надвинул на череп наушники с голосом Марины Влади. По одному мановению указательного пальца эта женщина могла назвать его прекрасным младенцем, и, хотя Невпрус понимал, что это лишь актерская аффектация, что она, может, и не думает ничего такого, это было ему все-таки приятно. В конце концов, кому из нас известно наверняка, что о нем думает женщина, произнося ласковое слово? Так что старик Невпрус в этой ситуации не проявлял ни большей наивности, ни большей доверчивости, чем мы с вами.
В ту ночь Невпрусу приснился сон о потерях. Он даже не понял толком, кого он терял в ту ночь. То ли нежно любимую мать, то ли первую жену, которая по странным законам сна оставалась все той же юной, любимой и никогда не предавала его, то ли своих нерожденных детей…
Невпрус проснулся и заплакал. Он спал в наушниках и оттого не слышал своего плача. Он не слышал, как шепчутся Гоч с Мариной.
– Жалко его, он такой одинокий, – сказала литературоведка.
– Да? Странно… – сказал Гоч. – У меня не было этого впечатления. Но, я думаю, ему тоже не хватает тепла. Пойди, согрей его. Это будет нравственно.
– Ты в этом уверен?
– Да. Диспетчер сказал, что у меня безошибочное нравственное чутье. Он сказал это на своем, на материнском…
– Матерном?
– Да, на матерном языке. И речь в тот раз шла о водке. Но смысл был именно такой. Вставай, не медли…
Невпрус почувствовал тепло под боком. Может, это было продолжение сна. Просто сон потек в другую сторону. Если бы он узнал Марину, ее профессия могла бы воспрепятствовать его согреву, но он ее не узнал.
– Ну что? – спросил Гоч спустя некоторое время.
– Он уже согрелся. Его тепло стало подвижным.
– Смело иди вперед. Это твой долг.
– Я повинуюсь, – сказала Марина, все бесстыднее теребя плоть Невпруса. – По-моему, он оживает. Тебе не нужны наушники? Нет?
– Они мне ни к чему. Ваше тепло меня греет. Ты поняла? Мы все трое в пещере. А костер потух…
– Да, да, да, в пещере, в пещере, – причитала Марина. – В темноте, в темноте, в темноту, еще глубже, еще, все темнее…
– Интересно, какой это сейчас размер? – спросил Гоч. – И что любопытно: чем быстрее ты декламируешь, тем меньше пеонов. И уж вовсе никаких ямбов.
– Как тепло здесь в пещере, на шкуре, у костра, в этой шерсти. А-а-а! Мы в пещере. А-а-а? А? Ты слышишь? Он уснул…
– Оставь его в покое, – сказал Гоч. – Теперь ты можешь вернуться.
– Повинуюсь, – сказала литературоведка.
* * *
Вопреки опасениям Невпруса, положение Гоча в Союзе писателей после путешествия в ГДР не только не пошатнулось, но даже и было упрочено. Во многом этому способствовали поддержка Питулина и абсолютное одобрение со стороны папаши. Питулин сообщал всякому встречному-поперечному о том, какой замечательный доклад о культурных достижениях месячного народа подготовил и этот референт Гоч, и еще какой-то малахольный чечмек с невпрусской фамилией и как радовались их приезду простые немецкие литературные круги, а также как много значат такие вот связи в жизни трудолюбивого, но неталантливого немецкого народа ГДР. Особенным доверием Питулин проникся к Гочу, проведя самый, может быть, неприятный день в своей творческой жизни. В самом начале этого дня один из рабочих секретарей Союза спросил его в коридоре соболезнующим полушепотом:
– Что же вы делать-то собираетесь? Тут сигнал есть: Полван Баши как в воду канул. А вы все-таки были ответственный за поездку.
Совершенно одуревший накануне от двух затянувшихся юбилейных банкетов и еще не опохмеленный с утра, Питулин стал мучительно вспоминать, где и когда он в последний раз видел ишака Болвашку, но припомнить не мог.
Едва успев поправить здоровье, он в тот же день изловил в коридоре Гоча и, стараясь выглядеть спокойным и даже как бы небрежным, спросил, как здоровье всей компании, как что и как там, кстати, поживает болван-классик-паша, куда он запропастился?
Гоч спросил не менее небрежно:
– А что, собственно, с ним? Он, кажется, поехал к себе на родину, в степи. А может, и не уехал. Он ведь, собственно, и не имел отношения к нашей делегации. Его у меня в списках нет.
Питулин был сверх меры удивлен и успокоен таким хладнокровием, а расставшись с Гочем, долго еще шептал, надежно придерживая стену Большого Союза близ подземного перехода в Московское отделение:
– Во где работник! Во размах! Во силища! Даром что чечмек… Такое и не всякий русский сможет, нет, нет…
Восхищение это не ослаблено было протрезвлением. У Питулина сложилось твердое убеждение, что Гоч (хотя и чечмек, а может, именно вследствие этой своей мусульманской нерусскости) – человек на банкетах и международных мероприятиях незаменимый, потому что хучь стой, хучь падай, а за таким человеком ты как за каменной стеной. Конечно, Питулин подозревал, что Гоч был откуда-то оттуда, где учат пить, не пьянея, но и здесь все же лучше было иметь такого человека на своей стороне, чтобы и там у тебя все были свои.
Гоч стал мало-помалу неизменным посетителем всех мероприятий и банкетов, которые имели место в таинственной ресторанной пристройке, смежной с верхним буфетом писательского клуба. Он входил туда как свой и всегда был званым и желанным гостем. Гоч разучил даже несколько непродолжительных и в меру смешных кавказских тостов, он никогда не валился с ног и вообще производил отчего-то впечатление человека, владеющего если не всеми, то очень многими приемами борьбы карате. Благодаря этой его таинственной репутации даже бедолага Невпрус, дружеской связи с которым Гоч никогда не скрывал, начал казаться многим фигурой тоже вполне непростой и загадочной (взять хотя бы эту фамилию, от Рюриковичей, что ли, а ведь еврей евреем!). Полагали, что он был, скорей всего, серым кардиналом самого пахана. На жизнь Невпруса эти догадки не оказали, впрочем, никакого влияния. Он снова собирался в милую своему сердцу Уйгурию сочинять там первую уйгурскую музыкальную комедию за подписью двух классиков новой уйгурской поэзии.
Однажды Гочу удалось затащить Невпруса в ресторанную спецпристройку на какой-то из второстепенных банкетов. Отмечался выход в свет очередной книги одного из секретарей Союза. По чистой случайности Невпрус читал страничку прозы этого молодого, но достаточно располневшего секретаря, которого ценили в литературно-начальственных кругах за его пролетарское происхождение и чистоту крови. Проза была беспомощная. Герои странички (чудом попавшей в неуютный ходжа-дорацкий туалет) были альпинисты, морские волки и герои войны. Они со знанием (хемингуевинских переводов) смаковали белое вино в приморском ресторане и закусывали угрем. Отличие их от героев Хемингуэя заключалось в том, что те пили за свой счет, а эти, скорей всего, на казенный. Точнее, на казенный счет пил автор, и это накладывало отпечаток крайней натужности на его прозу. Удручающим был также диалог. Может, потому, что собутыльниками автора были на протяжении многих лет все те же начальники. А может, он был просто глух к родной речи. По-человечески Невпрусу было даже несколько жаль русского писателя, который, вероятно, уже так и не научится выражать свои мысли по-русски. С другой стороны, похоже было, что молодой автор доволен своей сорок шестой книгой прозы, так что выходило, что жалеть его вроде бы не за что…
Наевшись в рекордные сроки, Невпрус поспешил покинуть стол, подтвердив тем самым свою репутацию человека загадочного.
Что же касается отношений Невпруса с Гочем (который уже перебрался вместе с литературоведкой в собственную комнатку, составлявшую часть немногочисленной, но склочной коммунальной семьи, в двух шагах от улицы Воровского), то отношения эти несколько осложнились. Невпрус по-прежнему питал к Гочу теплое отеческое чувство (и даже откликался на отчество Пигмалионыч). Он готов был всегда прийти на помощь юноше (и немало огорчался, сознавая, что эта помощь уже вряд ли будет Гочу нужна). Он по-прежнему восхищался его раскованной дерзостью и даже его неожиданной холодностью (в отношениях с женщинами, с благодетелями, да и с ним самим тоже). Однако его удручала и немало озадачивала новая Гочева карьера. «Конечно, я не могу требовать, чтобы Гоч был так же робок и так же разборчив в знакомствах, как я, – рассуждал Невпрус. – И если я с кем-нибудь не сяду на одном поле, то это, в конце концов, скорее связано с устройством моего желудка, чем с категорическим императивом… И все же…»
И все же Невпрус сомневался, что такая карьера может кончиться для мальчика чем-нибудь хорошим – даже и не в физическом смысле, а скорей в смысле морального ущерба и порчи характера.
У Невпруса хватило, впрочем, характера для того, чтобы держать при себе эти свои страхи и опасения. Просто они реже стали видеться с Гочем. Благословенная Уйгурия дала Невпрусу (наряду со множеством других) и эту возможность. «Что бы мы делали без братских окраин, без братских литератур и вообще без братства? Что-нибудь бы делали, конечно, но что – представить себе трудно». Именно так думал Невпрус по дороге в Уйгурию, приводя спинку кресла в горизонтальное положение и предаваясь неспокойному аэрофлотскому сну в ожидании обещанного стюардессой куска курицы.
* * *
Уйгурия его успокаивала. Она давала Невпрусу ощущение, что на свете есть что-то незыблемое, есть верность слову или завету. Три недели прошли сладостно и незаметно.
На обратном пути соседом Невпруса в самолете был директор местного Дома атеиста. Атеист летел на курсы усовершенствования, где он должен был заострить свое холодное оружие пропагандиста, выслушав и законспектировав новые обвинения в адрес воинствующего ислама и пассивного джайнизма.
– Ну а ваши… – спросил Невпрус за горячим завтраком (все та же курица, предложенная около полуночи). – Ваши-то дети, я надеюсь, обрезаны?
– Конечно, как другой может быть? – возмущенно воскликнул атеист. Потом он долго теребил ленивую память, вспоминая какие-то доморощенные объяснения этому парадоксу, придуманные местным комиссаром атеизма. – Это разве религиозным? Это народным обичай. Гигиническим опыт трудовой масса.
– Правильно, – одобрил Невпрус благожелательно. – Только молиться не надо забывать. Мы уже с вами не мальчики. Раз – и копыта откинешь без молитвы. Скажем, сегодня, при посадке… – Поглядев на квадратную будку атеиста (За что этот-то взимает с прихожан бесплатный плов? За лекционные турне, что ли? За лишние путевочки по линии общества «Знание»?), Невпрус добавил жестко: – А пророка не надо ругать напрасно. И Аллаха бранить грех. Он ведь слышит. Все под Богом ходим…
– А как бить? – спросил жалобно атеист. – Кушать надо. Дети кормить.
– В лавке надо торговать, – сказал Невпрус безжалостно. – В этом ничего плохого нет. Пророк и сам торговал в лавке у вдовы. На молочишко детям, гляди, и наторгуешь.
– Висший образований имею. Юридический факультет имею, – канючил атеист.
– Ну и что? А пророк что, по-твоему, безграмотный был?
Невпрус отнюдь не был садистом, но квадратная морда пропагандиста его подначивала. («Надо будет его в следующий перевод вставить или в сценарий», – думал Невпрус.)
Он знал, какой ответ вертится сейчас на языке у атеиста: что пророк не умел писать. Но Невпрус знал также, что атеист никогда не отважится произнести это вслух: одно дело с трибуны, по долгу службы, другое – сказать такое без нужды, в частной беседе. И Невпрус не спешил ему на подмогу. В конце концов, Мохаммад из Мекки, знакомый с Ветхим и Новым Заветами, не мог считаться человеком безграмотным. Вот человек, сдававший ОМЛ по чужим конспектам, – этот, пожалуй, да. Во всяком случае, человек этот был не более чем полуобразован. Он был образованщина. Впрочем, этот-то, может быть, и ОМЛ не сдавал. И беспечных закорючек на полях Канта не штудировал («Хо! Хо! Хамишь, парниша!»). Просто скинулись родные и отвели ректору (или замдиректору) пяток курдючных баранов…
– Следующий раз у меня дома жить будешь, – сказал почтительно атеист. – Гостевой комнат у меня пустой стоит. Второй жена хороший плов может.
Вот это разговор! Хвала тебе, непуганая Уйгурия. У такого большого директора и должно быть не меньше трех жен, двадцати детей. У него должно быть просторное жилье из дефицитных стройматериалов, отпущенных русскими богохульниками на сооружение Дома атеиста. Но на такое разбазаривание средств не поднялась даже богохульная рука: атеистам хватит и мазанки на задворках общества «Знание», а дефицитные материалы пошли для умножения стада пророка, на пиры обрезания… Они пошли по назначению.
– Плов мало-мало кушать будем, чай пить будем, разговор будем образованный люди…
– Человек обрезованный уже и есть образованный, – сказал Невпрус, и атеист засмеялся довольный.
– Дарю каламбур, – щедро сказал Невпрус. – Используешь в религиозной пропаганде.
Потянуло левую руку. Самолет шел на посадку…
Гоч явился к нему в тот же вечер, словно он давно ждал возвращения Невпруса. Юноша был грустен и озадаченно жаловался на жизнь. Он не вылезает из-за пиршественного стола. Он научился пить, но это не приносит ему радости. Он пристрастился к колбасе, и у него есть подозрения, что в колбасу кладут трупы невинно убиенных животных…
– А что ж ты думал? Одни заменители, что ли, кладут? – воскликнул Невпрус. – Не много, конечно, трупов, но одного-двух поросят на вагон спецбуфетской колбасы зарежут. Тебе-то их тем более есть не пристало как консультанту по мусульманской литературе…
– Иногда вспоминаю ягнят, которых я ловил в горах… – задумчиво сказал Гоч.
– Да, это было негуманно, – согласился Невпрус. – Но тогда ты был голоден. Ты должен был выжить. А теперь? – Невпрус молчал, ждал развития темы. Гоч сидел огорченно и потерянно. – Что будешь делать? – спросил Невпрус.
– Я решился, – сказал Гоч, и Невпрус снова удивился его мужеству: так вот запросто принять решение, это ведь не всякий русский сможет, что уж говорить о не вполне русском… – Ты нас проводишь, отец. Я тебе уже выписал командировку от Союза, а сам получил отпуск. Марина уходит со мной.
– Куда?
– В горы. Невпрус молчал.
– Бывало, ночью намерзнешься в какой-нибудь пещере… – мечтательно заговорил Гоч. – Проснешься на земле, как собака. Глаза откроешь – и хочется скорей встать, бежать. Согреешься, а уже и солнце на росе. Птицы поют. А там – снега, снега…
Гоч взглянул на часы.
– Ого, надо бежать. Часы передач кончатся. Опоздаю.
– Каких передач? По телику?
– Нет, в тюрьме. У друга-диспетчера. Ну да, он сидит… Что поделаешь! Все там будем.
– Да уж… – озадаченно сказал Невпрус. – Тогда поспеши! Пахан еще на свободе?
– Кто тронет папашу? Его же сперва отовсюду исключить надо, где он состоит, чтоб его потревожить. Чтоб его тронуть, сперва к нам запрос сделают. А мы ответим: руки прочь от папаши. Все как один человек.
– Всей кодлой, как говорил твой бедный диспетчер. Он был все же слишком хорош для этого мира.
– И для своей кодлы тоже, – печально подтвердил Гоч. – Он был нравственный человек… Завтра-послезавтра вылететь сможешь, Пигмалионыч?
– Хоть сегодня. Тем более раз есть командировка…
– На месяц. Не забудь, что для отчета ты пишешь роман об освобождении горцев от турецкого гнета. Или от персидского плена, не помню.
– Может, от египетского?
– Может быть, надо взглянуть в приказе… А сейчас побегу.
– На вот, возьми, передай диспетчеру гранат.
– Зачем ему гранат? Ему надо чаю сунуть полкило. Он чефирит. А письма он пишет о международном положении. По следам очередного политзанятия.
– Тогда передай ему «За рубежом» и «Новое время». Вот, есть еще брошюрка о фашистском Израиле.
– Это же на уйгурском языке.
– Правда? – удивился Невпрус. – А я и не заметил. Буквы те же. Ну да, «Фафистырдыр Израилие сионист». А я увидел «сионист» и купил. Странно, я же ее начинал читать и не понял, что она не по-русски, все так знакомо. Правда, атеист меня отвлекал…
– Я побежал. Собирайся, отец.
– Всегда готов! Сегодня трусы постираю – и летим.
* * *
Гоч обнял его с нежностью. Сказал с надрывом:
– Прощай, отец!
Марина сунула Невпрусу холодную ладошку, потом ткнулась ему в щеку носом.
– Мне будет вас не хватать, – сказала она.
– Питайтесь как следует, – сказал Невпрус. – Тут все-таки большая теплоотдача.
Он стоял на окраине кишлака, слушая, как они уходят прочь. Камешки сыпались у них из-под ног.
Вскрикнула курица в вышине, но даже не успела как следует закудахтать. Шум шагов тоже затих. Послышался хруст костей на зубах.
– Это ты, Гоч? – с отеческой тревогой спросил Невпрус.
– Нет. Это Марина… – Невпрусу показалось, что Гоч преодолевает тошноту. Он стоял неподвижно, прислушивался. – Ты вся перемазалась в крови… – сказал Гоч в отдалении. – Как можно? Мы ведь совсем недавно ужинали.
– Ты слышал, что отец сказал? – Марина отвечала невнятно с полным ртом. – И разве жизнь не есть борьба?
Невпрус отвернулся, побрел к шоссе. У последнего кишлачного дома он не выдержал, остановился. Все было тихо вокруг. Потом голос телевизионного диктора заговорил о проделках Рейгана. «Белый дом не унимается…» – равнодушно сказал диктор. Невпрус пошел дальше. Шум горной реки заглушил продолжение передачи. Два черных силуэта возникли на гребне горы и снова растаяли во мраке.
– Прощай, мой мальчик, – с чувством сказал Невпрус и вдруг побежал: на шоссе показались огни машины. Она шла в сторону райцентра.
Часть II Возвращение блудного сына
Невпрус хотел забыть крестника, вытравить его из своего сердца, но ход событий мешал ему сделать это успешно. Два или три раза заходили из Союза и спрашивали, не знает ли он, когда Гоч вернется из отпуска.
– Не знаю, – сказал Невпрус грустно. – Может быть, никогда.
– Дурак будет, – сказала барышня из Союза. – Главный хочет его на книжную выставку послать во Францию, со стендом нерусской литературы.
– А меня он не хочет послать? – пошутил Невпрус.
Барышня не улыбнулась, и Невпрус со смирением признал, что шутка была неумная: сам он ведь даже никогда и не видел папашу, и уж тем более не пил с ним на брудершафт.
Однажды ночью к нему пожаловал какой-то каторжник. Прямо из мест заключения. Он сказал, что у ихнего друга-диспетчера дела неплохие, зачеты ему идут регулярно и теперь ему нужна еще тыща, чтоб окончательно откупиться от химии.
– Там на химии все проще, чем у здешних бобиков, – сказал хриплый гражданин, располагаясь на ночь под книжными полками, на бывшем Гочевом месте. – Там страху меньше, так что это дело стоит меньше. Тут пять тыщ в прокуратуру влопаешь, как в прорву, а там одной хватит, понял?
Невпрус и не старался понять все. Он понял только, что диспетчер облек его высоким доверием. Он должен был не мешкая пойти к Рыжему и попросить его незамедлительно выслать тыщу.
– Рыжий сам знает, он пошлет. А то мне, что ли, с тобой пойти, пером его пощекотать? – сказал хриплый. – Только надо вместе идти. Одному мне косопузый ваш не велел. Не доверяет. А за что, интересно, к тебе такое доверие?
Невпрус не знал за что. Он не подозревал даже, что пользуется доверием диспетчера.
– За ученость, наверно. А может, еще за глупость, – сказал хриплый человек и дальше уже стал просто хрипеть, без слов. Вероятно, он уснул.
Невпрус лежал без сна и думал о том, как много уголовщины вошло в его жизнь с появлением Гоча.
Рыжий оказался солидным заместителем министра. Он ничему не удивился, но сказал, что тысяча – это много. Он дал понять Невпрусу, что диспетчер по возвращении больше уже не будет являться ценным работником. Невпрус сказал, что лично его не интересует проблема размещения кадров. Он просто передает просьбу одного знакомого ему человека. Сам он занимается литературным трудом, но поскольку…
Здесь Невпрус почувствовал, что Рыжий удивился впервые и что это удивление не пойдет на пользу его подзащитному. У Невпруса появилось постыдное чувство собственного бессилия. С поручением узника химии он явно не справился.
Рыжий сверкнул золотым зубом. Наглый золотой блеск пробликовал в его взгляде. Невпрусу даже показалось, что Рыжий собирается пропеть что-то одесское. Он стал вдруг очень деловитый и нажал кнопку звонка. Вошла секретарша. Невпрус вспомнил отчего-то стихи покойного коллеги: «Они лежали на панели…» Как там было дальше? Ну да, дальше они осатанели. Кажется, было так. Впрочем, это было про что-то другое, совсем невинное. Кажется, про листья.
– Проводите товарища, – сказал рыжий зам. – Он у нас впервые…
Невпруса осенило.
– И в последний, – сказал он покладисто. – Однако тут приехал один человек. Оттуда. Очень хриплая личность. С незаконченным средним образованием.
– Работы у нас нет, – поспешно сказал Рыжий.
– Не о том речь, – сказал Невпрус. – Просто он рвется к вам на свидание. Он хотел вас пощекотать.
– Пощекотать? Как? – удивился Рыжий.
– Не как, а чем, – сказал Невпрус смиренно. – А может, и как тоже. Пером.
– Оставьте нас, – велел Рыжий секретарше. Он отдышался. Сказал с достоинством: – Давайте его адрес. Завтра я отошлю. Передайте, что все в порядке. В конце концов, дружба всего дороже.
– Дружба – это знамя молодежи, – подтвердил Невпрус.
Только выйдя на улицу, он вспомнил, что это был первый большой зам за всю его жизнь. Странно все же повернулась жизнь – первый выезд в Европу, первый зам. Зам-зам. Хорошее имя. Так азиатские гончары называли детей. В честь первого своего покровителя-пира, которого звали Зам-Зам… «Что-то я давно не был в Уйгурии, – подумал Невпрус. – Уже месяца полтора, наверное. Пора, брат, пора…»
Через неделю Невпрус проснулся от стука в дверь. Он посмотрел на часы. Был час ночи.
«Опять кто-нибудь от лагеря, – подумал Невпрус. – Войдут вот так и пощекочут пером. Или украдут… Но что украдут? Словарь Даля? Четырехтомник Монтеня? Цитатник Ильича?..»
Он открыл дверь. За дверью стояли Гоч и Марина. Вид у обоих был сильно ободранный.
* * *
– Прости, отец, – сказал Гоч. – Мы решили сперва к тебе. Чтоб не будить соседей – в таком виде. Боюсь, они не оценят. Ключ я неосмотрительно выбросил в пропасть…
При этих словах Гоч свирепо взглянул на Марину. Видимо, он пожалел, что не сбросил ее вслед за ключом.
Невпрус пошел ставить чайник. Однако вид у него был, вероятно, такой, как будто он еще не все понял.
– Ну да, все она, Марина, – сказал Гоч. – Она, видишь ли, не вынесла тех условий жизни.
– Что поделаешь, – сказал Невпрус. – В конце концов, она равнинная женщина.
Марина взглянула на него с благодарностью и разрыдалась.
Ночью Невпрус был разбужен спором.
– Ты просто хочешь от меня отделаться… – говорила Марина. – Я бы пошла, но я вижу, что для тебя это повод поспать спокойно – и только.
– Немедленно встать, – скомандовал Гоч.
Марина робко легла рядом с Невпрусом. Гоч сразу затих. Он уснул.
«Мой бедный мальчик, – подумал Невпрус. – Он с ней будет иметь немаленькие проблемы…»
Потом он принялся утешать Марину. Он отер ей слезы, согрел ее и немного согрелся сам. Он подумал, что утешать женщину даже приятнее, чем приставать к ней с глупостями.
– Ты видел? – сказал ему Гоч за чаем. – Мог я там оставаться на этих условиях?
– Женщине трудно жить с нами, – примирительно сказал Невпрус. – Но нам с женщиной жить совсем невозможно. Ну, а ты, сынок? Скажи, может, ты еще и соскучился по колбасе?
– Может быть, и это, – сказал Гоч. – Однако в этом я не могу признаться даже себе. Но мне вовсе не улыбается глядеть здесь каждый день на папашу.
– Кстати, он уже присылал за тобой.
– Вот видишь!
– Что ж там у них было? Постой. Ах да, он хочет послать тебя во Францию.
– Во Францию?
– Да, на выставку. А что, может быть, это неплохая идея. Я бы съездил, посмотрел. Там столько сортов колбасы и сыра, в этой Франции. К тому же, говорят, это совсем другая цивилизация. Не я говорю, но многие говорят.
– А ты что думаешь, отец?
– Мне что-то не очень в это верится. Но это может оказаться забавным. Лично я поехал бы, чтоб посмотреть…
– А если мне там очень понравится?
– Что такое взбрело тебе в голову?
Невпрус с любопытством прислушивался к волнению своих внутренностей. А чего он, собственно, так взволновался? Еще месяц назад идея сбыть мальчика навсегда в горы, куда-то Туда, откуда почти не приходят, вовсе не казалась ему возмутительно бредовой. А сегодня идея простого перемещения птенца из одной клетки в другую (в пределах того же самого зоопарка) перевернула ему душу. Не странно ли? Где же твой релятивизм, где твоя терпимость, старик Невпрус? Значит, ты взращен в той же системе предрассудков, что и прочие телезрители. Даром что не завел телевизора и читаешь по временам Монтеня? Или ты проникся идеями своего последнего сценария для «Уйгурфильма»? Да, да, Уйгурия… В этом что-то есть, пожалуй… Там, за семью морями, за Великой Берлинской стеной, есть ли там своя Уйгурия, своя экологическая ниша для остывших и простуженных? Впрочем, как только ты признаешь ценности Уйгурии, ты перестанешь быть ничьим, ниоткуда. Даже ты, Невпрус, невпуйгур, невпписатель, нечлен и некандидат, ничего такого, что только может кодловаться. А вот Гоч, человек Оттуда и Ниоткуда, – смотри, как он встрепенулся, как победоносно взглянул на Марину. Внимание, на старт! Бедные человекознавцы из инстанции, оставляющие себе в залог чужих жен и детей, а потом на этом поводке отпускающие наиболее доверенных сыновей отчизны понюхать запах разложения. Окститесь! Да ведь жены – это самая мощная катапульта, увеличивающая дальность прыжка. Воспоминание о них надежней спасательного круга, дающего даже робкому отвагу спрыгнуть за борт. Ну, а дети? Да, дети – это смертельно, но лишь для восточных людей: сколько впрусов и даже невпрусов мечется сегодня по просторам необъятной родины, чтоб не платить пособий на воспитание брошенных детей. Марина, вот кто станет разлучницей, вот кто встанет между Гочем и родиной… Невпрус запнулся… А разве ему известно, где родина Гоча?
Часть III Альпы
Весна во Франции выдалась холодная, холодней, чем в Москве. Деревья и кустарники стояли в цвету; пышно цвели и ничем не пахли. Зато весьма ощутимо пахло бензином и собачьим дерьмом. Собачье дерьмо было на тротуарах прекрасных городов, на их площадях, на папертях соборов. Машины, собачье дерьмо и надписи. Надписи на стенах домов, на статуях. Краской, тушью, фломастерами. Непонятные, идиотские надписи. И нескончаемый холод. Похоже было, что помещения в этой стране не отапливаются. Считалось, что холода должны скоро кончиться, а пока можно потерпеть.
* * *
Выставка уйгурской, урметанской и прочей непонятной прозы не пользовалась здесь особенно шумным успехом. Никакие выставки не пользовались здесь слишком шумным успехом – выставок было слишком много – не то что на уйгурском, но даже и на французском языке. Раз или два на выставку заходили коммунисты. Им рассказывали – вот, мол, каракалпаки, уйгуры, раньше они даже не умели писать, а теперь гляди – книги. Они спрашивали, о чем книги, почем книги, почему они так плохо изданы. Им объясняли: романы про колхозы и совхозы, про фабрики и заводы, про Гражданскую войну и Отечественную войну («командиры и комиссары»), про любовь и дружбу, про рабочий класс и трудовое крестьянство. А издано плохо, потому что была изнурительная война, потом настало капиталистическое окружение, потом пропала бумага, а раньше – раньше и вовсе ничего не было, дома, мол, строили из навоза, а теперь вот – все же книги. Одни восхищались: гляди-ка, «югюхь», «кальпакь» – а туда же, книги. Другие скептически улыбались. Каждый оставался при своем – при чем ему было удобнее. А выставка всего удобней была для ее участников и делегатов. У них было много свободного времени, хотя мало дефицитных, ненаших денег. Одни скорбели о том, что нельзя обратить в деньги свое время, другие шатались по городу без всякого сопровождения и ни на что не жаловались.
Гоч подружился с кассиршей из соседнего кинотеатра. Ее звали Франсин. Ей очень нравился экзотический русский горец.
– Он весь светится, – говорила она. – Это загадочная русская душа просвечивает у него сквозь кожу. Он, наверное, замечательный поэт.
Гоч не подтверждал и не опровергал ее гипотез.
Франсин пригласила Гоча к себе домой. Квартирка была у нее чуть побольше, чем у Невпруса, но книг меньше. Зато были всякие игрушки, вроде магнитофона, телевизора и даже видеомагнитофона. Но главное – в комнате у нее было очень холодно. Уступая просьбам Гоча, Франсин включила какой-то жиденький радиатор отопления, однако пожаловалась при этом, что она не может позволить себе отапливать комнату: отопление стоило очень дорого, дороже видеомагнитофона. О многих простых вещах она говорила, что не может себе позволить этого, и в конце концов Гочу стало ясно, что она не умирает только потому, что не может позволить себе расходов на похороны. Франсин подтвердила его догадку, сказав, что похороны здесь тоже очень-очень дорогие. Гоч вспомнил Фаю, которая тоже была занудной и бедной и которая каждую минуту говорила: «Что ж, я не могу себе позволить хотя бы такой малости?» И позволяла… Франсин сказала, что катания на горных лыжах она себе пока позволить не может. Бедняжка. Гочу стало жалко девушку из кинотеатра, и он обнял ее. Она была так добра к нему. Она пропустила его бесплатно в кино: сходить на выданные им деньги он себе позволить не мог – денег просто не хватило.
…Франсин сказала, что сначала надо принять душ и постелить постель. В душе у нее тоже было холодно, но в постели стало еще холодней. У Франсин оказалась замечательная грудь, однако о любви она не имела никакого представления. Залезая под одеяла, Гоч надеялся, что они сейчас согреются и почувствуют нежность друг к другу. Но Франсин потребовала, чтобы он двигался поживее. Она считала, что чем быстрее они будут двигаться, тем жарче будет их любовь. И при этом одеяло все время сползало с его спины… Эта Франсин, она была еще глупее, чем Фая, и еще задумчивей, чем Марина. Гоч с тоской вспоминал проводницу Шуру, а также маленькую жарко натопленную комнатку в Перхушкове, где хозяева позволяли себе топить печь беспрерывно. Правда, иногда из-за перегородки доносился выкрик хозяина: «Больно много себе позволяешь!» Однако это не имело никакого отношения ни к дровам, ни к расходам. Чаще всего это значило, что хозяйка стукнула его чем-нибудь тяжелым по голове, потому что характер у нее был просто отвратительный. Она, кажется, даже пила, а может быть, пил хозяин – через стенку разобраться в этом было трудно. Здесь, во Франции, тоже все пили, но пили как-то безрадостно, будто и не замечая вина. Казалось, что пьянство стало для них образом жизни и не доставляло им больше никакого удовольствия, а потому оно и не считалось здесь пороком. Исключение составляли здесь парижские клошары, но они были, пожалуй, слишком грязны, чтобы служить образцом процветания для такой культурной европейской нации. В остальном из всех здешних жителей они придерживались, конечно, наиболее рациональных взглядов: жизнь доставляла им максимум радости при минимальном количестве элементарных удобств и трудов (труды у большинства здешних людей уходили как раз на поддержание удобств). Гоч слышал, правда, еще разговоры о миллионерах и процветающих классах, о каких-то там хорошо одетых бизнесменах, но все бизнесмены и богачи, которых он видел, были люди перегруженные и озабоченные, так что даже праздничная одежда была на них как бы с чужого плеча.
Франсин повела его в гости к своей матери. Нестарая еще или просто молодящаяся мадам Фрудье приняла их с доброжелательством и даже радушием, в которых Гочу почудились отчего-то лишь явственно выраженное любопытство (с кем же, интересно, теперь спит малышка Франсин?) и все тот же неодолимый холод. Холодными были родственные объятия, поцелуи, ослепительные улыбки. Настороженно-холодными и отстраненными были взаимные расспросы о жизни (упаси Боже, не пришлось бы вмешаться или помочь). Таким же настороженно-холодным был интерес мамаши к экзотическому гостю (уж Гоч-то умел различить холод и знал цену теплу!). И что самое отвратительное, гостиная, в которой их угощали обедом, была едва ли теплее покойника.
Поминутно пряча руки для согрева в карманы, Гоч размышлял, чем объясняется этот настороженный холод: боязнью продешевить и передать лишнего, заботой о собственном спокойствии, врожденной бесчувственностью или традициями свободы…
Примерно на седьмой или восьмой день их французского турне (выставка в это время была в Дижоне) перед стендом уйгурской литературы остановился какой-то человек, отчасти похожий на располневшего Невпруса, отчасти на главного похоронщика из Союза писателей и вообще, по частям, – на очень многих людей, которых Гочу приходилось видеть в Москве и ее окрестностях. Он даже одет был почти по-московски – в кожаную куртку и джинсы, так что Гоч совершенно не удивился, когда человек заговорил с ним по-русски без всякого иностранного акцента.
– Да, старичок, Азия тут у вас очень средняя, и литературка у них, наверно, швах, языком не владею. А вот шашлыки там когда-то были приличные, здесь таких нет. Бормочут – «брошет», «брошет», а вот прожарить как следует, до углей, не могут, да что там – замочить с ночи в маринаде и то не догадаются, ведь, казалось бы, культурная нация, а не могут. Ты что же при выставке маешься?
– Я не маюсь, – сказал Гоч. – Я просто греюсь у радиатора. Когда я согреюсь, пойду гулять по городу, тут у них есть три-четыре очень красивых церкви.
– Да, это они умеют, капиталисты, церкви хорошие, но, честно тебе скажу, надоели – больше не смотрю. Если б я, конечно, как ты, на экскурсию приехал, другое дело, а так чего я буду на них смотреть, куда они денутся, пятьсот лет до меня стояли, еще постоят. А вот кафе, тут у них с этим культурно, можем пойти посидеть, если хочешь, конечно… Да ты можешь не пить… – Человек, похожий на москвича, отчаянно замахал руками. – Тут никто толком не пьет. Можно просто пива взять. Можно пиво пополам с водой, панаше по-ихнему называется. А можно – воду с сиропом, во гадость, а цена та же, так что уж лучше вино или кофе. Можно у арабов зеленый чай попить, как у вас в Азии, но только не советую, стакашек маленький, как рюмашка, а сахару наложат, чистый сироп… И мяты до рвоты…
Так, мирно беседуя (собственно, Гочу вставить ничего не удавалось, так как человек, похожий на москвича, говорил без умолку, явно радуясь раскованности своей русской речи), они вышли из зала выставки, прошли по коридору перед знаменами пятнадцати окончательно равных и еще других, более или менее равных республик (если б Гоч знал, что это его последний проход перед почетным строем, он бы взял на караул, но он еще не знал, просто не догадывался об этом) и вышли на уютную дижонскую улицу.
Потом они долго беседовали в кафе, проникаясь все большей симпатией друг к другу. Москвича звали Юра, Георгий, точнее, Жора, по-здешнему даже Жорж, и он был, собственно, не москвич, а харьковчанин, но часто бывал по делам снабжения, а поздней БРИЗа в Москве, Можайске, а также в других городах Союза, где имел друзей. Естественно, что его, человека, злою судьбой эмигранта хотя и добровольно, а все же отторгнутого от родины, интересовала жизнь прежних его друзей – как они там себя чувствуют и как там теперь стало жить – лучше или хуже, чем жилось десять лет назад, при Брежневе, когда ему, Жоре, жилось в общем-то хорошо, хотя, конечно, не хватало того-сего, пятого-десятого, в частности, например, свободы мнения, вот такие дела, старичок…
Гоч, к сожалению, не был знаком с друзьями Жоржа, а Жорж не знал ни Невпруса, ни Полвана, ни Шуры, хотя одного общего знакомого они в конце концов все же нащупали, и оба обрадовались безмерно. Это был диспетчер чего-то.
– Вот такой был мужик! – Жора радостно хлопнул Гоча по груди. – Он меня обдурил еще так! Вокруг пальца обвел. А меня, это всякий тебе скажет, обдурить было не так легко. Но это ж был туз! Где он теперь, кстати?
– Где-то на химии, – печально сказал Гоч. – Но какой-то Рыжий выслал ему недавно тыщу рублей, так что теперь он должен будет освободиться и скоро появится в Москве.
– Ну, Рыжий! Это зам, что ли? Ты высоко хватил, парень, по таким верхам я не ходил, врать не буду. Тут, увидишь, здешняя шушера любит лапшу вешать на уши, я, мол, в Москве раньше министр был, журналист, мол, туда-сюда, с самим Маршаком вась-вась, Володю знал Высоцкого в пьяном виде, а я нет, этого не скажу… Хотя, конечно, могу загнуть иной раз что-нибудь, но тебе нет, тебе не стану, чтоб мне сгнить. Вот тебе моя рука…
Гоч пожал Жорину руку и сказал:
– Ну а как здесь вообще? Что тут делать страннику?
– Ого! – сказал Жора. – Страннику здесь в самый раз. В любую сторону хиляй – безгранично. Вот сейчас ты, скажем, в Дижоне, а чуть ниже у них Марсель. Помнишь? Где девочки танцуют голые, где дамы в соболях… Там Средиземное море, Греция, Корсика, Сицилия, Африка, сам еще не был, но собираюсь. Мои дела еще, видишь, на ножки не встали – десять лет мало для этого, да я еще в Израиле шесть лет потерял, такая жалость, жальче, чем тридцать два в Харькове. Однако собираюсь везде побывать со временем. А тут чуть в сторону дашь – уже Швейцария. В обратную сторону кинь – Испания, тут до нее, как от Москвы до Риги, а то и меньше. Вот так, старик. А ты что, старик, ты дернуть еще не надумал?
– Что значит «дернуть»? – надменно сказал Гоч. – Я просто не решил еще, куда мне раньше поехать. Я вовсе не считаю себя пожизненно связанным со стендом уйгуро-урметанской литературы…
– Ну, ты даешь! – Жорж восхищенно крякнул. – А может, ты уже и сейчас на воле? А? Скажи! Или у тебя там еще вещички ценные в отеле?
– Ценных вещей не бывает вообще, – сказал Гоч поучительно. – Это просто несовместимые понятия. Культурные ценности для меня невещественны. Конечно, я мог бы вернуться в отель. Но могу… Так… У меня тут есть одна знакомая француженка. Хотя признаться тебе, друг, она меня разочаровала как человек и как женщина.
– Ну, ты даешь! Уже француженку завел! – Жора покачал головой и заказал водку. – Хотя наши ребята, они тут вообще шустрят. Но тоже, я тебе скажу, чаще всего без толку. Ты вот что, слушай сюда – у меня есть друг в Дижоне, негр из Африки, если ты, конечно, не брезгуешь…
– Не понимаю, чем тут можно…
– Тогда лады, а то русские, они ведь всякие бывают, такие расисты… Сам-то я, знаешь, привык, я еще в Харькове в институте имел дело, хорошие ребята, я им икру доставал, и ум у них деловой, ничего не скажешь… Так вот мы можем прямым ходом к нему, я у него сегодня ночую, там ребята отличные, все из Уганды… А завтра мы в Париж едем, дак там один наш художник есть из Харькова, тоже, как ты, слинял, прямо попадешь, можно сказать, в самое гнездо творчества, а дальше – куда хочешь. Идет? За встречу и за новую жизнь!
Когда они вышли из кафе, Гоч, чувствуя легкое опьянение, спросил, тронув своего собеседника за плечо:
– А ты все-таки полагаешь, Георгий, что тут действительно есть какая-то другая жизнь?
– Чего там! – Жора простодушно махнул рукой. – Жизнь везде такая же. Называется все, конечно, по-разному, опять же тут мотает из стороны в сторону, как тряпку…
– Что ж, – сказал Гоч. – Это уже нечто. Я думаю, мой друг Невпрус не стал бы за меня беспокоиться, если бы выслушал твой прекрасный рассказ.
– Невпрус? Невпрус? – Жора стал мучительно припоминать, не встречался ли он где-нибудь с Невпрусом. – Был такой вроде в Латвии по снабжению печами. То ли в Каунасе. По снабжению кабелем. Вспомнил – литовец! Да?
– Нет, нет, – сказал Гоч. – Он просто не вполне русский. И это обрекает его почему-то на вечное беспокойство.
* * *
Жориного черного друга звали Бутуна. Черных друзей Бутуны тоже как-то так. Существенней было, что у них была только одна комната на всех, да еще вдобавок крошечная кухонька, где ни один из этих длинноногих ребят не смог бы улечься.
– Спим тут вповалку, – жизнерадостно сказал Жора, ища, где бы ему повесить повыше свой костюм-тройку. Однако, к чести этого пристанища, надо сказать, что в комнатке было тепло. Хотя воздух, признать честно, был весьма спертый. За ужином они наелись досыта, и это тоже было непривычно. Была у них какая-то африканская каша, потом какие-то то ли фрукты, то ли овощи, и еще длиннющий французский батон, который назывался изысканно-искусствоведчески: «багет». Вообще, все тут имело свое французское или африканское название, в том числе и друзья Батуны, но Гоч решил, что он не будет сразу забивать свою память большим количеством новых слов. Естественно, что в чужой жизни все будет называться по-другому, непонятно, но он ведь больше не турист, и для него это все не милая экзотика, а простое жизненное неудобство. Жора объяснил Гочу, что двое из этих черных ребят не имеют никакого права на проживание во Франции, даже визы у них нет, так что их в любой момент могут сграбастать и выслать. У самого Жоры документ был, но только липовый.
– Мне-то чего, – сказал Жора жизнерадостно. – У меня еще фээргэшная есть липовая ксива, так что я перебьюсь. А вот им… Их, черных ребят, и шмонают чаще. Я вон оделся прилично и – прохожу без задержки. А у них кожа. Из кожи вон не полезешь, верно? Потом, тут вообще провинция. Завтра в Париж поедем, Париж – деревня большая, как Москва, авось перебьются…
Спать было несколько тесновато, к тому же поворачиваться одновременно, по команде, черные парни еще не научились.
– Салаги, – добродушно ворчал Жора. – Жареный петух еще их не клевал в черную жопу, ездиют где хотят. Вот полковник Кадафий до них доберется, он их быстро обучит.
Гочу приснилась комнатенка в Перхушкове, а в ней почему-то Шура вместо Марины. Шура сняла проводницкую форму и, сидя в розовой комбинации, запела тоненько, жалобно: «Я тоскую по родине…» Гоч потянулся к ней ласково и вдруг отпрянул, открыл глаза: рядом было Жорино толстое плечо, все в рыжих веснушках. И пахло оно не московским поездом, а какой-то неведомой далью. Гоч целый час промаялся без сна на пороге новой жизни и рад был, когда черные ребята начали вставать и поставили чайник.
Выехали они еще затемно. Машина была старенькая, но вместительная.
– Ну, как те мой «пежо»? – спросил Жора. – Такой ни у какого богача в Харькове не было. «Мерседес» был, а «пежа» там не видели. Двести рублей за нее отдал на наши деньги – и все дела. А ездит – дай Бог!
Дорога была беспечна и красива. По автостраде решили не ехать, чтоб зря не бросать деньги на ветер. Тем более что спешить им было некуда. Дорогой поглядели два кафедральных собора и один замок – исключительно для Гоча, потому что он был иностранный гость. Вообще отношение к нему у попутчиков было хорошее, но спокойное, и только Жора смотрел на Гоча с ужасом и восхищением.
– Ну, там нынче на выставке твоей будет переполох – аж до Москвы волну подымут. А вдруг они тебя отыщут – да раз, в охапку?
– Где отыщут? – спокойно спрашивал Гоч.
– Да уж, негде искать. И французская-то полиция до тебя не скоро доберется.
Один из черных парней спросил у Гоча, правда ли это, что у них в России каждому рабочему дают бесплатно машину. Оказалось, что какой-то ихний Дудунда учился в Ташкенте, так он по приезде наврал им с три короба. Все хохотали до упаду, потому что этот Дудунда (а может, он был Лумунда) всегда очень смешно врал. Впрочем, в переводе на русский язык, даже при Жорином красочном посредничестве, анекдоты про Дудунду звучали совсем не смешно. Во всяком случае, ничего смешнее бесплатной машины у них не нашлось.
В городе Сансе они купили Гочу молока и багет, а сами выпили пива. Дальше они дунули во всю прыть, у леса Фонтенебло (который Гоч решил непременно запомнить, имея в виду дальнейшую возможность обитания) машина выехала на бесплатную автостраду и вмиг домчала их до города Парижа, который начался сразу, как они вынырнули из-под моста.
– Я придумал, – сказал Жора. – Я тебя сразу к Семену отвезу, тут же рядом. У него ты и отдохнешь культурно, чего ты с нами будешь маяться в нашей общаге на Клиши. Мы-то ладно, привычные, у нас дела. А тут просторно, культурно, да еще с художниками, к ним прямо вот тут, у парка… и парк рядом, а то ты с непривычки задохнешься без зелени. Ленин тут тоже, говорят, всегда у этого парка жил, нравилось ему, воздух. А мы тя без Ленина по ленинскому пути…
Они и правда остановились почти сразу при въезде в город на узенькой горбатой улочке близ парка Монсури. Жора с Гочем выбрались из машины и стали разминать затекшие ноги, руки, спину. Черные Жорины друзья из машины вылезать не захотели, они себя в ней чувствовали превосходно, как птицы в гнезде.
– Мы тут подождем, – сказал Бутуна, ослепительно улыбаясь. – Я уже тут был. Я знаю, вы по-русски будете бла-бла-бла долго-долго. А я к тебе, Гоч, потом в гости приду, – добавил он, прощаясь с Гочем. – Пойдем гулять. Угощать у моего друга будем.
Гоч и Жора вошли в странный дворик. Справа вдоль дерева шла узкая лесенка, ведущая то ли в квартиру, то ли в голубятню с прибитой к дверям старинной вывеской: «Сдается внаем». В глубине двора стоял какой-то пустой лабаз, а может, это была заброшенная фабрика. Двухэтажное здание казалось необитаемым. Жора нырнул в просторную пустоту первого этажа и стал подниматься по старой неосвещенной лестнице. Гоч догнал Жору, и они вместе прошли через какой-то зал-сарай и еще дальше, по длинному коридору, давно не ремонтированному, но густо завешанному картинками. Гоч видел такие в Москве у многих друзей Невпруса, но стеснялся спросить, то ли они еще не научились рисовать, то ли придуриваются. Жора постучал в какую-то дверь в самом конце обшарпанного коридора, и раздался сонный русский голос:
– Заходи! Чего барабанишь?
Они вошли. Просторная комната была оклеена чистыми листами белой бумаги и все теми же, как бы детскими, картинками. У стены стояла электроплитка. Худой длинный мужик валялся в углу на матрасе.
– А-а-а, земеля! – сказал он, протирая глаза. – А я тут придавил минут пятьсот, не раздеваясь. Безумная была ночь. Ребята пришли с какой-то ихнею бормотухой. Итальянской.
– Богема! – уважительно сказал Жора. – Вот, знакомьтесь. Семен, наш харьковский гений, абструкционист. А это Гоч, из Союза писателей. Так сказать, товарищ по несчастью, твой полный коллега. Совсем свежий.
– Отчего уж так по несчастью… – Семен поднялся, протянул руку Гочу. – Вы что, тоже дернули?
– Просто я решил прокатиться с Георгием, – сказал Гоч спокойно. – Он мне сказал, что тут у вас бывает забавно, и я решил посмотреть.
– И нисколечко не страшно? – удивился Семен.
Гоч надменно пожал плечами.
– Он вчерашний, – сказал Жора. – Еще вчера он был гражданин и представитель. Слушай, пусть он у тебя немного поживет.
– Ради Бога, – сказал Семен. – Помещения тут у нас много. Правда, плитки есть не у всех. Так что у меня теплее, чем на улице.
– Спать где найдется?
– Без проблем. Сегодня вечером мы с нашим гостем на прогулку пойдем, в хороший квартал, и такой ему приволокем матрасик, левитановский [2] . Они же тут все на улицу выкидывают, французы.
– Без блох? – спросил Жора.
– Скорей всего, даже без блох. Все-таки выбрасывают люди состоятельные, так что, может быть, даже без блох…
– Видал? – восхищенно сказал Жора. – Хата у тебя уже есть. Ну, вы тут побеседуйте, а я вечером заеду. У нас еще с четырьмя друзьями всякие темные дела.
– Опять твои чечмеки… – протянул тощий Семен, и Гоч окончательно почувствовал, что он дома.
Семен поставил чайник, достал из-за форточки пакет с хлебом и вареньем.
– Значит, совсем не трухаешь? – сказал он. – Молодец. А я в первое время спать не мог. Шутишь ли, такой финт выкинуть! Все себе представлял, как они там без меня копошатся возле Нотр-Дам, ищут, как посольские город прочесывают. А потом как в ридном Харькове всполошатся. Я ведь еще и путевку купил в долг. Вот, думаю, мои кредиторы ярятся, а с чего мне отдать?.. Потом привык чуть-чуть. А потом даже скучно стало: как подумаешь, что ты никомушеньки на целом свете не нужен… Стал взрослеть помаленьку, привыкать к самостоятельности. Уже почти привык. Сорок с лишком. А еще год-два-три, и я встану на ноги…
– Сколько уже ты?
– В этой хавире уже пять. Мы этот дом самовольно захватили, так сказать, экспроприировали…
– Кто был ничем, тот станет всем.
– Вот именно. Тут это называют «скватеризировать». Ну, все равно мы вроде «эксов», помнишь – экспроприация экспроприаторов: Красин, Камо, Сталин…
– Что-то слышал краем уха, – сказал Гоч, налегая на батон с вареньем.
– Нас тут пяток русских. Еще французы есть, у которых мастерской не было, один чилиец… Дом все равно стоял пустой, а нам – деться некуда. Ну, полиция пока терпит, все равно фабрику эту скоро будут ломать. Вот уж тогда… Но может, мы за это время на ноги встанем. Нелегко, конечно. Художников тут, наверно, больше, чем полицейских, – сто пятьдесят тыщ одних зарегистрированных, а мы уж сверх того, представляешь? Ты-то сам не рисуешь?
– Можно будет попробовать, – сказал Гоч. – Я вообще еще только начинаю, пробую. Стихи начинал. Теперь можно живопись. Интересно.
– Молодой ты, – с завистью сказал Семен. – Тут молодому хорошо начинать. Лет с десяти. Годам к сорока и определишься. Ну что, пойдем погуляем? Все равно нынче уже не работа, так башка гудит от их граппы.
Они спустились по горбатой улочке и вошли в парк Монсури. Парк был прекрасен. На пруду, взметая серебряный след, мельтешили раскормленные утки. Мамы и дедушки прогуливали детишек. Деревья раскидисто красовались своим нестерпимым совершенством.
– Вот тут бы лечь, и уснуть, и ни о чем не думать, – сказал Семен.
– За чем дело? Поспим, – сказал Гоч. – Очень даже красивое место. Может, лучше и не найдешь во всем городе, зачем упускать…
– Характер у тебя счастливый, – сказал Семен.
– Невпрус считал, что я мало эмоционален.
– Это кто такой?
– Мой старший друг. Можно сказать, отец. Был еще диспетчер. Тоже большой друг. Он еще на химии.
– Это все было в той жизни, – сказал Семен.
Гоч задумался. У него все еще не было ощущения, что в его жизни произошла какая-то слишком уж существенная перемена. Пока он всего-навсего поменял Дижон (а может, и Москву) на Париж и предпринял еще одно путешествие. А Невпрус, Марина, диспетчер – разве они все умерли? Живут так же, как жили. Наверное, все же трудно будет повидаться с ними. Трудно, но разве совсем невозможно?
– Ты склонен все преувеличивать, – сказал он Семену. – Ты, вероятно, не вполне русский.
– Нет. Не вполне. А что?
– Мой друг Невпрус тоже так. Вполне русские тоже, впрочем, не всегда бывают вполне спокойны. Как это ни странно, мой друг Невпрус заявлял иногда, что он не меньше Гоч, чем я сам. Потом он сам увидел, что это заблуждение. Он гораздо больше русский, чем Гоч. А еще больше он Невпрус. Иногда, правда, он и сам называл себя не Гочем, а гоем…
Семен, окончательно запутавшись в Гочевой терминологии, печально смотрел в облака.
– Да, мир полон заблуждений, – сказал он наконец, – люди везде те же, и облака те же.
– А горы?
– Горы… наверно, тоже. Дело только в том, что лучше бывает в привычных горах и с привычными людьми.
– Это все из-за языка, – сказал Гоч. – У вас, русских, нелепая привязанность к вашему языку. Мне вот, например, все равно, на каком языке разговаривать. И каким стилем. Поэтому я так и не пристрастился к поэзии. Может быть, живопись придется мне по душе. Она, кажется, более независима от этих болезненных пристрастий…
Семен резко поднялся на локоть.
– Не делай этой ошибки, – сказал он. – Если уж хочешь малевать – иди в маляры. Малевать стены. На это есть спрос…
– Это неплохая идея, – сказал Гоч. – Я еще подумаю. Огляжусь тут. Собственно, мне ведь все равно, откуда уйти в горы…
Семен ничего не понял. Однако он уже начал здесь привыкать к тому, что человек понятен примерно на четверть: тут тебе не Харьков. Поэтому так милы, наверно, деревья, что они бесхитростны, говорят с тобой на твоем языке. По той же причине так цепляются здесь за собак… Собаки – одна надежда для человека.
Не поняв Гоча, Семен все же держался за него и смотрел на него с надеждой. Этот человек был в еще худшем положении, чем он сам, и человек этот был спокоен. Значит, где-то есть надежда? Значит, не надо отчаиваться? Значит, это просто его русская или даже не вполне русская привычка – все время беспокоиться? Отчего тогда французы неспокойны тоже? Отчего они без конца тревожатся о том, что с ними случится завтра? Что с ними случится, если они не предусмотрят того-то, того-то и того-то, не застрахуются со всех сторон на приличную сумму? Может быть, и французы не вполне русские? А как же англичане, итальянцы, западные немцы? Тут что-то не так…
В первую неделю своей парижской жизни Гоч успел перезнакомиться со множеством русских, которых привела сюда надежда на иную жизнь, на как бы «обратную сторону луны», мир наоборот или наше земное зазеркалье. Одни из них успели выбраться в щелочку нацменской эмиграции в семидесятые годы, другие выбросились за борт туристского корабля или просто тургруппы, третьи выехали через родственников, через женитьбу или замужество. Все русские были рады новичку. Они могли как бы невзначай показать ему свои нерусские автомобили, видеотехнику, кожаные куртки, купленные по дешевке. Он был оттуда, и встреча с ним была как бы свиданием с родиной. Они наперебой рассказывали ему о своих достижениях – он ведь мог оценить их, поскольку он еще мог не знать, что тут у всех машины, у всех куртки, у всех техника. К тому же он мог не заметить, что машины у них не лучшие, так же как и техника, и кожа. Он еще не догадывался, как много есть вещей, которых они «не могут себе позволить». А главное, он еще не понимал их положения граждан второго сорта. Поэтому он не мог по достоинству оценить эту вечную фразу: «Живем не хуже людей». Он не понимал, почему они должны были бы жить хуже? Хуже каких людей? И не догадывался, что живут они все-таки «хуже» этих «других людей».
Через неделю, когда уже стало очевидно, что он здешний и свой, что свидание с ним уже больше не похоже на свидание с оставленной родиной, он услышал первые жалобы. Они были пока так же малопонятны для него, как и победные их реляции. Жаловались почему-то на черных. Еще чаще на социальную несправедливость. Точнее, на отсутствие справедливости. Здесь, оказывается, не умеют оценить по заслугам ни талант, ни трудолюбие, ни жизненный опыт, ни душевные качества. Пройдохи и малограмотные выжиги занимают ключевые посты, добытые по блату. Очень много значит партийная протекция, а также семейные связи.
– Такое мы могли иметь и в Харькове и в Андижане, – сказал как-то Жора за чаем все в той же неизменной Семеновой келье.
– Непонятно, чего иного вы ждали в сфере человеческих отношений? – спросил Гоч и вздрогнул, явственно расслышав в своей речи интонации своего друга Невпруса. – Разве человек изменился к лучшему? И разве кто-нибудь заверял вас, что здешнее общество совершенно?
– Кое-кто, – сказал Жора. – Было дело. Между прочим, в Харькове я и сейчас еще найду двух-трех таких поцев.
– Это не так, – серьезно продолжал Гоч. – Просто оно меньше регулируется сверху, а потому больше регулируется снизу, это общество. Из-за этого некоторые отрасли работают тут эффективнее, а в некоторых царит столь осуждаемый вами бардак. Но отчего, собственно, вам так не нравится бардак? Разве не за счет бардака жизнь была столь чувствительно терпимей на вашей родине?
От этого Гочева «вашей» на собеседников его повеяло холодом, и они словно бы сплотились напротив него, по ту сторону русской чертежной доски, на которой было разложено угощение.
– Это правда, – сказал Семен по недолгом размышлении. – За счет бардака можно было иной раз примазаться к какому-то никому не нужному семинару. Или к какому-нибудь совершенно идиотскому заказу…
– Семинары! – заорал Жора. – Я ездил на них по четыре раза в год. По профсоюзной линии. По снабженческой. По усилению борьбы с хищениями. По линии гражданской обороны… А что мы делали на семинарах? Мы выпивали в хорошей компании и пежили девок…
Здесь все присутствующие (а их, как всегда, в Семеновом приюте было немало) застонали, ибо скудная половая жизнь в эмиграции никак не шла в сравнение с тамошними яркими воспоминаниями. В тамошних воспоминаниях каждый рисовался самому себе этаким казановой-генримиллером (а может, он таким и был на родине). Здесь же отчего-то (по совершенно непонятным причинам, ибо сексуальная революция во Франции совершилась задолго до их приезда) их сексуальная жизнь резко пошла на спад. Впрочем, виноваты были, скорей всего, даже не девицы (как аборигенки, так и эмигрантки) и даже не наличие конкурентного, коммерческого, совершенно открытого любовного рынка. Нет, дело, вероятно, было в них самих, в мужчинах. Бывшие казановы, они больше не были уверены в самих себе. Они были озабочены. К тому же они не имели здесь маленьких, ничего не стоивших им на родине привилегий (чаще всего служебных, родственных или просто блатных), за счет которых они могли так свободно благодетельствовать своих неизбалованных подружек. Грубо говоря, они были здесь никем. Они сами придумывали себе здесь статус, и надо еще было найти такую дуру, которая бы в него поверила без убедительного материального подтверждения. Конечно, здесь тоже существовали идеалистки (впрочем, на других уровнях общества), но большинство женщин все-таки требовали каких-то осязаемых аргументов. А с доказательствами у приезжих было туго.
– Вы все забыли о снабжении, – сказала толстая жена художника. – Может, вам, москвичам, все было просто, но когда я вспоминаю про там, так мороз по коже.
– Что да, то да, – сказал Жора – В здешнем универсаме не то что в вашем гастрономе на Восстания, а, Гоч?
– Но стол… – Семен грустно повел кистью руки над чертежной доской. – Разве у меня в Харькове в мастерской был такой стол? И главное – уже другой аппетит…
– Что да, то да, – сказал Жора. – Даже как-то не помню, чтоб я тут поел от пуза и с удовольствием, это так.
– Но свобода! – воскликнула вдруг полноватая молодая женщина и вся зарделась от смущения.
Кругом засмеялись, но Гоч посмотрел на нее внимательно. Она была ничья не жена и вообще непонятно было, кто она и откуда. Кто-то ее привел сюда, а может, она пришла сама. Во всяком случае, она сидела с краю совсем тихо, не претендуя ни на чье внимание. Звали ее Галя.
Смех стал всеобщим и несколько смущенным. Со свободой тут получилось что-то странное. Она оказалась не нужна. Никто не сочувствовал ни одной из здешних партий, хотя все дружно не любили коммунистов. Но вот хороши ли правые? Вряд ли, раз они так яростно нападают на эмигрантов (мы-то ведь все-таки не французы; конечно, черных давно пора поставить на место, это правда, арабов здесь тоже слишком много, но не приравняют ли они русских к арабам? Все может случиться).
– Как мине там не нужны были выборы, – сказал Жора, – так они мине и здесь не нужны.
Все были согласны с Галей, что здесь очень много свободы (многие считали, что ее даже слишком много), однако никто еще пока не мог объяснить, как можно ее использовать и каким боком это их всех касается. Вполне возможно, что свобода касалась только французов – они все-таки очень любят политику. Эмигрантов мало интересовала здешняя свобода. Их интересовала свобода в России – какие ни то, пусть хоть самые пустяковые послабления. Даже теперь, издалека эти послабления интересовали их больше, чем целые разделы здешней хартии вольности и конституции. И это было понятно. Например, если русских начнут хоть чуточку выпускать за границу, то смогут приехать мама, и тетя Люба, и брат Миша, приехать, повидаться, поплакать. Если в России включат международные телефонные автоматы (как было, например, до 1982 года), то можно будет звонить дешевле, и свободнее, и чаще. Если там разрешат посылки, разрешат зарубежные издания, разрешат выставки… Мало ли что могут там вдруг разрешить. Вот это называлось бы свободой, а тут… Что значит здешняя свобода? Здесь у них, почти у всех эмигрантов, до сих пор морока с паспортами и всякими неполноценными удостоверениями, с визами, с префектурой на острове Ситэ, так что полиция крепко держит их на приколе (покрепче, пожалуй, чем когда-то своя милиция). Деньги здесь были так же важны, как там, даже важнее, чем там, но отчего-то все же не приходило в голову ставить знак равенства между свободой и деньгами. И к тому же все они или почти все (даже какие-нибудь снабженцы) были дома какой-никакой элитой. Может быть, это и было главное.
– Выходит, что все вы чего-то не знали об этом мире? – спросил Гоч удивленно.
– Ничего мы не знали, – возмущенно сказала толстая жена художника. – Нас же не выпускали с выставками, как некоторых.
– Верней, мы читали кое-что, но мы не верили, – сказала Галя.
– А кое-какой лаже, наоборот, даже очень верили, – сказал Жора.
– Ну, а, скажем, основным главным книгам? – спросил Гоч.
– Что вы имеете в виду? «Краткий курс»? – спросила жена художника с вызовом.
– Нет, например, Библию, – сказал Гоч. – Зарубежных писателей-классиков.
– Ты забыл, что мы художники, – сказал Семен. – Мы вообще не так много читали, как вы. Ну, там «Мастеримаргариту», «Бабий Яр» Евтушенко, про что говорят, что надо обязательно прочесть. Мы и теперь.
– Все-таки наш кругозор расширился, – с достоинством сказала жена художника. – Я вот на Майорке уже два раза была.
– А раньше ты на Пицунде была, ты что, по-абхазски заговорила, что ли?
Гоч подумал, что Семен злоупотребляет правами хозяина.
– Наоборот, кругозор, по-моему, сузился, – продолжал Семен. – Про кого мы говорим? Все про тех же парижских эмигрантов, а нас тут три десятка. Все нам про них известно, как в деревне. Да у меня в Харькове, если хочешь знать, дома и гуцулы жили, и ребята из яхт-клуба, и горнолыжники, и туркмены… А тут я еще ни разу на лыжах не стоял.
– Ну ты даешь! Горнолыжник нашелся! – присвистнул Жора.
– Но, товарищи. Ведь это же все для души было, наш отъезд… – робко сказала Галя.
Гоч посмотрел на нее с нежностью и вступил в спор:
– Что ж, тогда ваша акция была бы абсурдной, но приемлемой. Но я, напротив, замечаю в вашей аргументации переоценку внешних факторов. Какие-то там политические свободы, продуктовое и промтоварное снабжение и, так сказать, перемещение тела в пространстве. Редко кто подумал о том, каково придется его душе от всех этих физических и психических перегрузок.
– А вашей душе? – ехидно спросила жена художника.
– Это все не по моей части, – сказал Гоч. – Я вообще выступал сейчас от имени одного моего друга, который живет в Москве. А может, он сейчас в Уйгурии.
– Вот где раньше шашлыки были хорошие, – с чувством сказал Жора, и все стали собираться домой.
Кто-то предложил Гале подвезти ее до дому, но она отказалась и сказала, что ей тут недалеко и она пешком. Поскольку никто больше не мог идти пешком, оставив машину Бог весть где, на произвол судьбы, то Гоч сам вызвался ее проводить.
– Так поступает человек оттуда, – сказал Жора. – Идет и сразу кадрит девушку. Или как это теперь называется?
– Поклеить, – сказала жена художника. – Дешевый клей.
– Нет, не тогда, а теперь? – настаивал Жора.
– Снять телку, – ответил Гоч и вышел вслед за Галей.
До второго перекрестка она успела поведать ему несложную историю своего перемещения в пространстве. Брат выехал по своей жене-полуеврейке-четвертьармянке. Она выехала по брату.
Из-за ограды парка Монсури тянуло ненадежной свежестью. Тротуар во мраке казался почти таким же незасранным, как в России. Из-за старомодного деревянного здания ресторана мерцал пруд.
– Вот здесь, в этом ресторане, любили отдыхать Ленин с Троцким, – сказала Галя душевно.
Гоч умилился и обнял ее за плечи. Пройдя квартал, они обнялись снова, еще теснее, и долго стояли в неподвижности. Гоч был растроган. Девушка была теплая, мягкая, от нее пахло поездом, как от Шуры, она не суетилась и не дергала его за молнию на штанах.
– Вы такой умный. И такой красивый, – сказала она. – Смотрите, у вас даже рука светится…
– Бывает, – сказал Гоч скромно.
Еще через два квартала он предложил ей вернуться в экспроприированный лабаз.
– Мы там сможем найти комнатку. Там даже есть одна незапертая, где картины не такие противные. И с вами мне будет тепло.
– Но ведь можно пойти ко мне, – сказала Галя. – У меня небольшая квартирка в «Ашелеме». Ее не трудно обогреть, и у нас центральное отопление.
– Вы можете себе это позволить? – с ужасом спросил Гоч.
– Да, могу. Не очень многое могу, но это могу. Еду, тепло, одежду, иногда книгу – вот и все, пожалуй.
– Значит, даже телевизора у вас нет?
– Еще нет.
– У вас идеальные условия, – сказал Гоч. Он обнял девушку и запел неверным, но приятным голосом: – «На север идут эшелемы»…
Он подумал, что Невпрус удивился бы, увидев его поющим. Но он еще не жил в неотапливаемых странах, папа Невпрус.
У Гали и правда было очень мило. Очень тепло и ничего лишнего. Они обнялись и долго-долго лежали неподвижно.
– Я чувствую, что ты согрелся, – прошептала она. – Ты не хочешь больше лежать неподвижно?
– Напротив, – сказал Гоч. – Я с тобой, это главное. Представляешь, как сейчас холодно на леднике.
– Это в погребе, да? – прошептала она. – В холодильнике?
– Умница, – ответил ей шепотом Гоч.
– Пожалуйста, не уходи…
* * *
Ему жилось теперь спокойно и удобно. Иногда он оставался ночевать у Семена, и тогда они обсуждали полночи проблемы искусства и жизни. Но чаще он ночевал у Гали, и ему было с ней хорошо. Ей, кажется, тоже. Он не видел, впрочем, сколько-нибудь существенных перемен в своей жизни. Чуть скучнее, чем в Москве, – и только. Правда, изредка, гуляя с Галей по ночному городу, он вдруг набредал на что-то такое, в чем ему чудились отзвуки другой жизни. Так было однажды на пустынной площади Сан-Сюльпис. Он увидел эти красочные ночные дома, и памятники, и фонтан, и огонек в мансарде, и ему показалось, что сейчас на площади появится фиакр, из которого выйдут нездешние, и даже не сегодняшние, люди – кавалеры, дамы, высокий, худой кардинал… Слева маячил какой-то таинственный, затемненный дворец. Может быть, и впрямь что-нибудь творилось в его подземелье, за плотно завешенными окнами…
Жора сказал Гочу, что он только раз почувствовал здесь, что он находится за границей, – в тот день, когда купил за два стольника свой роскошный «пежо». У Гоча таких случаев еще не было, но дважды он был совсем близок к этому – на ночной Сан-Сюльпис и еще раз, на узкой улочке в Пасси, близ Сены…
Бутуна разыскал его однажды поутру и гордо сообщил, что он получил работу от города Парижа. Он собирался взять Гоча к себе в «апрантье», а когда Гоч у него подучится, он даже будет отдавать ему половину зарплаты. Гоч подумал, что, может, и впрямь было бы неплохо подкидывать что-нибудь Гале на хозяйство и Семену на хлеб с вареньем. На следующий день Бутуна подкатил на крокодилово-зеленой машине с надписью «Город Париж». На нем самом красовался такого же ядовитого цвета комбинезон, но только без надписи. Они отъехали два квартала и вылезли из машины. Бутуна вытащил две метлы с черными пластмассовыми прутьями и сказал важно:
– Делай как я! – Он медленно пошел впереди и, найдя кучу собачьего дерьма посолиднее, стал размазывать ее по тротуару ровным слоем, как повидло по бутерброду. – Делай как я, – повторил Бутуна, и Гоч стал лениво повторять его не слишком темпераментные движения. Впрочем, в замедленности движений Гоч сумел даже превзойти своего учителя. Хотя Бутуна важно объяснил ему, что тут, во Франции (и, в частности, среди друзей Бутуны), это занятие называется «подметанием», оно не стало для Гоча после этого ни более осмысленным, ни менее противным. Узнав об этом трудовом эксперименте, Жора категорически запретил Гочу мелочиться.
– Скоро я тебе уже все оформлю, – сказал Жора. – И будешь себе через комитет интеллектуалов в Нантерской библиотеке за три тыщи в месяц хуем грушу околачивать. А пока – гуляй…
Бутуна, впрочем, и сам вскоре бросил это грязное занятие. Однажды он снова заехал за Гочем и повез его на площадку перед дворцом Шайо. Здесь вместе со множеством соплеменников он на чистом воздухе продавал присланные ему из Африки изделия ремесла. Туристы приходили сюда кучами – поглазеть на фонтаны, на Эйфелеву башню, сфотографироваться, отметиться или восхититься. Некоторые из них и впрямь что-нибудь покупали у Бутуны – кто амулет на шею, кто маску, а кто и кожаную шляпу. Доход был невелик, но зато и работа была приятная. Мимо проносились какие-то дурачки на роликах, красавицы всех континентов позировали влюбленным в них фотографам, рокотали немцы, болботали американцы, остальные, свянув от робости, оставались почти неслышными. Русской речи Гоч здесь так ни разу и не услышал.
Туристы глазели также на Бутуну и Гоча – они тоже были принадлежностью Парижа, его достопримечательностью, чем-то вроде клошаров или вроде растений в ботаническом саду, только без бирочки, по которой можно было бы узнать, откуда они, как попали сюда, чем живы и как называются. Впрочем, туристы и не были особенно любопытными.
Однажды, забредя на многолюдье к Семену, редактор какого-то русского национально-воспитательного журнала предложил Гочу написать статью об уникально духовном религиозно-мистическом теле России. Гоч внимательно выслушал редактора, а потом признался с серьезностью:
– Я не так хорошо знаю этот вопрос, как мой старший друг, русский прославленный патриот Григорий Исаакович Невпрус, но я думаю, даже он не понял бы, в чем тут духовная уникальность. Разве каждая нация не имела своей духовности? А сколько их вообще, наций?
– Мы должны все заострить до предела, чтоб уцелеть в рассеянье, – сказал редактор. – Доводить все «ад абсурдум».
– Рассеянье, рассеянье, – рассеянно повторил Гоч. – Мы в диаспоре, как евреи или армяне. А кругом абсурды, их так много здесь…
Один из гостей дождался Гоча в коридоре, взял его под руку и настойчиво повел в тот дальний конец коридора, где не было даже произведений искусства.
– Я слышал, какую вы дали ему отповедь. Я не ошибся, решив, что вы тоже из Закавказья?
– Почти не ошиблись, – сказал Гоч.
– Ну да, – дружески улыбнулся черный человек. – Рассеянье… Диаспора… Болтовня… Вы должны познакомиться с настоящими людьми. А тут все манная каша… Мужчине нужно настоящее дело. Я зайду за вами в среду под вечер. А можем встретиться у ваших ворот. Но – язык надо держать за зубами. Умеете?
– Я на Кавказе рождена, – весело сказал Гоч.
– Армянин это умеет, – сказал смуглый и пожал ему руку.
– Стесьтюн! – сказал Гоч, как, бывало, говорил его друг, консультант Союза по армянской литературе, провожая гостя до дверей кабинета.
Он с нетерпением ждал среды и встречи с настоящими людьми, с трудом удерживая язык за зубами, что особенно трудно давалось в Галиной постели. Она вглаживала его в себя с такой нежностью, что они становились наконец одним телом и можно было уснуть в первозданном этом тепле. В эти минуты необходимость держать в уме предстоящее приключение становилась для него тягостной.
В среду тот же армянин (его звали Вартан, и он был тоже художник) встретил его у ворот и повез за восточную окраину города, в армянский пригород Альфорт. Там они с полчаса плутали среди однообразных домов, пока Гоч не сообразил, что они просто ходят по кругу. Начиналась конспиративная романтика.
Потом Вартан завязал ему глаза тряпкой, они долго шли по коридорам и наконец вошли в какое-то кафе, где сидело человек двадцать молодых, красивых, бородатых, а изредка даже и бритых армян. Вартан представил им собрата, только что прибывшего с Кавказа, и сказал, что этот брат и друг выразил готовность быть с ними до конца. Послышались скупые мужские аплодисменты, после чего Гоч сказал, что все это, вероятно, так, только он хотел бы для начала узнать, чем занимается эта, как он понял, боевая и строго секретная организация. Слово для разъяснения было предоставлено самому Вартану, и он предупредил, что будет краток. Он сказал, что всему миру известно единственное по своей людоедской жестокости преступление турок против древнего и культурного армянского народа – геноцид. Два миллиона (а новые, уточненные данные каждый год будут увеличивать эту цифру) невинных армян, в том числе детей, стариков и женщин, были в буквальном смысле вырезаны турецкими ножами. И вот час справедливости настал: армянская подпольная революционная организация мстит убийцам, которые не уйдут от возмездия. Вартан крикнул еще что-то по-армянски, то ли «за кровь!», то ли «от моря до моря» (последний лозунг должен был обозначать размеры грядущей, отмщенной Армении) и сел, благородно сверкнув взглядом.
– То есть, если я правильно понял, – начал Гоч, и размеренный тон его вопроса поразил неприятно контрастом с горячим энтузиазмом Вартана и всех собравшихся, – организация теперь должна резать турок.
– Примерно так, – подтвердил Вартан, явно не желая после своей речи вдаваться в досадные и хладнокровные уточнения.
И все же Гоч попросил разрешения уточнить два вопроса – один практический и один теоретический.
Первое – сколько турок должно быть вырезано, а точнее, в какой пропорции к убитым армянам должны стоять вырезаемые турки. И второе – каким принципом следует руководствоваться при забое турок.
Вартан отмахнулся, и на вопрос Гоча отвечал один из боевых командиров. Он сказал, что пропорция пока еще не уточнялась, во всяком случае, за одного армянина должно быть убито не меньше одного турка. То есть должно быть убито как минимум два миллиона турок.
В этом месте сообщения раздались недовольные голоса и даже ропот неодобрения. Многие были возмущены тем, что один невинно убиенный армянин тем самым приравнивается к одному живому и процветающему турку. Требовали назначить квоту один к двум или даже один к трем. Командир возразил, что цифра в шесть миллионов турок является на данном этапе борьбы нереалистичной, хотя и может быть принята как программа-максимум. Отвечая на вопрос Гоча о принципах выбора, командир сказал, что сейчас несущественно, кто именно будет убит, лишь бы это был турок. Дело в том, что те турки, которые принимали участие в резне, уже давно умерли своей естественной смертью, сумев избежать ответственности. Их вина теперь автоматически ложится на их потомков, то есть на всех ныне живущих турок, хотя жертвой для справедливого отмщения лучше в первую очередь выбирать какого-нибудь высокопоставленного или богатого турка, который, живи он в те времена, нес бы особую ответственность за то, что происходило в стране.
Вспомнив юного турка, который в зеленом комбинезоне регулярно размывал собачье дерьмо по улице, где жил Семен, Гоч с облегчением подумал, что, может, очередь подметальщика подойдет еще не сейчас. С другой стороны, Гоч вдруг вспомнил об уйгурцах, лезгинах, азербайджанцах, узбеках, киргизах, урметанцах и спросил, считаются ли ответственными за геноцид только чистокровные турки, или же другие тюркоязычные народы должны разделить с турками бремя ответственности. Раздались голоса, требующие сегодня же приравнять к туркам азербайджанцев. Вартан ответил, что этот вопрос еще не решен положительно, и спросил, что именно смущает Гоча в области теории.
Гоч сказал, что, прежде чем присоединиться к акциям, которые ведутся в столь широком масштабе, он хотел бы узнать, как решается проблема исторического возмездия в плане теоретическом. Должны ли, скажем, современные монголы быть наказаны за злоупотребления, допущенные на русской, и шире – европейской, территории в XIII – XV веках? Отвечают ли сегодня римляне за разрушение Иерусалимского храма и кто именно будет нести ответственность? Все итальянцы или только жители города Рима? Как расплатятся сегодня французы за организацию Варфоломеевской ночи (опять же французы виноваты или только практикующие католики)? Наконец, должны ли преследоваться немцы за осуществление еврейского геноцида в нашем веке? Вартан ответил, что это очень отвлеченные вопросы. Особенно сложно будет евреям, потому что они должны сейчас нести ответственность за аннексию палестинских территорий, так что с ними еще не кончено и, вероятней всего, они должны быть подвергнуты дополнительным репрессиям.
Боевой командир прервал объяснения Вартана и сказал, что каждый народ должен решать такие вопросы в меру своих возможностей и своего боевого темперамента. Немцам на исходе Второй мировой войны пришлось расплатиться и за злодеяния ливонских псов-рыцарей, так что никакого срока давности у преступлений не существует.
Тут командир перешел в наступление и сказал, что во всех вопросах их нового брата он услышал только ледяное равнодушие к пролитой столь обильно родной армянской крови и ледниковую холодность. Главный вопрос заключается в том, готов ли их новый брат и друг незамедлительно вступить в борьбу за истребление турок на земле, или он не готов к этому и пытается прикрыть свою робость ревизионистской казуистикой.
Гоч ответил, что он в свое время довольно подробно ознакомился с претензиями каждого из малых кавказских народов к их соседям и что он никогда не считал какой-либо из этих народов вправе решать свои недоразумения методом кровавого террора. Более того, он только сейчас узнал, что организация, в которую он попал, называется революционной, а он не счел бы возможным поддержать какую бы то ни было революционную организацию без решения теоретического вопроса о том, что подразумевает ее революционность. Имеет ли она в виду достижение каких-либо минимальных, известных современному обществу свобод или, напротив, стремится к всемирному их подавлению. Гоч сказал, что он имеет в виду не классическую теорию революции, а те элементарные выводы, которые можно сделать из наблюдения за практикой революционеров Африки, Азии, Латинской Америки и чего там еще? Что касается революционного характера данной организации, то тут, по словам Гоча, у него возникают сразу несколько неясностей…
Гоч уже заметил, что он сильно утомил собрание и совершенно умучил боевой дух организации.
– Стало ясно, – глухо сказал Вартан, – что наш новый не друг и не брат только по ошибке мог быть приведен мною сюда, и я должен нести за это всю ответственность.
– Но гарантируете ли вы нам его гробовое молчание? – спросил боевой командир. – Пусть даст перед всеми честное армянское слово.
– Я на Кавказе рождена, – сказал Гоч.
– Этого достаточно, – сказал командир. – Завяжите ему глаза.
Гоч снова бесконечно долго шел с завязанными глазами по каким-то глухим коридорам, потом ехал на заднем сиденье машины, ощущая чувствительными ребрами что-то железное, упертое ему в бок.
– Снимешь повязку через пять минут, – сказал голос Вартана. – И только попробуй раньше…
– Зачем же мне пробовать? – удивился Гоч.
И, спохватившись, крикнул вдогонку:
– Эй, акпер, стесьтюн!
– Что? Ах да. Стесьтюн! И скажи спасибо, что еще вышел живым.
Гоч забыл, как будет по-ихнему «спасибо». А ведь знал когда-то. Еще в ту пору, когда консультант по армянской литературе провожал своих гостей до двери их просторного кабинета (кто там еще, кстати, сидел – в этой просторной комнате, казах, киргиз, калмык и ныне дикий уйгур, всяк сущий в ней язык…). «Стесьтюн… Ага, вспомнил, стесьтюн шнураколтун… нет, шнуракальтюн… шура и тютюн… шура ли тютюн… Сколько я уж так стою, интересно? Полчаса, наверно. Или больше? Пора снимать. Впрочем, можно и еще постоять, а то ведь как жажахнет! Ему ведь это как два пальца… А он здорово погрелся сегодня, ахпер Вартан…»
– Голубчик…
Гоч сдернул повязку. Ну и бабища. Грудь то ли чем-то раздута, то ли там что-то подложено. Тогда, значит, груди нет вообще. Юбочка не прикрывает трусики, а трусики вообще ничего не прикрывают. А ручищи-то. А ножищи!
– Голубчик, за полста франков мы могли бы получить удовольствие.
– Оба? – изумленно спросил Гоч.
– Ты во всяком случае.
Боже, какая самоуверенность! И как низко пала эта страна. В стоячку. На холоде. За кустом. С волосатым мужиком, наспех переделанным в женщину. Еще и бразильцем небось к тому же. А где же тепло Европы? Где человеческие отношения? Где эмоции? Эмоции уходят на зарабатывание денег, на избиение турок, на почитание Левы Троцкого…
– За себя я нынче отвечаю… – бормотал Гоч, бочком отступая к проезжей дороге. «Кругом кусты какие-то, – думал он лихорадочно. – Булонский лес, что ли?.. Вот тут и пришьет этот рукастый. Этот рукастая. Этот ногастая. Волосатый…» – Нету у меня пятидесяти! – крикнул он из кустов. – Даже пяти у меня нет. А то бы мы повеселились на славу!
Он бросился бежать.
«Ого! Не пропал еще бег. Попробуй догони, сука равнинная. Да я и по снегу быстрей бегаю, чем ты по лесу…»
Он вдруг обессилел, опустился на землю у обочины.
«Снег… Неужели это все еще существует где-то – снег, снег, снега, склон горы, пружинящие мхи… Склон, взлет в небо, скалы с черными замшелыми иероглифами… Горы!»
– Э-э-э-эй!
Притормозила машина. Какой-то педрила.
– Увезите! – сказал Гоч, врываясь в машину. – Быстрей! Пристают! Насилуют!
– Вот это уж слишком, – сказал педрила жеманно. – Во-первых, я люблю, когда все по-взаимному. И чтоб приставали тоже по-хорошему.
– Все будет, чай, кофе, ласки, – сказал Гоч. – К парку Монсури, живо, а то как врежу по шее.
Он вылез из машины, сказал с усталостью и омерзением:
– Рука не поднимается. Так и быть, живи. Линяй, живо…
Галя еле-еле отогрела его в этот вечер своим бесхитростным, допотопным, дореволюционным (имеется в виду сексуальная революция) женским теплом.
А наутро, отправляясь к Семену, чтобы поделиться с ним своими вчерашними впечатлениями, Гоч встретил у ворот экспроприированного дома еще одного армянина, такого же бородатого, черного и крючконосого, как двадцать вчерашних.
– Не узнаешь? – спросил тот чисто по-русски. – Я же вчера там был, на боевом заседании, не упомнил?
– Я думал, все уже закончено, – сказал Гоч, оглядываясь по сторонам и выбирая направление, по которому он сейчас дернет.
– С этим, друг, все, – сказал армянин, обнимая его за плечи. – С этим я тоже завязал. Со вчерашнего дня. Я вчера послушал тебя и решил: ну их на хер. Я сам всю жизнь в Тбилиси прожил, ни одного турка не видел, ну скажи, что мне с ними делить? А ты вчера по делу выступил, можешь мне поверить. Если б они тебя слушали, они б пошатнулись. Но они же не слушают. Они при одном слове «армянин» – сразу балдеют. Кайф ловят. Кончают. Как все нацмены. Армянин – это у них святое лицо. Священная корова…
– Значит, ты не армянин? – спросил Гоч с облегчением.
– Камац-камац. Мало-мало. Чуть-чуть. Бабка с материнской стороны армянка. А ты?
– Думаю, я вовсе не армянин. Впрочем, как знать… И чего же ты там делал у них?
– Ничего себе вопрос. А ты чего делал? Надо же что-нибудь делать. В лавке торговать, и все? В Тбилиси я, например, кроме своего промкомбината, был по художественной самодеятельности. По домкому, понял? По синагоге. Потом по выезду, по эмиграции. По еврейскому вопросу. По армянскому вопросу. А тут я по чему? По кочану. Тут, конечно, я понимаю, свой плюратиливизм, в плюрателевизор можешь глядеть, но мне-то оно зачем? К социалистам мне, что ли, идти, в ихнюю дрочиловку? Или к Ле Пену ихнему, расисту, разбирать с ним, кто из горбоносых французов беложопее, а кто чернокожее. Да я на них нашего завкадрами напущу, он их всех по носу забракует. А под Ширака, с его-то носом, он в два счета подкопается. Ну, я и пошел к троцкистам. Все же, знаешь, запретный враг народа, пострадал от усатого любимца Грузии, может, думаю, он и правда что-нибудь хорошего замышлял. Опять же создатель Красной армии, а я все-таки в ней служил, а ты, ты не служил? Ну вот сижу там и слушаю про грязных капиталистов, такой все время Маркс идет, товар – деньги – товар, только уже без конца и краю, перманентно, пока никакого товару вообще на прилавках не останется, одни бумажные деньги и голодуха, так это мы видели. Я думаю, чего я тут с ними сижу, они все из богатых семей, по молодости от спермы бесятся, а мне тут чего? И потом, это уже у него, у очкарика, было: «Патронов не жалеть!» Еще до него? Ну так он, не говорите, он тоже это слишком хорошо понимал, спасибо, уже кушали… В общем, я везде побывал. В «СОС расизм!» записывался – все кругом благородные люди, за черных, за не очень белых, Леви, Хальтер, хотя тоже не совсем наши, все же Анри-Бернар, Марек, пижоны оба, но все-таки Леви… Потом я их послушал: «Туш па мон пот!», другими словами, не трогай моего поца, вроде опять как старший брат про нацмена. Так это мы с вами тоже слышали: есть старший брат, есть младшие братья, старший брат обо всем позаботится, скажет, когда кого трогать, какого из младших, и когда их в расход пустить, а младший пусть только ходит и умиляется. До них даже не доходит, что это опять то же самое: домашняя колония. Ты чувствуешь? Нет? У тебя еще тоже жопка, петухом наклеванная. Педики на тебя не зарятся? Угадал я?.. В общем, я искал что-нибудь настоящее. И показалось, что нашел. К тому же свой брат армянин. Вот я к ним и пошел. Горячие ребята, то-се. А потом поглядел: от любви к себе так балдеют, но турок режь, бей, не жалей… Сижу, слушаю и дрожу – вот-вот тебя тоже заставят кого-нибудь губить?
– Ну и к чему ты пришел в конце концов?
– К тому, что надо обратно ехать. Я как Тбилиси вспомню, у меня аж яички сжимаются. Ты в Тбилиси был? Не был? Ну, ты, друг, еще ничего не видел в жизни…
– Так езжай.
– Это не так просто. Таких много, как я, что хотят вернуться. Ты думаешь, пришел на Рю Прони к консулу: здрасьте, я Кучерский, мама, я хочу домой? Так не выйдет, друг. Это долгий процесс. Нужна подготовка. Чтоб считалось, что у нас общественность. Западная, прогрессивная, хотя бы и из бывших. С прогрессивной уже будет диалог – вы за то, я за это. Слыхал?
– Слыхал. Но все это, кажется, плохо кончилось.
– Из рук вон. Сперва их, бедняг, охомутали, потом встречали с цветами, а потом лицом к стенке. Или на нары. Что было, то было… Но не обязательно же, чтоб снова так. Другой накал борьбы. Вон уже и вторая эмиграция ходит в любимых детях родины. Остались мы, грешные. Теперь мало показать, что мы не просто пасынки. Мы тоже дети отчизны. Причем, если хочешь знать, самые любящие. Плоть от плоти. Это же факт.
– Не знаю. Тебе видней.
– Еще узнаешь. Ты тут без году неделя. Во всяком случае, такая организация – это дело беспроигрышное. Люди будут при деле, яйца будут себе вариться, а кое-кому пойдет навар с яиц. Эти кое-кто будем мы, ты и я, потому что мы с тобой решили уехать, верно? А мы рискнем, верно? Так я тебя вчера и понял. Прочие у нас получат занятие. Что им, не надоело брехать, думаешь? Критиковать того, чего здесь не было, критиковать хочется чего есть. А чего нет, про это уже забыли, все там осталось. Как поэт говорил: «Чего пройдет, то будет мило». Ого! Еще как мило. Мы-то с тобой еще походим по Руставели. В баньку турецкую сходим. В хашной посидим утром рано. Я тебя в Тбилиси с такими шашками познакомлю, таких здесь нет… или ты не по этой части?
– Там тепло?
– Там? Не то слово. Париж по сравнению с Тбилиси – это Северный полюс. Они здесь настоящего солнца не видели. Они здесь настоящей духоты не знают. Да что они вообще знают в жизни? Все радости чуть-чуть выше нуля. Считай, что нуль… Но это ведь еще надо заслужить, чтоб законно вернуться. Поэтому я начинаю небольшую агитацию. Даже кое-что начал. А на той неделе мы уже имеем первое оргсобрание. Людям надо дать положительную программу. А какая может быть у эмигранта положительная программа? Родина. К этому все пришли. И Герцен-перцен и Бердяев-шмурдяев. Ты писатель, ты и придумаешь первую речь. И название для союза. Я бы не мудрил. Скажем, «За возвращение на родину». Или просто: «На родину». А мы с тобой первые народники. Годидзе?
– Не так глупо. Как тебя зовут?
– Рафаил. Кучерский. Был Кучарян, теперь снова буду Кучерский. Меня звали Рафик, но с этим тоже покончено. Хватит крови. Можешь звать меня Рафа. Тебя, кажется, Гоч? Гоч, а дальше?
– Гоч, и все.
– Все так все. Хоп, как говорили приезжие спекулянты, так сказать, спекулянты-оккупанты, Боже, сколько на нас, бедных грузин, было гонений! А с нас как с гуся… Мы любим свою родину – Тбилисо! Ты знаешь эту песню, друг мой, Хевисбери Гоча?
– Мне надо к Семену, – сказал Гоч, чувствуя, что еще минута – и Кучерский начнет петь по-грузински. А может быть, все же по-армянски или на идише. Все-таки странный человек, отчего бы ему и здесь не вести кружок самодеятельности? Так нет, ему обязательно нужен союз. Впрочем, почему бы и не союз?
Семен был того же мнения. Чувствовалось, что он и сам бы вступил в такой союз с удовольствием, но опасается за все свои прочие попытки и начинания, направленные на ассимиляцию.
– Этим людям что? – сказал он с завистью о будущих членах союза. – Они уже более или менее встали на ноги. Это они выбрасывают матрасы на улицу, мы их пока еще подбираем.
Первое заседание Союза состоялось в небольшой комнатенке позади марокканской лавки. Кучерский присмотрел для них это помещение, и теперь предстояло собрать деньги для его найма. Средства нужны были и на прочие орграсходы. Члены-организаторы выложили деньги без споров, однако выбрали и кассира, солидного дербентского тата, который сказал, что он будет выдавать двум лидерам движения потребные суммы, но не все сразу, а еженедельно. Чтобы им не прогореть, потому что оба они не слишком знакомы со здешней фискальной системой.
Тата звали Зяма, и он привел с собой очень милую и мечтательную жену по имени Люба. Гоч подумал, что и в этой Любе, наверное, накопилось немало человеческого женского тепла, но в тот же момент, как он это подумал, Галя, которая уже научилась читать его мысли, сжала ему руку под столом. Гоч со смирением должен был признать, что и Галино прекрасное тепло еще не было растрачено.
Кроме Кучерского и Гоча, в союз вошло еще несколько армян, евреев, русских и лиц смешанно-российского происхождения. В частности, было два грека и один немец Коля (весь в наколках, с железными зубами и отчего-то с украинским акцентом), а также один крымский татарин, скучающий по Самарканду. Чужбина всем этим людям давно уже опостылела, однако к возвращению они еще, пожалуй, не были готовы целиком и полностью. Общее настроение выразил Зяма, который (в ответ на пламенную речь Кучерского и мелодекламацию Гоча, уснащенную цитатами из Лермонтова – «не победит ее рассудок мой» и прочее) сказал следующее:
– Конечно, это единственно правильная идея, в которую можно верить, не стесняясь самого себя, а кого тут еще в чужом городе мы можем стесняться? Потому что другая идея, которая тут выжила среди русских людей в этом бардаке, так это идея, что они хотят сделать там у нас еще хуже, то есть чистый расовый питомник и старые гимны. Пусть они сидят тут с этой идеей, у них есть какие-нибудь дотации, свое дело. А мы выскажемся за родину. Не за какую-то такую, какую не понять нашему незрелому разуму, а за ту, которую мы знаем. Ту, какую они хотят, мы не знаем. И не приведи Господь. Это, конечно, не значит, вы меня сами понимаете, Кучерский, что мы бросим все, что за столько лет и с таким трудом, – и тут же ринемся обратно. У нас у всех семья, дети, и мы еще не сошли с ума. Все мы очень хорошо помним, что с ними было, которые ринулись, сиротки их все описали, а мы, слава Богу, еще умеем читать, жена вот у меня все читает. Но как идея это очень благородно и греет душу. Вот возьмите хозяина нашего дома, где мы живем, в шестом арондисмане, он коммунист, и, чтоб вас не коробило, я вас еще раз предупреждаю, что это он коммунист, а не мы коммунисты. Так он стоит за равенство и, наверно, борется против повышения квартплаты. Что это значит? Что он хочет поделить свой дом, раздать квартиры бесплатно или он не мечтает повысить квартплату? Нет, конечно. И нет, и да. И почему ему не стоять за равенство? Разве это плохая идея? Так и мы. Правильно я говорю?
Большинство согласилось, что кассир говорит правильно, на то он и кассир. Татарин все же был недоволен, что он упомянул коммуниста. Немец Коля хотел бы более активных действий и прямо спросил, как будут уезжать и когда.
Отвечать должны были, вероятно, признанные лидеры – Кучерский и Гоч.
– Я хотел бы уехать на поезде, как приехал. Чтобы все прошло передо мной в обратном порядке, – сказал Кучерский. – Сперва эта изгаженная Бельгия. Потом перенаселенная Германия. Потом уже Германия попроще. Потом польская, очень скромная пустыня. И наконец – гуляй, душа, Белоруссия, наша, нетронутая и почти не паханная…
– Ясно. То есть вы хотите с визой, – торопливо перебил его Зяма, опасаясь, что Кучерский запоет сейчас «Любите Россию».
– Да. Так я рассчитываю. Несколько месяцев нашей лояльности, и, я думаю, поступят первые визы из консульства…
– Или первая виза. Все ясно, – сказал Зяма. – Вы тоже?
– Я? – переспросил Гоч. – Я – нет. Я просто уйду. Пойду туда, в ту сторону. Сперва очень быстро, потому что я слышал, что народищу здесь в горах – прорва. Потом медленней. Я пойду по горам. Надо будет только добраться до гор. Как только я решу – теперь уже скоро, – я пойду…
– Как это пойду? А паспорт? А граница? – воинственно спросил Зяма. – Так не бывает!
– Так было.
Все оглянулись и увидели, что тихий мелодичный голосок принадлежал Зяминой жене, Любе (Гоч, даже не оборачиваясь, ощутил волны ее женского тепла).
– Я читала про это в романе Набокова. Мальчик мечтал уйти обратно. И ушел туда. Он больше не вернулся. Может быть, он там…
– И уже больше не мальчик, – язвительно сказал Кучерский.
– Вот видите. Я стою за прилавком, а моя жена читает. Разделение труда, – сказал Зяма. – Таким образом, как во всяком приличном движении, у нас обнаружилось два крыла. Умеренное, с Кучерским, и экстремальное…
– Экстремическое, – сказала Люба неуверенно.
– Пусть так… Пусть они развиваются, а мы будем посмотреть, как говорили интеллигенты у нас в Дербенте.
Так прошло первое заседание, которое принесло в скудный Галин бюджет некоторый приварок. Гоч с Кучерским и другие члены союза, куда приходили (отчасти по подписке, а отчасти бесплатно, прямиком из консульства) разнообразные газеты и журналы на трех языках – «Московский комсомолец», «Гракан терт», «Вечерний Тбилиси», «Советише Геймланд», «Русская мысль», «Вечерний Ташкент», «Известия», «Биробиджанише штерн», «Казахстанская правда» и даже «Новая русская мысль», – лидеры и рядовые члены обсуждали текущие события и делились друг с другом опытами своей быстротекущей жизни. Однажды один знакомый армянин донес до них тревожную весть о том, что в революционной армянской организации недовольны утечкой личного состава в их союз. Впрочем, весть эта быстро рассеялась в дружеской атмосфере чаепития и обсуждения прессы. Семен тоже нередко засиживался у них и был как бы членом-соревнователем их союза.
Между тем Гоч почувствовал, что он уже созрел для ухода. За неделю он обошел всех новых друзей, нежно простился с Семеном и Бутуной и, воспользовавшись нерасторопностью ее мужа, поцеловал руку Любе. Жора вызвался довести его до Эвиана, а Галя взяла отпуск за свой счет, чтобы его проводить до гор.
Накануне отъезда, поздно вечером к ним пришел совсем бледный Зяма и сказал, что случилось несчастье. Ночью были взорваны лавка марокканца и помещение союза. Погиб хозяин лавки, который после трудового дня пил у себя чай с мятой. И Кучерский, который засиделся там допоздна, разгадывая кроссворд из «Вечернего Тбилиси» (дореволюционная повозка, четыре буквы).
– Но кто это сделал? – изумился Гоч.
– Ясно кто. Туркофобы проклятые, и что им мешало? Вам надо уходить сейчас же. Жалко будет девочку…
– Мы едем, – сказала Галя, бледнея. – Я пойду звонить Жоре, назначу ему возле «Порт Орлеан».
– Что с них взять? Они же ничего другого не умеют придумать, – сказал тат. – Но лично мне вместе с Любой не хотелось бы взлететь на воздух. А что теперь делать?
– Записывайте, – сказал Гоч. – Первое. Сейчас же предупредите полицию: охрана вашей квартиры, охрана Галиной квартиры. Потом – обговорите с армянами и делайте официальное заявление. У армян есть своя организация – «За возвращение в Армению». Ее они не трогают. Влейтесь в нее. Слейтесь. Попробуйте ее переименовать – «За возвращение на Кавказ!». И дайте лозунг на четырех языках, включая таджикский, для татов и бухарцев. Таким образом, к вам придут еще бухарцы…
– Светлая голова! – сказал Зяма. – И вы ни чуточки не еврей?
– Кажется, нет. Я даже не вполне чеченец. И я не вполне русский. Я даже не уверен, что я вполне человек. Я – Гоч. Садитесь. Невпрус учил, что нужно посидеть перед дорогой.
– Невпрус – это имя? – спросил тат, настороженно стоя у окна.
– Это аббревиатура. Сокращение.
– Ну да, то есть не вполне пруссак. Может быть, он был Гейне? Моя жена любит Гейне.
Галя вошла решительная и бледная.
– Я предупредила полицию, дала оба адреса. Жора ждет нас в кафе «Порт Орлеан». Можно выходить?
– Да, – сказал Зяма, отходя от окна. – Полиция уже здесь.
На южную автостраду они выехали не сразу. Жора хотел убедиться, что их не преследуют. Убедившись, что сзади чисто, он расслабился.
– Ну что, правду я тебе говорил? – спросил он у Гоча. – Жизнь имеет здесь разнообразие. Тебя уже два раза чуть не убили. И кто? Братья-армяне. А что там у вас? Как там в ваших стихах – «бежали робкие армяне».
– Ты не чеченец, ты старуха… – припоминал Гоч. – Ты трус, ты раб, ты армянин…
– Вот видишь! А тут… Бедняга Кучерский… Слушай, а может, в нем и турецкая кровь тоже была. Как у этого симпатяги, как его?
– Остап-Мария Бендер, – сказала Галя, придвинувшись, и левый бок у Гоча стал греться сильнее.
– Вы даже не знаете, как сильно вы все похожи здесь друг на друга, – сказал Гоч. – Какие вы маленькие издали и какие похожие, беспомощные… Когда спускаешься сутки, двое, дальний человечек на склоне становится все больше – как темный таракан на снегу. А кругом эта белая беспредельность снега, и ледников, и холода. И зубчатка хребтов, неприступность, обрывы. То вдруг стены, так круто, то пологий подъем, точно музыка, и склон переходит в склон, и скала контрапунктом, и гора до небес монолитом… Эта щедрость во всем – и в просторе, и в звездах, и в полуденном сиянье снегов, в биллионах снежинок… Где-то там, среди них этот славный Кучерский, и другие, не армяне, не таты, не турки, и не русские, и не невпрусы, просто капли тумана и просто снежинки…
В Эвиане они простились с Жорой.
– Не жалеешь, что со мной слинял? – спросил виновато Жора. – Я ведь тебе тогда в Дижоне то-се лапшу на уши…
– О чем жалеть? – сказал Гоч, поведя рукой. – Вот они, горы! Из гор в горы… Теперь я надолго уйду. Лет, может быть, на сто. На пятьсот. Хотя там, в Уйгурии… Или может, на лыжной базе. Если старик еще там… А потом уж Фанские горы, и Тянь-Шань, и Памир… Обреченные на смерть ягнята…
– Прощай! Дай я тебя обниму, – сказал Жора печально. – Береги себя.
– Он всех нас переживет! – с радостью и с надрывом сказала Галя.
– Деньги у тебя есть?
– Тат выдал мне суточные. Мы с Галей снимем лучший номер в отеле. А потом я уйду. На рассвете…
– Смотри, ты больше не светишься, – сказала Галя, когда они погасили свет в номере горного отеля.
– Я слишком долго был внизу, – сказал Гоч. – Но это вернется ко мне на леднике. Знаешь, я стал забывать запах льда.
– Разве лед пахнет? – спросила Галя.
Она не услышала, был ли ответ. Она таяла у него в руках, как весной тает снег на южном склоне горы. Когда зацветает миндаль. Когда шуршат, осыпаясь, камни. И водопады шумят неистово и разгульно…
1986
Четыре дня на съемках великой битвы
Он отметил с самого начала, что наступает новая, какая-то совсем иная эра его отношений с работодателем и заказчиком. И прежде всего отметил широту и размах этих отношений. Что ж, это было кино – сфера широких возможностей и стремительных решений.
В сущности, участие Синькова в работе над сценарием этого грандиозного фильма было весьма скромным. Приглашенный в помощь итальянцу, перерабатывавшему сценарий, Синьков придумал заново только одну сцену и дописал один диалог – сущий пустяк. Это было давно, зимой, а сейчас шел август, и вот однажды, наскучив московской суетой и зашедшей в тупик работой по обстругиванию своей последней книги, Синьков вдруг вспомнил о приглашении режиссера картины – приехать на съемки в августе, когда по плану будет сниматься его эпизод. Синьков позвонил на студию, ему назавтра же привезли на дом билет, и вот он уже летел в курортную местность, где среди зеленых холмов снимались эпизоды великой битвы прошлого столетия. Он летел с худеньким портфельчиком, в котором были смена белья и джинсы, для поездки не потребовалось никакого хождения по бухгалтериям и оформления, а вдобавок, когда они сели, его еще встретили в аэропорту с машиной и, чтобы сделать ему приятное, повезли в окружную – по старинным улочкам экзотического городка. Нет, решительно это была другая жизнь и другой мир – кино.
И лучший отель городка, куда с шиком подкатила его машина, подтверждал его ощущение – наступала некая радостно-суматошная жизнь, с легкой руки итальянского корифея называемая теперь «дольче вита», эта сладкая, сладкая, сладкая жизнь. По вестибюлю разгуливали экзотические люди с усами и без усов в умопомрачительных канареечных, небесно-голубых и фиолетовых тонких свитерах, которые так и назывались – дольчевитки, или в более прозаическом русском варианте – водолазки. Синьков увидел скопище итальянских и югославских трюкачей-наездников, спесивых лошадников-каскадеро, суматошных итальянских и русских директоров-администраторов, переводчиков, актеров из разных городов и даже стран. Синькова представили сразу полдюжине людей разной значимости и разной национальности, и, знакомясь, все они восклицали с одинаковой заинтересованностью: «О-о!» Синьков вовсе не относил это к исключительным особенностям своей внешности или всемирному распространению его более чем скромной литературной славы. Вероятно, это была некая актерская аффектация. А может, им любопытен был новый человек, да еще человек из иной сферы, кто-то вроде кабинетного ученого, попавшего в цирк. Кроме того, Синькова представляли как сценариста, и он подумал при этом, что сценарист все же как-никак человек, который направил по определенному руслу всю эту огромную машину кинопроизводства, так что конечно же должен быть немаловажной персоной на съемках. С другой стороны, Синьков ощутил и некоторую неловкость, потому что он не был все-таки автором сценария, и неловкость эта возросла, когда сухопарый седой англичанин воскликнул не то восхищенно, не то насмешливо (интонации чужой речи были так обманчивы): «О, Милсон!» Милсон был английский сценарист, автор второго варианта сценария, признанного также не вполне совершенным. До знаменитого Милсона над сценарием работал еще более знаменитый Тери, истинный гений драматургии, призрак которого, еще витавший в некоторых диалогах, мешал Синькову поначалу браться за эту работу, вселяя в него робость.
– Нет… Не автор сценария… – растерянно сказал Синьков, мобилизуя все свое знание английского. – А… при участии… Ну как, скажем, Эннио Флайяно…
Итальянцы закивали при звуках итальянского имени, впрочем, не вполне убежденно. Синьков же ощутил угрызения совести, потому что, подбирая пример к общепринятой формуле «при участии», которая могла в кино означать что угодно, он назвал имя изысканного соавтора Феллини. К его удивлению и утешению, оказалось, что никто из итальянцев не слышал этого имени, и черноглазый энергичный директор (директоров здесь было по крайней мере десяток) прервал эту светскую беседу, предложив Синькову посмотреть предназначенный для него номер.
Синьков бросил портфель на гостиничную койку и вышел на балкон. Балкон выходил на площадь и берег пересохшей горной реки, однако истинная декорация сказочной феерии (а Синьков и не ожидал теперь ничего другого) представилась Синькову не на площади старинного городка, а на соседних балконах, где растянуты были пестро-курортные попугайные тенты и шезлонги, где звучала, перелетая с одного балкона на другой, рокочуще праздничная итальянская речь: «Аллоре… Грандиозо! Ляринграция мольто!»
Синьков снял пиджак, критически осмотрел свою синюю нейлоновую сорочку, крик позапрошлогодней моды, рубашку, привезенную недавно другом из заокеанского вояжа и лежавшую дома без употребления. Здесь, наверное, рубашка эта была бы вполне уместна.
В дверь постучали. Это был черноглазый, располневший до срока русский директор, который сказал, что если Синьков согласен ехать в автобусе, то можно выехать на площадку сейчас, потому что «Волга» вернется только минут через двадцать.
– А почему бы не ехать в автобусе? – сказал Синьков и спустился вниз вместе с черноглазым директором.
В автобусе было полно народу, но Синькова приняли радушно и потеснились. Здесь было шумно до головокружения. Итальянцы, распуская хвост, наперебой ухаживали за молоденькой переводчицей, англичане изредка перебрасывались фразами, словно бы любуясь своей непринужденной сдержанностью, русские мальчики усталыми голосами людей, повидавших мир, говорили о делах:
– Фабио прилетел из Рима… Пленку привез… Сегодня у Запасника смотрят материал… Роберто вывихнул ногу… Буран подох… Ну что ты – генералу-то… Новую дадут…
Запасник, которого чаще называли Босс, и был великий режиссер, повелевавший этой армией. Остальные были его военачальники и солдаты. Впрочем, избитые сравнения этого ряда не годились в данном случае, потому что могли быть восприняты слишком буквально. Об этом Синьков подумал, как только они свернули с шоссе на избитый проселок. Кругом были солдаты, военные машины, пушки. Солдаты в военной форме наших дней и прошлого столетия, драгуны и кирасиры, полковники с белыми султанами, восседавшие на леопардовых шкурах из синтетики, подстеленных под седло, и майоры с одной звездочкой на погонах, яркая пестрота великой битвы прошлого столетия, шум, гам, слепящее многообразие костюмов, звуков, запахов, движения. Армии располагались у подножья холма, на холме, за склоном холма и вырисовывались стройными каре дальше, насколько хватал глаз. Покрывая все звуки, с деревянного помоста звучал голос юного усатого помрежа, успевшего уже освоить современный армейский жаргон, и мощные усилители разносили этот голос на десяток километров по окрестным деревням, где его так и прозвали в это съемочное лето – Голос:
– Шотландское каре! Вам касается. Товарищ солдат, что вы там читаете? Что у вас интересного в книжечке? Почитайте нам вслух…
Черноглазый директор провел Синькова на съемочную площадку, ограждаемую от наплыва зрителей то рядами солдат, то милицией, и Синьков сумел разглядеть в этом вавилонском столпотворении несколько приметных лиц. Здесь был отставной колониальный полковник-англичанин, длинный, сухопарый, с тростью и моноклем, то ли сошедший со страниц Киплинга, то ли их усердно разыгрывающий. Он был военный консультант и точно знал, на какой стороне должна висеть фляжка у французского гвардейца и сколько офицеров должно стоять при знамени шотландского полка. Синьков был представлен этому человеку, потом надменному красавцу англичанину, исполнявшему главную роль в фильме, затем костюмерше, прославленному пиротехнику, женщине, ведавшей «континьюити» – последовательностью съемок, двум хорошеньким ассистенткам, трем итальянским директорам, симпатичному трюкачу-каскадеро из Югославии, а потом еще кому-то, кого он уже не смог упомнить. Черноглазый директор вдруг побежал по полю, вскочил на подножку пожарной машины и укатил на дальний склон холма, а Синьков остался один среди отдыхавших на земле солдат. Он отошел в сторону от помоста помрежа и голосистых радиомашин и обнаружил, что на солдатах, стоявших за километр от камеры, не было яркой формы прошлого столетия: просто на плечи их современных гимнастерок были накинуты кумачовые лоскуты с прорезью для головы. Более того, он обнаружил, что совсем далекие солдаты, замершие в каре по стойке «смирно», были и вовсе пластмассовые, штампованные и оттого, наверно, так стоически переносили состояние полной неподвижности.
– Итальянцы машину привезли и вон их сколько нашлепали, этих чучел, – объяснял Синькову сержант связи. – Они вон по частным огородам до самого перевала теперь стоят, ворон пугают… Крадут их, известное дело…
Сержант вернулся к собственной, интересной для него, беседе с радистом на рации – на единственную тему, по-настоящему волнующую солдата последнего года службы. Они говорили о демобилизации – о необходимости уехать раньше, сдавать в пединститут, о каком-то молоденьком лейтенанте, который помогает им по математике. Потом радист передал в микрофон команду, и по всему полю зацвели багровые взрывы. Лошади заржали, потянуло гарью, и сажа стала густо оседать на лицах, на ярких дольчевитках итальянцев, на белых майках операторов, на холеных английских детишках, которых привез с собой на площадку их отец, совсем юный актер-англичанин.
Синьков отошел подальше от поля, где пиротехники с такой дотошной добросовестностью имитировали военный ад прошлого, и попал в тихую полосу военного перемирия. Здесь загорали, расстегнув мундиры наполеоновской гвардии, грызли яблоки, распивали бутыль сухого вина и просто беседовали в тени. Синьков подходил то к одним, то к другим и обнаружил, что люди эти охотно вступают в беседу, с готовностью рассказывая обо всем и особенно о себе. Синьков подумал, что положение статистов, вероятно, оставляет у этих людей щемящее чувство забытости и они благодарны всякому, кто проявит внимание к их личности. Камера возбуждала в них желание показать, проявить себя – разве не для этого они были наряжены так картинно в удивительные мундиры, не для этого забрызганы кровавым суриком, прокопчены дымом, измазаны сажей? Но камера скользила по ним, не задерживаясь, проносилась над ними на вертолете, проезжала на быстроходной тележке. У камеры были свои фавориты – главные герои, второстепенные герои, эпизодические герои и, наконец, отчаянные смертники-каскадеро. И вот эти люди вынашивали неудовлетворенное желание быть снятыми отдельно, хотя бы сфотографированными на худой конец, хотя бы замеченными или выслушанными. Синьков был приятно удивлен этой общительностью, с готовностью выслушивал каждую из этих удивительных историй. Когда он задержался, чтобы разглядеть получше наполеоновский герб на мундире гвардейца, гвардеец улыбнулся ему белозубо и спросил:
– Издалека? А, из Москвы! Из самой Москвы! Я, между прочим, в Москву три раза ездил. Свиней возили сдавать на Микояновский комбинат. Поверите, такие жирные свиньи, может, два килограмма мяса, остальное все сало…
– Да? – сказал Синьков. – Очень интересно. Так что вы по свиньям?
– Ну да, на мясокомбинате, в Мукачеве. А тут я к теще в отпуск приехал, в Среднее. Она в Среднем живет. А у них как раз в Среднем гримерные, у этих. Я начал отдыхать, а тут как раз людей набирают. Думаю, пойду, все равно отпуск, делать нечего. Все равно они вон все стоят на вас смотрят, отпускники, а я все же не задаром. Я уже в атаке гвардии снимался, в привале пехоты, в заветном дубе… Эх, и страшно в атаке было: такая пиротехника началась, а меня всего красной краской перемазали, я голову обхватил и на пушке сижу… Отпуск мой, между прочим, кончился, так я еще за свой счет взял… Который за свой счет, тоже, между прочим, кончился. Жинка пишет – приезжай, потому что я уже три месяца как из дома. Но я так думаю, успеется, потому что у нас сейчас пойдут самые важные съемки. Редут будут снимать. А перед атакой гвардии Сам с нами разговаривал. Тут, говорит, вот такая огромная трагедия. Паника. И все великие замыслы императора враз рушатся, так что вы уж постарайтесь. Я так старался, что с одного ужгородского деда парик сбил. Как ткну его в бок. У меня плечи вон какие здоровые…
– Здоровые, – одобрил Синьков.
– Самому понравилось, как мы… А когда понравится, они, между прочим, на новую картину могут взять. Вот Жорка или вот Степаныч у нас есть старичок; так они уже третью картину снимаются. Могут с собой на Черное море увезти, куда угодно. Потому что это очень важное киноискусство. Вчера тут один новенький говорит: «Мы же всю фасолю перетопчем». А я ему говорю: «Очень прости. Если в кино надо, всю фасолю перетопчем и новую вырастим». Вон, к примеру, там, смотрите – горит…
Синьков посмотрел на овраг и увидел, что полыхает крыша большой кирпичной, нерусского вида фермы.
– Они ферму на горе построили и жгут. И замок жгут. А надо – еще построят и сожгут. Потому что это кино. Вот вы, к примеру, целую неделю небось собираетесь во Львов к брату съездить. Правильно?
– Правильно, – подтвердил Синьков.
– А у них мальчонка-администратор по два раза на дню в Москву летает – туда, обратно, какой-то материал возит. А с пленкой? Они с нею в Рим летают чуть не каждый день проявлять. Потому что кино. Вот вы генерал-майора когда-нибудь видели?
– Видел.
– А генерал-полковника?
– Видел, – неуверенно сказал Синьков.
– А генерала армии? То-то, – торжествующе сказал гвардеец. – А у них вон генерал армии под зонтиком сидит. И если надо будет, трех генералов привезут… Я даже так думаю, нас свободно могут в Италию забрать, чтобы, к примеру, переснимать атаку… Вот какое важное искусство кино. А платят немного. И жена мне высылает немножко из Мукачева, отпускные проел. Тут у Джованни в буфете больше оставишь. Вон Джованни видели, ситром торгует – рупь стакан. Они его из Италии взяли – он спагету ихнюю варит, в буфете торгует. Тише! Голос…
Синьков прислушался. Молодой помреж командовал через мощные радиомашины:
– Гвардия, приготовиться. Гвардия! Вам касается.
– Третий дубль будут снимать, – сказал опечаленно гвардеец с мясокомбината. – Тот старичок, что я рассказывал, он, между прочим, так и не встал на втором дубле. Ну, когда атаку гвардии снимали. Сказали: всем на исходную позицию. А он лежит. Подошли, а он еще теплый. Однако уже все. Старенький.
Гвардейцы стали выползать из оврага, а Синьков пошел дальше. Солдаты, скинув гимнастерки и красные лоскуты, играли в волейбол. Они так сердечно, так безудержно хохотали каждый раз, когда падал кто-нибудь из игроков или просто падал на землю мяч, что Синьков невольно вспомнил об их возрасте: так беззаветно ржать без специального повода можно только в девятнадцать и только в беззаботном солдатском состоянии.
На склоне оврага у кустарника отдыхали в тени стройные скаковые лошади. Конники балагурили рядом. Здесь были солдаты-кавалеристы, наездники из московской конной милиции и югославские трюкачи-каскадеро. Когда Синьков подошел ближе, его окликнул маленький чернявый кавалерист.
– Вы простите меня за беспокойство, – сказал он со старательной вежливостью. – Вы случайно не цыган?
– Нет, – сказал Синьков. – По чистой случайности. У нас соседи были цыгане.
– Вот видите! – обрадовался кавалерист. – Меня не обманешь. Я цыгана за версту чую. Тут у итальянцев один администратор есть. Карла. На полицейской машине ездит, придуривается. Я его сразу признал. «Откуда?» – говорю. А он: «Рома. Рома». Я и вижу, что «рома». «Рома» по-нашему «цыган» значит. А по-ихнему Рим, но все равно стало быть цыган, я так понял. Цыганское сердце не обманет. Там у них русский администратор есть, полный такой, глазищи во, а уж пройда…
– Он же Фридман, – сказал Синьков с сомнением.
– Это он придуривается, – сказал кавалерист убежденно. – Ты посмотри, как он к лошади подходит…
– Я думал, хоть цыгане – космополиты, – сказал Синьков с досадой.
– Цыганское сердце не обманет, – с надрывом проговорил кавалерист. – Слушай, так ты что же, не цыган?..
– Нет. Точно нет, – сказал Синьков. – Будь здоров.
– А ты все же заходи как-нибудь. А? – крикнул ему вслед кавалерист.
Когда Синьков вернулся к помосту, на котором установлена была камера, там бушевал скандал, причин которого Синьков так и не понял: то ли пиротехники дали слишком много дыма и теперь нельзя было снимать – пропал дубль, то ли рабочие облили водой оператора.
– Мадонна. Мама миа! – театрально восклицал полный оператор и бил себя кулаками по курчавой голове.
– Се тропо фумо! Тропо фумо! – мелодично восклицал второй оператор, и весь итальянский кагал вторил ему с экзальтацией. Все до смешного похоже было на постановку пьесы де Филиппо в каком-нибудь захудалом московском театре. Потом, кажется, началась драка.
– Скажите им, пусть немедленно прекратят, – сказал солидный русский директор. – А то отправлю в Рим.
В его словах было всесилие Фамусова, и Синьков подумал, что он мог бы даже цитировать: «В деревню… в глушь, в Саратов».
Подразделения уже строились, чтобы покинуть площадку. Лихой майор и помреж спустились с помоста. Радисты отключили микрофоны, и радиомашины уехали. Синьков слышал, как лихой майор обходил подразделения.
– Кто-то изъявил недовольство? – крикнул он презрительно, и Синьков сжался. – Разрешаю изъявлять недовольство только шевелением указательного пальца на левой ноге.
Синьков невольно глянул на солдатские ноги, обутые в тяжкие кирзовые сапоги, и подумал, что шутка не лишена какого-то специфически лагерного остроумия.
С песней зашагала рота. С холма, откуда уезжали одна за другой студийные машины, Синьков еще раз увидел красочную панораму расползавшихся войсковых колонн, дымившейся фермы, конницы, замка, далеких виноградников, деревенской церквушки за холмом. Черноглазый директор пригласил Синькова в машину самого Запасника.
– Ну как? – спросил главный режиссер устало. И добавил: – Это ведь по сути своей антивоенный фильм.
Может, Запасник уже привык говорить эту фразу заезжим репортерам. А может, его усталую мысль толкнули на этот путь бесконечные колонны солдат, маршировавших с песней по склону холма.
Ты, родимый край,
Нас не забывай,
А ну ребята, песню запевай…
У переезда их «Волга» пропустила колонну шотландцев, которые, завидев машину Самого, запели еще бодрей:
Идут гвардейские дивизии,
Идут, идут ребята-молодцы…
Синьков подумал, что для антивоенного фильма все было сегодня слишком красиво. Он не мог еще сформулировать с точностью смысл своего едва зародившегося сомнения. Однако оно уже шевелилось в нем сейчас, когда машина везла их по выжженным и вытоптанным виноградникам мимо тысяч марширующих солдат.
Вечером Синьков с досадой обнаружил, что от обилия впечатлений и непонятной усталости никак не может уснуть. Он вышел в коридор и встретил английскую переводчицу, у которой попросил что-нибудь почитать. У нее книг не было, но она посоветовала постучать к итальянскому администратору Карло.
– Он такой культурный, – сказала девушка. – У него есть книги про Гогена. А может, про Ван Гога. Он очень много читал. Только он, может, сейчас не один…
Синькову не хотелось нарушать досуг культурного администратора. Он прошел через холл, где степенно пили чай англичане, спустился вниз и вышел на площадь городка.
Синьков неспешно брел по узким, старинным улочкам мимо магазинов, отелей и обширной синагоги, в которой размещалась филармония. На углу бойкой главной улочки возле синенького «фиата» стояли два оператора-итальянца и кричали что-то страстное вслед девушкам. Девушки опасливо косились при этом на гражданина в сером костюме, непринужденно наблюдавшего за итальянцами с тротуара.
– И так каждый день? – спросил Синьков у наблюдающего гражданина в сером.
– Каждый Божий день, – вздохнул гражданин. – Беда с ними. Вот англичане хорошие люди. Соберутся и чай пьют. А эти… Ну чистые грузины.
Синьков наконец почувствовал приятную усталость в ногах и подумал, что теперь уж он, наверное, уснет.
Назавтра он решил выехать на площадку с первым автобусом. Он был исполнен решимости поближе присмотреться к кино и с радостью узнал, что предстоят съемки очень ответственного эпизода с участием главного актера.
– Ты уж прости, – любезно сказал Синькову Запасник, встретив его утром в вестибюле. – Сегодня должны доснять Маршалла. Он уезжает. А завтра начнем твое…
Синьков ощутил на себе уважительные взгляды окружающих: с ним любезно беседовал Сам, не особенно баловавший окружающих любезностью.
Синьков помнил по сценарию сегодняшнюю сцену, потому что сцена эта вызвала у него при чтении ощущение волнующей зависти. Конечно, ему хотелось переписать и эту сцену, но еще ему было жалко, что не он ее написал, а это значило немало. Это был монолог сомнения. Великий полководец вдруг узрел бездну, в которую он толкал все это скопище людей и лошадей, увидел бесконечный, безнадежный путь, на который он их вывел. Путь этот был не только безнадежным, но и никчемным. Тщеславный человек этот не мог подняться до карамазовских высот, не мог помыслить о слезах неутешенного ребенка, но он вдруг остро ощутил и собственную суетность, и тщету затеянного, он вдруг усомнился в успехе и главное – в правомерности и возможности успеха, в его ценности. Все это выражала первая часть монолога, произносимого на фоне локальных побед и великой сумятицы битвы, под рокот неприятельской канонады. По мере развития монолога полководец прибегает к привычному самоутешению, к пустым словам и лозунгам. Кончает он знаменитым: «Вперед к славе!» – и это означает, что он конченый человек, что для него уже нет прозрения, что он обречен. Синькову казалось, что это монолог огромной разоблачительной силы, и оттого он с нетерпением ждал утренних съемок. Он знал уже, что полководца играет знаменитый актер американского континента и что Запасник видит в этой сцене нелюбимого им в целом сценария развитие толстовских идей.
Приехав на площадку, Синьков встревожился, что он опоздал, потому что актер, исполняющий роль великого полководца, уже расхаживал в костюме и гриме по склону знаменитого холма, озирая поле битвы. Его холеное, красивое лицо сосредоточенно хмурилось, он замирал, бормотал что-то себе под нос. Синьков с волнением подумал, что ему сейчас выпало подглядеть какую-то тайную, не предназначенную для чужих глаз работу, подготовительный труд гения.
Солнце поднималось все выше над холмами, стало припекать, главный актер все чаще прикладывал к загримированному лицу салфеточки фирмы «Клинэкс» и все беспокойнее поглядывал на поле брани. И Синьков стал тоже поглядывать на поле брани, с беспокойством убеждаясь, что там еще только собираются с бодрой гвардейской песней переодетые или просто прикрытые кумачом солдаты, только начинается построение и до великой битвы еще, наверное, не близко. Синьков встревожился из-за великого актера, который, кажется, испытывал сейчас беспокойство и оттого, наверное, все меньше чувствовал себя великим полководцем на поле великой войны. И Синьков ощутил несказанное облегчение, когда приехал наконец помреж, а вскоре за ним – Запасник, отчего построение войск на всем огромном поле пошло живее. А главное, почти сейчас же началось обсуждение эпизода. Маршалы картинною толпой построились вокруг великого полководца, а к главному актеру приблизился сам режиссер с переводчицей. Все присутствующие раскрыли режиссерскую разработку на двух языках, и тут Синьков вдруг услышал, как кем-то в адрес знаменитого сценариста Милсона было произнесено то самое суждение, которое Синьков уже не раз слышал в Москве, которому он обязан был своим присутствием на съемках и к которому он даже готов был присоединиться, хотя некое внутреннее чувство все время побуждало его разобраться в произнесенной сейчас снова привычной фразе: «Это не кино!» Эта фраза означала, что человек, написавший или снявший то-то и то-то, не разбирается в кино, «не понимает его специфики» и способен создать что угодно – великую литературу, великую живопись, великий театр (здесь критики всегда были великодушны), но только не кино. И сейчас, услышав эту фразу в применении к сценарию Милсона, Синьков, машинально согласившись с ней, испытал все-таки некоторую тревогу за судьбу столь близкого ему монолога. Он с надеждой взглянул при этом на Запасника, который, разговаривая через переводчицу с актерами, был несколько менее угрюм, чем обычно, и даже пытался пошутить.
– Милсон хотел здесь превзойти самого Толстого, – сказал Сам, и шутка эта почти не нуждалась в переводе.
– Послушай, Михаил… Мы тут подумали… – начал главный актер, и переводчица забормотала ему вслед, а Синьков порадовался, что так хорошо понимает без переводчицы. – Мы решили так… Он скажет…
Актер протянул ближайшему из маршалов-сподвижников свою сценарную разработку и, освободившись, погрузился в задумчивость.
Сподвижник хорошо поставленным голосом произнес первую фразу монолога. Потом сценарий взял другой военачальник и произнес вторую фразу, так же выразительно, энергично и печально.
– Дай Бог актеришки, – прошептал за спиной у Синькова один из ассистентов.
Запасник строго посмотрел в сторону шептавшего, и военачальники продолжили вивисекцию монолога. Больше всего это было похоже на мелодекламацию, какой пионеры обычно потчуют участников съездов и конференций. Когда маршалы исчерпали содержание текста, главный актер встрепенулся. Он медленно возвратился из бездны переживаний к полю убийства, окружавшему его, пронзительно сверкнул увлажнившимся глазом и произнес с металлом в голосе: «Вперед, к славе!» Его взгляд, трепет его ноздрей, щек и самый его голос заставили содрогнуться присутствовавших, и наступило молчание. Главный актер вопросительно взглянул на Самого, и тогда режиссер поднял большой палец, потом даже два больших пальца, сложенных вместе.
– Олрайт, – сказал он. – Ва бене! Настоящий Толстой. Просто здорово…
Запасник повернулся и ушел отдыхать; военачальники тоже разбрелись, ожидая построения; главный актер отошел на край холма, утвержденный в своем переживании.
– Силища актер, – сказал Синькову восторженный ассистент, – Божьей милостью. Дай Боже… Первая премия Америки. Триста долларов за съемочный день. Уж если братья Карлонти покупают, так все лучшее.
Синьков один пошел на дальний край долины, предоставленный своим сомнениям, которых явно никто не разделял. Для него было очевидно, что монолог был изодран, обессмыслен, опошлен этой групповой декламацией, лишившей его и характера, и настроения, и смысла, Очевидно было, что трюк с «переживанием», лишенным и человеческой глубины, и философского уровня монолога, был всего лишь отработанным фокусом профессионала, который уже не раз проделывал его – конечно, по другим поводам. Очевидно и то, что это было насилие над автором, над структурой вещи, над элементарной этикой (Синьков начал сознавать, что он-то ведь тоже принял уже участие в этом групповом изнасиловании беззащитного Милсона). Все это было очевидно, и здесь у Синькова не возникало сомнений. Сомнения его касались теперь другого – самой сути этого упражнения в новой форме искусства, веры в компетентность этих людей и их право на безапелляционное суждение: «Это кино!» или: «Это не кино!» Что означало первое из этих суждений, не сходившее с их уст? Лишь то, что предлагаемое им в данную минуту воспринималось ими как нечто уже принятое и распространенное в кино, то есть как некий штамп отечественного и мирового кинематографа. «Не кино» – означало чаще всего, что подобного еще не было, что так не делали, так не принято делать. Легко было предположить, что, пойдя по скользкому пути – «не кино», можно было сделать или плохое кино, или (в одном случае из десяти, а может, из ста) – новое и непривычное кино. Путь этот, без сомнения, являлся непрофессиональным, на него не могли встать люди, «умевшие делать кино», но ведь первый-то путь был и вовсе истоптан, безнадежен, а главное – исключал искусство, оставляя разные уровни ремесла.
Синькову захотелось уйти от этих своих сомнений, и он с ходу бросился в разговор с чернявым администратором-итальянцем, вполне терпимо объяснявшимся по-английски. Синьков понял, что это и был тот самый администратор-интеллигент, отличавший Гогена от Ван Гога и покупавший книги. Синьков попытался завести разговор об излюбленном своем итальянском кино, но попытка его не увенчалась успехом. Итальянец видел только один фильм Феллини – «Сладкую жизнь» и вовсе не видел Антониони. Правда, он с живостью перечислил полдесятка каких-то гангстерских фильмов, которые, по всей вероятности, обслуживал, а потом, закатывая глаза от восторга, назвал Дэвида Лина и первый фильм из эпопеи о Джеймсе Бонде. Синьков не смог преодолеть снобизма и вступить с этим человеком в серьезный разговор об искусстве. К тому же он успел понять, что итальянцу, как и положено приличному служащему, на съемках все очень нравилось. Ему не нравилось только, что ему не разрешают выезжать из города и еще не разрешают встречаться с прелестной Ниночкой из университета. Местные власти нещадно преследовали его крошку, стригли ее под Юла Бриннера и даже сделали ей почему-то реакцию Вассермана.
– Зачем? У меня никогда не было люэса, – обиженно сказал администратор, и, посочувствовав ему и его крошке, Синьков пошел дальше.
В некоторое равновесие его привел разговор с русским художником-декоратором, который долго доказывал ему, что кино – это все-таки совсем другое искусство, никак не похожее на литературу, что слово в нем ничего не значит, а зрительный образ создают режиссер и художники, так что есть надежда, что зрительный образ монолога еще будет воссоздан. Они на разные лады повторяли утешающее слово «надежда», но, отойдя от художника, Синьков подумал, что все же это безнадежно не только для бедного Милсона, но и для блистательного Тери, начинавшего работу над сценарием, а также было бы безнадежно для великого Толстого, попади он однажды в лапы кинематографу.
Поскольку Синькова больше не интересовала мелодрама главного диалога, он пошел прочь от площадки по оврагу, все чаще и чаще встречая на пути знакомые лица. Он заметил, что и его узнавали тоже, потому что и он не возбуждал больше интереса, какой возбуждал вчера, когда был человек на съемках совсем новый. Давешний сержант связи очистил Синькову место на плащ-палатке, но приветствовал его с выражением неизбывной скуки. К ним подошел рослый солдат в шотландской одежде и, достав из-под клетчатой юбочки яблоко, разломил его на три части.
– Хорошо вам здесь? – спросил Синьков, надкусывая сочное прохладное яблоко.
– Скучно, сил нет, – сказал сержант. – Вроде бы ничего не делаешь… А дома ведь ишачить сразу придется. Уборка сейчас. И все же так домой…
– Ну, дома. Сравнил… – пробасил девятнадцатилетний верзила-солдат и почесал голую ногу под шотландской юбочкой. – Дома разве то… – А потом вдруг добавил почему-то: – Солдат спит, а служба идет…
Статист-гвардеец с мукачевского мясокомбината, казалось, был, напротив, совершенно доволен жизнью. Вместе с двумя другими ветеранами гвардии он закусывал в тенечке и, узнав Синькова, сказал ему, с почти искренним сожалением, помахав пустой бутылкой:
– Где же вы раньше были? Угостили бы. Мы вот тут в село сбегали…
– Сообразили на трех, – сказал второй ветеран.
– Спасибо. Я ведь не пью, – сказал Синьков. – Тем более днем. Жарко.
– Да, жарко…
Синьков издали увидел знакомых кавалеристов и пошел к ним прямо через кусты. Кавалеристы отдыхали. Возле лошадей хлопотали солдаты-ветеринары в измызганных белых халатах. Держа на весу большие сосуды, похожие на фужеры для сока, они вливали лошадям воистину лошадиные дозы какой-то прозрачной жидкости.
– Что это? – спросил Синьков, поеживаясь.
– Чистый спирт! – облизнулся ветеринар.
– С «гидралхлоратом»! Ты что! – поправил старший.
– Зачем? – спросил Синьков.
– Чтоб спали, – сказал кавалерист. – Вон…
Синьков оглядел поле и увидел, что на нем там и здесь уже лежат, запрокинув головы, то ли спящие, то ли дохлые лошади. Он увидел также двух художников, которые, макая кисти в ведро, обильно мазали лошадей густым раствором сурика, и впрямь отвратительно похожего на кровь.
– А им… ничего? – Синьков кивнул на лошадь.
– А что им! – махнул рукой санитар, но старший и тут поправил:
– Как что? Семьсот грамм в вену, понял? Какие уже и не встанут. А у каких расширение сердца будет. Еще разок так полежат, а потом надо пристреливать…
– А меньше… вливать нельзя? – спросил Синьков, покривившись.
– Меньше нельзя… Они и так вон просыпаются. Голову поднимают, когда не надо, а поле-то должно быть мертвое. Так и в сценарии сказано – мертвое поле…
Синьков со смешанным чувством отвращения и жалости рассматривал лошадей, перемазанных суриком и грязью. Он заметил, что некоторые из них и правда лежат неспокойно, время от времени вздрагивают холеной шкурой, иногда пытаются поднять голову. Впрочем, были и такие, которые совершенно натурально глядели дохлыми. Может, это как раз и были те, которым уже не суждено было проснуться после первой инъекции и вернуться в зеленый мир холмов для нового служения искусству. Одна из лошадей была настолько недвижной, столь натурально дохлой и даже словно бы уже усохшей, что Синьков невольно присел перед ней, потрогал ей ноздри травинкой, и тут же услышал за спиной резко уколовший его смех санитаров.
– То ж чучело, – добродушно сказал старший.
– Значит, можно сюда… и чучело? – спросил Синьков, вставая.
– Отчего ж нельзя? – сказал санитар. – Еще лучше. Они вон, эти живые, как шевельнутся, так дубль пропал. А он больших тысяч стоит, съемочный день…
Синьков быстро пошел прочь. Ему казалось, что он вдруг понял что-то самое главное, какой-то главный просчет, который мог объяснить каким-то неведомым ему путем все – даже его утренние сомнения. Лошади. Да, вот, и лошади. Вернее, сперва лошади. Он все время ощущал сегодня какую-то фальшь в осуществлении всех намерений, некую неправомерность происходящего. Где она начиналась? И сейчас ему казалось, что он обнаружил начало. Он быстро шел к помосту, где заканчивались съемки измельченного монолога, надеясь увидеть там самого Запасника. Он хотел, чтобы все сразу объяснилось, хотя не представлял еще точно, что именно и каким образом может объясниться сейчас. Запасника у помоста не было, сказали, что он только что уехал на новую площадку, где параллельная группа снимает сегодня очень важный эпизод с трюкачами. Зато Синьков увидел в кресле главного русского директора, что так радушно встретил его вчера. Директор и сейчас приветствовал Синькова очень радушно и даже очистил для него рядом с собой кресло под зонтиком, жестом отослав прочь парнишку-администратора.
Синьков сел рядом и отдышался после подъема по склону холма. Но и потом, отдышавшись, он еще долго не мог начать разговор, не знал, как начать, – настолько важной представилась ему сейчас эта история с лошадьми.
– Там вот есть чучела… – сказал он наконец. – Так вот нельзя ли, чтоб одни чучела? Чтоб не трогать живых?
– Можно, – добродушно согласился директор. – Даже лучше. Только ведь нам очень много нужно мертвых лошадей – целое мертвое поле. Когда же нам было заготовлять чучела? Не успеваем…
Он картинно обвел рукой мертвое поле, чтобы Синьков понял, какую прорву всего нужно заготовить для подобной сцены – и костюмов, и повозок, и орудий, и пиротехники, и людей, и лошадей. И Синьков понял. Он понял, что эта возня с лошадьми была просто одним из многих неудобств всесторонней и хлопотной деятельности директора, отнюдь не самым большим. И что способ, которым сейчас решалась проблема, вероятно, считался гениальным. Может быть, кто-нибудь на площадке воскликнул «Эврика!» в тот счастливый миг, когда был найден этот способ – не заготовлять и не возить за собой бесчисленные чучела лошадей.
Синьков сидел, съежившись, рядом со спокойным, солидным директором, человеком, который знал кино и был доволен результатом своей деятельности. Директор же, преисполнившись симпатии к новичку, этому человеку из другого, некинематографического мира, рассказал Синькову историю о том, как на двух предыдущих картинах, в которых он участвовал, когда не было еще этого столь совершенного способа усыпления, лошадям приходилось попросту перерезать горло. Зато – при этом воспоминании директор радостно засмеялся, – да, зато мясо не пропало, потому что директор очень выгодно продал его в татарскую деревню. Вот такая хохма, старик…
Синьков понял, что он должен как-то высказаться о коммерческом гении директора, и он покачал головой, что могло быть при желании принято за высшую степень изумления.
Синьков попробовал утешиться снобистской мыслью, что директор этот – темный, грубый человек. Однако мысль эта не успокоила его окончательно, а только подхлестнула для дальнейших поисков. Он решил искать режиссера. Директор любезно предложил ему машину. Он был всесилен, у него было два или три десятка машин. Газик, минут десять пропетляв по оврагам, вывез Синькова к дальнему склону холма, и здесь он увидел пестрые дольчевитки операторов, ассистентов, костюмеров, а также стройные силуэты коней и всадников на гребне холма. Подойдя еще ближе, он сразу различил надежную широкую спину Запасника и подумал, что конечно же на картине, так же как, к примеру, на театре, должен быть один человек, который направляет своей волей этот хаотический поток устремлений и воль к высшей художественной и нравственной цели. Вероятно, именно об этой конечной цели нравственного воспитания и говорил Запасник в многочисленных интервью, которые он давал русским, французским, американским корреспондентам, одолевавшим его. На сей раз это, конечно, будет высокая идея отвращения к братоубийственной войне. Так, во всяком случае, писали репортеры.
Вспомнив эти интервью, Синьков вспомнил – одно за другим – и все, что он успел увидеть здесь: актерское своеволие, вакханалию красок на живописном поле войны, изнывавшую от безделья массу людей и, наконец, давешних лошадей. Абстрактное соображение о выборе средств, которыми достигается великая нравственная цель, обрело вдруг навязчивую конкретность. В то же время Синьков увидел, что он не может сейчас тревожить Запасника праздными вопросами о лошадях и людях, о фасоли и виноградниках, потому что режиссер был с головой погружен в дело, а Синьков не был человеком дела и написанные им для фильма странички ни просто делом, ни делом своей жизни не считал.
Сейчас Запасник был поглощен очень ответственной съемкой. Синькову оставалось только подойти поближе и встать в самой непосредственной близости к режиссеру, воспользовавшись своим привилегированным положением. Так он и поступил.
Стоя в напряженно замершей группке людей, он видел, как по команде помрежа отряд всадников ринулся вниз с гребня холма и как одна из лошадей вдруг упала на передние ноги, а наездник, перевернувшись в воздухе, рухнул на землю, перевернулся еще раз на земле и тут же вскочил.
– Бене… – крикнул молодой помреж.
Запасник молчал. Помощники, окружавшие его, переговаривались вполголоса, выражая восхищение ловкостью рослого красавца каскадеро из Югославии. Потом Запасник обернулся к помрежу и буркнул:
– Еще раз…
– Анкоре… Примо пьяно… – крикнул в микрофон помреж, всадники стали отходить на гребень холма.
Потом кони снова пошли на камеру, и ближний снова споткнулся, но не удержался и упал на бок. Всадник успел вывернуться из-под коня и покатился по склону холма, скрючившись и держась обеими руками за бедро.
– Стоп! – крикнул помреж, и тогда все, кто окружал камеру, бросились к трюкачу.
– Мило! Мило! Мама миа! Что? Что? Оу! Терибл!
Все расступились, потому что сам режиссер подошел к каскадеро и склонился над ним. И тогда русый красавец Мило открыл глаза, ослепительно улыбнулся Запаснику и, превозмогая боль, встал, как и подобает мужчине. Запасник обнял его и трижды поцеловал, повторяя: «Ва бене! Ва бене!» А фотограф, хлопотливо расталкивая, раздвигая посторонних, все снимал и снимал эту редкую сцену. Режиссер велел всем разойтись, потому что он сам пожелал сфотографироваться на память с героем дня, и они были немедленно сфотографированы в обнимку специальным японским фотоаппаратом, выдающим цветной отпечаток ровно через сорок секунд после съемки. Наблюдая эту сцену, Синьков подумал, что режиссеру, наверное, любопытно и даже приятно стоять вот так, в обнимку, с человеком, который только что рисковал жизнью ради его искусства и был, возможно, ближе к смерти, чем находимся все мы ежедневно. Кроме того, это был жест демократический, и конечно же исторической этой фотографии суждено будет обойти страницы провинциальных и столичных газет. Именно так заявил молодой русский художник, стоявший позади Синькова, и Синькову вдруг подумалось, что провинциальные газеты отличаются от столичных, вероятно, лишь размерами и качеством печати, ибо уровень мышления любой газеты прежде всего отмечен гнетущим провинциализмом сенсации.
– Запросто мог бы хребет поломать! – восхищенно сказал молоденький солдат из ограждения. – Зато семьдесят пять рублей за каждое падение платят. Да тринадцать рублей в день ему командировочных идет…
Подошла очередь Синькова подержать в руках уже подсохшую фотографию каскадеро с автографом режиссера. Белозубый Мило, так решительно торгующий своим позвоночником, счастливо улыбался с фотографии, и низкорослый Запасник улыбался тоже, неловко притулившись к его боку. Синьков снова подумал о том, что должен ощущать режиссер, – вероятно, то же самое ощущал маленький смешной человек, смачно целовавший космонавтов, которым посчастливилось благополучно вернуться на Землю.
Синьков решил выбраться на стоянку студийных машин, потому что съемки, по всем расчетам, уже должны были подходить к концу. Он шел мимо дымящейся фермы, вытоптанного поля, где земля была выжжена от многодневных пожаров и взрывов, мимо разбросанных пластмассовых гвардейцев, голов и мундиров из пластика, мимо повозок, тележек, обломков оружия. И он думал о том, что зритель, вероятно, очень и очень любит все эти пожары, погони, падения, взрывы, раз они входят с такой неизбежностью в каждый фильм. А может, наоборот, кино приучило к ним зрителя? Так или иначе, именно к фильму, который не складывается из этих наиболее интересных для зрителя эпизодов, чаще всего и прилагается эпитет «не кино». А то, что является «настоящим кино», очень скоро приобретает все легко различимые качества штампа и шаблона. Как ни странно, та же участь постигает приемы авангардного кино, которые становятся столь же пошлым трюком, как пожары или погони в кино коммерческом. В результате, с горечью подумал Синьков, все, к чему ни прикоснется кинематограф, немедленно приобретает столь неприятные всякому художнику черты массовой продукции, ширпотреба и коммерции. И если это так…
Когда Синьков подошел к автобусу, уходившему в город, все места были заняты, но мысль о том, чтобы дождаться следующего автобуса и побыть еще четверть часа на площадке, показалась ему сейчас настолько непривлекательной, что он предпочел уехать стоя.
В автобусе много говорили о сегодняшних съемках, и в репликах, которыми обменивался главный пиротехник со своим молоденьким ассистентом, Синьков отметил усталое довольство людей, славно поработавших и удовлетворенных своим вкладом в общее дело. Кино, как и более древние жанры искусства, требовало от своих служителей самопожертвования, и эти люди шли на него сознательно, даже радостно. Синьков отметил, что они ощущают себя именно соучастниками творческого процесса и вовсе не приравнивают себя к простым столярам, даже к столярам, сколачивающим подрамники. Скорее, они были каменщики, возводившие стены величественного, хотя и не очень понятного им здания. Синьков ощутил смешанное чувство зависти и досады, потому что хотел бы разделить эту их причастность, но он все еще не мог забыть утреннее надругательство над монологом, а оно-то, наряду со съемками каскадеро, вероятно, и составляло главный успех дня. Смятение Синькова усиливалось тем, что назавтра предстояли съемки его собственного эпизода, и только что, в автобусе, один из ассистентов напомнил ему об этом.
Вечером, в отеле, Синькова познакомили с очень милой женщиной, итальянкой, которая ведала «континьюити», то есть следила за последовательностью в эпизодах и кадрах – за соответствием костюма, грима, декораций и даже текста тому, что было в предыдущем кадре, который мог быть, как известно, снят в совершенно других условиях, в другую погоду, в другое время года и даже в другой стране. Женщина эта была рабочей лошадью кинематографа, труженицей, высоко ценимой за добросовестность, и она работала даже с самим Микеланджело Антониони. Синьков узнал от нее, что утренняя история с монологом не являлась на площадке чем-либо исключительным: тексту и диалогам сценария редко удавалось пройти нетронутыми сквозь процедуру съемок. Женщина эта взялась по просьбе Синькова отыскать записанные ей новые, уже снятые, диалоги фильма, авторство которых, по ее утверждению, могло принадлежать актерам и самым разнообразным их советчикам, а чаще всего военному консультанту-англичанину, который был особенно высокого мнения о своих авторских возможностях. Синьков не решился просить, чтобы эта усталая и симпатичная женщина, мирно пившая чай в компании друзей, немедленно принялась за подобные розыски, тем более что он так и не уловил ее собственного отношения к этим импровизациям на площадке. Может, подобные действия на площадке являлись привычными в ее практике, а может, как воистину добросовестный работник, услуги которого высоко ценил сам Антониони, она вообще не имела обыкновения вмешиваться в действия старших. Так или иначе, Синьков в результате этого открытия пришел в еще большее смятение и, засыпая, с тревогой думал о собственном эпизоде, который должен был сниматься завтра. Хотя Синьков и не придавал своему эпизоду очень уж большого значения и вообще не считал кино делом своей жизни, в отличие от сотен людей, заполнявших съемочную площадку вокруг него в эти дни, он все-таки вкладывал в свой эпизод (и сейчас он вдруг ощутил это особенно отчетливо) определенный, дорогой для него смысл. И вот теперь он стал ощущать вполне обоснованную тревогу за то, что смысл этот пропадет и что его эпизод также станет одной из живописных картинок.
Хотя с вечера Синьков долго не мог уснуть, мучимый всеми этими сомнениями, проснулся он в возбужденном, приподнятом настроении. Ярко светило в балконную дверь закарпатское солнце, внизу, в вестибюле, уже слышались шум шагов и разноплеменная речь, и Синьков подумал, что так или иначе, но сегодня необычный день, потому что ему предстоит увидеть те несколько страничек, которые он набросал, воплощенными в кинематографе при помощи всей это огромной массы людей, собранных воедино из разных концов земли, – актеров, художников, солдат, деловитых ассистентов и директоров, высокопрофессиональных операторов, звукооператоров, осветителей, шоферов, конников и еще Бог знает кого. За завтраком возбуждение Синькова усилилось. Он обнаружил, что многие уже знают его и знают, что это его эпизод будет сниматься сегодня, так что он был даже в некотором роде именинник. В автобусе при посадке один из ассистентов вдруг объявил вслух, что сценарист сегодня присутствует среди них, и англичане ослепительно заулыбались, темпераментно восклицая, что они просто «хэппи», то есть счастливы, видеть его в своей компании, а итальянцы загалдели раскатисто и прекрасно, будто произошло вдруг нечто грандиозное или какая-нибудь Сильва Кочина вошла в автобус и стала садиться по очереди всем на колени:
– Грандиозо! Марио! Альберто! Фабио! Ва бене! Белиссимо! Мама миа!
Синьков невольно улыбнулся, вспомнив, что солдаты, отдыхающие в овраге, время от времени развлекают друг друга, подражая этой певуче-возбужденной интонации итальянской речи: «Белиссимо! Аллоре! Ляринграцие мольто!»
Выйдя из автобуса на площадке, Синьков сразу увидел своих загримированных героев – сержанта и одного из военачальников, которые так естественно и непринужденно расхаживали в этой картинной, воистину маскарадной униформе, что казались рожденными для нее. Синьков снова с гордостью подумал об огромном штате художников по костюму, костюмеров, гримеров, реквизиторов, обслуживавших нынешние съемки, и счастливое его возбуждение возросло. Подошел молодой, энергичный помреж и улыбнулся Синькову.
– Ну как? – сказал он и царственно махнул рукой в сторону прилегающих холмов. Глянув окрест, Синьков увидел солдат, артиллеристов, конников, костры, орудия, повозки, а там, еще дальше, на гребне и склонах дальних холмов – недвижные каре пластмассовых армий.
– Да-а-а!
– Сейчас у Запасника репетиция начнется, пойдемте, – сказал деловито помреж, но тут Синьков, все еще ощущавший некоторое головокружение, оглушенный обилием утренних впечатлений, вдруг вспомнил:
– Да. А где же сельский кюре?
– Кюре? – Помреж был искренне озадачен. Потом он все же вспомнил: – Ах, этот, священник? Ну да, был, был. Это еще в том варианте сценария. В старом. Ну да, и в первой режиссерской разработке был. У вас какая? Первая? Нет, вам надо серую книжку, это вторая… Там, кажется, уже нет священника. Точно, нет. А вот красная, третья… Тут уже при участии…
– Как нет? – проговорил Синьков растерянно. – А где бы мне посмотреть?
Помреж засуетился, стал искать серый режиссерский, который, как выяснилось, так сильно отличался от последнего, красного, и, когда наконец нашли этот серый (красный почему-то искать уже не стали), Синьков принялся дрожащими от нетерпения пальцами листать его – раз, и два, и три – и никак не мог найти свой эпизод. Потом он все-таки нашел его, точнее, нашел то место, где он раньше был, потому что теперь от эпизода оставался один хвост – беседа у котелка с супом да две реплики героев, сильно, впрочем, обрезанные, отчего они стали звучать теперь до крайности банально, нечто вроде: «Страшная все же вещь война. – Ешь, может, это твой последний суп».
Синьков ощутил растерянность. Он не мог понять, почему была вырезана сцена, казавшаяся всем, в том числе и режиссеру, такой выразительной, такой киногеничной, кинематографичной («настоящее кино!»). Для Синькова в ней содержался определенный смысл. В ней был разговор священника и крестьянина, которые наблюдали вереницу солдат, проходивших к полю сражения. Сцена выражала недоумение и растерянность от невозможности остановить это обреченное шествие, в ней была четко обозначена его собственная точка зрения на красоту и блеск военных мундиров, на дело войны и на истинное дело, которое никогда не делается под гром пушек, в блеске мундиров (да, мысль толстовская, но Синьков не видел в этом криминала). В ней было ощущение несовместимости, непонимания и страшной обреченности. А потом следовал этот вполне прозаический диалог двух обреченных, двух невинных злодеев, не ведающих, что творят. Однако при всей прозаичности этого разговора за последней в жизни тарелкой супа в диалоге этом были эсхатологические предчувствия, навеянные только что прошедшей осанистой фигурой сельского кюре. Бравада этих двух людей была жалкой, потому что жалкой была их участь, уже ощутимая в недоговоренности диалога и во всем построении сцены. В уцелевшем хвостике сцены не осталось уже ничего – разве еще одна живописная картинка с участием людей, наряженных в маскарадные мундиры. Синьков подумал, что такую сценку мог бы при некотором мыслительном усилии придумать любой из этих темных недоумков-актеров, любой из участников съемки. Впрочем, сами участники съемки вряд ли поспешили бы разделить надежды Синькова, потому что убеждены были, что могут придумать все гораздо лучше. Синьков понял это, как только протолкался в кружок, где уже начали обсуждать сцену.
– Михаил… – начал военный консультант-англичанин, – вы хотели…
– Минуточку… – Запасник подумал, потом сказал: – Тут, в этой сцене… Тут большое толстовское звучание…
Переводчица забубнила что-то, и англичане, услышав привычное заклинание «Лео Толстойз айдиаз», механически закивали.
– Михаил… – снова сказал консультант, когда воцарилось молчание. – Мы тут подумали и решили, что мало диалога. И нет действия. Не кино.
Все обрадованно забормотали – «не кино».
– Мы решили попробовать так. Я выливаю виски ему в суп. Я говорю: «Вот это последний суп!» Как ты думаешь, Михаил?
Запасник обвел всех взглядом, словно предлагая оценить находку англичанина. При этом взгляд его задержался на Синькове, и режиссер улыбнулся ему, предлагая порадоваться вместе со всеми этой находке. Потом Запасник, наверное, вспомнил о склочной привычке авторов цепляться за первоначальные, всеми забытые тексты и потому быстро сказал:
– Только давайте конструктивно… У кого лучше?
Синьков молчал. Он действительно еще не мог оторваться от всеми забытой сцены с кюре, от всеми забытого диалога из первого варианта. Он не мог понять, почему, если тот вариант не подходит, его не вызвали срочно. Не просили придумать лучше, по-другому, не сказали, что именно нужно. Ведь вся эта история со съемками тянется почти полгода, да и здесь, на площадке, он уже третий день. Если же они сочиняют все сами, на ходу, то зачем тревожить писателя… Однако требовать объяснений и объяснять все это сейчас, за минуту до съемки, он не мог и, придя в полное смятение, только глотнул судорожно и повернул прочь. Уже отходя, он слышал решающее слово Запасника (оно же было и единственное выученное им итальянское слово):
– Ва бене!
Синьков зашагал к оврагу, подальше от группы, от деловитых ассистентов, от исполнительных операторов, а также бесчисленных помов, замов, переводчиков, пиротехников, костюмеров, гримеров, изображавших сейчас чрезвычайную, сверхчеловеческую деловитость, мимо солдат, изнывавших на жаре и томившихся бездельем, мимо ветеринаров, уже приготовивших свои шприцы и лошадиные дозы спирта, мимо вытоптанных виноградников и сожженной земли.
Синьков шел быстро, не останавливаясь и не оглядываясь. Он даже не заметил, как шум великих приготовлений стих у него за спиной. Теперь только мощный радиоголос помрежа нарушал время от времени тишину.
И тогда Синьков вдруг услышал звон колокола. Сперва ему подумалось, что звонят все-таки на площадке, и он удивился этому, потому что ведь вся сцена с кюре была выброшена до съемок, еще в каком-то сером сценарии. Однако, взойдя на вершину холма, он увидел внизу в теснине уютную, утопающую в виноградниках и садах закарпатскую деревушку, увидел шпиль церквушки в самом центре деревни, среди старых лип, и понял, что это звонят в церкви и что перед ним настоящая, а не бутафорская деревушка.
Синьков с некоторой опаской прошел мимо стада гусей, мимо огромного грязного борова, потом миновал ухоженный виноградник и очутился в пыльном деревенском проулке. И тогда он вдруг вздохнул с облегчением. Впервые за сегодняшний день. Все, что произошло с ним сегодня на площадке, показалось ему сразу нереальным, несущественным и даже как бы не существовавшим вовсе. Собственное его отчаяние, эта беспросветная тоска, упавшая вдруг на сердце, отступили, представились ему преувеличенными, не заслуживающими никакого сочувствия, несколько даже смешными и постыдными. И он с благодарностью понял, что в нем пробуждается интерес к этой чужой, еще незнакомой жизни, открывшейся ему вдруг за холмом, потому он с былой легкостью кликнул молодого парня, строгавшего что-то во дворе.
– Почему звонят? – спросил он. – Сегодня же не праздник?
– Умер кто-то, – сказал парень. – Еще не знаю… Мама! – крикнул он в глубь двора, и вышла полная старая женщина с темным от морщин и загара лицом. – Чего звонят?
Женщина сложила на животе темные, морщинистые руки и заговорила, быстро, очень непонятно, мешая украинские слова с чешскими и венгерскими, так что Синьков смог разобрать одно лишь часто повторявшееся слово – Мигаль. Видя, что Синьков плохо понял речь матери, парень постарался перевести ее на язык, представлявшийся ему русским, а на деле являвший странную смесь украинского языка с армейским жаргоном:
– Она говорит, что Мигаль дал дуба в Америке. Матка говорит, он на шахте горбил. Сорок роков ему. Матка говорит, в честь президента Мигаля его назвали. Матка говорит, тогда дуже так называли. Ну да, Мигаль Хорти…
Синьков улыбнулся, услышав это полузабытое имя, знакомое по газетным карикатурам детских лет – Антонеску, Хорти, Квислинг…
– Так чего ж мы стоим? – спохватился парень. – Заходите до хаты.
Синькова провели в красиво и богато обставленную спальню, где висели большие, нарисованные на клеенке образа – Иисус с кровоточащим сердцем и Дева Мария. Здесь стояли зеркальный шкаф и две деревянные кровати, поверх белых покрывал покрытые синтетической леопардовой шкурой – вроде тех, что были под седлами у киношных военачальников. Синьков подумал, что шкура эта, по всей вероятности, была не вроде тех, а просто из тех шкур, и молодой хозяин сам подтвердил его догадку.
– Красивая? – спросил он и добавил горделиво: – За десять рублей купил у солдата с кина.
Они постояли еще немного, и Синьков убедился, что хозяева в этой комнате тоже чувствуют себя неловко, потому что комната эта не для жилья, а только для показа. Потом они пошли все вместе через комнату поплоше, в кухню, где уселись за стол. Хозяин, которого звали Степан, по-местному Пишта, тут же принес графин сухого вина. Быстро захмелев, Синьков стал легко и с интересом входить в подробности хозяйственных дел Пишты, его матери и молодой жены Илоны. Это были люди, неистово трудившиеся, регулярно, хотя и без особого пыла, посещавшие церковь, любившие гостей и развлечения. Их хозяйство было устроено разумно и экономно. Они растили прелестного пацана и строго блюли нравственность соседей. Впрочем, Синькову показалось, что и собственная их нравственность, насколько он мог судить или мог позволить себе судить, была на вполне приемлемой высоте…
На площадку Синьков вернулся к концу разъезда. Автобусы уже ушли, и Синькова подобрал на газике самый главный пиротехник, одно из главных действующих лиц на площадке. Человек этот был искушен в кино, а может, просто был недурной психолог, потому что, увидев Синькова, он, кажется, подумал о том, что может переживать автор после такого съемочного дня. И сказал, утешая его по-дружески:
– Поверьте мне, это всего-навсего съемки. Все еще вырежут к чертям собачьим при монтаже, много ли от этого останется… Э-э… – А потом добавил не без гордости: – Вот вчерашний мой взрыв – это останется… Ух, как лошадь его понесла, этого Маршалла, во время взрыва… Аж побелел, бедняга…
В вестибюле гостиницы Синьков встретил главного режиссера, который обнял его за плечи и сказал с доверительностью, может быть тоже рассчитанной на утешение:
– Ну как? Видел сегодня?.. Это еще только начало. У меня ведь главная работа начинается при монтаже. Все еще будет иначе. Да, да. И текст. Э-э-э… Все переозвучим…
При этих словах Синьков, к своему собственному удивлению, не впал в беспросветное отчаяние. Более того, он обнаружил, что с того часа, как ушел еще сегодня утром с площадки, он успел отойти довольно далеко от картины и воспринимал теперь все, связанное с ней, с изрядного расстояния и не всерьез, соблюдая разумную дистанцию, которую вообще считал для себя необходимой. С этой новой точки зрения видел он теперь и тот сценарий, который был написан сперва Тери, потом Милсоном, а потом им самим и еще всяким, кому было не лень, и ту картину, которая снималась сейчас, и ту, совсем новую, которая будет получена в результате монтажа, сокращений, поправок и еще Бог знает чего…
Назавтра Синьков еще поехал по инерции на съемочную площадку и даже побродил там до начала съемок. Было воскресенье, однако день был назначен съемочный из-за предстоящего отъезда целой группы актеров. На площадку приехали также многие из актеров, которые не были заняты в съемках, потому что долгий воскресный день в отеле представлялся им еще более томительным, чем на площадке. Синькова теперь узнавали многие, и он узнавал очень многих. Он заметил, что больше не был новичком на площадке и не возбуждал в людях интереса: здесь быстро пресыщались всем. Еще больше удивило Синькова, что и ему ничто не кажется здесь ни новым, ни экзотическим, ни хотя бы интересным. Казалось, что он уже видел все это… Так же сдержанно балагурили и хмыкали англичане, держась своего клана и жалуясь на судьбу. Так же вспыхивали и гасли итальянцы, так же любительски имитировали театр а-ля де Филиппо де Таганка, так же выпевали свои кличи…
– Ма-арио! Примо пьяно! Аллоре…
И русские мальчики-ассистенты бегали озабоченно по полю, сгоняли солдат в стройные стада, разгоняли, обливали их водой, окуривали дымом. Для Синькова уже не был тайной смысл их многочисленных действий, а то, что оставалось неясным, было так неинтересно для него, что не требовало разъяснений. Потолкавшись с полчаса на площадке, Синьков вдруг повернул прочь и пошел в деревню.
Пишта, Илона, старуха мать и маленький Иван, одетые с праздничной тщательностью, встретили его у калитки. Они спешили в церковь, и Синькову не оставалось ничего другого, как пойти вместе с ними.
Посещение церкви не было в этих краях редкостным паломничеством, как в России, и, может быть, именно потому не рождало такой бури долго не находивших выхода эмоций, какую, скажем, может пробудить скромная всенощная в Валдае или Новгороде у странствующего интеллигента или немощной крестьянки, приехавшей за сотню верст. Здесь это было обычное воскресное времяпрепровождение, и Синьков отметил в службе некоторую благочинную скуку. Однако в самой регулярности и обычности воскресного богослужения Синьков ощутил в то же время успокаивающую надежность, а потому вышел успокоенный и радостный, утвержденный в каком-то своем снисходительно-безразличном отношении ко всему, что случилось с ним за последние дни.
На обратном пути из церкви встречные приветствовали их с непривычной торжественностью:
– Слава Иисусу Христу.
И они отвечали, как было заведено здесь издревле:
– Слава Богу навек.
Синьков был оставлен затем на воскресный обед, он не стал отказываться, понимая, что приглашен от души, что это приятно не только для него самого, но и для его новых друзей тоже. Обед затянулся до вечера, зашли еще соседи – со своим вином и своей сливовицей. Был их день отдохновения, благословенный седьмой день недели. А потом все скопом, и гости и хозяева, провожали Синькова на шоссе, к городскому автобусу.
Утром при помощи энергичного черноглазого директора Синьков без труда достал билет на московский самолет и конечно же студийную машину. По дороге на аэродром словоохотливый шофер пересказывал ему киношные новости, и Синьков отметил про себя, что он уже почти все слышал, знает, кто из англичан вчера напился и упал с лестницы, кого при всем народе расцеловал Запасник за высокое мастерство. Знает даже, как развивается роман одного из итальянцев с ресторанной певицей, которую этот итальянец возил в Москву, чтобы показать ей Кремль. Знает, что говорят каскадеро по поводу предстоящих им головоломных съемок и что говорят по этому поводу в Риме. И еще знает многое – гораздо больше, чем ему хотелось бы знать.
И когда в самолете бортпроводница предложила ему затрепанный номер «Огонька», на обложке которого он сразу узнал Запасника и развороченное поле великой войны, Синьков без сожалели отложил журнал, не читая, и сладко потянулся в кресле.
1969
Человеческий фактор
Краковец проснулся от холода в большой дубовой кровати и долго таращился на мозаику из ценных пород дерева, покрывавшую стены гостиничного номера. Номер был люкс, для самого высокого начальства (редко теперь здесь бывавшего), как, впрочем, и вся эта гостиница в сибирском городке Стрешневске, где зима уже наступила, не считаясь с тем, что на дворе только начало осени, а отопление еще, естественно, не фурыкало.
Здесь, вероятно, полезным было бы авторское (в более высоких жанрах его именуют лирическим) отступление, которое позволило бы нам сразу поставить точки над i и над е, как того требуют правила реалистической, а не какой-нибудь там модернистской литературы, заполонившей ныне самиздат, тамиздат и даже проникающей порою в наш отечественной госиздат, куда, казалось бы, и вообще проникнуть невозможно. Отступление это объяснило бы раздраженный и даже критический тон, в который с первых строк впадают как автор, так и его герой, московский журналист и даже отчасти беллетрист (невеликая, впрочем, птица на столичном-то горизонте) Григорий Краковец. Ведь, казалось бы, чего не жить – бодрое сибирское утро, морозец, гостиница из мореного дуба, а номер тебе – люкс, почет и уважение, встань, умойся ледяною водою, выйди на хрустящий снежок, а то и просто дошаркай по коридорным коврам до спецбуфета (тут, впрочем, нет полной уверенности, что открыт, потому что не ждали – как у художника Репина) и – вперед! Познавай жизнь, вторгайся в нее холодным оружием печати, поддержи хилые ростки нового, рази пережитки старого, которое мешает нам жить, корчуй его могучие заросли… Так нет же, не хочет – все то же, уже надоевшее брюзжание, недооценка перестройки, переоценка перегибов, и недостатков, и недостач – в этом оба они, как в капле воды, и автор, и его герой, типичные русские советские интеллигенты; впрочем, и это ведь не совсем точно, и это самоназвание: любитель-специалист по национальному вопросу не признал бы за ними ни первого, ни второго, ни третьего, да и профессионалы усомнились бы, но уже, конечно, по заполнении соответствующих анкет. Во-первых (и это для обеих категорий специалистов важно), впрямь ли русский? И что такое стопроцентный русский? Это только американцы отчего-то бывают стопроцентными. Сто ли там процентов русской крови? Пятьдесят ли? Двадцать ли пять? Конечно, примеси крови в нашей терпимой России никогда не считались предосудительными, хоть бы и татарская, как у Романовых, или (у них же) немецкая, или французская, или итальянская, или черкесская, или португальская. Но только не эта, ради бога. Точней даже – ради Бога, и описка тут не случайная, выдает новомодное, на скорую руку крещение автора, где-нибудь на углу Пятницкой и улицы Бахрушина. Во-вторых, интеллигент ли вообще? Вряд ли. Да известно ли ему самому (автору или герою), что́ есть интеллигент? Тут-то и выясняется, что образованщина. Да и насчет советского тоже надо еще посмотреть (хотя уже с другой стороны). Ведь если содержится хоть какая ни то антисоветчина, то можно ли такого человека назвать с полным основанием советским? С другой стороны, отчего бы и нет? Со всяким может случиться – у кого ж ее не закрадывалось? Да ведь и критерии так быстро меняются, сегодня – анти, а завтра, глядишь, – можно… А все же есть чутье, и есть чуткие люди, обладающие этим чутьем, они-то и скажут, придет время. Впрочем, эту последнюю часть триады (насчет советского) мы все же признаем за своим героем, хотя бы условно, а то рассказ наш с места не сдвинется, а реалистический рассказ, он должен двигаться, иначе что ж это будет – стихотворение в прозе. Не потянем. Эссе? Трудно даже сказать, что это такое, эссе, ясно только, что автор этого не хотел…
Итак, журналист Краковец мерз в этой своей полутораспальной дубовой кровати и с неодобрением разглядывал драгоценные стены начальственной гостиницы. «Такая с-ань, – думал он. – Такая ср-нь! Миллион ухлопали в этой с-ани на гостиницу для начальства, а теперь, видишь, не топят…»
Не то чтобы Краковец не одобрял того факта, что ему оказан был здесь столь начальственный почет. Или чтоб он был там какой-нибудь сторонник всеобщего равенства. Напротив. Как нормального советского человека его обижала всякого рода уравниловка, и он не потерпел бы, если б ему пришлось стоять в аэропорту в очереди или ночевать в холле гостиницы. А все же и социальное неравенство его тоже слегка коробило, так как он взращен был родною литературой на светлых идеях равенства и братства – вот, мол, парадный подъезд, и труд этот, Ваня, был страшно громаден. Строго говоря, он понимал, что и Н. А. Некрасов не мок сам у подъезда и не вкалывал на общих работах на железнодорожном строительстве где-нибудь на БАМе, а тоже, как известно, питался шампанским, закусывал икрой и снимал стресс при помощи грудастых француженок, которые хотя чаще всего и страшненькие, а все же дают ощущение уровня, потому что отдаются не задаром. Так что при всех своих слабостях имел наш герой Краковец эту остроту социальной чувствительности и эгалитарного неприятия привилегий, хотя, скажем честно, на собственном его творчестве это никак пока не отразилось, потому что творчество, оно, как ни крути, определяется все же спросом и предложением, а «Парадный подъезд» ему еще никто не предлагал написать (Некрасов его тоже, между прочим, не в стол настрочил, самый был тогда спрос на такую тематику)…
Спасаясь от холода под одеялом, Краковец припоминал, как его угораздило попасть в эту постель (тут у нас дальше идет художественный прием, который называется «ретроспекция», – он, конечно, давно устарел в искусстве кино, но в настоящей литературе все вечно). Московский журнал, имевший в последнем квартале неизрасходованные командировочные средства, а заодно и не охваченные творчеством районы Сибири, предложил Краковцу слетать в Томскую область. «Деревянная архитектура, старик, с ума сойдешь, еще не всю пожгли…» Писать надо было, впрочем, не про архитектуру, а про какого-нибудь передового труженика, скажем рабочего-строителя, но не так писать, чтоб там просто бетон или план, а чтоб наш человек был виден, как у нас теперь говорится, человеческий фактор. Что это означает, редактор, кажется, сам пока еще не понял, потому что термин был сравнительно новый, из беспокойных времен перестройки и гласности, когда всем ясно стало, что с безгласностью уже пора, наверное, кончать, а вот что делать дальше – еще не слишком понятно.
Вооруженный удостоверением и авансом, опережаемый также казенною телеграммой, Краковец прилетел в областной сибирский город Томск, где стал держать совет с местными коллегами – о том, как бы это ему получше посмотреть Сибирь. Хотя Краковец всю жизнь безвыездно прожил в России и немало по ней ездил, он все еще не терял надежды досконально изучить эту необъятную, как говорится, от моря до моря (да чего там два моря, когда сухопутная, в сущности, Москва-матушка и то порт пяти морей) страну.
Сибирские коллеги пришли в страшное возбуждение и стали советовать ему наперебой всякие кипучие захолустья, где еще буквально вчера ничего не было, а нынче – о-го-го, чего там только нет сегодня! Хотя, впрочем, многого, конечно, еще нет… Что же касается человеческого фактора, то и фактор, конечно, тоже встречается, как же без фактора? Чаще других мест коллеги называли городок Стрешневск, и при этом названии глаза у них туманились: «О, Стрешневск…» Правда, они тут же оговаривались, как бы извиняясь, что трасса нефтепровода уже ушла из Стрешневска, так что теперь центр внимания переместился в соседнюю область, но все же там и сегодня еще, в этом Стрешневске, кипят дела и разные свершения, в частности, жилищное строительство идет развернутым ходом, есть одна дивчина на кране, и так далее. И глушь такая, братец ты мой, такая даль, что пешком не дойдешь и на машине не доедешь (дороги туда нет), а только вот по воздуху… И Краковец полетел, так и не успев в суматохе взглянуть на уцелевшие деревянные домики с резьбой, спрятанные где-то за панельными пятиэтажками областного центра. Он до тошноты долго летел на маленьком самолетике (болтало изрядно), внизу рыжел лес, темнели болота, лес и болота, болота и лес, без конца и краю, и двести, и триста, и четыреста, и больше километров – ни тебе жилья, ни людей. Конечно, если бы не болтало так сильно и не тошнило, то можно было бы изумиться (верней, нельзя было бы не изумиться) необычайному простору и богатству этой бескрайней, необихоженной земли или (при соответствующем критическом настрое) удивиться такой ее неухоженности. Под вечер наконец они долетели все же до этого самого Стрешневска, где Краковец был встречен молодым толстым мужчиной из местного горкома, имевшим в своем распоряжении машину для встречи гостя. По дороге в гостиницу Краковца болтало и тошнило, точно он все еще был в самолетике, и лишь однажды, когда ему полегчало, здоровое любопытство заставило его взглянуть в окно. Увидел он, впрочем, блочные пятиэтажки, точь-в-точь как в областном центре, может, чуть погрязнее – и тошнота вернулась.
Улыбчивый толстяк из горкома, перехватив его взгляд, откликнулся бодро:
– То-то. Растет и хорошеет. Завтра оклемаетесь – все поглядим, по большому счету…
– Я для того, собственно… – пробормотал Краковец.
Он хотел сказать, что затем он и ехал в такую даль, чтоб все в подробностях, и так далее, но новый позыв к рвоте заставил его умолкнуть.
– Ничего, – сказал толстый провожатый, благоразумно отодвигаясь от гостя. – Время еще будет поглядеть. Так что я в вашем распоряжении. День и ночь…
Ночь он кое-как перебедовал. Пришло утро, может, и день уже наступил, а толстого что-то не видно. Надо вставать, умываться, бриться и отправляться на поиски завтрака…
Не известно, сколько времени Краковец предавался бы еще этим мыслям, дрожа под казенным одеялом, если бы телефон не зазвонил в конце концов на громадном письменном столе (как же начальству без стола?). Краковец подбежал босиком по холодному полу, схватил трубку и услышал бодрый голос вчерашнего толстяка.
– Ничего, не спешите, – сказал он. – Одевайтесь пока, а я тут насчет буфета хлопочу. Буфетчицу уже вызвали.
– Р-разумно… – бормотал Краковец, одной рукой натягивая штаны и стуча при этом зубами. – Г-гуманно…
О, бр-р-р. Сам-то небось уже поел – поспал в теплой супружеской постели, позавтракал, теперь звонит…
Краковец ополоснул лицо под краном и, натянув на себя теплую рубаху, свитер и куртку, спешно покинул номер. Больше натянуть на себя ему было нечего – кто ж его знал, что тут зима в начале сентября.
Толстый мужчина по имени Валерий повел его в буфет.
– Пришла. Злая, как черт, – сообщил он доверительно про буфетчицу. – Она у нас вообще-то спецбуфет обслуживает, на самом что ни на есть верху, а тут ей сейчас выгоды нет, одно совместительство. Там-то у нее, где тузы, там копченая колбаска бывает, и все такое, так что с ней не очень-то будешь…
Плотная бабенка со следами былой миловидности на отчаянно наглом лице и не скрывала своего раздражения. Валерий было сунулся к ней в кухоньку справиться насчет меню, но она вполне развязно шуганула его оттуда, – видать, она и впрямь проводила свои дни где-то там, в самых верхах, и даже эти верхи, может, сильно от нее в чем-то зависели. В буфетном зале было так холодно, что Краковец (ему-то что за страх, человек приезжий, из центра!) дерзнул втереться в кухоньку, поближе к электроплитке. Здесь он впервые в жизни наблюдал процесс приготовления столовского кофе (чай по причине его низкой цены теперь и в рядовых столовых редко держат): в маленькую кастрюльку буфетчица бросила две ложечки растворимого кофе из баночки и поставила кастрюльку на огонь.
– Кипит! – сообщил Краковец, стараясь, впрочем, быть любезным и ненавязчивым. Он протянул чистый стакан: – Можно самообслужиться?
– Да? – сказала буфетчица, глядя на него с усмешкой.
Это было замечательное «да?». Точно он попросил у нее довоенную воблу или блины с икрой. Да он вскоре и сам убедился, как глубока была пропасть его наивности: буфетчица вылила черную жижицу из кастрюльки в десятилитровое ведро, где были смешаны вода, сахар и молочный порошок, после чего традиционная кофе-какала была готова к употреблению.
Краковец брезгливо отверг прошлогодние яйца и летнего завоза кефир, выбрав к кофе окаменелую булочку.
– Идите в зал, сама обслужу, – сказала буфетчица. Она вдруг вызывающе качнула задом, и Краковец смог понять, что это сексуально активная единица, что она еще, вероятно, обслуживает кого-нибудь там, в этих влиятельных верхах, и чем-то иным, хотя, конечно, и менее ценным, чем копченая колбаса, а все же пока имеющим спрос (в определенной, конечно, обстановке, под элитарную выпивку и ту же колбаску – ах, как прекрасна, должно быть, жизнь в высоких, а также еще более высоких сферах!). Зазывно качнувшийся зад этой спецбуфетной сексуальной единицы засвидетельствовал, что и он, Краковец, тоже размещается где-то там, не на самом социально-сексуальном низу нашего общества, хотя и не вполне еще ясно, чего от него можно ждать женщине. «Ничего ты, мордатая курва, не дождешься, – очень невежливо подумал он про себя. – Ни водяры тебе не будет, ни шампусика, ни продвижения по службе, ни задвижения на службе… Пусть тебе начальство задвинет».
Он молча удалился за массивный дубовый столик (на сей раз дуб был отчего-то без инкрустаций) и демократически поделился с толстым Валерой своими мыслями (не всеми, конечно, ибо Валерин должностной демократизм еще не казался ему совершенно надежным):
– Разбойница, а? Просто Дикий Запад. Правильно нам партия говорит: здесь ищите своих героев, в самой так сказать, гуще. Вот они, наши гангстеры, наши вестерны и салуны. Такая задушит – и не пикнешь… Впрочем, – добавил он осторожно, – и то очевидно, что не всякий герой годится нам на первом этапе гласности…
– Это точно, – сказал Валерий. Он был унижен буфетчицей, давшей ему понять, что он пока не Бог весть какой начальник и что таких-то, как он, грибков она бочками маринует.
Склонившись к Краковцу, Валерий сказал доверительно:
– Ее, кажись, сам тянет.
Краковец кивнул с большой серьезностью, хоть и не вполне понял, кто такой был «сам» и какова была степень его самовитости: то ли это был первый секретарь, то ли всемогущий начальник нефти, то ли шеф жилпромстроя. Видимо, он все же занимал какое-нибудь достойное место, отчего и был «сам». То есть «сам» он был именно вследствие сочетания с этим местом, ибо сам по себе он был, вероятно, никто и ничто – и будет никем снова, как только его с этого места снимут. Хотя всего он все же, наверно, не потеряет, не дадут ему все потерять, совсем потеряться, раз уж добрался он до самого спецбуфетного верха…
После завтрака Валерий повез гостя на стройку жилмассива.
– Все понято, – сказал Валерий, выслушав дорогой смутные пожелания Краковца насчет человеческого фактора. – Вам Валентина нужна. У нее все показатели, буквально, – и выполнение, и авторитет, и даже где-то личность…
– Это хорошо, – сказал Краковец. – Последнее. Насчет личности.
– Увидите! Будка – во!
Они высадились из машины среди холмов строительного мусора. Хотя и строительный, он был все же мусор, уже изрядно, впрочем, перемешанный с нетающим снегом. И ветер при этом дул просто ледяной. «Сентябрь, падло, называется», – уныло думал Краковец. Ежась на ветру, он размышлял, отчего он так ненавидит стройки. Может, оттого, что имел несчастье родиться в период развернутого строительства, прожил свою жизнь под грохот строек и никогда уже, наверно, не увидит ничего достроенного…
Он оглянулся. Валерий за его спиной ковырял ботинком кучу строительных отходов.
– Вполне приличные доски попадаются, – сказал он. – А мне вот так нужна доска для балкона. Надо будет обговорить… Вообще стройка, я вам скажу… – Валерий прищурился руководяще. – Это ведь золотое дно, кто понимает.
«Вот и еще один взгляд на развернутое строительство, – подумал Краковец уважительно. – И он ведь прав, мой гид: под стройку что хошь можно списать и что угодно для себя самого построить. Построенное-то, оно, конечно, всегда ниже наших ожиданий, зато сам процесс строительства…»
Краковец вспомнил, как он снимал однажды дачу под Гагрой у скромного строителя пицундского комплекса. Человечек этот был простым диспетчером на знаменитой пицундской стройке, под каковое строительство (и каковое диспетчерство) он для себя лично построил пятнадцать дач, все как есть из краденого материала. Строительным организациям курорт обошелся, конечно, дороговато, да и диспетчера в конце концов все-таки посадили, но сидел он совсем недолго: на сокращение сроков отсидки у него были особо отложены деньги… Глядя на Краковца, безнадежно терзающего в приморском саду пишущую машинку, славный пицундский строитель останавливался иногда перед сочинителем, точно хотел сообщить ему что-то очень важное. И Краковцу казалось, что он даже понимает, что́ хочет сказать ему удачливый строитель: «Кончай, друг, строчить эту хреновину. Вот он, стоит перед тобою, настоящий герой наших дней, настоящий мужчина, настоящий Давид-строитель… Что с того, что построил он частные дачи, а не уродливые бетонные башни? (Ты-то что, предпочитаешь казенные частным?) Но ведь построил. Своими руками. Деньги, во всяком случае, украл своими руками, а уж строили, конечно, работяги. Но не бесплатно строили – всем дал хорошо заработать, расплатился за все. И ничего не боялся – кто смел, тот и съел. Теперь он один живет по-княжески среди этой голи. Ну, а ты? Про что ты строчишь с утра до вечера? Про кого?..»
– Вот и она, – сказал Валерий, – наша Валентина. Прошу любить и жаловать…
– Любить нас некому, – отозвалась Валентина грубым, почти что мужским голосом.
Она была крупная, плечистая, скуластая, но лицо у нее было не без приятности, скорей, впрочем, мужское, чем женское лицо.
– И писать о нас нечего… План мы даем, конечно… Когда матерьял подвозят.
– А когда не подвозят?
Она усмехнулась. Рот у нее был хороший, выразительный, только над верхней губой чуток желтело, наверно, от курева.
– Когда не подвозят, тоже даем.
Краковец ей улыбнулся, он ее понял: если надо – припишем, не дадим работягам бесплатно вкалывать. Кто план составляет, тоже не дурак: знает, что и план можно обойти, потому что планы все эти с потолка. С того самого кривого потолка, который они здесь еще не белили, но уже сдали и оплатить заставили. Который скоро потрескается, так что все равно пойдет в доделки.
– Что ж это за е… – Она воздержалась. – Ветер, гляди, так и содит. Пойдемте к нам, чего на ветру стоять?
– В прорабскую?
– В прорабской у нас чего, только эти вымораживать, как их… – Она опять воздержалась от точного слова, учитывая присутствие Краковца. Судя по всему, приучена была к деликатному обхождению с визитерами. – Где малярные работы, там у нас электропечка есть, тэн, чтоб скорей сохло, вот там потеплей будет.
В «секции», а по-московски – квартире, где сейчас работали маляры, было и впрямь тепло от раскаленной проволоки, натянутой на какую-то раскоряку. Работали девушки. Одна из них разделась до маечки, и это создавало в комнатке почти пляжную атмосферу. («Есть же на свете края, где в сентябре еще светит солнце и люди голые купаются, где фрукты на деревьях, где птицы верещат, шустрят ящерицы…» – безутешно думал Краковец). Прочие девушки были в заляпанных комбинезонах, в платочках, но все же без сапог и телогреек. Одна из них, такая щупленькая и хрупкая, это даже под комбинезоном угадывалось, не оглянувшись на них, продолжала с упорством красить оконную раму, и не понять было – то ли с увлеченностью, то ли обреченно. Краковец остановился у нее за спиной, и тут же рядом оказалась бригадирша Валя. Девушка продолжала красить, не оглядываясь, но вся поза ее теперь выражала внимание и неловкость.
«С детства она любила живопись… – уныло придумывал про себя Краковец, не умел он вдохновляться созерцанием трудовых процессов. – Любила покрывать белую поверхность холста краской. Она нашла свое место в коллективе маляров…»
– Вот… – сказала бригадир Валентина. – Наши труженицы. На сто процентов выполняют и даже на сто три. Зиночка в диспетчерской на «Нефтестрое» трудилась, а когда ушла трасса, тут осталась… по болезни. Стала у нас. И ничего – справляется. Повышает над собой уровень… Верно я говорю?
Девушка обернулась. На Краковца она даже не взглянула, смотрела на бригадиршу с почтительным обожанием. Глаза у нее были огромные, личико синюшное.
– Цифры я вам заготовил, – скачал Валерий. – Побригадно, поименно и поквартально…
– А как вообще жизнь? – спросил Краковец. – Ну, скажем, после работы. Так сказать, личная.
– Есть! Как же! – отозвалась Валентина. – Проводят досуг свободного времени.
– В клубе?
– Можно и в клуб, если, скажем, хорошая картина. В общаге у нас в ленинской комнате телевизор. Если не холодно – летом, к примеру, – то можно в лес.
– Книги читаете?
– Непременно. Бывает.
Худенькая девушка молчала. Остальные с любопытством поглядывали на приезжего. Бригадирша Валентина была настороженно немногословна, и Краковцом овладело настоящее отчаянье. Он люто ненавидел все эти бесполезные интервью, это истязание ни в чем не повинных людей, которые мучительно припоминают какие-нибудь слова, те самые, что они видели в газете и слышали по радио: не говорить же, в самом деле, откровенно с чужим человеком (еще и в присутствии какого-то хмыря из горкома).
Валерий положил конец этой тягомотине.
– Ну, мы тут еще осмотримся, – сказал он. – Трудитесь, девочки, на благо. Народ ждет жилья. А мы, если понадобится, можем еще и к вам зайти в общагу, поглядим, как живете-можете. Завтра вот, к примеру, у нас суббота…
– Это можно, – кивнул Краковец. – А можно?
– Отчего же нельзя, – сказал Валерий. – Дома будете?
– Куда ж мы денемся? – отозвалась Валентина, без особого, впрочем, гостеприимства. – Если чего надо…
Они вышли.
– Хотите еще смотреть? – спросил Валерий на ледяном ветру. – А то можно в нашу столовую, пока еще очереди нет. Самый обед…
– Да, пожалуй, можно и на обед, – согласился Краковец.
– Я тоже так думаю… После обеда еще в промышленный отдел зайдем, там у нас сильный работник. У него как на ладони все показатели.
– Пожалуй…
Краковец подумал, что он так и не научился интервьюировать. Он засыпал в самый разгар интервью. То, что люди говорили для органов печати, редко бывало интересным. Говорили то самое, что им уже приходилось читать в этих органах. И чем лучше была у них память, тем ближе они воспроизводили это, уже тысячу раз сказанное или написанное. Инстинкт самосохранения (а выживали на протяжении семидесяти лет лишь те, у кого инстинкт этот срабатывал безотказно) подсказывал им держаться как можно дальше от точных деталей и личных мнений (чтоб не расколоться, чтоб никого не выдать, не заложить). «Я, как и все труженики нашего коллектива», – говорили они. Или еще шире: «Я, как и весь советский народ… Откликаясь на последние решения…» Именно на последние, потому что предпоследние могли быть уже похерены.
И вот тут незадачливый репортер Краковец, уже многие годы страдавший бессонницей, вдруг обретал долгожданную и неуместную сонливость И самое удивительное, что никто не будил его, не попрекал невнимательностью, не стыдил. «Да-да, я вас слушаю, – говорил он, проснувшись, и отирал с губы сладкую слюну. – Все это очень интересно. Ну, а товарищи? Ваши товарищи? Наши товарищи? Правильным путем идете, товарищи…»
Сегодня вдобавок пришлось слушать всю эту цифровую херню после обеда, так что он заснул почти сразу, сжимая в руке блокнот, а проснувшись по прошествии Бог знает сколь долгого времени, снова услышал несмолкающий голос крепкого работника из промышленного отдела:
– Можно было бы привести еще несколько цифр побригадно, а также по линии соцсоревнования…
«Запихни ты их себе в ж…» – подумал Краковец и тут же испуганно открыл глаза. Ему показалось, что он произнес вслух эту недостаточно почтительную фразу. Нет, похоже, не произнес: крепкий работник деловито перебирал бумаги и прокашливал голос, собираясь зачитать новые цифры. Валерий, пристроившись сбоку, кажется, тоже дремал, но глаза держал открытыми и даже ухитрялся изображать на лице сосредоточенное внимание.
«Вечер… – испуганно подумал Краковец, увидев сумерки за окном. – Что я буду тут делать вечером? Черти меня понесли сюда. Уж лететь, так куда-нибудь в горы. Или к морю… Только в сентябре они черта с два пошлют тебя к морю, штатные сотрудники сами ездят… На свои надо ездить в сентябре, на свои кровные…»
После горкома он с полчаса поскучал над блокнотом за начальственным столом, украшающим обширный люкс, потом вздремнул часок и отправился в рабочий клуб. Он надеялся найти там что-нибудь по части человеческого фактора. Идеально было бы встретить, например, эту щупленькую маляршу в студии живописи. А плечистую бригадиршу – где-нибудь в кружке политучебы или в секции самбо.
В клубе было, однако, весьма уныло. В дальней комнате какие-то парни робко терзали джазовые инструменты, и страшно было подумать, что в один прекрасный день они заиграют на всю катушку. Внизу дюжина пионеров разучивала народный танец. Похоже, что эстонский…
Начался киносеанс. Титры возвестили комедию, фильм был мучительно нудный, глупый и нисколечко не смешной.
«Ну что ж… – утешал себя Краковец, выходя из зала в скорее унылой, чем разочарованной толпе зрителей. – Смешно сделать трудно. Смешно как жизнь… На это нужен особый талант, а где его найдешь, особый?»
Краковец втайне надеялся, что он-то как раз и обладает этим особым талантом, а также несравненным чувством комического, которое вырвется однажды из подполья и поразит, рассмешит, обрадует русскую публику, которой так нужны свои Щедрины и Гоголи, свои Джонатаны Свифты крупного дарования. А пока…
Пока он с безнадежностью брел в привилегированную гостиницу, не представляя, чем станет занимать себя целый вечер, если ему не удастся уснуть. Может, сесть за огромный начальственный стол и написать что-нибудь по-настоящему смешное? Сомнительно, впрочем, что это удастся ему именно здесь. Скорей уж удастся уснуть…
В вестибюле гостиницы он увидел Валерия.
– Что-нибудь случилось? – спросил Краковец, потому что они условились встретиться лишь в субботу утром.
– Нет, ничего… Просто Валера мне говорит…
– Валера?
– Валерия. Жена. Мы с ней, как Валентин и Валентина. Оба Валерии… Говорит, пойди, спроси, все же человек один в городе, может, придет к нам на ужин. Все же в домашней обстановке, не столовское ж, говорит, говно… Если у вас, конечно, каких-нибудь важных дел…
– Важных нет, – радостно сказал Краковец, несколько даже стесняясь, что он так обрадовался. – Дел у меня больше нет. Ну, хотел, впрочем, записать кое-какие мысли, однако это ведь дело неспешное. Так сказать, нетленка.
– Оно конечно, – сказал Валерий, не стараясь вникать в чужеродное слово. – Может, тогда прямо и двинемся, потому как, честно говоря, они нас уже давно ждут. Я вас не застал…
– Что ж, идем, – сказал Краковец. – Я пойду как есть, переодеваться не буду…
Он шел вслед за Валерием, размышляя, зачем он сказал насчет переодевания, если переодеваться ему не во что, и так уже все на себя напялил, что было в сумке. И еще – зачем он идет?
Ну а почему ему, собственно, к ним не пойти? Деться ему все равно некуда, хоть вой. А так хоть можно посидеть. И наверно, съесть что-нибудь удастся. А то ведь скоро снова захочется есть…
Валерий занимал с женой и ребенком однокомнатную квартиру в блочной пятиэтажке того самого типа, что в городах более старых, чем Стрешневск, называли хрущобами. Комнатка была одна, но зато балкон был так солидно обшит досками, что там тоже можно было спать до наступления настоящих холодов. В крошечной прихожей Валерий представил Краковцу свою молодую жену, а также (и это было приятной неожиданностью) ее подругу Свету, которая работала в городской библиотеке и забрела в тот вечер к супругам на огонек, специально чтоб познакомиться со столичным журналистом-писателем (то есть, значит, с ним, с Краковцом).
– Мы уж вас заждались, – сказала Валерия. – Картошку вон под подушку спрятали, чтоб не остыла.
– Так оно и вкусней, – демократично сказал Краковец. И подумал, что это все, в сущности, мило с их стороны – и картошка, и подруга, и вообще – не бросить человека одного, хотя бы это даже и входило отчасти в его, Валерия, обязанности как гида. Перед картошкой с маслом и селедочкой (Краковец вполне оценил широту гостеприимства, потому что и масло, и селедочку еще надо достать в любом нестоличном городке) они выпили по рюмке водки за знакомство, и атмосфера стала вовсе непринужденная. Вслед за Валерием Краковец вышел на балкон, куда хозяин вывел трубы водяного отопления и где вследствие этого мог теперь спокойно спать его первенец Олег, двух лет от роду, нисколько не потревоженный шумом пиршества. Выразив свое восхищение размерами и качеством младенца, Краковец вернулся за стол, где сразу завязалась культурная беседа. Библиотекарша Света, преодолев первоначальное смущение, спросила Краковца, что сейчас нового происходит в литературной жизни и видел ли он когда-нибудь лично известного писателя Пикуля. Краковец честно признался, что писателя Пикуля он видел только издали, зато ему посчастливилось дважды лично беседовать с известным писателем Есиным, который имеет вид очень спортивный для своих лет и успевает активно работать как в литературе, так и в парткоме писателей. Кроме того, Краковец регулярно стригся у того же самого парикмахера Феди, что и поэт Пляцковский, автор замечательной песни «Дружба начинается с улыбки».
– «Крутится голубой вагон» тоже его, – добавила Света, которая раньше была детработником и потому хорошо знала творчество М. Пляцковского.
– Вот видите, – ободряюще сказал Краковец. – Вы тут лучше нас следите за литературой А я только и знаю его парикмахера.
После третьей рюмки Валерий доверительно поделился с Краковцом своими планами на будущее, потому что человек ведь не может жить без планов, просто так – как трава растет, иначе происходят застой и отставание, а Валерий с женой (которая была на хорошем счету в исполкоме), как люди оба молодые, передовые и симпатичные, думали о будущем.
– Теперь наступило время для энергичных и молодых, – сказал Валерий. – Я мог бы, конечно, в обкоме зацепиться, но там бы я век проторчал в инструкторах. А тут я уже завотделом, от завотдела до секретаря – один шаг, и в область я уже вернусь на коне… К тому же секцию в новом доме мне тут сразу дали, а в областном центре не скоро дождешься. А нас все же трое…
Краковец закусывал, уступая гостеприимным приглашениям хозяйки, и кивком соглашался с ее мужем, что это, конечно, было правильное решение – начинать жизнь с самого начала, не боясь трудностей.
– Как Максим Горький, – сказала Света, и Краковец философски подумал, что эта милая провинциальная девушка все время живет мыслями в мире литературы.
– Конечно, это был решительный шаг – из центра уехать, – продолжал Валерий. – Это каждый понимает. Вы видели, как спецбуфетчица с нами? Потому что она знает, кто за кем и как. Но в чем она заблуждается, так это в том, что думает, будто знает обстановку и дух времени: сегодня и не такие тузы летят, а места их не могут простаивать, это факт.
– Между прочим, можно поставить Аллу Пугачеву, – сказала Валерия. – Хотя я не знаю… Может, теперь уже другие в моде.
– У одного нашего читателя есть пластинка «Аквариум», – тихо сказала Света. – Поэт Андрей Вознесенский писал, что это просто замечательная поэзия. А что сейчас пишет Андрей Вознесенский?
Краковец понял, что вопрос этот может относиться только к нему, хотя Света и не смотрела на него, а смотрела в свою селедку. Краковец перестал закусывать и сказал, что поэт Вознесенский поехал сейчас за границу, где он набирается новых впечатлений. Он не знал точно, поехал ли сейчас Вознесенский за границу или, наоборот, только что вернулся оттуда, но он знал, что может сказать так, не совершая большой ошибки. Сообщение его произвело на всех серьезное впечатление, хотя, конечно, и не было ничего особенного в том, что человек куда-то поехал.
– У нас тоже была путевка через «Спутник», – сказала Валерия. – В Румынию. Но нам еще надо сперва шифоньер брать, а потом уж про заграницу думать…
– Я была в Народной Болгарии, – сказала Света. – Нас принимали очень хорошо. Но не так дружелюбно, как мы ждали.
– Как волка ни корми… – сказала Валерия.
– Ты бы, голубушка, в Эстонию съездила, – сказал Валерий. – Тебя бы еще не так приняли. – Он обернулся к Краковцу. – Мы там были на союзном семинаре, так, поверите, ты им русским языком что-нибудь говоришь, а они морду воротят.
– Да, много у нас еще недостатков, – вздохнула Валерия.
– Вернее сказать, пережитков в сознании, – уточнил Валерий.
Краковец хотел сказать, что это отрыжка прошлого, но подумал, что это нехорошо прозвучит за столом. В общем они славно посидели, и Валерий это сам подытожил, когда они уже прощались у двери, – что у нас так, в нашей стране, стучи в любую дверь, так сказать, сумка, полная сердец. Валерий был уже сильно раздет по причине хорошего отопления в квартире, и Краковец стал уговаривать его не провожать, на что Валерий легко соглашался.
– Свету провожу сам, – сказал Краковец, почти что твердо шагнув к двери.
– Ну да, ну да. Дорогу Света покажет, она там рядом живет. Тем более третий лишний.
Жена шлепнула Валерия по спине, чтоб не болтал лишнего, и закрыла за ними дверь.
Краковцу пришлось, впрочем, не только взять Свету под руку, как того требовал джентльменский долг, но и опираться на нее по необходимости, потому что несовершенная дорога таила немало опасностей, к тому же в условиях недостаточного освещения. Света благополучно довела Краковца до его гостиницы, и тогда он в свою очередь вызвался проводить ее до блочного дома, где она занимала однокомнатную квартиру пополам с другой работницей отдела культуры. Дорогой они делились впечатлениями о том, какие симпатичные люди Валерий и его жена Валерия.
– Мы с ними вместе кончали пединститут, – сказала Света, – и тоже дружили. Раньше, конечно, Валера больше увлекалась литературой, а теперь уж, конечно, увлекается бытом, и вообще раз семья, что поделаешь…
Краковец согласился с тем, что семья, конечно, отнимает время, однако не сообщил при этом никаких сведений о своем семейном положении, которое, впрочем, ему и самому представлялось пока не вполне ясным. Возле Светиного дома они стали обстоятельно и долго прощаться, благодаря друг друга за приятно проведенный вечер, и даже зашли в подъезд, чтобы спрятаться от морозного ветра, потому что оба уже продрогли. Света извинилась, что она даже не может пригласить Краковца на чашечку кофе, потому что у них с подругой, с которой они жили вдвоем в однокомнатной квартире, так было заведено, что можно или остаться дома, по очереди, или уйти, освободив на вечер помещение, так что сегодня уж оставалась подруга и зайти было не совсем удобно, мало чего.
– Зато насчет завтрашнего дня я уже с ней договорилась, так что завтра я могу вас пригласить, если, конечно, у вас есть время и желание… – сказала Света. Она вгляделась в темноту лестницы и воскликнула радостно: – А вот как раз и свободно.
Они поднялись еще на полтора этажа и встали в уголке на площадке возле батареи водяного отопления, где было тепло, хотя и не было света, потому что лампочка не горела.
– Тут у нас бывает всегда занято, – объяснила Света, – а сегодня – счастливый случай.
Краковец помог Свете расстегнуться и обнял ее под пальто и под кофточкой. Он отметил, что она гладкая и мягкая, и она рада была его наблюдательности.
– У меня кожа очень нежная, – признала она с достоинством.
Обнимая ее, Краковец думал про свою судьбу бродяги, флибустьера, а также авантюриста, которого забросило в такой вот дальний угол страны, куда-то на темную лестницу, где тоже, как выясняется, живут наши добрые, гладкие и нежные советские люди, и ничего себе, живут не скучают, следят за процессами родной литературы. Конечно, им не всегда легко здесь оставаться на уровне, потому что книги, как толково объяснила ему Света в перерыве между их поцелуями, поступают с большими перебоями даже в библиотеки, так как их разбирают знающие люди еще в бибколлекторах и даже еще в книготорге. Однако оба они согласились, что это как раз и свидетельствует о большом интересе нашего народа к чтению, а также к собиранию книг, но что, конечно, уже не за горами тот день, когда наш народ справится с недостатком бумаги и с другими недостатками и тогда уж книг будет хватать всем. Так они порассуждали еще часа два или три, обнимая друг друга в промежутках, и оба они очень сильно разогрелись при этом. Однако дальше разогреваться им было уж некуда, потому что в доме, несмотря на поздний час, многие жильцы не спали, а некоторые даже пели громкими голосами в одиночку или хором различные песни на слова советских поэтов, а иногда также и классику, например «Хасбулат удалой», так что в любую минуту мог кто-нибудь выйти из двери, и хороши б они были тогда оба, Света как городской работник культуры, а Краковец и того хуже… Так что в конце концов им пришлось расстаться, и Краковец заснул у себя в холодном номере с чувством морального неудовлетворения собой, которое сохранялось до самого утра и которому Краковец, уже проснувшись, однако не желая еще выбираться на холод из-под чахлого одеяла, пытался немедленно отыскать причину, ибо и без знания фрейдизма известно, что, коль скоро такая причина найдена, можно будет счесть ее малозначительной и недостойной рефлексии (чаще всего она ведь именно такой и бывает, ибо всякий человек имеет право быть доволен собой или на худой конец прощать себе какие-нибудь недостатки, если только, конечно, это психически уравновешенный человек, который трудится на благо общества и семьи). Вначале Краковцу показалось, что его могло что-нибудь расстроить в их вчерашней культурной беседе. Например, упоминание литераторов, которые жили в одном с Краковцом городе, однако достигли такой вот всесоюзной, от Москвы до самых до окраин, известности. Однако это соображение Краковец отверг и даже попутно успокоил себя, вызвав в памяти, каким причудливым путем приходит слава, чаще всего незаслуженно, а также с большим опозданием. Позднее ему припомнились их трудовые планы на сегодняшний день, и тогда он понял, что ему просто-напросто неохота тащиться в общежитие строителей, где придется снова мучить вопросами этих ни в чем не повинных и замызганных девушек, из которых так трудно извлечь человеческий фактор. Однако они уже договорились об этом визите с Валерием, который должен был вот-вот объявиться, так что надо было все же вставать и одеваться. Удручаемый своим еще не изжитым ночным неудовольствием, Краковец вскочил, второпях напялил на себя всю наличную одежду и в ожиданье Валерия стал прохаживаться для согрева по коврам своего обширного номера. Очень хотелось горячего чая, но взять его было негде, а Валерий все не появлялся, так что Краковец в конце концов выскочил на заснеженную улицу и бегом добежал до «Гастронома», где уже выстроилась предварительная очередь за водкой, а в отделах безалкогольного питания имелись в наличии детская мука, ненадежные по части сроков бычки в томате, а также «завтрак туриста», заготовленный, скорей всего, еще в те далекие годы, когда и сам Краковец увлекался туризмом. Таков был гастрономический пейзаж в прославленном городке Стрешневске в десять утра в субботу, и, конечно, вид этих временных трудностей нисколько не удивил московского гостя, с детства не избалованного родною столицей, однако и настроение его этот пейзаж тоже, можно сказать, не поднял.
Выходя из магазина, Краковец нос к носу столкнулся с улыбчивым Валерием, который успел, наверно, неплохо закусить дома и даже побриться.
– Здесь нам ничего не обломится, – бодро сказал Валерий. – Но тут парень из орготдела нас на завтрак звал, там бы мы заодно и здоровье поправили…
При этом невинном напоминании о вчерашней выпивке Краковец и понял, что им было упущено в утренней попытке самоанализа – тяжелый психологический осадок местной, черт знает из каких сортов нефти приготовленной, водки. Воспоминание это только усилило сейчас раздражение, вследствие которого он ответил на предложение добродушного Валерия с несвойственной для него обычно этакой столичной надменностью:
– Звучит, конечно, заманчиво. Однако я все же не за этим сюда ехал. Мы, кажется, собрались в общежитие?
– Можно и в общагу, – сказал неунывающий Валерий. – Я туда, кстати, тоже просигнализировал, так что парни уже подсуетились с вечера.
Краковец никак не прореагировал на эту идиотическую информацию и угрюмо пошел рядом с Валерием, погруженный в свои собственные мысли. Он думал о том, что Валерий держится сегодня как-то слишком фамильярно и даже, можно сказать, панибратски, что, вероятно, явилось результатом его, Краковца, вчерашнего попустительства и совместной выпивки. Может, сам этот факт и не произвел бы на него столь тягостного впечатления, если б к этому не присовокупились жжение в организме и предстоящее интервью в общежитии. Эти две причины усиливали в Краковце недовольство собой и окружающей его действительностью, которая не то чтоб, конечно, была особенно соблазнительна, однако все же представляла собой не что иное, как реальность, данную нам в ощущении наших чувств (если верить ленинской теории отражения), в данном случае – реальность созревшего и вполне реального социализма.
Оторвав наконец взгляд от промерзлой, присыпанной первым снегом грунтовой дороги, Краковец увидел за домами огромное поле, заставленное миниатюрными белыми, а также зелеными вагончиками, снятыми с колес и отчасти уже погруженными в снег и мерзлую землю. Их было много, и они уходили вдаль, как выразился бы стилист более тонкий, чем автор этого скромного повествования, – насколько хватал глаз…
– Это еще что? – спросил Краковец тоном генерала, проводящего инспекторскую проверку (просто удивительно, откуда только всплывает столько генеральского в любом даже вполне приличном на вид и незначительном человеке, стоит ему очутиться хотя бы на подполковничьем уровне!).
– Обиталище, – отозвался еще не унывающий (однако все же слегка присмиревший) Валерий. – Так сказать, лежбище. Четвертый жилмассив.
– Это я непременно должен увидеть, – сказал Краковец твердо. В нем пробудился литератор и путешественник, грозный журналист, сеющий пером разумное, доброе, вечное в надежде на сердечное спасибо соотечественников, – все, как издавна повелось на Руси.
Валерий впервые за эти дни проявил признаки беспокойства. В конце концов, он затем и был приставлен к Краковцу, для того и терял время (не какое-то там, конечно, драгоценное или даже деньгам равноценное время, как у заокеанских рабов доллара, но все же личное время), чтобы этот московский хмырь не написал чего-нибудь не то со зла или сдуру. До нынешнего утра все шло как по писаному, и вдруг – нате вам, вожжа ему под хвост, что ли, попала. А может, Света ему вчера не дала, хотя это все же сомнительно, с чего бы?
– Ничего интересного, – засуетился Валерий. – Я вам все расскажу дорогой. Тем более что там завтрак уже, наверно, у ребят в комнате стынет.
– Вы завтракайте, а я… – сказал Краковец таким чужим и холодным тоном, как будто и не было у них вчера такого милого, почти семейного застолья, а также взаимного, казалось бы, понимания хороших людей. – Идите, мне так даже удобнее – одному. Дорогу я найду сам. Вон в тот барак, что ли?
– Да, вон тот, серый… – растерянно сказал Валерий, думая с обидой, что как-то нехорошо все получается, вот и слова полезли какие-то не те – барак, а не корпус общежития. Если честно говорить, он, конечно, барак и есть, а все же корпусом назвать как-то лучше, более по-людски, не говорил же вчера про столовую «тошниловка», жрал что дают, пил, а сегодня, видишь, – барак. И стоило вставать в такую рань в свою кровную субботу, чтоб потом так жидко обосра… В общем, не по-людски.
– Хорошо, – жалобно сказал Валерий, – я вас там в коридоре буду ждать, у входа.
– Что ж. Ждите, – сухо сказал Краковец. И свернул с дороги.
Приближаясь к вагончикам, он отметил, что вокруг них копошится множество людей с лопатами. Люди эти долбили мерзлую землю, смешанную со снегом, а потом по самую крышу (и даже поверх крыши) забрасывали этой землей вагончики. Краковец остановился на краю поля у первого вагона, возле которого трудились еще нестарые, однако весьма старообразные мужчина и женщина.
– Бог помощь! – сказал Краковец, невольно впадая в тон эдакого доброхота-народника, заранее обреченного на выдачу местным властям. Впрочем, народ, похоже, был рад предлогу разогнуть спину, потому отвечали Краковцу вполне охотно и дружелюбно:
– Здравствуйте, коли не шутите.
– Что это вы тут делаете? – спросил Краковец, вполне натурально оставаясь в своей роли заезжего городского дурачка.
– Тут, видишь, какое дело, зима ударила без времени, – охотно объяснил мужчина.
А женщина только улыбнулась застенчиво, показав целый набор железных зубов. Было ей едва за сорок в свете этой металлической улыбки, но на первый взгляд тянула она за полсотни. И то сказать, телогрейка и резиновые сапоги ее, конечно, не красили.
– Кто поумнее, еще летом засыпали, – сказал мужчина. – А дураки вот – в первый выходной очухались…
– Значит, вот тут вы и живете, – сказал Краковец догадливо. И поежился, глядя на промерзлое поле.
– Тут и живем помаленечку, – сказал мужик. – Да вы заходите, погрейтесь. Тоня, зови в дом. Может, чаю хотите?
– Не отказался б, – сказал Краковец. – Я в гостинице живу, а там не топят, да еще и буфет закрыт. Зато все под дуб разделали.
– Красивая гостиница, – сказал мужчина с гордостью. – Мы туда коммуникации тянули… Там у нас кто только не жил, в этой гостинице. Говорят, даже певец Мулерман жил.
– Кобзон, – поправила жена, – Осип Кобзон… Ну чего тут, право, стоять, пошли и мы чайку попьем – все же как-никак суббота.
Краковец первым вошел в вагончик и сразу уперся животом в стол. Вагончик был крошечный. Посреди него стоял стол, по бокам, впритык к столу и к стенкам, две узкие кровати, позади стола еще швейная машина, а сбоку у входа – печурка. За столом на одной из кроватей сидели мальчик лет восьми и старушка. Мальчик что-то писал, наклонив голову, а старушка шила.
– Чайник горячий, сейчас новый чай заварю, – сказала хозяйка. – А вы пролезайте за стол, чего у двери стоять. Тут у нас такая техника молодежи – надо с ногами на кровать встать, а потом ноги спустить под стол, иначе никак не пролезешь.
– Вас четверо? – растерянно сказал Краковец.
– Ну. Только четверо и есть, – кивнул хозяин. – Куда нам еще детей разводить? И так тесно.
Женщина подала чай в чашках. После третьей ложки сахару подняла взгляд, спросила у Краковца:
– Еще? Сами кладите сколько надо, не стесняйтесь.
– Спасибо… А квартиру что? Не обещают?
– Как не обещают? – спокойно сказал мужчина. – Мы на очереди. Седьмой год как стоим. Как сюда приехали – сразу и встали. Но тут теперь замедлилось строительство, трасса ушла, фондов мало, а главное дело – строителей у нас нехватка. Мы обои с ней на очереди, каждый у себя на производстве. Однако у нее, видать, быстрее подойдет, она истопником трудится в котельной, там у них всего пять человек на очереди. А у нас-то в гараже ой-ей-ей.
– Так что, уже скоро? – сказал Краковец, бодрясь.
– Теперь скоро, – согласилась женщина. – Нам на котельную больше квартиры в год не дают, конечно, так что, все же лет пять подождать придется…
– Где же вы тут спите?
– Вот где вы сидите… Пацан с бабушкой на той койке, а мы с женой на этой.
– А если взять да уехать куда?
– Уехать можно, конечно, мы много ездили, – сказал мужчина задумчиво. – Тут весь народ такой – уехал, приехал, особенное дело холостяки. Однако у нас так обстоятельства теперь складываются, что через пять лет можно будет и пенсию сразу получить, и квартиру. А ездить что ж? Оно хорошо – где нас нет.
– Когда мы приехали, тут еще в ту пору трасса была, – сказала женщина. – Тут снабжение было, и колбаску завозили, и маслице… Теперь, конечно, былая слава, никому мы больше не нужны.
– А все же большой город, – сказал Краковец, чувствуя отчего-то неловкость.
– Тыщ уже пятнадцать. Клуб, гостиница красивая. – Мужчина подумал, что еще, но не вспомнил. – Есть временные трудности, однако.
«Временные, как наша жизнь, – думал Краковец, прихлебывая чай. – Все пройдет – и наши временные трудности, и временные радости…»
– Ешьте конфеты, – сказала женщина, пододвигая к нему вазочку. – Из области. Сестра приезжала в гости.
«Еще ездят сюда в гости, в этот вагон, гостят, возят друг другу конфеты… – думал Краковец. – Жизнь продолжается…»
Сказал понятливо:
– С кондитерскими у вас, стало быть, перебои.
– Сахар почти что всегда есть. Конфеты что-то в последние года уже редко. И с макаронными изделиями перебой, а так грех жаловаться. Мяса и масла, конечно, как везде. Нет.
Как везде, нет. Краковец кивнул, соглашаясь, что жаловаться нам не на что и некуда. Конечно, перебои с макаронами, с кондитерскими, с мясными, молочными и всеми вообразимыми продуктами давно стали бесперебойными, однако жаловаться пока грех. Пусть эти разные греки и венгерцы жалуются, у которых всего, люди говорят, до усеру. Словно прочитав мысленно и одобрив эту благородную мысль Краковца, хозяин сказал с чувством:
– Лишь бы не было войны.
Краковцу тоже захотелось сказать что-нибудь утешительное, и он сказал, расстегивая молнию на куртке:
– Тепло тут, наверное, зимой, в вагончике.
Молчавшая до сих пор бабушка поддержала беседу:
– Тепло, милок, тепло. Так набздено – не продохнешь. Хоть топор вешай.
Хозяева радостно засмеялись, и мужчина подтвердил, что верно, тепло:
– Мы сейчас все землей закидаем, потом еще снегом сверху, и один останется колидор до двери, как блиндаж будет. По колидорам этим только вход и найдешь. Спьяну иной раз свой колидор ищешь-ищешь…
Напоминание о земляных работах Краковец воспринял как знак и стал прощаться. Его и так заждался небось Валерий в бараке женского общежития, куда он бодро добежал, даже не застегнув куртку. И напрасно, потому что никакого тепла в бараке не предвиделось. Валерия он нашел по шуму, долетавшему в коридор из комнатки в конце коридора. Мужчины затеяли сабантуй по поводу субботы, а также как бы и в честь приезжего, однако, заглянув в эту комнату, Краковец тут же ретировался в коридор, потому что мужчины в ожидании гостей уже успели сильно разогреться. Это подтвердил и Валерий, вышедший за Краковцом в коридор.
– Да, вам-то уж их не догнать, они спозаранку начали… А Валентина-бригадирша в шестой комнате, там они обе. Мне с вами пойти?
– Нет, нет, не надо, я сам, – сказал Краковец. – Завершайте свои дела.
Он постучал в шестую комнату. Валентина, поднявшись со стула, пожала ему руку, а Зиночка, закутанная в шаль, стояла у окна, не оборачиваясь, и только сказала «Здрасьте» тихим голосом. Краковец огляделся. Комната была довольно просторная, не меньше как метров пятнадцать. Может, она казалась такой просторной оттого, что мебели в ней почти не было – узкая кровать, тумбочка в углу и крошечный столик с двумя стульями. В углу ярко светилась электрическая плитка, которой было все же не под силу обогреть дырявую барачную комнату.
– Так вот мы и живем, – бодро сказала Валентина.
– Вы тут что, обе живете? – спросил Краковец.
– Ну, – отозвалась Валентина. – Поскольку я бригадир и староста общежития, мне положено. В других комнатах, конечно, и по четыре, и по пять…
– Я не о том, – сказал Краковец. – Просто мебели маловато… И койка одна…
– А-а… – сказала Валентина. – На что она, мебель? Вдвоем даже теплей. Тут вона холодрыга…
– Да-да, это конечно… – сказал Краковец растерянно.
Он лихорадочно искал, о чем бы еще таком их спросить. Но спрашивать ни о чем не хотелось. Он зачарованно следил, с какой покровительственной нежностью смотрела плечистая Валентина на свою щуплую, закутанную в шаль подружку…
– Хорошо, если лежат двое, а одному как согреться? – сказал Краковец.
– Это что же, стихи такие? – спросила Зиночка, оборачиваясь.
– Это из Библии, – сказал Краковец. – Из Книги Екклесиаста.
– Значит, и правда есть такая книга – Библия? – удивилась Зина. – А я думала, это все поповские выдумки.
– Есть, – подтвердил Краковец – Я даже брал ее как-то почитать у товарища. Всю не прочел.
– Гляди… – сказала Зина. И вздохнула. – В столице все, конечно, можно достать…
– Хватит тебе и здесь чтения, – сказала Валентина ревниво. – Она обернулась к Краковцу: – Я ее в этом квартале на три журнала подписала, все три дефицит – на «Работницу», на «Юность» и «Литературное обозрение», пусть обозревает, что делается.
– Это правда. Подписала, – подтвердила Зина.
Она улыбнулась подруге и снова отвернулась к окну. И тут Краковца осенило: это была любовь. Он стал торопливо прощаться. Если столько любви в этой голой, убогой комнатке, какой еще нужен, к черту, человеческий фактор?…
Он постучал туда, где был Валера, и пьяные мужики заставили его зайти выпить рюмашку. На закуску они подсунули ему специально для него сбереженный шматок колбасы, синей от таинственных наполнителей. Один из парней, уже почти не вязавший лыка, хотел непременно задать Краковцу какой-то важный политический вопрос, но так и не смог вспомнить, какой именно. Другой домогался, вышло ли у него нынче чего-нибудь с Зинкою или с Валькой по этой самой части. Услышав, что не вышло, он с торжеством подтвердил:
– Дохлый номер! Это, я вам точно говорю, дохлый номер. Сам сколько разов пробовал…
Тут Валерий проявил решительность и, поблагодарив всех за угощение и за традиционное русское гостеприимство, вытащил Краковца из комнаты.
– Еще пару минут, и у них там драка начнется, – сказал он, отдышавшись. – Лихой народ.
Он спросил, удачно ли Краковец побеседовал с девушками, и Краковец сказал, что спасибо, вполне удачно. Он добавил, что теперь хорошо было бы наскоро пообедать в столовой и отправиться в гостиницу отдохнуть, потому что вечером у него еще дела. А на утро было бы неплохо заказать ему обратный билет на самолет. Валерий кивнул с пониманием и сказал, что с билетом никаких трудностей не будет, лишь бы погода, а в столовую он уже позвонил заранее, предупредил кого надо. После этого Краковец торопливо, хотя и вполне вежливо простился со своим провожатым, потому что хотел теперь остаться один, чтобы подумать над человеческим фактором, который открылся ему вдруг в убогой нетопленой комнатке общежития строителей. У него было чувство, что он оказался свидетелем чего-то очень важного, чему не каждый посторонний (во всяком случае, не каждый корреспондент) становится свидетелем – тайным свидетелем любви. И теперь он был переполнен этою тайной. А поскольку ему не с кем было ею поделиться, то ему захотелось просто как можно скорей остаться одному и самому во всем разобраться. Не стоит и говорить, что поначалу наш герой, как настоящий советский человек, выросший в пору моральных чисток и стопроцентной двуполой любви, был шокирован и даже потрясен своим открытием. Чтоб такое, да еще здесь, на передовой стройке, на фоне жилищного строительства, неуклонного перевыполнения плана при помощи липовых нарядов, всеобщего энтузиазма и лирических песен Кобзона… Ладно, случилось бы это где-нибудь в дебрях Большого театра или Московской консерватории имени П. И. Чайковского, но чтоб здесь… Мало-помалу сознание грандиозности увиденного вытеснило из его сознания все двусмысленные анекдоты и жеманные гримасы его собственной брезгливой гетеросексуальности. Это ведь была настоящая любовь, а настоящую любовь не ставили никогда под сомнение даже самые высокие моральные инстанции. Любовь прославляло сладостное пение прославленного хора. Ее славили аскетические надписи на крашенных масляною краской стенах баптистской молельни. Любовь стала предметом столь редким и столь щепетильным, что о ней теперь стеснялись говорить в постели, даже тогда, когда «занимались любовью». Только очень сентиментальные дамы и очень юные девушки еще говорили о ней в минуту доверительной нежности. И вот она предстала здесь перед ним в самой неподходящей, казалось бы, и самой неожиданной обстановке. Точно Дух Божий, который веет где хочет. Там, где сочтет нужным. А если хорошенько подумать, то где ж ей предстать, как не здесь – в холодной комнатке грязного барака, под мужицкие ослиные крики за тонкой перегородкой, под песни, пахнущие водярой? Где ж, как не здесь – в сиянии подвига, и греха, и муки?.. Любовь, она ведь одна, наверное, и может распорядиться этой жизнью – чего сами мы делать не вправе…
Краковцу хотелось спрятаться в холодном, инкрустированном номере жлобской гостиницы и выплакать там свою жалость, свои собственные любовные неудачи, свое неумение любить, возвыситься до прощения, до молитвы… Но он не сразу пошел в гостиницу. Он поплелся сперва в шумный, грязный (и тоже, конечно, холодный) столовский зал, где глотал непонятного состава омерзительную на вкус пищу, употребление которой обрекло бы правоверного мусульманина или иудея на адские муки, а современного язычника обрекало лишь на ранний катар желудка.
Когда же Краковец уединился наконец в своем холодном номере, он уже больше ни о чем не мог думать, кроме капустной отрыжки во всем его грешном организме, да еще о непрестанном жжении в глотке. Он не стал звонить Свете, как условились. Он просто лег, не раздеваясь, на свое дубовое ложе и принял страдание как нечто им заслуженное. Мысль о завтрашнем отъезде приносила ему минутное утешение, однако он тут же вспоминал, что и дальше ведь у него ничего не будет… Ну, будет облцентр, Москва, а что там делать, в Москве? Зачем жить в Москве? Чтоб веселиться? Чтоб мучиться? Чтоб умереть?
За окном стемнело. Он не зажигал свет, он не знал, который теперь час, – время потеряло смысл…
На огромном столе, едва темневшем у окна, словно катафалк («доступ к телу круглосуточно», интересно, кто будет регулировать доступ?), вдруг резко зазвонил телефон. Краковец, обтянув плечи покрывалом, брел к телефону, волоча за собой по полу проштампованную гостиничную материю. Звонил Валерий. Голос его, как всегда, звучал бодро. Что ж, он ведь бодр, этот рядовой солдат партии, нет, впрочем, уже сержант – и разве не справедливо, что он получает за службу свое вполне скромное сержантское довольствие (сапоги яловые, отрез шерстяной хаки, белье летнее нательное х/б, мундир выходной, ремень кожаный, белье теплое нательное, фуражка…).
– Я уж думал, что-нибудь с вами случилось. Давайте к нам. Валера как раз макароны пожарила. Сегодня макароны давали в заказе. Ну и по маленькой надо на прощанье. Света, между прочим, у нас. Тоже беспокоится.
«И Света ни в чем не виновата, – думал Краковец, вытягивая из-под кровати ботинки, заляпанные грязью. – И Валерия я этого обхамил утром ни за что ни про что. Человек хотел как лучше. Хотел как положено. А что он не знает того-сего… Я что, знаю? Я что, знаю, как лучше? Как должно быть?»
Вопрос был лукавый. Краковец не намерен был сейчас поступать как лучше и не искал путей добра. Он поступал как легче, искал облегчения и приятности в этом мире, так мало оборудованном для веселья. Убегая от своих сомнений, он быстро накинул куртку и спустился в вестибюль, украшенный величественными панно из разных сортов дерева.
Валерий увидел его посиневшее от холода лицо и сказал понятливо:
– Идем скорей, тут только этих вымораживать…
Он тактично не уточнял кого – вшей или мандавошек. Вообще он был настоящий гуманист, как и положено работнику грядущего масштаба. С человеческим лицом…
Быстрым шагом они преодолели грязно-замороженное пространство, замкнутое блочными пятиэтажками, которые треснули по всем своим блокам, однако еще как-то сохраняли внутри человеческое тепло. Потом с облегчением нырнули в подъезд. От двери им ударил в нос запах жарящихся макарон, которыми занимались в тесной кухоньке Валерия и Света, явно обрадованные их приходом.
– Я говорю, беги, Валерка, – сказала Валерия. – Чего ж там человек пропадает на холоде…
А Света только потупилась и умолчала, какие были ее собственные высказывания по этому поводу. Важно было, что, не дождавшись его звонка, она пошла к подруге, вместо того чтоб заполнить кем-нибудь вечер в освободившейся квартире. И это было приятно Краковцу, так что вечеринка их взяла быстрый разгон после первой же рюмки, которую они закусили хрустящими макаронами.
– Характерно, что это итальянцы изобрели макароны, – сказал Валерий. – И что странно – у них, говорят, нет такого обычая, чтоб макароны жарить. Как же так? Они же ведь слипаются, если нежареные…
– У них своя техника, – отозвался Краковец с хрустом. – Я читал, что они их едят с сыром.
– Это у Пушкина есть, – сказала Света, – «С пармазаном макарони…» Это он описывал своему другу в стихах, где что можно поесть в поездке…
– Да, в командировке не больно отъешься, это правда, – сказал Валерий. – В Москве, например, весь день как собака голодный бегаешь, и поесть негде. А все же кой чего привезешь из Москвы. Кой-чего выбрасывают.
– Наш русский человек вообще любит поесть, – сказала Валерия. – Сейчас небось весь Стрешневск сидит у стола и чем-нибудь да закусывает…
– И в бараках… – сказал Краковец задумчиво. – И в вагончиках…
– В балка́х-то? – оживился Валерий, вспомнив, возможно, неприятности нынешнего утра. – О-го-го, там еще как сегодня выпивают. Сегодня ведь что у нас, Лера? Что-то такое есть…
Валерия взглянула на отрывной календарь с видом ВДНХ на субботе и сказала:
– Сегодня День строителя, ты что, забыл? Я, правда, и сама забыла. Раньше, бывало, у нас все гудело в День строителя.
– Наш народ любит погулять, – сказал Валерий. – Не то что где-нибудь там, на Западе. Я, впрочем, не был на Западе. Но у нас, между прочим, самая сейчас государственная проблема насчет пьянства…
Они выпили еще и помечтали немного о том времени, когда подрастет сын Валерия и когда он уедет в Москву, учиться с Высшей комсомольской школе, а Стрешневск к тому времени превратится в цветущий сад и весь покроется асфальтом и блочными пятиэтажными, девятиэтажными, а может, и больше домами.
– Да-а.. Хорошо сидим, – сказал Валерий, и Краковец подтвердил это его наблюдение, а Света посмотрела на маленькие часики и сказала, что ей уже, наверное, пора. И Краковец сказал, чтоб хозяева не беспокоились, потому что он знает теперь дорогу и Свету проводит сам. Валерий было стал уговаривать их посидеть еще немного, но жена одернула его за нетактичность, и они стали прощаться.
– Завтра я вас в аэропорт отвезу, – сказал Валерий, прощаясь. – Так что не беспокоитесь. Все будет на высшем уровне.
Они торопливо возвращались во мраке, не успевая даже поговорить о культуре. Света открыла дверь своим ключом и спросила, не хочет ли Краковец выпить чашечку кофе. Она много раз видела в кинофильмах, как это делают, да и в некоторых книгах все начиналось с этой чашечки кофе. Например, у Заваляева. Однако Краковец сказал, что он сыт и пьян и даже нос у него в табаке. Он едва успел осмотреть бедный уют девичьей квартирки с разнообразными признаками отдела культуры и библиотечной жизни (на полке, например, был портрет Константина Симонова и еще кого-то с большой родинкой, может, Роберта Рождественского), как сам погасил свет. Они со Светой обнялись и постояли немного обнявшись в темном углу.
– Осторожно, тут кадка с Жениным цветком, – сказала Света, отпуская его, и, кажется, стала раздеваться первая: у них не так уж и много было времени до возвращения незнакомой Жени, до его отлета, до конца их любви, или, если угодно, романа, а может, даже, как любили говорить здесь, их «дружбы». «Я с одним летчиком дружила, и больше ни с кем», – сказала Света уже в постели, и это означало, что она уже не девушка, но что она не такая какая-нибудь, чтоб с кем ни попадя. Краковец оценил оказанное ему доверие, он обнял ее очень крепко и при этом спросил рассеянно (просто чтоб не молчать после такого сообщения, потому что не говорить же ему было, что он ни с кем, кроме первой и второй жены, не дружил или, скажем, что он ни с кем не дружил с самого вторника):
– И где вы с ним дружили?
– А здесь, – сказала Света, гладя его редеющие волосы. – Женя уходила через день. А через день я уходила…
Краковец был растроган тем, что она гладила его по голове. Давно уже никто не гладил его так: дурацкая привычка у нынешней молодежи сразу брать быка за рога, хвататься за его измученный рог. В остальном все было так же, как бывает всегда, когда времени мало, буквально не хватает его, чтоб разобраться, где ты и зачем.
Они полежали еще немного молча, трогая друг друга с благодарностью, и Света спросила, нашел ли он среди девушек-строителей нужный ему человеческий фактор. Краковец ответил, что ему посчастливилось это найти, но тут же подумал, что все эти его находки не подходят, конечно, для острого оружия печати – ни уходящие под снег зимовать крошечные балке́, ни тот трепетный человеческий фактор, который смутно замаячил перед ним в холодной комнате общежития… Потом он беспечно решил, что наплевать ему на печать, потому что ведь и отписываться по командировке ему, скорей всего, не придется.
– А вот в сексуальных отношениях, – спросила Света, – в них что, тоже встречается человеческий фактор?
– Я думаю, что да, – сказал Краковец, гладя ее спину и прислушиваясь к себе с безнадежностью. – Только он очень хрупкий. Он вообще очень хрупкий. Потому что и жизнь человеческая не длинна…
Света подумала, что он боится завтрашнего перелета, и сказала, что на здешних линиях почти не бывает аварий. Потому что эти маленькие самолеты очень надежные. Она это знает, потому что дружила с летчиком с местной линии, так что она это знает наверняка. В ответ он обнял ее еще крепче, и она была довольна, что ей, кажется, удалось его успокоить.
1986
Мечта называлась касба
Я уже и не очень надеялся, что они вообще существуют и что я увижу их когда-нибудь. Конечно, какая-то надежда все же еще теплилась, иначе с чего бы я вдруг потащился снова в Марокко, на сей раз, впрочем, на юг страны, в город со странным названием Уарзазат.
«Они» – это замки из красной глины, высоченные, загадочные замки, с полдюжиной узких окошек где-то в вышине, а во всю ширь и высь – глухие красные стены, мало-помалу сужающиеся к крыше, кое-где украшенные каким-нибудь таинственным символом и канелюрами, будто это была детская, ручная лепнина… Ну да, словно дети всем миром лепили их, эти замки из песка и глины, на каком-нибудь красном пляже, у бирюзового моря. Но в том-то и дело, что моря там не было, а были горы, пустыни и пальмовые рощи, были горы из красной глины. Лепили же эти замки цвета красных гор взрослые люди, воины, защищавшие свои семьи, и жизнь, и достоянье от нападений других людей, мечтавших умножить свое богатство или просто не находивших какого-либо достойного их занятия, кроме войны. Рекламный плакат с изображеньем такого замка и с надписью «Посетите Марокко!» долгие годы висел у меня в изголовье в Москве, в «восточной спальной», наименее захламленной комнате моей экзотически захламленной, бредящей Востоком квартиры. Плакат подарила мне милая француженка-гид, колесившая с группами по всему свету и не знавшая, что ей с ним делать, со светом. Она знала, конечно, что путешествовать модно, весь мир мечтает о путешествиях, но ей уже давно хотелось отдохнуть немножко и обзавестись наконец мужем, и домом, и детьми, и каким-нибудь другим обществом, кроме клиентов турагентства, по возможности – культурным. Она стремилась к культуре, как выдвиженка с российской окраины в годы великого переселения народов, в эпоху превращения этих отсталых особняков, усадеб и храмов России в передовые Дома культуры (читай бедного Бабеля с поэтическим Платоновым, на два голоса). Там, в этом своем собственном культурном доме, заставленном подделками с гватемальского туристического базара, она смогла бы сказать культурному гостю, томно потрепав по волосам баловня-первенца, уже играющего этюд Черни на фортепьянах:
– Американский империализм угнетает бедных мальтеков…
Или что-нибудь еще другое могла сказать, что откроет к тому времени для требований моды мировая мысль. Она была не так глупа и вполне могла допустить, что даже лозунги 1968 года когда-нибудь устареют, просто пока еще у нее не было новых. Она очень в этом смысле надеялась на русскую интеллигенцию, которая казалась ей недоступно культурной.
Однажды ей показалось, что как раз я и смог бы стать ей подходящим мужем, отчасти приближенным к культурному обществу, вдобавок живущим в некой непривычной заморской беспечности и непонятном почти что достатке в своей экзотической Москве. Ей было, конечно, трудно понять, что наш тогдашний московский достаток и объяснялся беспечностью, что он не конвертировался в их твердую валюту и даже не тянул на их месячную квартплату. Еще труднее ей было понять, что и культурное общество, и самая Москва мне были давно до фени, до фонаря. Что у меня не было не только брачных, но и вообще никаких серьезных намерений, ибо, как говорили какие-то враги народа, движение все, цель ничто, хотя жениться я, конечно, и мог бы еще разок-другой, так как был уже разведен. Но главное – я был тогда в постоянном и вполне бессмысленном движенье. Еще повидаться она была тоже согласна, но в конце концов поняла, что движение мое перманентно, ибо когда мы вернулись с ней из фантастического совместного путешествия и ей захотелось надолго прильнуть к Москве, в которой каждый вечер где-нибудь пили чай или еще что-то, и притом непременно закусывали, и в которой что ни встречный хмырь, то был кто-то такой, знаменитый, из таких, что во Франции с тобой (да и со мной тоже) на одном поле не сядут, – вот тут-то я вдруг вскочил в самолет и улетел в Среднюю Азию, а оттуда (без заезда) в Терскол и только по весне уже в Крым – такая была моя жизнь, пойди теперь поищи такую. А она, помаявшись в непостижимости загадочной русской души (я, конечно, был виноват, каюсь, еще раз виноват), вышла замуж в Москве за кого-то, кто долго ходил с ней по гостям. Ну а мне вот остались от нее на память плакат «Посетите Марокко!» и глиняный замок на нем. В общем, осталась мечта, и на том спасибо. По-ихнему – гран мерси.
С тех пор сколько-то лет прошло – пять? семь? – мир непредвиденно изменился, и вот я нашел их, эти замки из красной глины, свою мечту. Они назывались касбы. Были еще и целые глиняные деревни – ксуры, в них тоже были касбы или почти касбы. Иные из высоких, просторных и загадочных глиняных домов в этих ксурах обветшали и были давно покинуты, но все так же стояли среди обитаемого жилья, только становились с возрастом все загадочней. Живое соседствовало с мертвым, из глины ты был создан всемогущим Аллахом, в глину ушел, и не надо делать из этого целой истории, но мы делаем – слабые люди, ведь мы так любим, так любим себя и ближних… Иногда в каком-нибудь лабиринте ксура мне вдруг показывали самую узкую, грязную, ветхую улицу и говорили: «Мелла! Мелла!» Это значило, что тут жили экзотические марокканские евреи-сефарды, продававшие в нищих конурках-лавочках через крошечное пыльное окошко серебряные украшения или что-нибудь еще, что можно продать. Потом они все зачем-то уехали в Израиль и перестали там быть экзотическими, но торговля их, говорят, разрослась до размеров кнессета. Остались здесь от них разбитые глиняные мечети, из остова которых торчат нынче очень старые, обглоданные бревна и палки, – наверное, молитва была теплей в таких вот глиняных хибарах, чем в каменных и кирпичных, впрочем, откуда мне знать, что больше любит Бог Отец?
Истинным чудом были здесь и высоченные пальмы, их было много, целые рощи, они не были тут украшением, не красовались перед кем-то приезжим, как в Ялте или Версале, и словно бы даже не понимали, как они хороши. В городах и ксурах кучи мусора унижали их красоту, но вдали от селений они могли забыть о далеком наземном движении малорослых людишек и шелестеть и шептать что-то свое в вышине. Я ложился под ними на спину и подолгу смотрел в высоту, на трепет ветвей и думал о бесконечных творческих возможностях Творца (простите за тавтологию).
Однажды (кажется, близ Тинрира) я набрел на какой-то священный водоем с форелями. Стояла глухая тишина, кружево трепещущих дерев, похожих на мимозу (может, это она и была), пропуская через себя воздух, делало его совершенно зеленым, и Господь был добр ко мне, и никто не спугнул тишину, и я пробыл там один много-много минут – я не считал их, но помню их все, одну за другой. Потом я вышел на дорогу и вдруг услышал голос женщины над головой. Я поднял взгляд и понял, что она говорит со мной. Она убеждала меня в чем-то, и я до сих пор надеюсь, что она не просто просила дирхам, а еще и утешала меня, говорила, что я еще не так стар и страшен, как кажется сто раз на дню, что не все еще потеряно и всегда может случиться какая-нибудь нечаянная радость, а не одни только долгожданные гадости, как кажется в тяжкую минуту, за которую потом самому стыдно. Стыдно оттого, что Господь послал мне столько радостей, что начать платить за них теперь давно пора, да и за все не успеешь уже расплатиться, пребудешь вечный должник…
Еще вдруг выпал в этом странствии фантастический день в долине реки, где пели сладостно птицы, у деревни Умснат, близ города Тафраут. Там были высоченные глиняные дома старинной берберской архитектуры, пришедшие из невообразимой толщи тысячелетий, а люди жили в них как ни в чем не бывало, то есть как тыщу лет назад, и девочка с огромным кувшином переходила через светлую речку по белым камням, а я затаился, замер, чтоб не спугнуть ни ее, ни птиц, – так все было прекрасно. Но она все же углядела меня как-то, обернулась и что-то сказала, сверкнув удивительной парой глаз над пестрой тряпицей, скрывавшей нижнюю часть лица. Может, она поздоровалась со мной, а может, сказала «собака-гяур», все равно я благодарен ей был за внимание и благодарен сейчас.
В Бумалене погода испортилась, все утро лил дождь, но я все же поехал в ущелье и, едва отъехав от городка, сразу забыл обо всем – о холоде, о дожде, о глупом водителе, который все посмеивался, думая, что взял с меня миллион за провоз. Я забыл обо всем, потому что здешние пронзительно-красные касбы на мокрой изумрудной траве среди пронзительно-красных гор – они были нечеловеческой и словно бы нерукотворной красоты. Собственно, красота их и была нерукотворной, потому что люди их только воздвигли, а разрушало их время, проявляя при этом ничем не ограниченную фантазию. И цвет, Боже, какой в тот день был цвет, несмотря на дождь! А может, благодаря дождю. Сейчас-то я благодарю его смиренно, дождь, а тогда только ежился от холода и лишь много позднее понял, что Господь, в милости Своей пославший мне жизнь, недаром послал и дождь…
В Загору я ехал в «коллективном такси». Нигде и никогда в жизни я столько не ездил на такси, как в Марокко. Стоит оно копейки, и можно беспечно менять машины на площадях. Специальный зазывала набивает полный «мерседес», обшарпанный, как мой гардероб малоимущего странника, закрывает дверь салона, прижимая ее тощим плечом, потом, крутя на черном пальце ключ, походкой иноспеца подходит шофер, и мы отправляемся в дорогу. Если не было гор, и ксуров, и моря, и пальмовых рощ, я тут же ввязывался в разговор, то с мужиками, что побойчее и знают французский, то с любопытными и как бы застенчивыми девушками в пестрых кобеднишных шелках, то со старухами непонятной степени зрелости, закутанными в тряпки до глаз. На сей раз, по дороге в Загору, точно такая сидела на переднем сиденье, так что мне пришлось сесть сзади, рядом с чистеньким немцем и с молодым марокканцем, державшим на руках иссохшую, парализованную старушку, свою матушку. Утро было прекрасное – светило солнце, мне предстояло путешествие, а ночь с ее маятой бессонницы была позади. В такое утро легко испытывать любовь к человечеству. А может, ее поддерживал во мне в то утро молодой марокканец с парализованной матерью на руках. Я-то вот не успел поносить на руках парализованную мамочку, а тоже ведь – считался неплохим сыном, или сам так считал. Вот и взял бы ее с собой в путешествие, переносил бы на руках из машины в машину…
Мы тронулись, и закутанная женщина впереди стала что-то рассказывать шоферу, то весело, то грустно, с большим напором и убедительностью, но все на своем непонятном марокканском наречии. Шофер молча кивал, смотрел на дорогу, а мне стало тревожно, потому что я не мог понять ничего – ни в ее словах, ни в чужой жизни.
– Что тебе рассказывает мамаша? – спросил я у шофера, который чуток объяснялся на чужом для нас обоих, но понятном французском.
Он кивнул и приготовился к умственному труду перевода. Но и она поняла кое-что, во всяком случае, про мамашу она поняла – и заговорила с еще большим напором. Шофер усмехнулся.
– Она говорит, что она не может быть тебе мамаша, – сказал он, – Она не такая старая.
Продолжая говорить, она полезла в огромную свою сумку, развернула какую-то пеструю тряпочку и стала передавать мне назад одно за другим какие-то удостоверения, тоже, конечно, написанные по-арабски. На них были ее крошечные фотографии, и была дата рождения… На фотографиях она была с открытым лицом (стыд и позор), и она оказалась на них совсем молодой, вполне ничего себе, с черточками татуировки на подбородке. Карточки были, конечно, старые, но дата подтверждала, что она и правда не старая, лет на двадцать моложе, чем я. Один документ был без карточки, и я в нем ничего не понял. Шофер объяснил, что там про ее мужа. Про то, что он погиб на войне. С каким-то они тут воевали Фронтом Полисарио за какой-то кусок пустыни, и он был убит. Он был совсем молодой, они успели прожить вместе недолго и сделать только пятерых детей. И вот она одна растила детей, пенсию за него платили маленькую, но она нашла работу – в гостинице, в Агадире, а теперь ехала в родную деревню, потому что хозяину нужны были еще уборщицы и он поручил ей выбрать своих, деревенских. Я вернул ей ксивы, и она, взглянув на какую-то свою фотографию, вдруг засмеялась, совсем по-молодому, и я понял, что и для нее это целое приключение – и дребезжащее такси среди пальмовых рощ, и полная машина каких-то благожелательных и не слишком грубых мужчин… И еще я понял, что все наши беды, и тяготы, и унижения (где ж вы видели не униженного сочинителя?) – все они относительны, а стало быть, не так уж серьезны, и что всегда остается место для какой ни то радости, какой-нибудь маломальский просвет, так что не надо скулить и не надо маяться, если с утра ничего не болит, тоже мне Иов на гноище, сочинитель и плакальщик Земли Русской, забывший уже, как пахнет в России март…
Но сосед мой, приятный чистенький немец, может, и не понял этого, – может, он невнимательно слушал шофера-переводчика, может, он вообще не понимал французского или его не волновал женский смех, а может, у него был сейчас совершенно другой настрой и другие, как выражались в той жизни, творческие задачи. Когда все замолчали, он начал рассказывать мне на вполне правильном, хотя и бездушном английском про цели своей поездки в Загору, в которой он уже был однажды, год или два года тому назад. Тогда он жил в одной маленькой («И грязной», – прибавил я мысленно, не знаю отчего, может, оттого, что был он такой чистюля) гостиничке, и хозяин угощал его чаем в своей лавке народных промыслов, по соседству («Художественные или народные промыслы» – это когда хотя бы часть сувениров в лавке не привезена из Гонконга или с Тайваня. Вот в полуэкзотическом Израиле, например, народных промыслов нет. Зато там предлагают в качестве сувениров семисвечники и другие предметы их культа, хотя опасаюсь, что они-то уж точно изготовлены в дешевом Гонконге). Во время этих чаепитий хозяин (лавки и гостиницы, в общем, хозяин жизни) предлагал моему немцу (его, кстати сказать, звали Гюнтер) за умеренную сумму прокатиться на верблюде в пустыню с его братом, наладившим в Загоре верблюдное обслуживание туристов. Но молодой Гюнтер не поехал тогда в пустыню с предприимчивым братом хозяина. У него оставалось очень мало дней отдыха. И не очень много денег. К тому же он спешил в Берлин, чтобы увидеть свою девушку. У них уже давно очень близкие отношения, они привыкли друг к другу, и она хорошо к нему относилась. Она и сейчас хорошо к нему относится, однако за год, который истек с прежней его поездки в Загору, в жизни моего попутчика, молодого Гюнтера, произошли нежелательные перемены. В него влюбилась еще одна девушка, которая тоже к нему хорошо относится и дарит его своей лаской. Он не хотел бы обижать первую девушку, но и второй он теперь чувствует себя обязанным, а встречи с ней сами по себе доставляют ему приятность, так что он не может ни на что решиться, и это сделало его жизнь очень трудной…
В этом месте своего печального и лишенного всякой неуместной эротики рассказа Гюнтер взглянул на меня с надеждой и ожиданием. Может, он подумал, что я достаточно стар, чтоб знать все ходы и выходы из подобной ситуации, но он ошибался. К тому же я не понял, отчего он не может жить с двумя девушками, если ему ни на одной из них не к спеху жениться. Впрочем, может, это утомляло его или стоило ему слишком дорого – я ведь не знаю их цен и условий их жизни. К тому же это могло считаться у них отчасти аморальным или даже вредным для здоровья – как знать. Мой солидный опыт безудержного российского промискуитета вряд ли тут мог ему помочь…
Шофер отчего-то громко вздохнул и что-то сказал по-своему. Может, он просто пожалел нас, говорящих на этом непонятном английском, вместо того чтоб перейти на полнозвучный арабский…
– И вот я решил, – сказал наконец Гюнтер, не дождавшись от меня слова мудрости, – я решил уехать на верблюде в пустыню. Там я буду лежать у костра под огромными звездами и грустить…
– О, это будет сладкая грусть… – сказал я, и он кивнул. Он даже улыбнулся. Может, оттого, что я так тонко понял его намерения. Но потом он вдруг снова нахмурился.
– Ну, а когда я вернусь? – спросил он с тревогой.
– Не думай об этом, – сказал я. – За это время одна из твоих девушек может найти себе другого… Она, если угодно, может уехать или попросту умереть. А главное – ты встретишь третью девушку, которая будет к тебе нежна. И ты женишься на ней. Не потому, что она будет лучше двух первых, совсем нет, а потому, что ты созреешь для брака…
Кажется, мне удалось его успокоить, потому что он вдруг протянул мне руку для пожатия. Я пожал ее, хотя и сейчас не могу сказать, что бы это все означало. Может, он рад был, что я понимаю загадочную немецкую душу. Или что я проявил максимум мужской солидарности. А может, это просто была заслуженная дань моей зрелой мудрости. Даром, что ли, я жил так непростительно долго…
До Загоры мы все домчались друзьями. Честно говоря, мне жаль было там расставаться с вдовой марокканского героя, так и не увидев синие племенные полоски на милом ее (судя по крошечным ее фоткам), может, ныне уже двойном, подбородке. Но делать было нечего. Как говорили в родной Москве самые ленивые из женщин, «не было никаких условий».
Гюнтер прямым ходом повел меня в «свою» гостиницу, к «своему» хозяину, и тот всучил мне ту комнату, что была на полтинник дороже, на том основании, что в ней была ванная комната с ледяным душем. Кроме того, окна ее находились под самым минаретом, но об этом я узнал гораздо позднее, да и тогда не понял, считалось ли это у них дополнительным удобством (записанный на пленку и усиленный мощным динамиком голос муэдзина заревел над моим окном в предрассветном мраке, как сирена воздушной тревоги в Москве 1941 года). Впрочем, не стоит ломать голову, потому что полтинник даже в Марокко небольшие деньги. Тем и хороша эта страна, что там даже обсчитанным (уж такое-то может случиться всюду) ты можешь не терять доброго настроения. Достаточно только пересчитать сумму потерь на франки, фунты, доллары и даже на рубли, чтобы счесть этот мелкий просчет невинным и даже слегка симпатичным. «Где-то симпатичным», как говорили некогда комсомольские работники. Неужели это правда, что они «однозначно» ушли в большой бизнес? Кто же будет теперь обогащать нашу речь? Неужто одни актеры и демократы-партийцы? Беда…
Сам городишко Загора ничем таким особым не может похвастать, но зато он умело и успешно создает предвкушенье той дикости, той пустыни под названьем Сахара, которая вот-вот начнется за последними домами городка, еще два километра, еще пять, еще двести пятьдесят – и она начнется, просто не может не начаться, потому что ты так долго сюда добирался, гонясь за пустыней. На улице Загоры стоит старинный указатель (сколько ему – пять лет или пятьсот, – скорей всего, все-таки пять): «До Томбукту осталось сколько-то там километров». Вот это, наверно, и есть главная достопримечательность Загоры. Ах, этот Томбукту! Сколько раз я читал в своем «синем гиде», желтом или красном гиде, что в древности караваны тянулись отсюда в Томбукту… Однажды дома я схватил в нетерпении сердца путеводитель по Мавритании и прочел, что этот Томбукту, в сущности, препаршивый городишко и уж добираться до него нет никакого смысла даже в небогатой приманками Мавритании. В общем, как в том милом анекдоте: там говно, здесь говно, но дорога… Так вот эта выдумка с караванным указателем на улице Загоры, она, по-моему, гениальна. Воображай… Остановись, суетливый, вообрази – и езжай обратно в скучный свой северный Кельн, Престон, Роттердам или Денвер (штат Массачусетс). Я бы такими указателями украсил улицы в самых тоскливых местах нашего света, на каком-нибудь Дизенгофе: «До Бетлехема 85 километров…» (спешите, Господь пришел в мир, спешите, пока Он еще младенец, и Мария умиленно склоняется к яслям, и Его еще не замучили соплеменники и римское начальство, еще не распяли), «До Амстердама 35 километров» (спешите, пока еще жив Рембрандт, пока пируют – «Блудный сын, обнимай поскорее отца…», пока пирующие не обкололись, не обкурились и не перемерли от СПИДа), «До Аллапула…» (Господи, есть ведь еще Аллапул, холодный блеск моря и рыбаки на рейде), «До Альгамбры…» (Спешим, ребята, спешим, может, хоть в Альгамбре кончится эта нудная срань испанских пригородов!) Гений туризма придумал эти указатели, гений психологических расчетов и рекламы, друг человечества!…
И все же нас ждал сюрприз в Загоре. Точней, на окраине Загоры. Здесь и впрямь была окраина невиданной, ускользающей от туриста пустыни. Песчаные дюны подступали к садам, и люди оборонялись от них заборами, загородками. Война шла не для туристов – всерьез. А сады были прекрасны – пальмовые сады. Их нельзя было назвать рощей, потому что участки были разгорожены низкими, глиняными дувалами. Глина не имеет возраста, и сухие дувалы казались тысячелетними. А между ними бежали наполненные до краев арыки. И старик с белой бородой запруживал арык кетменем, менял его направление, чтоб напоить свои пальмы (как в селенье Ворух Исфаринского района Ленинабадской области, храни ее ныне Аллах!). А пальмы изнемогали под тяжестью фиников – многопудовые грозди накопленной сладости и красоты. Я не люблю фиников, но нельзя не признать, что на пальмах их тяжкие грозди прекрасны…
Мы с Гюнтером посидели на песке, потом побродили вдоль арыка, степенно раскланялись с аксакалом и даже съели предложенный финик, один на двоих. Потом мы снова сидели на дюнах и ждали заката, до тех пор, пока у нас не появилось ощущения, что мы не одни. Нам казалось, что мы отшили уже всех местных мальчиков, которые если не требуют дирхам, то просят конфету и авторучку или настойчиво предлагают себя в гиды. Оказалось, что самый хитрый из них продолжал красться за нами и только сейчас обнаружил кашлем свое присутствие. «Выходи!» – сказал я, и он вышел из-за кучи песка. Он видел, что мы в состоянии расслабляющего умиления, что у нас нет больше сил скандалить и что он победил. Он забормотал, что он покажет нам очень старую синагогу, самую старую синагогу, ей, может быть, сто лет… «Как в Нью-Йорке, – сказал я, – Древний памятник. Ну веди…» Мы договорились с Гюнтером; что дадим ему двадцать копеек, иначе он может обнаружиться ночью за толчком в гостинице со своим предложением о синагоге… Отчего туристам должна быть интересна синагога? Может, все туристы евреи? А может, евреи уже стали в стране безвозрастной глины вполне почтенной историей, потому что их лет тридцать, как не видели в Загоре? Где-нибудь они еще, может, живы – в Ашдоде, в Рош-Пине, в Ришон-ле-Ционе – эти доисторические марокканские евреи, из Загоры и Загорска…
– Вот, – сказал мальчик. – Здесь!
Мы долго карабкались с ним по узкой лестнице и вышли на какую-то крышу.
– Вот, – сказал мальчик и показал вниз.
Внизу был какой-то полуразрушенный караван-сарай (или просто сарай) с резной деревянной дверью. Может, он и правда когда-нибудь был синагогой. Непонятно было, зачем нужно было влезать на крышу, чтобы его увидеть. Но мы уже отдышались и долго любовались морем плоских крыш и глинобитных стен, позлащенных примиряющим закатным солнцем. Примиряющим с чем? С тем, с чем трудней всего примириться. С неизбежным уходом. Мальчик стал выказывать знаки нетерпения.
– Сюда, – сказал он. – Теперь сюда!
Спускались мы по другой лестнице. Она была еще круче, а мальчик нас поторапливал. Внизу, заслонив выход, он вдруг распахнул какую-то дверь сбоку – и мы увидели пещеру Али-Бабы. Это была сувенирная лавка, магазин «народных промыслов», каких мы уже видели сотню. Единственное, что было на сей раз интересным, это извилистый путь, каким нас заманили внутрь лавки.
– Лавка твоего дяди? – спросил я.
– Моего отца, – сказал он с гордостью.
– Ты хороший сын, – сказал я. И вышел наружу, даже не потрогав примелькавшиеся уже изделия, сумка моя была достаточно тяжела, и мне ничего больше не было нужно. Гюнтер ждал меня на улице. Мы протянули мальчику двугривенный, но он был безутешен. Он так старался…
– Придется добавить, – сказал я.
Мы добавили полтинник. Он взглянул на деньги с презрением и аккуратно спрятал их в тряпицу где-то возле мошонки.
– Я приглашен домой к хозяину на ужин, – сказал Гюнтер. – Мы должны обсудить с его братом маршрут. Ты тоже приглашен, я настоял на этом. Будет кускус.
– Напрасно ты настаивал. Мне не очень понравился хозяин. В нем нет тепла. И вообще, это все не Таджикистан. Я развращен бескорыстным гостеприимством моей России. Иди один. Тем более что стоимость твоего кускуса уже включена в смету верблюжьей прогулки.
– Я очень тебя прошу пойти, – умоляюще сказал Гюнтер. – Я объяснил хозяину, что ты мой родственник и что ты будешь ждать моего возвращения.
– Зачем ты это сказал?
– Если они захотят убить меня или ограбить, они будут знать, что ты в курсе дела…Что ты меня ждешь…
Я помолчал изумленно, потом кивнул. Я понял, что он хочет за свои деньги еще и волнений смертельной опасности.
Я пошел с ним на ужин. Кускус был невыразительный, брат хозяина тоже. Оба брата были деловые люди. Гюнтер, впрочем, сумел уловить какие-то флюиды сердечности, но ведь он и платил брату за флюиды. Кроме того, он никогда не бывал в Таджикистане, не знал настоящего мусульманского гостеприимства. Вообще, нас, наверно, уже немного осталось таких, кто помнит мирный Таджикистан. Когда-нибудь мы съедемся на коллоквиум. Или соберемся на вечер воспоминаний… Съедемся из Нью-Йорка, из Толедо (штат Айова), из Парижа, из вагончиков под Беер-Шевой, из Тегерана…
Обратно я большую часть дороги ехал в такси один. От этого цена проезда не стало дороже. Один раз я поджидал машину в пальмовой роще, в другой раз – в чайной на маленькой площади. В Уарзазат я добрался под вечер. Какая-то французская девица у стоянки спросила меня, не знаю ли я, где тут не слишком дорогая гостиница, и я отвел ее в свой прежний восьмидолларовый роскошный барак с ледяным душем, восточной лепниной и орущим телевизором. Дорогой она рассказывала мне о своей борьбе за освобождение женщины. Она была не очень страшная, а для француженки даже не слишком длинноносая, но можно было догадаться, что борьба за освобождение закалила ее душу и тело, изгнав из них последние признаки женственности. Мы даже пошли ужинать вместе, и за ужином она продолжала рассказ все о той же борьбе, жертвой которой стал какой-то ее парижский мужик, который оказался «мачо». Я без труда представил себе, как она им помыкала в самый разгар полового акта, давала ему рекомендации с высоты своей унылой фригидности, сосредоточенно, остервенело ожидая, когда же придет то, что к ним, похоже, никогда не приходит. Ее рассказ изгнал из моих бойких мыслей и ленивого тела последние поползновения, и, демонстративно протягивая деньги официанту – только за себя, – я взглянул на нее заговорщицки. Справившись с легким разочарованием, она вернула мне заговорщицкую улыбку: понятно, старик, ты не платишь за двоих, чтоб не унижать мое женское достоинство. Мы ведь равны, старик. Оба мы борцы за женское равенство, оба, надо полагать, парижане, левые интеллектуалы и… Боже правый, какая тоска!
Назавтра я тронулся в путь на автобусе. Обратный авиабилет у меня был от Марракеша, так что предстояло неторопливое автобусное путешествие через горы. Едва автобус тронулся, я увидел касбу, прекрасную, полную гордого сознания своей подлинности, древности, уникальности и простоты. Потом кто-то легко коснулся моего рукава.
– Там, – сказал по-французски девичий голос. – Еще одна.
По левую сторону от дороги была еще одна красная глиняная касба, оберегающая сон ксура. Это было двойное чудо – скопление древних хижин и девушка в кресле по соседству. Как она догадалась, что они волнуют меня, эти касбы, до дрожи. О чем она вообще умеет догадываться, эта миловидная, остроносенькая берберка, так славно говорящая по-французски и столь чувствительная к чужой дрожи. У нее были прекрасные, плывущие берберские глаза с поволокой. Касбы кончились, мимо пошли поля, мы разговорились, легко и естественно, точно в подмосковной электричке. Ее звали Айша, она была незамужняя и жила в Уарзазате. Вообще-то она была родом из горной деревни, которую нам еще предстояло проехать. Отец умер давно, оставив матери кучу детишек, но старший брат успел выучиться на юриста. Он был в Уарзазате каким-то стряпчим, а она, окончив школу, теперь секретарствовала за скромную сумму в полторы сотни долларов в месяц. И жила тоже у него, спала в прихожей на раскладушке, и вдобавок помогала его жене по хозяйству, и мечтала о своей жизни, о своих детях, мечтала выйти замуж, уже не молоденькая – двадцать пять. «Отчего ж они на вас не женятся?» – воскликнул я возмущенно. «Они» – это были бесчисленные юные и не слишком юные марокканцы, которые толклись целый день в кафе и в вестибюле гостиницы, смотрели телевизор и предлагали наперебой какие-то ненужные услуги.
– У нас женятся на богатых, – сказала она обреченно.
Взгляд ее говорил, что, в сущности, я и сам бы мог на ней жениться, купить для нее раскладушку и наделать ей кучу детишек с удивительными берберскими глазами, похожими на глаза моих младших сестер. Нет, это было невозможно – я был дважды женат, я был бездомный (куда и свою-то поставишь раскладушку?) и, хотя не преуспел в многодетстве, числился отцом дочки и сына от двух жен, конечно, плохим отцом, бедным и бродячим отцом, а все же отцом…
– Да, да, мужа… – бормотал я, перебирая в уме немногие знакомые мне вне России особи мужского пола. – За француза… За американца…
Я был придирчив – она очень мне нравилась, ей цены не было, этой прелестной невесте из Уарзазата. Впрочем, напрасно я придирался к потенциальным претендентам на ее руку – я просто не находил ни единого кандидата среди моих знакомых по обе стороны Атлантики: один был женат, другой – гомик, третий – импотент и женоненавистник, четвертый – бездомный эмигрант, сбежавший от жены и детей, оставленных на родине…
– Конечно, надо только подумать, – бормотал я, глядя на нее с изумленьем, нежностью и сожалением. Я даже не могу сказать, о чем я сожалел. О, том, что я потратил много времени зря – на глупости, на путешествия, книги? О том, что женщины, на которых я женился, не замечали, куда я смотрю? Или не придавали этому значения. О том, что уже не будет больше маленьких, сопливых, черноглазых детишек? Я знал, что нельзя допускать таких настроений, – они уже привели меня к браку, дважды. Но тогда было не то. А теперь было то, то самое… Но горы бежали мимо, и совместного пути оставалось не больше двух часов…
– Вот, – сказала она, – вот наша деревня. Наш дом – вон там, сзади…
Это была горная деревня с каменными сараями, похожими на маленькие крепости. Очень бедная и суровая деревня. В холодную пору зимние деревни особенно грустны и суровы. Мы остановились на три-четыре минуты, и я увидел, что здешние люди продают туристам лишь размытые водой камни, которые тут называют «роза пустыни», – продают за гроши… Больше им продать, вероятно, нечего.
В Марракеше на станции ее встречал брат. Мы уже успели обменяться телефонами и адресами и молчали, подъезжая.
– Вы мне столько рассказывали… – сказала она на подъезде к станции.
– Если б можно было бы зачать от голоса… – сказал я, не слишком надеясь, что она поймет, о чем речь. Но похоже, что она поняла. И взглянула на меня с неожиданной тоской и нежностью.
Она звонила мне в Париж раза два или три. Я растерянно говорил, что да, помню, все помню, конечно, все-все… Но…
– Помнишь – касба? – спрашивала она после разорительного молчания по телефону.
– Конечно… – говорил я нежно. – Коне-ечно…
Потом она перестала звонить. Может, она все-таки вышла там за кого-нибудь замуж. Надеюсь, что с ней не случилось ничего плохого. Надеюсь, что ей не хуже, чем нам всем. Ей, которая лучше всех нас.
Уарзазат – Париж, 1989 – 1996
В Истанбуле, в Константинополе…
Молодой дежурный был сыном хозяина гостиницы, албанца из Косова. Он довольно старательно изображал отчаянного уголовника, но, может, он и был уголовник. Мы сторговались с ним на семистах пятидесяти тысячах за ночь, что в переводе на русский язык означало десять долларов. Комнатка оказалась узенькой, крошечной, койка занимала ее почти полностью, а умывальник (он же писсуар, на мой худой конец) был в коридоре. Я опустился на койку и почти сразу же задремал – ночь в автобусе была мучительной и бессонной, а путешествие от средиземноморского Бодрума до Стамбула растянулось больше чем на полсуток…
Проснулся я от журчанья голоса. Голосок был девичий, и говор показался мне русским. Я сонно усмехнулся: всякий нефранцузский говор казался мне в этом путешествии русским. Это была болезнь, от которой, мне казалось, я уже излечился за пятнадцать лет, но вот, видишь, снова… В нынешнем путешествии особенно знакомой казалась мне издали турецкая речь. Может, она переносила меня в Бухару, в Ташкент, в Фирюзу. Наверно, сумятицу эту вносило еще и ожидание. Я слышал, что русские заполонили уже анатолийский берег и Трапезунд, однако в толпах туристов, бродящих по древнегреческим руинам, мне попадались все, кроме русских. Может, русские не за тем ехали в Турцию…
Больше всего попадалось отчего-то канадцев и австралийцев. Наверно, пришел их черед обогащаться знанием. А может, просто какая-нибудь австралка вернулась домой из Турции и рассказала соседкам, что там все очень дешево в переводе на австралийские драхмы, а турки, о, турки – они очень милы… Они и впрямь были вполне симпатичные, эти турки. А уж по-иностранному-то понимали куда лучше французов.
…Нет, на сей раз девичий говор был определенно русским. Даже, я бы сказал, южнорусским. Неужели опять миражи, как в первые мои парижские годы?
Я поднялся и приоткрыл дверь. Теперь голос звучал вполне отчетливо. И впрямь русский говор, да еще с южнорусской интонацией. Девушка говорила громко, с нажимом – кому-то жаловалась, кого-то убеждала. Объясняла, что уже три дня за гостиницу не плочено, да и гостиница плохая, на боковой улице, черт-те где, вчера клиент два часа искал… Иногда она вдруг понижала голос, что-то там бормотала, почти шептала.
Я закрыл дверь. Подумал, что это все очень скучно: русские наташи штурмуют панель. Я уже видел их на Кипре… Вот еще вспомнить бы, отчего так интересно было когда-то читать купринскую «Яму». По малолетству? А отчего так скучно сейчас? Из-за возраста? Не знаю. Интерес к сексу ведь, увы, не слабеет. Пропадает лишь интерес к производственной теме. Я стал припоминать, отдавался ли нам кто-нибудь за деньги там, в России? Пожалуй, что нет. Не то чтоб неизбывная любовь царила в том мире промискуитета, откуда мы сбежали из нетерпенья, нет. Отдавались нам из любопытства, из чистой симпатии, даже из уважения, из чувства долга и просто согласно ритуалу (вот уже и чай пили, и об искусстве беседовали, теперь что ж дальше…). Из корысти тоже, конечно, отдавались, но не без примеси чувств. И никогда, чтобы так вот – деньги на бочку. С последней прямотой. Нет, нет, декорум был всегда соблюден. Дома помогали стены (забитые книгами), родной язык (неплохо подвешенный). Да и возраст был иной, напор. Тут главное – напор. Ностальгия первых эмигрантских сочинений (а кто ж не писал в те годы – и врачи, и социологи, и кремлеведы, и кремленологи, и стукачи) была не только тоской по березкам и молодости, но и по утраченному с потерей статуса мужскому достоинству… Помню вот дома, вот там… Наименее интересное вспоминалось как браки – первый брак, второй, третий, – но тут кто ж тебе виноват? Об этом, впрочем, вообще лучше не вспоминать…
Я встал, сунул ноги в кроссовки. Надо было идти смотреть город Стамбул, Ай-Софию, Золотой Рог… Пока то, что я видел из окна автобуса, при въезде в город, было ужасно: многие километры неряшливых бетонных коробочек, то ли оставшихся неотделанными – по небрежности, то ли вообще недостроенных – из-за недостатка средств. И то сказать, город вырос за недавние годы раз в десять – пятнадцать, говорят, в нем уже больше двенадцати мильонов. Как живут, чем, зачем? Что-нибудь, наверно, продают друг другу. Или все вместе все подряд – туристам. Как эта вот наташа из соседнего номера. Или молодой бандит-югослав.... Я выбрался из нашего уютного переулка с его стариками, курившими кальян, копеечными овощными лотками и переговорными пунктами, которых в Турции больше, чем в целой Европе. На главной улице было полным-полно народу. Большинство турок что-то кому-то продавали в розницу. Остальные возвращались по домам, вероятно уже обслужив свои торговые точки. Посреди улицы горделиво и медленно двигался одновагонный трамвайчик, раскрасавец двадцатых годов, в целом мире ставший вдруг желанным признаком прогресса и спасением от вонючих машин. Ближе к базару Баязет толпа стала еще гуще. Вдруг попалась надпись на русском, предлагавшая меха и брильянты. Совсем задешево. Дешевле пареной репы. Потом русских надписей стало много. Магазины наперебой извещали, что у них тут говорят по-русски. Можно было зайти в магазин, поболтать, подлечиться от ностальгии. На углу, у светофора, я услышал русскую речь… Молодые женщины. Мордатые. Во всем кобедничном. Русской их речь можно было назвать только условно. В ней была густая примесь диалектов, акцентов, новых жаргонов, нанизанных на шампур недоученной украинской грамматики. Пахнуло Кишиневом, Херсоном, Одессой, Нальчиком. Глядели они, впрочем, опасливо, недружелюбно. При первых русских словах еще крепче вцепились в огромные полиэтиленовые пакеты, которые волокли в гостиницу. Что там было в пакетах, можно было только гадать. Вероятно, меха и бриллианты. Одна из дам коротко ответила на мое приветствие, две другие тут же взглянули на нее осуждающе. И то сказать, нынешний вид мой был малопривлекателен, а раньше мы с ними не были знакомы. Да и кем мог оказаться человек, заговоривший с вами по-русски «за границей»? Скорей всего, жуликом. В лучшем случае – конкурентом. Ничего себе лучший случай! Но хоть страх перед шпионом ослаб…
Сидя тем же вечером в скверике между прославленной Ай-Софией, перебеленной в мечеть, и какой-то другой, огромной, в пол закатного неба мечетью, я вспоминал весь свой утомительный стамбульский день: дорогой и скучный, похожий на сувенирную лавку базар, ресторан, который тоже тщетно пытался быть дорогим, прохладный холл шикарной гостиницы, куда я зашел отлить. Что-то в ней было, в этой гостинице, предназначенной для более лучших, чего я не мог вспомнить и что теперь, сидя на скамеечке, припоминал. И вдруг забрезжило – да, да, Вертинский. Кумир моего отрочества, милый Вертинский. Он ведь тут долго прокантовался, в Константинополе, а когда приехал, город был уже полон русских. Он вспоминал, что они с другом Путятой отчего-то сразу поселились в самом фешенебельном отеле, каком-то «Паласе» (откуда деньги?), а потом, разутюжив свой актерский гардероб, пошли гулять по центру – молодые, роскошные. Путята даже гвоздичку воткнул в лацкан. Шикарно и по-домашнему, как «где-нибудь в Харькове, на Сумской» От любования роскошным другом веет двусмысленностью, как от всех его рассказов (нежных о мужчинах, чуть насмешливых и дружественных – о женщинах), но он ведь и был дитя двусмысленного века, 10-х годов. Недаром, описывая этого ко всему подходившего «боком» ломаку и как бы неженку, Петр Пильский вдруг вспомнил Оскара Уайлда. Двусмысленны все его воспоминанья, написанные в Союзе или перед приездом в Союз, в Шанхае, – то для нас, то «для них» («они»-то ведь должны были прочитать их и впустить его, да еще, впустив, не заслать куда Макар телят, как заслали многих; не удивлюсь, если выяснится, что он им и раньше подыгрывал, играл в их игры, может, еще в ту пору, когда пел вместе с Плевицкой в Париже, он мог, для него это была бы просто игра), воспоминанья то вдруг эстрадно-игровые, прелестные, то бездарные или подловатые: он был взрослый, здравый циник, актер, труженик, жуир, он хлебнул и тамошнего и здешнего убожества, и он знал, что рассказывать надо только про фешенебельные отели, публика это любит. Возвращаясь домой, я заглядывал в раскрытые двери нарпита – вдруг и впрямь он поет еще здесь где-то. Остановлюсь, дослушаю:
В последний раз я видел вас так близко,
В пролеты улиц вас умчал авто…
Боже, какая магия во всех этих текстах, напетых им так нарочито жеманно! Как потрясли они меня, тощенького советского школьника, в то лето, в конце войны, в двух шагах от его валентиновской дачи (до них пели мы всей дачей «На позицию девушка провожала бойца…»). А ведь был и я тощеньким, был школьником – ей-Богу. И «мама любила такого». Но разве одни школьники от него балдели – и тогда, и раньше, и позже? В Шампани, где я в одиночестве коченею все эти годы на пустынном хуторе, жившая в нашей же глуши, за дальним лесом сильно пьющая болгарка-певица рассказывала мне, как к ней за кулисы после какого-то ее парижского концерта пришел знаменитый писатель-француз и стал плакать, благодарить – за это вот «…в притонах Сан-Франциско» Вертинского. А потом, через месяц или два, ночью – они в эту пору обычно добивают вторую литровку виски с мужем ее, французским алкашом-сталинистом, – позвонил из Парижа какой-то мужик и очень просил, сказал, что это дядя его очень просил, чтоб она спела у него над гробом что-то такое про Сан-Франциско, а дядя, он, видите ли, того, покончил с собой. Она поехала петь, и оказалось, что похороны в военной церкви, в Доме инвалидов, кругом генералы, знамена, писатели, и сам он тоже был герой войны, вдобавок еврей. Она и спела им в церкви: «Лиловый негр вам подает манто…» Голос у нее надтреснутый, пропитой… Я пытался понять, откуда взялся этот наш лиловый негр и эти предсмертные слезы у французского писателя, дипломата, голлиста, единственного дважды лауреата высшей их литературной премии. Может быть, я даже и догадался о чем-то. Юная его матушка (она, кажется, сразу прогнала скучного своего второго мужа Лейбу Кацева и предпочла быть матерью-одиночкой) в той довоенной счастливой Москве отиралась на театральных подмостках, когда, чуть нюхнувший уже кокаину, вдруг запел и сразу стал звездой молодой киевлянин Саша Вертинский-Пьеро. И вот потом, позднее, уже в третьей по счету эмиграции, прибирая отельчик в Ницце, она все пела и пела Сашины песенки своему ненаглядному малышу Роме Кацеву, будущему Ромэну Гари, – такое не забывается. Или вспоминается вдруг перед смертью…
Помню, как сталинист по окончании жениного рассказа выпил последний стакан водки и что-то залепетал, а я достал парижский портрет нашего ненаглядного крунера – тот, где он с огромной собакой.
– Ого, – сказала она. – Он был голубой?
– Отчего? – спросил я вполне ошалело.
– Да так, у них что-то у всех такие собаки… – Она улыбнулась так загадочно и безумно, что я с невольной досадой взглянул на поклонника Сталина: жизни, бля, от вас нет… Шел бы ты себе… – Нет, – сказала она, – он не по этой части.
– Усталый алкоголик?
– Конечно… Но ведь и я, я ведь тоже вроде этого вашего…
Я кивнул, опечаленный своей ошибкой.
– Понятно, – сказал я, – наш двусмысленный век…
Позднее я видел у нее нескольких вполне соблазнительных домработниц, за которыми она ездила к себе в «третий мир», даже присутствовал при ее с ними любовных разборках. А еще поздней они пропили дом за лесом и перебрались куда-то еще, оставив мне историю про это пенье над гробом – куда ее деть теперь?..
В отеле, поднимаясь в свою келью, я встретил на лестнице юную деву и наугад сказал «добрый вечер» по-русски. Она остановилась растерянно, призналась, что, да, она русская, Эльвира, из Ялты, а вы?.. Я видел, что она не рада земляку-свидетелю, что она вдобавок спешит и рабочий день ее не кончен, а может, только еще начался. Я отпустил ее с Богом. Подумал, что торговая деловитость, в сущности, идет в ущерб женственности: как у тех мордатых туристок на перекрестке… Ополоснув виноград сомнительной стамбульской водой над раковиной-писсуаром, я улегся в номере и, жуя виноград, стал вспоминать Ялту – нет, не все сто двадцать четыре поездки в Ялту, в Гаспру, в писательский дом на Дарсане (солидный сталинский дом, с толстенными колоннами на индивидуальных балконах и только одним на всех сортиром в конце длинного коридора, с прекрасным садом, с вырезанным безутешной вдовой – хорошо, что не при жизни, – сердцем Луговского в скале над тропкой, с огромной и шикарной, как Дворец съездов, нищенской столовкой). И не утренние поездки в зимний бассейн на Чайной Горке и в чеховский грустный дом, не бродяжку Алису из Киева и не воспитательницу из сиротского дома, что под самым фуникулером, близ то ли улицы Войкова, то ли ихней Леси (хоть эта была Украинка), нет, нет. Мне вспоминалось подвальное кафе в «Ореанде» зимней порой – во время самого моего первого ялтинского «семинара молодых драматургов» (молодыми драматурги оставались до смерти, потому что под семинары старых Союз писателей денег не отваливал, а, помнится, были там на семинаре и совсем старые, например один эстонец-кукольник, ну а мне-то, молодому подстарку, едва исполнилось тогда сорок, лучшие, можно сказать, годы жизни…) Вот тогда-то мы, помнится, и зашли как-то после зябкой прогулки по обледеневшей набережной (сегодня – лед и волны, а завтра – вдруг солнце и цветенье японского жасмина в скверах – такая она, зимняя наша Ялта, Яльта, Фиальта…) в подвальное кафе при гостинице «Ореанда» – просто так, погреться за чашкой кофе. Там царил полумрак, о чем-то булькала музыка, а к бару, как птицы, на жердочках этих неудобных, вполжопы, табуретов жались ялтинские девицы, лишенные по зиме клиентов (профсоюзные санатории обходились бесплатным самообслуживаньем за счет самих исцелявшихся и персонала)… В ту зиму, помню, один гордый эстонский драматург то ли заболел, то ли пренебрег халявным ялтинским месяцем безделья, и я упросил державную Светлану вызвать на его пустующее место моего приятеля, сильно пьющего красавца юмориста Андрея. Он прибыл в одно прекрасное утро и с автовокзала отправился для опохмелки прямым ходом в подвал «Ореанды». Я, спрятавшись от лекции Пименова, укромно постукивал в то утро на своей машинке на зимнем солнышке среди белых колонн балкона, когда со страшным криком и хохотом среди клумб под перилами появилась вдруг целая орава девиц, окружавшая блаженно-пьяного Андрюшу. Я, испуганно шикая, пропустил их в дом через балкон, достал им ключ от свободной комнаты, а позднее их, кажется, разобрала уже обогатившаяся воспоминаньями Пименова творческая группа закавказских драматургов – где они нынче, живы ли, чем живы (я имею в виду драматургов, а не девиц, среди которых, впрочем, была одна прехорошенькая)? Ялта, милая Ялта – «кто вас видал, тот не забудет никогда». Впрочем, это уже, кажется, про море в Гаграх – неужели они раскурочили Гагру, грузинские патриоты? Или абхазские патриоты? Храни нас, Боже, от патриотов, от их беспощадной, безлюбовной ненависти, от их «гуманизма с кулаками». И почему они так все покупаются на крик «Вы лучшие, Вы самые бедные», все эти нежно любимые мной народы-нацмены – и русские, и евреи, и грузины, и армяне, и балкарцы, и фульбе, и тутси? Да взгляните вы на себя в зеркало, разве мама любила такого?
Видно, гуманизм все же взял в моем организме верх над обидами, потому что я мирно уснул, с гроздью винограда в руке, – до первого мощного позыва к диурезу. «Дозарезу, дозарезу мне потребно диурезу», – бормотал я, водя ногами по грязному полу в поисках кроссовок…
Назавтра у меня еще оставалось полдня до отъезда в аэропорт. Я вышел из албанского притона, пересек одну шумную трамвайную улицу, потом вторую – по навесному мостику – и пошел в гору. Здесь были какие-то больницы, а также вполне уместные у входа в больницу похоронные магазины со странными, на длинной палке, опахалами (вероятно, их здесь втыкают в могилу для красоты, а может, они имеют и какое-нибудь другое похоронное предназначенье), и милые, словно бы сроду не видевшие туристов, неторопливые турки. Я кружил по узким улочкам, среди мечетей и погостов и вдруг увидел деревянные двух– и трехэтажные дома. Точно в таком я провел свое довоенное детство в Банном переулке, что между Первой Мещанской и Большой Переславской в Москве. Наши-то дома давно снесли, но и эти, последние в квартале, дышали уже на ладан и были подперты столбами, чтоб не падали на прохожих. Я присел на камень, чтобы перемотать отснятую пленку, и подумал вдруг, что в таких вот они и снимали себе комнаты или крошечные квартирки, те русские, что нашли тут какую ни то работу и остались в Константинополе, не потащились за море искать счастья в Германии, во Франции, в Аргентине или в Штатах («трудно плыть, а звезды всюду те же»). Вот, может, тут и писатель М. Агеев жил, он же Марк Леви, автор «Романа с кокаином», нашумевшего в узком эмигрантском кругу в середине тридцатых, а потом снова ставший популярным в восьмидесятые – девяностые, уже в переводах. Где-то он тут и похоронен, наверно на константинопольском кладбище, – на каком, интересно, языке надгробная надпись – на турецком, на русском? Чем он тут жил, как жил? О нем известно так мало, что один парижский профессор доказывает, что его сроду и не было, никакого Леви. Что это все Набоков-затейник написал – и роман, и рассказ, снова одурачив целый мир. Но только если про Леви известно и вправду мало, то про загадочного Набокова теперь уже больше, чем нужно, так что романа он этого не писал. А написав, не смолчал бы дольше недели… Дружила с ним, с этим Леви, сумасбродная и милая поэтесса Лида Червинская из «Парижской ноты» мэтра Адамовича, «незамеченного поколения», обживавшего по ночам Монпарнас. Видно, он тоже наведывался в Париж. Может, ездил к Лиде. Она, рассказывают, потеряла его паспорт, отданный ей на продление. Нашел кому доверить паспорт И что он делал потом со своей славой в узком русском кругу, беспаспортный этот Леви?.. А она ведь еще жива была, эта Лидия Давыдовна, когда я впервые приехал в Париж. Не успел повидать. Теперь уж там повидаемся… А Сириным-Набоковым он, конечно, восхищался, как все, – может, отсюда и совпадения в их прозе, скрупулезно собранные парижским профессором наших дней. Было у них, значит, время все читать тут, в Константинополе. И читать и писать по-русски, тут, на краю света. Да он, видно, забавный еще город был в те времена, космополит-Константинополь. С той поры все почти разбежались, кроме турок. Впрочем, и турки бегут, неплохо заселили Германию. А турецкая деревня тем временем освоила город. Стоя у перекрестка, вчера под вечер я вглядывался в толпы людей – по-европейски одетых женщин, мужчин при галстуках. Они не были похожи на слишком уж усердных мусульман, и все же… И все же город уплывал куда-то, все дальше от европейского берега.
Пора было прощаться с ним, уезжать. Укрепив на плече сумку со спальным мешком (не на их же простынях валяться в гостиницах), я покинул комнату-пенал, тысяча восьмисотый временный приют в этой временной жизни, прощай, прощай… Девица Эльвира-наташа попалась мне внизу, в вестибюле, – она отоспалась и была не такая деловая и пуганая, как вчера. Она даже улыбнулась мне и сказала:
– Пока-пока, счастливого вам странствования…
– Пока, – сказал я. – Не слишком утомляйте себя, милочка.
Она смотрела мне вслед с завистью. Может, ей здесь уже обрыдло.
Молодой бандит-албанец стоял у входа на мостовой.
– Уезжаешь, – сказал он. – А тут сиди…
Как ни странно, в голосе его тоже слышалась зависть.
– Ну что тебе, – сказал я вполне беспечно. – У тебя русские девушки. С ними нельзя быть несчастным.
Он вдруг помрачнел, взглянул на меня угрожающе:
– Они с Украины.
– Еще лучше! – вскричал я, перевесив сумку на другое плечо. – Гарные дивчины, очи, зирки…
Он не понял того, что я сказал, а главное, того, что я понял. Не знаю даже, чего он боялся – лишних полицейских поборов или разборок с конкурентами?
– Слушай, ты… – сказал он с угрозой.
– Да, зирки, зирки, ты ж мене пидманула… – сказал я вполне жизнерадостно: мы стояли посреди улицы, на нас таращились хозяин переговорного пункта и зеленщик, я был в безопасности, судьба снова выручала меня из беды, готовя к последней, окончательной передряге.
Я не дождался окончательного оформления его мучительно неповоротливой мысли и зашагал к трамваю.
«Терминал С» стамбульского аэропорта был полон ожидающих пассажиров. Об отправлении парижского самолета, видимо лишь случайно угодившего на этот терминал, еще не было объявлено. Зато объявлено было об опоздании самолетов на Петербург, Херсон, Нальчик, Симферополь, Челябинск, Киев, Москву и Алма-Ату… Ожидающие иностранцы, бывшие мои и друг друга земляки, сидели в обнимку со своими огромными тюками, замотанными в пластик. Иные убивали время, обматывая заветные тюки клейкой лентой, которая должна была уберечь товар то ли от воды, то ли от огня, то ли от любопытства сограждан. Я отыскал свободный стул рядом с каким-то кудрявым парнем лет двадцати трех и без труда вступил с ним в беседу. Он летел в Москву, и я гордо сообщил, что я вообще-то тоже москвич. Он взглянул на меня насмешливо – я был уже не такой москвич, как положено. Сам он летал в Стамбул из Москвы каждую неделю: какой-то челночный бизнес, импорт-экспорт. «Свое дело», – сказал он. Всего делов-то. Он похвастал, что летает и в другую заграницу, в Киев например. Но вообще ему уже надоело…
Я вспомнил, что впервые выбрался в эту капиталистическую заграницу (в тот же Стамбул) сорока шести лет от роду. Но он прилетал сюда по делу, так что он, в сущности, еще ничего не видел – ни в Москве, ни в Стамбуле. И ничего никогда не читал. Может, поэтому он и был такой прекрасно-кудрявый, жизнерадостный… В общем-то он мне понравился. У него не было этой сосредоточенной подозрительности и неизбывной торговой скуки в глазах. Мне даже захотелось расспросить его кое о чем, о секретах счастья, но тут объявили о начале регистрации на парижский рейс.
– Ладно, в другой раз, – сказал я.
И подумал, что и поздно уже, наверно, и бесполезно выведывать чужие рецепты…
Стамбул – Париж, 1996
Как я вас всех, увы, понимаю
Нелепые воспоминания тревожат меня по временам на холмах этого ненавидимого прокуратором, да и мне изрядно уже поднадоевшего города. Например, воспоминанье о том, как много лет подряд я мечтал совершить паломничество ко Гробу Господню и даже уговаривал как-то случайного соседа за завтраком в гостинице монгольского городка Даландзадгада, того, что стоит на краю пустыни Гоби, послать меня в Иерусалим с группой паломников. Сосед этот проникся ко мне вальяжной каникулярной симпатией, а был он, как выяснилось, какой-то там начальник в Комитете по делам религий. Подшефную Монголию он решил показать во время командировки своей жене, а гидом на побегушках у него был его молодой выученик, куратор здешнего ламаизма, вернее, того, что от него оставалось еще после всех кровавых репрессий. Позднее, в Москве я посетил этого начальника в его религиозном ведомстве и только там понял, под какие своды чуть не завели меня мечта о Святом городе и беспечная живость характера. Я сразу пошел на попятный, да и он дал понять, что тут не пустыня, чтоб говорить глупости, а в Иерусалим у них ездят отличники боевой и политической подготовки, всякие там переодетые в рясы бонды невидимого фронта…
Но вот прошло каких-нибудь десять – пятнадцать лет, и я сам стал ездить в этот город ежегодно – просто чтоб навестить застрявшего там почему-то сына и убедиться, что, хотя все у него не так, как мечталось, он все-таки жив-здоров и живет как хочет.
Конечно, в каждый свой приезд я снова и снова брожу по Старому городу, карабкаюсь по улице Виа Долороза на печальную эту Голгофу (а может, и не эту Голгофу, потому что есть еще одна Голгофа в городе, а может, еще и не одна) и стараюсь представить, как тут все это случилось две тыщи лет назад, – стараюсь, но безуспешно. Потому что все тут не такое, каким не раз представлялось мысленному взору, и за две тысячи лет все уже много раз зарастало домами, и разрушалось, и зарастало снова, и даже теперь, когда любые холмы мне уже в тягость, эта Голгофа почти и не представляется больше холмом и Голгофой – во всяком случае, в меньшей степени, чем, скажем, голые разноцветные холмы близ города Исфара бывшей Ленинабадской области, где я все это без труда себе воображал.
Город, конечно, неплохой, этот нынешний Иерусалим, даже можно сказать, красивый город, а если еще, избежав толчеи у главного Гроба Господня (есть и другой, не главный, в Восточном городе), войти в укромную дверь справа от портала и пройти через эфиопскую церковь, то попадешь на крышу, где нищие хибарки коптских монахов да иногда сушится белье, а иногда нет ничего и никого, можно лечь под стеной, и тогда над тобой будут синее небо, и густозвонные колокола, и ослепительное сияние золотого креста. Становится так сладостно и легко, и ты готов уже уйти, воспарить… Но потом спускаешься через дворик коптского монастыря в шумную торговую суету Старого города, и тяжесть твоего креста вдруг снова ложится на плечи, еще ощутимей, чем прежде… И еще – затаенная враждебность вокруг, и остервененье неизбытой ненависти в этом городе, и умеренная западная элегантность в западной его части, и его неумеренная для не западного города дороговизна. Хотя надо с удовлетворением признать, что повсюду там теперь говорят по-русски, хотя только в некоторых местах – на том русском, к которому мы с детства привыкли у себя в Москве или в Ленинграде… В эти некоторые места я и захожу поболтать, от нечего делать (а делать мне там, как правило, нечего: если ты объявился непрошеным, это не значит, что бедное твое дитя должно бросить всех и все и с тобой, нудным до ломоты в носу, без конца общаться), захожу в русские книжные магазины (их тут теперь много), в университет, в журнал «Беседер», в русские библиотеки – в ту, что за иерусалимской Таханой, и в ту, что в Общинном доме на Яффо. В первый свой приезд я даже нашел работодателя – в крошечной газете (приложении к чему-то побольше), спрятанной в проулке за автостанцией, где работали тогда милейшие люди, которые целый год после этого печатали мои байки про старую русскую эмиграцию. В мой новый приезд мне за это не только заплатили сколько-то денег, но и сообщили, что меня читают, да-да, читают. А милая библиотекарша Клара сказала мне, что читатели, узнав о моем приезде, очень просят ее устроить читательскую конференцию, как бывало в России, чтоб я непременно пришел и выступил. Честно говоря, я не люблю выступать и встречаться с читателями – у нас есть друг о друге какое-то там не вполне реальное представление, лучше при нем и остаться. Так что я никогда не мог понять, зачем все эти посиделки, и встречи, и конференции, разве что для заработка: в России многие жили на эти деньги, но где ж еще в мире, кроме былой России, платят за такие глупости? Да и как им удается вне России (бывшей России) загнать кого-нибудь на эти посиделки, тоже не совсем понятно. Однако библиотекарша Клара сказала, что ее очень просят, так что и она меня очень просит, и я от удивления не сразу придумал, чем я могу мотивировать свое нежелание выступать, что и было принято за знак согласия…
В тот вечер я тщательно вымыл шею и явился в библиотеку почти без опозданья. В большой комнате за длинным столом уже сидело десятка полтора старых евреев, еще более старых, чем я сам, – читатели. Не книг, наверно, читатели, но все же читатели газет, в том числе и этой крошечной, что была приложением к чему-то побольше и где печатали мои байки. Я смотрел на них с жалостью и растерянностью и не знал, о чем же мы будем толковать целый час. Жалость относилась, конечно, ко мне самому, который выглядит, наверно, таким же (неужто таким же?) потертым и траченным молью, как они сами, а все еще летает куда-то, и что-то пишет, и суетится.
Библиотекарша поставила на стол графин со стаканом и объявила, что я специально пришел, чтоб рассказать им о своих книгах и путешествиях. Книг моих они сроду не видели, да я и сам их давно не видел, к тому же мы с ними были теперь не в России, а на Западе (хотя и ближневосточном), где денег за книги не платят, где издают их люди безвестные – за свои деньги, для поддержания престижа, или люди очень знаменитые – вроде актеров или министров: их издания имеют шанс окупиться и даже принести прибыль. В общем, я решил говорить про путешествия, однако и тут было не совсем понятно почему и зачем. Почему я путешествую, и зачем, и за чей счет? И про какую страну им рассказать? Не про Америку же, про которую и так всем известно, как там прекрасно, не то что какой-то Израиль… Но в конце концов я все же начал рассказывать про путешествия и дальнюю страну. Таджикистан. В сущности, все равно было, про какую страну рассказывать, они ведь нигде не были, эти старики, кроме своих Черновиц, и Киева, и Бобруйска. А потом они прилетели сюда – напрямую или через Вену и Остию-Лидо, и самым ярким их впечатлением навсегда остался заграничный завтрак в самолете, а тут… Тут было все сразу не так, и были сразу заботы, да и в Вене, и в Остии уже были треволненья, заботы, и уже было ощущенье, что все не так. Некоторые из них до сих пор ходили в удивленье, оттого что не все тут говорят по-русски, так что они, уж на что евреи из евреев, как бы оказались в некотором смысле русскими. Так их тут и называли, и без особого, прямо скажем, почтения. Удивленье, и даже легкое головокруженье, можно было испытать и оттого, что все здесь было словно бы наоборот и даже все надписи – справа налево, не говоря уж о буквах…
Конечно, все мало-помалу утряслось, и дети устроились на работу, а те, кто не устроились, стали выпускать русские газеты и приложения к ним, вдобавок для стариков открыли какие-то клубы, где можно собраться и спеть что-нибудь свое, нормальное, скажем «Полюшко-поле», «Броня крепка, и танки наши быстры» или «Хороши весной в саду цветочки»…
Обо всем этом я думал, оглядывая неулыбчатых стариков на протяжении всего своего рассказа. У меня было тяжкое ощущение, что они меня не слышат, но потом я понял, что они просто не слушают. Что они просто ждут, когда я кончу про какой-то неведомый Таджикистан, в котором вдобавок жили мусульмане, да еще где-то в Совдепии. А чего они ждали, я тоже понять не мог, – может, в заключение беседы их чем-нибудь тут, как правило, угощают…
Одно я понял по истечении получаса – что хорошо бы элегантно так закруглиться, но потом решил, что, если даже я закруглюсь безо всякой элегантности, никто этого не заметит.
– Вот так они и жили… – сказал я. – А теперь вы можете задавать вопросы.
Они зашевелились, стали вытаскивать из карманов какие-то бумажки, заметки, расправлять их, откашливаться, а я с облегчением опустился на стул, улыбаясь идиотской и, как мне казалось, вполне приветливой улыбкой усталого гения. Они, видимо, и впрямь хотели меня о чем-то спросить, эти старики, и уже приготовились начать, как вдруг вскочил какой-то на дальнем конце стола, неистовый и краснолицый, и закричал, что он тоже из Москвы и что мы учились с ним в одной школе. Это была замечательная школа, может, лучшая в Москве, и из нее вышло много гениев, он не помнит всех по фамилиям, но помнит зато, как звали директрису. Он хотел еще о чем-то сказать, но помялся и не мог вспомнить о чем, и видно было, что это вообще экспромт. Зато уж остальные выступления (а их было много) были тщательно подготовлены и написаны на бумажке, но оттого ли, что ораторы говорили очень невнятно, или оттого, что им давно уже (или вообще никогда) не приходилось писать по-русски, понять, что они там понаписали и зачитывают, оказалось очень трудным делом. Фразы начинались и никак не могли закончиться, и я долго и тщетно пытался понять, о чем идет речь. Окопы, да-да, война, да, амбразура дзота… Один раз мелькнула моя фамилия, и я подумал, что это естественно, и даже предположил, что и в остальных выступлениях речь идет обо мне. Прислушиваясь к интонациям горячечной их сбивчивой речи, я вдруг мало-помалу стал приходить к мысли, что, может, они вовсе не благодарят меня за предоставленную возможность повидать при жизни (при их и при моей жизни) вполне еще живого писателя, а что они, напротив, недовольны чем-то или кем-то, скажем «корзиной абсорбции» или «министром абсорбции», который, как у них водится, был одновременно и раввин, и жулик. Но тогда при чем тут я?..
Через четверть часа особо внимательного перехвата я различил в этом потоке почти русской речи еще одно знакомое имя – «Эренбург». А может быть, «Оренбург». При чем тут Оренбург (хотя, может, их интересовал Свердлов или судьба убиенной царской семьи)? И при чем Эренбург… И тут мне вдруг пришло в голову, что, может, очень даже при чем… Среди полсотни баек, которыми я пытался через газету потешить русскоязычное население Страны обетованной, а заодно и скромно увеличить свой нищенский доход, была одна, действительно имевшая отношение к Эренбургу. К знаменитому советскому писателю Илье Григорьевичу Эренбургу, который знаменит был как еврей, как военный публицист, как знаток Франции и крупный интеллектуал, имевший в запасе много заграничных слов и фамилий, как борец за мир во всем мире.
Что же я там, дай Бог памяти, рассказывал в этой своей статейке для низкооплачиваемой газеты, которая была приложением к чему-то еще более низкооплачиваемому? Ну да, про последнюю любовь Эренбурга… Про другие его любови я ничего не знал, но эта, последняя, показалась мне очень трогательной и вполне забавной. В 1948-м, а может, чуток раньше, когда земля горела под ногами российских евреев и те из них, что маячили на поверхности, стали один за другим исчезать в подвалах Лубянки, И. Г. Эренбург сумел выжить снова и даже стал главным мировым деятелем борьбы за мир. Конечно, это была международная гэбэшная операция по мобилизации левой западной интеллигенции против гнусного западного истеблишмента и созданию дымовой завесы над очередной попыткой Сталина добить уцелевший в той войне и еще не ставший коммунистическим Запад, так что, вероятно, планировали и осуществляли эту операцию большие умы и стратеги Лубянки, но и Илье Григорьевичу выпала в осуществлении этой операции совершенно особая роль, и, может, именно поэтому он не помчался в тюремном вагоне по маршруту известного фильма («Поезд идет на восток»), а, напротив, зачастил на Запад, где и соблазнял разговором, подарками, золотыми медалями героев и перспективой побед всех более или менее близких к компартии, к Коминформу и бывшему Коминтерну интелло Запада. И вот тут, в этом круженье во имя мира и лучшего друга мира, великого миролюбца Сталина, Эренбург и повстречал в Стокгольме молодую (лет на тридцать его помоложе) Лизелотту Майер. Для нее имя его было овеяно славой и любимо ею с детства. Это он писал в те годы, когда она бежала с коммунистами-родителями от фашизма в Россию, свое ежедневное, гневное: «Убей немца!»… Потом война кончилась, и молодая, энергичная женщина стала мэром Стокгольма, куда вдруг и приехал легендарный победитель немцев, а стало быть, и защитник евреев, сторонник мира И. Г. Эренбург. Она, конечно, была тоже не против мира: мир Сталину, война дворцам. Но дело было даже не в мире: просто это была любовь с первого взгляда. Любовь всегда прекрасна, особенно когда любят нас, стариков, но эта любовь была еще и опасна. Она называлась в ту пору «связью с иностранкой». За такой роман великий миролюбец мог отрезать голову без колебаний. Так что требовались конспирация и хитрость. Влюбленные встречались, вероятно, в мэрии, под охраной местной полиции. Они там разрабатывали Стокгольмское воззвание, которое требовало совместных усилий. К тому же Стокгольм – не Париж, там у ГПУ еще не было, как выражались позже, «все схвачено». Такой вот был романтический стокгольмский роман. Из зова любви родилось Стокгольмское воззвание… Мне эта история показалась трогательной. Для меня это была самая человечная история в жизни во все времена уцелевшего хитреца и предателя… Кажется, так я это там и сформулировал, в своей статейке. И здешние старики ее (о ужас!) прочли. Я оплевал в ней все, что у них было самого дорогого. Их Эренбурга, который был еврей и победил Гитлера, которому доверял сам Сталин. Который бросался грудью на амбразуру дзота. Который говорил на всех языках мира, не считая еврейского. Который стоял за мир и отстаивал дело мира. Мы все за мир, клятву дают народы… Это, кажется, его стихи. А может быть, Евтушенко. На музыку Хренникова и Лядовой. Композитор Кобзон, который тоже за мир. Или еще за что-то… Я оплевал все чистое. Кто я такой, чтоб плевать? Вот и доказывай теперь, что ты не плевал. Что ты не верблюд…
Я стоял совершенно растерянно, когда вошла сияющая библиотекарша Клара. Она, конечно, ничего не слышала и вовсе ничего не поняла. Она поднесла мне огромный букет цветов и долгоиграющую пластинку, на которой хор младших офицеров ЦАХАЛа пел на иврите песню о Шестидневной войне на мотив любимой еврейским народом песенки «Хороши весной в саду цветочки». Клара поблагодарила меня от лица читателей. Она хотела еще поблагодарить меня и от себя лично, но тут краснолицый старик с золотыми зубами, который давно уже тянул меня за рукав пуловера, стал проявлять признаки нетерпения.
– Можно я вас обниму? – сказал он.
Клара просияла.
– Я говорила… – сказала она мне. – Я же вам говорила.
– Ладно, – сказал я старику разнеженно. – Только будем дышать в разные стороны.
Но ему и не нужно было дышать. Он должен был немедленно сообщить мне что-то очень важное, и я склонил к нему ухо.
– Как я вас всех, жидов, ненавижу, – сказал он.
Я глядел на него с безнадежностью и все еще идиотски улыбался… Наверно, дочка, нарожав ему полуеврейских внучат, вывезла его к старости в эту, извините за выражение, заграницу, оторвав от родной дачи, от коллектива отставников, от компании доминошников во дворе. И вот он оказался здесь, где все-все, в том числе и еврей Эренбург, и я, который обидел Эренбурга, – все были такие суетливые, непонятные, гнусные… Евреи. Да разве это евреи. Евреев он повидал немало в России. Они были там вполне нормальными, но здесь… Здесь они словно с цепи сорвались.
– Ответное слово! – крикнула Клара. – Слово автору.
– Как я вас всех… – начал я и запнулся. Это была не моя, это была фраза золотозубого старика. Но в ней была некая страсть, и я недаром ее подхватил. В ней был жив темперамент, которого мне всю жизнь не хватало. Я и сейчас испортил песню, потому что меня распирало от бессмысленной жалости. – Как я вас всех понимаю, – сказал я.
Старики смотрели растерянно. По-моему, они забыли, о чем шла речь. Зачем они сюда собрались.
Я тоже сразу все забыл, а вспомнил позднее, когда мы все шли и шли с племянником по берегу огромного, мрачноватого лесного озера, похожего на валдайские озера, хотя это было в Канаде, где-то близ Оттавы («хоть похоже на Россию, только все же не Россия…»). Племянник сказал, что он выписал стариков из Москвы и что они скоро приедут сюда насовсем. Он сказал, что немножко все же боится.
– Чего? – спросил я.
– Боюсь, чтоб крыша у них не поехала, – сказал он.
Вот тогда я и вспомнил эту встречу с читателями в русской библиотеке близ автобусной станции, мрачноватой Таханы Мерказит, где вечно полно солдат и солдаток, и в очереди перед кассой в бок тебе кто-нибудь небрежно тычется автоматом, и все бегут и бегут куда-то странных габаритов непостижимые люди в средневековых пейсах…
Иерусалим – Париж, 1996 – 1997
Две милые армянские девочки из той жизни
За полтора десятка лет мне так и на удалось обзавестись друзьями в Париже. И то сказать, я приехал сюда в том возрасте, когда друзей не заводят, а теряют. Когда друзья уходят. Уходят в никуда, насовсем, исчезая, впрочем, с твоего горизонта еще и задолго до этого окончательного ухода: у всех появляется новый круг друзей, у всех семьи и свои хлопоты, да и выжить трудней становится, спокойной, обеспеченной старости никому из нас не выпало. Оно, впрочем, может, и к лучшему…
В общем, друзей у меня в Париже нет, однако вдруг встречаются, совершенно случайно, какие-нибудь старые знакомые или полузнакомые из той, прежней, московской или даже немосковской жизни. Ну, скажем, встретил неподалеку от дому, на пути к Люксембургскому саду школьных лет подружку с нашей Первой Мещанской: она училась рядом, в двести восемьдесят третьей женской школе, приходила с одноклассницами на танцы в нашу мужскую двести семьдесят третью и покорила сердце моего лучшего друга – она и правда была совершенно очаровательная. Теперь она уже лет сорок, как замужем за симпатягой-французом (бывают и такие, бывают), живет близ Люко, и мы с ней изредка перезваниваемся: у нее тот же голос и тот же смех, что в ранней юности…
Ну а вот недавно встретил я, одну за другой, двух очень милых армянских женщин, которых знал когда-то маленькими девчушками в разных концах России, – совершенно невероятная встреча, а может, это только мне кажется, что невероятная, во всяком случае, невероятная для меня, не для них и ни для кого другого. И главное, я встретил их случайно… Случайно занесло меня в армянскую книжную лавку неподалеку от Сен-Жермен: шел мимо, увидел армянские буквы в витрине и вошел раньше, чем успел подумать, что мне, собственно, ничего в этой лавке не нужно. Тут как раз ничего нет странного: мне вообще редко что бывает нужно в Париже, когда приезжаю с хутора, из Шампани, – ну, повидать жену и дочку, поменять и книги в библиотеке, и белье, записать про запас пяток передач на радио. Повидал, поменял, записал – и можешь уезжать. Оно и правда ведь в тамошнем одиночестве самое созерцание одинокой груши «кюре» у забора или размышления о несостоявшемся творчестве могут сойти за дело, за «творческий процесс», тогда как в Париже неприкаянность моя и непристроенность настолько очевидны, что я был даже как-то раз задержан полицией, по этому самому признаку («Вид у вас такой, – объяснил мне полицейский, – будто вам некуда деться». Большой психолог.) Наверно, и в армянском книжном у меня был такой вид, потому что ко мне сразу подошла симпатичная дама-продавщица и спросила, какая мне нужна книга и, вообще, не армянин ли я, случаем. Я усмехнулся, потому что от вопроса этого повеяло ветром молодости: все двадцать пять месяцев моей срочной службы, отбываемой на территории Армянской ССР, в городке Эчмиадзине, что близ турецкой границы в виду двугорбой горы Арарат, а точнее, Масис, местные жители задавали мне этот самый вопрос. Отчего-то для них очень важно было знать, армянин я или нет (я, конечно, сильно смахивал на армянина и всех прочих нацменов), что-то это для них такое значило особенное, чего я до сих пор не пойму, потому что какая мне разница, армянин я, еврей, грек, курд или турок, если я русский и говорю по-русски. Но для них это, похоже, было важней всего, так что я в конце концов привык к этой фразе, еще раньше, чем научился чуток по-армянски. «Ду хай эс?» И даже отвечать научился по-армянски: «Ее хай чем» (нет, мол, не армянин). Конечно, разговор на этом редко кончался, потому что следовал сразу негодующий возглас: «Ба инчес?» (А кто ж ты тогда? В чем дело?), а один человек даже попытался объяснить мне по-русски причину этого возмущения: «Не люблю такой люди, который от своя нация отказывается». Он имел в виду мое нежелание быть армянином, но, как я теперь понимаю, он сразу поверил бы в мою честность, если б я заявил, что я еврей (кто ж станет на себя возводить такую напраслину?). Он, конечно, добавил бы, что «где армянин, там еврею делать нечего», но простил бы меня, поскольку я прибыл туда не по своей воле. Но я не объяснял, что я еврей, потому что не считал себя в достаточной степени евреем, чтобы вступать во все их игры. После возвращения из Армении я уже достаточно объяснялся по-армянски, чтобы рассказать, откуда он взялся, мой армянский, хотя я и не армянин: вот, мол, служил два года в Эчмиадзине («бнаквелем ерку тари») и чуток научился. Именно так я и объяснил все это молодой симпатичной даме в книжном близ Сен-Жермен и даже спросил ее по-армянски, знает ли она, где он, этот Эчмиадзин.
– О да, – сказала она по-французски, с некоторым даже удивлением, а потом добавила, покачав головой: – Не могу сказать, чтоб я хорошо помнила Эчмиадзин, но я там родилась…
Это было удивительное совпадение. Не то, что в Эчмиадзине появлялись на свет армянские девочки и мальчики, но то, что вот тут, близ Сен-Жермен… Дело в том, что, когда я вот так шатаюсь без дела близ Сен-Мишель или Сен-Жермен, мне все время кажется, что я непременно встречу кого-нибудь с Первой Мещанской, из Душанбе или Эчмиадзина, – и вот, сбылась мечта идиота…
Я был очень взволнован и для начала хотел спросить ее, где она жила, не жила ли она поблизости от винного завода и старинного храма Рипсиме (ибо именно там размещалась наша воинская часть с условным почтовым номером 48874), но потом решил спросить про главное, чтоб не забыть (именно это со мной и происходит в последнее время):
– А вот на этой окраине, где храм Рипсиме, на Четвертой улице, там жил с семьей молодой учитель французского Эскузян. Вы ничего о нем не слышали? Я ему много раз писал, я его искал…
– Если вы имеете в виду Андре Эскузяна, – сказала дама спокойно, – то это был мой отец. Вы что, знали его? И бывали у нас дома в Эчмиадзине?
Столько вопросов. И надо отвечать по-французски. И вдобавок во Франции, где я на любые вопросы отвечаю всегда бестактно и невпопад. Так, наверное, и сейчас.
– Когда я в первый раз пришел к вам, – сказал я, – ваш отец купал вас в цинковой ванночке на кухне. Вернее, мыла вас бабушка, а отец поливал вас из кувшина. Вода проливалась на пол, и я, помню, удивился, потому что пол там в домах был земляной. Я удивился, что он не боится за пол. Но он, наверно, удивился больше моего, когда в дом к ним вдруг пожаловал незнакомый парень в солдатской форме. Но потом он догадался, что это проделки его жены, потому что он крикнул: «Симон! Это к тебе, Симон!»
– Ее вообще-то звали Альтун, – сказала молодая дама, и лицо ее просияло.
– Знаю, – сказал я, – Андроник и Альтун. Но они оба мне представились по-французски. Вернее, первой представилась ваша мать. Потому что это действительно она пригласила прийти к вам…
– На нее похоже… – сказала молодая дама, продолжая улыбаться, а я глядел на нее, и мне казалось, что я вспоминаю прекрасное лицо молоденькой армянки, которую я встретил на почте в Эчмиадзине и которая вот так запросто разговорилась с незнакомым солдатом, вдобавок еще русским. Я попытался представить себе, каким я был тогда: загорелым, мордатым, в тропической зеленой панаме по форме Закавказского округа, в сбитой набок из-под брезентового ремня гимнастерке и кирзовых сапогах-говнодавах…
В то воскресенье я отправлял домой в Москву пачку старых маминых писем (чтоб не пропали – они и сейчас со мной, они не пропали и через тридцать лет после ее смерти, читаю редко, все еще больно и через тридцать, просто таскаю за собой по свету), а передо мной в очереди молоденькая армянка нетерпеливо крутила в пальцах письмо с американским адресом, который я успел прочитать трижды. В конце концов я сказал ей (по-русски), что в английском «nation» нет немого «е» на конце. Она обернулась, выслушала, не отодвинулась, не фыркнула, не обиделась, а, напротив, охотно объяснила мне, сияя улыбкой, что она совсем не знает английского, а знает только французский. Ничего себе – французский. Да я в тот год бредил французским, крутил без конца присланную мне из Москвы пластинку Ива Монтана, подпевал ей («Fleur au fusille…») и читал у себя в каптерке подаренный кем-то из солдат школьный учебник французского (я таскал его за собой, он и на почте был у меня в противогазной сумке вместе с мамиными письмами)… Учебник был нем, как рыба, а я хотел, чтоб тексты эти зазвучали картаво, как песни Монтана. И тут меня осенило: она же из «норикох», из новоприезжих, настоящая француженка! Я вытащил из сумки учебник, дал ей, и она начала читать по-французски, тут же, в очереди, невзирая на очередь, – Боже, как она читала по-французски! На нас, конечно, все таращились на почте: не всякая эчмиадзинская армянка станет разговаривать на людях с русским солдатом, да еще читать с ним вслух что-то непонятное. Но она и не была эчмиадзинская армянка. Она была из Парижа, и она все читала и читала, пока не спохватилась, что ее ждут дома муж и дети. И тогда она сказала, чтоб я приходил к ним в гости, они живут на Четвертой улице, около русского полка, дом шестьдесят четыре… Она убежала к семье и заботам и, конечно, думать забыла о своем приглашении, но я не забыл: о чем мне еще было думать в армии, где за тебя думает начальство (за это, кстати, многие и любят армию)? Тем более о чем думать молодому солдатику, запертому в городке, – о французских глаголах, о недоступных женщинах, о скором дембеле?..
Подошло воскресенье, я отпросился в увольнение, подшил свежий подворотничок, начистил сапоги и потащился в домик на Четвертой улице, где убедился, что Симон забыла о своем легкомысленном приглашении, а муж ее и вовсе ни о чем не был предупрежден. Впрочем, он первым оправился от замешательства, протянул мне мокрую руку, сверкнул очками и воскликнул:
– Ах так, у нас гость! Это прекрасно! Сейчас мы домоем этих двух мокрых лягушек и сядем пить вино…
Так все и случилось, и я себя чувствовал у них распрекрасно. Мы отлично понимали друг друга, говоря на смеси армянского и французского, дополняя их русским и английским, при этом у меня создалось впечатление (от которого до сих пор не могу избавиться), что я говорю по-французски. В сущности, за истекшие сорок лет я совсем немного добавил к тем старым своим догадкам, разве что интереса к языку у меня поубавилось от общения с французами: что ты можешь от них услышать?..
У Эскузянов был дом ужасающей нищеты и прелестной беспечности (по наивности я принял ее за французскую). Две девчушки, жена, теща – полный дом женщин, а работал один Андре, учителем никому не потребного французского в сельской школе – сколько ему могли платить? С работой в Армении было туго. Там, во Франции, он был каким-то бухгалтером, но разве там та была бухгалтерия, что в нашем грабительском Эчмиадзине, где бухгалтера винзавода повесили на собственных помочах в бухгалтерии… Вот шкрабом на девяносто в месяц его пока держали…
И все же они не унывали. Помню, в конце моего первого визита к ним нагрянули гости из Еревана, тоже какие-то бывшие парижане-«норикох», со своим вином и с закуской: понимали, к кому едут. Не знаю уж, какой у них был повод для торжества, может, просто радовались, что по возвращении их на родину товарищ Берия не всех истосковавшихся репатриантов отправил прямым ходом в лагеря, а сколько-то еще оставил на развод, пригодятся для новых посадок… Я на их празднестве не задержался, мне пора было в часть. К тому же мы успели наговориться и даже (при всей скудости моего словаря помню, как мучительно мы искали общепонятный эквивалент мерзкому черному слову «шарбон» – оказалось, речь идет об угле) обсудили кое-какие хозяйственные проблемы. Топить в доме было нечем, и угля им ни за какие деньги не удавалось добыть. И тут я вспомнил, что я ведь уже почти два года маюсь в хозяйственной части, которую впервые за два года есть повод употребить по хозяйству.
В добрую минуту я подъехал к скучному жлобу старшине Черешневу, который вечно надоедал мне своими рассказами, и спросил, нельзя ли одному честному армянину-учителю отпустить за его честные бедняцкие деньги машину угля. «Только для тебя делаю, – сказал старшина, – и чтоб между нами. Чтоб грузчики были свои…» Для меня, не для меня, но он выписал уголь, а грузчиками на станционный склад поехали мои два дружка-писаря – Леша и Саня (где-то они сейчас?)…
Андре заплатил вперед, а потом появился на станции Джерарат в подбитом ветром плащике, карманы которого оттопырены были бутылками не самодельного, а «казенного» вина: каждому по бутылке.
– Ну, какой армянин… непохожий, – растроганно сказал старшина, – где уж ты такого нашел, москвич?
Он ведь и правда был не похож на продувных эчмиадзинских армян, учитель Андре. Я объяснил старшине, что он парижанин, этот Андре, и что такая там у них развеселая французская жизнь. (Чего мы только не придумываем в юности! Теперь, через сорок лет только, я понял, что в нем не было ничего скаредно-парижского, ничего пугано-французского, никакой не было здешней скрытности и здешнего убожества, в развеселом нищем учителе Андре…)
– Он мне в старости все пытался растолковать про их эчмиадзинскую жизнь, – сказала милая дама-продавщица, задумчиво глядя на полки, забитые книжной премудростью, – и по всему выходило, что жизнь была жутковатая… – Я кивал, вспоминая холодный земляной пол, ведра с водой, цинковую ванночку, пар… – А в конце он заявлял, что жизнь была замечательная… И люди были другие, и все другое. Не как здесь, в стране непуганых идиотов. Так он мне говорил. Это правда?
– Мы были молоды, – сказал я, – мне было двадцать пять, ему лет тридцать. Прелестная молодая жена, дочурки, молодые друзья.
Мы все выжили, а рыжий мясник врезал только что дуба. И товарищ Хрущев прислал нам закрытое письмо, сообщая, что покойник был людоед. Я его зачитывал в части вольнонаемным армянам. Как большой грамотей и писарь хозчасти. Прачки утирали слезы и спрашивали, неужто все это правда. Но в душе мы уже знали, что правда… А французы небось бродили в растерянности, оставшись без руководства и отца-благодетеля…
– Отец мне как-то рассказывал про молодого солдата из Москвы. Вы с ним долго дружили?
Я задумался… Я даже не знаю, считал ли он меня другом. Просто я приходил к ним в последние месяцы службы (уже сдав на офицера запаса) два или три раза – со своим школьным учебником, с пластинкой Монтана. Мы чуть-чуть занимались французским и много говорили на смеси четырех языков (Андре знал английский) обо всем, что было нам интересно. Шла осень 1956-го. События в Венгрии… А однажды вечером, в ноябре, мне позвонил дежуривший по штабу дружок-писарь Саня и сказал, что есть телеграмма – чтоб меня уволить в запас. Это было уже после отбоя. Я метался по городку как шальной. Все спали, Санька был на дежурстве, и я сбежал к Эскузянам. Солдат на заднем КПП пропустил, сделал вид, что дремлет…
Андре обнял меня и сказал:
– У нас праздник!
Из какого-то своего тайника он вытащил бутылку армянского коньяка. Того самого, который, по утверждению эчмиадзинских жителей, с утра до вечера пили Черчилль и английская королева. Эчмиадзин всегда жил легендами. Здесь всякий знал, что Индира Ганди приезжала в Союз специально, чтоб выйти замуж за армянина (если не вышла, то только по вине грузин), а королева Великобритании лично хоронила католикоса. Всех легенд я не помню, но помню, что от любимого коньяка Черчилля я сразу забалдел и потом еле нашел свой КПП. Помню еще, что после первой рюмки Андре сказал:
– Вот так я узнал когда-то, что нам разрешили на родину.
Может, он хотел объяснить, что не думал в ту пору, как часто ему будет сниться постылый Париж. Как он затоскует по Франции на камнях и виноградниках «исторической родины». Что знаем мы о себе? Думал ли я, когда рвался из армейской тюрьмы, что затоскую по виноградникам Араратской долины?.. И все же день осуществленья мечты – великий день. Даже если потом наступает Перестройка, похожая на Надстройку над Базисом. А из подвала Базиса, как всегда, выходят на поверхность обманщики и бандиты. Все равно день этот прекрасен, и не нужно о нем жалеть. Не занимайте, собратья, очередь у мавзолея Ленин-Брежнева и Сталин-Берии, оставьте железного Феликса на свалке железок…
– О чем вы думаете? – спросила меня прекрасная армянская женщина, которую я видел второй раз в жизни. В первый раз она вопила в цинковой ванночке, голенькая, в мыльной пене, как новорожденная Афродита, и, вероятно, была еще прекрасней, чем нынче. Позднее я приходил к ним на Четвертую, когда она уже спала, – сбегал после отбоя из части через задний КПП, когда там стояли друзья, или через обшарпанный дувал, дыра в котором была известна (и удобна) всему личному составу (включая «особняка»). – Значит, вы понимаете, отчего он так говорил?
– Почему говорил? – спросил я со страхом. – Больше не говорит?
– Нет, он умер три года назад… Мама еще раньше.
– Я искал… – сказал я. – Вы думаете, он знает о нашей встрече?
– Эти русские… – Молодая дама снисходительно отмахнулась. – Кстати, я недавно заходила в большой книжный, что на рю дез Эколь, и там познакомилась с молоденькой армянкой. Очень интеллигентная девушка. Да вы ее, наверное, знаете. Потому что она тоже из Москвы.
– Москва не Париж, – сказал я надменно.
– Боф! – Она пожала плечами и объяснила мне, что никогда не была в этой знаменитой Москве – уехала еще маленькой во Францию… – В Москву! В Москву! – добавила она, проявляя среднефранцузскую осведомленность. – Чекув, Гогуль, Достоески, Солженицки…
– Дочь Андре, – сказал я, целуя ей руку. – Дочь Симон. Дитя Эчмиадзина…
– Теперь вы должны заплакать, – сказала она насмешливо, но я-то видел, что она растрогана не меньше моего. – И навестите армянскую девушку в книжном на рю дез Эколь. Я ведь вижу, что вам нечего делать.
Она была, конечно, права. Хотя и напрасно опасалась, что я зачащу к ним в магазин. У меня еще хватает энтузиазма, чтоб познакомиться, но давно уже не бывает ни сил, ни желания продолжать знакомство. Ее я тоже не видел больше, хотя иногда и хотелось. Я пришел в их лавку через год или два, ее там уже не было, а французская грымза, стоявшая за прилавком, сказала, что она ничего не знает, частных телефонов они не сообщают и никаких справок не дают.
– Догадываюсь, – сказал я склочно, начиная заводиться понемногу. – Чего вы еще не даете? Размеров заработка? Сумм, скрытых от налога? У нас вон даже вдова пионеру дала. Причем на аллее Центрального парка…
– Не знаю, о чем вы… – начала она надменно, но я уже и сам понял, как я отвратителен, и пошел к двери.
А я ведь даже не спросил, под какой фамилией она гуляет по свету, дочь Андре Эскузяна…
Что же до молодой интеллигентной армянской девушки из большого книжного, то я, конечно же, заглянул на рю дез Сколь, чтобы с ней поболтать. И вы будете смеяться, я действительно знал ее по Москве (на самом деле «вся Москва» была так же невелика, как «весь Париж», – все всех знали). Конечно, и ее я знал совсем маленькой, лет семи, и это было давно, но кратенький мой визит к ним врезался мне в память. На то были причины. Незадолго до этого визита я познакомился с ее родителями на каком-то многолюдном приеме, где были даже иностранцы. Мне, как правило, не по себе на многолюдных приемах, а эти двое сидели рядом и были любезны. К тому же оба они были молоды, хороши собой (он – красавец армянин, художник, она – до крайности миловидная русская дама), а он вдобавок неплохо говорил по-английски, что случается не часто и отчего-то казалось мне интересным в ту пору, хотя никакой нужды в английском мне не доводилось испытывать – ни тогда, ни позже. Среди прочего они рассказали мне, что в их жизни назревает очень важное событие – у него, у Гарика, скоро будет своя мастерская – в старом доме, в центре Москвы, ах, чего это им стоило, лучше не вспоминать. Он пригласил меня навестить его, уже в мастерской, через неделю-другую – посмотреть картины, а заодно и мастерскую. И так случилось, что я у него побывал, не только оттого, что часто в ту пору принимал приглашения, оставшись в результате развода без семьи, без сына, без дома, но и из-за несчастного стечения обстоятельств в тот вечер: одна, коварная, не пришла на свидание, другой не было дома, третья не могла, на четвертую не хватило двушек в автомате, зато я обнаружил, что я на Сретенке – где-то здесь, в переулке, должна была быть мастерская этого симпатичного художника. Я запасся бутылкой и пошел искать. Бутылка была лишней, так как он и до моего прихода принял порядочно с другими гостями и, может, именно по этой причине был менее любезным и симпатичным, чем при первом знакомстве. Конечно, могли быть и другие причины для таких перемен. Во-первых, по хамской московской привычке я приперся без предупреждения (но в мастерских свои обычаи, тем более что телефона у него не было). Во-вторых, я не смог достаточно талантливо изобразить восторг, в который меня привели его картины. Ну, картины. Мне показалось, что я уже видел такие. Такие или на них похожие. Я вообще не большой специалист по картинам. Самое это подражательное занятие кажется мне тщетным в нашем удивительном мире, творении гениального и щедрого Творца. Конечно, можно из вежливости сказать при виде чужих картин что-нибудь шутливо-восторженное, вроде: «Ну, полный пиздец!» Или: «Да-а-а». Но это еще надо сыграть, а я был не в настроении. Я только кивал глуповато и, поймав на себе его взгляд, промямлил что-то вроде «Интересно» или даже «Очень интересно». Понятно, что он мог обидеться: кто я такой, чтоб сообщать ему, что это интересно. Ему, которому уже говорили, что это совершенно гениально.
Выбравшись снова на пустынную Сретенку, я почувствовал себя еще более несчастным, чем раньше, и, раздобыв монетки, бросился к автомату – искать, кто спасет меня на ночь от одиночества. Ночью бывало хуже всего. Днем я еще находил занятия в пустынной квартирке на Коломенском, куда пустил меня приятель, уехавший на работу в Америку. Днем я что-то писал, что-то переводил, кому-то звонил, с трудом изыскивая время, чтобы сбегать за покупками в соседний продмаг. Конечно, окраинные продмаги на пятьдесят пятом году непрестанного выполнения «Продовольственной программы» не радовали глаз. Однако я не был избалован и предшествующими успехами партии, так что молоко, черный хлеб и плавленые сырки «Дружба» вполне соответствовали моему вкусу, а всем сортам чайно-кофейных изделий я предпочитал желудевый кофе «Здоровье», которого мне нынче так недостает в парижской торговой пустыне. Так вот, в один из умеренно прохладных февральских дней я набивал всем этим добром свою авоську, когда кто-то мягко тронул меня за рукав. Обернувшись, я увидел смутно знакомое, милое и усталое лицо молодой женщины. Обычно мне хватает минут пяти ничего не значащей, неторопливой беседы или радостных приветственных восклицаний, чтобы вспомнить, с кем я, собственно, разговариваю, но тут я вспомнил даже раньше: это с ней и ее мужем я познакомился на приеме, а его я даже посетил позднее в его новой мастерской близ Сретенки. Мы с ней двинулись, разговаривая, в сторону моего дома – как оказалось, и их тоже. Когда мы добрались до первой блочной пятиэтажки, она даже затянула меня в их вполне убогую квартирку, чтобы познакомить с двумя премилыми длинноносыми дочурками и завершить нашу вполне необязательную беседу: кстати, она тоже оказалась художницей.
Дома было все же теплей, чем на улице, однако я заметил вскоре, что теперь уже не только мысли об оставленной на столе рукописи и о незанятом нынешнем вечере меня тревожат, но и что-то еще постороннее. Я резко обернулся и понял, в чем дело. Девчушки (им было приблизительно шесть и восемь лет) молча и неотрывно глядели на содержимое моей сумки. Я поднял глаза на мать, и она кивнула с серьезностью.
– Да, – сказала она, – они смотрят на твою сумку, потому что они голодны. Нам вообще очень трудно живется сейчас. У меня нет денег на еду. Мы влезли в долги. Мастерская поглотила все. Она стоила нам дорого. Но это было необходимо сделать. Вот теперь он сможет доказать всему миру то, что я одна знала. Доказать, что жертвы были не напрасны. Ему есть что сказать миру… Я не знаю, понимаешь ли ты живопись…
Я заметил, что она волнуется, и энергично закивал, не отрываясь, впрочем, от своего богоугодного занятия: я честно делил пополам скудный продмаговский улов – буханку черняшки, сырки «Дружба», пакеты молока и бутылки кефира, кусковое повидло, банки бычков в томате…
– Продолжай, я слушаю, – сказал я, с удовольствием наблюдая, как девчушки принялись за еду, прямо у стола, стоя.
– Так вот, бывают художники, которые пришли в мир, чтоб сказать свое слово, – сказала она с надрывом, – бывают художники-таланты, художники-новаторы, ну хорошо, даже гении. Но это не все. Бывают художники, которые пришли, чтоб возвестить новую эру. Как Микеланджело…
Я кивнул с серьезностью и сказал:
– Как Гарик…
– Да, ты прав! – крикнула она исступленно. – И если он не докажет сейчас… Но он докажет…
Я кивал усердно и думал. Нет, конечно, я думал не о художниках, хер с ними, с художниками. Я думал о влюбленных женщинах, думал об их самоотречении, об их вере, об их поддержке ( А. Г. Сниткина, В. Е. Слоним и др.). Я думал о том, что мне они не попадались на пути. О том, что я боюсь их. О том, что я сроду не женился бы на такой. А стало быть, и никогда не обрету славу…
– Ну и как у вас дела в Париже? – осторожно спросил я элегантную молодую продавщицу из книжного на рю дез Эколь (она была очень хороша, а на парижском фоне и не казалась такой уж носатой). – Как мама?
– Мама работает. У нее бывают заказы. Она неплохой портретист. Вам не нужен портрет?
– А папа? – спросил я еще осторожнее и увидел, что лицо ее стало жестким. И подумал, что гений не оправдал надежд. Чьих-то надежд…
– Он, пожалуй что, процветает, – сказала она, – но он, по-моему, не растет больше. А в общем-то я редко его вижу. Он давно не живет с нами. Он теперь любит мужчин. Они ему помогают. У них своя компания… Своя мафия…
– Своя солидарность… – сказал я, проявляя осведомленность и политически правильную терпимость…
Я подумал, что, может, какой-то влюбленный парижанин рассказывает всем встречным о гении из России, который призван открыть эпоху. Как Микеланджело… А может, они вместе пытаются воссоздать этот чудный Божий мир, который я который уж день в Тагазуте созерцаю сейчас через открытые двери марокканской гостинички на берегу океана. А солнце пересыпает в луче золотой песок через щель в синих ставнях, и неустанно, на все лады рокочет под террасою океан, и небо над ним являет то пронзительность синевы, то череду облаков. На кромке песка у перевернутых лодок застыли в живописных позах рыбаки в джелабах. Чего-то они ждут весь день, я еще не понял чего. Бегают дети, собаки, кошки, фигуры меняются местами, меняются краски – и ни традиций, ни жанра, все совершенно, как в первый день творенья, продли же, Господи, дни моего созерцания, хоть на самую малость…
Тагазут, 1998
Gnädiger Herr Rolf
Осеннее солнце было по-летнему жарким, но с океана дул холодный ветер, что нередко случается в нежной Эссауире. Не только что на пляже, но и на эспланаде крепости близ медных пушек мне было в тот день не усидеть. Ветер сдувал белую пену волны, сдувал бумаги моих черновиков, с которыми полвека уже мыкаюсь по свету в надежде переписать свою жизнь наново, сдувал песчинки с камней – что ему стоило, такому ветру, сдуть и драгоценную песчинку моей жизни? В поисках убежища я углубился в петляющие узкие улочки медины, и по какой-то странной причуде памяти лабиринт этих улочек накладывался на лабиринт дорог моей прожитой жизни, вызывая в воображении за каждым новым перекрестком, поворотом и городским пейзажем какую-нибудь сцену ушедшего, забытое, казалось, ощущение или просто забытое имя. Тем временем мой здравый смысл, во всех этих меланхолических блужданьях никак не задействованный, нацелен был на свою узкую и вполне прозаическую задачу – поиски неподветренного закутка для работы. Так что в самом начале какой-то очередной, еще не вполне осознанной реминисценции (скорей всего, любовной, потому что стал вдруг явно ощутим запах молодой, загорелой кожи) взгляд мой безошибочно отыскал деревянную скамейку, укрытую от ветра, в тени, в углу ограды. Оценив скамейку, я оглядел и все огороженное пространство, посреди которого сверкал вполне скромных размеров плавательный бассейн, окруженный шумными полуголыми людьми. Люди галдели по-немецки, но иноязычный шум мне помешать не мог – скорее, напротив. Вероятность того, что они заговорят по-русски, по-английски или на худой конец по-французски, была небольшая. Дворик и скромный бассейн (я представил себе, как роскошно он выглядит на фотографиях в рекламных буклетах) принадлежали какому-то здешнему пансионату или отелю, а полуголые люди, ослепительно белые или уже сгоревшие докрасна, были, надо понимать, немецкие граждане, густо населяющие ныне все курортные зоны вокруг Европы. На краю бассейна, несмотря на ранний час, уже стояли во множестве бутылки и железные банки с пивом. Какая-никакая вода бассейна, теоретически пригодная для смачивания ног, была тут же, рядом, марокканское солнце щедро, без утайки изливало на иноверцев свой предполуденный жар, в общем, отдых был в полном разгаре, и люди эти веселились, как умеют веселиться на отдыхе одни только благоразумные немцы: приехал отдыхать – отдыхай, viel spass ! филь шпасс! И атмосфера была, как любят выражаться французы, bon enfant : на каждую нехитрую шутку компания отвечала дружным, громким хохотом, который начинался и кончался как по команде – вроде того смеха на пленке, что звукорежиссеры «подкладывают» под каждую шутку (чаще всего несмешную или дурацкую) в юмористических телесериалах. Я подумал, что это – идеальная публика для театров и цирков, она будет бурно аплодировать и смеяться даже простому объявлению шталмейстера, даже его кашлю и чиху. Внешний облик отдыхающих не радовал глаз. Было несколько лысеющих румяных блондинов, похожих на моего покойного друга-еврея Сашу Некрича, но по большей части это были бледные горожане, чуть, или даже не чуть, слишком толстые – видно было, что они много ели и мало двигались. Отдых предоставил им возможность предаться обоим порокам… Выделялись, впрочем, в этой компании, две фигуры. Точнее, одна фигура и одно лицо. Фигура стояла спиной ко мне – молодая, светловолосая немочка с мягкой попой. А лицо принадлежало пожилому немцу – темное, точно дубленое лицо, хорошее лицо. Словно бы даже осмысленное. Но и женская спина тоже… Впрочем, я тут же одернул себя, напомнив, что я не чужою попкой пришел сюда любоваться, а пришел работать. Я добрался до скамеечки и присел в тени. Меня заметили, мне кивнули благожелательно. Они вообще народ благожелательный, немцы. Помню, как я был потрясен этим открытием, попав впервые в ГДР, где путешествовал на попутках. Читать газеты я начал еще в пору своего военного детства и оттого твердо знал, что хуже немцев нет на свете людей, а они вот были милы, вежливы, откровенны, благожелательны и щедры. А уж женщины… В общем, я тогда подверг ревизии еще один раздел своего детского образования…
Все-таки их дружный гогот несколько отвлекал меня от творческих, так сказать, мыслей. Даже не сам гогот, а чье-то пронзительное и странное блеянье, наподобие козлиного. Вглядевшись внимательней, я обнаружил, что блеет именно благообразная молодуха, прелестная спина которой… – кто б мог подумать? С другой стороны, что я вообще мог думать и гадать о характере и нравах молодух из малознакомой страны Германии? Ровным счетом ничего. Кто, кроме наглых политологов и страноведов, возьмется судить о чужих нравах и вкусах? Может, именно такой вот козлиный смех считается особо женственным и возбуждающим где-нибудь на склонах Гарца или в притонах Гамбурга?
…Немцы ушли на обед. Водные блики играли на глиняной ограде так, словно этот крошечный бассейн был морем. В тишине я дочитал книжку о первой русской эмиграции, снова удивившись тому, что меня до сих пор волнуют судьбы этих людей. Что было в их судьбах такого, что так бередит меня? Унижение? Горечь? Тоска? Неумение интегрироваться? Неумение забывать о прошлом? Гордыня? Нищенство? Попрошайничество?..
Я пошел на набережную и провел остаток дня в прогулках, дремоте и скромных радостях желудка. Назавтра в поисках знакомой по прежним приездам рыбожарки я пошел в Старый город и без особой цели заглянул в лавку старьевщика-ювелира. Из груды пыльных мусульманских украшений я выудил серебряный кулон – трубку с запаянными концами и арабской надписью. Надпись была, вероятно, молитвенная, да и внутри таких кулонов находится обычно бумажка с молитвой. То, что трубка, как правило, запаяна, придает ее нутру особую таинственность: а вдруг там какие-нибудь особенные, магические слова… В Москве у меня в кабинете висело с полдюжины этих «туморов». Мы покупали их в Душанбе у старика торговца, которого Володька Серебровский нежно называл Басмач. С Басмача начиналась моя московская коллекция, им и кончилась. Басмач исчез первым, теперь больше нет и московского дома…
– Это тумор, – сказал кто-то у меня за спиной по-русски. И нерешительно добавил что-то по-таджикски.
Я оглянулся. Давешний немец с дубленым лицом улыбался мне приветливо.
– Как догадались? – спросил я.
– Книга. Русская книга. Вчера у бассейна… – Он был очень горд своей наблюдательностью.
– Ну, а тумор? – спросил я. – Вы немец?
– Немец, немец… – сказал он. – Немец из Ленинабада. Теперь, кажется, Ходжент. Меня туда привезли, когда мне было семь… Ох, давно…
– Из ссыльных? – спросил я, возвращая тумор торговцу. Немец кивнул, и мы вышли вместе в толчею узкой торговой улицы, пропахшей жареной рыбой.
– А вы, конечно, таджик?
Я усмехнулся. Сколько уже лет не задавали мне этот вопрос. Лет шесть, с тех пор, как там началась война и я перестал летать в Душанбе. Я уже открыл рот, чтоб сказать, что я русский, но запнулся. Я вспомнил, что он бывший советский, так что для него я, может, все еще еврей…
– Я москвич. Еврей. Русский. Просто я летал туда при первой возможности. И в Душанбе, и в Исфару, и в Ворух, и в Семиганч… У меня было много возможностей.
– Понял. Говорите по-таджикски?
– Туджики намйдона, – произнес я фразу, которую выучил из кокетства на всех языках своих странствий, – «По-таджикски не секу»… Я ведь на них на всех был похож, на всех «чечмеков», на всех «зверков», на всех «черножопых»… Это теперь я простой парижский «метек», обыкновенный русский. Гордиться нечем. Но я все-таки горжусь чем-то – как все «метеки».
– Я-то по-таджикски хорошо говорю, – сказал немец с достоинством.
– Понятное дело, – сказал я. – В семь-то лет все запоминаешь… Только не говорите. А то я… заплачу.
– Я, может, и сам… – сказал он. – Фильляйхт…
Потом мы с ним ели жареную рыбу в какой-то до смешного дешевой забегаловке. Это напомнило нам обоим рыбу в кипящих котлах на таджикских базарах. В Марокко хоть можно наесться жареной рыбы. Во Франции ее парят и, умучив до безвкусицы, продают на вес золота. Выбравшись на улицу, мы еще долго бродили по Старому городу и говорили о Таджикистане. Странный был разговор – вроде переклички мертвых. Называли знакомые селения нашей затонувшей Атлантиды.
– А Чорку помнишь? Там чайхана над речкой. И братья-гончары…
– А в Пангазе тоже чайхана расписная, форели в заводи…
– И в Исфаре расписная. А Каратаг, а Дейнау…
– А Кофирнаган? А Сары-Хосор?
– О Сары-Хосор… – сказал он. – Я непременно тебе должен рассказать про Сары-Хосор…
Я не заметил, когда он перешел на «ты», достойнейший Рольф, гнэдиге герр Рольф.
– Сары-Хосор – это чудо… – Я кивнул умиленно. – Но почему именно про Сары-Хосор?
– Сары-Хосор – это было для меня очень важно. Это было в юности, и после Сары-Хосора я стал немножко другой. Я стал не только немец. Я стал немножко таджик. Не знаю, если это понятно… Отчего ты улыбаешься?
– Не обращай внимания. Моя дочка тоже все время говорит это «если». А насчет «немножко таджик» – это как раз понятно. Что за тоска, когда ты только немец, только русский, только еврей. Ну, а при чем тут был Сары-Хосор?
– Я немножко волнуюсь, – сказал он. – Давай завтра посидим в кафе на главной площади, где «Бо риваж»…
Я заметил, что под дубленой его кожей проступила нехорошая бледность.
– Отъезд, переезд, бумаги – слишком много на одну жизнь, – сказал он. – Это не всякий может. Вот у этих людей в пансионате… У них была война, потом семья и долго-долго работа. И теперь хорошая пенсия.
– Пенсия побежденных, – сказал я.
– А какая, интересно, теперь пенсия в Ленинабаде? – спросил он.
– О чем речь, – сказал я. – В Москве и то кот наплакал.
– Пенсия победителей, – сказал он.
Я проводил его до пансиона. Его соотечественники уже пили во дворике вечернее пиво, но от пива я отказался и ушел шататься у моря. Таджикистан и меня растревожил…
А утро снова выдалось чудесное – марокканское утро, синее небо и крики чаек за окнами моей чистенькой, дешевой гостинички.
Я ждал его за столиком на площади, прихлебывая любимый свой кофе с молоком. Он пришел, заказал себе зеленый чай с мятой и долго молчал. Видно было, что он не забыл о своем обещании рассказать про Сары-Хосор, и я подумал, что он провел, наверно, бессонную стариковскую ночь, то ли отгоняя, то ли оживляя воспоминания. Что-что, а это я мог понять. Кстати, ведь и в моей памяти белые камешки в пустынной речной долине, что близ Сары-Хосора, нередко светили сквозь беспокойную полудрему ночей.
– А ты когда бывал в Сары-Хосоре? – спросил он.
– В восемьдесят втором… то ли в восемьдесят третьем…
– В те годы я возвращался туда. Искал, где были парк, танцплощадка…
– Это в центре? Где большие деревья?
Он кивнул молча, точно собираясь с духом. Потом сказал:
– В первый раз я туда попал совсем молоденьким. Первокурсником. Такой был счастливый. Меня приняли в институт. Хотя был из ссыльных немцев. Нам полагалось один немецкий учить – в Алма-Ате. А меня приняли на инженера. Без взятки. Я такой гордый был. И такой правильный комсомолец. А еще я старший был в группе, хотя двадцати не было. Меня выбрали комсоргом. И я везде первый был – на хлопок, на стройку… Вот и в Сары-Хосор послали на стройку – помочь кишлачным людям…
Я представил себе, какой он был в ту пору – тощенький загорелый блондин с чубчиком, подстриженным по линейке праздным ленинабадским парикмахером где-нибудь на пыльной, раскаленной окраине среди глиняных дувалов («Сартарошхона» – и смешной фраер с галстуком на детском рисунке вывески)…
– В комитете комсомола сказали только, что нужно собрать бригаду для строительства в горах, помочь колхозникам отобрать надежных парней. И девушек, конечно, но поменьше девушек, работа нелегкая.
Я отобрал парней. И двух девушек. Джемму, конечно. Она хорошо готовила, зарекомендовала себя на хлопке. Но главное – ты уже понял?.. Я в нее был влюблен… Она? Она, пожалуй, предпочитала Гагика Эскузяна. Чудный был парнишка. Из ссыльных армян-«норикох», из новоприезжих: он где-то там родился, чуть не в Париже. Их тоже сослали. Знаешь, сколько было ссыльных народов в Душанбе?
– Знаю. Французы говорят – депортированных. По их сведеньям, это только Гитлер-злодей депортировал…
– Вот и ты знаешь. Спросишь, отчего я был такой глупый – отчего слепой, глухой?
– Не спрошу, – сказал я. – Сам был такой… А до ссылки и нашим оставалось уже недолго, когда рыжий мясник помер.
– Ну, а я ничего не хотел знать. Нам, как это на русский переводят? Промывали мозги. Человек хочет верить в Бога. А Бога отобрали, сказали – вот вам усатый бог. Он добрый и всемогущий…
– Два усатых бога, – напомнил я. – Был еще немецкий. Но у того усы были пожиже, и он кончился раньше. А этому и сейчас молятся.
– До сих пор русские молятся? – удивленно спросил герр Рольф.
– И русские, и французские, и небитые итальянцы… Человек слаб… Так что же Сары-Хосор?
– Добрались труда с трудом. Чудесный кишлак в горах – райцентр. Рядом долина реки, вся в белых камешках. Кругом леса, а в них, поверишь, дикие яблони, груши, сливы, Великий шелковый путь, поверишь, лучшее место на земле.
– Поверю, – сказал я. – Балдел в этом лесу…
– Расселили по домам. Нас с еще тремя парнями поселили в мехмонхоне у фельдшера, в гостевом доме…
– Знаю, – сказал я. – Не одну обжил мехмонхону.
– Хороший был мужик, молодой, и жена еще совсем не старая, красивая. И уже восемь детей. Отец с ним жил, старый Абдухилок, вот кто мне сразу понравился. Как я теперь понимаю, он не такой еще был старый, моложе нас, нынешних. Он повел нас с Гагиком в сад, на край виноградника, там под деревом был помост, суфа, – отдыхать, чай пить, сказал – хотите? Тут можете спать, тут ветерок… А оттуда такой был вид – на долину, на речку…
– Знаю… – сказал я, и мы помолчали, точно глядели оба с обрыва в долину.
– Поверишь… – сказал герр Рольф, – когда я туда двадцать лет спустя вернулся, в дом не пошел, пошел в сад. И там увидел его, старика, под деревом. Смотрю – не может быть, он, Ако… Я его звал Ако. Но это был он… Он там жил. Сторожил сад. Выжил… Энкавэдэ ушли с собаками, он вернулся…
– Давай по порядку.
– По порядку. Расселили нас. Потом меня как старшего позвал к себе секретарь райкома. Черный такой, рябой мужик, он меня решил подготовить, чтоб я другим разъяснил, какая задача. Будем строить дорогу от областного центра, вернее, она есть, но она завалена камнями, машины не могут пройти, будем расчищать, техники нет, работа трудная. Дорога нужна народу… Он стал искать какую-то бумагу, нашел и оттуда читал мне куски, читал он с трудом. Вот, будет дорога, будет новое кино… «Уже есть», – сказал я, устав ждать, что он скажет. Еще будет… Артистов привезут. Культура будет. Зимний завоз будет лучше. Современная техника. Соцсоревнование. Повышение труда… Еще много чего, целая газета. Но мне не нужно было столько, чтоб моих парней за культурную жизнь агитировать. А он все читал, читал, какую-то инструкцию читал, вот, думаю, валенок…
Я улыбнулся. Очень было странно – на берегу Атлантики, на краю Марокко, вдруг – валенок. Ну, а Сары-Хосор, а советский немец – разве не странно? Большой мир, огромный мир – где, что? А у нас с этим немцем свой уголок в этом мире – Сары-Хосор… Был уголок…
– Потом повезли нас на работу. Много людей согнали – всех жителей. Целый день камни ворочали, под палящим солнцем. Иногда так за день нагорбишься, вечером есть не хочется – только упасть в койку. Бедная Джемма, она готовила, все на стол поставила, а мы уже спим вповалку. У нее слезы на глазах. Джемме, конечно, помогали жена фельдшера и старшие дочки, она с ними дружила. Мы с ними все дружили. Хороший народ горные таджики. И живут как положено, как предки их жили. Мусульмане. Но там как-то им мусульманство не мешало, а помогало, чтоб все шло путем, все главное – любовь к родителям, любовь к детям, брак, гостеприимство ихнее… Конечно, люди и там разные, и счастье не всякому выпадает, а все же больше я там видел счастливых, чем в Европе, да и сирот меньше, и дети лучше воспитаны, как ты думаешь, Борис-ака?
– Раньше думал, как ты. Теперь не знаю, что думать…
– Ну да, Иран, хезболла, шмезболла, Афганистан, Алжир.
– Чего там, в Душанбе режут друг друга. То-то еще будет…
– Я так думаю, – сказал герр Рольф осторожно, – я думаю, в жизни каждой религии бывает страшное время, темное время. Католики вон жгли еретиков, протестанты ведьм жгли, в Испании что творилось при Колумбе… Теперь черная пора у мусульман… Образуется… Я не ученый…
– Храни нас Господь…
– Храни их Господь… У меня там много друзей осталось – в Ленинабаде, в Душанбе. Мои кенты. Не знаю, что с ними…
Мы оба помолчали. Вспоминали тех, кто были там. Вспоминали, где в последний раз видели… Где они сейчас?..
Официант принес нам обоим зеленого чая с мятой. Мы переглянулись, потому что вспомнили, наверно, одно. Навес чайханы в жаркий день. Зеленый чай. Говор ручейка-новардона…
– Ко мне там отчего-то проникся дружбой председатель колхоза. Средних лет мужик. Вот такие ручищи у него были. Торчали из пиджачка… Он нас жалел. Один раз забрал всю мою бригаду к себе на работы. Сказал – сенокос, срочно. Собрались на заре возле правления, с недосыпу и усталости спим на ходу. Он меня позвал в кабинет, дверь закрыл, говорит: «Поезжайте за речку. Там луг за лесом. Собирайте сено. Но только… Только ты не спеши. Дай отдохнуть парням. Никому это сено не пригодится… Не понял? Ну и ладно, тебе безопаснее… Поработайте час-два, поспите в лесу, погуляйте. Можете девушек взять. Что они весь день взаперти.. В общем, понял приказ? Отдыхать… И никому ни слова. А возвращайтесь поздно».
Я потом много раз его вспоминал, председателя. Вспомнил, что он меня расспрашивал тогда, как высылали наш народ, немцев. А я что мог помнить? Он слушал и качал головой грустно. Чего-то он знал, наверно. Фельдшер мне рассказывал, что у него племянник был в НКВД…
Ну, а в лесу мы тогда здорово отдохнули. Купались в заводи: жара, а вода ледяная – такая свежесть. Собирали орехи и груши в лесу. Мне показалась, что Джемма ко мне… в общем, хорошо относится. Казалось, я летать могу. Бегу, бегу и вот-вот взлечу… Сейчас можешь взлететь?
– Могу только упасть, – сказал я. – Душа и та – камнем.
– Командировку нам продлили, – продолжал Рольф медленно, растроганно. – Нас уже весь кишлак знал, и мы всех… Детишки за нами ходили кучей. Детишки там чудные, помнишь? Отчего я там не женился? Дурак был… В конце концов мы дорогу дочистили. В райцентре был праздник, речи, самодеятельность, кино. Кино старое – а все равно до полуночи. Потом мы еще гуляли по садам, в долине – белые камешки под луной… А потом услышали, будто шум в райцентре, пошли в кишлак. И увидели, что пришли грузовики, целая колонна грузовиков. На них военные, в кишлаке переполох, еще непонятно что. И тут у горпарка я наткнулся на председателя. В том месте у горпарка, где пионер с трубой… Помнишь?
– Помню. Только он без трубы.
– Правда. Давно без трубы пионер херов…
Интересно, что б они поняли, веселые немцы у бассейна, услышав, с какой горечью он это сказал, герр Рольф, – пионер херов? Как нам друг друга понять?
– Он меня тоже увидел, отвел в сторону. Он странный был – как пьяный. Я подумал, как странно, потому что горные таджики не пьют. Хотя начальство партийное пьет, конечно. Объясняет, что это они так собой жертвуют ради семьи и народа… Мол, русские, требуют… Он меня вдруг обнял и говорит: «Давай, малец, обнимемся. Может, не доведется увидеться…» Потом я вспоминал – и правда, больше не видел его. А тогда только спросил, в чем дело, ако, что в грузовиках? Он говорит – НКВД, солдаты, будут выселять кишлак. Завтра увезут. Потом весь район увезут. Куда, к чему?
Я испугался, но в дурацкой башке, набитой газетами, уже ответ был: «К новой жизни».
И тут он мне такое сказал, что мне страшно стало. Он первый мне сказал. Потом уж я сто раз слышал, всегда шепотом. Он тоже, впрочем, почти шепотом бормотал, но такое, что большой можно было ценой поплатиться. Говорили потом, что он и платил…
Хлопок им нужен для Москвы. Чтоб перевыполнить. Чтоб Москва орден дала. А где рабов взять на хлопок? В горах. Теперь наш народ увезут… А уж новая жизнь или новая смерть, им что до этого…
Я бросился домой, к фельдшеру. А там уже все знали, плач, крик. Мужчины и наши парни потуже набивали узлы. Разрешили взять по одному на человека – в грузовиках места нет. А там, в новой жизни, все новое дадут… Фельдшер мне сказал, чтоб я пошел простился с его отцом. Старый Абдухилок меня обнял три раза, сказал, что уходит в горы. «Там бараны, – сказал он. – Там кошары. Там меня не найдут. Пусть ищут. Никуда не поеду. Хочу умереть дома…»
– Не нашли?
– Нет, не нашли. Может, плохо искали. Он и умер дома… Еще через тридцать лет. А из тех, кого угнали, многие умерли – и молодые, и женщины, и дети. Климат там другой, вода другая, проклятый Яван… Которые выжили – живут. Новые дома построили, новых детей завели. План выполняли. Или приписки делали. Про это все газеты писали. А как там народ вымирал, мне Абдухилок рассказал. Я туда вернулся лет через двадцать. Был в областном центре в командировке и увидел в аэропорту в расписании – Сары-Хосор. Купил билет, полетел. Будочка на берегу, полосатый чулок – аэродром под кишлаком. Какие-то даже люди шевелятся. Побежал домой, к фельдшеру. Дом полуразваленный. Пошел в сад, на виноградник, к дереву, под которым мы с Гагиком спали. А там сидит Абдухилок. Ничуть не изменился. Долго меня разглядывал, пошел ставить чайник. «Молодец, что пришел повидаться, – говорит, – молодец. Поживи немного». Я и пожил. Ходил в лес. Потом еще раз туда прилетел… В семидесятые годы люди стали возвращаться. Давали им особые разрешения – как в запретную зону. Они хлопотали о разрешении, и им давали, потому что начальство решило теперь ордена на коровах получать. Завезли туда толстых голландских коров, чтоб они по горам лазили. Под это дело многие разрешение брали, чтоб вернуться на землю предков.
– А коровы?
– Коровы подохли. Коровники развалились. Деньги украли. Все нормально. А я два раза туда приезжал. Хотел там поселиться. Только поздно новую жизнь начинать. И в Германию зря поехал – поздно. Украину, с которой нас вывезли, я не помнил, а вот Таджикистан…
– Но там-то и вовсе нынче…
– Да, говорят, там сейчас режут друг друга. Неужели это правда? Такой народ прекрасный, таджики. Лучший народ.
– Лучше немцев?
– У-у… Какой я немец…
Мы расстались, договорившись снова встретиться вечером, тут же, у столиков «Бо риважа», где ж еще встречаться в Эссауире? Вид у гнэдиге Рольфа был усталый. Я хотел его обнять на прощанье, но вовремя вспомнил, что мы все же не в Душанбе… Хотелось о многом его расспросить, но еще был не вечер.
А вечер выдался, конечно, не мудренее утра. Пополудни я встретил у городской стены молодую марокканку, хорошо говорившую по-французски. Она была одета почти по-европейски, хотя и вполне убого, выдавала себя за художницу – кто может ей запретить? Я еще помню времена, когда все варшавские продавщицы говорили, что они искусствоведки («хисторик штуки» – никакого обмана, потому, что уж одна-то штука у них всегда была). Во всяком случае, от этой я не требовал, чтоб она рисовала пейзажи или была поклонницей Климта. Мы просто с ней гуляли у моря, пили чай на набережной, потом я ее покормил обедом – невелика растрата, когда-то она, бедная, ела в последний раз? Ну а потом, уже под вечер – по старой, неистребимой, наверно, привычке, – привел ее к себе, в скромный номер гостинички. Оказавшись вдали от посторонних глаз, она стала поспешно и безо всякого изящества раздеваться. Изящества не было в ней и в голой, и я даже не знаю, чего я ждал? Но все эти годы странствий, все эти загадочные женщины под джелабой, иногда и под чадрой, а порой и в цветастом платье европейского покроя, все эти тайные взгляды, эти нежные руки египетских продавщиц, которые гладят тебя, пока ты выбираешь покупку, все эти черные нубийские попрошайки, ласкающие твое немолодое плечо, повторяя зачарованно на манер Лайзы Миннелли: «мани, мани, мани, мани»… – наверно, все это и завлекло меня в казенную постель к вполне механической процедуре, осложненной лишь опасением за бумажник, однако и не скрашенной никакими восторгами… Потом она ушла, и я сразу перестал думать о ней. Лежал с закрытым окном дотемна и только тогда вспомнил, что у меня свидание с герром Рольфом.
Я наскоро оделся, прибежал на уже опустевшую площадь – его не было. Вообще почти никого не было, а назавтра мне нужно было уезжать спозаранку в Марракеш, к парижскому самолету… Я уснул, но проснулся, как обычно, минут через сорок и провалялся почти до утра без сна в мученьях нечистой совести. И дело было не в том, что мое вчерашнее приключение являлось мне убогим, как сумма, уплаченная за обед (это, вероятно, и была цена здешних любовных услуг), а в появившемся мерзком ощущении, что я предал кого-то. Даже не герра Рольфа предал, не придя на свидание (хотя и его тоже), но каким-то образом предал Сары-Хосор. Было ощущение, что я предал его снова, ибо, конечно, я уже предал его однажды – в тот год, когда мой персональный рай так страшно сползал в пропасть войны и ненависти, а я преспокойно сидел в Москве и в Париже – скорбел и охал, конечно, как все, но не бросился им на помощь, не дал им приют, не накормил, не утешил, как поступил бы таджик… Конечно, тогда рушилась империя, горели рукописи, погибали миры, но что мне до всех миров – там был мой мир, тот, что я отыскал после десятилетий поисков, тот, что сделал меня счастливым, и вот я позволял ему гибнуть… Упаси вас Боже от ночей, подобных той, которую я пережил накануне последнего отъезда из нежной Эссауиры. Как, впрочем, и от многих нынешних моих ночей упаси вас Господь…
Крит, 1998
Примечания
1
Здесь, вероятно, имеется в виду тот малоизвестный молодым читателям случай, когда знаменитый генералиссимус и теоретик политэкономии И. Д-ли, дав своей дочери сто рублей, спрашивал у нее через полгода, много ли денег осталось у нее на питание (старики помнят, что килограмм масла стоил в те годы девяносто рублей). ( Примеч. автора. )
2
Чтобы не бросать тень на доброго пейзажиста (которого и без того уж звали Исааком), автор считает своим долгом пояснить, что Левитан известен во Франции как торговец мебелью.

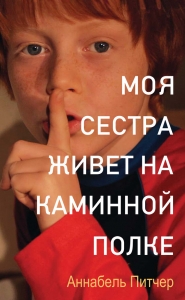


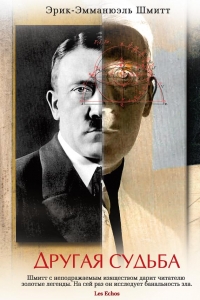




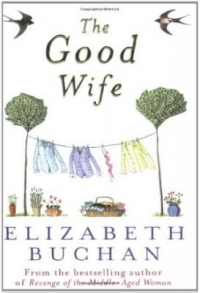
Комментарии к книге «Пионерская Лолита», Борис Михайлович Носик
Всего 0 комментариев