Этот рассказ был напечатан в журнале «Смена» в ноябре 1970 года под заглавием «В полдень у Вечного огня» и стал моей первой в жизни публикацией.
Посвящается Тане АнтиповойМы сидим четвертые сутки в переполненном зале ожидания. Мы — это те, кто не сумел попасть в приаэродромную гостиницу, в теплый номер с постельным бельем, койками и тумбочками. Четвертый день мы спим в красных, синих или серых низких креслах, кое-как питаемся в буфете и ждем, когда наконец начнутся полеты. А за широким двойным стеклом все валит и валит снег, по темному полю, мигая маячами, ползают оранжевые и желтые машины, расчищают рулежные полосы, бульдозеры этот снег отгребают, но работа эта — зряшная. Самолеты стоят залепленные снегом, унылые, с зачехленными рулями и наглухо задраенными роторами турбин.
— …В Тбилиси семнадцать, в Баку двадцать, в Ашхабаде двадцать пять градусов тепла, — через каждые полчаса сообщает гражданочка по «Маяку».
Четвертые сутки я прохаживаюсь по залу ожидания, слушаю про Ашхабад, где плюс двадцать пять, где народ ходит в рубашках, где едят виноград и дыни и где погода лётная.
Сто шагов вперед, сто назад. Четвертые сутки так.
Полярная ночь непроглядной мглой обступила аэропорт, и в душе — тревожная тоска, от которой никуда не деться. За окнами валит снег, валит, как из безмерного черного мешка, не переставая, заносит все больше и больше самолеты, аэродром, полосы, вышку с локатором. И нет ему ни конца ни краю, этому северному снегопаду.
Сто шагов вперед, сто назад — по шлифованным мокрым квадратам. Стрелки на больших круглых часах перескакивают от минуты к минуте все торопливей. Времени остается совсем в обрез.
Жизнь научила меня ждать. Полжизни — в ожидании. Часы, месяцы перед коробкой станции в ожидании знакомого позывного, в ожидании генерации забарахлившего приемника, в ожидании очередного отпуска. Вроде бы привык. Но еще никогда и ничего я не ждал так, как этого полета.
Темное небо за окном. Сколько же в нем снега, мать честная! А времени — всё меньше, всё меньше.
Если бы знал, точно знал, что не поспею, напялил бы снова свои пилотские унты, полутулуп или ватник — и айда к себе, на станцию.
А вот вам! Ни за какие пироги меня туда теперь не заманишь, хватит, откочегарил.
Снова сидеть да слушать, как люди живут? Снова ковыряться в проводах, едко дымить канифолью паяльника, принимать стопку спирта по воскресеньям, чокаясь перед зеркальцем с самим собой?
Опять жить вдвоем с Прошкой, беседовать с ним на воспитательные темы, заглядывать в его нахальные глаза?
Нет, хватит! Напахался! Нарадовался «салютам» сияний, когда только мертвый треск в эфире, и чувствуешь себя совсем одним на всем этом шарике… Будя, ребята! Пусть другого ищут.
— …Вы слушаете «Маяк». Московское время…
Да что же это такое! Вот и четвертый день кончается. Неужели и правда опоздаю?
Да нет! Быть того не может! Уж слишком было бы несправедливо, даже смешно. Доберу-усь! Налетит жесткий норд, разгонит тучи, расчистят полосу — и полетим. Конечно, полетим!
Плотным, непробиваемым фронтом снегопада закрыт весь Крайний Север. Неподвижно застыли на стоянках тысячи самолетов. Механики в клубах пара изо ртов, отдуваясь на ветру в заиндевелых робах, прогревают моторы, чехлят радиаторы, сдирают рукавицы и дышат на красные руки, смахивают снег с ушанок и бровей.
Десятки ледовых и больших, с бетонным покрытием, аэродромов отрезаны от других областей страны.
С каждым днём все больше и больше людей собирается в похожих один на другой залах ожидания, растёт нетерпение и раздражение командировочных, горечь душит людей, срочно вызванных телеграммами, спешащих к свадебным столам, к постелям умирающих.
В далеком маленьком городе, перевалочном пункте многих северных трасс, вместе с другими застрял в аэропорту и Байдаров.
Первые часы ожидания были тягостны, небо еще не затянулось тучами, и один-два самолета южного направления стартовали и уходили, окунаясь в тускло-сизое снежное молоко. Он все надеялся, что и их рейс попадет в число спешных, возможных, но к вечеру замело сильнее, законопатило окна порта, и надежда пропала. Померкли красные сигнальные огни на диспетчерской башне, мутные ореолы летящих снежинок окружили все фонари, и глухая молчаливая ночь стала вовсе непроницаемой.
Он вышагивал по залу, курил не переставая, на вопросы товарищей по несчастью отвечал коротко:
— Закурить? Держи…
Вчера он приехал в этот город с давно утраченным чувством ожидания совсем близкого, скорого счастья, зашел в парикмахерскую и приказал выскоблить щеки. Постригся по разумению старенькой парикмахерши, наодеколонился и еще острее почувствовал праздник.
Байдаров отвык от яркого в полярную ночь света многих ламп, от блеска никелированных железок, от ярких зайчиков, играющих в срезах зеркал. Он сидел королем в парикмахерсокм кресле и разглядывал себя, завернутого в белое, волосы, бесшумно падавшие колечками, и видел, как сильно постарел, как много новых следов оставил Север на его лице: у рта, под глазами, на переносье. Дома, в овальном маленьком зеркальце, перед которым аккуратно брился, дав себе обет не опускаться и не зарастать, он не мог разглядеть себя целиком да и не особо присматривался. Теперь, на «материке», на ярком свете, закинув голову, он смотрел и удивлялся.
Он выглядел теперь куда старше своих тридцати двух. Сорок, а то и с гаком — можно было дать спокойно, без натяжки. И седины побольше стало. Вот он — Север. Через пяток лет — совсем старик.
— Освежить?
Он не сразу понял, чего от него хочет эта мамаша. Совсем отбился от людей, отвык. Как ни верти, а уж семь лет с краткими перерывами он и радовался и бедовал в одиночестве. Одно название чего стоит — Далекий.
Капитаны судов изредка отмечают остров Далекий на своих планшетках красным крестиком, но наверняка никто из них ни разу не останавливал на нем своего взгляда, ни разу его размытые очертания не преломлялись в призмах их дальнозорких биноклей: слишком отдален он от всех трасс, линий и фарватеров.
В одной из расщелин скал, там, где порывы норд-оста и норд-веста не так беспощадны, среди побуревшего лишайника, стоит крошечный домик.
Здесь, на этом маленьком острове, живет Байдаров. Уже семь лет. Один.
Геодезическое управление, в которое попал Байдаров по оргнабору после армии восемь лет назад, было одним из крупнейших в стране.
Здесь можно было встретить летчиков и водолазов, метеорологов и ботаников, охотников-промысловиков и строителей-бетонщиков… Все они жили бурно и стремительно: прилетали, улетали.
Геологи таскались, вытаптывали тундру и приносили образцы пород и карты маршрутов; пилоты, краснолицые, с кожей, загрубевшей от утомительных ожиданий на ветру летной погоды, возили людей и их барахлишко, возили рыбу и оборудование, кантовали туда-сюда солярку в бочках, концентраты в ящиках, сушеный лук в мешках… перебрасывали с точки на точку аккумуляторы и экспортный гагачий пух; радисты держали связь с десятками станций, и в аппаратной управления всегда слышался прерывистый писк телеграфных сообщений.
Байдаров попал в самый круговорот этой спешащей, пахнущей бензином и снегом жизни.
Отслужив три года действительной на армейском локаторе, он пошел на гражданке настройщиком радиостанций. Здесь всем требовалась безупречная, надежная связь. От нее зависели жизни. Часами просиживал, копаясь в схемах, мучаясь с диодами, коптя канифолью. Хорошая была работа. Но потом судьба привела его на Далекий.
Он хорошо помнил ту весну.
Пришла любовь.
Они бродили над берегом моря, у которого звенели льдины, а Байдаров, глядя на низкое солнце, светившее розовым пятном среди серого неба, злился, что здесь весной не бывает ночей. А может быть, это было еще чудеснее — ходить вдвоем по городу, когда все спали, и целоваться при неярком солнечном свете посреди пустой улицы…
Он чувствовал, что дорог ей, он узнал от нее много новых своих имен, которые никому никогда не смел бы повторить, она горячо шептала их ему, а он, удивляясь себе, не узнавая себя, как робкий семнадцатилетний мальчишка, смотрел в светлое окно северной ночи, занавешенное старой газетой, на серо-голубое небо. Для него всё было ясно. Все было решено…
Но шло время, она похорошела, стала больше молчать, и когда он целовал ее, чуть отодвигалась и не прикрывала глаза, как раньше, а бросала куда-то быстрые взгляды из-под ресниц.
— Ну вот что, хватит, — сказал Байдаров однажды, когда она в третий раз не пришла на свидание и он заявился к ней в заснеженном полушубке с заиндевевшими бровями, бледный, хоть и с мороза…
— Не кури, Петя, — сказала она.
Байдаров посмотрел на нее, по всему чувствуя, что он, в общем, здесь ни к чему, и что недаром так чисто и прибрано в комнате. Она не обращала на него внимания, проходя мимо, бездумно, по привычке погладила по голове, и Байдаров вдруг вскочил с табуретки, прижал ее к себе, крепко, отчаянно — она оттолкнула его.
Байдаров сразу отпустил ее, она твердым шагом отошла к зеркалу, поправила прическу, посмотрела на него из зеркала и усмехнулась: не суди, мол, уж как есть — так есть.
Говорить было ни к чему. Чувствовал — он её задерживал. Она — ждала. Ждала — не его. Он нахмурился, окинул взглядом комнатку и пошёл к выходу. Она накинула белый пуховый платок, вышла за ним, они молча постояли минуту.
— Ладно, иди, а то простынешь. — Байдаров надвинул шапку на самые глаза и быстро сбежал по лестнице.
Он не помнил, где шатался, как пришел в общежитие, обмел веничком унты и, хоть было еще рано, забрался с головой под одеяло. Жить дальше… Ну да. Конечно. Нужно было жить.
Приходить в девять ноль-ноль, здороваться, натягивать наушники, регулировать тестер, снимать дымящимся паяльником капли олова с болванки, собирать схемы, обедать в столовке, вполуха слушать чужие разговоры, ругать или хвалить поварих, макать в горчицу недосоленные ромштексы, смотреть на женщин, забивать «козла», когда станет совсем невмоготу. Читать книжки. Пить.
Надо было подаваться отсюда.
Слишком многие знали от него самого, как сильно он счастлив, как здорово у него все и какая отличная у него Наталья…
Куда уедет, где пристанет — понятия не имел. Север велик. Арктика необъятна. Везде бегут невидимые радиоволны. Руки его везде сгодятся.
Был последний восход перед полярной ночью.
Второй день радиостанции прерывали на полуслове свои передачи, чтобы сообщить после тревожной паузы о продвижении циклона, неотвратимо приближавшегося с севера. Люди, давно привыкшие к его набегам с заносами, трехметровыми сугробами, порванными проводами и закрытыми школами, кивали, как старой знакомой, белесой, массивной туче, в глубинах которой прятался буран. Она не торопясь выплывала из-за моря, покрытого льдом, и уже дохнула на город холодным ветром, когда самолет, тяжело завывая, вылетел из-за крыш и круто ушел вверх.
Дрогнул в развороте и окунулся в солнце, уже невидимое с земли. Последние лучи окрасили самолет в бронзу, сверкнули дюралем по кромкам плоскостей, лыжам, пропеллерам. Самолет, летевший навстречу циклону, качнулся я исчез в туче.
Он шел на выручку гидрографам, затерявшимся во льдах. Больше его никто не видел.
В радиоцентре толпилось необычно много народу. Летчики стояли угрюмые, насупившиеся. Их подбадривал кто как мог, но слова были обесценены общим горем. Радисты до боли всматривались в узкий сектор шкалы, на котором должен был ответить «борт 2315». А он молчал, и все знали, что означает это пятидневное молчание.
Оператор переключал радиостанцию, и его голос входил в пористую крышку микрофона, пробегал по тысячам проводов, умножался, превращался в импульс, взбирался на сетку передающей антенны и несся над снегами, зимовками, касался других антенн и звучал из приемников ледоколов, из раций вездеходов, со скрежетом ползущих в ночи, из наушников сотен бортрадистов, но не достигал тех, кому предназначался. «ИЛ-14», «борт 2315» не отвечал.
Байдарову представлялся беспомощный, потерявший управляемость и силу самолет, брошенный в коловерть ледяного вихря, и ему было ясно, что надеяться не на что.
Здесь было не впервой терять друзей.
Они уходили иногда поодиночке, иногда целыми экипажами. Все бывало.
Но после этой аварии был поставлен вопрос о создании дополнительной станции наведения, которая могла бы точнее доводить авиацию до нужных точек. Создать такой маяк было решено на острове Далеком.
И через месяц, с приходом тепла, вздымая над островом стаи крачек и люриков, затарахтел вертолет, и из него вышел Байдаров — в телогрейке и красном свитере, сосредоточенный, деловой, строгий.
У него… да у него даже дыхание перехватило от радости, когда он услышал, что есть такая нужда в радисте на острове.
Но когда семь лет назад он вошел в первый раз в этот худо-бедно утепленный, крохотный домишко, глянул на низкий дощатый потолок, на железную койку, стало не по себе. Вот тут… одному… Но на столе стоял могучий армейский всеволновый приемник «Волна», рядом с ним — передатчик и серый шкаф радиомаяка. Хозяйство было не первой свежести, но серьезное, оно требовало настройки, ухода, это была его давнишняя неизменная страсть, и пришел день, когда он почувствовал там себя совсем неплохо: затухающий голос бортрадиста кричал ему в ухо слова благодарности, приветы от экипажа… Потом еще многие благодарили.
Он жевал сладкую мороженую картошку, пуще глаза берег и холил, кормя соляркой, источник жизни — дизельный движок, колотил топором смерзшиеся пельмени, измерял осадки, передавал в Центр ледовую обстановку, ловил музыку Индии, Америки и Швеции, закинув руки за голову, лежал на койке, слушая «Угадайку», перечитывал старые «Огоньки», но нет-нет да и являлись издалека мечты, желания, знакомые лица.
Горькие и светлые воспоминания окружали… В груди щемило, хотелось поговорить с кем-нибудь, он начинал возиться с Прошкой, пес, здоровенная хитрая лайка, притворно рычал, скалился, щелкал зубами.
Так они вместе с Прошкой дожидались весны, света и борта — вертолета, который возвращал их на Большую Землю, в город.
Там Байдаров дня три занимался бумажной суетой, счетами, накладными, погрузкой еды, запчастей и топлива для нового сезона, получал разом за полгода огромные свои «северные», гулял неделю, пил-угощал с мужиками, крутил с бабьём, а после весь свет ему был не мил, муторно становилось и пусто.
И он, каждый раз еле дожидавшийся Большой Земли, уже снова ждал и не мог дождаться, когда залезет в обшарпанный «МИ-4», заваленный мешками, бочками, ящиками, бухтами проводов…
Такова была его жизнь, привычен и размерен был ее ритм: месяцы одиночества, короткие, редкие вылазки к людям и снова — остров, снова месяцы в непростой и утомительной работе корректировщика полярной авиации.
И вот, спустя семь лет такой жизни, Байдаров вышагивал по залу ожидания, зная, что от этого рейса в Москву зависит его судьба.
Метет за окном… Северное проклятье…
Она придет, будет ждать. Пройдет час. Потом ещё полчаса. И ещё. Она не уйдет. Она будет ждать долго, очень долго… но…
И полетит она в свой город, и будет ей худо, тяжко возвращаться, опять смотреть на белые церкви, на реку…
Сто шагов вперед, сто назад, с ума сойти можно. Хоть бы адрес знал. Обычный, почтовый… Отбил бы телеграмму. «Задержала погода». Но у меня — только позывной ее станции, и не дай Бог, чтоб кто-нибудь узнал о наших разговорах… контрабандой.
Уже много месяцев в нарушение всех служебных инструкций и предписаний мне удавалось продлить этот разговор на одну-две минуты.
И эти минуты незаметно для меня самого становились от месяца к месяцу все значительнее и важнее.
Началось это случайно.
Просто, наверно, нашлось у нее свободное время, а может, никто не стоял за спиной и не услышал — мало ли почему? — только однажды, в конце связи, эта далекая радистка спросила, правда ли, мол, что на «точке А-77-33», на острове Далеком живет он один.
— Да нет… — ответил я ей, — весной, летом хорошо: птицы прилетают. И не прослушал я, не прослушал, как умолк вдруг женский голос за несколько тысяч километров от острова.
Наши свидания в эфире случались раз в неделю, потому что через каждые три дня ее заменяла девушка с твердым, уверенным голосом, четкой дикцией и короткими репликами без выражения.
Скоро год, как мы впервые проболтали неположенную минуту. Теперь предельно сжаты были все мои сообщения, непременно надо было мне урвать еще одну лишнюю минутку, украсть ее у другого радиста, с другой зимовки или станции,
Я не знаю ее лица, ее рук, глаз, не представляю их и боюсь представить: для меня существует только голос, женский голос, трепещущий мембраной наушника.
Свистел эфир, трещали разряды молний, перебивали друг друга сигналы кораблей и портов, сигналы любителей, врывавшихся в наши служебные диапазоны, смазанный треск скоростного телеграфа, а мы воровали свои минутки… а я ждал, когда вновь прилетит с радиоволной ее голос, немного усталый, с хрипотцой, с вологодским выговором.
Сколько сигарет было искурено в ожидании этого голоса, о чем только не думал я в эти минуты, ожидая…
Шли месяцы, и я начал понимать, что всё, всё, что бы я ни делал, связано непонятными, крепкими нитями с нею. Ее зовут Таня. Таня… Я люблю это имя.
И хоть я ни разу тебя не видел, я знаю, как ты ходишь по улицам своего города, как приходишь вечерами в свою комнату, закрываешь дверь и включаешь музыку. И, слушая музыку, думаешь об острове среди ледяных полей, о человеке на нем под черным небом полярной ночи. Обо мне. На всей земле — только ты одна.
Я люблю Далекий весной, когда вскрываются льды, когда море снова пахнет солью, когда ветер не режет глаза, а несет с далеких берегов, из тундры забытые запахи трав, цветущего лишайника, оленьих стад.
Плохо тогда становится нам с Прошкой. Носится он как угорелый по камням, лает просто так, задрав голову к небу, лижет тающий снег, принюхивается, визжит и крутится волчком. Мы ждём с ним одного и того же. И приходит этот день.
Прошка настораживается, цепенеет, начинает мелко дрожать, пригибается к снегу. А потом вскакивает и несется по камням к морю. В просветлевшем весеннем небе летает и кричит чайка-хохотунья. Первая.
Она подлетает к камням, срывается, планирует и усаживается на кромки льдин, чиркает крылом по воде и с громким криком уходит к материку.
И снова дни одиночества, но мы с Прошкой — опытный народ. Теперь скоро.
И летят с пронзительным криком чайки, летят бело-черными стрелами кайры, летят серые глупышы, занимают уступы, селятся в щелях, на камнях. Тысячи птиц вьются над Далеким, и кипит жизнь, и будто снегом разносит ветер белый пух, и хочется, чтоб было так всегда.
Крик, писк, свист крыльев, драки и скандалы, ветер несет серые, белые и сине-черные перышки, в воздухе плавает розоватый пух.
Ловят кайры рыбешку, дерутся, пихаются по уступам, чайки нахально подлетают к дому, усаживаются на натянутых проводах антенн, вертят головками, насмешливо рассматривают заливающегося Прошку и, со свистом поднявшись вверх, роняют на скалы, на крышу, на провода белые метинки помета.
Счастливое это время! Мы счастливы, потому что уже давно стоит полярный день, потому что тепло и у нас на острове тысячи птиц. Прошка ходит на охоту, возвращается исклеванный, но сытый и довольный жизнью. Недолгая ему лафа. Только начнут кайры нести яйца на голые камни, не подобраться ему к ним. Заклюют всем базаром, не раз и не два крепко поучили…
Гудят ноги. Сколько километров отшагал — сто шагов туда, сто — назад… Сажусь в кресло, лезу в карман за сигаретой. Вторая пачка кончилась. Ну и ладно. Подремлю.
Таня! Если бы ты знала, как трудно мне было сказать эти два слова: «Давайте встретимся». Сколько раз обещал себе сказать и — не мог. А вот теперь — жду самолета, жду погоды, чтоб лететь к тебе навстречу. А за окошком — беспощадный снег, и нет ему ни конца ни краю, этому северному снегопаду…
А помнишь — тогда, весной? Я сказал, что очень жду наших выходов в эфир. И ты ответила: «Я тоже, очень». Знаешь ли ты, чем был для меня тот день? Я не мог больше оставаться у рации и вышел из дому. Будто опять родился, в новую жизнь.
Против света скалы были серо-синими, и небо, все в плотных, мощных облаках, дрожало и, казалось, приглушенно гудело. Облака медленно двигались, переворачивались, меняли окраску и то становились тоньше, то наполнялись силой, и я…
— Что? Что такое? — Байдаров не расслышал, ч т о пробубнили по радио, и, хватая за руки бегущих к выходной галерее людей, спрашивал: — Что сказали? Полеты?
— Летим, парень! Летим! — Старик в лохматом полушубке махнул рукой. — Слава тебе Господи, поспеем.
— …Па-авта-аряю-ю… Объявляется посадка на самолет, следующий рейсом… Объявляли посадку. Вскочили геологи, заплакали разбуженные ребятишки. Байдаров метнулся вслед за всеми и выскочил на поле.
Аэродром был расчерчен черными полосами по синему ночному снегу. Со всех сторон свистели и грохотали турбины, ревели моторы, со всех сторон слышался разноголосый рокот прогреваемых, выходящих на режим двигателей.
Разом вспыхнули прожектора на стоянках, осветили холодно мерцающие алюминием фюзеляжи и хвосты с красными флажками. Загорелись красные и зеленые бортовые огни на кончиках крыльев, ослепительно мигнули раз, другой, третий и принялись торопливо вспыхивать алые блистеры.
Темной шеренгой люди пошли по бетону к одному из самолетов.
Байдаров, еще не веря в свое счастье, предъявил билет и поднялся вверх к зияющему провалу двери.
Он сел в кресло, глянул в круглое оконце на заваленный снегом, светящийся изнутри желтым сиянием корпус аэровокзала, на алые молнии, разбегавшиеся мерными вспышками по крылу, снегу, отъезжающему трапу, и все эти пять дней тревожного, мучительного ожидания показались ему сном, смутным и полузабытым.
Пронзительно зашелестел воздух, поднялся до свиста, перешел в мерный грохот, задрожали борта и кресла, осветилась впереди взлетная полоса, и «Ту-104» самолет покатил в разбег.
Небо, синее и густое, было прозрачно. В размытой, расплывчатой дали алела полоса восхода, там занимался день.
Третий час длился полет, во всем салоне не спал один Байдаров. Он сидел в конце фюзеляжа, у хвоста, сидел, пригнувшись к иллюминатору, и, раздернув занавески, не отрываясь, смотрел в нестрашную бездну, плавно вздымавшуюся и отходящую вниз. Из сопла двигателя струились желто-голубые огни, они отлетали назад, мгновенно растворялись, и весь мир за иллюминатором казался ему безмятежно-спокойным.
После пяти дней тревог, гаданий, страха теперь в его душе снова были покой, уверенность, радостная тишина.
Он любил сейчас каждую заклепку этого самолета, он желал счастья и долгой, радостной жизни пилотам.
Сегодня. Через десять часов.
Раньше его не оставляло любопытство: какая она? На его мимолетные, как бы невзначай, вопросы она не отвечала прямо, умолкая. Некрасивая?
Раньше, когда он ждал и не мог дождаться этой встречи, нет-нет, а рождалось беспокойство: ну да, хорошо, всё было здорово по радио, а вдруг… Встретятся — и не станет слов, не о чем будет говорить, и повиснет над ними молчание?
После года ворованных минут? Когда я хочу ей столько сказать?
Плавно качается огромный самолет, кренится в виражах и снова выравнивается, выходя на прямые. Сколько самолетов провел он на Далеком! Давал им курс, видимость, ветер, привод на радиомаяк…
— Уважаемые пассажиры! Из-за густого тумана аэропорт Домодедово закрыт. Наш самолет совершит посадку в Свердловске.
Спать хочется. Только спать.
Чтобы не видеть ни этого аэровокзала, ни часов, чтоб все забыть. Как сильно я устал. От гонки, волнений, спешки.
От радости ожидания, от полета в новый день, который так и не наступил. Ну, вот и всё.
Минуту назад прошел сигнал времени. «Последний… шестой… дается ровно в двенадцать часов по московскому».
Она сейчас там.
В ушах, в голове — ее слова, ее голос. Только голос.
Хрипловатый, низкий, то растерянный, то застенчивый, то смеющийся. Спокойный, приветливый, любящий.
Разойдется туман. Я прилечу в Москву и приду к Вечному огню, как договорились.
Потому что нелетная погода — это ведь не смерть.
Каждый день в двенадцать-ноль-ноль московского я буду приходить к Вечному огню, пока мы не встретимся.
1969
Двести первый пассажир
— Ты взрослая, ты умная, я не хочу вмешиваться в твою жизнь…
Сегодня, как вчера, как каждое утро, одни и те же слова. Наташа, торопливо завтракая в маленькой белой кухне, ждет, когда мама наконец успокоится, поймет, что ничего изменить нельзя. Смешная мама! Разве оттого, что она ему скажет, что ей уже двадцать шесть и она будет ему лучшей женой в мире, что-нибудь изменится?
— Все нормально, мама.
— По-вашему, нормально. А дальше-то что?
— Хочешь, скажу тебе правду: я сама ничего не знаю.
— Он старше тебя на десять лет!
— Ну и что? Просто я, вероятно, не та женщина, какая ему нужна. Считал бы нужной, устроили бы мы эту самую свадьбу, и перестала бы ты врать тете Нине, что у меня ночные записи и командировки.
— Значит, он тебя не любит.
— Опять двадцать пять…
— Это все у вас очень скоро кончится, если ты не будешь думать о жизни.
— Хорошо. Я буду думать о жизни. Я опаздываю. День сегодня сумасшедший — сдаю передачу.
— Домой, конечно, опять не приедешь?..
— Приеду, он сегодня улетает.
— Ты должна поговорить с ним!
— Ну ладно, я поскакала.
— Опять я тебе испортила настроение перед работой…
— Тебе легче?
— Нет.
— И мне не легче.
Наташа выходит из парадного и бежит через зеленый садик на автобус. Бедная мама! «Не упусти, не упусти!» И тетя Нина и все со всех сторон: «Лови, держи!»
В самом деле, нужно поговорить, думает Наташа, покачиваясь в толчее утреннего автобуса. Но уж если по самому большому счету, не обманываясь, кто она ему, этому здоровенному, ужасно славному человеку?
И что он в ней нашел, этот хозяин неба, по которому, наверно, сохнут все стюардессы, мойщицы и радистки от «Владика» до Минвод? Но вот нашел же что-то…
Она красивее других? Нет. Хороша собой? Пожалуй, да, и то, когда не задергана редакторами. Рыжая. Где-то примешались татары — глаза с раскосинкой. «Пикантная девочка». Умнее других? Нет и нет. Второй год они вместе. Вместе? Из их встреч хорошо если сложится три месяца. А все кругом только и спрашивают: «Ну, так когда же, когда?»
Стоит ему позвонить, и она, забыв все на свете, примчится к нему, ему нравится таскать ее с собой к друзьям, с улыбкой слушать ее умненькие разговоры, но разве он не понимает, что все это ей не так легко дается? Понимает, конечно. Делает вид, будто не понимает. Любит? Он этого ей никогда не говорил.
Неужели ей первой заводить этот разговор? Самой рубить концы? Сегодня он улетает. Он идет в свой самый тяжелый рейс.
— Улица Королева, — рокочет динамик под потолком автобуса, — следующая остановка Телецентр.
В редакции ее тотчас втягивает в бешеное колесо последнего предэфирного дня, водоворот бумаг, текстов, поисков пропавших роликов кинопленок, звонки…
Галка встречает на лестнице; «Забегай ко мне, детка!» Забежалаю Закурили. Киношники из Галкиной редакции прихватили свои «флоксы» — и на объекты, за сюжетами, вечерний выпуск варганить. Остались вдвоем. Галка с ножом к горлу:
— Как у вас с летчиком? Давай не темни, я все вижу. Все-то все видят…
— Не будь, Натка, дурой.
На том и расстались, разбежались по этажам.
А Лешки нет ни дома, ни в штурманской. Неужели не удастся попрощаться, пожелать ему, как всегда, счастливого полета? Где он? Может, спит? Сунул телефон под подушку? Или… А что «или»? Никаких «или». Ну, ладно, Гузик Алексей Петрович… Мы это тебе припомним. Будто трудно самому снять трубку, набрать номер. Прилетай только — будет разговор. Видно, и правда пора.
Если вы любите аттракционы — всякие там качели, карусели, чертовы колеса, — садитесь в машину к Лешке Гузику. Не прогадаете. Совершенно бесплатно вы получите кучу удовольствий.
Не каждый, кто хоть раз гонял с ним из Москвы в Домодедово, садится снова в его синенький «Москвичок». А уж если кто, скажем, жениться надумал или за кооператив две с половиной выложил, ни за что не сядет. Проверено жизнью. Надо видеть Лешку за рулем. Надвинув шикарную аэрофлотскую фуражку на темные хохочущие глаза, Лешка в голубой шелковой рубашке еле касается двумя пальцами обмотанной красным проводом «баранки».
— Прошу, — небрежно роняет, распахивая перед вами дверцу. Вы усаживаетесь, а он вставляет в замок зажигания ключ с веселеньким брелоком:
— Н-ну, какой расклад?
Если вы человек опытный и мало-мало сечете в жизни, вы ответите в тон:
— Семь червей!
Тогда он довольно хмыкнет, тряхнет своей большой головой мексиканского божка — скуластый, с приплюснутым носом, с толстыми красивыми губами — и рванет машину с места. Ну держитесь! Что там ралли!..
Откинувшись на спинку сиденья, почти не переключая скоростей, Лешка дует на четвертой. Машины не машины, люди не люди — он несется вперед, и вы чувствуете, как мотор тянет вас все дальше по зачумевшей от солнца и бензина Варшавке. На поворотах вас швыряет по машине, как ту дробинку, что закладывают в пластмассовый шарик детской погремушки. Разбегаются прохожие, наполовину высовываются из кабинок голые по пояс самосвальщики, грозя вам вслед здоровенными кулаками.
— Пижон! — кричат они, перекрывая рык своих дизелей. — Бандит!
Но Лешка Гузик не бандит и не пижон. И это, видно, давно поняли все инспектора ГАИ Домодедовской трассы, потому что они никогда не свистят ему вдогонку и не записывают номер.
— Привыкли! — смеется Лешка, ловко пристраиваясь в «зеленую волну». — Хоть бы раз штрафанули!
— Все до разу! — нервно говорите вы, опасливо проверяя, хорошо ли закрыта дверца. Упаси Бог вывалиться на такой скоростенке. Убьешься.
— Мой раз уже был! — щурится Гузик на солнце и улыбается дороге, светофорам, постовым.
Так «на газах» он прикатывает к порту и сегодня. Выбирается из салона и набрасывает синий китель с командирскими нашивками, Облегченно скрипят рессоры. Лешка обходит пару раз вокруг «Москвича», стучит ногой по баллонам, присаживается на корточки и колдует с «антиугонкой-секреткой»: авиация есть авиация, кто его знает, сколько придется стоять машине без хозяина… Смотрит на ручной хронометр — время топать в отряд.
— Здорово, бухгалтерия! — басит, просунув голову в штурманскую. — Какая погодка-то, а! Не захочешь — полетишь!
— Леха! Гузик! — стонут штурмана. — Тут тебе девушки звонили, звонили, мы уж и трубку не снимаем. Пользуешься, сокол, успехом?!
— Бывает, — смеется Лешка, лукаво прикрыв глаза. — Где моя команда?
— Будто не знаешь. Покрутились-покрутились, видят: нет тебя — и на стоянку.
— Ясно. Наша марка. Ладно, парни, до скорого.
Помахивая портфельчиком, таким маленьким в его крепкой смуглой руке, Гузик торопливо проскальзывает по узкому коридору, сплошь завешанному грозными памятками: «Пилот, помни!», «Штурман, не забудь!». Выходит на поле, высоченный, крутоплечий, и широко шагает по горячему от июльского солнца бетону.
— Эй! — кричит водителю длинного, рычащего, китоподобного «KЗ» — керосинозаправщика. — На какую пилишь?
Тот тормозит, обдавая Гузика синим дымом солярки.
— На сороковую!
Лешка прыгает на подножку и так, держась за скобу в кабинке, едет между самолетами. Одни стоят неподвижно, шипят и свистят турбинами, другие катятся, разворачиваются на месте, раскручивают винты до звенящего рокота, рулят по дорожкам. Снуют автотрапы, сопроводительные желтые «пикапы» с мигалками наверху.
— Жара! — кричит водитель в наушниках наземной связи сквозь рев мотора. — Как… мышь мокрый!
Лешка кивает.
Далеко, на самом краю поля, у сосняка, на сороковой стоянке стоят три «шестьдесят вторых». K ним еще ехать и ехать по бетонке. Один из них — Лешкин корабль.
Надо пересекать взлетную полосу. Шофер тормозит и просит разрешения по рации. Ждут. Вот с громом разгоняется и взлетает «стотридцатьчетверка». Гузик прищуренным из-под козырька глазом привычно провожает взлетевшую машину.
Хорошо, радуясь силе своей, соскочить на ходу с подножки тягача, тиснув на прощанье жесткую, черную от загара и масла руку, хорошо шагать, размахивая портфелем, под серо-зелеными животами и крыльями самолетов, переступать через шланги, вдыхать спиртовой дух гидрожидкости, раскаленного дюраля и керосина, хорошо видеть, как, расставив ноги, скрестив руки на груди, на тебя смотрят издали твой «второй», штурман, радист и инженер.
— Они задержались, — ехидно скалится радист Крымов. — они обчественники.
— Вы знаете, что меня погубит? — говорит Гузик, пожимая руки ребятам.
— Ха! Спрашиваешь! Уж кто-кто, а мы-то знаем.
— Ну?
— Темперамент!
— Мальчик! Сядь и не поднимай больше руку. Меня погубит мой либерализм. Распустил вас себе на голову, никакого почтения.
Один за другим карабкаются по легкому подвесному трапу в смотровой люк и уходят вперед по самолету, в пилотскую, в его громадную дельфинью голову. Радист с техниками прозванивают каналы, Гузик проверяет гироприборы, локатор, гидравлику и противопожарку, списывает девацию магнитных компасов, ставит крестик за крестиком в ведомости технарей.
Через час все готово. Гузик связывается с руководителем полетов.
— Броня, Броня, я борт 86015-й. Опробование закончил. Машину принял. Разрешите отрулить с техстоянки к вокзалу.
Самолет на низших оборотах турбин плавно трогается и, подрагивая на стыках плит, ползет вперед…
Пора идти к медицине. Дохнуть в «хитрую трубку» — проверка насчет пива и прочего. Проверить давление, Дать выслушать свою загорелую, поросшую черными волосами широкую грудь. Улыбнуться Зиночке-вампирочке, лаборантке, берущей кровь на анализ…
И снова идут к самолету. Вылет в 15.00, но их дальний, беспосадочный — обычно задерживается. Значит, еще минут сорок.
И вот они сидят на своих местах. Сняли кители, закинули фуражки, Гузик открывает боковые форточки, налаживает вентиляторы, смахивает пот со лба, ерошит курчавую, как у негра, шевелюру.
— Полегше вроде?
— Хорош, — говорит Прохоров, второй пилот. — Обдувает. Слушай, как Наташка? Жениться не надумал еще?
— А куда спешить-то? — говорит Гузик.
— Попробуй, жени такого, — хмыкает Крымов. — Задачка!
Но его перебивает начальник службы перевозок по УКВ-станции:
— 86015-й! Погрузку блока питания, багажа, пассажиров начинаю.
Уже заправлены баки, сейчас приедет бригада бортпроводниц, блокпитовцы втащат по галерейке контейнеры с едой и льдом, и повалят, загалдят пассажиры: дамочки в пестрых платьях, ребятня, морячки, офицеры, интуристы — загорелая с юга, шумная, чуть-чуть разволнованная скорым отлетом публика.
Вот и бригада. Из «рафика» выскакивают, все в синих формах, пять девчонок.
Гузик, улыбаясь во весь рот, приветствует «хозяек воздушного дома»:
— Салют, девочки! Ирочка, что ты как неживая! Что, уже заморилась? Еще не то будет. Откуда знаю? Хм, теоретически.
— Ох, трепач, ох, артист! — смеются бортпроводницы и смотрят с обожанием. Чуть подмигнув, он поворачивается и уходит в пилотскую.
Усаживается в свое левое кресло фундаментально. Прикидывают с Прохоровым схему центровки. Машина нагружена изрядно, маршрут дальний. Будет тяжелый взлет.
Получив команду, выруливают на предварительный старт, Лешка Гузик оборачивается к инженеру:
— Молись, старина.
На земле их голоса пошла писать губерния в магнитофонной комнате.
— Первое… — нудным голосом начинает Матвей, — расстопорить рули…
И так все пункты карты обязательных проверок. На земле по такой же карте следят, чтоб экипаж ничего не забыл и не пропустил.
С командно-диспетчерского пункта, с верхотуры шестигранника, приходят слова:
— Проверь рули, закрылки, взлет разрешаю!..
Гузик подмигивает второму пилоту, снимает носок ботинка с тугой планки тормозов и выводит вперед дроссели тяги — все четыре — на взлетный режим турбин.
В середине тракта — большого окончательного прогона передачи, генеральной репетиции перед выходом в эфир, Наташа, сидя за пультом, нет-нет да и взглянет на часы. Без двадцати три. Совсем уже скоро… Хорошо, что никто не может узнать ее мыслей. Да и кому до них дело сейчас, когда идет тракт, самая запарка, самая нервотрепка.
Мелькают голубые мониторы, горят красные лампочки на камерах, и вроде все неплохо, но каждую секунду может быть сорван с таким трудом набранный легкий ритм, и начнется ругань, крики, беготня, режиссер сцепится с редактрисой, а Эмма Генриховна сегодня не в настроении. За толстым стеклом аппаратной залитая светом студия Б-500. Идет монтаж кусков программы о нефтяниках. Операторы работают сегодня четко, мало завалов и нахлесток, дикторы пока — тьфу, тьфу — без «ляпов», не волынят и не спешат, все по графику. Главное сейчас — чтобы не было заминки. Если все кончится, как началось, передача будет игрушечка.
— Стоп! — не своим голосом кричит в микрофон Эмма. — Где фото? Витя! Третья камера!
Витька начинает лихорадочно водить камерой влево-вправо, искать трубой объектива фотографии на барабане.
— Есть! Есть картинка! Поехали…
Без четверти три. Он уже сидит в своем громадном белом самолете, готовится лететь в рейс. О ней он и думать забыл. Ну и хорошо, все правильно, все законно. Ей самой тоже ни к чему держать в голове его самолет, рейс, полет.
— Снегирева! — Эмма срывает очки и грохает на столик. — Что-то не так с текстом.
— Почему? — вздрагивает Наташа. — По-моему, нормально.
— Внимание, дикторы, последний абзац еще раз…
— Не было печали… — «звуковик» отгоняет назад пленку и стыкует абзац. Взмах руки…
«…Вот и Аветик Ширамбаев не знал в юности, что станет добытчиком черного золота. О чем мечтали его сверстники-мальчишки? Быть летчиками, мчаться в поднебесье, ни о чем другом они и слышать не хотели…»
— Гос-споди… муть зеленая… — шипит Эмма. — Я говорила: выкинуть это сопливое «поднебесье». Не послушали — радуйтесь!
Наташа, как автор текста и ответственная за программу, делает вид, что не слышит.
— Снегирева! Я вырезаю «поднебесье».
Наташа кивает: ладно, кромсай. Пусть. Пусть текст двадцать раз читан-перечитан, правлен, резан, сокращен, отжат. Пусть.
Эмма радостно шмыгает носом. Стучит по микрофону:
— Саша, размагнить!
«…О чем мечтали его сверстники-мальчишки? Быть летчиками, ни о чем другом они и слышать не хотели. И он сам хотел стать членом семьи крылатых…»
Наташа помнит, как сейчас, тот мартовский день, когда увидела в первый раз Лешку. В то время она работала на «подхвате», ждала тарификации и вкалывала на все отделы. Ей позвонили из «Эстафеты». В трубке звенел голос Харламова:
— Мать! Хочешь иметь золотой материальчик? Хватай фотокора, садитесь в машину и жмите в Домодедово. Там у них «чэпэ» получилось: летчик спас двести штук народу, родственники плачут, ветераны плачут, все хотят пожать руку герою… в общем, сама знаешь… Записывай… командир корабля А.Гузик… Я бы сам махнул, да долги не пускают… Слушай, слушай… подожди… купи цветов, чтоб с цветами снять кадрик… Ну, жду!
Они втиснулись с Ромкой в микроавтобус и через час были в Домодедове. Их встретили и повели бесконечными застекленными галереями в служебные помещения. «Вот, пожалуйста, они здесь…»
Пробиться сквозь стену широких синих спин нечего было и пытаться. Здоровые дядьки хлопали друг друга по плечу, отпихивались, высматривая кого-то в комнате. Даже Ромка, этот прожженный носастый крокодил, который мог втереться куда угодно со своими камерами и экспонометрами, тоже растерялся было, не решаясь лезть напролом. Его классическое «Пресса, товарищи, пресса…» не произвело на летчиков никакого впечатления, никто не стал деликатненько пятиться, пропуская «прессу». Ха! Улетали бесценные в его деле минутки. Ромку заело. Он решительно сдвинул на лоб мохнатую зеленую кепку.
— Спокойно, мамуля! Клевый репортажик отгрохаем! — проскрипел луженым горлом и хлестнул по синим спинам бичом фотовспышки. И еще, и еще!
— Леха, — заревели летчики, — к тебе из газеты! Держи расчесочку!
Наташа отважно врезалась вслед за Ромкой в синюю колышущуюся стену.
— Цветочки тебе! — крикнул через головы маленький морщинистый летчик, — Ну, держись, Гузик, будешь интервью давать. Да пропустите вы девушку, черти!
И тут она увидела Лешку.
Он сидел, широко расставив толстые, сильные ноги, опершись мускулистой рукой о коленку, опустив темную курчавую голову. Еще не видя его лица, Наташа привычным движением включила «Репортер», вытянула микрофон на штыре и сказала чужим бархатным радиоголосом:
— Дорогой Алексей Петрович! Мне хочется от имени Центрального телевидения и всех наших зрителей — пассажиров ваших серебристых кораблей…
Он неторопливо поднял лицо от пола и взглянул на нее из-под пушистых, как две гусеницы, бровей.
Белки его глаз были темно-красными от налившейся крови. В этих глазах было столько снисходительной, усталой иронии, что она сразу запнулась, сбилась на полуслове, вытянув перед собой дохленькие хризантемы.
Таким его и заснял на пленку Ромка: чуть улыбающимся, глядящим исподлобья.
Потом, когда очерк о Гузике почему-то застрял на «Эстафете», она отнесла его «Новостям», но и «Новости» не спешили пускать его в эфир даже информашкой. Наташа дивилась, ругалась, в конце концов плюнула, забрала и напечатала в «Вечерке». Они поставили на полосу ту самую фотографию. Правда, фото отдали спецам-ретушерам, они выбелили глаза, и Гузик получился непохожим. Но у нее осталось не «исправленное» фото с черными белками — оно лежало в ящике стола. И каждый раз, выдвигая ящик, Наташе хотелось реветь от стыда. Примчались, и чего, спрашивается, примчались?! Стали лезть с этими идиотскими вопросами, слепить вспышкой… Черт возьми! Он хотел просто побыть со своими. Слишком близко от него прошла смерть.
И свою и смерть двухсот десяти других людей он отогнал сам, своими руками. И оттого, что вот он здесь — большой, веселый, хоть и с кровавыми белками, но живой, не кусок обгорелого мяса, — счастливы были его друзья, и никого им не надо было, ничьих посторонних глаз.
А она, спустя всего два часа после аварийной посадки Гузика — этого адского циркового трюка, — тянула, как умела, как учили ее на факультете, свою «золотую жилу». «Алексей Петрович… Алексей Петрович…» Ух, позерка несчастная! Какой же она была назойливой дурой…
Очерк повис в воздухе. И хоть было ясно — плевать Гузик хотел на все очерки и репортажи, — ей впервые захотелось как-то оправдаться за задержку материала, дать знать, что она не трепачка, а «серьезный, ответственный товарищ».
Она решила позвонить в аэропорт и сказать Гузику, будто ей что-то неясно, непонятно: из-за этого, мол, и нет передачи на экране. После долгих нудных выяснений — «что?», «кого?», «откуда?» — ей дали телефон штаба летного отряда.
— Гузика? — прохрипела трубка. — Сейчас поглядим… так, так… Он в рейсе, будет седьмого.
И через два дня без всяких диктофонов-микрофонов она приехала в Домодедово.
Это был один из дней, когда Наташа чувствовала себя красивой, когда радовали взгляды прохожих и хотелось идти и идти, откинув голову, чтоб ветер трепал рыжие волосы, легко ступать, будто скользя над землей. И оттого, что она была «в форме», Наташа ничего не обдумывала, не прикидывала заранее, не искала слов. В «красивые» дни у нее всегда все ладилось.
Они прибыли точно по расписанию. Белый самолет долго бежал по полю, скрывался и возникал в просветах между соснами, потом с приглушенным свистом выехал из-за каких-то унылых серых зданий. Подкатили и причалили трапы и вскоре из него стали выбираться крохотные человечки.
Летчики спустились последними, они шли в расстегнутых, распахнутых плащах, помахивали портфелями, с веселой хищностью посматривая по сторонам.
Она шагнула навстречу.
Гузик приостановился, наморщил лоб, вспомнил…
Потом, когда у них завертелось, Наташа часто показывала ему, какую гнусную рожу он состроил, увидев ее. И правда: он раскрыл с перепугу рот, глянул туда-сюда, будто собираясь смыться. Смыться было некуда, он мрачно сощурился:
— Только, чур, пресса, никаких вопросов!
Но летчики вдруг подхватили ее под руки и потащили с собой. И хоть видела она их только во второй раз, ей показалось, будто знает их всех давно.
Оглянуться не успела — неведомо как набились в синий «Москвич». Гузик тронул машину, и тут-то Наташа в первый раз узнала, каково с ним ездить.
— Не боитесь? А то… некоторые, — не без ехидства кивнул на заднее сиденье, — поначалу дрейфили.
— Нет-нет! Я обожаю скорость.
— Вот это я понимаю! Вот это девушка!
Рядом с ним Наташа вдруг увидела себя не той деловой, умеющей нравиться, умеющей вставить свое веское слово женщиной, какой она хотела себя видеть.
Она была маленькой и глупой рядом с ним. Ни черта не смыслящей в жизни. И это не было унизительно. Ведь она бегала в четвертый класс и решала задачки про пешеходов, когда он уже управлял самолетом.
— Куда вы меня везете?
— Командира пропивать, — сказал инженер.
— Это как?
— Хватит! — рявкнул Гузик и тормознул так, что всех швырнуло вперед. — Мотя, я отрежу тебе язык. Как поняли? Приём!
Через час они уже сидели впятером за белым столиком ресторана, пили за Лешку, за указ о его награждении орденом Красного Знамени, И хоть выпито было совсем немного, у нее плыло перед глазами. Минутами Наташа спрашивала себя: «Это я?», «Почему я здесь?», «Что со мной?», «Отчего мне так удивительно хорошо?»
О чем они говорили тогда весь вечер? Она забыла. Но помнит: там, в ресторане, она, кажется, впервые за несколько лет забыла о своей профессии. Не переспрашивала. Не мотала на ус их словечки. Не «входила в материал». Не «врастала». Она сразу стала своей в этой компании. И только там с пятью летчиками поняла вдруг, как устала от своей работы с ее неизбежным гнетом умных разговоров, бесконечных споров, в которых так редко рождалась истина, от цепкого профессионализма, разведенного на пижонстве. Конечно, в Центре было много настоящих умниц, светлых голов и великих трудяг, но они почему-то всегда оставались в тени, помалкивали, не били себя в грудь. Наташа чувствовала: и эти из той же породы людей, что восхищали ее, из того негромкого братства знающих цену опасности и тревоге, верному слову и редким минутам радости, когда все на полную катушку. И хоть Гузик был именинником, о «чэпэ» не говорили. И вообще о делах летных. Видно, не принято было при «рожденных ползать».
Только когда налили по первой, все встали. «За тех, кто в воздухе», — сказал Прохоров, второй пилот.
Больше она не запомнила, кроме этого тоста, ни слова. Но одно врезалось в память — ее ощущение прибытия к какой-то долгожданной станции жизни.
Лешка усмешливо и мило, как за маленькой, ухаживал за ней, подкладывал на тарелку то одно, то другое, щелкал зажигалкой, улыбаясь, смотрел исподлобья и чуть подмигивал, едва заметно.
Из ресторана выходили ночью. Прошел дождь, и асфальт отражал огни. Гузик хотел сесть за руль, но Прохоров забрал ключ.
— Нет уж, — сказал Крымов. — Спасибо. Принял ты, конечно, с гулькин нос, но мы знаем, чем дело пахнет. Уж помрем как мужчины.
Летчики начали прощаться. И в том, как они добродушно мяли ее руку в своих лапищах, она увидела их преданную любовь к командиру.
И вдруг, как-то странно и неожиданно они остались вдвоем на ночной улице.
— Н-да… — почесал Лешка затылок под фуражкой и улыбнулся. — И на метро мы опоздали, «Москвич» арестован, такси не предвидится. Куда прикажете сопровождать?
— Медведково, — засмеялась Наташа. — Медведково.
— K утру как раз прибудем, — присвистнул Гузик. — А то ко мне? Через час дошагаем…
Она сразу протрезвела. Так. Знакомые заходы. И ты, Брут. Что ж. Сама виновата…
Он стоял, сунув руки в карманы, и даже в темноте Наташа разглядела его понимающую усмешку.
— Ладно, — сказал он. — Пошли в Медведково.
Мимо них редко-редко проносились машины, но ни один таксист почему-то даже не взглянул в их сторону. Будто не видели во мгле его пилотской формы.
— Не холодно?
— Да как сказать… — Наташа с ужасом представляла себе тот путь, что им надо было покрыть. Закапал снова дождик. — Ну-ка, — сказал Лешка, — придется командовать. Зашли в телефонную будку, Гузик набрал номер.
— Мотя! Добрался? Это я. Слушай, я пригребу к тебе часика через полтора. Да… обстоятельства, понимаешь… Жди. Посмотрел на нее сверху. Так-то, мол, дорогой товарищ.
Час спустя она вставила ключ в дверь его квартиры на Комсомольском. Он постоял на площадке, глядя ей вслед. Такая тишина была на лестнице, что слышалось гудение тросов лифта.
— И никуда вы не пойдете… — сказала Наташа шепотом.
Гузик развернулся на каблуках и надвинулся на нее черной глыбой.
Утром она проснулась рано-рано. Зеленело небо за окном. Стучали часы. Рядом на раскладушке спал Гузик, и пружинки тонко попискивали в ритме его глубокого дыхания. В полумраке она видела темное пятно его волос. Вспомнила, как, не поворачивая к ней головы, он ловко и быстро постелил ей на широкой тахте, в два приема — она и моргнуть не успела — поставил в углу раскладушку.
— Ну, я пойду покурю…
Когда она завернулась в хрустящие простыни, сжалась под одеялом, он постучал, тихо вошел, погасил свет. Подойдет? Не подойдет? Гузик плюхнулся на раскладушку.
— Отбой! — сказал он.
— Поздравляю вас, — тихо проговорила она.
— Да-да, — промычал летчик. — Спать!
И вот Наташа лежала в чужой квартире, на чужой тахте и за окном угол незнакомого дома. Светало. Она лежала и рассматривала комнату. Радиола на ножках. Африканская ритуальная маска. Японский транзистор. Книги. Зеленый Диккенс, коричневый Скотт. Ага, четыре тома Хемингуэя, «Теория полета», «Динамика полета», так, так, «Авиационные материалы», «Прикладная аэродинамика». Хм! Корейские сказки! Монгольские сказки… Он читает сказки. Сначала «Турболентные завихрения на закритических углах атаки» или «Проблемы помпажа ТРД», а потом сказки. Или наоборот? Чудеса. Фотография аквалыжника. Да это он сам!
K потолку на леске был подвешен игрушечный самолет — точная копия его лайнера. Самолетик раскачивался на волнах воздуха.
Гузик спал. Она лежала и смотрела на него.
Что ни говори, она вчера выступила лихо.
Но… где-то в глубине души была уверенность, что именно вот так все и будет с этим человеком. Он был — настоящий. Настоящий во всём. И она уже это знала.
И Наташа лежала, следя глазами за чуть заметными виражами маленького самолета, а угол дома за окном все розовел.
Потом, утром, они пили кофе, ели со сковороды шипящую яичницу, он все говорил что-то о своих ребятах, а Наташа думала о том, что ей не хочется уходить из этого чистого, без намека на холостяцкое запустение, дома.
Много дней прошло, прежде чем она вновь переступила его порог. Он прилетал, улетал, она отправлялась в командировки и возвращалась, виделись мельком, но вот — встретились. И были первые поцелуи, смех, поездки за город, солнце, зеленый дым распускающихся лесов, его сильные руки, и она на его руках, его лицо мулата, запрокинутое в вышину, сощуренный глаз, следящий за белой нитью среди облаков, а потом — дни ожиданий, мучительная неизвестность, холодный пот тревоги за него и снова встречи, снова поцелуи, невероятно огромные и короткие ночи… А слов любви — никогда.
Они подходят ночью к Москве. Курс 270. Трудный полет. В Уральской зоне, у Свердловска, на проходе Кольцово, долго прикидывали, как обходить грозовой фронт над Волгой. Пока решали, советовались с Центральной диспетчерской Москвы да наматывали круги, выжгли на ветер золотые тонны горючего, и теперь вот надо умудриться выйти на контрольную прямую сразу, без круга в зоне. Решили обходить с юга. Значит, садиться придется на «последнем ведре». Трудный полет. Сильно болтало над Байкалом. Теперь гроза эта, будь она неладна. Ничего не попишешь — июль.
Прохоров не отрывается от зеленоватого круга локатора. Весь экран переливается в бьющих, пульсирующих «местниках» — грозовых помехах. Надо искать коридор, держать связь с лидером на эшелоне, фиксировать контрольные точки…
Ночь за бортом. Спят пассажиры. Помотало, конечно, солидно. Ничего не скажешь. Девчонки с ног валятся. Досталось.
Через час посадка. Гузик почти весь участок маршрута от Урала шел без автопилота. Не та обстановка. Каждые полчаса менялись с Прохоровым. Нагрузочка будь здоров, не кашляй. Вот и сейчас пилотирует «второй». Лешка отдыхает. Ему сажать машину. Федя Прохоров — пилот-экстра. Придет день — а он скоро придет, — и станет Прохоров сам КВС — командиром воздушного судна, переберется на другой корабль. И будут они просто знакомые. И вместо Федора усядется в правое кресло кто-то другой. Лучше и не думать об этом…
Вот он, грозовой фронт. Далеко справа, впереди, у черной, неразличимой границы земли и неба, полыхают розово-голубые отблески, бурлят огнем облака — лучше не попадаться в такую кашу, шансов остаться мизер.
Наталья переживает, конечно. Тихая паника. Не позвонил. И как он мог забыть! А из порта звонить — гиблое дело. Не дозвониться до ее редакции, Мог телеграмму дать. Не дал. Суеверие не суеверие, а никогда не шлет он приветов с полдороги. Никому. И потом, Наталья — свой парень. Разговоров не будет. По этой части повезло ему с ней. И вообще повезло. Смотрит так, что неловко делается. А смотрели на него — мамочка моя! С Натальей совсем не тот коленкор выходит. Не тот случай. Но будто ворует он помаленьку у нее что-то…
— 86015-й, — звенит в наушниках, — после третьего маяка курс 240 с путевой 640. Глиссаду освободим, дадим вам полосу вне очереди.
— Понял, — говорит Лешка и смотрит на Федора.
Пора. Они в Московской воздушной зоне. Гузик берет управление. Прохоров вылезает из кресла, потягивается и садится снова к чуть вращающемуся полукольцу штурвала с красной кнопкой экстренного отстрела автоматики. Теперь Федор будет подстраховывать каждое движение командира. Всё понятно и им обоим, и всем в экипаже: лица сосредоточены и слова редки и коротки.
Через пять минут прибирают обороты турбин, плавно скользя вниз, пробивают слой облачности, и под ними плывет черная, мерцающая огнями земля. Вдали небо туманится мутным оранжевым заревом. Москва.
— Глиссада — отлично, — ведет их диспетчер. — Направление — отлично. Даю условия: видимость — 800… давление 748… Дождь. Полоса мокрая. Ветер — курс 117… 120.
Впереди, мигая алыми искрами приближаются огни контрольной станции дальнего привода… четыре километра до полосы… Посадка через минуту. Включают фары, и сразу становится видно, что шпарит ливень, яркие лучи уходят вперед. Все, как всегда, — началось тяжко, взлет у предела нагрузки машины, так и кончится — посадка будет аховая, с пустыми баками. На второй круг не уйдешь. Прохоров это понимает и лицо его сурово: там за спиной ровным счетом двести душ.
— Надя, проверь — у тебя все привязаны? — спрашивает по селектору у старшей проводницы.
Вниз, вниз, вниз. Громадная машина, тяжело проседая в воздухе, приближается к земле. Огни поселков, станций, дорог проносятся под ними все быстрее.
Близится пунктирное алое многоточие огней подхода. Лешка выравнивает самолет. Маяк ближней приводной дудит в уши громко, во всю мощь. Стекла кабины заливает водой, все в сплошных ударах разбитых капель, очистители едва поспевают… Ни хрена не видно! Садимся! 60, 40, 20 метров высоты.
Гузик плавно тянет штурвал на себя. Гигантская машина дыбится и ударяет основными колесами о бетон. Сразу затягивает в сторону. Удержать, удержать на оси бетонки! Реверс тяги… тормоза… закрылки на максимум…
— Броня, я борт 86015. Произвел посадку.
Воскресенье. Наташа проснулась рано. Первым делом позвонила в справочную. Сели в 23.08. Отлегло от сердца, и опять стало тяжело.
И вот она сидит у телефона. Ждет звонка. Мама гладит и молчит. Хоть бы завела свою обычную утреннюю песню, что ли.
Наташа перелистывает «Иностранку». Бегут строчки перед глазами. Что она скажет ему? Два дня она готовит этот сценарий, а слов нет, нет как не было. Ведь так им хорошо было с Лешкой. Почти два года счастья. Так откуда же боль, откуда? Неужели от всех этих разговоров, что она слышит вокруг себя, от вопросов, советов? А ты думала, Снегирева, что сумеешь не поддаться всему — и маминым горьким, жалким словам и всему остальному! Не вышло. И вот сидишь ты, ждешь звонка, будто это и не ты вовсе, а какая-то другая, несчастная, обиженная неудачница. А ведь сама недавно доказывала таким неудачницам, что «настоящая любовь не нуждается в формалистике». Вот и додоказывалась. Вот тебе и «дважды два».
Десять часов. Одиннадцать. Двенадцать. Пора бы ему уже и просыпаться, если он спит, конечно. Не звонит.
Так, может, и хорошо, что не звонит? Может, просто все тихо завершилось и продолжения не будет? Рука тянется к трубке, к диску. Нет! Ни за что.
И тут под ее рукой телефон взрывается пронзительным звонком. Она снимает трубку.
— Привет! — хрипит со сна Лешка. — Привет работникам эфира! Ну, как нефтяники твои?
— Как ты слетал? У нас два дня грозы и грозы…
— Все роскошно. Не брани меня, родная… Не мог позвонить. Дел было невпроворот.
— Да ладно, о чем ты говоришь, — улыбается Наташа, — какие пустяки!
— Ха! А я думал, ты волнуешься.
— Только мне и дел, что волноваться… Я должна тебя увидеть.
— Ну да? — хохочет Лешка. — Жду!
— Давай лучше встретимся где-нибудь
— Старших надо слушаться. Приезжай. У меня для тебя сюрприз.
— Знаешь, и у меня для тебя.
— В общем, так, — заканчивает Гузик, — через час жду.
И она едет через всю Москву на автобусах, на метро.
Он встречает ее на площадке. Стоит, скрестив руки на груди. В свободной белой рубашке он кажется еще огромнее, шире в плечах, смуглее. Обнимает так, что нечем дышать.
— Задушишь! — улыбается Наташа, а внутри холод и страх.
Он такой счастливый сегодня после полета. Значит, нелегким был полет. Но он разве расскажет?!
— Ну, ну, — говорит Гузик, — а где сюрприз?
Она садится на краешек тахты. Закуривает.
— Сколько мы знакомы, Леша?
— Скоро два года.
— Да. Два года. И мы ни разу с тобой не поговорили серьезно. Может, он и вправду не нужен, этот разговор. Может, и вправду лучше не углубляться. Мы люди свободные. Современные. Но, прости… Мне все-таки хочется знать, любишь ли ты меня. Я все хотела понять: почему ты молчишь? Неужели не понимаешь, как нужны мне эти самые твои слова? Нет. Ты все понимаешь. Просто ты честный…
Она говорит, сама ужасаясь тому, что делает. Она видит, как поднимается стена между ней и человеком, сидящим напротив в кресле. Он молчит. Опять молчит. Теперь остается только встать с тахты, выйти из квартиры и никогда больше сюда не возвращаться.
Скорее, скорее к маме, от беспощадной этой жизни, от горькой этой любви! Встать. Подняться и уйти… А самолетик на леске все кружится, кружится. Как кружился и будет кружиться.
— Все? — спрашивает Лешка.
— Все, — говорит она таким беззаботным голосом, что самой делается страшно.
— И весь сюрприз? — Он часто моргает, улыбается. — Теперь моя очередь.
Встает, крепко берет ее за руку.
— Пойди, глянь в ванную.
— Что? — Ей кажется, это сон. О чем он говорит? Или она с ума сходит? В ванне немного воды. По белой эмали скребет длинными клешнями большущий буро-зеленый краб. Он шевелит лапками, упрямо карабкается вверх и сползает с тяжелым всплеском назад, в воду. И снова начинает взбираться по гладкой мокрой эмали. Наташа изумленно смотрит на него. Это ей. Краб.
Он вез ей краба с Тихого океана.
— Хорош бродяга, а? — говорит Гузик и крепко прижимает ее к себе. — Двести первый пассажир. Между прочим, он тоже решил жениться.
1971
Этот второй в жизни опубликованный рассказ был напечатан в журнале «Смена» осенью 1972 года.
Сигма-Эф. Повесть
Автор счел необходимым восстановить здесь в первоначальном виде некоторые места — добавления и изъятия, произведенные только из лучших побуждений в редакции журнала перед публикацией.
Так, например, уже после тиража, из напечатанного текста, автор с удивлением узнал, что его главный герой был, оказывается, коммунистом. В данном тексте я его вернул в изначально беспартийное состояние.
Кроме того выяснилось, что герой литературного произведения (а уж тем более — инженер-физик) в массовом молодежном советском журнале никак не может носить предосудительную фамилию «Коган». Здесь ему возвращается вымаранная фамилия.
Случилось так, что Бориса Леонидовича Пастернака угораздило приписать собственные (и опрометчиво цитируемые в повести) стихи своему любимому герою доктору Живаго Ю.А. и даже включить их в одноименный запрещенный «антисоветский» роман. На всякий случай, дабы избежать превратных толкований, перед засылкой в типографию их решили убрать.
В остальном при публикации текст не претерпел никаких мало-мальски существенных изменений.
Вообще у этой вещи оказалась довольно любопытная история, со своим занятным, а подчас и драматичным сюжетом, она принесла мне много радостей и много горестей, о чем я надеюсь в недалеком будущем рассказать.
Посвящаю профессору Михаилу Михайловичу КРАСНОВУ[1]ГЛАВА ПЕРВАЯ
Установка взорвалась в десять тридцать две.
Воздушная волна тугой подушкой вдавила толстое стекло электрических часов и остановила механизм.
Так что когда в институт явился следователь, он смог сразу же ответить на один, но такой важный в криминалистике вопроса: когда?
Все остальное было неясно.
Заместитель директора НИИ по пожарной безопасности Митрофанов и следователь ходили по длинному коридору и вели нелегкий разговор. Со стороны могло показаться, что два пожилых человека вспоминают что-то общее. На самом деле Митрофанов, крепкий располневший седой мужчина, во время войны — танкист, а потом — пожарник, командир отделения, начальник целой районной пожарной части, подполковник запаса, объяснял следователю, что за собачья у него должность в этом НИИ, куда его перевели на повышение.
В институте, где все десять лабораторий могли в любую минуту устроить трам-та-ра-рам вроде сегодняшнего, оказалось работать куда тяжелее, чем, завернувшись в брезент с пропиткой, шуровать в огне. В части все было ясно: огонь, выезд, ликвидация.
Здесь же стояла тишь да гладь, но тому, кто знал — а уж он-то знал огромное институтское хозяйство, — не давало покоя сознание, что он отвечает за безопасность таких отделов и корпусов. И хотя взрыв в шестой лаборатории сегодня утром был первым большим ЧП за все годы его работы здесь, Митрофанов думал о том, что недаром он все ждал, ждал того, что случилось.
Кому доверили все эти мудреные пульты, кабели, насосы, ударные трубы? Мальчишкам! Физики! Им… голубей гонять впору. Даром, что бороды поотпускали…
«Так им всем и надо, — думал старый пожарник, — не институт, а… шуры-муры одни».
Он, отдавший всю жизнь армии, привыкший к ее четким, строгим законам отношений и поступков, не мог одобрять этих шалопаистых мальчиков, очкастых девочек в брючках, куривших в коридорах, провожавших его насмешливыми взглядами. Они без конца нарушали порядок, толпились и всё говорили, говорили, вроде бы по-русски, а как прислушаешься — черт-те знает по-какому, и Митрофанов не был уверен, что они в рабочее время говорят, о чем надо, ну, об опытах там своих, об… экспериментах. Он шкурой чувствовал, что все это та-ак… проволочка времени от зарплаты к зарплате. Потому и ходил всегда по институту мрачный и недоверчивый и, если мечтал, так о том, чтоб их институт перевели в особую спецкатегорию. Тогда бы… данной ему властью…
Он знал свое дело: энергоснабжение, водо-пароцентраль, газовую магистраль, вентиляцию, бойлерную, где хранились сотни баллонов, сосудов Дьюара и емкостей со сжиженными и сжатыми газами, склады кислот, радиоактивных веществ и реактивов… В любую минуту всё это могло загореться, отравить, просочиться, рвануть. Он чувствовал, как оно давит на него, давит в будни, по выходным, в отпуске. И когда навстречу ему катилось сверху по лестнице непонятное существо — то ли девка, то ли парень, — он вздрагивал в ужасе, думая о том, что может накуролесить этот молодой «кадр».
«Безответственные — вот что страшно», — думал он.
Однако институт считался одним из лучших в стране, дело, как ни странно, двигалось, а эти вихрастые «гении» шумной ватагой выстраивались в очередь за премиальными.
Для Митрофанова было загадкой — когда? Когда успели наработать?! Он подозревал какой-то великий всеобщий сговор, круговую поруку, на профсоюзных собраниях молил о дисциплине, порой тяжко страдал оттого, что остался без толкового образования. Тогда б он их вывел на чистую воду… А так — на него махали рукой, и вот… допрыгались «физики». Домахались.
Митрофанов был в другом корпусе, когда гулко ухнуло, задребезжали стекла. Рядом на территории на стройке нового корпуса какой уже день бабахал, заколачивая сваи, копер, и потому Митрофанов не бросился к шестой лаборатории, в первый миг приняв взрыв за тупой удар железа по бетону. И в то время, как по этажу, где была шестая, носились оглохшие, перепуганные сотрудники, растекался густой желтый дым и шипела пена уже пущенного в дело огнетушителя, — он спокойно водил двух новеньких инженеров, проводил инструктаж, сурово наставляя, что и как делать, если, упаси Бог, загорится.
А у него в кабинете верещали, подпрыгивали, надрываясь, телефоны, и, лишь когда по громкой связи зазвучал резкий голос директора по режиму: «Товарищ Митрофанов, товарищ Митрофанов!» — он понял: случилось.
Подскочил к телефону, сорвал трубку.
— Взрыв в шестой!
Он кинулся к лифту, не стал его дожидаться, часто застучал каблуками по ступенькам, побежал, задыхаясь, по территории, чувствуя, что сердце бьется не в груди, а в горле.
До корпуса «2-Э», второго экспериментального, было с полкилометра, он высился за деревьями, и там не было видно ни дыма, ни огня — ничего.
Когда на задубевших от бега ногах он приблизился, наконец, к его стеклянному входу, соединился с толпой бледных, растерянных сотрудников, — отвалила и помчалась, быстро уменьшаясь на глазах, их институтская «Скорая». Истошно затянула сирена, и от этого знакомого звука Митрофанов побелел. Протолкался через толпу сотрудников, смотревших вслед удалявшейся белой машине, и с тягостным чувством свершившегося несчастья пошел к шестой.
Он уже слышал в толпе, что ранен какой-то младший научный… эмэнэс Марков, что ему сильно обожгло лицо. Митрофанов Маркова не знал. Попробуй узнай всех, когда такая уйма народу…
Он не знал Маркова, но… уже испытывал к нему странное чувство: не было ни сострадания, ни жалости, была глухая неприязнь, тоскливое понимание зависимости от этого Маркова его, Николая Андреевича Митрофанова, дальнейшей судьбы.
Конечно, сегодня к вечеру соберутся у директора на оперативку, выйдет приказ о создании аварийной комиссии… Но все равно, как бы там ни повернулось дело, непременно станут смотреть косо на него. То, что к нему будут хуже относиться, было Митрофанову безразлично. Пугало другое: вдруг скажут, что он плохо работал, не за свое дело взялся, допустил небрежность?
Он твердо знал главное: совесть его чиста. И вместе с тем ясно понимал, что коли слова те будут сказаны — неверные, несправедливые слова, — он ничем не сможет оправдаться, не сумеет и рта раскрыть, чтоб что-то доказать.
Да, раньше… в привычном пожарном деле, всё выходило по-другому. Стихия! С нее и взятки гладки. А тут — та же стихия, только куда хуже — несерьезные люди. Главное, здесь есть кому отвечать, есть кому голову сечь. А взгреть ответственного всегда охотники найдутся.
А вдруг… и правда недосмотрел?
Митрофанов, отдуваясь на лестнице, даже приостановился. Но нет: он знал — у него всё чисто, в лучшем, как говорится, виде. Сосала, как зверь, вентиляция, нигде не искрила проводка — всё было проверено и перепроверено сто раз. Даром, что ли, он гонял и «ветродуя» — начальника компрессорной, и слесарей, и монтеров… Разве не сам он каждый вечер обходил, опечатывая на ночь отделы, осматривая каждый вентиль… вновь и вновь… проверяя и перепроверяя?.. Да нет, чего там. Он был на месте, сделал всё, что был обязан сделать, предусмотрел всё, что должен был предусмотреть.
Добрался наконец до пятого этажа, и тут сработало чутье старого пожарника, повидавшего, как горели громадные цеха, ангары, целые секции и этажи. «Ерунда, ничего страшного», — сказал он себе.
Дым уже почти весь уплыл через пустые проемы высаженных длинных окон, кисло пахло какой-то химией, на полу под ногами хрустела стеклянная крошка. Взрывом снесло перегородки двух смежных залов, опрокинуло шкафы, разметало приборы. Но тяжелые, обшитые металлом двери держались незыблемо в своих стальных рамах-косяках.
«Работнички! — подумал Митрофанов о строителях. — Стен нету, а двери торчат!»
— Ну, что вы тут натворили?! — с ходу накинулся на Дробыша, замначальника лаборатории.
— Взорвалась установка «ЭР-7», газовая, высокого давления. Чижов сейчас приедет.
«Чижов… — подумал Митрофанов. — Чижов, Чижов… Профессор, величина. Да и язык подвешен не в пример моему. Теперь ему одну задачу решать: чтоб его „наука“ ни при чем оказалась. Директор его ценит, Чижова. А я что? Был и сплыл. Авария? Халатность. Человек пострадал? А где был, куда смотрел замдиректора по пожарной безопасности? И закончишь ты, фронтовик и спасатель, трудовую биографию — хуже не придумаешь. С тихим срамом уйдут тебя по сорок седьмой статье…»
— Что там с сотрудником вашим? Марков, что ли? — спросил он, хмуро переступая через плоские обломки асбоцементных плит, — Взрыв-то… не так чтоб очень.
— Да, да, Марков, — закружился вокруг Митрофанова Дробыш, — он, вероятно, находился далеко от установки, иначе вряд ли отделался бы одними глазами…
— Глаза?… Плохо дело…
Он не хотел входить в заваленную обломками и кафелем лабораторию: с минуты на минуту мог подойти директор. Заглянул через пролом в стене. В тамбуре научного зала, у отброшенной и сломанной взрывом вешалки валялось обсыпанное известкой пальто, в стороне лежала кепка. Пол запудрило белой пылью, кое-где еще вспухала и опадала, пузырясь, пена огнетушителя. Там, где проглядывали дощечки паркета, угадывалось место, где лежал Марков.
Митрофанов смотрел на это пальто и кепку, чувствуя, как в нем самом что-то тяжело заворочалось. В забытой, оставшейся без хозяина одежде незнакомого Маркова увидел он вдруг лица тех людей, что тянули к нему руки, когда он пробивался к ним через серую дымную муть. Марков, конечно же, был одним из них.
Николай Андреевич качнул головой в угрюмой усмешке. «Ну, и дошел я с этой канительной жизнью! Раньше головой мог рисковать, обгорал, ходил с волдырями — и ничего. Все было как надо. А теперь — гляди-ка: за чин свой испугался!»
Ему тошно сделалось оттого, что каких-то десять минут назад он чернил и клял Маркова. И хоть по-прежнему тупо гнул к земле страх за себя, за то, что будет вечером на оперативке, все же не таким уж страшным казалось это Митрофанову. Так ли, сяк — все едино. Отыграются на нем. За то и деньги получает, чтоб отдуваться за всякое шибко ученое дурачье,
— Молодой парень-то? — спросил, глядя в пол.
— Двадцать восемь лет. Да вы его должны знать, Николай Андреич… — засуетился зам Чижова, — может, обращали внимание, здоровенный такой парень, под потолок, круглолицый?
Митрофанов угрюмо кивнул и пошел встречать директора.
Он сразу понял, кто этот Марков. Как же, конечно, обращал внимание. Не обрати, попробуй — махина этакая. Ему нравился этот серьезный, всегда чем-то озабоченный парень с обручальным колечком на толстом пальце. Встречая его иногда в институте, Митрофанов думал: «Вот ведь человек как человек. Не строит из себя ничего, видно, правда, работает». Ему нравилось, что был тот всегда просто и скромно одет, не щеголял, как некоторые, в заморских штанах, ходил, сутулясь, со стареньким, небось, со студенческих лет, портфелем. Надо же было, чтоб у него-то и взорвалось!
Пришел директор, молча кивнул всем. Посмотрел на разрушенную лабораторию. Глазами, сверкнувшими из-под черного велюра, приказал следовать за ним неизвестно откуда взявшемуся Чижову, старому зубру-кадровику Зотову и Митрофанову. Уходя, Митрофанов снова взглянул на дешевенькое пальто Маркова, на кепчонку. В этой брошенной на полу одежде не было ничего, кроме неожиданного, нелепо свалившегося горя.
И снова подумал Митрофанов, что зависит от Маркова его жизнь, но теперь все изменилось, все было иным. Митрофанов надеялся теперь, что все кончится в худшем случае строгачом без занесения. И единственным человеком, который мог его спасти, был Марков. От того требовалось лишь выжить и остаться в твердой памяти.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Установка взорвалась в десять тридцать две. Но Марков узнал это много позже. Теперь он лежал на койке в палате, лежал, боясь шевельнуться, а койку несло на волнах, она то круто проваливалась, то начинала подпирать снизу, в ушах стоял и не проходил мощный гулкий звон.
Над ним шептались врачи. Они знали то, чего еще не знал он сам, и уже обновили чистенький титул истории болезни. «Проникающие ранения осколками и ожоги обоих глаз», — было написано против графы «Диагноз при поступлении».
В одиннадцать двадцать его вывели из шока. Он застонал от налетевшей боли, от звона в голове. Вспомнились желтые брызги, хлынувшие из установки, гром, чернота. Ничего никогда не было страшнее этой глубокой черноты.
«Ах да… — сказал кто-то в нем внутри, — так ведь это — смерть!»
В черноте этой было что-то очень знакомое, естественное, и он понял: если не рассеется это чувство беспредельного спокойствия, обычности и простоты, он перестанет быть.
Но вдруг отчаянно залился в плаче Сережка, он наклонялся куда-то, что-то показывал ему — Марков никак не мог рассмотреть — что. Сын был таким маленьким, измученным, не по-детски исстрадавшимся, что тот же голос приказал Маркову: гони, гони, отталкивай эту черноту, отрывайся от нее!
Сережка все ревел, но отчаянные всхлипы его начали удаляться, теряться в звонком гуле. Чернота медленно отошла, будто кто-то плавно перевел на реостате ползунок, и замерла вдали полоской непроницаемо темного заката.
После осмотра в приемном покое, посовещавшись, куда класть — в «травму» или к окулистами — поступившего больного Маркова В. П. отвезли в глазное отделение.
Койка оказалась мала — ноги высовывались между стальными прутьями. Несколько раз пыталась медсестра укутать их одеялом, но оно съезжало, открывая его большие ступни в теплых серых носках. Ему впрыскивали обезболивающее, но он даже не ощущал уколов иглы — что была эта боль! Она тонула в другой, неправдоподобной, сжигающей. Голова его была туго забинтована, и, когда стемнело за окнами, он не увидел, что уже вечер. Потом пришла ночь, и боль вдруг разом затихла. Он полежал, прислушиваясь к себе, потом поднял руки, они были совсем легкими, нащупал повязку на голове, бинты, и тут его руки оказались в других рунах, тонких и горячих.
— Ну-ну-ну-ну!.. — услышал он над собой. — Лежи смирно! Трогать нельзя.
Марков хотел что-то ответить, но не было сил, он только махнул рукой. «Вера, — понял он. — Вера моя. Значит, ей уже сказали». Он снова протянул руку к ней. Жена поймала ее, прижала к своим губам, потом к горячей мокрой щеке.
— Не плачь, — прошептал он. Слезы сильнее побежали по ее лицу. Он погладил ее по волосам, дрожащим пальцем нажал на кончик носа.
— Я не плачу, — едва могла она проговорить сдавленным в беззвучном рыдании голосом.
Он осторожно поглаживал ее лицо, она крепко сжимала его большую сильную ладонь, и редко-редко меж его пальцев вдруг скатывалась слеза.
На рассвете у него снова начался приступ боли, снова забегали сестры, ввели остро пахнущее лекарство, и Марков уснул. Но даже во сне знал: стоит протянуть руку — и рядом окажется Вера. А темнота ушла, и, как бы там ни было, — он жив.
Вера сидела рядом, не отрываясь смотрела на белый шар его забинтованной головы с просветом для дыхания, на все его большое тело, укрытое одеялом. На ноги, высунувшиеся за спинку кровати, она старалась не смотреть — столько в них было беспомощности и несказанной боли.
Он проснулся утром от громких голосов.
— Ну, где он тут, пиротехник ваш? — весело звучал молодой мужской голос. — Доброе утро, товарищ физик!
— Здравствуйте… — чувствуя, что он невольно с ходу принимает тот же тон бесшабашной уверенности, проговорил Марков.
— Давай смотреть, что у тебя там приключилось. Катя, развязывай.
Ловко и быстро, в темпе легкой скороговорки командовавшего врача, с него сбросили бинты. Лицо защипало, стало жгуче больно.
— Терпи, — звучал все тот же голос. — Наука тоже требует жертв. Терпи.
Марков почувствовал прикосновение чьих-то рук, от глаз осторожно отделили ватные подушечки.
— Открывай глазик… — приказал врач, — не бойся, открывай!
Марков открыл глаза. Все в тумане. В лиловом тумана. Засияло яркое пятно лампы. В глаз ударил лучик света… Постепенно стало видно немного по-отчетливее. Перед ним на краешке кровати сидел молодой врач в очках. В его руках вспыхивал зайчик зеркальца. Прямо изо лба врача бил свет.
— Красиво тебя разделало, — усмехнулся врач, — ну ничего. Правый глаз мы тебе постараемся заштопать. Что взорвалось? Мы, конечно, кусочек щеки твоей на анализ послали. Да ждать долго. Химия… Уж лучше информация из первых рук… Что там было? Стекло? Металл?
— Все там было, — сказал Марков, а сам подумал: «Что же с левым-то глазом?» И он спросил, боясь ответа.
— С левым? — переспросил врач. — С ним дело похуже. Металл был магнитный?
У изголовья стояло несколько врачей. Кто-то что — то записывал. Мужчины и женщины. Все — лиловые. И небо лиловое, И свет.
— Металлов много у нас. И стали, и медь, и вольфрам…
— Понимаешь, почему я металлургией интересуюсь?
— Догадываюсь.
— Что ж, интеллект сохранен, как находите, коллеги? — Сверкнув стеклами очков, врач поднял голову к своим. — Ну, товарищ Марков, давай знакомиться. Я тут начальником числюсь, профессор Михайлов Сергей Сергеевич… Как сердчишко, не пошаливает?
— Да нет, — вдруг смутился Марков, — не беспокойтесь!
— Какое воспитание! — улыбнулся профессор. — Предлагает не беспокоиться! А за что нам тогда деньги платить прикажешь? Болит здорово?
— Да есть немного…
— Давай условимся: не морочить друг друга. Сказал бы прямо: боль адская. Мне ведь надо картину иметь полную… — Он еще раз посветил в правый глаз, легким, каким-то воздушным движением раздвинул пошире веки. — Ладно. Лежи пока. — Поднялся и пошел к выходу.
За ним двинулись другие доктора. Подошла сестра.
— Ну, давайте снова повязочку наложим… — Она закрыла его правый глаз ватным шариком, и тут Марков вдруг понял, почему он решил, что профессор светит своим зеркальцем только в правый глаз. Левым он ничего не видел. Совсем ничего.
День прошел в тупой неподвижности. Временами он забывался, всякий раз вздрагивая от прикосновения сестер. Они подходили сразу с тремя шприцами на лотке. Подходили каждый час. Ощущая их твердые, умелые руки с удивительной хозяйской сноровкой, Марков никак не мог взять в толк, что это действительно он лежит здесь, на этой койке. Порой он старался думать, что все это ему кажется, но вновь разыгрывалась боль, теперь мучительно ныл затылок — и все сразу становилось на свои места.
Он принадлежал к тем людям, которые накрепко сжились с мыслью о надежности своего здоровья. И как все несуеверные, далекие от мнительности люди, Марков был уверен, что уж оно-то во всех случаях останется при нем, не подкачает. То, что вчера утром в одно мгновение кончилась его жизнь здорового человека, было так жестоко и неожиданно, так резко и грубо отделило прошлое от настоящего, что увериться в этом оказалось труднее, чем свыкнуться с болью.
Он лежал почти без мыслей — мир вдруг сжался, съежился, не осталось ничего, кроме подушки, бинтов, иголок и горечи во рту.
Там, где-то в пустоте, были, должны были быть его сын и жена, люди, с которыми он был единым целым. Марков знал: все трое они неотделимы друг от друга, но как далеко его отбросило от тех двоих!
Было непривычно и тоскливо, иногда, когда затекала рука или нога, он осторожно менял их положение, шепча: «Вот же… Свалилась… зар-ра-за… мур-ра!..»
Под вечер его переложили на каталку и увезли в отдельный маленький бокс. К переселению из палаты он отнесся равнодушно. Лишь отметил про себя: неспроста.
На следующее утро его снова смотрел профессор, но уже почти ничего не говорил, только приказывал:
— На палец смотри. Пониже, еще, еще пониже. Во-от так. Стоп-стоп! Налево… Так, теперь вверх…
Марков старался уследить взглядом за зайчиком зеркальца и тоже не лез с вопросами: он видел гораздо хуже, чем накануне. Уходя, Михайлов хлопнул его по плечу и вышел, не попрощавшись.
Казалось, сам воздух вокруг Маркова становился все тревожнее. Он чувствовал: что-то надвигается.
Снова вошел профессор, один, без свиты. Сам снял повязку. Долго осматривал глаз. Марков видел через лиловое марево его искривленные от напряжения, прикушенные губы.
— Да! — сказал Михайлов.
— Ну как, Сергей Сергеевич?
— Могучий у тебя организм, — помолчав, ответил профессор, — бурно реагирует. Только бурлит не туда, куда надо. Помнишь уговор: все начистоту?
— Говорите.
— Говорим, как мужчины. Так?
— Только так.
— Плохая у тебя штука на левом начинается. Если бы не она, может, и стоило б еще за него побороться. Надеялся я, что обойдется… Времени нам с тобой отпущено двадцать часов. Было бы больше — мы б еще посмотрели. В общем, пока нет сюрпризов — надо от левого глаза избавляться. Повреждения суровые, глаз полон крови, металлолома — шансов на спасение больше нет. А ждать уже нельзя. Давай вместе решать, как быть.
— А правый?
— Сейчас сражаемся уже только за него. Левый надо удалять, пока не перешло на второй. Нужна, конечно, формальность — твое согласие. Но случай не тот, когда можно выбирать.
— Значит, быть мне адмиралом Нельсоном? — попробовал пошутить Марков, но голос подвел, задрожал.
«Эва куда махнул! — подумал Михайлов. — Милый ты мой, не остаться бы тебе вовсе без глаз, не образовались бы перемычки в стекловидном теле, не отвалилась бы сетчатка…»
«До чего ж с ним все просто, с этим профессором, — думал Марков. — Профессор! На сколько он меня старше? Лет на пять — не больше. Режет правду-матку, не темнит, все в открытую. Изложено четко, и никаких проблем. Надо что-то иметь… что-то особое, чтоб вот так рубануть, коротко и ясно. И ты — почти спокоен, никаких трагедий. Хочется лишь просить об одном: делай, что считаешь нужным, делай скорее, но… только сам…»
Операция прошла тяжело. Когда Маркова, серого, залитого холодным потом, привезли назад в бокс, его мертвый глаз — маленький, изрезанный осколками голубоватый шарик, еще два дня назад жадно вбиравший в себя свет солнца, символы формул, лица и деревья, — опустили в спирт, чтобы потом разрезать на тончайшие дольки препаратов и ради спасения другого глаза рассмотреть под микроскопом.
А Михайлов, сбросив стерильный операционный халат, сидел за столом в своем кабинете. Ни одна из операций не уносила у него столько душевных сил, как эта. В сравнении с тем высшим пилотажем глазной хирургии, которым он владел, это была черная, грубая, тупая работа.
Как горек ты подчас, хлеб хирурга!
Михайлов очень редко сам удалял глаза, поручая это дело кому-нибудь из ассистентов. Так когда-то поступали и с ним самим: именитые светила деликатно сплавляли ему, начинающему, удаление глаза — энуклеацию, под тем предлогом, что бессмысленно им, виртуозам, тратить на нее свои уникальные руки.
Теперь он знает, что побуждало их к этому: тяжкое сознание своего бессилия перед неумолимой болезнью. Когда знаешь много и много, очень много можешь сделать, это сознание становится во сто крат мучительнее. Хирургам тоже приходится себя оберегать… А ассистенты пусть практикуются!
Рассуждая так по традиции, профессор Михайлов знал; его ждет с физиком Марковым выматывающий круг операций на единственном правом глазу, и начало этой многомесячной, а может, и многолетней цепи страданий и ожиданий — в предельно точном удалении погибшего левого, без малейшего риска перенесения инфекции. Заглядывая в будущее, Михайлов уже никому ничего не мог передоверять. Он принял решение. Он взялся. Сейчас его заботило одно: не опоздали ли они?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Марков лежал в своем боксе, отвернувшись к стене. Кончался тридцатый день больничной жизни. Бывали минуты, особенно вечерами, когда никого не хотелось слышать. Он уже не мог различать ничего, кроме бесконечно далекого стеклянного абажура под потолком, и оттого, что знал — внутри этого тусклого багрового шара пылает мощная стоваттная лампа, — света не зажигал, лежал в темноте.
Ушла чернота смерти, снова сильными стали руки и ноги, но взамен на него надвигалась другая чернота, беспросветная, долгая, на всю жизнь.
Когда сгущались сумерки и ослабевала вера в обнадеживающие слова Михайлова, тогда, лежа в темноте, он нередко думал: какая чернота хуже — та или эта?..
Сегодня к нему приезжали ребята из института и его лучший друг Мишка. Все они долго не могли начать разговора, смущенно перебирали имена тех, кто слал ему приветы и обещал навестить.
Конечно, потом это прошло, они разговорились, и панихидная скованность первых минут разлетелась в дым. Но минутное оцепенение случалось с каждым из друзей, входивших в его «каютку». О том, что с ним произошло, все, будто сговорившись, деликатно помалкивали, и это было еще тяжелее. Марков понимал: друзья молчат не только из жалости к нему, из простого людского сострадания — конечно же, нет!
Этим проклятым взрывом он нанес удар им всем. И самый жестокий, самый тяжелый — тому человеку, которого вспоминал не реже, чем сына и жену, — своему учителю.
И хоть Марков отчетливо вспомнил, пока лежал с завязанными глазами, каждый свой шаг в то утро — как подвел к трансформаторам силовое напряжение, как разогнал насосы, как выставил на режим следящую автоматику и как спокойно загудели обмотки магнитов, короче, произвел пуск строго и четко по всем строгим правилам, — он так же отчетливо сознавал, что никогда уже не сможет оправдаться перед профессором Борисом Александровичем Чижовым.
Да, ему вовек не оправдаться перед учителем.
И не только потому, что «ЭР-7» взорвалась в его руках… Марков должен, обязан был сказать, но так и не сказал, что, к ужасу своему, всё больше сомневался в справедливости той основополагающей концепции, которая принесла славу Чижову и стала краеугольным камнем всех исследований лаборатории.
Побоялся обидеть учителя? Или свято верил о его правоту, многократно проверенную жизнью? Постеснялся?
А черт его знает, почему! Постеснялся идти к учителю со ссылками на интуицию. Когда дело касалось не идей, а расчетов, Чижов интуицию свирепо отметал…
А расчеты казались точными. И ЭВМ подтвердила.
Единственным доказательством того, что Марков прав, мог стать только взрыв. И он ударил.
И вот он здесь, на этой койке, без глаза, не сегодня-завтра слепой. А вина на профессоре, на человеке, который стал для Маркова… Да разве отыскать слово, объясняющее, кем стал профессор Чижов для Маркова?
Он навсегда запомнил тот день, когда впервые вошел в аудиторию новый профессор. Оглядел студентов, мгновенно останавливаясь глазами на каждом, и вместо того, чтобы, как было обещано в расписании, читать общую теорию газов, заговорил — о музыке.
Студенты поначалу переглядывались. Марков, никогда не любивший разговоров не по делу, тоже, как и все в начале лекции, недоумевал: что же записывать-то в толстую тетрадку, раскрытую на первой странице? Про Баха? Об основах гармонии?
А профессор говорил, все больше увлекаясь, о непрерывном, полном музыки, вечном движении материи, о сложных, как сплетения мелодических тем бетховенских симфоний, связях физического мира… Марков так ничего тогда и не записал в свою тетрадку и всю жизнь потом жалел об этом. Да и теперь жалеет.
Потом, конечно, были и газы, и формулы, и практические занятия, но профессор Чижов обо всем говорил совсем не так, как другие. И дело было даже не в том, что каждое его слово необыкновенно свежо и весомо очерчивало мысль, отчего она делалась рельефной и четкой. Дело было в богатстве понимания танственных связей в мире всего со всем, неразрывной соподчиненности явлений, веществ. стихий, энергий духовных и материальных, рождавших в единстве немыслимую цельность какого-то высшего смысла и назначения нерасчленимого бытия.
«Блеск! — говорили студенты а перерывах. — Нет, парни, како-ой блеск!..»
А Марков — молчал. Эти лекции ломали его. После них он был противен, тошен самому себе — невежда, абсолютный невежда! После лекций Чижова хотелось сейчас же, без промедления, во весь опор мчаться в «Ленинку» и читать, читать. И слушать музыку. И созерцать картины Тициана и Ван Гога, постигать великие строения Древней Греции, пламенеющей готики Франции и живые текучие камни испанца Гауди… Чтоб ничто не осталось вне тебя, чтоб не прошло мимо, чтоб хоть немножко, ну вот настолечко приблизиться к тому огромному летящему миру, в котором жил их профессор.
Да разве это были… лекции? Это были уроки.
Так их и стал называть Марков, твердо решив заниматься в будущем теми же проблемами, что и Чижов. Он был уверен: все глубоко взаимосвязано и, только во всем следуя учителю, сможет он стать тем, кем мечтал.
Они подолгу говорили после занятий. Чижов запросто приводил его к себе, ставил на проигрыватель Моцарта, и снова шел разговор, то у маленькой грифельной доски в кабинете, то — на листках бумаги, то в кухне, за стаканом чая; часы общений, после которых студент МИФИ Марков брел по ночной Москве, счастливый и… влюбленный.
Жизнь Маркова была не из самых радостных и легких.
До двадцати трех лет он не знал многого из того, чем почти владел каждый… например, что такое семья, своя комната.
Но остались в памяти отдельные дни.
И одним из самых ярких навсегда остался день, когда заседала комиссия по распределению.
Чижов утром встретил его на лестнице и сказал, как бы между делом, мимоходом, как о давно решенном, исключающем возражения: «Пойдешь в мою шарагу!»
В «шараге», то есть в лаборатории номер шесть знаменитого научного института, он еще лучше узнал учителя.
— Потрудимся, други! — говорил Борис Александрович, входя утром в «мыслильню» — комнату сотрудников, где они получали «ЦУ», обсуждали опыты, эксперименты, прежде чем разойтись по этажу. — Спешите, братцы! Мода на физиков проходит! Скоро за вас никто замуж не пойдет!
Они любили своего профессора.
Любили, когда он шел в кабинет, переодевался и возвращался к ним уже не в модном, строгом костюме с лауреатским значком на лацкане и при галстуке, а в затрапезной пестрой рубашке и джинсах, в наброшенном на плечи белом халате, высокий, по-юношески подобранный. Любили, когда, поплевав на руки, он отгонял неумех и сам брался за паяльник и забирался в густые дебри электронных схем… Узкие глаза, блестевшие холодной голубизной на тонком, бледном лице в частой штриховке мелких морщин, утрачивали тогда всегдашнее ироническое выражение.
Они знали: для их руководителя, профессора Бориса Александровича Чижова, нет, не было и не будет ничего дороже работы. Он жил наукой, дышал ею. Ломать голову, ставить подряд десятки опытов, находить, отвергать, радоваться и страдать над установками и черной доской — без всего этого он не смог бы существовать.
Суховатый, деликатный, нередко ироничный и снисходительно насмешливый, он мгновенно «переходил в другое агрегатное состояние», как шутя говорил Мишка, когда речь заходила о физике, о том ее разделе, на котором они «пахали». Если есть на свете счастливый человек — так это учитель, думал Марков.
Но каким страстным, злым, язвительным становился Борис Александрович, когда спорил всерьёз и без шуток, отстаивая свое!
Тогда для него не было ни рангов, ни дистанций, ни субординаций. Плохо работать у Чижова было просто немыслимое — и они пыхтели. Отношение к науке — этим измерялось всё. Ведь на свете нет, не было и не могло быть ничего важнее.
А когда их институтский местком устраивал поездки за грибами, Чижов приходил к автобусу в старой куртке и сапогах, надвинув на лоб старую кепку — похожий на пожилого офицера-отставника, летчика или артиллериста. Но легкий на ногу, с выверенными, точными движениями бывалого человека, он всё равно чем-то отличался от остальных… Чем? Марков давно это понял. Профессор Чижов знал не только свою науку… Нечто гораздо большее и всеобъемлющее, о чём так трудно, а часто и попросту невозможно было говорить…
Марков приподнялся на кровати, перевернулся на спину и снова лег, заложив руки за голову.
Когда это было?..
В больнице время резко сбавило темп, исчезло ставшее таким привычным ощущение страшной нехватки часов, и последняя поездка с Чижовым в лес показалась Маркову почти неральной, бесконечно далекой.
Он принялся вспоминать тот день — и отчетливо увидел Чижова, ребят из лаборатории, желтые волны опавших листьев под ногами и стволы, стволы…
Он шел с плетеной деревенской корзинкой, цепко всматриваясь в землю, раздвигал листья, бросался к подосиновикам, срезал их крепкие, тугие, похожие на маленькие березки ножки, и осторожно, чтоб не сбить оранжевой замшевой шляпки, укладывал в корзину. Грибов было в то лето сказочно много, и он радовался им, смеясь в душе над вечными бабьими охами-ахами, что такое грибное время — к войне.
Вышел на поляну, светлевшую за тонкими стволами молодого осинника, и замер. Десятки грибов толпились перед ним, поднявшись на красных и желтых, уже начинающих чернеть листьях. А чуть в сторонке от них стоял такой грибина, что у Маркова сердце подпрыгнуло. Ай да гриб! Сережку бы сюда! Только бы не червивый!
Но красавец смазался девственно-чистеньким, а шляпка размером с большую тарелку еле уместилась в корзине.
«Э, нет, приятель, — подумал Марков, — так дело не пойдет. Все трофеи мои собою закрыл. Придется в руке нести».
Он уже представлял, как завоют от зависти ребята, когда он вдруг небрежно вытащит из-за спины руку с этой громадиной, и как завороженно будет смотреть на гриб Сережка, когда он повторит дома этот фокус.
И вдруг что-то случилось.
Марков почувствовал: эта минута уже была. И был такой же гриб. И та же радость. Все повторилось. Замкнулся какой-то круг жизни.
В мокрых листьях отражалось, отсвечивало небо. Было тихо. Чуть постукивали капли по земле и веткам.
Он стоял один в редком осиннике и, закрыв глаза, вслушивался в легкий перестук мелкого дождя. Он был рад этой минуте без мыслей в холодном воздухе облетающего леса.
«Да, — сказал он себе, — да, да! Жизнь идет как надо. Во всем найти закономерность — вот так же просто и сильно почувствовать её в каждой минуте каждого дня — не ради ли этого мы все лезем из кожи вон? Увидеть высшую, всесвязующую закономерность во всем, что вокруг, — разве не в этом смысл жизни?..»
И вдруг услышал позади себя задумчивый голос учителя:
Шумят верхи древесные Высоко надо мной, И птицы лишь небесные Беседуют со мной. Все пошлое и ложное Ушло так далеко. Все мило-невозможное Так близко и легко…Они сошлись и остановились, глядя друг на друга без улыбки.
— Тютчев… Разумееться, Тютчев, — негромко и очень серьезно сказал Чижов и пошел дальше березовой опушкой.
Взволнованный, сосредоточенный, с окрепшей вдруг верой в счастье, которое всегда было где-то в будущем, близкое, но вечно убегающее, Марков пришел к автобусу у шоссе. Уже все собрались, когда он вышел из-за деревьев.
— Ребяты-ы… смотрите, какой он грибок отхватил!
— Гигант!
— Большому кораблю большое плавание!
Он забрался на заднее сиденье, в уголок.
Всю дорогу до Москвы молчал, только слушал, как трепались и хохотали ребята, как звенела гитара. Чижов, улыбаясь глазами, почему-то все время оборачивался к нему и подпевал своим «резерфордам» визборовские песни…
Никогда!
Никогда больше не пойдет он в лес за грибами. Никогда!
Незадолго до взрыва он встретил в метро слепого. Молодой человек с сухим лицом стоял, прислонясь к дверям, и все время улыбался странной улыбкой. Марков смотрел на него и думал: жить и не видеть?.. Представил себя на минуту без зрения, закрыл глаза.
Но мощные прожектора тоннеля, проносясь мимо окон вагона, били сквозь опущенные веки красными вспышками… С шумом растворились двери, и слепой, будто оберегаясь от удара, откинув назад все тело, шагнул к выходу, стуча перед собой тонкой тростью.
«Ах дурак, дурак!»
Марков вскочил, нащупал ногами тапочки. Подошел, вытянув перед собой руку, к окну, коснулся холодного стекла. Какой же он дурак! Все ждал, когда счастье придет! Все думал: это еще не то, не то, не до конца. А то, оказывается, и было оно, самое что ни на есть полное, настоящее счастье. С суетой, с нервотрепками, с тоскливыми днями, но — со светом, с книгами и кино, с лицами Сережки и Веры, с работой.
Теперь он и формулы записать не сможет.
Не увидит улыбки своей Веры.
Неужели… придется теперь учиться читать по этим пупырышкам на коричневой бумаге?
И такую же тросточку заводить, как у того, в метро?!
Он представил, как они пойдут с Верой по улице. Крепко и надежно подхватив под руку, жена поведет его по тротуару, будет зорко и напряженно, как за маленьким Сережкой, следить, чтоб не оступился. Он будет тяжело, путаясь ногами, топать рядом, отбивая палкой беспорядочную дробь. Вся улица будет смотреть на них и жалеть. И оглядываться.
Бедная моя Верка! Зачем тебе эта горькая канитель?!
Марков не сомневался: ей будет куда труднее, чем ему. Он ничего не увидит и не узнает. А ей — видеть и знать. И скрывать от него. Вера будет водить его, будет говорить веселым беззаботным голосом, каким уже говорит теперь, приходя в больницу. А лицо её станет ожесточенным и непроницаемым…
К чему ей тащить на себе его беду? Зачем всю жизнь делать вид, будто ничего страшного не произошло, а самой день и ночь корчиться от страданий? В конце концов ей всего двадцать шесть. Так неужели оттого только, что у него никого, кроме Веры и сына, она должна быть несчастна?
Впервые за все годы их жизни Марков мысленно отделил жену от себя, от своего прошлого и будущего. Они существовали отныне не слитно, а сами по себе, два разных человека, Раньше, когда шли по улице и Вера отходила от него в сторону, стояла в очереди — на нее нахально глазели всякие типы. Но приближался Марков — широкогрудый, сутулый от силы, со своими ста девяносто тремя сантиметрами роста, и типчики моментально отводили глаза. Теперь не отведут.
«Ах, если б ты, Вера, была другой! — думал Марков. — Насколько проще бы все было!» Ее преданность обернулась неожиданно иной стороной, и ничего тут не поделаешь. Так они устроены. Он и она. Они бы не могли и дня прожить вместе, если бы не их главное — правда в каждом слове. Теперь ее не будет. Разве скажет она, что тягостно и безнадежно жить ей со слепым мужем? Просыпаться и засыпать под гнетом горя? И чем дальше, тем чаще она будет думать о разбитой своей судьбе. Но не скажет. А он всегда будет знать и помнить, о чем она не договорила, что осталось за смехом ее и ласковым словом. И не жизнь у них будет, а вечная игра.
Марков стоял у окна.
Во дворе больницы шумел дождь.
Наушники давно замолчали. Наверное, очень поздно. Но сна не было — каждую ночь одни и те же мысли обступали его и терзали до утра, медленно проворачиваясь тупым коловоротом в сердце,
Вера не будет нянькой. Этого Марков не допустит. Обузой не станет. Никому. А само так получится… Н получится. Есть выход: он останется один. Так легче. Страшнее, но легче. И честнее. Ему предстоит заново учиться жить, Марков увидел себя в какой-то пустой комнате с лиловыми стенами. Веры не было. Сережки тоже. В комнате стоял леденящий холод. Сережка! Как он испугается, когда посмотрит в лицо отца! Ведь «папа в командировке»…
Марков замотал головой. Он ощутил подле себя голову сына, запах его тела, мягкие волосы, теплое плечико под пушистой шерстяной кофточкой. Жить без него?! Марков придушил стон, но горячие слезы обожгли глаз. Он понял: не сможет.
Не сможет без сына и жены, слабый, жалкий человек. Как же быть? Чтоб без жалости к себе и чтоб не старело до времени Верино лицо…
Марков тяжело улегся на кровать, укрылся с головой и стал вспоминать лицо жены, ее каштановые волосы, голубые подкрашенные глаза, маленькую родинку у кончика носа, ее рот, улыбку, ее руки… Потом опять думал о сыне.
Увидит ли он их когда-нибудь?.. Уходя в то утро на работу, он не знал, что надо вглядеться так, чтоб впечатались навсегда эти два лица…
Завтра! Завтра все станет на свои места. Мишка сказал ему: «Завтра шефа жди». Приедет Чижов. И Марков повинится в своем молчании. Учитель все поймет. И они решат вдвоем, как быть Маркову.
В наушниках звенят куранты. Шесть раз.
«Доброе утро, товарищи!»
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
— Наконец-то вырвался к тебе…
Марков, уже потерявший надежду услышать сегодня голос учителя, торопливо поднялся с койки и, смущенно улыбаясь, шагнул к двери, ища своей рукой руку гостя.
— Куда вскочил? — Чижов, с портфелем в одной руке и с сеткой, набитой апельсинами, в другой, искал глазами, куда бы их деть, но тут большая ладонь Маркова нелепо ткнулась ему в живот. Борис Александрович крепко сжал его запястье.
Красный круг ноябрьского солнца давно ушел за длинные, похожие на дремлющих рыб облака, растянувшиеся над Москвой. Синий сумрак вечера заполнил маленький бокс. Чижов еще не видел лица своего младшего научного, черным силуэтом загородившего больничное окно.
— Ты позволишь, я свет зажгу?
— Конечно, конечно, Борис Александрович… Чижов нашел на стене выключатель, щелкнул и, взглянув на Маркова, содрогнулся, охватив разом пустую глазницу под ввалившимся веком, красные разводы ожогов, темные метины, обезобразившие такое знакомое, славное лицо.
— Ну, что ж, на ногах уже, молодцом. Холодильник есть? Тут тебе несколько миллиардов калорий… Изволь употреблять. Я к черту сегодня все послал — хоть до ночи сидеть могу…
Он вышел.
Марков не мог видеть, как сильно изменился профессор, будто и сам только поднявшийся после тяжелой болезни, не знал, что в его глазах появилась усталость, такая незнакомая для всех, кто знал Бориса Александровича.
Он не знал, что Чижов утратил сон, и это была не просто хворь нервного века-бессонница, а трудная работа ума, изнуряющее, многократное проигрывание наедине с собой того, что случилось в его лаборатории.
Какая-то сила поднимала его среди ночи, и он, отодвинув снотворное, положенное заботливой рукой на письменный стол, склонялся над листом бумаги.
Каждую ночь вычисления давали один и тот же ответ, и он сидел, не отрывая взгляда от этой, обведенной рамкой строчки римских, греческих и арабских знаков.
Это было крушение.
То, что казалось столь надежным, выверенным до конца — его формула газового состояния, ставшая после опубликования реферата докторской диссертации «формулой Чижова», физическая зависимость, позволявшая, как он думал, открыть новые свойства материи, — оказалось ошибкой.
Лишь этот взрыв, лишь поиск причин аварии натолкнули его на мысль пойти в расчетах с другого конца и построить новую математическую модель процессов, которая не только объяснила безумную реакцию газа в установке, но и вчистую опровергла «формулу Чижова».
Самым мучительным было понимать свою несостоятельность как ученого. Как, как могло случиться такое с ним?!
Он пытался утешить себя. Убедить в том, что вообще так задан ход бесконечного разгадывания загадок природы, что ошибались и великие, но это не успокаивало.
Теперь, после того, что произошло с «ЭР-7», после этих ночных математических бдений, ему уже могло просто не хватить дней жизни, чтобы она вновь обрела истинно весомый, ясный смысл.
Получалось так, что, сделав просчет однажды и взяв за основу ошибочную идею, он потом последовательно и методично громоздил ошибку на ошибке. А какой-то дьявол все прятал и скрывал от него истину, пока не завел туда, откуда не было выхода.
Теперь «формула Чижова» была… «дополнена и исправлена».
В ближайшую среду следовало сделать сообщение на ученом совете. И что тогда?
Тогда — конец.
Все, что воздвигалось с таким трудом, обратится в прах. Давняя мечта о том, чтоб его лаборатория стала самостоятельным, уникальным по профилю работ НИИ, неизбежно рухнет. А что если… не спешить с сообщением?
Взрыв? Да он мог произойти от тысяч причин! Несчастный случай!
От установки ничего не осталось. Сколько бы ни гадала на обломках глубокоуважаемая комиссия, по этим «черепкам» причины взрыва уже никто никогда не узнает.
В конце концов, он же не собирается подличать и хоронить истину. Он, он сам откроет ее! Но… погодя. Немного погодя… Когда придет время. Он никого не обманывает. Он лишь хочет сохранить лабораторию и осуществить свое, выношенное.
Марков стоял у окна и прижимал холодные руки к горячей батарее.
Вот, вот сейчас заскрипит дверь, и Борис Александрович вернется в его маленькую комнатку. И ему придется сказать профессору всё, что он понял. Но как сказать?..
Вошел Чижов, притворил за собой дверь, усадил Маркова на кровать и сел напротив него.
— Ну, — сказал он, — как нас с тобой вентиляция подкузьмила, а! Черный юмор! Такие дела ворочаем — и вентиляция!
«Как? — вздрогнул Марков. — О чем говорит профессор?..»
Вдруг радостная волна освобождения захватила его. Неужели правда, и он запутался в расчетах, намудрил, а все дело в какой-то дурацкой пустяковине?
— Вентиляция? — переспросил Марков.
— А ты что думал? Она самая. И заключение комиссии есть. Взрыв в результате слабой вытяжки и скопления газов в отводном канале с последующим воспламенением.
— Правда?
— Ну, конечно, чудак человек! Ладно, рассказывай, что врачи обещают.
— Пока не густо, — ответил Марков. Его минутная радость неожиданного облегчения пропала. Он вспомнил свои расчеты. Не может быть, чтоб он ошибался. Вентиляция… Значит, профессор ничего не знает. Нет. Молчать больше нельзя. Но пусть Чижов узнает все от него, от ученика своего, а не от кого-то еще.
— Борис Александрович. Понимаете… я тут, пока лежал, все думал, думал… отчего же рвануло…
— Тебе сейчас только об одном думать надо, как бы поскорее в строй вернуться. Других проблем на повестке дня нет!
— Я понимаю… вы правы.
Чижов поднял голову. На лице Маркова он увидел страдание. Слепой… Почти слепой. И в горе этого парня, которому он, доверяя, как себе, поручал самые тонкие, самые сложные опыты, — повинен он один.
«Да, Марков не отвлеченная „жертва во имя прогресса“. Он моя жертва».
Чижову стало невыносимо смотреть в лицо Маркова. Он встал и погасил свет. Снова стало темно в боксе, но Марков не заметил этого.
— Борис Александрович, мне кажется… вентиляция ни при чем.
— Вот те раз! С чего ты взял?
— Серьезно. У меня тут времени хватает, я, кажется, понял, в чем дело. Ошибка… в расчетах.
— Это ты как — «в порядке бреда»? Было вульгарное ЧП. Конденсация без оттока и замыкание. Элементарщина. Да пропади он пропадом, этот взрыв! Хватит! Довольно о нем! А расчеты пятьсот раз на «Минске» просчитывали. Ты же знаешь.
— Борис Александрович… — Марков напрягся и быстро, собравшись с духом, выговорил. — Я имею в виду не расчеты конструкции «ЭР-7». Я говорю о том, что мы проверяли на ней. Конструкция безупречная. И разговора нет. Я… об общем принципе.
— Так, — сказал Чижов и откинулся на спинку стула. — Интересно.
Перед ним маячило в темноте взволнованное лицо, по которому скользили пятна света от проезжавших по улице машин.
— Если я тебя верно понял, речь идет о моей формуле критических состояний? — Чижов засмеялся.
И сразу почувствовал: сухо и деревянно прозвучал а тишине бокса этот похожий на звук трещотки смех. Марков не засмеялся. Чижов оборвал смех и сказал веско:
— Володя! Я понимаю. Высший смысл, да? Конечно, боже мой, как это понятно: уж если жертва, так чтоб не напрасно. Хочется, чтоб как Гусев в «Девяти днях»… Еще бы! Протоптанная дорожка для людей. Ведь так?
Марков молчал.
— Но, увы, так бывает не всегда. Бывают дикие случаи, в которых смысла не отыщешь.
— Честное слово, Борис Александрович, никогда не хотелось мне ошибаться, а сегодня хочется.
— Ладно, — сказал профессор, — тащите ваш билет. Зачетку не забыли? Рассказывайте.
Чижов был спокоен. Он сидел и смотрел, как Марков потирает руки и морщит лоб, подыскивая слова.
— Значит, так… — Марков начал медленно водить указательным пальцем по шерстяному одеялу, — значит, так…
«Ну говори же, говори, наконец», — внутренне подгонял его Чижов, с раздражением глядя на невидимые узоры, которые вырисовывал пальцем Марков.
И будто услышав его, Марков быстро заговорил, сбиваясь, повторяясь, но с такой убежденностью, что Чижову стало не по себе.
Теперь, когда Марков, напрягая память, снова медленно, отчетливо и весомо произносил каждое слово, неторопливо разворачивая вслух сложнейшие формулы, добавляя после каждого завершенного уравнения: «Так, здесь железно… Вы чувствуете?»… — его палец все торопливей чертил по одеялу, и Чижов неожиданно понял, почему он, как загипнотизированный, следит за каждым движением этой большой руки.
В ходе своих рассуждений, в самом направлении мысли Марков шел тем же путем, который привел Чижова к тому страшному конечному уравнению.
— Ну вот… — тяжело вздохнул Марков, — до сих пор формула остается справедливой. Хоть я и считаю совсем по-другому, вы чувствуете?
— Так, — нагнул голову Чижов. — И что же?
— Да в том-то и дело, что уравнение, принятое нами здесь раньше за конечное, не конечное! Вот смотрите…,
— Смотрю, — сказал Чижов, — смотрю.
Дальше все было ясно.
За те ночи он слишком часто просчитывал всё это сам.
Чижов вгляделся в лицо Маркова. В темноте, против света уличного фонаря, оно казалось тем же, что и раньше, до взрыва, но было искажено невероятным напряжением, а незрячий единственный глаз его был закрыт.
В уме считает! И… в уме дошел до всего! Чижов уже почти не слушал, он пораженно смотрел на человека, которого ценил до сих пор лишь за добросовестность, верность и золотые руки. Как же не понял он раньше, он, проницательный Чижов, что за феноменальная башка у этого медлительного слона!
— Борис Александрович! — Марков вздохнул. — Теперь самое главное…
«Да… — оцепенело согласился в душе Чижов, — вот именно, теперь».
Палец Маркова снова задвигался.
«Да он, оказывается, просто пишет там символы и цифры, помогая работающей на пределе голове!» — понял профессор.
Марков растолковывал ему последнее уравнение… Вдруг безумная мысль стрельнула в голова Чижова: что если вывод Маркова будет совсем не тем, которого он ждет… Ну… ну только бы не произнес «сигма-эф»… все что угодно, кроме этого коэффициента суммы сил… Ну… что же он тянет?
— Альфа на пэ малое, — сказал Марков, — здесь… нам просто необходим добавочный коэффициент… мы не учли его раньше…
«Мы… — подумал, задыхаясь, Чижов, — какая деликатность!»
— В данном случае… — Марков остановился и, будто извиняясь, закончил упавшим голосом: — В данном случае это будет «сигма» с показателем «эф».
— Ис-клю-чается! — раздельно сказал Чижов.
— Да нет же! — воскликнул Марков. — Послушайте, Борис Александрович…
— Ну и нагородил ты… Без таблиц… Все в голове?
— В голове, — тяжело согласился Марков. — Но ошибки нет… мне кажется…
Сейчас, в первый раз рассуждая вслух, разворачивая, живо представляя сложные математические построения, Марков окончательно убедился, что прав. Никаких сомнений.
— Борис Александрович… хотите… я еще раз всё расскажу? А вы будете записывать. Вы увидите — всё верно… — Марков просительно вытянул руку туда, откуда слышал голос Чижова. — Я же ни с кем не мог поговорить об этом, обсудить… вы же понимаете… Я по-быстрому, пока не забылось…
— Да ты что? — Чижов взволнованно встал. — Брось, брось! Инсульт схлопотать хочешь?!
— Мне это важно, — сказал Марков. — Очень.
«Что за пытка! — чуть не застонал Чижов. — Как выколотить это из него? Нет… невозможно… Но он еще ни с кем не говорил. Он сказал: ни с кем…»
— На дворе мочало… Русским языком сказано: есть заключение комиссии. Авторитетнейшей комиссии! Что ты за человек, не понимаю?!
Чижов знал силу своего влияния на Маркова, знал, как жадно и с доверием тот всегда ловил каждое его слово.
— Ну, не сиди с таким видом, — тронул он его за плечо, — поправишься, окрепнешь, будешь видеть — обмозгуем вместе, а сейчас… ни к чему это всё.
Теперь, когда для жизни среди людей у него остался только слух, Марков с испугом и болью ощутил в голосе учителя, в поспешной, суетливой интонации его речи то, что было полной неожиданностью.
Откуда вдруг такая… беспечность? Нет, это не потому, что он, Марков, болен, а с больными принято так говорить. Здесь — другое… Другое!
Чижов говорил, но Марков не вдумывался в смысл его слов… впервые в жизни. Он просто ловил интонации… звуки голоса и удивлялся.
Вдруг какие-то слова резанули его. Опять «комиссия», опять «вентиляция»… Почему Чижов, всегда учивший их мыслить чётко, зреть в корень, так сжился с этой, как он сказал, «элементарщиной»? И при том — ни слова, ни намека на то, что он хотя бы на секунду допускает возможность ошибки. Ни тени волнения или тревоги… Простой обеспокоенности…
Ну, конечно же! Учитель просто не может поверить ему. Боится поверить — это так естественно. Чижов — боится? Их Чижов? А его слова: «Если нет мужества — уходите. Место под солнцем найдется, но пусть это будет другое место, не наука»?
— Подождите, — сказал Марков, — подождите, пожалуйста. — Он взволнованно встал, шагнул к окну, зацепился ногой за тумбочку, своротил ее в сторону. Задребезжала ложка в стакана.
Что же выходит? Если перечеркнуть и отбросить то, что он понял тогда, три месяца назад, и неопровержимо подтвердил взрывом, тогда действительно — «бессмысленная жертва». Он мрачно усмехнулся. А ему нужно что ли, чтоб его горе выглядело осмысленно?! Подумаешь, первооткрыватель!.. Сочтемся славою…
— Послушайте, — твердо сказал Марков и повернулся туда, где сидел Чижов. — Я повторю…
Он говорил уже одними формулами. Уже сжато и уверенно, без всякого сомнения и без помощи пальцев.
На его вдруг постаревшем лице Чижов читал недоумение.
«Удивляется, бедняга, — подумал Борис Александрович. — Хм, конечно! Чижов, который всегда ловил на лету любую мысль и тут же, на их глазах, как фокусник, развивал ее, — не видит очевидного… А Марков, кажется, снова собирается идти по новому кругу, снова в уме… До чего же силен, дьявольски одарен этот скромняга!»
— Стой! — резко сказал Чижов. — Погоди, как ты сказал?.. Добавочный коэффициент? А ну, погоди… сейчас запишу.
Марков смолк.
Чижов вытащил из портфеля блокнот, достал «паркер» из кармана. А что писать? К чему? Всё давно выведено. Он отложил блокнот на тумбочку, сунул ручку обратно в карман.
Пусть думает Марков, что он углубился в расчеты…
Лицо Чижова кривилось от презрения к себе, от этой гнусной игры перед незрячим человеком… «О, гнусно, мерзко… — думал он, — неужели это я, я… ломаю здесь комедию?»
— Володя, — прошептал он, дивясь тому, как натурально сорвался и сел голос, — поздравляю…
Они сидели в темном пространстве маленького больничного бокса. И страшно тихо было в нём.
«Он понимает абсолютно всё… — думал Борис Александрович. — Потому и не утешает».
— Ну а ты как думал?! Сидели на пороховой бочке, — обессиленно пробормотал Чижов. — Лаборатории — конец…
— Почему?
— А ты как себе представлял? Разгонят! Без лишних вариантов. Полетят диссертации… судьбы…
— О моей и говорить нечего. Впрочем… о чем а? — Марков усмехнулся. — Какая теперь диссертация…
— Значит так! Я — твой научный руководитель, — жёстко сказал Чижов. — Не будем говорить о том, что значит для меня случившееся… Говорить об этом… — Он замолчал. — Но я отвечаю за ваши жизни, за ваше будущее ученых… тебе трудно это понять… Раз в твоем несчастье виноват я, мне надлежит не только отвечать перед самим собой. Твоя диссертация не пропадет. Я сам перепишу ее.
Марков молчал. Его сердце сжалось от любви к этому человеку..
— Спасибо вам, Борис Александрович, дорогой… Диссертацию я напишу сам… — Марков запнулся. — Есть новые мысли, думаю без конца…
«Ему еще до мыслей, — содрогнулся профессор. — А что делать мне? Ну почему всё это случилось именно сейчас? Когда я не занял еще того места в науке, чтоб опровержение самого себя уже не имело бы таких последствий?» Что же делать?
Жить в мире науки, оставаясь честным во всем и всегда, — это было его святым правилом. Нарушить его — значило бы потерять не просто уважение к себе. Это значило бы убить, перечеркнуть себя. Теперь же он стоял перед дилеммой: открыть ошибку теперь же, публично оповестить коллег, сотрудников, учеников, в сущности — весь научный мир, сберечь честь исследователя и — потерять всё, что составляло смысл его жизни, или… на время сохранить тайну, что-то выждать… но выиграть месяцы и получить верные результаты по исправленной формуле?
Он не хотел лгать, но игра, начатая здесь, в больнице, похоже, уже что-то изменила в нём.
Он часто думал о судьбах тех титанов науки, подобно которым пытался строить свою собственную.
Одна мысль в последнее время не давала покоя: были ли они так младенчески чисты у края могилы, эти славные титаны, как о том вещали коленопреклоненные биографы? Или и у тех случалось нечто такое, о чем биографы предпочитали не сообщать миру?
— Диссертацию я тебе напишу… — раздумчиво сказал Чижов. — А потом…
— Что — потом? — испуганно спросил Марков.
— Ты видишь какой-нибудь выход для меня? Для нас всех?
— Я не знаю… Правда.
— Послушай, Володя, — горестно начал Чижов, — давай рассудим…
Еще никогда, кажется, не подбирал он с такой тщательностью слова, не сортировал их, не отфильтровывал, выверяя и взвешивая значение каждого.
— Давай рассудим, — повторил Борис Александрович. — Иногда ради науки — ты же читал, знаешь… — ученым приходится идти на жертвы, на страшные, невосполнимые потери, чтобы сохранить достигнутое. Были, были подвижники науки, и как ты думаешь, что было самым трудным а их судьбе? Ведь без издержек не обходилось, и самые большие издержки связывались не с материальными лишениями… Люди могут понять и верно оценить, но только потом… Для них всё обрубается с ошибкой… И то, что было до этой ошибки, для них почему-то перестает существовать, хоть что-нибудь значить… Понимая это, честный ученый, не во имя себя, но во имя того, чем он живет, ради высшей истины вынужден иногда кривить душой. Но всегда, слышишь, всегда это лишь временный шаг, ради большой Правды.
— Да, — тряхнул головой Марков. — Это можно понять. Но что же нам делать?
«Нет, — внутренне воскликнул профессор, — воистину „лучше с умным потерять“!.. Какой… не тонкий, какой недотепа! Где гибкость мысли? Заставляет меня ставить точки над „i“, говорить вслух то, о чем мне говорить неловко, мучительно. О том, что для любого другого было бы уже давно само собой разумеющимся…»
— Ради науки, ради спасения лаборатории…
— Что? — спросил Марков.
— Мы должны… повременить с сообщением о том, что случилось. Пусть какое-то время об этом будем знать лишь мы с тобой.
— То есть как? — растерянно улыбнулся Марков. — Я что-то не пойму…
«Как он неприятен — с этой вытянутой шеей, в настороженной застывшей позе, — невольно подумалось Борису Александровичу, — ждет, ловит каждое слово… Анекдот! Я — во власти какого-то неразворотного Маркова…»
Чижов ощутил внезапную непреодолимую неприязнь к Маркову.
И оторопь взяла Чижова.
«Спокойствие! — приказал он себе. — Спокойствие, спокойствие!.. Эмоции побоку, а то этак можно далеко зайти».
— Пойми меня только правильно… Мы попали в такое положение, когда уже нет меня или тебя. Есть лаборатория. Мы должны быть верны ей. Могла… могла же … ну хотя бы в теории — быть просто неисправна вентиляция…
— Вентиляция была в порядке.
«Такого ничем не прошибешь. А по институту бродит следователь, и со дня на день он прикатит сюда, войдет в этот бокс. И извольте — сенсация на радость Солнцеву, Арамяну, Кондорскому».
— А заключение комиссии?
— Вентиля-яция была в поря-ядке!
— Но послушай! Для таких случаев существуют люди, которые зарплату получают, чтобы не было ЧП… Заместитель директора по пожарной безопасности — вот кто виноват. Это не я говорю, так комиссия решила.
— Митрофанов?!
Профессор поморщился от ненависти к себе, к Маркову, ко всей этой заварухе, которая вынуждала его говорить и делать то, что он сейчас делал к говорил.
— Строгий выговор по административной линии, взыскание по партийной — и вся драма.
Марков странно качнулся: горло сдавило сознание беспомощности перед падением, и никого рядом.
— Согласись, Володя милый, взвесь — это же просто несоизмеримые величины: «сигма-эф» и Митрофанов. Что важнее для науки, для народа — подумай! В конце концов, Митрофанов не, замученный ребеночек, о котором пёкся Иван Карамазов. От его выговора гармония не пострадает… Учти, кстати, он наверняка к тебе приедет…
А Марков вдруг вспомнил любимый афоризм своего учителя: «Возвышенные вершины неприступны. Только орлы и змеи могут их достичь». Вот так — только змеи и орлы.
— Так как же? — с усилием проговорил Чижов.
— У Митрофанова всё было в порядке, — ответил в пространство Марков.
Ему вдруг сделалось неприятно, что Чижов видит его изуродованное лицо, он застеснялся своего большого тела, запрятанного в бумазеевую кургузую застиранную пижаму, цвета которой он не знал, застеснялся запаха, исходившего от этой пижамы, запаха простого мыла…
Чижов смотрел перед собой в темноту.
Это из его, Маркова, лексикона — «чудно».
Действительно, чудно: сидят два человека в черной палате и молчат. Вот тоже еще Джордано Бруно… Да ведь век же не тот, не то время, не те люди… Всё относительно…
Борису Александровичу хотелось уйти с чувством завершенности. Он еще надеялся на что-то.
«Надо же понимать, надо быть более гибким. Не подличать, нет! Но быть более… гибким. Кому нужна его пионерская честность? Этой глыбе ничего не докажешь. — Усмешка передернула тонкие губы Чижова. — Занятно. Светило науки, профессор, которого знают в Европе, вот тут, в этой больнице на окраине Москвы, вдруг уличен неким Марковым как обыкновенный подлец. Шекспир! Но разве наука обходится без жертв? И разве на его месте не мог оказаться я сам?»
Чижов вздрогнул. Представил себя здесь, на этой койке, с пустой глазницей.
Марков…
В эту минуту Борис Александрович даже немного завидовал ему, его свободе, независимости от тех бесчисленных условностей, связанных с его, профессора Чижова, положением, которые обязывали… Обязывали — к чему? «Держать марку», спасать «фирму»… К чему еще?
А в голове Маркова неожиданно просто и ясно определились их позиции, словно кто-то расставил на шахматной доске фигуры: «Мне только что предложили сделку: за предательство невиновного человека — кандидатская диссертация, написанная профессорской рукой, звание, видимость деятельности…».
— Володя, милый, ты извини, что я тебя растревожил… Правда, это так всё… неприятно. Но главное — это твое здоровье. Все остальное ерунда. Поправишься, будешь видеть… я не сомневаюсь. Вот тогда…
«Всё ложь, — думал Марков. — Всё-всё ложь. Он не верит в это. Я для него кончился».
— Выкарабкаешься! Непременно! Тут ведь сам Михайлов!.. Бог и царь. Мировой гений! Я поговорю с ним… Скучно тебе здесь. Я тебе мой «Сателлит» притащу. Тринадцать диапазонов. Весь мир как на ладони…
Марков молчал.
В неподвижной настороженности его головы Борису Александровичу почудилось ожидание.
«Он ждет, когда я уйду», — понял Чижов.
— Ты… слышишь меня?
— Да, — тихо откликнулся Марков. — Не стоит.
— Ты о чём?
— Приемник возить не стоит. И вообще… Думать мне нужно. Много думать.
И тут он понял… сейчас его учитель Борис Александрович Чижов жалеет, что он не умер, что он сохранил интеллект, как сказал Михайлов… В той схеме, которую построил для себя профессор, он, Марков, оказался тем же неучтенным, добавочным коэффициентом, что и злосчастная «сигма-эф».
Профессор, кажется, поднялся. Колыхнулся воздух, и его прохладная волна коснулась щеки Маркова.
— Ну, ложись… прости, я утомил тебя.
Что-то еще нужно было сказать профессору… Что-то очень важное… Марков нахмурился:
— Борис Александрович, вы с профессором Михайловым… не говорите… Спасибо.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Если вы верите в свою звезду, учтите, что это — рискованное и ненадежное дело.
Это говорю я, учёный-физик, специалист.
Я тоже когда-то верил, лет пятнадцать назад.
Нет, не подумайте, что моя звезда меня обманула. Напротив. То, что было загадано, до смешного точно исполнилось в срок. И сегодня, сейчас, в данной точке пространства, именуемой эскалатором станции «Краснопресненская», у черного резинового поручня стоит весьма преуспевающий, судя по его виду, кандидат наук.
Заметим на полях: тот далекий двадцатилетний Мишка Коган, полный энтузиазма и огня, пришел бы в восторг, увидев меня, то есть себя, сегодня. И нисколько не удивился бы. Я, сегодняшний, поразительно-точно уложился бы в его схему будущего.
Но ему, зеленому студенту долгопрудненского Физтеха, не дано было понимать то, что абсолютно ясно мне сегодня: и мое модное английское пальто, и работа у холодного мудреца Чижова, и переведенная и опубликованная во Франции диссертация — по сути, лишь цепь случайностей. Невообразимых случайностей.
Услышь такое двадцатилетний Мишенька, заводила, душа человек и столп студенческих «капустников», — он затопал бы ногами. Он еще не дошел тогда до частной теории вероятностей.
Так что если вы по-прежнему будете, несмотря на мое компетентное предупреждение, верить в свою звезду, учтите, что свет ее может отклоняться.
«Неблагодарный! Мало ему всего!» — вполне справедливо можете вы подумать. — И здоровьем судьба не обидела, и ростом, и профилем. Теперь… с бакенбардами по нынешнему поветрию…
Не судите меня строго за мои маленькие слабости: вообще-то я «серьезный», «перспективный», «одаренный» и «многообещающий», если верить, конечно, характеристикам… Так вот теперь — я похож на испанца. Накрашенные неземные существа а сногсшибательных одеяниях, поднимающиеся на встречном эскалаторе, посматривают на меня. Кто робко и мимолетно, кто посмелее и пооткровеннее.
Двадцатилетний Мишка не поверил бы, что это может быть безразлично.
Только, пожалуйста, не ошибитесь… не подумайте, что раз я смеюсь тут с вами, провожаю потрясенным взором какую-нибудь хорошенькую розовенькую мордашку с тугими щеками, в которых все ее семнадцать лет, улыбаюсь понимающе, демонстрируя свою фотогеничную улыбку дамам постарше, — не вообразите, что мне сейчас весело. Скажу больше… если бы тот, двадцатилетний, спросил меня, заранее уверенный в ответе, счастлив ли я… то я, сегодняшний, скорее всего предложил бы ему… поговорить о птицах.
Всё, эскалатор кончается. Теперь не до «проклятых вопросов» — надо смотреть в оба, не то могучая толпа, которая, как известно, всегда сильней и умней отдельного индивидуума, может подхватить и унести обратно наверх, на Пресню. Вечерний час «пик». Разрезаю плечом шумный людской поток, сталкиваюсь с бегущими во всю мочь, выхожу на перрон.
Двадцатилетний Мишка входил в метро, как в кино.
Он не зубрил формул, везучий черт, ему все давалось с лёта.
Он пьянел от мелькания лиц, от тысяч глаз, от гула туннелей, от радостных свиданий у синего свода «Октябрьской», от красной фуражки дежурной по платформе, от короткого, отрывистого: «Готов!» усталого машиниста. Он не ходил тогда, а бегал, везде успевал: и в бассейн, и на тренировку институтской волейбольной, и толкнуть зачет, и прошляться до утра, целуясь всю ночь напролет. Верил в мировую гармонию и имел на это право. И всегда было метро, всегда новое и волнующее. Оно и теперь иногда берет за душу тем давно ушедшим тревожным беспокойством, которое, напоминая о себе, само волнует больше, чем любимые станция, мрамор, вагоны… Нигде, нигде так остро не чувствую я, что уже отрезано навсегда полжизни. А это, как говорил мой дед, «не фунт прованского масла».
Все ближе грохот, переходящий в рокочущее завывание.
Из черной арки туннеля вынырнул поезд. С лязгом и шипом расходятся двери, людей из вагона выбрасывает, как катапультой.
Нас несет по черному туннелю, мотает из стороны в сторону. Зеленые светофоры прочерчивают черные вагонные окна длинными импульсами, как экраны осциллографа. Сумка с апельсинами начинает оттягивать руку…
Мне ехать далеко, две пересадки. Минут через пятьдесят доберусь. Войду к нему, и тут, я уж знаю, в моих умных кандидатских мозгах что-то переключится, и я начну сыпать смешное, как из рога изобилия.
Но сегодня мне не до смеха. И не только сегодня. И особенно с ним. Но я должен, я обязан, как заводной, говорить весёлые вещи — всё в заданных параметрах, не больше и не меньше, как учит наш небожитель-шеф: «такт — прежде всего», — но должен. Слишком сильно люблю я этого человека, чтоб дать ему зарыться в своё горе.
Откуда эта потребность — жить и знать, что после моей усмешки кому-то полегчало? Генетика, наверное. По наследству от деда — эта способность смеяться, когда надо бы стиснуть зубы. Я любил деда. Его стоило любить. Он умирал от рака горла в старенькой больнице — умирал, уже изрезанный вдоль и поперек. За пять минут до конца дед поманил нас с отцом и, когда мы приблизились, улыбнулся и прохрипел в свою трубку: «Поезд отправлен… Все — согласно купленным билетам… Никогда не ездите „зайцем“… Это было не самое легковесное из духовных завещаний. Дед открыл счет.»
А месяц назад он чуть не продолжился — этот счет потерь. Тот, к кому я еду сейчас, мой самый близкий, самый верный друг, подорвался на опыте.
Оглушительно лопнули стекла, и когда я очухался, сломя голову кинулся по коридору, вбежал в лабораторию, забил огнетушителем пламя, то увидел Володьку. Он лежал на спине, в забрызганном кровью белом халате, закрыв лицо руками. Я отвез его на «Скорой» в больницу, схватил такси и помчался в школу за ней. Она должна была быть с ним рядом. Он мог умереть от шока.
Вспоминая тот день, я невольно ловлю себя на одном к том же: услышав грохот, увидев дым, выходящий из провала в стене, я прежде всего подумал не о Володе. Пусть это ужасно. Но это правда. Двадцатилетний с его прямым, доэйнштейновским пониманием вещей очень бы удивился, а узнай он, как я живу теперь, наверняка подмигнул бы и сказал: «Старичок! Это же классика!»
И он попал бы в точку. Как всегда. Чудак, мальчишка! Как легко он во всем разбирался! К нему шли за советом, за его смешняцкой железной логикой. Он всегда давал правильные советы.
— На «Белорусской» сходите?
— Нет, — говорю я, отодвигаясь подальше от дверей. — Пролезайте, если сможете…
Я приезжаю. Серая муть морозного вечера. Корпус больницы светится голубыми окнами. Поднимаюсь на четвертый этаж, стучусь в дверь бокса. Тишина. Приоткрываю дверь, заглядываю. Володьки нет. Внезапная тревога сжимает грудь.
Я вижу его в дальнем конце коридора. Он стоит у окна, у рахитичной пальмы.
— Старик! Вон ты где! А я уж решил: тебя за нарушение режима попросили…
Он не оборачивается. Будто не слышит. Что с ним? Неужели подписали «смертный приговор»?!
— Марков, ау! — Я обнимаю его сзади за могучие плечи. — Прячешься от репортеров, Бриджит Бардо?
Он резко оборачивается, отталкивает и снова упирается лбом в стекло.
— Володька! Это я. Привет!
— Привет, привет… — говорит он, и я не узнаю его голоса. — Приехал, значит?
— Ну да… — я вовремя спохватываюсь, чтоб не брякнуть «как видишь», — пошли к тебе.
— Зачем?
— Что стряслось, Володька?
— Ничего.
— Врачи сказали что-нибудь?
— Нет! — упрямо, сквозь зубы отрезает он.
— Так, — говорю я, — Всё понятно. Марков вспомнил, что у больных непременно в четвертом действии бывает кризис. Родные обступают бородатого доктора в чесучевом сюртуке. «Ну-с, хм, хм, — говорит доктор, играя цепочкой от часов, — главное теперь — это хина. Будет хина… хм, хм, ну тогда… хм, хм… конечно… Кризис, господа, кризис…»
— Иди ты к черту!
— Черта нет, — говорю я. — Ты тут обскурантизм средневековый не разводи. — Беру его за руку. — Пошли к тебе.
Володька выдергивает руку.
— Слушай! Я не шучу с тобой!
Хочу снова взять его под руку, но он снова и куда решительней отталкивает меня. Он действительно не шутит. Лапа у него тяжеловатая.
— Обойдусь без поводырей! — Володька нашаривает рукой стену и медленно бредет рядом со мной, пригнув голову.
Я искоса поглядываю на него. Это сон. Чтоб на его лице — такая мрачная, недобрая усмешка… Вехи горя.
— Пришли. — Я останавливаю его перед дверью бокса. Он толкает белую дверь, входит и тяжело опускается на кровать, сидит понурясь.
— Апельсины! — говорю я торжественно. — Очередь чуть не побила твоего знакомого камнями. Просил отборных… для одного грубияна.
— Слопаешь сам! Забирай и катись. Тащат и тащат эти апельсины. Устроили… фруктовый магазин. Уходи!
Так. Это уже вполне серьезно.
Что произошло, хотел бы я знать?
— Володя, — мой голос тверд. — Скажи, что случилось?
— Ничего. — На его лице та же сумрачная усмешка. — Я… прозрел.
Я не понимаю такого юмора и говорю:
— Володька, милый! Не надо так. Нам всем тяжело. Это я, птица вольная, а у ребят, сам понимаешь — семьи, малышня, магазины. Не могут они часто приезжать. Зато приветов тебе…
— Милый!? — сдавленно, тяжело вдруг засопев, выкрикивает Володька. — Милый!?. Для всех я теперь «ми-илый». Все вы теперь знаете… не дураки, образованные, интелли-иге-ентные… Конец Маркову, отбегался. Ан всё-таки какая-никакая, а помеха. Слепой, а мешает, ходу не дает… А вот мы его по-хорошему, по-культурному уговорим, чтоб знал теперь свой шесток… апельсинчиков притащим… кушайте на здоровье… Владимир Петрович… А сами… А сами — о себе хлопочете!
— Ты что, сдурел? — Я чувствую, что темно, густо краснею.
— Сдурел. Свихнулся. Как это? Ах да… недееспособен! Мозги набекрень. Тебя ведь это устраивает, правда? Ну вот скажи… Ты для чего ко мне через день катаешься?
Что я могу для него сделать? И для нее? Неужели ничего?! Совсем ничего?
— Чего катаюсь? Для разминки!
Мне ясно — его обидели. Обидели слепого… Но кто? С какой стороны это накатило?
— Давай, давай, — ядовито улыбается Володька, — куй железо. Только не думай, что я такой уж глупенький. Все вы… друзья, пока вам чего-нибудь надо, а добудете… Гуд бай! Может, тебе фактики нужны? Из диссертации моей? Могу подарить. Конечно, зачем мне теперь это всё?.. Надо науку двигать, докторскую защищать, а я тут лежу себе, как собака на сене… Так, что ли? Бери, старичок, не стесняйся, описание накрутишь, обработаешь… Разве я не понимаю? Бери!
Мне делается душно. Это не Марков.
— Фу… — усмехаюсь я, — ну и тексты выдаешь. Только если ты полагаешь, что я хлопну дверью и выметусь, — держи карман. Не для того я пёрся через всю Москву. Не надейся.
Мне действительно не до обид. Сказать по чести, я и обижаться-то толком не умею. И потом — это от профессии. Нам нельзя обижаться. Физика пострадает. Круговая порука? Вроде того,
— Знаешь, Володька, может, и правда, приехать мне к тебе завтра? Будем считать, что сегодня меня у тебя не было… Если ты не можешь мне сказать, что случилось, — выпытывать не собираюсь. Сиди тут, пыхти и дуйся, как мышь на крупу. Если к тебе приезжают друзья-нечего на них бросаться аки собака.
— До свиданья. Не вздумай оставлять апельсины.
— Ну не воображай, что я поволоку их назад после трудового дня. Можешь отправить малой скоростью на Огненную землю. Там у них… наводнение, кажется…
Я подхожу к нему. Крепко обнимаю.
Он уже не вырывается. Я вижу, что щека его, багровая, изрешеченная осколками, начинает дрожать.
— Ну скажи мне, дуралей паршивый, что с тобой? Какая сволочь тут побывала? Только скажи — кто?
— Слушай, Мишка, жуткий вид у меня? Только честно!
— Нормальный вид.
— Врешь ты всё.
— Очень даже мужественный вид. Сразу видно — человек не бумажки подклеивал.
— Я решил. Я разведусь с Веркой.
— Тебе надо прописать душ Шарко, — говорю я, чувствуя, что стены бокса начинают сдвигаться и сейчас меня расплющат. — Помогает. Тебя что — перекололи?
— Я решил.
— Он решил! Он, видите ли, решил! Да кто дал тебе право решать за нее?!
— Я имею право. Будь ты на моем месте…
— Будь я на твоем месте — я б жрал таблетки. Хоть Веру не мучь. Ей сейчас весело, как ты мыслишь?
— Ну вот… я и говорю.
— Ты хочешь сделать, чтоб было еще хуже. Только и всего.
— Ладно, — говорит он и хмурится. — Хватит.
— Пожалуй, — соглашаюсь я.
Ничего смешного больше в голову не лезет. Я выдохся. Потерял форму. Мне не двадцать лет.
— Привет честной компании!
На пороге Вера. На ней белый халат, застегнутый по всем правилам на пуговицы, не то что моя накидка. Из-под халата видны модные брючки. Как вы думаете-что у нее в сумке? Да-да, они самые, может, даже и из Марокко.
Она бросается к Володьке, крепко целует. Я свой. При мне можно. Чмокает меня в висок. В ее голубых глазах вопроса «Ну — как он?» Я киваю, успокаивающе поднимаю руку: «Порядок». А она постарела.
— О чем говорили, признавайтесь?
— Мы как канадские лесорубы, — улыбаюсь я, — «в лесу о бабах, с бабами о лесе».
— Страшные оригиналы… Надо думать, не только канадские лесорубы…
— И заметь — не только лесорубы…
— Да-да. Вопрос века. Неразрешимый вопрос.
— Откуда доспехи? — киваю на белый халат.
— Выпросила у химички нашей.
— Как ученички, Вера? Грызут гранит?
— Не напоминай мне о них. Если бы грызли!
— Как у тебя с часами?
— Нормально, как говорят мои детки. Я спрашиваю: как жили Ларины до приезда Онегина? Отвечают: «Нормально жили». — И Вера подносит палец, к губам. Ясно. Разговор не для этой минуты. Понимающе прикрываю глаза и говорю:
— Володька! Чего молчишь? Угадай, что тебе жена принесла? О чем ты мечтал… ну?.
— Апельсины, небось? — Он чуть улыбается. — И что мне с ними делать?
— Слышишь, Вера? — говорю я. — Могли ли задать такой вопрос наши деды и отцы в 1913 году?
Мне самое время уходить. Теперь, когда она пришла, я здесь ни к селу ни к городу. Но… какая-то сила не дает мне встать и распрощаться.
— Счастливый ты человек, Мишка, — говорит Володька, — легкий человек. Все у тебя хорошо!
— Плюнь, — говорю я, — плюнь сейчас же! Сглазить меня захотел?
— Тебя не сглазишь. Ты веселый, заводной… Чего не женишься? Не понимаю.
— Видишь ли, старина, — улыбаюсь я, — никак невесты не выберу. Притязания-то у меня — сам знаешь.
— А женись вот на ней, — вдруг резко говорит Марков, — на Вере.
Зачем мне эти слова? Почему я не ушел пять минут назад? Досиделся. Я молчу. Скорей, немедля надо что-то ответить ему. Принять и отдать этот пинг-понговый мячик. Что-нибудь а том же проклятущем непринужденном стиле…
— Минуточку, — с серьезным видом оборачиваюсь к Вере. — Тут надо разобраться… Вера! А вот скажи: умеешь ты делать пельмени на быстрых нейтронах? Да или нет?
В ее глазах слезы…
— Какие-какие?..
— Ах, во-от оно что?.. — разочарованно тяну я. — Ну, тогда всё понятно. Друг называется! Сватает какую-то бездарность, о любимой закуске физиков всех стран слыхом не слыхивала…
Мы хохочем с Верой. Володька молчит, а мы хохочем. Довольно натужно, впрочем. Как и мои шутки.
Вера вдруг обнимает большую Володькину голову. Ее глаза впиваются в это обожженное лицо, она проводит пальцами по затянувшимся рубцам. — Ее глаза закрыты, но из-под ресниц тянется черная мокрая полоска.
Когда меня возьмут под белы руки, поставят пред очи Господа и Создатель спросит меня: «Что видел ты, жалкий маленький лудильщик?», я отвечу: «Однажды зимой, в больнице, вечером, я видел любовь, Господи». Кажется так писали когда-то в романах?
Вера отрывается от Володьки. Она смотрит на меня.
— Ну, — говорю я, — теперь, когда главный режиссер распределил роли, мне можно уходить. — Я смотрю на Маркова, на его тяжелые, массивные плечи, на толстую крепкую шею, но чувствую на себе всё тот же остановившийся взгляд голубых глаз. Пора… Надо удирать.
— Итак, — бодренько говорю я глухим незнакомым голосом, — сделал дело и уходи. Володька, помни, о чем говорили.
— Давай, — невесело кивает Марков. — Спасибо тебе, Мишка. Вера встает и отходит к окну.
— За что — спасибо-то? — спрашиваю я.
— Не уверяешь хотя бы, как некоторые, что всё будет в лучшем виде. А ездить через день — зачем тебе мотаться? Я ж тебе не мать…
— А действительно… Ты мне не мать. Что это я, правда, выдумал?
Я склоняюсь к нему. Он сидит грустный, далекий. Еще позавчера был другим. Его запавшее веко — близко-близко. А тот глаз, что остался, — мутен, весь в черно-красных трещинках сосудов, смотрит как-то вбок.
Вера стоит к нам спиной.
— Ладно, веди себя тут хорошо, на днях заскочу. — Стискиваю его ручищу. Всегда твердая и горячая, сейчас она холодна.
— Верка! — Вот мы рядом. Я касаюсь губами ее руки. — Слушай, развесели ты этого типа. Как подменили человека… Пока!
Я выскакиваю из Володькиного бокса. В коридоре темно.
— Миша! — Вера стоит в темноте. — Подожди.
— Что?
— Ты знаешь… я поняла сегодня.
— Что ты поняла? Ничего ты не поняла. Беги к нему. Старик сегодня сам не свой.
— Ты… редкий человек, Мишка!
— Открыла Америку!
— Посмотри на меня. — Она берет меня за руку. — Куда ты смотришь?
— Я… смотрю на тебя.
— Я больше не буду бояться за Сережку… слышишь? Я никогда раньше не думала, что со мной что-то может случиться… А после того, что с Вовкой произошло… Теперь я знаю. Я могу не бояться.
— Что-то ты такое говоришь… ничего не понимаю.
— Я очень счастлива с ним, Мишка.
— Я знаю.
Это правда. Она действительно счастлива. И это — судьба.
Не сцепись мы с ней тогда языками в бесконечной очереди у читального зала «Ленинки»… Не познакомь я ее тогда со своим лучшим другом Марковым… А главное… забудь я тогда на минуту о Виктории Олевской… И все завертелось бы в иной плоскости, все было бы совсем не так, как оно есть сегодня. А сейчас… Вику Олевскую, то есть исследователя сверхновых звезд, талантливого астрофизика В.И. Олевскую вспоминаю редко… Иногда мелькнет информация в реферативном журнале, фамилия на статьей… Олевская… вон ты где… ясная голова…
А Вера счастлива. Так и должно быть. Я хочу радости Володьке, ей, себе. Я всегда знал, что у них не будет скандалов, скуки, побегов на сторону, всей этой паршивой модной разводной мути.
Вера вдруг прижимает к себе мою голову… какие сильные у нее руки.
— Ну, поезжай, дорогой.
— Как у тебя с деньгами? Только без дури!
— Пока без напряга. Если будут нужны — скажу.
— Беги…
Меня снова качает вагон метро.
«Так получилось…» — думаю я, — так получилось.
Наверное, это ни в какие ворота — что я думаю сейчас о себе. Но думаю вот… Странно… и немножко удивительно. После стольких лет, после стольких встреч Володька и Вера — единственные родные люди, которые у меня есть. Так получилось.
Что же стряслось с Володькой? Кто был у него вчера?
И вдруг меня пробивает разрядом неожиданной догадки.
Чижов! Но почему же после… его визита? Ведь он Володьке вроде отца и пастыря. Что между ними произошло? — Володька не захотел сказать. Марков есть Марков…
Мерное покачивание усыпляет.
Все равно, как бы там ни было… спасут ему зрение или нет… я буду с ними. И тут нет ни флуктуаций, ни вариантов.
Так получилось.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Проводив Мишку до лифта, Вера медленно пошла к боксу, где лежал ее муж. Марков все так же сидел, сжав голову руками, и, когда она вошла, не шевельнулся.
— Ты похож сейчас на роденовского «Мыслителя», — сказала Вера и погладила его по волосам. — Тебя смотрели сегодня?
— Смотрели, не смотрели… Какое это теперь имеет значение?
— Вовка! Так нельзя. Обидел Мишку…
— Велика важность! Не будет больше ездить… апельсинчики возить.
— Мишка — друг. Настоящий друг.
Он поднял голову, и Вера ужаснулась, увидев его холодную, недобрую улыбку. Ее Вовка Марков не мог так улыбаться. Что произошло, что еще обрушилось на них?
— «Настоящий друг»… Настоящим другом может быть только мать или отец. А меня… тетка воспитала… Кое-что я успел понять в жизни. Во всяком случае, что такое «настоящие друзья».
— Нехорошо ты говоришь. Несправедливо… Знаешь, как за тебя в институте переживают!
«Зачем она дотрагивается до самого больного? В институте переживают. Переживают, точно. За себя переживают».
Вера обняла его за плечи.
— Что тебе сказали врачи?
— Врачи? — Он пожал плечами. — Что нового они могли сказать? Всё, как было.
— Ну, так что же все-таки? Зачем ты мучаешь меня?
— Разве я прошу тебя мучиться?
— Вовка, это не ты говоришь!
— Это я говорю. Надо смотреть на жизнь просто и видеть ее такой, какая она есть. Хватит витать в облаках. Тогда по крайней мере не обманешься.
— В ком ты обманулся? В Мишке? Он… Он сказал тебе что-нибудь? — Вера почувствовала, как у нее похолодели ноги, но она снова увидела Мишкины глаза, и ей стало стыдно за себя. — Или во мне?
— Обманулся — не обманулся… Всё слова, слова… Жизнь умнее нас.
— С тобой что-то произошло. Что-то очень плохое. Я чувствую. Не хочешь говорить — не говори. У нас с тобой нет сейчас ничего важнее, чем твой глаз. Тебе нельзя нервничать. Вспомни, что Сергей Сергеевич говорил.
— Да не в том дело! — досадливо махнул рукой Марков.
— А тогда… Тогда я просто… слов не нахожу! Да как можно… из-за какой-то чепухи… Теперь для нас всё чепуха…
— Как сказать… — усмехнулся он, незряче глядя в голую стену.
— Вовонька, что случилось?
— Тебе это ни к чему.
— Хорошо, — отрывисто сказала Вера деланно-сухим безразличным голосом и встала. — У всех людей бывают такие моменты. Ты живой человек.
— Верочка, как думаешь, а не пора ли… остепениться твоему умному мужу?
— К чему ты это?
— У меня был вчера профессор Чижов. — Он сразу подобрался, напрягся. Голос зазвучал жестко, отрывисто. — Тут, видишь ли, такой расклад любопытный обозначился. Почему на самом деле взорвалась установка — знаем только мы двое: он и я. Больше никто. В том, что грохнуло, говоря формально, виноват шеф. Хотя это не вина, конечно. Заблуждение. Серьезное? О да! Будь здоров! Ошибка! Но за ней, я чувствую, стоит что-то колоссальное. Надо бы радоваться, да? Ан не так все просто. До этого колоссального ещё дожить надо. Дожить. А пока доживешь… В общем, если сегодня кто-нибудь узнает насчет установки, будет великий шум. Это как дважды два. А стрелочник тогда зачем? У нас в институте такой стрелочник — некто Митрофанов. Улавливаешь? Короче, так: я молчу. Чижов молчит, все шишки на Митрофанова. А молчание, Верочка, — золото! Мне за него профессор Чижов кандидатскую пишет, овация на защите, соискатель-слепой, слава героя и тэ дэ. Ну как, нравится?
— Какая… мерзость!
— А ты подожди, не горячись. Это в моем-то положения — двести пятьдесят целковых в месяц! Такими вещами не бросаются. Ты взвесь, подумай…
— Это низко! — тяжело дыша, быстро выговорила Вера. — Слышишь?! Низко! Как ты смеешь меня проверять? Рассчитываешь, что я буду тебе прощать, потакать, делать скидки на твое положение?.. Извини — не надейся! Короче — так: в холодильнике мусс клюквенный и котлеты. Я пошла. У меня гора тетрадей.
— Подожди… Я же пошутил… — Он встал и шагнул к ней, вытянув перед собой руку. — Верка… Она взялась за ручку двери:
— И следи все-таки за собой. Кофту наизнанку надел. Неужели трудно найти швы и сообразить? До свидания.
После вчерашнего разговора с Чижовым Марков ощущал постоянную нехватку воздуха. Грудь сдавило, каждый глубокий вздох отдавался болью в сердце. Что же, в новом свете все выглядело иначе. Неужели все годы он был для Чижова просто ломовой лошадкой, а его слова об одаренности, талантливости молодого физика Владимира Маркова — не чем иным, как изящной понукалкой, стимулом для достижения задуманной цели? Он всех их сделал ломовыми лошадками, восторженными, влюбленными фишками, и только сейчас дошло до Маркова, что именно оттого, что Чижов подавлял их своей эрудицией и одновременно в высшей степени деликатно, но железной хваткой держал в узде, в плену лишь своих планов, своих идей, своих мыслей, оттого, что они сами перестали считать себя «мыслящими единицами» и не умели шире взглянуть вокруг себя, — именно оттого так долго не всплывала на поверхность та роковая ошибка.
В сущности, они никогда не были самостоятельны, они были покорными счастливыми разработчиками е г о идей — и больше никем.
Надо было идти к людям, неважно к кому, услышать их голоса, простые слова, старые анекдоты. Но идти в холл, на лестницу, в холодную, пропахшую хлоркой уборную, где, покуривая «беломор» и «шипку», невидящие люди устраивали диспуты о положении на Ближнем Востоке, о пенсиях по группам инвалидности, «о бабах», о глазных болезнях, об обеде, о том, кто как жил в то неправдоподобное время, когда смотрели глаза, — Марков не мог.
Чижов вчера точно все определил и зафиксировал: никто никому не нужен. Никто никому не верит, а главное — все слова, улыбки, обещания не принимаются никем всерьез. Каждый, зная себя, не может верить в чью-то искренность. Надо быть дураком, чтобы верить.
Логически все было абсолютно верно.
Но так же точно знал Марков, что эта логика не для него, что ему-то как раз лучше жить тем дураком, который верит. А верить он не мог, и тут сам собой возникал безвыходный замкнутый круг.
Пришла ночь. И странное дело: с этой ночи кончилась его мучительная бессонница, он спал тяжело, каменно, просыпался на рассвете от прикосновения к горячей коже мокрого холодного градусника в том же положении, в каком засыпал.
Грустные сны снились ему под утро.
Появлялся Чижов, тот, прежний, и Марков что-то ему доказывал, с особой радостью, что бывает только в хороших снах, чувствовал: учитель все понимает, до последних крупинок.
Снились ему огни аэропортов. Пестрые бесконечные монтажные провода. Много синей воды.
Сны были как некогда реальные, яркоцветные. Лучше было не просыпаться после таких снов!
Но надо было вставать, добираться на ощупь до умывальника, нюхать, чтоб не перепутать тюбики с зубной пастой и кремом для бритья, осторожно, обходя рубцы, сбривать щетину, ползти вдоль стенки на завтрак, что-то говорить в ответ на вопросы:
— Ну что, Володь! Лежим?
— Тебе масло как? На хлеб намазать или в кашу?
— Те-те-те… размахался! Смотри, сейчас стаканы все поколотишь! Ты, Володь, борьбой не занимался? Здоров ты, парень!..
Снова потянулись долгие, томительные больничные недели, заполненные каплями, уколами, процедурами… мыслями. Марков почти не выбирался из своей комнатки. Ждал. От судьбы, способной на всякие повороты, от Михайлова, от далекого — до которого надо было еще попросту дожить — февраля, марта или июня, когда должно было наконец что-то сказаться, что-то подействовать по не ахти каким уверенным обещаниям доктора Каревой Натальи Владимировны, его палатного врача.
Он ничего не загадывал. Он только ждал, когда проползет время. Все его руки были е красных точках внутривенных инъекций, ему делали переливания, пропускали через глаз токи высокой частоты, вводили под воспаленное веко кислород, но глаз по-прежнему был заполнен темными сгустками крови. Они не рассасывались.
Пусть острая боль простреливает голову. Пусть мутит от мерзкой, тягучей, сладкой до горечи жидкости, прозываемой глицеролом — хочешь не хочешь, два стакана в сутки надо было влить в желудок. Ради того, чтобы увидеть Сережку, Веру, самому записать свои мысли, можно стерпеть все.
Приезжала Вера. Приезжали Мишка, ребята.
Ожесточившись, Марков почувствовал в себе новую, незнакомую силу.
Это была чужая, не радующая сила, но она помогала быть твердым, когда входила Вера. Надо было давно сказать ей все, но каждый раз, когда раздавались ее шаги у двери, когда она целовала его, жадно расспрашивала обо всем, что происходило с ним за тот день или два, что они не виделись, Марков почему-то переносил задуманный разговор на следующий ее приезд.
Как-то под вечер постовая сестра Галя распахнула дверь бокса и сказала:
— К тебе гости, Марков. Сюда, пожалуйста…
Чьи-то тяжелые шаги со скрипом прозвучали по линолеуму, и он услышал над собой незнакомое, хрипловатое дыхание. В боксе запахло тем одеколоном, каким «освежают» в парикмахерских, и густым духом, сопровождающим курильщиков.
«Неужели все-таки он? — подумал Марков. — Неужели никак нельзя было обойтись без меня, неужели непонятно, что я не могу, что нет у меня сил устраивать их дела — здоровых, зрячих людей?!»
Марков давно ждал, когда придет тот человек.
Он понимал: может случиться так, что от его, Маркова, слова, повернется в ту или другую сторону целая человеческая жизнь. Что ж, будучи уверенным, он мог взвалить на себя эту тяжесть. От того человека хотел лишь одного — и втайне просил его — не приходить. Его, Маркова, не надо «обрабатывать», хватит.
И все же он ждал. Зачем?
Чтобы еще раз убедиться в том, что все, творящееся вокруг него — слепого, изувеченного человека, — не более чем мелкая возня насмерть перепуганных за себя людишек, которым наплевать на его горе, несравнимое ни с какими их неприятностями?
В чем хотел он удостовериться?
Для чего ему эти доказательства расчетливой беспощадности, отшлифованной на кругах житейского опыта?
— Здравствуйте… Владимир Петрович… — прозвучал над ним глухой низкий голос. — Я Митрофанов… замдиректора…
— …по пожарной безопасности… — с усмешкой перебил вошедшего Марков. — Здравствуйте, здравствуйте..
«Какая скучная, убийственно скучная жизнь! — подумал он. — Вот я и дождался тебя. Вот ты и пожаловал выколачивать из меня свою чистую биографию. Все как по нотам! Почему я, собственно, так взъелся на Чижова? Он прав! Как это ни прискорбно для лопоухих идеалистов вроде меня, но прав. Это у людей в крови, в генах, в черт его знает каком могучем, непобедимом нутре. Как засуетились, как забегали! Спешат утопить друг друга, а Марков для них — сильный козырь, он все покроет; надо только заполучить его из колоды. А что? Поменяй их местами… Чижова с Митрофановым — и все было бы точно так же, с вариациями на тему. Другое дело я сам… Олух Марков, ты и под пистолетом не поехал бы к какому-нибудь бедолаге, чтоб, разбередив его раны, добыть себе душевный покой. Что ж, тем хуже для Маркова!»
— Как вас… по имени-отчеству? — спросил он.
— Николай Андреевич…
— Что ж, Николай Андреевич… садитесь.
Марков лежал на кровати и печально улыбался в душе. Ему было интересно, с какого конца подъедет Митрофанов к тому разговору, из-за которого узнал сюда дорогу.
— Вот ведь… беда какая вышла, — сказал Митрофанов и сел, отдуваясь, на стул.
Рядом с ним, на сбитом, вылезшем из пододеяльника одеяле лежал тот самый парень, который вспомнился через несколько минут после взрыва. И он тотчас снова представил весь тот день, другие дни, когда работала аварийная комиссия, последнее заседание и заключение комиссии, по которому выходил виноватым он один, свою внезапную немоту, когда вдруг совсем другим тоном заговорил с ним следователь, показавшийся поначалу таким рассудительным и понимающим.
Все это время Митрофанов порывался съездить поговорить с Марковым, ведь он-то должен был знать, что к чему. Но только позавчера, расписавшись у почтальона и пробежав глазами серенькую повесточку с приглашением явиться в прокуратуру, понял: теперь уж всё, надо ехать в больницу.
Чего хотел он от Маркова? Армейская выучка требовала поставить задачу. Задача заключалась в том, чтобы, убедившись в знании Марковым подлинных обстоятельств взрыва, просить его, единственного свидетеля, написать заявление, бумагу, с которой он, Митрофанов, мог бы идти куда угодно со спокойной совестью.
Он знал, что у парня этого совсем худо с глазами, но на всякий случай захватил с собой папку с копиями актов по последней проверке вентиляционной системы, дымовых датчиков, разные другие документы, а также «болванку» марковского заявления, которое тому в случае чего надо было только подписать. Митрофанов сам напечатал его в обед на машинке, воровато оглядываясь. Неумело стукал одним пальцем, отыскивал нужные буквы и удивлялся: «Чего я боюсь, если не виноват?»
По дороге в больницу купил апельсинов и, пока ехал, все думал: а удобно ли заявиться по такому делу и что-то принести? Вроде бы и маленькая, а все-таки… взятка. Но ехать к больному с пустыми руками — тоже никуда не годилось. А пёс с ними, со всеми! Пусть думают, что хотят! После той обиды, что он носил в себе, всё стало ерундой. Особой надежды, что Марков его вызволит из этой передряги, не было. Кто он ему? Да никто! За Чижова своего горой встанет, за себя. Что ему до позора какого-то там Митрофанова!
— Вот вы, значит, где лежите… — сказал Митрофанов и прокашлялся, — А я по коридору туда-сюда… спасибо медсестричке, проводила. Ну, как чувствуете себя?
— Спасибо, — улыбнулся Марков. — Жду вот… у моря погоды.
Что дальше говорить, Митрофанов не знал. Они думали об одном.
«Черт с ним, — решил Марков, — ничего спрашивать не стану. Пусть выкручивается как умеет!».
— Как больница тут, ничего? — спросил Митрофанов. — Корпус очень красивый. Совремённый такой…
— Возможно. — Марков обернулся к пришедшему, и на Николая Андреевича пахнуло вдруг далеким чем-то. — Больница хорошая, говорят.
— А кормят как? У меня жена прошлый год в Боткинской лежала, так я бы сказал — неважное питание. Восемьдесят копеек в день — откуда и силам-то взяться?.. А здесь сколько содержание суточное?
— Не знаю, ей-богу, — развел руками Марков, — может, и восемьдесят копеек, может, больше.
— Это смотря как приготовить… Если с душой, с пониманием, что для больных, — так очень можно вкусно сделать.
— Здесь вкусно! — уверенно тряхнул головой Марков. — Да не в том счастье.
— Что и говорить… Доктора-то как, надеются?
— Надеются. Больше ничего не остается, как надеяться.
— И я вам так скажу: не малое это дело — надежда. — Николай Андреевич вдруг понял, ч т о напомнило ему это испещренное черными шрамами лицо. — Я вот в войну, в госпитале когда лежал, доставили раненого к нам. Мы все лежачие, кто с чем, у кого голова, у кого живот… А этот, как и я, танкист… Сорок третий год шел, самый перелом… Отец-то у вас воевал?
— Погиб. — Марков нахмурился. — В сорок третьем как раз.
— Да… — помолчав, сказал Митрофанов. — Год тяжелый был. Ну вот, лежит, значит, капитан тот со мной рядом. Какие осколки могли вытащить, вытащили… Чего не нашли — при нем осталось. По всем статьям — с часу на час умереть должен. А он в сознание пришел и говорит… тихо так…
— Буду жить назло врагу… — усмехнулся Марков и подумал: «Вряд ли бывало в жизни такое кино».
— Примерно так и сказал… И что же вы думаете? Встретил я его через год — а ведь совсем помирал. Надеялся, в общем.
— Все надеялись.
— Это правильно, — согласился Митрофанов. — Человек должен надеяться.
Его тянуло выйти покурить. Заодно можно было бы обдумать, что говорить дальше, но разговор какой-никакой, а двигался. Потом — кто его знает, как получится. Захочет спать — и всё. И зря катался.
— Как зрение-то? — спросил он участливо. — Хоть немного видите? Я тут недавно статью в «Известиях» читал: какие же чудеса хирурги делают! Одно слово — чудо. Не стоит на месте наука, что там говорить…
«Про это хоть не надо, — подумал Марков. — Говори уж скорей всё, за чем приехал, и мотай с Богом. Я тебя успокою, поедешь счастливый, обо мне и думать забудешь. Спрашивай, что ли, дипломат!»
— Так что вы не огорчайтесь. Вот у нас на фронте, уж какие случая помню! Рассказал бы кто — не поверил бы. Сам видел…
— Знаете… — Марков потер подбородок. — Не надо меня утешать только, ладно? Спасибо.
— Я уже старик, — негромко проговорил Митрофанов, — видел много всякого. Зря утешать — самое последнее дело. Нехорошо это.
— Вот и не надо. — Марков повернулся к своему гостю. — Не надо, правда.
Николай Андреевич хотел что-то ответить, но тут в бокс заглянул медбрат ночной смены Вася, толстогубый, очень серьезный парень в минусовых очках, за которыми его выпуклые светлые глаза казались совсем крохотными.
— Здравствуйте, — сказал он и добавил начальственно: — Давай лечиться, Марков! Закатывай штанины, снимай носки!
— Это ещё зачем? — Марков поднялся.
— Назначили твои лечащие ножные ванны. Может, рассосется…
Марков застеснялся было Митрофанова, но тот замахал руками.
— Бросьте, бросьте, чего там!
Вася вернулся с большим серебристым тазом и зеленым чайником, клокотавшим кипятком. Зазвенела струя воды по металлу, таз запел, как колокол. Вася всыпал в клубящуюся паром воду сухую горчицу, и сразу запахло, как а хорошей шашлычной.
— Давай опускай ноги! — приказал он. — Хотя — стой! Подожди, не обварись, смотри! Перегрел я воду. Ждать теперь, пока остынет, а мне сейчас по палатам таблетки раздавать, да еще троих на операции готовить…
— А вы ступайте, не беспокойтесь — сказал Митрофанов. — Мы сами тут…
— Отлично! — обрадовался Вася. — Дело нехитрое! Подливайте воду, когда будет остывать, горчицы подсыпайте.
Марков сидел, нахохлившись, свесив над полом мускулистые розовые ноги.
«Вот тебе… и чудеса науки — кипяток да горчица, — подумал Митрофанов.
Он наклонился, попробовал воду.
— Нет, еще рано. Свариться можно.
Марков сидел беспомощный, выключенный из окружающего, теребя в руках носки. В темноте, с голыми босыми ногами, боясь обжечься, что-нибудь не так сделать при чужом человеке, он утратил вдруг ощущение пространства; ему было тяжело, неловко и до стона больно чувствовать одновременно железо массивных тренированных мышц и вот эту невозможность делать самые простые вещи без посторонней помощи.
— Да положите вы их! — Митрофанов забрал у него носки. — Вот мы их сейчас на батарейку пока… Ну, давайте, что ли, осторожненько… Опускайте, опускайте ноги… не бойтесь… левей, левей становьте…
— Ого! — вскрикнул Марков и выдернул из воды ноги. Борт таза был еще горячей, чем вода. Он неловко зацепил его. — Ах ч-черт!..
Таз с шумом опрокинулся, и вода разлилась по полу.
— Вот ведь… — Ему хотелось плакать. „Черт, лучше сдохнуть, чем так!..“ — Ну и растяпа же я… Много там пролилось? Весь пол, наверно…
— Набедокурили мы с тобой, — тихонько засмеялся Николай Андреевич. — Чего ты перепугался?.. С кем не бывает… Чудак… Красный аж стал… Подумаешь… — Он похлопал Маркова по плечу. — Этот паренек нам с тобой на орехи задаст… Погоди-ка, надо тряпку взять.
— Ой, да что вы… — замотал головой Марков. — Не надо, честное слово, высохнет, не надо…
— Погоди, погоди!.. — Митрофанов смотрел на лужу, растекающуюся по линолеуму. — Раз нашкодили, надо самим убирать… Ноги-то подбери, простынку замочишь…
— Ой, не надо, не надо, пожалуйста, — плачущим голосом сказал Марков.
— Это потому что беспорядок, — как бы на слыша его, заметил старый пожарник, — раз люди ноги парят, так надо сделать, чтоб удобно было — правильно? Разве такие тазы нужны? Надо, чтоб дно плоское, широкое, наподобие шаечки, тогда никуда не перевернется, а так-то, конечно… тут и здоровый…
Марков сидел на своей кровати и тупо слушал пыхтение Митрофанова, который собирал на тряпку воду, разгибался с кряхтением, шлепал к раковине, выжимал журчащую струйку и снова склонялся к полу.
„Стара-ается, — неприязненно думал Марков, — из кожи вон… Всё ради одного… Нет, насколько приятней жить, не зная, что движет людьми!..“
— Ничего… — бормотал Митрофанов, — сейчас мы ее подотрем… Это нам на пользу… Гимнастика…
— Да кончайте вы, — чувствуя, что его воротит от неловкости и отвращения, просил Марков. — Санитарку позовем…
— А зачем нам санитарка? — посмеивался, тяжело дыша, Митрофанов. — Вот уж и всё почти, вот и немножко осталось… Ладно уж, лежи… — Наконец он выжал последнюю воду в раковину, затер капли на сером линолеуме. — Протирают хоть пол-то? У меня б в больнице пол почище был… А с другой стороны взять — сколько у санитарки хлопот… Суматоха — не то слово. Ну… давай, только чтоб больше не проливать. — Николай Андреевич попробовал рукой лоснящийся зеленой эмалью чайник. — Водичка-то теперь в самый раз… Опускай, я держу, опускай, не бойся.
Марков сидел, боясь шевельнуться. Жгло огнем ступни, каждый палец, щиколотки.
— Задаст тебе супруга: пропах ты горчицей на веки вечные! Как жена-то, ходит?
— Ходит, — кивнул Марков.
„Ходит!“ — усмехнулся про себя Митрофанов. — Больно нужен ты ей такой! После войны всяко бывало. Некоторые жены… Да что там, известное дело; со здоровым да складным веселей, небось, чем с обрубком безногим или с глухарем контуженным… Хватало стерв… „Ходит!“
— Она у меня хорошая, — сказал Марков, и Митрофанов не разобрал, то ли себе он это, то ли ему.
„Хорошая“… — Николай Андреевич хрипло вздохнул и снова взялся за ручку чайника. — А чего ей плохой быть? Зарплатку ты ей носил аккуратно… не маленькую зарплатку — физик… Не пил, не гулял… по тебе, милый друг, в момент видать, что ты за птица. „Хорошая“… Бросит тебя твоя „хорошая“ и как звали забудет. Коли такая, как Сашке моему, старшему, попалась, — бросит, и думать нечего. Станет такая со слепым валандаться…»
— Мамаше твоей переживание-то какое, — сказал он вслух, — не приведи бог.
— У меня нет матери, — тихо проговорил Марков. — Я и не помню ее.
Митрофанов даже привстал со стула. «Вон как круто с парнем судьба обошлась… Богато дать грозилась, а последнее отнимает… Жена? Да какие они теперь, жены?! Матери нет — вот это горе».
Марков сидел перед ним на кровати, тяжело пролазив своим большим, мощным телом пружинную сетку. Широкие плечи расслабленно опустились. Прикрыв мутный, сильно косящий единственный глаз, он неподвижчо замер.
«Что тут скажешь? — думал Митрофанов. — А ничего. Всегда так: раз хороший человек, не хлюст, на него и сыплется. И этот — до всего сам дошел, безотцовщина, голь — а со шпаной, с шушерой всякой не связался, ученым стал… Не было папы с мамой, чтоб в институты пропихивать да учителей на дом возить… Сам пёр. Добился — и на тебе! Что за подлость собачья!»
Многому научила Митрофанова опасная работа.
Но главное. что понял он для себя за прошедшие нелегкие годы, — это как отличать одного человека от другого. Мало волновало его — шибко умный перед ним или не так чтоб очень, скромный или много о себе понимает. Главное было в другом: можно ли положиться на человека. Чтобы понять эту, может, и не такую уж хитрую вещь, надо было пройти целую войну, поработать год на разминировании в Донбассе, тушить десятки пожаров бок о бок с товарищами по подразделению. Он понял — на Маркова можно положиться. Сколько страшных увечий довелось ему видеть: раздавленные рухнувшими перекрытиями грудные клетки, срезанные осколками черепа, обугленные, с поджатыми к животу коленками, черные трупы. Он привык к виду смерти и ран, но то ли оттого, что война была давно, оттого ли, что много годов уж не был на больших пожарах… может, еще почему… но уж больно сильно ударило по нему всё в красных лоснящихся пятнах ожогов и зарубках шрамов лицо Маркова. Старый, наверно, стал… Поизмотался. Опять же — нервишки.
Он всё смотрел в лицо, столь похожее на многие, многие лица, виденные на фронтах, в госпиталях, и как-то все не мог уразуметь — как же это получилось в мирное время такое боевое, военное на вид ранение?
Марков пошевелил пальцами в мутной желтоватой воде. Николай Андреевич услышал всплеск, схватился за чайник.
— Остыла, а он молчит сидит! Дай-ка подолью…
В коридоре послышался шум голосов, шарканье многих ног.
— Девять часов, да? — спросил Марков. — Капли последние…
— На капли!.. На капли!.. — кричал Вася, заглядывая в палаты по пути в процедурную.
— Тебе-то — надо капать? — спросил Митрофанов. — Пойдешь — простынешь…
— А черт с ними, с каплями, — сказал Марков, — шесть раз и так капают.
— Разве можно пропускать?! А ну, посиди, я сейчас. — Николай Андреевич вышел из бокса и, переваливаясь с ноги на ногу, твердо зашагал туда, где виднелась очередь больных в разноцветных пижамах. Всякий был тут народ. И мальчонки маленькие, озоровавшие, будто им здесь улица, прятавшиеся, сдерживая хохот, за спины подслеповатых старух и стариков, и мужчины постарше, но больше всего было уж таких дряхлых, что Митрофанов диву дался: чего им взбрело напоследок лечиться и как их берутся оперировать хирурги. Ну и смелый же народ, эти врачи!
Он протолкался к двери процедурной и увидел Васю, лихо орудовавшего пипетками.
— Слушайте, молодой человек, беспорядок у вас, — насупленно сказал он. — Маркову из сто четырнадцатой ноги парят, а кто ему капать будет?
— Приду сейчас, — отмахнулся Вася, — вечно разговоры с этими родственниками!
— И полотенце для ног прихватите! — Он вернулся в бокс, вылил в раковину воду.
— Прополощи-ка в чистой. Сейчас придет, капнет.
Вошел Вася с подносиком, тесно уставленным разными пузырьками.
— Фу, как вы тут сидите, горчица одна… Открывай глаз, Володя.
Митрофанов отошел в сторонку, чтоб не мешать. Вася приблизился к Маркову, поднял к свету его лицо, раздвинул веко. Николай Андреевич, смотревший из-за спины медбрата, глянул в глаз. И вздронул невольно. Какая тут надежда может быть?.. Пустые разговоры.
— Вверх посмотри!
Сколько раз уж слышал Марков эти два слова и покорно воздевал к черному небу свой глаз!
Вася ловко и точно метнул под красные, воспаленные оболочки положенные пять капель и повернулся к выходу, Митрофанов взял его за локоть, и Вася увидел совсем рядом резко побледневшее, в грубых складках лицо.
«Ну, что там у него?» — спросили глаза Митрофанова.
— А-а!.. — беззвучно воскликнул Вася и безнадежно махнул на Маркова рукой. Тот сидел, медленно и равнодушно складывая и разнимая ладони…
— Я тут… тебе… апельсинчиков привез. — Николай Андреевич выложил на стол пакеты. — Может, это… апельсинку почистить?
— Спасибо, — устало помотал головой Марков. — Я уж куда их и девать-то не знаю, апельсины эти… Он вытер ноги и сел, привалившись спиной к стене. Митрофанов задумался, глядя на него. Как дальше-то ему жить?
— Может, нужно чего? Так ты говори, не стесняйся.
— Да ну, что вы… Всё, что нужно, мне принесут.
— Смотри сам… — Николай Андреевич поднялся. — Ну, так я пойду. Пора. Отбой в десять у вас?
— Как? — спросил Марков. — Уже уходите?..
— Да-да… Надо ехать, поздно, отдыхать тебе нужно.
— Подождите… — Марков подался вперед.
— До свидания, стало быть. Лечись. Врачей слушай. — Он взял Маркова за руку, крепко сжал ее жесткой своей рукой. — Чтоб другой раз веселей нам свидеться…
Неожиданно взгляд его задержался на чуть подрагивающей штапельной ткани оконной портьеры.
— Окна заклеили из рук вон. Гляди, не продуло б тебя… — Он вышел и осторожно притворил за собой дверь.
«Вернется!» — подумал Марков.
Но тихо было в коридоре. Он ошеломленно потер виски. Потом нащупал ногами тапочки, встал, потянулся так, что в спине хрустнуло… Прошелся по боксу.
Митрофанов не вернулся.
Где-то в недосягаемой вышине потолка плыл тускло-багровый шар, и Маркову внезапно почудилось, что он светится сегодня чуть ярче, чем вчера…
Он вдруг почувствовал, что ему хочется есть. Чертовски, неимоверно хочется есть! Это, говорят, отличный знак, когда человек болен. А еще говорят… перед смертью.
Но Марков знал, что сегодня не умрет. Это был хороший голод, будто после тяжелой работы со штангой, гантелями и стальными «блинами» в гиревом зале.
Он сунулся в тумбочку, достал два апельсина побольше. Съел их. Прохладная кисловатая свежесть только растравила голод.
«В холодильнике лежит кусок курицы!» — вспомнил он.
Нашел дверную ручку и выбрался в коридор.
Но в столовой, открыв холодильник, сколько ни искал, так и не нашел своего целлофанового пакета с куриной ногой. Он присел на стул и негромко засмеялся. Ему вдруг показалось ужасно забавным, что кто-то, такой же «глазастый», как и он, умял сослепу его курятину.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Соперировав за утро одного, двух, а когда и трёх больных, отработав над столами несколько часов, пережив над этими истерзанными глазами минуты высшего счастья, высшего горя, снова высшего счастья и высшего волнения, они приходили сюда, в светлую комнату ординаторской. Кто-то всыпал кофе в кофеварку, кто-то прополаскивал чашки — почти без слов, без лишних жестов, без улыбок.
К двум-трем часам дня операции заканчивались и они собирались здесь все вместе, и начиналось то, что их шеф, профессор Михайлов, назвал когда-то «большой кофейной церемонией».
Первая чашка выпивалась в полной тишине. Вытянув ноги, держа перед собой тонкие фарфоровые чашечки, они сосредоточенно прихлебывали кофе. «Размывшись» каких-нибудь полчаса назад, записав ход вмешательства в операционный журнал и в истории болезни, они всё ещё не могли вернуться мыслями оттуда… Это повторялось изо дня в день. Они давно привыкли к своей работе, умели её делать так, как немногие на этой земле, но никак не могли научиться смотреть на неё просто и сразу забывать жёсткий белый свет бестеневых ламп, уходя из операционной.
Потом, после первой чашки, кто-то решался справиться о том, что идет в «Повторном» у Никитских, как бы сам собой начинался обычный разговор обычных людей, уверенных, что они и правда — обычные.
Над кем-то подтрунивали, что-то рассказывали, говорили о своих детях, о путевках в Болгарию, о том, кто что шьет к лету. Мужчины поднимались, уходили в свой уголок и глубокомысленно склонялись над шахматами. Потом кем-то вскользь вспоминались дела кафедры, сообщения реферативного сборника… Разговор сходил с заурядного бытового круга и вступал в сферы общей работы: о последних исследованиях в Германии и Колумбии, о новых разработках японских хирургических игл, о муках и находках Федорова в его Чебоксарах, об американских методиках лазерной глазной хирургии. Мужчины, презрительно отгородившиеся от бабских глупостей истинно мужским интеллектуальным занятием, начинали прислушиваться и уже не так внимательно следили за сложными отношениями белой ладьи и черного ферзя…
Молотый кофе снова сыпался в кофеварку, они вновь рассаживались вокруг низкого длинного столика и говорили о том, что волновало их куда больше всех на свете платьев, эндшпилей и поездок…
Кандидат наук Карева, среди многих подопечных которой был и Марков, вошла в ординаторскую и устало села к столику. В такие минуты ей верилось в цифры статистики, из которых неопровержимо следовало, что их профессия хирургов, так же, как и профессия летчиков-испытателей, не ведет к долголетию.
Она закончила четверть часа назад тончайшую операцию, которая должна была избавить больного от глаукомы. Ту операцию, что давно стала ее «коньком», при проведении которой она была спокойна и обычно весело поговаривала со старичками и старушками, легко и нежно работая иглами и ножами.
Сегодня было не до разговоров. Сначала всё шло отлично. Ввела полтора кубика новокаина, парализуя глазные мышцы, и сразу укрепила векорасширитель. Когда операция уже началась и отказаться стало невозможно, глаз вдруг жутко закровил. Остановилась и велела сестре смерить артериальное. Подскочило до 170. Как назло, тут же разрядился батарейный коагулятор, перестал прижигать сосуды, и, сколько она ни прижимала его тонкое жало к своей стерильной руке, ожога не чувствовала. Кровь все набегала, в визире микроскопа всё было красно. Сестра, ассистировавшая ей, побежала за большим сетевым «профессорским» коагулятором, а старик почувствовал, конечно, неладное, заволновался.
— Ну как, доченька?
— Всё чудесно, дедуля, все очень хорошо… не шевелитесь. Как мы договорились? Смотрите на ножки… Только на ножки…
Наконец ей удалось сбавить ток крови, она щедро омыла глаз физраствором из шприца и осторожно повела дальше. Закончила операцию без осложнений, наложила швы, ввела пенициллин и уже хотела сказать сестрам насчет повязки: «Бинокулярную, девочки!», — как вдруг старик резко рванулся, подскочил и сел на столе, мотнул головой, через мгновение глаз залился снова кровью…
— Ах, дедуля… дедуля… — Ее сердце остановилось. — Лариса, помогай, быстро! Еле касаясь, развела веки, страшась увидеть глубокое кровоизлияние, приникла к окулярам микроскопа. Что там, за широким черным зрачком?..
— Вот дедуля какой… Куда вы кинулись?..
— Спа…
— Тш-ш… Тише, тише… потом скажете…
— Спасибо хотел сказать, доченька.
— Да, да, пожалуйста… Шприц! Не тот, большой дай… Дикаинчику капни ему еще… Больно, дедуля?
— Нет…
— Тш-ш, тш-ш… Тише… Снова шить надо… Хорошо, еще на столе… Держи ему веки, расширителем боюсь… держи верхнее… выше… вот тут пропусти… осторожно… прими палец…
— А вы сказали… уже кончили… — жалобно пробормотал старик.
Хоть плачь с ними. «Вы сказали»!
И все же, кажется, обошлось.
Кажется? Или — обошлось?
Карева пила кофе и знала, какие сны ей будут сниться сегодня ночью. Много раз за ночь повторится одно и то же: снова вскочит старик, снова выкатится из обведенного зеленкой глаза струйка крови и снова ее окатит страхом с головы до ног.
В дверь ординаторской постучали.
— Да-да! — крикнули они хором, — войдите!
— Добрый день, товарищи, — сказал, остановившись на пороге, немолодой, красный с мороза мужчина в черном официальном костюме, с кожаной папкой под мышкой. — Прошу прощения… Мне нужна доктор Карева.
— Слушаю вас, — обернулась к нему Наталья Владимировна.
— Мне б для личной беседы… — улыбнулся вошедший.
— Ну хорошо, подождите а коридоре, я скоро выйду.
— Не могу! — еще шире улыбнулся гость. — Никак не могу ждать! — И для убедительности постучал по своим часам.
Это был явно не родственник. Родственники — ждут. Карева вздохнула, с сожалением отставила чашку, поднялась с дивана — высокая, монументальная, с властно откинутой головой, в белой крахмальной косынке, в белом облегающем халате, из-под которого виднелись зеленые операционные брюки. Они вышли в коридор.
— Следователь прокуратуры Космынин, — представился гость. — Где бы мы могли поговорить?
Карева распахнула дверь «темной комнаты».
— Я тут, видите ли, по щекотливому делу, — сказал Космынин. — Вы ведь лечащий врач Маркова Владимира Петровича?
— Да, я палатный врач. А ведет этого больного сам профессор Михайлов, но сейчас он в Чехословакии. Прилетит на днях.
— Да нет, — усмехнулся следователь, — зачем нам профессора беспокоить? Я думаю, вы мне дадите исчерпывающие данные.
— Какие?
— Дело в том, что организация, где работает Марков, обратилась в следственные органы сразу же после происшествия. Мне необходимо допросить Маркова в качестве пострадавшего. Вы можете разрешить такую беседу?
— В принципе, конечно. Но волновать его нельзя. Он и так достаточно травмирован.
— Как мы должны квалифицировать его повреждения?
— Чрезвычайно тяжелые.
— А если точнее?
— Я думаю, вам точнее ответят во ВТЭКе.
— Ох, эти женщины… — Усмехнулся Космынин. — Ну, а все-таки?
— Один глаз потерян. Второй может спасти только чудо. Профессор наш пытается найти пути. Об этом, если будет нужно, можете спросить самого Сергея Сергеевича. Но вряд ли он что-нибудь сейчас скажет. Мы, знаете ли, тоже народ суеверный.
— Ну, а как… моральное состояние?
— Интеллигентный мужественный человек. Это ответ для вас?
— Расплывчато, конечно…
— За некоторыми больными в его положении… ну, представьте… еще вчера — здоровей не бывает, а сегодня — слепой… так вот, за некоторыми приходится устанавливать особый надзор. Мы знаем — с Марковым это не понадобится.
— А что, были случаи?
— Мы, как и вы, имеем дело с живыми людьми…
— Не всегда… — вздохнул следователь.
— Вам непременно надо говорить с ним?
— Вы думаете, мне очень хочется? Служба такая.
И правда, следователь прокуратуры по особо важным делам Космынин взялся за это дело без желания.
За тридцать лет работы в следственных органах каких только закрученных историй он не прояснял, из каких только тайных колодцев не вытаскивал истины! К нему пришли опыт, знание людей, безошибочное понимание их поступков, в нем развилось цепкое чутье, отточенное в бесчисленных столкновениях с неповторимыми ситуациями.
Сейчас они могли помочь ему очень мало.
Космынин понимал, что обстоятельства взрыва совсем не просты, что они наверняка кроются в какой-то тонкой физической закавыке, запрятанной для него, нефизика, за семью печатями. Нужны были эксперты-физики, разбиравшиеся в сути проблемы, а они работали только здесь, в этом институте. Пригласить их быть экспертами противоречило бы законным правилам ведения следствия.
— Надеюсь, вы понимаете, что он не должен знать всего, что я сказала вам о его положении?
— Да ну что вы!
Они пришли в сто четырнадцатый.
— Как наши делишки? — спросила Карева. — Мне донесли, что ты у нас повеселел.
— А, Наталья Владимировна! — улыбнулся Марков. — Здравствуйте!
— К тебе пришли, Володя. Вот… товарищ Космыннн Сергей Петрович.
— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста, — приветливо кивнул Марков в пустой угол.
Карева вышла.
Бывали минуты, когда Космынин ненавидел свою работу.
Как часто и сколько сотен раз в поисках правды приходилось ему расспрашивать матерей убитых о том, с кем дружили сыновья, расспрашивать оглушенных, смятых случившимся девушек о том, как это случилось, добиваться злосчастной истины от тех, кто и без того хватил с избытком боли, страха и тоски, — в общем, делать по долгу службы то, что в обычной расстановке человеческих отношений могло быть названо и кощунственным, и безнравственным.
Но это была его работа, и за тридцать лет он научился многому, но только не этим неизбежных расспросам пострадавших и их родных, не этим сухим выяснениям, когда приходилось прятать глаза под строго насупленными мохнатыми бровями невозмутимого законника.
Космынин знал, что наедине с этим потерявшим зрение, практически слепым инженером-физиком глаза прятать не придётся, но начать разговор все равно было нелегко.
— Я следователь прокуратуры, — сказал Сергей Петрович, — мне необходимо поговорить с вами.
— Со мно-ой? — удивился Марков. — Интере-есно…
— Подождите-ка… — опешил Космынин. — Вы что, ничего не знаете? Что уже, слава богу, два месяца следствие идет?
— Какое следствие? Ничего не понимаю… Объясните.
— Странно, — сказал следователь. — Неужели вам никто ничего не говорил? Люди же бывают у вас?
— Никто не говорил. Хоть вы скажите.
— Этим вашим взрывом мы занялись в первый же день… Работали параллельно с вашей институтской аварийной комиссией… Выясняли причины…
«Так вот оно что! — Марков побледнел. — Вот в чем дело!..»
Следствие, прокуратура, материалы, доказательства…
Только сейчас, только в эту минуту до него дошло, что означали приход Чижова и его молчание о следствии и ч т о означали приход и молчание того, другого человека.
— …мнения членов вашей институтской комиссии и наших экспертов, специалистов по механике взрывных процессов, разошлись, — говорил Сергей Петрович. — Наши утверждают, что по обломкам установки определить, отчего произошло несчастье, невозможно. Они также считают невозможным установить, где, в какой системе установки возник первичный взрыв, а где взорвалось от детонации. Но наши эксперты не специалисты в вашей узкой сфере. Ваши же заявляют, что взрыв произошел от неисправности вентиляционной вытяжной системы. Если говорить откровенно, я очень надеюсь на ваши показания. От них очень, очень многое зависит.
— Что я должен вам сказать?
— Всё. Всё как было. Постарайтесь вспомнить, если сможете, что там было с этой вентиляцией?
Марков напряг память.
Он старался как можно ярче представить того угрюмого, вечно озабоченного человека, что всегда ходил по институту встревоженным к суровым, который не так уж складно изъяснялся, не знал и сотой, тысячной доли того, что носил в своей блестящей голове их профессор; того человека, который, зная обо всем, что надвигалось на него, пришёл сюда в больницу, невиновный — к единственному своему возможному заступнику и спасителю, увидел его и предпочел уйти виноватым, взять на себя чужую вину.
Прошло уже больше месяца, как здесь побывал Чижов. Значит… значит, всё осталось на своих местах.
— Я вас не тороплю, — сказал следователь. — Подумайте, вспомните. От ваших показаний очень многое зависит.
— Я понимаю.
Еще ни разу в жизни Маркову не приходилось решать таких трудных, «комплексных» проблем.
— Возможно, Владимир Петрович, у вас есть какие-то свои соображения… говорите всё, как есть.
— Всё, как есть? — переспросил Марков. — Конечно. Вы записываете? Пишите. Взрыв экспериментальной установки «ЭР-7» явился следствием грубой ошибки оператора, инженера-исследователя, проводившего опыт, то есть меня, Маркова В. П. Перед началом опыта не были приняты необходимые меры по соблюдению техники безопасности, не была отлажена измерительная аппаратура, в результате чего режим работы установки не контролировался с достаточной точностью. Но главное: в целях эксперимента была отключена автоматика защиты и аварийного отключения разгонной аппаратуры. В ходе нарастания лавинных процессов характеристики системы превысили предельные критические параметры и стали неуправляемыми. Все вышеуказанное привело к разрушению конструкции. Единственным виновником аварии является Марков. Всё.
— Так, — сказал Космынин, — понятно.
— Ну и хорошо. Вы все записали?
— Записать-то я записал… Слушайте, Марков… я тут поделикатничал с вами… Нарушил закон… не предупредил об ответственности за дачу ложных показаний… Я же вижу, что вы говорите неправду. Вы совершенно не умеете врать, Ну, ни на грош.
— Чем вас на устраивают мои показания? Я сказал всё, как было.
— Да? Спасибо. Я очень тронут. А в институте мне, между прочим. все в один голос говорили, что вы самый лучший, самый вдумчивый, серьезный инженер.
— Мало ли что они теперь скажут! И на старуху…
— Бросьте. Я вам не мальчик, Марков. Всё шито белыми нитками. Кого вы только покрываете этим своим, простите, дурацким благородством, не понимаю.
Марков усмехнулся.
Он не собирался ни покрывать, ни выгораживать кого-то, ни кого-то топить. Если бы он стал рассказывать следователю о том, что случилось, тот бы ровным счетом ничего не понял. Марков твердо верил: теперь его лаборатории предстоят навиданные еще, огромные дела. И оттого, что он считал — у ученых свой свод законов, лишь по нему они судимы, — чувствовал себя спокойным, хладнокровным и зрелым.
— Значит, всё было так, как вы показываете?
— Именно так.
— Подумайте… убыток составляет шесть миллионов триста пятнадцать тысяч…
— Да, — засмеялся Марков, — не расплатишься.
— Чего вы радуетесь?
— А так, — сказал Марков. — Просто так. Вы даже не представляете, как я рад, что вы пришли.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Каникулы, каникулы, веселые деньки…
Когда сегодня утром прозвенел звонок, Вера встала из-за стола, улыбнулась своим десятиклассникам:
— К обоюдному удовольствию — до встречи в будущем году. Одиннадцатого января мы займемся Маяковским. Все свободны.
Они вскочили, застучали крышками парт, обступили ее, неловко протянули цветы, хорошеньку открыточку: «Десятый „А“ поздравляет дорогую Веру Александровну с наступающим…»
— Вера Александровна… все у вас будет хорошо… Вот увидите…
«Знают, — удивилась Вера, — языки, языки…»
Три часа на морозе. И вот, после трех часов волнений «достанется? — не достанется?», с крепко перевязанной проволокой топорщащейся ветками елкой она ехала на Сретенку.
В просветах замерзших автобусных окон сверкал, искрился под вечерним солнцем снег. Третий месяц каждое яркое пятно, облака, закаты отдавались в душе Веры стоном.
Автобус, завывая, нес ее через Большой Каменный.
За рекой, в просветах ледяных разводов морозного окна, в глубокой пронзительной сини полыхали желтым золотом купола кремлевских соборов, слепящая луковка колокольни Ивана Великого…
Вот старое, родное парадное старого родного дома.
И этот знакомый с детства запах на лестнице, еще дореволюционный, наверное, запах древней штукатурки…
Сережа спал.
— Разденься хотя бы, — сказала мама. — Может быть, у нас заночуешь?
— Нет, нет, — покачала головой Вера, — надо ехать квартиру убирать.
— Отдохнуть тебе надо. На кого ты стала похожа за эти месяцы…
— Какое это теперь имеет значение?
— Конечно, ему-то теперь это всё равно…
— Ты опять начинаешь о том же. Мама, я ведь… просила тебя…
— Когда ты была у него?
— Позавчера. Всё то же. Прошу только — ни о чем не спрашивай. Умоляю.
— Возьми хотя бы такси…
— На каком ты свете, мама? Где сейчас возьмешь такси?!.
Те предновогодние ночи долго помнились потом.
Переговариваясь шепотом, чтоб не разбудить сына, они весело убирали вдвоем с Вовкой, надраивали до блеска пол, возились до утра и к рассвету валились, сморенные, в сверкающей чистотой маленькой квартирке.
Эти генеральные уборки перед каждым Новым годом имели для них какой-то ритуальный смысл. Все отжившее, принадлежавшее прошлому, выбрасывалось вместе с пылью. К Новому году полагалось приходить во всем чистом, смыв с себя под струями душа то, что нельзя было нести за черту во времени, рассеченном звонким ударом курантов. Так и дом их должен был сиять чистотой в первый день этой, будто начавшейся заново жизни.
Сегодня Вере предстояло убирать их дом одной.
Приехав из центра в свои Черемушки, она медленно побрела от троллейбусной остановки к белому кварталу одинаковых пятиэтажных домов.
Давно стемнело. Мимо нее прогромыхали гитарой чубатые, расхристанные мальчишки. Она шла в падающем мягком снеге, будто не чувствуя ничего. Лучились в снежных ореолах голубые фонари. Шуршали колеса машин. Вера ничего не видела, не слышала.
— Что скучная такая? — раздался рядом чей-то добродушный пьяный голос.
Она остановилась, откинула заснеженную прядь волос, не понимая посмотрела на весёлого всклокоченного человека, загородившего дорогу.
Их взгляды встретилсь, и он сразу пропустил ее, отступив с протоптанной дорожки в сугроб.
Вот он, их белый дом — в желтых квадратах окон, в соцветиях мигающих лампочек на елках… Она вошла в парадное, машинально вставила ключ в дверку почтового ящика. На затоптанные кафельные шашечки посыпались открытки. Пишут… Поздравляют… Желают… Она собрала их и, не читая, бросила обратно в ящик.
Поднялась на свой этаж. Тупо-механически вставила ключ в скважину замка, повернула, язычок отскочил, и этот четкий металлический звук показался страшным щелчком передернутого пистолетного затвора.
Звонил телефон. Без конца звонил телефон. Пусть звонят. Она не снимет трубку. Их нет дома.
Не сбросив мокрой шубы, Вера опустилась в кресло посреди комнаты, глядя, не мигая, в одну точку потемневшими глазами.
Она не замечала, что сидит одетая, что тающий снег с сапожек растекается лужицами по паркету. Пора было приниматься за уборку, но она не двигалась, бессознательно притопывая ногой в такт оравшему за стеной соседскому магнитофону.
Наконец, встала, как во сне, переоделась, прошлась по комнатам. Куда делись все тряпки? Где веник?
Вспомнилась прошлогодняя встреча Нового года у Лёньки Сандерса, Володькиного замдиректора, сумасшедший вечер, когда все были до чертиков пьяные и веселые. Ее розовое умопомрачительное платье… Коньячное признание и любви и поцелуй Сандерса в коридоре, ее киношная пощечина в ответ. А потом она влетела в столовую и объявила всем, что Сандерс ее поцеловал!.. Неожиданно растерянное, встревоженное лицо мужа. Она, вероятно, слишком много выпила — ей вдруг стало невыразимо жаль его за этот взгляд, за эту дурацкую тревогу, и она стала целовать Володьку. И целовала долго, без конца… Вокруг начался радостный вой и аплодисменты… А Мишка сказал, что в племени мумбо-юмбо в таких случаях трутся носами, и открыл счет, как судья на ринге: «…семь, восемь, девять, десять… Аут!» Но Вовка не успокоился, продолжал казаться обиженным, и ей вдруг страшно, сию секунду, немедленно захотелась домой. И опять началась шуточки и хохот… Они с Володькой тоже смеялись, и всё-таки ушли раньше всех и целовались потом на лестнице, на улице. На Ленинградском проспекте уже появлялись люди, и она радостно, пьяно кричала встречным: «С Новым годом! С новым счастьем!»
…С чего же начать? Пыль, всюду пыль… Надо книжки протереть… Вера подошла к стеллажам. Вот они, его бесконечные «плазмы», «поля», «кванты», «сверхпроводимости», «газодинамики»… Особая полочка — с печатными трудами профессора Чижова… И чуть ли не из каждой книги выглядывают аккуратные беленькие закладочки…
Она застыла с тряпкой в руке.
Не было сил коснуться этих книг, этих закладок.
Хоть немножко стал бы видеть, хоть чуть-чуть!..
Убирать надо, наводить красоту в квартире…
Зачем? Ах да! Новый год в чистом доме! Она по-детски верила, будто это что-то значит.
Сжав голову руками, она заметалась по квартире.
— Родной мой, родной…
Вера звала слезы, она просила их вырваться из глаз, но это было невозможно, как невозможно было что-то изменить этой дурацкой уборкой, как невозможно было оставить в старом году их горе. Надвигавшийся отрезок времени от января до января обещал лишь новые муки. Впереди ждала только отчаянная борьба хотя бы за ничтожные проблески света. Она приказывала себе верить в какие-то смутные миражи, но коли всё окажется напрасным — тогда как?
Уже несколько раз Вовка порывался, когда она приходила в больницу, что-то ей сказать. Бедный, глупый мой, неужели он думает, будто я не понимаю, что он задумал?
Завтра. Завтра он наверняка решится.
Он не потащит это в новый год.
Господи! Скорей бы перевалить этот праздник!
Вера отшвырнула тряпку в угол.
Скорей бы прожить эту ночь!
Ее собственная жизнь обрела для нее вдруг особое значение и ценность. Она обязана беречь себя. Она обязана выверять каждый шаг. Ей надо учиться быть умной и расчетливой, чтоб не потратить зря ни капли сил…
Она упала на тахту и тут же, не раздеваясь, не погасив света, уснула.
Проснулась на рассвете.
За окном дымилось холодное синее утро, обещавшее белый морозный дань.
В больничном холле красовалась наряженная елка. Здесь тоже готовились встречать Новый год.
«Всюду жизнь», — подумала Вера, быстро идя по длинному коридору с дверями боксов и палат. Кто-то увидит блестящую елочную мишуру. Ее мужа это не касалось.
Она несла Вовке большую еловую ветку.
«Неужели… — усмехнулась грустно, — неужели я понесу ему сюда и вербу?.. И черемуху?..»
Вовка прогуливался в дальнем конце коридора.
Она тихо приблизилась и дотронулась до его руки. Он сжал ее кисть, его дрожащие пальцы ощупали ткань платья под белым рукавом халата, обручальное кольцо.
— Верка?
— С наступающим! — Она поцеловала мужа и… замерла.
Вместо ставшей уже привычной пустой глазницы на нее смотрел… глаз.
Она негромко вскрикнула и зажала себе рот рукой.
В первое мгновение Вера даже не поняла, что это протез…
Вовка стоял перед ней, часто моргая. Блестящий серо-синий… совершенно живой глаз внимательно вглядывался в ее лицо.
Вере стало жутко… казалось неправдоподобным, издевательским, что этот, такой зрячий, такой здоровый и даже как будто весёлый глаз — только искусная бутафория, за которой — темнота.
— Чего ты испугалась?.. Это Мишка мне вчера подарил… Сам сделал… вместе с нашими ребятами. Целой шатией ко мне завалились… Это, я тебе скажу, не стекляшка какая-нибудь… глаз на биотоках… Мишкина идея. Сергей Сергеевич сам поставил.
Ей было страшно опять встретиться взглядом с этим, будто улыбающимся глазом… И вдруг… вдруг она увидела, что лицо ее мужа утратило пугающее, неприятное выражение, которого она старалась не замечать, с которым старалась примириться. Даже пятна ожогов казались незаметными, теряясь во взгляде этого глаза… Лицо стало снова живым… Перед ней снова был ее Вовка… «Мишка… — подумала Вера. — Дорогой Мишка…»
— Слу-ушай! Ты стал с ним просто красивым, с этим глазом.
Он засмеялся.
— Эх ты, утешительница… Как Серега?
— У мамы. С дедом воюют.
— Спрашивает?
— Без конца: где папа, когда приедет?
Марков вздохнул:
— Позвоню ему завтра. Будто издалека…
— Конечно, дорогой, конечно… Пойдем к тебе.
Они медленно дошли до бокса. Стол, тумбочка, подоконник были завалены коробками конфет, какими-то свертками, фруктами.
— Вовка! Откуда всего столько? С ума сойти!.. Тут на целый батальон.
— Я ж говорю: вчера ко мне двенадцать человек завалилось…
— Как вы тут поместились?
— Поместились…
Вера поднесла к лицу мужа хвойную зеленую ветку.
— Чем пахнет?
— Елка…
— Держи. — Она дала ему в руки бумажный сверток. — Здесь рубашки свежие. Из прачечной.
— Подожди… Верочка, — сказал он глухо, и она сразу застыла на месте, уловив решимость и страдание в его голосе. — Не возись. Присядь.
Она покорно села рядом с ним. Он взял ее руку. За окном плыли большие снежинки.
— Я не хочу, чтоб ты мучилась всю жизнь. Нам нужно разойтись. — Он отвернулся.
— Ты все сказал? Может быть, ты для себя так хочешь? Может быть… тебе так будет легче?
Он ничего не ответил.
— Нет? — Вера встала. — Тогда ты просто бесконечно глуп и совершенно ничего не понимаешь! Я есть я — когда я с тобой. Мне не важно… болен ты или здоров, красивый ты или нет, — мне нужно быть с тобой. Не ради тебя. Это м н е нужно, пойми. Я знала — ты непременно это скажешь. Я ждала… и, как видишь, не удивлена… Послушай… Неужели ты так мало веришь в мою любовь, Вовка? Да, ты не видишь. И, может быть, не будешь видеть… Но это — ты! Я всё это говорю, потому что знаю — мы на равных. И поэтому я люблю тебя. Если бы я увидела — говорю прямо! — если бы в один прекрасный день я поняла, что быть на равных с тобой не могу, я не смогла бы любить… и сама не стала бы с тобой жить.
Он поднял голову.
— Да, да! — резко и страстно повторила Вера. — Не стала бы1 А если бы это всё случилось со мной?!
— Ну, это совсем другое дело.
— Да нет же, не другое. Слушай, Вовка… Вместе будем жить дальше… вместе горевать будем, Сережку растить… Как протопоп Аввакум жене своей говорил: «До самыя смерти, Марковна», а она ему отвечала: «добре, Петрович… ино ещё побредем…»
— Значит…
— Значит, кретин ты, Петрович, каких земля еще не рождала.
— Но я ничего тебе не могу дать…
— Правильно. Ничего. Только одно — желание жить. А так, конечно… Где тебе… — Она кинулась к нему и прижала к себе его голову.
В дверь заглянула Карева.
— Простите… Володя! Сергей Сергеевич тебя к себе зовет. Идем скорее. — Посмотрела на Веру. — Как хорошо, Верочка, что и вы здесь, профессор как раз хочет с вами обоими поговорить.
— Быстро, быстро, — заволновалась Вера. — Переодевайся, вот чистая рубашка… А ну тебя, пусти помогу.
Она продела его голову в ворот хрустящей сорочки.
Он никак не мог попасть рукой в рукав, наконец, срывающимися пальцами застегнулся. Она торопливо, мучительно задрожавшей рукой пригладила его волосы.
От бокса до кабинета Михайлова — полсотни шагов. Если могут минуты вбирать в себя годы, то много, много лет вобрали те две минуты, что Вера вела мужа под руку по коридору.
Из кабинета Михайлова вышла Карева.
— Вы пока подождите здесь, — сказала она Вере и взяла Маркова за руку. — Заходи…
Вера оцепенело смотрела на закрывшуюся дверь.
— Разъелся ты на больничных хлебах, — приветствовал Маркова знакомый голос. — Не спишь из-за этих больных, лысеешь помаленьку, а они тут себе жирок нагоняют… С наступающим! Что око новое? Не давит? М-да. Всем хорошо, кабы еще и видело.
— Уже привык. Спасибо.
Иногда это слово казалось профессору Михайлову беспощадной насмешкой.
— Садись, — сказал он, — Мише своему спасибо говори… Что-нибудь мелькает? — Острый луч офтальмоскопа вспыхивал и гас на кроваво-белесом глазу.
— Чуть-чуть.
— Для нас и «чуть-чуть» хлеб. Пересаживайся-ка вот сюда. — Профессор повел его куда-то и усадил на круглый вращающийся табурет. — Тут у нас агрегатик один…
Капнули что-то в глаз, и он сразу начал дубеть.
Легкие пальцы раздвинули веко.
— Вот… тоже еще, упрямец… — бормотал Михайлов, прилаживая что-то на глазу Маркова, — все средства перебрали… а он упёрся… не рассасывается… Скучный ты парень, Володя… Эх, Маркова бы да к этой аппаратурке!.. Чувствуешь что-нибудь? — спросил Михайлов.
— Ничего.
— Правильно… на то и капли на тебя тратили, ничего чувствовать и не должен…
Они молчали. Темнота и низкое, басовитое гудение трансформатора.
— Развертку будете менять? — спросила Карева.
— А как же… Мы его на всех режимах…
Защелкали тумблеры. Неожиданно Марков ощутил ритмичные вспышки света.
— Ну, а я что говорил? Шикарная кривая… Ты только посмотри, амплитудка какая! Марков! Ау! Ты живой? Не вздумай помирать. Есть неплохие новости…
— Значит, цела… — облегченно вздохнула Карева. — Гора с плеч…
— Всё, кино кончилось, — сказал Михайлов, и гудение трансформаторов смолкло. — Зови жену. Устроим семейный совет.
Вошла Вера.
— Ты что — жену в черном теле держишь? Какая-то она у тебя… запуганная, — улыбнулся профессор.
Вера, затаив дыхание, смотрела на этого стройного человека в белом, на его длинное умное лицо под высоким крахмальным колпаком, на его глаза за дымчатыми стеклами больших очков…
— Будем считать это новогодним подарком, — сказал Михайлов. — Сегодня у нас радость… Плясать еще рано, но тем не менее… Слыхал ты о такой машине — осциллографе? Марков хмыкнул.
— Культурный больной пошел! Можно ей доверять, как считаешь?
— Если настроен хорошо… — сказал Марков. — Тогда — отчего же…
— Сам я его настраивал… люблю железяки… В общем, если прибор не врет, а врать ему вроде бы не резон, могу тебя поздравить… самое главное в порядке. Невредима сетчатка с глазным нервом. Есть смысл сражаться. Левый мы удалили вовремя. Теперь, собственно, и начинается работа. Будем пытаться сделать зрение. Придется потерпеть. Пять, шесть операций — как минимум. Сдюжишь? — И профессор Михайлов посмотрел почему-то не на Маркова, а на Веру.
Он полез к себе в стол и достал небольшую прозрачную ампулу-шар. — Вот… наша надежда…
Вера всмотрелась и увидела внутри ампулы подвешенный на золотых нитях крохотный, сверкающий, как алмаз, предмет.
— Без этой фитюльки, — задумчиво сказал Сергей Сергеевич, — ничего не получится… Дело совершенно новое… Ну как, будем огород городить?
Вера не могла оторвать глаз от этой сверкающей капли в руках хирурга…
— Будем, — сказал Марков.
— Я обязан быть откровенным до конца. То, что я собираюсь тебе делать, — чистый эксперимент.
— Мне не привыкать.
— Я не могу дать тебе никаких гарантий. То, что я сейчас предлагаю, не делали еще никому. Никому в мире. Есть риск. Всё может кончиться и неудачей… — Профессор снова посмотрел на Веру. — Методы уже отработаны, все обдумано до мельчайших деталей — и все же… В сущности, первый опыт надо бы производить с больным, у которого есть запасной глаз. Того требует этика медицины… У меня сложное положение. Этика этикой, а есть еще ты. Случай особый, каверзный, я бы сказал… Пока я буду экспериментировать с другими, с теми, у кого нет такого винегрета, — глаз твой станет совершенно безнадежным… А вот это, увы, я могу почти гарантировать. Самым милым делом было бы подождать годика три… но это невозможно: произойдут необратимые изменения. Я твёрдо верю, что все кончится удачно, но предупредить обязан. Мы оба ученые. Ты должен меня понять.
— Я решил.
— У тебя будет еще много дней, чтоб отказаться.
— Я верю вам. Если есть шанс, отказываться грех,
— Будет тяжело.
— Так тяжелее.
— Что ж… пожелаем тогда друг другу одного и того же. Ну… стало быть — с наступающим!
Михайлов встал из-за стола. Они распрощались.
Вера вывела мужа в коридор.
— Подожди, — сказала она. — Ноги не идут…
Михайлов сидел в кабинете один. Еще год пролетел… Он посмотрел в окно. Падал снег. Пора ехать, готовиться к вечеру… Но он всё сидел, смотрел на книги в шкафу, на щелевые лампы, на контейнеры с деталями специальной лазерной установки, которую взялись помочь собрать и настроить физики — друзья его самого трудного больного.
Год. Еще год. Десятки лекций в институте. Сотни проконсультированных больных. Показательные операции за границей. А всего за год… триста восемнадцать операций. И почти ни одного обычного, хрестоматийного случая. Осложненные и такие коварные на столе врожденные катаракты… тяжелые глаукомы… страшные отслойки… И две катастрофы… два глаза, потерянных на столе. Не важно, что они и так считались безнадежными. Это его не оправдывает. По крайний мере — перед самим собой.
Полтора часа назад, усадив Маркова к приборам, профессор Сергей Сергеевич Михаилов, известный в свои тридцать пять лет уже всей стране хирург, автор удивительных, тончайших приспособлений, помогавших открывать незрячим людям свет, сам волновался не меньше пациента, ждавшего решения участи.
Много дней Михайлов все оттягивал это обследование сетчатки и глазного нерва. Страшно было увидеть на круглом экране слабые хаотичные зеленые всплески — безнадежные крики, посылаемые гибнущей сетчаткой… или ровный прочерк электронного луча — знак конца… Он все оттягивал, но сегодня шел последний день года… Надо было что-то сказать этому парню… И себе…
Согласился!..
Если все пройдет более или менее гладко и он увидит хотя бы одну строчку таблицы — это будет целым событием в глазной хирургии. Еще год назад он сказал бы Маркову: «Никаких надежд». Он слишком много думал, прежде чем нащупал подступы к этой проблеме травмированных глаз. Слишком многим говорил: «Нет никаких шансов», — чтобы не попытаться разорвать этот замкнутый круг.
Маркову суждено стать этапным больным. Сначала? Сначала извлечение помутневшего хрусталика. Потом, если всё пойдет хорошо, — удаление осколков. И это только самое начало… только подготовка. Наступит очередь роговицы, и он примется за нее… Трудная это штука — обожженная роговица… Нескоро будет извлечена из своей золотой колыбели та «фитюлька», что он им показывал.
На его большом столе лежали кипы поздравительных новогодних открыток и телеграмм. Из Харькова, Владивостока, Смоленска, из Москвы, из-за границы… Триста восемнадцать операций. Десятки катаракт… Почти у всех теперь стопроцентное зрение. Десятки антиглаукоматозных. На второе января у него назначено двое на стол. Начнется год, и все завертится снова…
Профессор Михайлов снял белый халат. Вытащил из горы открыток одну наугад.
«Дорогого Сергея Сергеевича поздравляю с Новым годом! Вижу с каждым днем всё лучше. Нет слов, чтобы выразить мою благодарность. Желаю Вам огромного счастья в Новом году. Саша Рожков». Тяжелейшая была отслойка. Пять часов над столом.,
Профессор запер кабинет. Легко сбежал вниз по лестнице.
Вышел из больничного здания и сел в машину.
Мотор завелся сразу. Пока он прогревался, Сергей Сергеевич смахивал снег с ветрового стекла. Его взгляд скользил по рядам окон больничного корпуса. Задержался на четвертом этаже. В одном из окон заметил жену Маркова. Он помахал рукой, хлопнул дверцей и уехал.
Они сидели молча, тесно прижавшись друг к другу.
Перечеркнув свои старые мечты, планы, они в смятении и робости соразмеряли все с тем, что обрушила на них жизнь.
И вдруг… Надежда! Надежда — где-то там, в ящике полированного стола профессора Михайлова.
Они сидели онемевшие, испуганные этой надеждой. Сидели молча, как в те далекие месяцы, когда ждали Сережку.
В боксе давно стемнело. За стеной, в маленьком холле, часы пробили шесть раз.
«Шесть часов, — подумал Марков. — Она скоро уедет. Как же я останусь тут без нее?»
— Поезжай, — сказал он тихо. — Сережка ждет. Устала ты сегодня. Столько всякого было. А я сейчас спать завалюсь…
Вера осторожно поднялась с краешка кровати.
— Да, да… Сейчас бутербродов тебе наделаю и поеду…
Она зажгла свет и посмотрела на мужа. Его красивый новый глаз смотрел так ясно, так беззаботно.
Вера знала, что сегодня, в новогоднюю ночь, дежурит доктор Карева, перед которой она робела. Властная и неприступная — как Ника Самафракийская носилась всегда Наталья Владимировна в развевающемся белом халате по отделению, и воздух за ней долго кружился нежными, тревожащими духами.
Вера приоткрыла дверь ординаторской. Карева сидела в глубоком низком кресле и… вязала.
— Можно?..
— Входите, входите, — Карева отбросила в сторону свое вязание и поднялась. — Милости просим.
— Наталья Владимировна…
— Слушаю.
— Простите меня… я все понимаю… что нельзя, но…
— Ну, ну… говорите.
— У меня нет сил оставить его сегодня одного… Вы могли бы разрешить… только сегодня…
— Могу.
— Я так вам…
— Только при одном условии: вы должны уйти совсем рано. Утром. Нам с вами ни к чему неприятности. — Карева чуть улыбнулась. — У вас такое лицо, что поневоле пойдешь на должностное преступление.
Вера наклонилась и поцеловала ее. И тут все горькое, что накопилось, вырвалось наружу безудержно хлынувшими слезами. Она плакала от любви к Вовке, к сыну, к Каревой, к Михайлову, к Мишке, в маме. Она плакала от обиды на жизнь и от чувства слитности с этой жизнью. Она плакала оттого, что сегодня, в новогодний вечер, пришла эта минута полноты, и оттого, что ей не дано было эту минуту остановить.
— Ну, ну вот… — засуетилась Кирова, — ну, что вы, право…
— Простите меня, — шептала Вера, — простите… Приходите к нам в Новый год. Вместе встретим.
— Спасибо, девочка. А кто у телефона будет? Позвонят из приемного… Скоро повезут экстренных… Может быть, и оперировать придется. Вот такая петрушка…
Вера подошла к ней и обняла,
— Вы очень хорошая.
Карева засмеялась.
— Идите к нему. — Она выдвинула ящик и протянула Вере ключ.
— Будьте счастливы! С Новым годом…
— Буду, — улыбнулась Карева. — Буду счастлива…
Вера вытерла глаза и вышла в коридор.
На елке в холле горели лампочки. Какой-то сухой высокий человек шел ей навстречу с чемоданчином в руке. Вот он все ближе… Да это Чижов! Профессор Чижов!
— Вера Александровна… — Чижов сдержанно поклонился, подошел. — С наступающим Новым годом!
Только сейчас она увидела, что в его руке — большой транзисторный приемник, искрящийся десятками ручек, кнопок, шкалой.
— К Володе? — переспросила Вера и почувствовала, как часто заколотилось сердце. — Подождите, пожалуйста.
Чижов пожал плечами.
Если бы кто-нибудь сказал профессору, что он рискует авторитетом, приехав к Маркову виниться, — Борис Александрович рассмеялся бы в глаза тому человеку. Сейчас они стояли с Марковым на одной доске и оба были равны перед стеной неведомого. Все мелкое и преходящее — было смешно и ничтожно перед этой стеной. Но работать… да что там работать?! — просто жить, будучи подлецом в глазах Маркова, было немыслимо. Чижов впервые задумался не об абстрактной «смене», а о конкретном продолжателе своей работы. Теперь он знал: им мог стать только Марков. И Борис Александрович приехал, чтоб все объяснить — предельно честно, просто, без пощады к себе. Он не подлец. Он… всего лишь ошибся, слишком круто повернул,
Вера вошла в палату и молча принялась возиться в тумбочке. Пусть думает Чижов, что она говорит сейчас с мужем о нем. В такой день — Чижов?! О нет, нет… То, что стало главным в их жизни, сразу будет омрачено его приходом! Чтобы зазвучали в их маленьком боксе такие неприятные, иронические интонации его глуховатого голоса? Разрешить ему войти сюда, после всего, что случилось, и снова, как тогда, увидеть незнакомое, умудренно-холодное лицо Вовки?
— Ты что, Вера?
— Порядок навожу… Она вышла в коридор.
— Простите, Борис Александрович, — Вера отвела глаза и, глядя в синее вечернее окно, быстро договорила: — Простите… мой муж не сможет вас принять.
Чижов не двигался.
— То есть как? — спросил он тихо.
Вера не ответила.
Но он понял. Он сразу всё понял. Он не был нужен здесь. Он вообще не был нужен. Ах да… Приемник!
— Вы могли бы…
Она твердо посмотрела в его измученные светлые глаза. В них стыло горе.
— Нет, не смогу.
Он не двигался. Они стояли молча.
— Да, да, — вдруг поспешно сказал профессор. — Конечно. Ну, что ж…
Вере стало страшно. Она никогда не видела такого страдающего лица.
— С Новым годом и… желаю здравствовать. — Чижов странно улыбнулся и, резко повернувшись на каблуках, быстро пошел от неё по коридору. Он шел, все ускоряя шаг, бессознательно повторяя про себя номера палат, бежавших, подпрыгивая навстречу. Сегодняшнего разговора не могло быть. Марков мог понять и простить всё, но не это.
Подлость. Она не могла исчезнуть просто так. Ей некуда было деваться. Он всегда учил их — в науке можно жить только с чистыми руками. Марков усвоил этот урок.
Лишь один Чижов знал и понимал до конца, что значили слова Маркова, занесенные в протокол следствия и закрывшие уголовное дело. Это была беспощадная, наотмашь пощечина ему, профессору Чижову. То, о чем он думал десять минут назад, то, на что надеялся, уже было невозможно.
Ничего хуже Марков не мог бы придумать, даже если бы захотел.
Всю жизнь, до того разговора с Марковым полтора месяца назад, он думал, что его судьба всё идет на подъем, то более круто, то более полого, но вверх. Теперь это уже был только излёт пули, инерция.
Он вновь и вновь спрашивал себя: «Как я, честный человек, мог в тот момент отдать на заклание невиновного? Как смел убеждать себя, что чья-то кровь, пусть даже кровь примитивного, невежественного Митрофанова, может стать „малой кровью“?».
Не скажи он тогда тех слов… Но он сказал. И не шевельнул пальцем, чтоб что-то исправить, отдался на волю потока. Теперь, после марковского заявления, уже ничего нельзя было изменить. Ни- че-го.
«А Марков? Для него наша маленькая делянка Большой Физики так же священна, как и для меня, — думал профессор. — Но даже во имя нее он не пойдет на подлость».
Даже во имя самого высшего — жертвовать можно только собой. Марков научил его этому.
В последнее время он часто думал о своей смерти. Не верилось, что она застигнет на полуслове или в беспамятстве. Он хотел принять ее осмысленно, как подобало естествоиспытателю. Он всегда мечтал прийти к ней без стыда за прожитое, бесстрастно, честно взвешенное наедине с собой. Теперь это исключалось.
Ведь он мог, мог все исправить! Марков отпустил ему «испытательный срок» — до прихода следователя.
А он трубил перед собой, как евангельский лицемер, кричал себе: «Это для науки, во имя науки!..» Но выходило так, что если кто и был для науки, так это — Марков.
— Что быстро, так? — удивился шофер. — Говорили — полчаса.
— В центр, — сказал Чижов.
Поднялся снегопад, снежинки летели и летели из небесной темноты. Машина взревела и круто рванула с места, вздыбив позади снежный вихрь.
Он смотрел вперед через ветровое стекло, по которому из стороны в сторону, оставляя два не засыпанных снежинками черных полукруга, старательно ходили «дворники».
Так неужели теперь всё для него со знаком минус? Неужели отныне — самый обычный, стариковский отсчет: «сколько осталось»? Дожить спокойно, лабораторию оставить, преподавать, от кафедры отказаться…
— Подождите… — вдруг сказал он, подавшись вперед.
Таксист поспешно съехал к тротуару, притормозил, удивленно глядя на пассажира.
«Да нет же, нет. Этого не может быть. Я на смогу так!» — очень ясно понял Борис Александрович.
Ему казалось, что вот сейчас, в этой стучащей мотором, подрагивающей машине, в писке работающих «дворников», он вернулся откуда-то к самому себе.
Он распахнул дверцу, вышел из машины и замер в сугробе, сняв шапку, глядя ввысь и подставив оживающее лицо этим летящим сцепленьям кристаллов, успевших в полете стать крохотными звездами. И бесценные, обожаемые строки сами собой понеслись в голове — как всегда в минуты счастья и вдохновения:
…Снег идет, и всё в смятеньи, Всё пускается в полет, Черной лестницы ступени, Перекрестка поворот… …Потому что жизнь не ждет. Не оглянешься — и святки. Только промежуток краткий, Смотришь, там и новый год. Снег идет, густой-густой. В ногу с ним, стопами теми, В том же темпе, с ленью той Или с той же быстротой, Может быть, проходит время?И стихи эти, гениальные глаголы Пастернака, были не просто стихами, они были… его спасением!
И он ощутил жгучий уголь слезы на ресницах.
Марков. Они будут вместе. И он, профессор Чижов, снова поедет этой дорогой в больницу. И снова будет стоять у двери его бокса. И если понадобится, поедет еще раз. И еще. Но прежде… Да, только так! Он должен всё сказать. Всем. И он скажет. Послезавтра. Второго января. Иначе просто незачем жить.
Как много нужно сил, чтобы сказать несколько фраз.
«Есть ли они во мне, эти силы?» — спросил себя Чижов и вдруг, ощутив внезапную, давно забытую легкость молодости, смахнул нежданные слёзы и засмеялся, чувствуя, что на него с тревогой смотрит молодой паренек-шофер.
— Простите… — сказал, повернувшись к нему, Борис Александрович и улыбнулся. — Я… ошибся.
Машина снова тронулась, уходя в снегопад, и помчалась по заснеженной Москве.
…В боксе пахло елкой. Вера хлопотала, раскладывая на столе праздничные угощения.
— Вовка!
— Что? — откликнулся он тихо. — Уже едешь?
— Поеду.
— Передавай всем приветы…
— Передам, — улыбнулась Вера. Она подошли к нему, положила руку на его русую голову. — Завтра.
— Как? — Он поднял к ней лицо. — Что ты говоришь?
— Я остаюсь.
— Верка… Что ты выдумала… Разве можно?..
— Мне Наталья Владимировна разрешила. Марков встал и молча обнял жену.
…Из наушников звучало новогоднее поздравление. Вера торопливо открыла бутылку виноградного сока.
Марков стоял с наполненным стаканом. Лицо его было спокойно и строго.
Голос в больничных наушниках смолк, и в гулкой тишине раздался перезвон кремлевских курантов,
— С Новым годом, мой дорогой!
Могучие нежные руки обняли ее.
— А Сережка спит… — прошептала Вера.
Он молчал.
«Наверное, то же, что испытываю сейчас я, — думала Вера, — испытывали жены во время войны, когда их мужья приезжали на сутки с фронта, чтобы завтра утром снова уйти туда… в огонь. Наверное… то же чувствовала Вовкина мать, когда рядом с ней дышал и хотел жить человек по имени Петр Марков…»
Марков сидел неподвижно, боясь шевельнуться. Она поняла его робость.
— Глупый мой… — прошептала Вера. — Я люблю тебя. Я так истосковалась по тебе.
— Вера… и я устал без тебя.
— Не бойся ничего. Ты самый красивый, самый сильный…
— Могут войти…
— Нет… у меня ключ… — Она сжала его лицо, с пронзающей любовью ощутив под пальцами рубцы.
Они лежали обнявшись.
За окном свистел ветер. Вера смотрела в окно и улыбалась в темноте.
— Ты не спишь? — спросила она шепотом.
— Нет! — отозвался он тотчас, тоже шепотом. — Что ты! Разве можно сейчас спать?!
— Хочешь, я тебе скажу одну старую-престарую вещь?
— Скажи… — Он провел рукой по ее щеке.
— Если люди любят… вот так, как мы… им в самом деле ничего не страшно.
— Да, — прошептал Марков. — Правда.
— Я глубоко счастлива. Несмотря ни на что. Понимаешь?
— Понимаю… Я в больнице, не вижу, еще неизвестно, что и как обернется, и так счастлив, как, может быть, никогда не был.
— Вовка…
— Знаешь, я никогда столько не думал о людях, я многое понял о них.
— Что?
— Люди есть люди, только когда они живут для других. Вот как врачи… Работать хочется. Ты не представляешь, к а к я хочу работать. Я буду видеть — я чувствую. Я знаю.
— Будешь, — прошептала Вера и подумала: «Ну а если и не будешь, я стану твоими глазами».
— Что сейчас Сережке снится? — спросил он.
— Что-нибудь хорошее. Ты.
— Он меня уже подзабыл, наверное.
— Глупый… Вовка, ты чувствуешь? Мы плывем куда-то… Новый год…
— Да, — сказал он. — Плывем. Что бы я делал без тебя?
— А я?
— Знаешь, Вера, я чувствую в себе такие силы… ну, как физик, понимаешь? Как будто что-то прорвалось во мне… такие мысли приходят… дух захватывает.
— Я знаю, почему ты еще не кандидат какой-нибудь. Ты просто ученый…
— А Мишка — что, не ученый? А Вахтанг? А Коля Васин? А Мухин?
— Нет, я не о том. — Вера, прикрыв глаза, медленно поцеловала мужа. — Ты не понял, ну и ладно.
Новый год уже летел через Атлантику, неслышно пробегали через их маленький бокс радиоволны, кричавшие на все голоса сводками первых новостей года, звучавшие вальсами Штрауса, негритянскими диксилендами, однообразными «биг-битами»…
Марков спал и она смотрела на него в темноте.
…Вера проснулась от смявшей ее тревоги.
Муж ровно дышал во сне, лицо его было светло, брови не были сведены болезненным изломом, как все эти месяцы в больнице. Так откуда же эта мучительная тревога? Есть надежда… Они всё перетерпят, длинную череду операций, боль — все вынесут и, что бы ни случилось, не предадутся отчаянию: они вместе.
Откуда же эта тревога?
Вера осторожно поднялась и подошла к окну. За черными ветвями деревьев тускло и мертво зеленело рассветное зимнее небо. Во дворе больницы, у приемного покоя намело высокие сугробы. Сугробы там, где еще вчера стояли машины.
Вчера! Это было вчера!
Серая «Волга»! Серая «Волга» Михайлова! Ее резкий поворот, скрежет тормозов. С места — азартная, пугающая скорость.
Она видела, как машина Сергея Сергеевича выехала из переулка. Вильнув перед капотом самосвала, влетела на широкий проспект и помчалась вперед, обгоняя другие машины. Лавируя между автобусами, самосвалами, тягачами, лихо начала обходить легковые.
Как… как мог он так?.. Вере хотелось крикнуть водителям тех машин, чтоб они были поосторожней, чтоб сторонились, чтоб давали дорогу серой «Волге».
Тревога… Нет, она не улеглась, не ушла. Чем точнее воссоздавала память то, что Вера видела вчера из окна больницы, тем недопустимое, тем преступнее казалась ей эта гонка. Почему ему разрешено садиться за руль?.. Таким, как он, нельзя разрешать…
Вера поняла, что тревога о Сергее Сергеевиче вошла в нее, как неизбывная, каждосекундная ее тревога о сыне и муже.
— С Новым годом! — сразу вдруг проснувшись, проговорил с улыбкой Марков. — Где ты?
Ее маленькая рука легла на его руку, крепко, надежно сжала ее.
— Я с тобой. С Новым годом, хороший мой! С Новым годом!
1972
Стена. Рассказ
На окраине Москвы, скрываясь летом в густой зелени старых лип и тополей, а зимой проглядывая за черными стволами и ветками, стоят несколько желтых трехэтажных зданий. За ними — как океанские лайнеры среди неказистой портовой мелочи — высятся новые белые корпуса. А вокруг забор. Высокий, неприступный, несокрушимо-бетонный, с «гусями» кронштейнов через каждые двадцать метров.
По вечерам над забором вспыхивают прожектора, и тогда уже ничего не различишь в их ровном, немигающем свете. Но и в желтой таинственности старинных зданий и в непроницаемости забора каждый видит одно — посторонним вход сюда строго-настрого закрыт…
…Утро. Часы-компостер. Талон пропуска в дырочках цифр: 08:17…
Это я прохожу через хромированную вертушку и, миновав заглушенные комнаты переговоров и телефонные будки, оказываюсь на территории Института.
В третьем корпусе, на одиннадцатом этаже — ОНТИ, моя юдоль — отдел научно-технической информации.
Скоростной лифт возносит к небесам. По длинному коридору, окрашенному какой-то бесцветной мутной краской, под сонно жужжащими люминесцентными трубками иду в свой отдел мимо обитых дверей. Наша дверь уже распахнута, на пороге — Генка Творожников, его рыжая бородёнка так и полыхает в луче солнца.
— Привет!
— Привет!
Раньше на нашей двери висела скромная и лаконичная, каллиграфически вырисованная табличка — «ГО». И все знали, что это значит — «графическое оформление», здесь обитают художники.
Но замдиректора по общим вопросам Буркин, лысый приземистый старикан с быстрыми глазами, посверкивающими из-под лохматых темных бровей, прозванный кем-то «Чернобуркиным», разорался: «Вы что вообще — шутки шутить? У вас тут что — штаб гражданской обороны?! Как дети малые! „Гэ-О“, понимаешь! Забываете, где работаете!..»
Ну и так далее, в том же духе.
Пообещали все исправить. На следующий день на двери красовалась новая табличка, еще более скромная: «Г».
Провисела она с неделю, вызывая всеобщее веселье, кривотолки и предположения. Но пришел Буркин и, сколько мы ни убеждали его, что так даже лучше — для секретности, все опошлил. И остались мы вовсе без таблички, но не сломленные морально.
— Порядок, — говорит Генка. — Дядьки до обеда не будет. Звонил — в Комитете стандартов.
— Ясно. Ты один пока?..
— Как видишь.
Значит, ее еще нет, и можно не заглядывать в комнату.
А «Дядька» — это наш руководитель группы Сева Сеславин — интеллигентнейший, утонченнейший Сева — изящный, гибкий, с узкой спиной и прической под Алена Делона. Сева — классный промграфик, работает он весело и лихо, но время от времени из-за его стола доносится тихое постанывание. Это Дядька Сеславин снова «комплексует», сокрушаясь о своем засыхающем на корню таланте.
— Эхе-хе… — бормочет он тогда. — Эхе-хе… Сидишь на этой… «даче» — не жизнь, а тоска-тошная.
Но Дядька безбожно врет. Попробовал бы день прожить без этого одиннадцатого этажа, с которого видна вдали вся Москва, без своего широкого стола и без нас!.. В конце концов нашему Дядьке всего тридцать один, и Дядькой он стал совсем недавно — с тех пор, как отпустил свои ротмистрские усы.
— Кстати, старик, — он велел тебе передать, чтоб не тянул с проспектом, — говорит своим мальчишеским голоском Геннадий и щурится.
— Успеется…
Вот наша комната. Огромные окна кое-где задернуты полупрозрачными белыми шторами, но комната переполнена светом июньского солнца. Им залиты кульманы, стеллажи с проспектами, столы, цветы на стенах. Если есть на грешной земле место, где и правда «чисто и светло», так это наша комната. А как здесь пахнет! Запах свежего ватмана мешается с бензиновой ехидцей резинового клея, сургучно пахнет лаком новенькой мебели, но все ничто в сравнении с едким бодрящим духом роскошной дрезденской гуаши: ее пузатенькие увесистые баночки пестрят всеми красками спектра на всех полках и столах.
Но дышится у нас легко. То ли от мокрого ветра, дующего с близкой реки, то ли от света, от торжественной стерильности белоснежных планшетов, от звонкого плаката, зовущего летать в Токио исключительно через Москву, — эта всегдашняя радость утренней встречи с нашей комнатой.
А может, виной тому лозунг, висящий как раз над столом начальника. тов. Сеславина В.В. Лозунг, знаменитый во всех отношениях:
Делу ВРЕМЯ — ПОТЕХЕ час
Увидев его впервые, Буркин только заклекотал от негодования, пропел тоненько: «О-о-ох!», махнул рукой и ушел.
«Государство в государстве» — так иногда называют наш этаж.
Нет-нет… мы работаем, конечно, а не играем в… бирюльки, в го, в шахматы и не вяжем шарфиков детям и знакомым. Дисциплина и бдительность «на объекте» для нас так же обязательны, как и для всех остальных… но… Но восемь часов «от звонка до звонка» в ОНТИ — совсем не то, что в каком-нибудь другом — серьезном и скучном отделе.
Ну — деваться некуда! За работу! Все шестеро мы усаживаемся за свои столы.
Напротив меня — Катенька Бойчук, легконогая, длинненькая, светловолосая, с нежным личиком мадонны кисти какого-нибудь мастера Возрождения.
Отвернувшись к окну, она меланхолически болтает кисточкой в банке с водой. На тоненьком голубоватом пальчике — еще совсем новое граненое золотое колечко.
Теперь, после замужества, на ее столе — неизменная пачка «Явы», взгляд стал решительным, без следа былой туманности, а анекдоты она выпаливает, чеканя каждое слово, такие, что мы только хрюкаем и стыдливо склоняемся к своим рейсфедерам — так мило все это выговаривает детский ротик, брезгливо и целомудренно кривившийся в недавнем прошлом.
Лиля сидит позади меня, через три стола, и мне досадно, что передо мной не она, а Катенька, но тут уж ничего нельзя изменить, как нельзя все время оглядываться, чтоб увидеть ее за ухмылкой наглого циника Петрова, за мудро опущенными ресницами Натки Шумской.
— Саня, ты скоро станешь совсем квадратным, — слышится за моей спиной голос Натки.
— Бедный-бедный Саня, — изрекает в пространство вызывающе бритый наголо Петров, — у него скоро и мозги зарастут мускулами.
Так. Доброе утро.
Каждый день для разминки принимаются за мой культуризм.
Я улыбаюсь и молчу, раскладываю перед собой карандаши и рейсфедеры.
— Сколько, Санечка, живого веса на текущий момент? — деловито осведомляется Петров.
Это вроде традиционного ритуального заклинания. Все как всегда. Ну что ж. И ответ мой тоже всем давно известен.
— Полтора Петрова, — говорю я и скромно кланяюсь.
— Учелло, говорят, обручился с перспективой, — размышляет вслух Натка, — туда-сюда, ну да ладно, это еще как-то можно понять. Но чтобы человек обручился с пудовой гирей…
— Двухпудовой… — Я оборачиваюсь, и Лиля улыбается и слегка кивает мне.
— Учелло — какой это у нас век?.. — спрашивает Творожников.
Петров трет виски. Катенька всё что-то высматривает за окном. Молчание.
— Пятнадцатый, — говорю я и не без превосходства смотрю на Петрова. Тишина. С культуризмом на сегодня, кажется, покончено.
Лиля улыбается…
А солнце вкатывается все выше и выше на свою невидимую гору…
Я достаю из стола кассы шрифтов — отпечатанные контактом на фотобумаге ряды букв: три строчки «а», три строчки «б», весь алфавит гарнитуры «Таймс». Полный набор: и точки, и запятые, и восклицательные знаки. Тщательно вырезаю ножницами нужные буквы, раскладываю на эскизе обложки. Надо сказать, со шрифтом «от руки» у меня туго. Не дано — значит, не дано. Кто-то иной родился каллиграфом, другой, а не я. Видно, никогда не заиграют мои строчки тем огнем стреляющей, до боли в глазах четкой вязи, что небрежно выдает любым инструментом — хоть перышком, хоть кистью умелец-Творожников. От любой его надписи веет «мировым стандартом». Какие у него буквы! Элегантные, упругие, приставленные одна к другой с такой чертовской восхитительной грацией, что мне стыдно смотреть на свои грустные, чуть-чуть хромые буковки, которые В. Сеславин раз и навсегда определил двумя словами: «Тяжелый случай».
Но теперь у меня есть кассы, спасительницы-кассы, и я могу «быть спокоен за свою будущность». Мои обложки будут не хуже, чем у других.
Слова, которые я выклеиваю буковка за буковкой, — для меня полная абракадабра. Хемосорбция, эпитаксия, диспергирование пигментов. когерентные поля… Они приходят и уходят — лишь сочетаниями букв, но они невольно заставляют уважать тех, кто понимает их значение и может произнести на едином дыхании.
И, как всегда, от этих мыслей, от этого невольного уважения к чьей-то чужой жизни мне сразу делается пусто и неловко, вдруг улетучивается утренняя легкость и уходит сознание, что и я вот к чему-то причастен, работая в этом небоскребе.
Ну ладно… еще одна обложка… еще один проспект…
И каждый день под вечер я будто спохватываюсь: как так?!
Неужели уже кончается, уже скользнул меж пальцев еще один день? И завтра, как по шаблону, повторится то же самое? Опять так же пролетят часы в уютной атмосфере симпатичного трепа и уйдет, станет ничем целый день моей жизни?
Надо срочно… немедленно… вот сейчас нужно… что-то…
Но я ничего не меняю.
И бегут дни.
И почему-то я никому не могу рассказать о том, что на душе. Никому. Даже ей. Ведь, в сущности, все так живут… И вполне довольны, кажется… Да и о чем говорить-то? И разве это — не жизнь?
Я оглядываюсь и смотрю на Лилю.
А она на обрывке бумаги разводит рыжую акварель, размешивает, подмешивает, добавляет изумрудки, охры… черной… Цветные разводы превращаются в жухло-бурую грязь. Так… спокойно, Лиля. Спокойно. Всё сначала: сиена золотистая… изумрудка… охра…
А она глядит в окно, и как ни стараюсь — я не вижу её глаз.
В три часа приезжает Сеславин. Дядька, весел. Его добрые глаза за дымчатыми очками, похожими на летучую мышь, присевшую, раскинув крылья, на лицо, доверчиво моргают.
— Ну как вы тут, аспиды, ироды? — Он быстро обходит наши столы, смотрит, кто что наработал.
Задерживается у моего стола. Оценивает очередную обложку.
— Ну что ж, дед, нормальный ход. Бери на кальку и малюй раскладки. На три краски.
Раскладки так раскладки. Встаю и подхожу к окну.
Далеко внизу — алюминиевые после дождя асфальтовые дорожки. Доска почета. Озабоченно шагают, размахивая руками, две маленькие фигурки. Пробежала девчонка в белом халате. Вон катит оранжевый электрокар…
Громадная территория Института пустынна, Все заняты. Все на своих местах. И как всегда, когда я смотрю из окна нашей комнаты на темные валы лесов у горизонта, на это безлюдье внизу, я думаю об одном и том же.
Там, за этим окном, другая жизнь, куда суровей и жестче, чем кажется нам здесь. Почему я так часто забываю об этом? Вероятно, всё просто: кто-то тащится в жизни с моей долей тревоги. А я в это время сто тридцать восемь раз отжимаюсь от пола, клею буковки и кручу телефонный диск.
— Тшш-ш… — слышится за моей спиной, — обратите внимание… Саня опять задумался…
— С чего бы это? — жеманно тянет Катенька.
Я смотрю в окно. А день уж кончается… От корпусов к проходным скоро пойдет народ. Так однажды, подойдя к окну, я скажу себе:
— Ну вот и зима!
…Ноябрь, Сижу и сочиняю обложку. Все, как всегда.
Влетает Дядька:
— Сидите?! Очень хорошо! Побольше энтузиазма! Героики будней! Натка! У тебя опять кавардак на столе! Сколько раз…
— А кто пожалует-то? — лениво потягивается, Петров.
— Все! С Бодуновым во главе.
— В белом венчике из роз… — Катенька прикрывает в улыбке глаза.
— Обходит владенья свои… — продолжает Петров,
Мы встречаемся глазами с Лилей и отворачиваемся.
— Не богохульствовать! — поднимает палец Сеславин, — Наш директор — великий ученый!
— Спокойно, дружище, спокойно, — говорит Петров. — Ха! Вы слышали последнюю анекдот Бодунова?
Каждые две недели директор Института, он же Академик, выдает новый анекдот на местные темы.
— Не томи, — вытягивает шею Дядька, — уволю…
— Значит, так. Стоят они с Эн Эн у проходной. И тут со страшной силой…
Что именно «со страшной силой», мы так и не узнаём. Распахивается дверь. И как всегда стремительно входит сам Бодунов.
— Тут художники у нас, — услужливо напоминает Гаспарянц, начальник ОНТИ. — Оформление изданий… графика…
— Кого только у нас нет! — усмехается Академик, загорелый, седоватый, синеглазый. — Работайте, товарищи, работайте… — На его пиджаке отсвечивает красным депутатский флажок. — Художники! Слово-то какое! И как много вас! Это хорошо… Так, так… Художники… Запишите! — кивает наутюженному парню-референту, с подчеркнутой услыжливой деловитостью носящему за директором блокнот. Услышав приказ, он вскидывается и начинает быстро-быстро водить шариковой ручкой по страничке блокнота. «Сопровождающие их лица» благосклонно улыбаются нам. Даже Буркин.
Бодунов поворачивается уходить. У двери маленькая свалка: все спешат пропустить начальство.
— Вольно, — командует Дядька, когда мы остаемся в узком кругу.
— Я бы этого мальчика с блокнотиком прибрала к рукам, — с усмешкой говорит Натка. — Перспективный хлыщ!
А дней через пять Дядька сообщает не без таинственности:
— Гром грянул, парни. Нас всех зовут наверх.
И мы, гадая, что бы такое могло вдруг «грянуть», нехорошо вспоминая Чернобуркина, отправляемся «наверх», но оказывается, что идти надо куда выше, чем нам могло и в голову взбрести.
И вот мы оказываемся в устланном коврами, поблескивающем черной кожей и красным деревом громадном кабинете Бодунова.
Академик восседает за столом. Рядом секретарь парткома Орлов, заместители. Здесь же наши коллеги из оформительской бригады, великие спецы по части картона и пенопласта. Рассаживаемся.
— Времени мало и у вас и у нас, — с ходу берет быка за рога Орлов. — А дело, товарищи, серьезное: принято решение расписать главный холл испытательного корпуса.
— Да-да… — кивает Бодунов, — уж очень у нас все как-то уныло, казарменно, что ли… Вот мы и пригласили вас обсудить, посоветоваться. Заказывать работу Худфонду — дело доброе. Но… как бы это сказать… Я уже заранее знаю, что они нам предложат и нарисуют. А хочется, чтоб это что-то такое было… — он разводит руками, — чтоб, понимаете… действительно… особенное… только наше… Вот. Теперь другое: панно должно отражать нашу… специфику, а тут — посторонние люди… Пока они пропуска получат, много времени пропадет. А вы сами знаете, какая дата приближается. К празднику все должно быть готово. — Он обводит нас усталыми умными глазами. — Вот мы и подумали; а что?! Люди вы молодые… говорят даже — дерзкие… Ну так — дерзните, а?! Всем всё понятно? — Его рука властно ложится на полированный стол, — Только учтите — времени мало. Чуть больше полугода. Ну, как?
Мы молчим.
— Премия из директорского фонда, — понимающе склоняет голову Бодунов, на мгновение задерживая глаза на каждом из нас. — Полная свобода в выборе и трактовке темы! — Выкладывает он на весы главную гирю.
Коллеги-оформители начинают дружно жаловаться, что нет времени.
Сеславин пожимает плечами: на нём отдел.
Натка специалист по ситцу и крепдешину.
О букводеле-Творожникове и разговора нет.
У Катеньки муж Эдик.
Лилька сидит, хмуро рассматривая пол.
Мудрого Петрова на такой мякине не проведешь.
— Ну что ж… — печально говорит директор, — Жаль конечно… Будем тогда договариваться с Фондом. — И он смотрит на нас уже без всякого интереса.
— Не надо, — встаю я, чувствуя, как вдруг обтянулись щеки. — Не надо договариваться с Фондом.
— Да-а… брат, удиви-и-ил… — как-то странно-кривовато улыбается Се-славин, когда мы снова оказываемся у себя.
— А вообще ничего… красиво выглядело, — говорит Катенька. — Прямо кино!
— Ты хоть соображаешь, за ч т о берешься? — Дядька часто моргает, растерянно глядя на меня. — Делал ты хоть что-нибудь подобное?
— Да нет… — отвечаю я. — Не делал… В худкомбинате только, на практике… Но меня ведь этому учили — правильно?
— Сикейрос выискался! — скалится Петров. — Это у тебя, Санечка, по причине молодости. Внимание, внимание! Срочно требуется дурак! А дурак — вот он. «Я, — говорит, — дурак, а что?»
— Ну почему я дурак? Я, правда, не понимаю, старики?!
Творожников молчит. Забыв обо всем, сидит себе, счастливый человек, и вытачивает кисточкой завиток на буквице.
— Чего тут непонятного? — Петров даже всплескивает руками. — Такая работа стоит много-много тысяч. Пока одобрят — сто советов, худсоветов… Год как миленький пробежит. А тебе дадут три сотни премиальных в зубы — и пишите письма. Дешево и сердито. Экономия-то — ого!
— Все это ерунда, — грустно смотрит на меня, как на тихого сумасшедшего, Сева. — Дело не в экономии. Организация у нас богатая. Заплатили бы тысячи. Не в том соль. Просто ты… не вытянешь. Один… Без опыта… Немыслимо! Ты хоть представь эту стену! Да на неё нужна бригада мастерюг… таких, знаешь, ух! Подумай, Саня!
— Оставьте вы человека… — Это снова Катенька. — От нас, бедных, одна совсекретная макулатура останется, а от него — этакое… железобетонное разумное-доброе-вечное. Правда, Саня?
— Лучше сразу откажись. Пока не поздно. Заболей, что ли, чтоб лица не терять.
— И не подумаю.
— Хорошо, — поджимает губы Дядька, — кому тогда прикажешь отдать твои проспекты?
— Да сделаю я…
— Ни черта ты не сделаешь. Если тебе начинать, так уже сегодня.
— Ну, а ты что молчишь? — подхожу я к Лиле.
Но она будто не слышит меня и кричит через мое плечо Сеславину:
— Севка! Сколько их там у него, проспектов? Шесть? Давай мне.
И быстро идет, не глядя на меня, к своему столу.
…Стена. Шершавая холодная штукатурка. Серая плоскость. Двенадцать в длину, пять в высоту. Шестьдесят квадратных. Огромный, очень какой-то пустой холл. Отхожу, смотрю издали.
Когда я только услышал слово «панно», тотчас подумал об этой стене. Она всегда волновала меня, будто сама просилась под роспись. Но сейчас… Сейчас я вдруг словно впервые вижу, какая она необъятная.
Теперь, когда я прихожу утром в нашу комнату, меня приветствуют, но как-то невесело. Как обреченного на гибель. На казнь.
Даже добрый Дядька Сеславин иногда вполне официально окликает по фамилии. Так что — выходит, я «подложил им свинью»? Или «поставил себя выше»? Не знаю. Никак я себя не «поставил».
Стена. Сейчас — стена. Только стена. Один на один со стеной.
Я никому ничего не собираюсь доказывать.
Стена сильнее и страшнее всех насмешек и выразительных вздохов.
Карандаш носится по бумаге. Голая схема. Найти решение внутри схемы. И — вырваться из нее. А пока — схема. Никаких лиц, ручек, ножек. Легкие контуры. Ничего больше.
Прямоугольник за прямоугольником ложатся рядом.
Так! Так! Здесь группа, здесь группа… Здесь фигура на ритмическую поддержку…
О чем я думаю? Разве об этом надо думать, о грубой и смешной «механике»?
Надо идти… в глубину… к тайне… Здесь группа, здесь… К черту! Скучно. Убого. Не дышит. Не летит.
Надо острее, круче, чтоб было замкнуто, цельно и упруго. Лица? До лиц еще целая вечность. А самое трудное только тогда и начнется… За кончиком карандаша тянется серая нить. Все быстрее, все резче!
Очерчивает двадцатый, сотый, двухсотый прямоугольник — и снова поиск объемов и пятен внутри пространства прямоугольника — микромодели будущей стены.
Быстрей, смелей… Только это и больше ничего на всем свете. Всё забыть — ничего никогда не было. Ты — первый. Вообще — первый. Как тот, в пещере, что вырисовывал глиной крутолобого бизона. Только ты, и бумага, и линия…
Хруп!
Карандаш ломается! Хватаю другой. Ну! Ну же! Вот-вот… что-то появляется!
И тут кто-то касается моего плеча.
— Слушай, Саня, — озабоченно говорит Петров, — может, тебе обед сюда принести, чтоб ты, упаси Бог, не отрывался?
— Будь другом, — кидаю на край стола металлический рубль. — Вот спасибо-то! Принеси!
Дружный хохот.
Одна Лиля без улыбки поднимает голову от своей обложки и смотрит на меня. А мне нужно снова скрываться в своей «пещере». опять разгоняться, «разогревать» карандаш…
…Однажды я застаю их стоящими над моим столом.
Заметив меня, разбегаются, но Дядька роняет раскрытую папку, и по полу разлетаются сотни эскизов-набросков. Я становлюсь на колени и начинаю торопливо, комкая, кое-как запихивать их обратно в папку.
— Прости нас, — говорит Сева, — мы просто хотели посмотреть.
Я не отвечаю. Чувствую, что бледнею, продолжаю собирать свои картинки.
— Между прочим, знаешь… Местами что-то есть, — смущенно бормочет Натка. — Конструктивно.
Я не отвечаю. Есть вещи, которые не касаются никого, кроме тебя. Этих первых, едва-едва намеченных рисунков никто не должен был видеть.
— Не будь чудаком. — Петров подходит ко мне и присаживается на краешек стола. — Ну что ты так переживаешь? В конце концов всем абсолютно до лампочки, что там, на этой стенке. Через неделю привыкнут и замечать перестанут, то ли гладкая она, то ли размалёванная…
— Слушай! — Я поднимаюсь с пола. — Не твое это дело, понял?
В комнате тишина.
— Надеюсь, — улыбается, отодвигаясь подальше, Петров, — что твоя физическая масса не позволит тебе…
— Не позволит. Не бойся!
— Ну, ну… — бросается между нами Дядька. — Саня, успокойся…
— Я спокоен.
И вдруг из уголка чуть блеющий голосок Творожникова:
— Был коллектив как коллектив.
— Вот именно. Коллектив — был.
Я беру папку, выгребаю из ящиков стола остальные рисунки и выхожу в коридор.
…Пробив талон пропуска, я иду теперь к другому зданию. Поднимаюсь на третий этаж и шагаю к своему холлу, к своей стене. Я соорудил себе тут из фанерных щитов закуток.
Моя тема — освоение Вселенной. Какие они, т е, кто ее осваивает? Люди как люди. За фанерой слышны их голоса, шаги. Иногда заглядывают в мой чулан. Задают вопросы, уходят…
Часам к девяти, когда все расходятся по отделам и лабораториям, я выбираюсь из своей «одиночки». Прислоняю планшеты к стене, листы раскладываю на полу. Начинается хождение. Хожу и смотрю. От рисунка к рисунку. Наклоняюсь, беру в руки один, другой… Здесь что-то поймано, там что-то завязалось…
Нет! Не так! Всё не так! Надо быть к себе зверем. Беспощадным. Тут — стена, которая не простит. Нужно смотреть чужими глазами. Скажем, насмешливыми глазами Петрова.
С ребятами встречаюсь в перерывах. Смеемся, как ни в чем не бывало, болтаем о разных разностях. О том, о чем хочется поговорить больше всего, — молчим. И я уже сам не знаю, радоваться этому или нет.
А Генка Творожников протягивает мне пачку «Явы» и говорит:
— Слыхал? Лилька от нас уходить собирается.
— Когда? — спрашиваю я очень равнодушно.
— Да ты сам её спроси… Замуж выходит, что ли. Кто их разберет?!
…Надо рисовать. Карандаш сегодня какой-то тяжелый. Еле-еле движется по желтоватой ворсистой бумаге. Нос кривой получается. Где ластик? Вечно засуну… потом ищу год. Сотрем нос. Во-от так. Бумага паршивая, рыхлая. Невозможно рисовать. Замуж так замуж. Уходит так уходит. Тьфу! Глаз-то я зачем стер?
Отшвыриваю лист, беру другой: надо переводить с листа на лист композицию будущего панно, но я сижу и черчу на бумаге дурацкие орнаменты, кубики, длинноухих ишаков. Ну и пусть уходит! Ну и пусть выходит! Что между нами было? Да ничего! Взгляды, секунды понимания… Бог мой, какая чепуха!
У меня есть стена. Моя стена. А я уже скоро два месяца бьюсь над этими эскизами.
Ну, все! Уймитесь, волнения! Хватаю новый лист.
Линии ложатся вкривь и вкось, но я жму на карандаш все сильнее.
Работа, говорят, лечит. Допустим.
Другая любовь лечит.
Вот это похоже на правду: я люблю свою стену.
Карандаш прорезает несчастную бумагу почти насквозь.
Завтра обсуждение эскизов. До утра сижу у приемника, кручу настройку, шарю в эфире в поисках какой-нибудь обнадеживающей музыки. Перед глазами — эскизы, эскизы…
С утра мне не по себе. Знобит. Внутри все сковано. На эскизы больше нет сил смотреть. Сижу неподвижно. Жду четырех часов. Похоже, не доживу.
Дожил. В парткоме толпится народ. Подходит Дядька.
— На тебе лица нет. Не волнуйся, Я скажу свое слово.
— Спасибо, начальник.
За столом — человек тридцать. Все смотрят на меня. Бодунов о чем-то переговаривается вполголоса с Орловым. Расставляю планшеты на стульях.
— Вы готовы? — В голосе Орлова нетерпение. Все сидят, уставясь на мои эскизы. Несколько минут проходят в тишине.
— Так… — тянет Академик, и я не могу разобрать, что выражает это басовитое, сочное «так».
— Мы пригласили товарищей из Союза художников, — встает Орлов, — попросим их первыми высказаться.
Сеславин незаметно для остальных делает мне всякие знаки: «Держись, мол, победа будет за нами».
Из-за длинного красного стола поднимается маленький старичок в голубой водолазке.
«Все, — решаю про себя, — этот размолотит за милую душу».
— М-мм… ну что же… Художник, конечно, очень молод, — начинает, брезгливо глядя в сторону планшетов, товарищ из Союза, — очень молод и, я бы сказал… мм-ммм… дерзок…
Тут он начинает вспоминать двадцатые годы, свою бурную молодость, ВХУТЕМАС, афоризмы Великого Художника, сказанные, якобы, именно ему (за самоваром)… священные слова, которые он пронес через все испытания как самые драгоценные заветы, и так далее, и так далее…
Дядька Сеславин подмигивает мне. Я отворачиваюсь и начинаю рассматривать узоры на ковре, изредка поглядывая на Академика.
Бодунов, слушает. Слушает, всё больше хмурится и старается украдкой взглянуть на часы. Орлов, подняв брови и поджав губы, нетерпеливо потирает подбородок.
В конце концов вдруг выясняется, что «наш молодой художник», несмотря на свою молодость и дерзость, не такой уж олух и что работа его сделана в целом весьма недурно. Потом что-то говорит второй «эксперт» из Союза, потом мне задают вопросы: «А не мрачновато ли?» «Это что такое — лиловое?» «Что это они у вас все такие грустные?»
Потом начинается страшный шум оттого, что вскакивает Сеславин и тут же сцепляется с каким-то усатым. Потом усатый ласково берет Дядьку за талию, подводит к планшету, и они начинают тыкать пальцами то туда, то сюда, что-то доказывая друг другу.
— А ну, дайте-ка проект поближе… Нет, другой, тот, что слева, — говорит Бодунов.
Это самый лучший эскиз. Так по крайней мере кажется мне. Снимаю планшет со стула, выношу на середину комнаты.
— Ближе, ближе, — просит Академик.
Подношу ближе. Что он углядел? Очки надевает…
— Давайте сюда, — кладет эскиз перед собой. Рассматривает, вглядывается, потом…
Я не успел заметить какого-то неуловимого движения смуглой директорской руки и, застыв, слежу за тем, как из-под золотого пера раскручиваются зеленые спирали: «Одобряю. Принять к исполнению. Бодунов».
…Сегодня я закончил картон.
Картон — это мой испытательный полигон. На картоне я пристреливаюсь, чтоб потом, на стене, бить сразу наверняка: картон — точная копия будущей росписи — по размеру, рисунку, цвету. Одним словом, это моя будущая стена, только написанная на склеенных кусках широченной рулонной бумаги и расстеленная на полу.
Я хожу в носках прямо по картону. На разрисованной плоскости стоят банки с разными колерами, я макаю кисти то в одну, то в другую банку и подправляю где нужно. Но это уже ерунда. Картон кончен, и мне не верится, что это бескрайнее лоскутное одеяло, в которое можно завернуть штук пять слонов, осилил я один.
Хочу поверить — и не могу.
Писал, плевался, напевал, сдирал, замазывал, закрашивал, отрезал куски бумаги и подклеивал новые, наваливал горы краски и падал в кресло посреди холла — деревяшка деревяшкой. И снова вставал, и снова ползал по бумаге, месил и месил краску, выдавливая тюбик за тюбиком синтетическую темперу, искал сильные сложные цвета, и вот все прилегло одно к другому, ожило, выстроилось, заиграло…
Еще мазок, еще! Картон окончен. Это победа. Почти победа! Мне надо только повторить то, что уже сделано, как говорится, «один к одному».
Завтра — особенный и непонятный день. Завтра я, наконец, коснусь стены.
…И вот я стою на стремянке. Пот заливает глаза. С кисти разлетаются капли краски, падают на пол, на вымазанные джинсы.
Штукатурка ненасытна. Она жадно втягивает краску: цвет на стене сразу гаснет, становится тусклым, глухим. Я пытаюсь сохранить яркость и чистоту красок, по нескольку раз переписываю каждое место.
Мне страшно. То, что на полу делалось за день, на стене забирает три. Спускаюсь с лесенки и бреду в другой конец зала — смотреть. Стена еще почти голая! Но самое страшное не это.
Всё так, как на картоне. В точности.
И… не так.
Кажется, никакой разницы, каждая черточка, каждое пятнышко там же и такое же, как на картоне, и я не могу понять, в чем же ошибка, где?
И снова иду к стене, снова взбираюсь на стремянку и тру, тру, тру кистью, будто хочу своротить эту молчащую каменную силу.
Это работа.
Она не выходит.
Но это моя работа.
Холл закрыт до окончания панно.
Целые дни я провожу в одиночестве. Но на меня сваливается Буркин. Он заявляется ежедневно в четырнадцать тридцать, усаживается в кресло и начинает давать всевозможные полезные советы. Я молчу или мрачно поддакиваю. Под его быстрым взглядом кисти вываливаются из рук.
Вот и сейчас — сижу на ступеньке своей лесенки и жду. Правое плечо, лопатка отваливаются от ломящей боли. Часами вытянутая без упора рука немеет. Все чаще на ум приходят слова Дядьки о «бригаде мастерюг». Я понимаю, что уже не поспею к сроку, а если и поспею…
Надо смотреть правде в глаза, и я смотрю. У меня просто нет таланта.
Раздаются шаги. Явился… советчик. Сейчас заведет свою волынку… Не оглянусь, пока не заговорит. Молчит. Что это с ним? Оборачиваюсь. В дальнем конце холла стоит и смотрит на меня девушка в зеленом платье.
Лиля.
Я встаю и иду к ней. Она смотрит на меня, будто хочет о чем-то спросить. Да и правда, зачем спрашивать? Все ясно. Вот она рядом.
— Здорово, — говорю я грубовато, рассматривая ее лицо, усталое и немного бледное. — Такие, Лилька, дела. Запорол ведь, ага? — киваю через плечо на свою стену.
— Саня… я балдею.
— Брось, мать. Мы не маленькие.
И правда! Закончить бы скорей, разделаться, наконец, и снова на свой шесток…
Мы сидим рядом и смотрим издали на стену.
— Ты не можешь уже отличать черное от белого. Ты «замылил глаз» и уже ничего не видишь.
— Все я вижу, Лилька.
— Да ты сам ничего не понимаешь! Слушай, дай на тебя посмотреть. Неужели ты… ты рванул эту махину? Докончить успеешь?
— Не в том счастье. Успею, ну и что? Ты скоро от нас уходишь?
— Да подожди ты, Санька… Дай в себя прийти.
— Ой, слушай, перестань! — Я вскакиваю и иду прочь. Потом останавливаюсь и возвращаюсь. — Ты что, прощаться пришла? Да?
— Курить у тебя здесь можно?
— Кто тут увидит? Кури на здоровье…
— Мы все время говорим не о том… Я завидую тебе, если хочешь знать. — Она достает из сумочки сигарету, я чиркаю спичкой. — Ты даже не представляешь, как я тебе завидую,
— Не темни. Ты уходишь от нас?
— Какой ты худой стал… Зарос. Санька, как хорошо, что ты такой стал…
— Какой? — зло оборачиваюсь я.
— Шальной. Мне кажется, ты и не слышишь меня.
— Слышу. Как там наши? Севка, Натка?
— За них не беспокойся. Я помешала тебе? — Она достает из пачки новую сигарету, разминает и, глядя на меня сквозь разводы дыма, го-ворит: — А знаешь… жалко, что все у нас так получилось…
— У нас?
— А, ладно, Санька! Я ухожу, правда… Вчера заявление подала. — Она стряхивает пепел на пол, комкает сигарету. — Знаешь, почему я ухожу?
— Почему? — еле выговариваю я. Она откидывается на спинку кресла и, склонив голову, долго смотрит на меня.
… — Винче-енцо-о!.. Эй, Винченцо-о! — летит, ударяясь о стены, мой голос. — Где ты там?! Пошевеливайся!
На меня снизу смотрят смеющиеся темно-зеленые глаза.
— Да, мастер?
— Вот что, Винченцо, сын мой… — изображаю я старца Леонардо. — А поднеси-ка мне… «краску для лица».
— Слушаюсь, мастер. — «Винченцо» бежит к коробкам с темперой. — Неаполитанскую желтую… это мы разом…
— Ультрамаринчик прихвати заодно. Ну, живо!
Третью неделю мы работаем вдвоем. Я пишу, почти не слезаю со стремянки. Лиля — «мальчик на побегушках». Подает тюбики, кисти, затирки, разводит колера. Ее заявление об уходе уже, наверно, вынесло в Каспийское море. Красиво летел с Крымского моста бумажный «голубок»…
Роспись почти закончена.
За эти три недели я сделал больше, чем за два месяца, когда работал один. И вовсе не потому, что мне теперь не нужно отрываться от стены.
Часами мы молчим. Короткие фразы — как в операционной. Когда она стоит, сунув руки в карманы брюк, и, склонив голову к плечу, следит, прикусив губу, за моей разлохмаченной кисточкой, у меня почему-то все начинает получаться. Иногда только я обернусь, кивну ей и снова отворачиваюсь к стене.
Время от времени я замечаю ее умоляющий взгляд: «Ну… Ну дай мне тоже… Я тоже могу, я хочу, я тоже художник…»
Глазами, всем лицом, плечами она просит разрешить ей тоже коснуться стены кистью. Я мотаю головой:
— Нет, Лилька, нет.
…Ну, вот и всё, кажется. Расставшись с Лилей, я еду домой на трамвае самым длинным путем. Час назад я в последний раз отошел от стены и долго смотрел на нее.
Да. Победил. Наверное, так… Я по привычке впиваюсь глазами в лица людей, трясущихся в дребезжащем вагоне, а зачем? Роспись закончена в срок. Завтра открытие… Почему же все-таки так грустно?
Я просыпаюсь ночью от удара в сердце. Сажусь в постели и, холодея от страха, скольжу взглядом памяти по своему уже живущему само по себе, помимо меня, панно. И чем ярче вспоминаю, тем страшнее мне кажется приближающееся утро. Оно разгорается синим светом, и я мчусь в Институт, вбегаю в холл, смотрю…
…Как дурак из сказки — я «плачу на свадьбе».
А вокруг меня — улыбающиеся лица.
Без конца поздравляют, жмут руки. Давешний старичок из Союза художников водит под ручку вдоль стены и не скрывает своего «искреннего, поверьте, дорогой мой, удивленного восхищения».
— Могуче, Саня, могуче, — качает головой Дядька, то снимая, то надевая свои дымчатые очки. — А ведь как мы тебя, бедного, клевали, мерзавцы… Ты забудь, ладно?
— Большому кораблю… — пихает меня в грудь Петров. — Слушай, маэстро! Ты же теперь при деньгах… Как у людей водится?! Устроил бы вечерок для друзей в «Славянском»…
Я молча соглашаюсь, кивая всем.
Вечерок? Пожалуйста!
Восхищаетесь? Пожалуйста!
Забыть? Ради Бога! Всё давно забыто!
— Что случилось? — Испуганное, непонимающее Лилькино лицо. — Почему ты такой? Скажи мне всё, слышишь!
Будто я знаю, почему! Просто я не могу смотреть на свою стену. Все не то. Не то, не то… Но что «не то»? Я не знаю, не могу понять…
— Тебе кажется, — говорю я. — Всё хорошо. Я веселый.
— Вижу. — Она кладет мне руку на плечо. — Заметно.
Крепкое рукопожатие Орлова.
Августейшая улыбка директора.
Буркин перекатывается по холлу именинником. А я — как в нокдауне.
Что же вы, братья-художники? Тоже не видите? Или просто не хотите убивать? Неужто — нравится?
Нет, нельзя так притворяться: они, и правда, радуются за меня. Может, это я вконец ослеп — от усталости, гонки, от горечи прощания?
Странная штука… Еще вчера полновластный хозяин стены, завтра я утрачу все права на то, чтоб изменить ее.
Каждый раз, взглянув на свое панно, я чуть ли не хватаюсь за голову. И разве легче от того, что Буркин подходит то к одному, то к другому и урчит своим баском: «Ну?! Что?! А?! А ведь отличная картина!»
А я только жду, когда все это кончится и можно будет уйти, чтоб грохнуться на тахту лицом вниз в темной комнате и лежать так, слыша шум машин за окнами да крик соседского телевизора за стеной…
Ну вот и всё. Моя работа принята и одобрена.
Черта подведена.
…И снова, как раньше, сижу в нашей комнате в Институте. Звонит и звонит телефон. Спрашивают Дядьку. И вот долгий разговор с каким-то Гариком о неведомой Ларисе и театре «Кабуки», а под конец непременно: «Где праздник-то встречаешь? А то к нам давай…»
Петрову звонит мама. И Петров обещает купить по дороге домой хлеба и молока. Натка звонит и отказывается с кем-то идти в кино «За-рядье», и тут же назначает кому-то свидание у «Прогресса»… «Вы куда на праздники?..» Праздник, праздник…
На душе пусто. А за окном хлещет первым ливнем распускающийся зеленый май.
В чем же я ошибся? Где точка отклонения? Когда сбился?..
Эти мысли не оставляют ни на минуту.
Гроза над Москвой.
Осыпая город сине-лиловыми молниями, тяжелой рыхлой серо-желтой массой придавили землю облака, а где-то вдали гроза уже отошла, и предзакатное солнце вызолотило высотку на Котельнической.
Звонок.
— Тебя, — говорит Сеславин, протягивая мне трубку.
— Александр Михайлович, зайдите в бухгалтерию.
— В бухгалтерию? Да, спасибо, сейчас зайду.
— Вот беда, — говорит Петров и мечтально взирается в потолок над головой. — Что-то нос чешется. С чего бы это?
Я не отвечаю и плетусь за своей премией. Заглядываю в окошечко.
— Распишитесь…
Ищу свою фамилию и не могу найти.
— Да вот же, — тычет пальцем кассирша. — И до чего же вы красиво нарисовали… Все только и говорят…
Ну да… Народ оценил. Народ понял и принял мое искусство. Я с народом. Мое искусство понятно народу. А ведь это, как говорят, — самое главное?
…Над нами с треском взлетают ракеты салюта. Облака становятся зелеными, потом красными, потом снова черными.
Лилька стоит, запрокинув голову. Грохот, и над нами снова похрустывают и шипят, рассыпаясь, разноцветные огни ракет.
— У-у-у-у!.. — кричат хором мальчишки и бегут искать на земле горячие кусочки зарядных трубок.
Мы стоим в огромной толпе. Кто-то хлопает в ладоши. Кто-то вслух считает залпы. Люди улыбаются. Их лица поминутно меняют свой цвет — то все разом становятся зелеными, то огненно-пунцовыми, то голубыми…
— Посмотри, — шепчет Лилька, — посмотри на них… Знаешь, что это такое?
— Что?
— Это Мир.
Залп. Красные сверкающие точки повисают громадными люстрами и гаснут.
И я вдруг сразу все понимаю. Так вот оно что! Ну, конечно! Я всё отдал картону! Всё, что шло от меня и было мной, осталось там, на бумаге. Все муки, горечь, радости и находки слились воедино линиями и пятнами на тех замусоленных, кое-где надорванных, вымученных, политых потом листах предварительного эскиза, свернутых за шкафами нашей комнаты в большущий рулон.
Я поспешил и выплеснул до срока то, что надо было беречь и хранить в себе для основной цели, для стены, для штукатурки. А после лишь гнался за тем, хотел лишь повторить то, что повторить невозможно, и все, что жило на картоне, умерло при повторении, окаменело, осталось без дыхания.
Значит, никто не увидит того, что вижу я один?
Никто не узнает, какой могла быть моя стена?
Залп!
Над нами взметается огненное облако и с треском разлетается тысячами мерцающих изумрудных искр. А передо мной лица, глаза… оттуда, с картона.
Неужели уже ничего не изменить? Или пойти к Бодунову и просить, чтоб разрешили начать все… сначала?
Ни к чему. Даже если и разрешат, я уже не смогу: того самого, что приняли на себя полотнища картона, уже не осталось, уже не хватит в душе.
Ну что ж. Зато я знаю теперь…
Только бы не растратиться до времени, только бы сберечь в себе, не растеряв попусту, и отдать главное, что есть ты сам, людям и стенам, которые и есть твоя жизнь… А иначе — к чему все?
И, вдруг поняв это, я изо всех сил кричу:
— Лилька! Я ужасно счастлив!
Но она не слышит меня за грохотом близкого залпа, машет рукой, улыбается и тоже кричит:
— Что? Что ты сказал? Повтори!
1974 г.
Картошка в натюрморте
Посвящаю светлой памяти моего отца
ГЛАВА ПЕРВАЯ
И все же рано или поздно весна должна была прийти в этот город.
Сапроненко жил в нем уже третий год и знал, какая была тут весна, но как далеко казалось до неё в октябре, как нескончаемо долог — желт, сер и бел — лежал к ней путь.
Обоймы последних недель шли сплошь холостыми. Сапропенко уже боялся каждого утра, тягостно-тихой предрассветной синевы окна, и оттого все тяжелей становился этот его третий московский октябрь.
Ему было без малого тридцать, но так же как в юности, он ждал весны с той всё но желавшей уходить надеждой на какую-то особенную, ни на что по похожую удачу, встречу…
Удача? Слово было странно само по себе, нечестно, как даром давшееся, другому брошенное счастье. О встрече и говорить было нечего, просто смешно. И все же он ждал, сам не зная чего, того, что должно было прийти и открыть себя непременно весной.
Она начиналась, когда небо над городом вдруг охватывало весёлым теплом, когда дерзковато-отважный ветреный воздух влажнел предчувствием новой жизни, новой, неведомой еще радости, и числа, календарь были тут ни при чем: все решал свет неба, и не важно, в феврале он вспыхивал или на исходе марта: Сапропепко узнавал этот день из всех дней года.
Потом весна расходилась, обнимала собой всех, и будто новой краской одевался зеленоватый четырехэтажпый дом художественного училища на Сретенке, и солнцем полнились до осени его высокие, темноватые в непогоду и зимой мастерские.
Но в этот день, что обещал с утра сгинуть в темно-сером небе, в череде таких же пустопорожних дней, — до весны было далеко, шли дожди, рвали пальто и шарфы прохожих резкие ветры, и в одиннадцатой мастерской, под самой крышей на четвертом этаже, стояла синяя плотная мгла.
Ждали, когда немного рассветлеется, неспешно волокли от стен и ставили мольберты, нехотя переругивались из-за мест — кто где стоял в прошлый раз, — лениво и медленно, как в полусне, выпускали и завинчивали трубчатые ножки этюдников, скребли палитры.
Прогорклый запах масляных красок, скипидара, старого дерева висел облаком, и в этом облаке на дощатых подиумах жались в своих халатиках, протянув голые ноги к оранжевому жару рефлекторов, обе натурщицы: пятидесятилетняя Маргарита Сергеевна, обрюзгшая, вся в складках, — когда ее рисовали, она старалась принять какие-то театрально-лживые, выразительные позы… старалась с достоинством, от которого щемило внутри, — и вторая, Шурка, — худоногая, с рыжим столбом волос над маленькой головой, почти безгрудая, но яростно и надменно женственная в резкой своей, дикой мальчишечьей тонкости плеч, бедер п рук.
Шурка, наклонившись к спирали рефлектора, прикурила, рассыпав искры, приоткрылся ворот ее халата, она запахнула его и, сузив длинные ненакрашенные глаза, жадно затянулась.
Все расставились, закрепили подрамники и разбрелись.
Кто еще успел только начеркать контуры углем, кто уже тронул в прошлый сеанс кистью, раскидал цветовые пятна подмалевка, но день не светлел, и делать было нечего.
Звенели на лестнице звонки, рубя время на пяти- и сорокапятиминутки, кто сидел на ступеньках, кто на древнем черном сундуке из натюрмортного фонда, что хранил в себе прежде побитые молью кусочки кашемировых шалей, драпировки, мятые серебряные кувшинчики, черепа, гипсовые розетки, а потом, после списания и вычистки из всех инвентарных реестров, был притащен сюда, на четвертый этаж и стал священной реликвией их прославленной alma mater.
Темными смутными тенями народ уходил из мастерской.
Маргарита Сергеевна рассказывала то, что рассказывала всегда, — о жизни своей вдвоем с кошкой Мурой, то желавшей, то не желавшей кушать разные вкусности. Хмурая Шурка, притушив окурок об угол своего помоста, возлежала, не мигая глядя в окна, а в самом глухом дымно-туманном углу верхом на табуретке сидел Сапроненко. Метрах в трех перед ним стоял его холст с начатой «Обнаженной».
Теперь, когда полумрак слил, связал и загнал в темень все краски, работа смотрелась совсем неплохо: тревога, исходившая из мутной синевы пасмурного дня, вползала в холст, но коли разобраться, он-то тут был зачем? За него работала непогода… за него дописывала, скрепляя в угодном ей колорите каждый мазок, темнота.
Можно было бы, конечно, потешиться… поиграть с собой до первого солнца, но зачем? Кто, как не он, знал: разгони сейчас ветер тучи и осветись мастерская — вмиг полезли бы с картинки немощь цветовых соседств и вяло-бурая грязь в тенях.
И хоть работка эта, несмотря ни на что, била наповал любую из картинок ребят вокруг, это ничего не прибавляло к ней, если не отбирало — смехотворностью точки отсчета.
Широкоплечая, толстая, потерявшая талию фигура Маргариты Сергеевны вышла похоже, но была она неуклюжа, задавлена. И мертвенная ее неуклюжесть — Сапроненко не скрывал это от себя — шла не от силы его, не от чувства, не от сопричастности судьбе женщины с большими темными глазами и напомаженным в попытке вернуть невозвратимое ртом, а от неумелости, от тяжести руки. Эх, Мура, Мура… ела б ты, что ли, эти котлеты!..
А она сидела, откинув голову с прямыми черными крашеными волосами, большая голая женщина с сильным лицом, сильной челюстью н большим рубленым носом. Жила ведь зачем-то, любила много, может быть, пела… — где, где это всё на затертой картинке?! И следа нет нигде, одни «отношения» зеленого к рыжевато-желтому, вот и все!
Но синел обманный полумрак и холст курился дымкой тайны, чернела темень скрытой зелени, и была обида в едва различимом неподвижном лице на полотне. Холст был уж писан-переписан не раз, он стал как клеенка, а от последнего натюрморта, не замазанная еще фоном, проглядывала бугорчатая муляжная груша. Сапроненко встал и, подойдя к подрамнику, взял его.
— Покажите мне, Саша, — сказала Маргарита Сергеевна.
— А… — сказал он, махнув рукой, пригнул по привычке крепко вылепленную, скуластую черноволосую голову на широких плечах. — Чего там… — и с досадой поставил перед натурщицей холст.
— Ну и что? — сказала она н улыбнулась, показав длинные передние зубы. — Решетин писал меня гораздо хуже… Света мало, да и рисуночек у вас… — И засмеялась гортанно, — чуток подгулямши…
— Да уж… — кивнул он. — Туфта.
— Руки не мои… и вообще… не в образе. У меня ж характер! Вот, вот! — я же старая римлянка. Или… в Неаполе на рынке… сардинами торгую! Пишите не меня… пишите — образ!
Татьяна Михайловна быстро вошла в мастерскую. Третий год она вела у них живопись. Еще стройная, египетски красивая в свои сорок семь, в далеком облаке той, иной жизни старой русской профессорской семьи, безалаберно-светлого дома, заваленного книгами, картинами, маленькими изящное-вычурными реликвиями отговорившего, отспорившего прошлого.
— Прекрасно! — громко и живо воскликнула она, войдя и приостановившись на пороге. — Обрадовались, что темно, лодыри, не надо работать, чудесно! Ай, молодцы! Так, кто тут у нас верный рыцарь искусства… Здравствуйте, Саша!
Он кивнул.
Третий год между ними были странные отношения…
Говорили, что Сапроненко любимчик Бекетовой, что на просмотрах, когда за закрытыми дверями гудела голосами корифеев благоговейно хранимая педагогическая тайна мнений об их работах, в конце концов выливавшаяся… хм… отметкой, Татьяна Михайловна до хрипоты, до сорванного голоса и валидола сражалась за него, за его пятерку.
Ему завидовали. Дурачье… Разве кто-нибудь знал о той системе полунамеков, полувзглядов, чуть прищуренных глаз, непонятной для всех иронии, внезапных смен отчуждения и мгновенного понимания, в которую обратились их встречи здесь, у мольберта и холста. Она подходила, и они вместе смотрели на его работу.
«Хорошо. Завязывается интересно», — говорила она глазами. «Игрушки, — отвечали его глаза. — Какой интерес, зачем?..»
«Верно, — молча прикрывала она глаза, — мы не дети, мы не станем играть в бирюльки. Но вот, смотрите, Саша! Здесь хлынул свет на вазу натюрморта — и отозвалось, зазвучало…»
«У Сезанна…» — пожимал он одним плечом.
Татьяна хмурилась:
«Оставьте старика в покое! Мы с вами не имеем права…»
«Что ж так — не имеем… А зачем тогда всё? — Он смотрел, жестко, не мигая. — Кому тогда все это надо?»
«Опять вы, Саша, в свои дебри!..»
«А куда денешься — коли в дебрях — правда?..»
Так говорили они почти молча, глядя на его холсты, и Сапроненко знал — ее радовало, что он не радуется ее похвалам, Сапроненко видел в том важный и высокий залог для себя и был молча, угрюмо благодарен.
Она хвалила — он усмехался, зная, что это — лишь испытание, закалка на совсем другую пробу, подлинную цену которой ведала они двое. Надо было жить, жить на этой крутой дороге вверх — к самому себе, к себе настоящему, которого еще не было и не могло быть, потому что заплачено было пока слишком мало.
— Давайте смотреть! — сказала она и села па табуретку.
Он приставил холст к ножке мольберта и стал чуть позади и правей Татьяны, неподвижный, уткнувший подбородок в кулак.
— Темно, наверное, — сказала Маргарита Сергеевна, — вы б свет зажгли.
— Пожалуй, — пробормотала Татьяна и, обернувшись, взглянула ему в глаза, как бы говоря: «И зачем нам свет, вы же, Саша, все видите сами…»
Но он щелкнул выключателями. Замигали, захлопали стартерами, разгораясь ровным неживым свечением, газосветные трубки, заголубело в мастерской, и от этого муторно-голубого сделалось еще тоскливей среди торчащих крестами погоста мольбертов, еще тусклей и безрадостней стал день за окнами.
— Вот в ногах, в бедре кусочек живого, — сказала Татьяна Михайловна.
Он сам знал про этот кусочек. Добротненький, вкусненький «проходной» кусочек.
— Может быть, имело бы смысл как-то все подтянуть к нему… — Она смотрела вопросительно, прикидывая.
Сапроненко знал, что она думала по этому поводу.
— Я… сдеру всё… сначала начну, — буркнул он.
— Хозяин-барин! — весело, с внутренним освобождением кивнула она. — Уточните рисунок, не спешите. Хотя… До просмотров не такой уж вагон времени. Что-то должно быть закончено. Натюрморт недописан. Голова тоже. Как бы не пришлось нам с вами считать черепки!
— Ладно, — сказал он хмуро.
— Послушайте, Саша, — спросила Татьяна Михайловна уже другим голосом, потише. — Что с Володей? Мне он не нравится последнее время.
— Темно… — неловко махнул рукой Сапроненко в сторону окна.
— Вы отлично знаете, о чем я. Помогите! Вы друзья, так помогите ему, черт возьми! Я вижу больше, чем вам кажется. Он плохо кончит!
Сапроненко вздохнул и ничего не сказал.
— И вообще, — продолжила Бекетова. — по-моему, вы зря ушли из общежития. Вы дичаете. Думаете, я не представляю, какая у вас там с ним мужицкая анархия?! Бутылок одних по всем углам на десятку, ведь так?
— Уже сдали, — сказал Сапроненко.
— Ясно. Кризис в разгаре. Слушайте, Саша, — она нахмурилась, — возвращайтесь-ка вы в общежитие. Вы же не Лёнечка, не Дима с Мишей… с их папами… вы, простите меня, мужик! С вами, дорогой мой, будет все круче и быстрей: вам отмерено иначе.
— Знаю, — кивнул он.
— Тем более. Возвращайтесь. Я поговорю с Лебедевой.
— Да нет… Это невозможно, — покачал он головой. — Работать невозможно. Люди, люди… разговоры… шу-шу-шу… тра-ля-ля. Обшага! Нет, невозможно.
— Я вам сказала. — Она посмотрела строго.
— Спасибо.
— Передайте ему, что я больше не буду разводить «липу» в журнале. Не явится — значит «эн-бэ» и никаких.
— Передам.
— Так, может, мы… пойдем? — разогнулась и спрыгнула с подиума гибкая Шурка. — Не работает никто.
— Да-да, конечно, — кивнула Татьяна Михайловна.
Народ возвращался, теперь все делалось уже быстро, говорили громко, толкались… И словно рассветлелось наконец: в сером над крышами засквозило вдруг матовым бледным расплывом охры, день очищался, последние листья летели с ветвей.
Громыхали перепачканными этюдниками, с визгом складывали обратно их дюралевые ножки, возились в шкафах, смеялись и шутили, а посреди этого молодого гама, у высокого мольберта в черной рубашке, широкоплечий и сильный, пригнув голову, стоял Сапроненко и яростно, будто не видя и не слыша ничего, словно он был один, сдирал слои краски с холста маленьким тугим мастихином.
…Конечно, Володька Сафаров спал.
Каждую осень это приключалось с ним — нападала долгая спячка, сродни какой-то неторопливой подтачивающей болезни. Он спал сутками — то навзничь, не меняя часами положения, то скрипел зубами, бормотал и плакал по-узбекски, крутился, сворачивался клубком на драной раскладушке, но, проспав и десять, и двенадцать, и шестнадцать часов, вставал непроспавшийся, усталый от себя и особенно молчаливый. Что делалось с ним, что случалось в его слегка обросшей после бритья, длинной, на восточный, азиатский лад, голове? Он не говорил никому, даже Сапронепко, а тот не расспрашивал.
Страшно и подчас — до холода за воротом тревожно было жить рядом с этой жизнью. Удивительно: для тридцатилетнего человека, отца, вдосталь натерпевшегося и хватившего с избытком, был Сафаров необъяснимо застенчив и нежен, почти беззащитен в неизменном своем отрешенном молчании. Закрыв глаза, сидя на корточках у стены, сжимая тонкими пальцами окурок сигареты у самого огонька, он негромко бормотал свои суры и персидские стихи и, кончив бейт, тихим хрипловатым голосом тут же переводил, и глаза его печально и твердо улыбались из темноты. От его узких рук с их древним, из иных веков выражением — от запястья, по литым венам над тонкими костями фаланг, — веяло неведомым и глубоким, особым знанием, несовместимым с бегом, спешкой и веселостью, и прожитое само выступало из его чуть сухого, закрытого пологом старой боли лица.
Бывало порой Сафаров закидывал руки за голову и лежал так недвижно, улыбаясь потолку, а то вдруг вскакивал и протягивал Сапроненко просительно и по-детски испуганно открытую ладонь: «Ты понимаешь, Сашка… Ты понимаешь… — быстро говорил он и искал глаза друга. — Ах, Сашка, Сашка…»
Больше он ничего но мог сказать, и возникал тогда вдруг всегда скрытый в чуть сбивчивой и смущенной, но очень чистой русской его речи горьковатый, коричный привкус акцента.
Сапроненко понимал.
И с ним бывало похожее, хотя у Володьки Сафарова все было намешано куда гуще, острее… изысканней и тоньше, и потому им были не нужны слова, когда можно было просто сидеть рядом, веря друг другу больше, чем себе.
Было у них много похожего. У обоих где-то остались брошенные жены, у обоих где-то росли, наверное, теперь уже чужие им, с незнакомыми, неблизкими лицами — восьмилетние дочери. Был Восток, далекие горячие пустынные пространства, горы, синий лед неба, кони в серой пыли горизонта. Был Восток с плетеньем орнамента, с огнью терракоты и смутным позваниванием бубенчиков и цепочек — когда звал их к себе обоих с карабинами на плече в наряде у границы чуть слышный треск полевого телефона…
Знай они раньше — и встреча их была бы еще вон когда: служили рядом, по разным склонам одной невысокой горы… Встреться они раньше…
Но зачем толковать о том, что не случилось?
Все едино, рано ли, поздно — не в том суть — ныне они жили бок о бок, самые близкие и дорогие люди, среди тюбиков, окурков, кусков черствого хлеба и свято сберегаемого альбома Эль Греко, купленного ими за немыслимые деньги — тридцать пять рублей.
Конечно, такая благодать была меж ними не всегда. Случалось, что и два, и три дня они ходили из угла в угол, не видя друг друга. Отношений не выясняли — давно знали оба, что тут нельзя найти, можно только потерять.
Молчали, чтоб не заскользить по спирали слов раздражения, вдруг вырвавшихся скрытых обид, чтоб не наговорить друг другу всякого, того, чего но было в глубине, того, что пенилось поверху. Тут надо было удержаться. Неужто не знали они, отчего вдруг наваливалось это?!
Все шло от одного — от неумения сделать то, что теснилось в голове, и они ходили, угрюмо молча, ели-пили, глядя мимо, и так проползал день, и второй, и третий. Потом что-то менялось… И Сапроненко опускал бровь, щурил глаз и хмыкал, или Володька, идя навстречу, вдруг хлопал его по руке… Они останавливались — глаза в глаза, — усмехались и шли в пельменную, что напротив монастыря, — жирные подносы, уксус, потайная бутылка за отворотом куртки, старуха в замызгананом белом, украдкой протягивающая стакан, голубое небо в окошке и бесконечность будущей жизни.
Но теперь то, тяжелое, затянулось.
Сапроненко сдирал слои краски — они свивались полузасохшими шкурками, наваливались друг на друга под сталью мастихина — выходила разноцветная, перемешанная кашица фузы; её можно было, не торопясь, рассматривать, как кору дерева, как узоры на мраморе метро, но следа его труда, его кисти, его мазка, его дней и мыслей — уж и следа не оставалось в этой случайной бессмысленной красоте.
Он остался один в мастерской.
Все разбежались на обед — снизу доносился шум голосов. Есть хотелось зверски, но еще больше хотелось побыть одному. У него имелся на сегодня только этот угол у стены, и Сапроненко сидел, курил, наплевав привычно на все запреты, и смотрел в одну точку посреди пола.
Он думал. То был быстрый, катящий как бы помимо его воли поток спутанных картинок, цветных и серых.
Чаще других мелькала сводчатая глубина их с Володькой жилища, сам Володька, каким он оставил его, уходя утром, так и не добудившись.
Они не разговаривали уже неделю, то есть говорили, конечно, но дальше «Чай будешь?..» не заходили. И таким глупым, таким бессмысленным показалось Сапроненко в это утро их молчание, таким бессмысленно-жестоким показался он самому себе.
Он скинул с плеча этюдник и присел на корточки у раскладушки, глядя на спящего друга. «Бедный, бедный мой», — подумал он.
Татьяна Михайловна приказывала помочь — приказывала с тем полным правом, что имеет каждый, готовый без размышлений помогать сам и не умеющий жить — не помогая.
Но Сапроненко не знал, чем помочь.
Он видел — здесь нельзя помочь, как нельзя научить другого быть не им самим, а тобой.
Ах, он бы помог, честное слово, помог бы… и чего бы только ни дал, чтобы… Но без пользы, без толку пролетели бы теперь любые бодрые слова, все посулы непременного счастья.
Он знал — тут не помочь. Должна была каким-то неведомым образом переломиться вся жизнь — а она не ломалась, шла как шла.
Сапроненко пригасил окурок пальцем, поднялся с табуретки и вышел в коридор.
— Сань! — окликнул его на лестнице шебутной Борька Валуев. — Тебе позвонить велели. Сечешь?!
— Спасибо. — Сапроненко оглядел стройненького Валуева. — Давай жми, — скривил он рот, когда часто-часто замелькали по ступенькам худые Борькины ноги в сииих фирменных джинсах. — Позвоним.
«Ничего не скажешь, быстро сработало», — подумал он. — Хотя и так всё ясно было. Ничего нового. От ворот поворот. Ладно. Перезимуем. Спасибо и на том, что кишки не мотали, не заставили ждать…
«Позвоним», — почти равнодушно бросил он на ходу Валуеву, вполне уверенный в том, что пророкочет трубка, Но глупенькое сердчишко легонько прыгнуло — значит, ждал всё-таки, тешился надеждой…
Ну вот: все готово решиться — и с приветом.
Он перебежал через Сретенку к табачному магазинчику напротив училища, побродил у прилавков, наменял двухкопеечных монет, купил «Приму», вышел, постоял, подбрасывая на ладони монетку, потом пригнул голову и… шагнул в будку автомата.
За мокрым стеклом шел долгий осенний дождь.
Сапроненко набрал номер.
На душе было холодно, спокойно.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Тогда только кончался сентябрь.
Солнце по-летнему ярко светило в окна одиннадцатой наверху, и ничто, казалось, не предвещало такого октября. Сафаров ходил еще на занятия с маленьким самодельным этюдником и такой же маленькой, желтой от олифы, словно бы вечно новой, палитрой.
Они работали в противоположных углах мастерской.
Володька, как всегда почти, писал сидя: он снова, не изменяя себе, пришел в этот день с маленьким — тридцать пять на сорок — подрамником. Татьяна только посмотрела и отошла, махнув рукой, — она любила большие, метровые холсты — чтоб было где размахнуться, разгуляться!..
«Володя! — говорила она обычно, завидев Сафарова в первый день очередной постановки. — Опять вы со своей… мелкотой… Да возьмите вы большой холст, что вы, ей-Богу!»
Сафаров улыбался, опустив глаза, отмалчивался. И она смирилась в конце концов. Все смирились, даже просмотровая комиссия, хоть и понадобилось для того два года, со скрипом, но смирилась после того, как председатель комиссии и худрук училища знаменитый «ленинианец» Сохатов, роскошный черногривый мужчина в неизменной сверкающей шелковой рубашке, молвил с ухмылкой: «А-а… Вот и миниатюрист наш…», и по тому, как он это молвил, все вдруг вспомнили, что нет правил без исключений.
И вот все стояли, а Сафаров сидел у своей картинки с искаженным напряжением лицом, коротко ударяя по холсту маленькой кисточкой, этим особенным своим движением — будто точку ставил, еще, еще…
Сапроненко не видел Сафарова за спинами и мольбертами, только иногда, когда отходил, взглянуть издали на свое «мыло» аккуратнейший быстроглазый Лёнечка Сельский, показывался на мгновенье бритый удлиненный затылок Сафарова.
Сапроненко, как всегда, мучился с руками; они писали поясные портреты двух стариков, — старческие руки с отчетливо выдававшимися костяшками, казалось, легко было прорисовать без труда, так понятно и просто выточила их жизнь, но руки — не выходили. Работа двигалась, но неспешно, по шажочку, до конца постановки оставалось только восемь часов, а на холсте еще ничто не дышало, не жило.
Он уже начинал понимать, что снова «пролетел», что снова неудача, надо было решиться и, стерев труды четырех дней, переиграть все но-новому, как-то иначе, свежо и весело увидев все, что надо было увидеть раньше, а вокруг него висело равномерное жужжание голосов.
Переговаривались, просто трепались, вполне довольные тем, что накрасили кисточками на своих готовых покупных холстах. Да и что было им, беспечным детишкам! Писали спокойно, от сих до сих, спокойно ловили сачком свои кисло-сладкие «четверки», курили-покуривали, без устали вязали узелки любовей, договаривались о том, где б сегодня собраться, не сходить ли в «Уран» на «Земляничную поляну» — «Бергман — это вообще!..», перемигивались с хорошенькой, острой на язычок Танечкой Иваншиной, лениво возили краску на своих страхолюдных, с обвисшими бурыми каплями окаменевшей фузы, палитрах, тыкали непромытыми кистями то туда, то сюда, а уж церулеума голубого по три девяносто за тюбик с мизинчик, на который они с Сафаровым молились, трясясь над каждой крохой, счастливые эти детки убухивали черт знает куда и без разбору, без смысла, и Сапроненко только охал про себя и торопливо отводил глаза.
А может, все объяснялось тем, что они с Володькой родились на десять лет раньше самого старшего из группы?.. Все реже и реже жизнь казалась бесконечной, и вместо этой ребячьей уверенности вдруг подступал холод сознания, что уже прожита и невозвратима большая часть отпущенного им времени.
Длинный, отутюженный, в крахмальной белоснежной рубашке, Дима Шуранов слонялся по мастерской, стараясь не запачкать краской коричневый, в крупную рыжую клетку долгополый пиджак, в котором он напоминал Сапроненко молодого жирафа с наглыми глазами.
На живопись полагалось приходить в чем похуже, и потому ясно было, что Митенька пришел не на работу.
Хорошенький, с сочными алыми губами, он был противен Сапроненко весь — и маленькой головкой, и платочком в масть галстуку из кармашка «клифта», и этой вихляющей бульварной походочкой, и снисходительным, свысока баском.
Ему не было и двадцати, но как хорошо он знал, этот парень, не забывал ни на секунду о том, что он — со всеми своими дачами, девочками, дисками — из другого теста, другой закваски, как лениво умел он взглянуть, заткнуть другим рты, зевнуть, ухмыльнуться… О, он знал, и отлично знал, что и как будет в его жизни и мог многое себе позволить, этакое гусарство.
Да, впрочем, Шуранов был тут не один такой: замкнуто ото всех в училище жила компания счастливых и беззаботных — со своими кафе и барами, со своими квартирами, своим языком, сине-строченой джинсовой униформой, сумочками из «Березки» и вечеринками, жила искристой, скандальной и праздничной, как новогодняя ночь, опутанной серпантином карусельной жизнью.
Сапроненко терпеть не мог их всех за то, как легко и бездумно проживали они каждый день, но Шуранова — сильней прочих, за эту нескрываемую наглую откровенность в глазах.
И в этот сентябрьский день Шуранов бродил от мольберта к мольберту и просил у всех десятку в долг до завтра.
От него отмахивались: «Обалдел, что ли?! Откуда?!»
Он направлялся к следующему, просил и, получив отказ, некоторое время стоял за спиной работавшего, иронически комментируя каждое его движение.
— Так, умница… здесь охрочки. Ну вот, молодец. Смотри-ка, понимает, прямо как человек. Изумрудочки возьми. Да ты кисточку помой, вот тоже, малер от слова «маляр». Слушай, старичок а «маляр» — это потому, что малярией страдает? Больше белил, козел… Чему вас тут учат, маз-зилы!?..
Слушали, смеялись, гнали его подальше.
Сапроненко чувствовал, как нарастает в нем недоброе напряжение от этой болтовни, но молчал, чтоб не завестись, да и время подпирало. Красок было мало, совсем мало. Работа подвигалась плохо, натурщики дремали, храня профессиональную неподвижность.
— Слышь, Сапроненко, — раздался голос Шуранова, — кинь червонец, завтра отдам.
Сапроненко молчал, не собираясь ни оборачиваться, ни отвечать.
— Когда я ем, я глух и нем, — констатировал Митенька. — Понятно. Да и откуда у подвижника рубли? Рубли — у гнусных циников без капли святого. Вы согласны со мной, Ипполит Петрович? — окликнул он клевавшего носом дряхлого глуховатого натурщика, и тот встрепенулся, закрутил головой:
— Что, деточка?
— Спите, спите, Ипполит Петрович, — осклабился Шуранов.
— Да разве ж можно? Спать-то… Как вы и говорите такое… — заволновался старик, затряс белой головой, и губы его задрожали. Палка его выскользнула из бледных пальцев и со стуком упала. Сапроненко шагнул и подал ее старику.
— Спасибо, деточка.
— Слушай… Кончай цирк… — Сапроненко подошел к Шуранову. — Ты меня понял? Самому делать не хрена — так вали, другим не мешай. Ходит тут, болтается, как…
— Г-губо, — сказал Димка. — Очень г-губо. Вообще вы, товарищ ефрейтор, очень г-губый. Трагическая натура. Смотри, Сапроненко, не повесся когда-нибудь. С такими, как ты, бывает. Даже с ефрейторами.
В мастерской засмеялись.
Сапроненко шагнул к нему и исподлобья посмотрел в глаза.
— Понял, — поспешно кивнул Димка. — Всё понял. Ухожу, ухожу, ухожу. Только все равно вы, товарищ, г-губый, хоть и подвижник. Впрочем, вы правы исторически и стратегически, в то время как…
— Совсем работать не дает! — сказал из своего угла Сафаров. — Зачем ты пришел, скажи? Вот тебе… иди сюда, держи гривенник, пойди в «Уран», кино посмотри… на, возьми.
— Ах! — сказал Шуранов. — Динарий кесаря! Ты мне червонец найди!
— Слушай, парень, — Сапроненко отложил кисти и вытер руки тряпкой.
— Я понимаю! Вдохновение! — поднял к потолку палец Димка. — Священный огонь! Ах, ах, т-шшш… Тише… тише… Не спугните…
И снова засмеялись вокруг, и стоял Сапроненко, озирался — чему смеются? А лицо Володьки передернуло нервной зевотой.
— Не будет у вас деньгов, подвижники, — печально сказал Шуранов. — Чует мое сердце. Оттого вы и грубые такие, что сами это знаете.
— Твоих — не будет, — мрачно сказал Сапроненко.
Все вокруг перестали работать, повернулись к ним и ждали.
— А денежки у нас одни — советские, — сказал Димка. — Хотя зачем они тебе? Ты ж смотришь философски.
— Гад же ты, — усмехнулся Сапроненко. — Какой же ты, эх… Татьяну жалко, неприятностей ей не хватало.
— Нас тут не поняли, — сказал Шуранов и вышел.
И не закрылась за ним дверь, как разразился на все училище протяжный звонок.
Сапроненко вышел вслед за всеми, достал вечную свою «Приму», а Сафаров остался у мольберта, что-то подправляя на холстике.
Рядом с Сапроненко на подоконнике сидел Борька Валуев, насвистывал битловую «Oh, my loving», а потом неожиданно оборвал свист и уставился на него.
— Ну и..? — спросил Сапроненко хмуро.
— Да вот, смотрю… — сощурился деловой человек Валуев.
— Ну, смотри, смотри.
— Странные есть люди. Вот ты, например. Все при тебе, мог бы жить, как…
— Как ты, что ли? У гостиниц… за шмотьем отираться?
— Зачем как я? Немножко лучше.
Сапроненко саркастически кхекнул.
— А великие мастера, между прочим, картиночки на продажу рисовали, — молвил в пространство Борька.
— Да ну? — искоса глянул на него Сапроненко.
— Вот те крест! — перекрестился Валуев. — И не стеснялись. И по киношкам не ездили: «Может, вам объявленьице или афишку?»
— Может, и ездили бы. Почем знать?
— Странный ты мужик, Сапроня… чес-слово…. странный, правда.
— Ты это все к чему? — так же искоса глянул на него Сапроненко.
— Я — к деньгам. А что, если тебе толкнуть холстики.
— Что я, на базар с ними пойду?
— Заче-ем?! — Валуев всплеснул руками и спрыгнул с подоконника, глазки его сразу округлились и забегали, как всегда, когда он «был при деле». — Тебе ж без ля-ля говорят! Не хочешь? Ну и сиди, соси лапу!
— Ну, говори!
— Видишь ли, старик, — еще быстрей заиграл живыми глазками Валуев, — живопись твоя не то чтобы что-то… но… необычная.
— Знаешь, я…
— Да подожди ты, — снисходительно к его провинциальной неуверенности усмехнулся Борька. — Мы ж не на луне! Есть люди, интересуются молодежью.
Сапроненко почему-то оглянулся, но они сидели одни на лестничной площадке.
А Валуев махнул рукой:
— Дело железное, только бы заинтересовались. И за карман не держатся. Только бы…
— Ханыги? — полуутвердительно осведомился Сапроненко. — Спасибо.
— Ну вот — ханыги! Почему непременно — ханыги? Приличные люди, специалисты. И потом — всё через комиссионный, без фу-фу. Могу дать телефончик.
— Сколько у тебя телефончиков этих… — покачал головой Сапроненко, — на все случаи.
— Хочешь жить… — засмеялся Борька. — Так возьмешь телефон?
— Я ж не Врубель, — сказал Сапроненко. — Кто что у меня купит? Да и закона такого нет.
— Закона! Закона! Попытка не пытка! Ты ж не с улицы приходишь: «Здрасьте, здрасьте, купите картинки». По звоночку…
— Ну?
— Вот те и «ну». Не краденое понесешь. На молодежной выставке натюрморт был?
— Ну, был, — сказал Сапроненко и почему-то снова оглянулся.
— Девочка была? Ну… эта, из серии «Юность наша»? Была. Нравилась народу? Это кое-что. Каталоги с выставок имеешь?
— Да уж два.
— Вот! Иди смело.
И он взял этот телефон, спрятал бумажку в карман. А что? Почему бы и нет? Попытка — не крытка… Отчего б не рискнуть?
Надо было рассказать обо всем Володьке — он тоже мог бы что-нибудь продать.
Но на полпути к Сафарову Сапроненко так отчетливо увидел, как насмешливо поднимутся Володькины брови: «И ты туда же?», как тот замашет руками: «Нет, нет, без меня, пожалуйста».
И Сапроненко решил промолчать до поры, хотя тогда еще не чувствовал никакой вины, а в самом желании получить деньги за свою — за свою же, черт возьми! — работу разве есть какое-нибудь преступление?
…И он пошел смело, как наказывал этот шустрый Валуев.
Дождался, когда ушел в Театральную библиотеку Водолька, связал бечевкой три работы, окантованные серой планкой, надвинул на глаза кепку и потащился. Перед тем позвонил в комиссионный. Набрал номер раз, другой, потом уж рука сама накручивала диск, но снова и снова короткие гудочки тупыми иголками втыкались в уши, потом рука устала набирать, потом раза два выгоняли из кабины автомата, стучали монетками в стекло.
Но вот трубку сняли, минуту говорили в сторону насчет какой-то машины, и наконец трубка раздраженно рявкнула:
— Да-а!
Он опять кинул взгляд в валуевскую бумажонку, назвал себя, попросил указанную там гражданку и подмигнул неизвестно кому,
— Это я! Как-как? Сапроненко? Хм…
— Вам должен был говорить про меня…
— А-а… Да-да. Я в курсе. М-м-м… Ну что же… подъезжайте, если хотите, посмотрим, что там у вас…
— Когда?
— В любой день после трех.
У нее, у этой приемщицы Елены Максимилиановны, был хорошо поставленный бас. Сапроненко тотчас вообразил громадную женщину, калибром и статью похожую на знаменитую московскую натурщицу Виолетту, смуглую, с резким лицом пожилой испанки, ту Виолетту, с которой умные люди маслом, в глине и во всех прочих материалах «пекли» «Колхозниц», предназначенных символизировать рост благосостояния деревни.
Правда, от Виолетты оставалась лишь фигура, лик приделывался другой: курносый, плюс белозубый, плюс открытый — так называемый «народный». И зритель, случайно забредший на выставку «посмотреть художество», и испытанный вернисажный горлодер, проходя мимо перелицеванной Виолетты — в ватнике и сапогах, а также в халате с бидоном в руках, а также у руля комбайна… а также… — бормотали одно и то же: «Да, елки-палки… есть, есть женщины в русских селениях…»
А Елена Максимилиановна оказалась маленькой, остроносенькой, вертлявой, года ее катили на шестой десяток. В ярко-малиновой жакетке и расклешенных черных брючках, сунув руки в карманы, будто ей было зябко, она шныряла по залам, как на коньках. Наконец она подбежала к нему с улыбкой.
— Уж извините! Дела, дела, сами понимаете.
Откуда в этой мышке брался такой голосина?
С минуту они рассматривали друг друга. Она все так же улыбалась, и морщинки на ее маленьком личике сходились и расходились, как на пенке закипающего молока.
«Тё-ертая… — думал Сапроненко, смотря в эти сощуренные в улыбочке глаза. — Ох и тёртая ты…»
— Идите за мной! — Она пошла к прилавкам в какую-то дверь, и он поволокся за ней со своей связкой. Шли по коридорам, заставленным картинами — холсты стояли повернутые к степе, стояли рядами, лежали на стеллажах.
«Развелось… живописцев… — думал он, косо поглядывая за чужие подрамники. — Вон их сколько… Зря только протаскался».
Будто услышав его, она обернулась, показала на картины.
— Не берут! — сказала весело Елена Максимилиановна. — Сами видите! Висели чуть ли не по году в зале, снижали цепы — не берут! Вот был бы янтарь… — оглянулась на ходу со своей улыбочкой. — Вы янтарем не занимаетесь?
— Не занимаюсь, — буркнул Сапроненко. И подумал: «Спроси меня еще про бриллианты. Как же! Золотых дых-пых, бриллиантовых дел пакостник!»
В кабинете-закутке, куда они пришли, тоже хватало «творений». И все больше с жирными нашлепками мазков, сохранивших следы от щетинок кисти, «вкусная», «кончаловская» живопись, умелая… нет-нет, как же это говорится, слово еще такое есть? — ах, да — «мастеровитая»…
Смотрели в грешный мир ультрамариновыми глазами «девушки». «Девушка» так… «Девушка» этак… Правда, были и «мальчики», и «фрукты», и «хлебы», и аппетитные мокрые редиски, и старухи… старухи. Были тут и московские улицы — то в солнце, то в снегу, то под дождем, с отраженными в лужах домами и выглядывающей из-за крыш непременной церковкой. Зеленели пейзажи. И снова безвестные девушки. Черт! От глядящих со всех сторон девушек сводило скулы.
Но не все, не все живописцы выдавливали целые тюбики прямо на холст. Сапроненко хмыкнул про себя: художники, видно, из тех, у кого в карманах гулял ветер, писали жиденько-прежиденько, врастирочку, но это не меняло дела — внутри рам было то же — те же девушки, милые детки, березки, упрямые или безразличные ко всему старухи.
Висели, пылились правильные, умелые поделки, и от того, были они или не были, ничто не могло измениться в этом мире, ничто не могло прибавиться, в странным ему казалось — кто в самом деле мог их купить, чтоб повесить дома н смотреть на чужие лица этих старух, в пустоту детских неподвижных глаз? Смотреть за обедом, за завтраком…
Зачем? Зачем?! — хотелось спросить кого-то неведомого, кто все это затеял и устроил, — зачем, кому нужно это?
«Это я от зависти», — одернул себя Сапроненко, — все же они все почти — с именами, а я сам себе глазки строю: «Ничего, мол, товарищ, вы на уровне и, между нами говоря, заткнете этих боссов; правда… рисуночек ваш похилей, и тут поможет время, но зато есть то, чего нет у них, есть дыхание меня самого, еще не размазанное в железном знании того, что „надо“ и „не надо“».
— Слушаю вас, — пророкотала Елена Максимилиановна, усевшись за стол с телефонами.
Он пожал плечом. Что говорить-то? Вроде ясно без слов, зачем он здесь.
— Ну-с. Вы член союза?
Повернуться и уйти, что ли?
— Нет.
— Ну вот видите!
«Что же это? — подумал Сапроненко. — Вот как интересно получается. Может, с кем спутала? Вон суетня какая».
— Валуев вам…
— Дорогой мой! — она укоризненно и нетерпеливо прикрыла глаза. — У меня абсолютно нет времени. Давайте так: я спрашиваю, вы отвечаете. Образование высшее? Ах, нет. Ну вот видите!
Ей, наверно, нравилось, как эти слова перекатывались по кабинетику.
— Смотрите, что же у нас с вами получается. Образования нет… — она говорила уже вполголоса, как бы соболезнуя от души, — даже среднего нет… пока. А мы имеем дело только с членами союза, да и то есть правила, которые при всем желании… Войдите в положение людей…
«Всё ясно… То-то поржет Володька!» — подумалось ему.
— Так я это… пошел?
— Ох, какой сердитый1 — засмеялась Елена Максимилиановна.
— А чего? Правила есть? Есть. Чего еще балакать, — сказал Сапроненко и поднял с пола свои работы.
— Вон вы како-ой… — протянула она то ли разочарованно, то ли удивленно и вдруг усмехнулась. — Знаете, а вы мне иравитесь. Есть в вас вот это… — пощелкала пальцами.
«К чему это? — подумал он. — Стою тут, будто за милостыней явился, только руку протянуть осталось! А они — „шуткуют“»!
А она все говорила… всё говорила…
И он сам не знал, почему замер на пороге, — так и стоял, держа на весу тяжелые подрамники.
— …у нас, представьте себе, тоже есть план, мы не можем гореть из-за своей доброты. Если бы мы брали работы у всех, то вы сами понимаете… ведь мы, согласитесь, не филантропическая организация…
— Слушайте! — перебил он ее. — Зачем столько слов? Что я — набиваться пришел? Зря прокатался — не беда. Подумаешь, два пятака протратил — не обеднею. Счастливо!
— Подождите! — вскрикнула она. — Вы меня не так поняли!
— А чего там понимать! — сказал он грубо.
— Работы покажите!
— Ах, работы?! Нате! Смотрите! Он расставил холсты.
Желтый свет лампочки съел всю работу. Ни колорита, ни того тяжелого густого синего, ради которого он бился не один день, — одна буроватая квелая муть.
Он привез портрет девушки, что висел весною на молодежной выставке, на Кузнецком, привёз «Город» — с чернотой подворотни, горой ящиков, ничьей собакой в просвете парадного и с лицом мальчишки, смотрящего из окна на ночной, полный тайных, темных дыханий город, и натюрморт.
Натюрморт — проще не придумаешь: стол, на столе бутылка дешевого вина, миска дымящейся картошки, за столом в серой мгле — силуэт человека, лежащего, заложив руки за голову, и каждый, кто знает Сафарова, сразу бы сказал, что это лежит Сафаров.
Елена Максимилиановна надела большие, чуть затемненные очки, помолчала, переводя взгляд с картины на картину. И что она видела, интересно, в полумраке, да еще вдобавок через свои заграничные фильтры?
— Экий вы мрачный товарищ, — заметила она между тем, но он видел, успел, успел увидеть, как странно блеснули ее глазки, когда он только расставлял работы, и Сапроненко подумал, что она и очки-то нацепила, чтоб спрятать от него этот невольный блеск. — Н-да, веселая живопись, нечего сказать! Уж так все безрадостно, беспросветно… Разве такая вокруг нас с нами жизнь?
Его уже не удивили эти ее слова о «мрачности». Он уже слышал их, наслышался вдосталь, и даже читал в маленькой газетке городских художников отчет с молодежной выставки, где его, называя наряду с другими «одаренным» и «интересным», ругали за суженность идеала, намёки формализма и некоторый пессимизм взгляда на мир, от которого желали как можно скорее избавиться.
Да, он не удивлялся. Веселого в его картинах действительно наблюдалось немного, он и сам не был веселым и, любя жизнь всей силой, не считал ее этакой громадной — без окон и дверей — «комнатой смеха».
И потом «Девушка», совсем не была мрачной или безрадостной. Она лишь сидела и думала, когда он писал ее, и у нее тоже (она сказала мельком) не все шло как по маслу: кто-то болел, кто-то скрылся с глаз… Она знала, что не очень хороша собой и не порхали перед ней розово- голубыми облаками эти самые знаменитые «девичьи мечта», хотя она наверняка ощущала, что жизнь — счастье, то счастье, которым нельзя размахивать, как праздничным воздушным шаром.
— А это что там еще за фигура? — указала Елена Максимилиановна на силуэт Сафарова в натюрморте. — мыслитель-любитель?
— Не знаю, — мотнул он головой. — Просто… человек.
— Просто человеков по бывает. Он что же — пьет?
«Эге… — подумал Сапроненко. — Сильна специалистка!». И, сдвинув брови, сдавленно усмехнулся:
— Бутылочка на столе — видите? Полная. Стало быть, непьющий.
Она засмеялась басом, закурила длинную тонкую сигарету и вместе с дымом вытолкала из горла слова:
— Ну вы остряк! Ладно, хорошо… Как вы сами-то считаете — пойдут у нас такие вещи?
— Такие вещи, — сказал Сапроненко, — вам ни к чему. Я понял.
— Да нет… Я ничего по говорю, — она смотрела на него с интересом, прищурясь, выпуская струйкой дым из резкого рта, — впрочем, можно спросить еще кого-нибудь.
— А зачем? — улыбнулся он, хотя щеки загорелись.
— Нет-нет, погодите. Вот тоже… А-антон Николаи-ич! — вдруг гаркнула, как эскадронный, и снова потише сказала Сапроненко: — Пусть посмотрит — он все-таки искусствовед, кандидат…
Кандидат-искусствовед ввалился без стука — рыхлый, в потертом сером толстовязаном свитере. Лицо изношенное, тоже как бы потертое, с крупным носом, мясистое н чуть пьяное. Он еще чего-то жевал на ходу. Но в глазах его, как и в ее щелочках, навеки засела железная воля, тяжелое, без иллюзий, понимание всякой сути и твердая купеческая крепь.
— Чего орешь, бандитка, — прекрасным голосом радиоактера спросил он, даже не взглянув на Сапроненко, и уверенные отголоски его слов упруго разлетались по кабинетику. — Я уж такое подумал… та-а-а-ко-о-е… Вот… от трапезы оторвала. Мне тут один анчоусов принес. Знаешь ты, что за зверь анчоус?
— Кончай трепаться, — засмеялась Елена Максимилиановна. — Вот тут нам художник работы принес.
— И все?.. — выкатал на все глаза в завалах морщинок Антон Николаевич. — Это, конечно, событие! Ну, спасибо, Лялька, ну, удружила… от анчоусов оторвала, сволочь ты, сволочь. Пока не ответишь, что за зверь…
— Ну, килька!
— Плебейкой жила, плебейкой помрешь, — заключил разбитной Антон. и милостиво кивнул: Ладно, валяйте, показывайте. Вот эти, что ль? — ткнул жирным, наверно в анчоусовом масле, пальцем. — Тэк-тэк-тэк…
Помолчав с минуту, он взглянул на Сапроненко с грустной, чуть пренебрежительной усмешкой.
— Пять лет, — развел руками.
— Что… — пять лет? — озабоченно спросила Елена Максимилиановна.
— А видишь ли, Лялечка, культура смесей отсутствует как таковая. — Антон смотрел только на нее и говорил лишь с нею. — Автор девствен, как старшая весталка. Через пять лет тут будет красивая рыжая клеенка, если вообще все не отвалится к чертям собачьим. Пять лет. Всё!
Сапроненко смотрел в пол.
— Вещицы, конечно, ни в какую. У-у-у… Зоологическое…. Уж такая мизантро-опия… Но это так, лирика. Профессионально — наивно, да и старо, старо. Сейчас так никто уже не пишет. Так что сие не товар, а раз не товар, то… — он повернулся к Сапроненко, — как вы сами изволите понимать, и не деньги. И потом, слушайте, юноша, ну кто мажет лица стронцианкой? Модерн какой-то, черт бы меня набрал. И знаете, по-моему… — Антон сделал большие глаза и несколько понизил голос, — вы только поймите меня правильно, мы тут сейчас все свои, это же, извините, м-мм… просто нескромно — приходить… с таким…
Сапроненко слушал его и с интересом смотрел в это сильное, опасное, развеселое сейчас лицо.
А губы Антона Николаевича мгновенно меняли очертания, растягивались, округлялись и кривились, как у гуттаперчевой куклы чревовещателя. И вдруг губы на миг замерли, пожевали, от Сапроненко не ускользнул острый быстрый взгляд, брошенный Антоном печально, поддакивающе кивавшей «Лялечке», и как та ответила ему безмолвно, тоже одними глазами: «Ну, разумеется!»
Что-то тут крылось, но Антон Николаевич вдруг улыбнулся чудесной отеческой улыбкой и посмотрел Сапроненко в лицо. И тот увидел печальные, усталые человеческие зрачки, с мыслью, умом, состраданием в карем окружье среди красных сосудиков по белкам.
— Раздраконил, да? — сочувственно спросил Антон Николаевич тихо, понимающе и как бы раскаиваясь. — Хм, дорогой мой… И все же, если отбросить эмоции, забыть, что три эти вещицы ваши… ваши, так сказать, дитяти, то вы поймете, что я, несмотря на своё хамство, грубость и любовь к анчоусам, не сказал вам ничего, кроме правды.
Сапроненко смешался. Другой человек вдруг оказался перед ним, он изменился, этот человек, и был не так чтоб очень счастлив, он смотрел на все уже немного со стороны, с сожалением о том, что известно ему одному, да вот рассказать некому: не дожили еще, не поймут.
Что ж, наверно, Антон Николаевич действительно говорил правду. Жалкие работки, и чего припёрся, вон куда сам себя загнал, дурак, на позор привел. И дернуло же, дьявол!
— Ученичество — в дурном и непочетном смысле слова. И оно прет с каждого квадратного сантиметра, — снова пожевал губами и продолжил внезапно замутившийся мудрой грустью Антон Николаевич. — И его разглядит каждый, кто хоть чуточку понимает, просто имеет глаз. Да… И все же… — он потер подбородок, — чем черт не шутит? Я бы сделал так: давайте, оставляйте работы, покажем их на расценочной комиссии, а не хотите — воля ваша.
— Что-то не соображу, — заморгал Сапроненко, у которого точно голова кругом поехала, — раз ученичество и вы не берете…
— Нет-нет, — сказала Елена Максимилиановна, — этого мы вам не говорили, зачем вы так? Вы же не телевизор сдаете — «работает — не работает». Здесь дело другое, произведения…
Было жарко. Голову обволакивало, в глазах плыло и мигало.
— Так что — вы берете? — Сапроненко показалось, что девушка на портрете съежилась и постарела.
Он уж не чаял вырваться из этого душного тумана и, наконец, выйдя на улицу, обалдело уставившись в зеленую точку светофора, вдруг с тоской подумал о том, что вот только что, как под гипнозом, своими руками отдал три любимые свои работы — без каких-то обязывающих бумажек — под честное слово «Лялечки», в которое не было особенно большой веры.
Его тянуло назад, вернуться и забрать, но… сделать так почему-то не смог.
Уже вечерело, машины ползли с включенными подфарниками и отражения огоньков извивающимися змейками отсвечивали в лужах мокрой мостовой.
Он постоял, вздохнул и полез в карман за сигаретой.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
И вот сегодня ему велели позвонить.
На этот раз трубку сняли тут же — Елена Максимилиановна опять заканчивала с кем-то разговор о том, что кому-то теперь будет о-очень, о-очень трудно.
— Да-а!
В ее голосе слышалась веселая деловая жесткость — коротко, приказным тоном, без лишних слов она велела приехать.
И он помчал домой за веревками, а после — в их художественный комиссионный, забрать — и всё, всё, кончено, наторговались!
В комиссионном магазине, видно, жизнь текла не скучно: за прошедшие дни многое переменилось — шкатулочки на витринах были другие, даже орел деревянный сидел на старинном прилавке, раскинув крылья, другой, похудей и пообщипанней, — только матрешечный ряд так же тупо улыбился цветистыми лаковыми бочонками.
И в коридоре тоже в длинной череде подрамников вдоль стен и на стеллажах не изменилось ничего. Здесь не было и, наверно, никто не ждал никакого движения.
— Здравствуйте! — пророкотала «Лялечка». Тут она сощурилась и принялась рассматривать Сапроненко с тонкой полуулыбкой:
— Вот что, голубчик. Возьмите стул и сядьте. Поближе, поближе. Вы сами отлично понимаете, что…
— Понимаю, — тряхнул он головой.
— Вряд ли. Ваши вещи куплены. Представьте себе. Так что поздравляю.
Сапроненко показалось, что все это творится не с ним.
— Конечно, вы сами можете догадаться, чего это нам стоило с Антоном Николаевичем. Но… у нас ведь строго… закона не обойдешь, и мы решили… — Речь ее сделалась отвлеченной, в ней вдруг замелькали какие-то неведомые «они», доверительные «мы», снова далекие и недружелюбные «они», сложности, уговоры кого-то в чем-то, кто не хотел, а «мы» уломали, потому что самое дорогое — это талант, поддержка и стремление помочь, несмотря на «самотек» — она несколько раз, все время по-иному, повторила это не совсем понятное, особенное слово «самотек» и в конце концов, когда Сапроненко совершенно перестал понимать смысл, сказала:
— Позвоните вот по этому телефону! — И продиктовала ему семь цифр, имя и отчество.
— Так вы их… из-под прилавка, что ли, пустили?
— Ну вы чудак, ей-богу! Александр Петрович… так, кажется? Что значит «пустили»? И вообще, слушайте, мы с Антоном сделали для вас такое… странный вы, честное слово! Или наивный? — Она улыбнулась. — Хотя настоящий художник и должен быть вот таким. Весь в мире фантазий и замыслов…. чуть не от мира сего… И это очень, очень хорошо. Вы принесли вещи, чтобы мы помогли вам их продать — так?
— Ну, так, — кивнул он хмуро.
— Когда вы шли, вы знали, что мы можем и не принять ваши вещи, верно? Что, между нами говоря, мы просто… не имеем права. Согласны? И все же мы помогли, пошли вам навстречу — дело сделано, вы имеете то, что хотели, — не так ли? И, повторяю, это было не так-то просто…
— Так я… должен вам? — сказал он грубо, и губы его дернулись в усмешке.
— Ай-яй-яй! Саша, Саша… Зачем же так плохо думать о людях? Разумеется, вы ничего вам не должны. Неужели человек просто так не может войти в положение другого человека? Езжайте спокойно, вещи у настоящего ценителя, обожает молодых, чудесный дядька, настоящий собиратель… Дон-Кихот, знаете… из последних. Или вы… о цене?
Сапроненко посмотрел ей в глаза. Была, была в них едва приметная затаенная тревога. Или это только казалось?
— На расценку мы вас поставить не смогли. Правила, запреты…Но даже если бы, что вообще почти невероятно, теперь с этим все строже, если все-таки вообразить — ну сколько магазин выплатил бы вам? Нет ни имени, ничего, — простите, но это так! — м-мм… рублей сто, может быть, сто двадцать, минус комиссионные, ну вот и считайте. А вы получите… может быть, вдвое больше. А не устроит это вас — заберете работы, и всё. А коли еще захотите продать — приезжайте прямо ко мне, без моей рекомендации с вами никто не станет даже разговаривать. Ну вот. Звоните. — Она пододвинула к нему старый черный телефонный аппарат. — Звоните, звоните. Его зовут Сергей Семёнович…
Но у Сергея Семеновича было занято.
— Звоните!
— Да ладно. — Сапроненко поднялся. — Спасибо, как говорится.
— У вас есть еще что-нибудь?
Он пожал плечами и, попрощавшись, ушел.
Дозвонился лишь через час из автомата.
Сергей Семенович голос имел тихий, вкрадчивый, сипловатый.
— Вы… насчет резины? — спросил он осторожно и подышал в телефон.
— Я насчет… картины, — сказал Сапроненко.
— Рамы никуда не годные, — быстро вдруг эаговорила трубка, — надо, дорогой мой, совесть иметь! Этак что же — сейчас же к реставратору тащить?! Он меня, знаете ли, как липку, как липку… Одна позолота…
— Чего-о? — опешил Сапроненко. — Какая еще позолота?
— Это… Николай? — напрягся голос в мембране.
— Никифор, — буркнул Сапроненко. — Вы картины купили у Елены Максимилиановны, а я…
— А-а… — там облегченно выдохнули. — Простите, дорогой! Я перепутал вас тут с одним. Нет-нет. Я ничего не покупал. Так… посмотрел. Три штучки. Знаете… это не телефонный разговор. Можете ко мне приехать? Я в центре. Вы… один придете?
Сапроненко показалось, что он ослышался.
— Один, — сказал он. — А что такое?
— Ничего. Только приходите один.
— А не зарежете?
Трубочка засмеялась тоненько.
— Вы такой несмелый, хе-хе-хе…
— Какой есть.
— Так вот, я в Столешниковом. Там есть такая арочка — напротив ювелирного, знаете? Увидите три телефонные будочки, войдете, если лицом к ювелирному — в левую с краю. Наберете этот же номер ровно в три пятнадцать по часам, которые висят напротив — вы запоминаете?
— Серьезный вы гражданин, — заметил Сапроненко. — А вы из какого окошка следить будете?
— Из седьмого, — быстро ответил Сергей Семенович, и Сапроненко понял, что система его отработана и ответ этот привычен. — Из седьмого с краю, — добавил Сергей Семенович и засмеялся.
— А пароль? — хмыкнул Сапроненко, которому это все начинало казаться даже забавным.
— Вот этого не надо, — все еще со смешочком ответили в Столешниковом.
И Сапроненко сделал все, как велели, и позвонил, откуда обещал.
Он говорил в трубку в чувствовал взгляд, но откуда он исходил, понять было невозможно, да и нечего было пытаться. Его, очевидно, тщательно рассмотрели, уточнили по наведенным справкам, и только после этого назвали дом и квартиру.
В обшитую дерматином дверь с бронзовой табличкой «Профессоръ медицины Игнатий Павловичъ Мещеряковъ-Стенгаут» осторожные жильцы врезали «глазок», и когда после звонка в его круглом оконце пресекся свет, Сапроненко еще раз убедился, что человек за дверью опытный и что гостя сейчас разглядывают для верности.
Но вот зазвенели цепочки, железом лязгнула щеколда.
Узкогрудый человек в очках, длинноносый рохля в дешевенькой клетчатой рубашке, стоял на пороге.
— А я уж заждался, знаете ли хе-хе-хе…
Сапроненко шагнул в прихожую — горячую, душную, пропахшую то ли табаком, то ли омертвевшими духами, и тотчас за спиной Сергея Семеновича раздался сильный костяной стук когтей по паркету, громкое частое дыхание — Сапроненко ощутил холод в спине, невольно убрал руки, еще не видя, но уже почувствовав страх и мучительную свою неловкость перед этой невидимой собакой, и она выбежала — пепельно-седоватая, в черном оплечье, худая, огромная овчарка с нитями злобной слюны в углах красной пасти.
Сапроненко попятился, и хозяин — видно было по глазам — упрятал под ресницами злорадное удовольствие.
— Джерри — на место!
Эта седая, напружиненная зверюга знала свое место — она легко метнулась к Сапроненко.
— Уберите… — давя дрожь в гортани, пробормотал он, но собака, скользнув мимо его ног и обдав жаром могучей утробы, широко и непреклонно разлеглась на пороге, закрыв выход.
— Ничего себе, — Сапроненко оглянулся на собаку.
— Друг человека, — сказал Сергей Семенович. — Раздевайтесь, проходите.
Он ушел, а Сапроненко, вешая куртку, снова взглянул мельком на друга человеческого — тот изнывал в желании впиться неиэвестному в глотку, и Сапроненко быстро отвел глаза.
А из комнаты слышался голос, вероятно, в телефон:
— Да… тут пришли ко мие, так что сейчас не могу, я вам перезвоню… хорошо, хорошо.
Здесь умели обставить себе житье. Красное дерево, и бронза, и вазы в рост человека, и чего только не имелось, и все как с печатью: «Всегда в цеие».
Висело овальное метровое зеркало в черно-чугунных завитках оправы, лежал в углу массивный черный крест. На кресте почему-то сидел Иисус Христос и держал в тонкой чугунной руке остренькие длинные гвозди.
Сергей Семенович положил трубку и направился к Сапроненко, но телефон затрещал снова.
— Слушаю, — негромко, опасливо-выжидательно сказал хозяин и, узнав того, кто звонил, сразу разгорячился: — Достал? А он за сколько отдал? Ну-у?! Ай, молодца! Премию тебе, премию!
«Ай да живописуха!» — думал меж тем Сапроненко, разглядывая, стиснув подбородок, картину над инкрустированным карельской березой роялем. На беспомощно закрашенном фоне виднелись глупые белые флоксы со всеми пестиками и тычинками — доморощенная рукодельная мутота. Картина была старая, видимо, еще времен профессора Мещерякова-Стенгаута, как и рояль, наверно, и бронза, а может, и из скупки было тут все — тащили, пыхтели, орали на грузчиков, а от почтенного профессора медицины — одна табличка на двери.
Можно было сомневаться и гадать, прикидывая, как и в какие времена сбежалось сюда это стадо вещей, из чьих они квартир и где ныне прежние их владельцы. Можно было рассуждать о ценности и обесценке того, другого, но картина с цветами — тут бы уж Сапроненко не дал себя обморочить — являлась несомненной, неподдельной дешевкой, и не из-за жухлости облезшего лака, она была истинной дешевкой с первого своего дня, обычной рыночной дрянью. И тем не менее висела здесь на стене, на самом видном месте, висела, нравилась, коли не резала глаз… почтенному собирателю, — ледяная, каменно застывшая и нелепая.
А то, может, и не в ней вовсе было дело, а в ее тонко обвитой плющом и прочим виноградом золотой раме, вполне подошедшей бы влажному, сочащемуся всеми соками жизнн Рубенсу?
А телефонные звонки все не кончались, и аппарат трещал, как огромный сверчок, и странные слова доносились до Сапроненко, странные разговоры о кузовах «Волг», о гениальных кузовщиках, о часах с бронзовыми конями, о сапожках итальянских тридцать шестого размера…
В овале зеркала Сапроненко видел Сергея Семеновича в другой комнате — как тот вертел головой с белой телефонной трубкой около уха, как выслушивал, кивал, глядя в пол, и смеялся, давал чьи-то телефоны, делал пометки на листе бумаги.
Наконец разговоры кончились. Сергей Семенович подошел, неуверенно потирая руки, часто обеспокоенно моргая.
— Так вы от Ляли?
— Вы мои работы купили?
— Я… то есть нет, не совсем так. Купил не я. Это… для одного знакомого, который, собственно…
«Боится, — понял Сапроненко. — Чего?»
— М-мм… Так вам, стало быть, деньги?
Сапроненко пожал плечами.
— А денег у меня нет, нету. Были у меня картины, правильно, были. Только я — что? Это… для Михаила Борисовича.
И тут началось непонятное. Сергей Семенович соединился с кем-то, помолчал, так и не сказав ни слова, и опять набрал номер.
— Михаил Борисович, — заискивающе-подобострастно начал он. — Пришел. Ну да, художник. Так все остается в силе? Что? Он согласен? Согласен, согласен! — И, обернувшись к Сапроненко, мельком, как бы не нуждаясь в ответе, спросил: — Вы согласны?
— Чего?
— Он согласен! — решительно заключил хозяин.
Сапроненко смотрел, не понимая.
— У вас память хорошая? Запоминайте адрес, — улыбнулся Сергей Семенович.
Сапроненко почувствовал, как на него наваливается усталость. Опять надо было куда-то тащиться, ждать…
Но он повторил несколько раз про себя новый адрес в районе Арбата, вышел эа Сергеем Семеновичем в прихожую, оделся.
Джерри стояла у дверей, и в ее диких глазах полыхала горячая досада: «Неужели выпускать этого?»
Но она пропустила его к двери, подрагивая сильным хвостом и негромко рокоча горлом, вздыбливая и опуская шерсть загривка, и, когда дверь захлопнулась, Сапроненко вздохнул с облегчением: «Хоть псина не сожрала — и то хорошо».
До Михаила Борисовича он добрался за полчаса, поискал, побродив в проходных дворах, и наконец нашел нужный дом — весь в серых каменных завитках с битыми мордами то ли львов, то ли бородатых греков.
На лестнице в парадном пахло старой Москвой, кислой древней штукатуркой. Темно было, призрачно и гулко, и только в вышине, там, где сходились все выщербленные спирали лестницы, из полукруга окна с разбитыми цветными стеклами с завыванием пело-тянуло ветром.
Дом был красив, мрачен, со своей судьбой: здесь можно было порисовать, найти, поймать эту мелодию холодного пения ветра, ради этого одного все обретало смысл.
За дверью играла музыка. Сапроненко постоял, послушал — казалось, там звучал целый оркестр. Но вот в последний раз взметнулась ввысь звонкая мощь труб, рассыпался грохот барабанов, и наступила тишина.
Сапроненко нажал на кнопку.
Щелкнул замок.
Перед ним стоял невысокий старый человек.
— Проходите, — сухо сказал он и пошел в комнату.
Сапроненко подождал — не выбежит ли собачка вроде Джерри, но собака не выбежала, и он шагнул к вешалке.
В прихожей было пустовато. Висел календарь семилетней давности, но — чему он удивился больше всего — здесь совсем не пахло жильем: ни едой, ни мебельным деревом, ни духами, ни нафталином, ни лекарствами.
Он скинул куртку, потолкался в дверном проеме.
— Идите сюда! — так же негромко, твердо и властно сказал Михаил Борисович.
Сапроненко шмыгнул. носом — вышло неожиданно громко, он покраснел и вошел.
В большой комнате тоже было пустовато, стены стояли голо — ни одной картинки, ни одной фотографии не висело на серых обоях. Вплотную к стене прижался длинный письменный стол, и на нем, выставленные, как в магазине, красовались четыре больших серо-черных заграничных магнитофона, всюду — и на грубом шкафу, и на стульях — лежали коробки и магнитофонные кассеты с размотавшимися яркими разноцветными хвостиками. Магнитофоны беззвучно работали, гнали пленку, вращались кассеты, мигали светящиеся зеленые полоски индикаторов. В углах солидно шипели большие серые стереоколонки.
Михаил Борисович нацепил наушники и, подойдя к магнитофонам, принялся священнодействовать, подкручивай блестящие ручки. Щелкнул клавишей, остановил движение пленки и обернулся:
— А может быть, Арти Шо? — Он переставил пленки, нажал кнопку — и воздух вздрогнул, колыхнулся в сочном, густом, волшебно-чистом звуке большого джаза — дружно и сильно трубили в колонке справа, звенел и тарахтел ударник, а слева, срывая голубые ледяные капли с ветвей, наигрывал в ритм рояль.
— Мне б Нэт Кинг Колла… — раздалось застенчиво сзади.
Сапроненко оглянулся на голос и понял, что слова Михаила Борисовича о загадочных артишоках предназначались не ему: их, оказывается, было трое: не замеченный сразу, теперь от стены отделился невысокий мужичонка в кургузом темном пиджаке:
— И Рэя Конниффа… побольше… такое, знаете… чтоб подушевней…
— Сделаем, — строго сказал Михаил Борисович. — Все сделаем. Как договаривались — на девятнадцать… А на девятку, голубчик, пусть мальчики пишут. Да записать-то не хитрость. Давайте лучше решать, как с нашим делом. — Он остановил музыку.
— Не знаю, — засомневался мужичок. — Прям и не знаю.
— Думайте. Такую машину днем с огнем не найдете. Уйдет, точно! Завтра уже не будет.
— Да это уж… — сокрушенно покачал головой тот, видимо, так же, как и Сапроненко, подавленный этим неправдоподобным блестящим звуком. — А как… насчет гарантии?
— Гарантия — фирма, — внушительно сказал Михаил Борисович. — Раз музыку любите, так, скажу прямо, аппарат на всю жизнь. Отдаю только потому, что деньги нужны. Вы не возьмете — вот товарищ возьмет, — и он кивнул на обомлевшего Сапроненко. — С закрытыми глазами возьмет. Но отдаю вам. Вы первый пришли.
Мужичонка загрустил несказанно и заходил по комнате. А Михаил Борисович вдруг быстро плутовато подмигнул Сапроненко.
Мужичок, яростно скребя лобастую голову — стрижечка «полубокс», — хотел приостановиться, но ноги захороводили его на новый круг. Потом он сморщился, как перед прыжком с вышки, и быстро сказал:
— Значь-так: две двести.
— Родной мой! — Михаил Борисович недоуменно поднял седые брови. — Вдумайтесь, что вы говорите?! Вот человек — сейчас кладет два семь и уносит!
Мужичок злобно-затравленно глянул на Сапроненко и сделал еще кружок по комнате.
— Но я человек слова, — продолжил Михаил Борисович. — Два дня для вас держал. И потом вы лучше меня знаете, за сколько оторвут его у вас в вашем Омске.
— Да уж… — механически мотнул стриженой головой омский житель.
— Два семь — и по рукам, — подбодрил Михаил Борисович.
Человек закручинился еще пуще.
— Смотрите вы, — Михаил Борисович широким жестом пригласил к столу Сапроненко.
Тот хотел уже отрубить что-нибудь, но не успел и лишь тупо смотрел, как вытащен был из картонной коробки и установлен рядом с другими еще один, видно. только с завода, сверкающий черным лаком и хромированными английскими надписями большущий плоский магнитофон.
— Слушайте! — промычал Сапроненко.
— Три такта. Три такта, и вы больше ничего другого не захотите слушать. «Акаи»! Стеклоферрит! В целлофанчике… — Михаил Борисович ткнул пальцем по одной из ощеренных, как черные зубы, клавиш. Лента побежала, закрутились кассеты с алыми наклейками — возникла и заструилась музыка, заполнила комнату, потом оборвалась, забренчала совершенно живым, прозрачным звуком гитара, зазвякал, зачастил веселый бубен, и словно впрыгнул в комнату удалой заграничный эмигрантский молодец в косоворотке и закричал, забился в «Цыганочке», затопал сапогами, загикал, защелкал каблуками и вдруг, скинув, как тяжелую шубу, пляску, затянул густейшим басом, будто пел не грудью, а всем необъятным своим пьяным нутром:
Зачьем било встречьяттыца?
Зачьем било вльюбльятыца?
Эх… и не сытоило дженьитыца…
— А-а! — закричал омич с деньгой. — Гори она! Чай, русские! Беру! Зверь, зверь! Давай, Михал Борисыч, чего там в комплект к нему… Однова живем!
— Вот и молодец, Николай Егорович, — поощрительно улыбнулся Михаил Борисович. — Вот это по-нашему. Чего там за карман держаться! «Акаи» есть «Акаи».
Магнитофон со всем его имуществом упаковали, завязали, предварительно обернув коробку старыми газетами.
— Ух, зараза… — еле оторвал от пола покупку счастливый Николай Егоровнч — красный, потный, как пьяный. Не прощаясь, не взглянув на Сапроненко, он потащил магнитофон к выходу.
— А относительно записей не беспокойтесь, — говорил Михаил Борисович. — Все, о чем мы условились, сделаю к вашему следующему визиту. Качество студийное и по-божески.
Дверь в прихожую затворилась, наступила тишина, и Сапроненко почудился шелест бумажек.
— Считайте, — донеслось из-за двери, и опять сделалось неправдоподобно тихо.
— Все? — спросил омич. — Порядок?
— Порядок, — приглушенно ответил Михаил Борисович. — Обмойте обязательно.
— Да уж…
— Обмойте, обмойте!..
Хлопнула дверь.
Но вернулся хозяин не сразу, пошел, наверно, к заветной шкатулочке. Действительно, появился он из другой двери — все такой же холодно-невозмутимый.
— Итак — вы Сапроненко. Давайте поговорим.
Сомнительно, чтобы кто-нибудь догадался, что стоявший перед Сапроненко человек минут пять назад продал музыкальный говорящий ящичек ценою в пол-«Запорожца». Видимо, дело это представлялось хозяину обыденным. На все свой опыт.
— Хотите кофе? — Михаил Борисович поиграл короткими крепкими пальцами. — Я, например, только на кофе держусь. Кстати, прошу прощения, что втянул вас в это дельце — не обессудьте, так уж получилось. Видели фрукта? — Он кивнул в сторону прихожей. — Х-хам! Образовался, обтерся, Эллингтона знает! Чарли Паркера уважает! Они, видите ли, джаз обожают. Х-ха! И как вы думаете, кто сей смертный? Скромнейший директор овощной базы. Представляю… какой он их там картошечкой кормит. Ну да ладно, пущай оно слушает.
Он ушел варить кофе, и вскоре в квартире запахло ароматной горечью. Сапроненко. сидел на стуле посреди комнаты, прикусив губу. Крутились бесшумно кассеты — студия работала, наматывала рубли. Потом Михаил Борисович позвал на кухню, и они уселись за низенький столик.
— Может, коньяку? — предложил хозяин. — Нет? Дело хозяйское. Итак, зачем я вас к себе зазвал. Как настоящий покупатель, я, как дорогой наш друг Николай Егорович, должен был бы сбивать цену, морщить нос — так? То плохо, сё плохо. Но это все для маленьких детей. Скажите, зачем в конечном счете вы занимаетесь живописью?
Сапроненко взглянул на него исподлобья, отхлебывая вкусный кофе, и пожал плечами.
— Только давайте без всех этих метафизик: без «высоких задач», без «самовыражений», ах-ах! — «найти себя», «обратиться к миру», ах, Ван-Гог! Ах, Водкин! Голландцы, фламандцы… — Михаил Борисович говорил серьезно, без улыбки. — Все эти словеса — в досье искусствоведов, в конце концов людям тоже надо жить, простим им, верно? Ну, набросали словечек под ноги художникам, ну, споткнемся пару раз, но в сущности все эти ахи-охи, восторги не имеют никакого отношения к простому делу работы. Все проще. Приходит Пикассо — и работает. Я плевал он на… Н-да. Если заниматься делом по-настоящему — ему надо отдать всё! Всё время, все нервы… вообще — всё!
Сапроненко кивнул.
— Вы со мной согласны. Собственно, это я понял по вашим работам. У ваших картин есть… лицо. Ваше лицо. Н-да-с!..
Он усмехнулся, помешивая ложечкой в чашке, и поднял глаза.
— Давайте огрубим ситуацию. Если отдать всё, на что тогда жить, на какие шиши, чем питаться? Значит, надо как-то устраиваться, так, чтоб это же самое дело давало хлеб. Пропитание! И тогда я спрошу вас, как спрашиваю себя, — кому сегодня нужны картины? Кому нужна в наши дни картина как таковая? Время вытесняет живопись, и, чтобы заниматься ею, художник должен иметь денежки, все хотят кушать, художники тоже, а там — семья, дитё, жена, жене — чулки, оказывается, что отдать живописи все до последнего — невозможно, что быть единственным делом она не может, что она уже на втором плане, а на первом — хлеб насущный, надо искать работёнку, бегать по журналам, умолять дать сделать картинку, сегодня дали, завтра нет, вам уже за тридцать, вам к сорока, вы уже пишите втихомолку, на чердачке, стыдитесь этого, потому что за эти часы вам денег не платят, пишите урывками, полезла халтура… Вы еще кричите, что это временно, а вас уже взяли за горло, и про самовыражение вы забыли, до высоких материй руки не доходят, и никто тут не виноват — это жизнь!
Он говорил быстро, с жаром, видимо, думал об этом уже немало. Замолчал, пригубил коньячок, поставил рюмку и заговорил опять.
Сапроненко, не поднимая головы, вертел в руках, рассматривал ложечку с извитым серебряным черенком.
— Другими словами, — продолжил Михаил Борисович, — вы взялись за дело, обреченное с самого начала. Сегодня в ходу иные ценности и…
— Магнитофоны? — кивнул Сапроненко.
— А вы что думаете? Нет? Как бы не так! Я врублю вам музычку по двадцать ватт на канал — и вы получите за свои деньги свое удовольствие — притом сейчас же, сразу, вам не надо будет для этого ни учиться, ни думать. Сразу — всё! Вы — победитель, вы — имеете, вы — человек!
— Ха, — сказал Сапроненко. — Действительно. Как просто!
— Да-да! Вы взялись за бесполезное, никому уже не нужное дело. Отдаете вы себе в этом отчет? Вы, я вижу, человек неглупый — подумайте, что лучше? Что хуже? Вовремя бросить химеры, не делать ставок, отказаться и не проливать в никуда кровь и пот, или исхалтуриться и разменяться по двугривенным, так и не раскрыв это самое треклятое свое «я», или измотать в нищете, питаясь одними принципами, душу и последние потроха, чтоб опомниться на пятом десятке и решить просто пожить напоследок по-людски, когда уже — увы и ах! — ни сил, ни здоровья, ни времени, ни таланта?!
— Это мы всё знаем, — сказал Сапроненко. — Билетик сами покупали, не под наганом.
— Нет-нет, вы дослушайте меня, не перебивайте. Ваша позиция прекрасна, достойна уважения и так далее… Поверьте, Сапроненко, я отдаю дань и понимаю вас. Но дело-то ведь не шуточное! Тут вся жизнь! И заметьте — отродясь не было столько живописцев! Как с ума все посходили. Жуткое количество людей, умеющих правильно, грамотно рисовать. Рисуют! Малюют!
— Ну и пускай, — улыбнулся Сапроненко. — Там разберутся.
— Да что для вас-то в этом «там»!? Для вас его просто нет! И почему непременно апеллировать к вечности? Жизнь груба. Есть гроб и последняя горсть. И никаких «там». Надо жить, пока живешь.
— Не новая мысль, — снова улыбнулся Сапроненко, — мы это где-то читали.
— Родной мой, я не вещаю новых истин! Но вы еще молоды, и это «там» для вас нереально, как снег будущего года. А жизнь, как это ни грустно, все-таки одна, и нельзя прожить в первой красиво и гордо, питаясь черным хлебом с чесноком, а в другой — миногами под лимонным соусом. Или — или.
Сапроненко закурил и, пустив дым через ноздри, спросил:
— Чего это вы все меня стращаете? Вас послушать, так бросай все да камень на шею. Живут люди, работают, пишут, выставляются. Фонд заказы дает…
Михаил Борисович посмотрел на него иронически.
— Ну так чего вы пошли не в фонд, а к Ляльке? Пошли бы в фонд, взяли бы заказ — все так просто… Чего вы? Идите!
— Тут терпение иметь надо, — сказал Сапроненко. — Ждать. Не все сразу. Конечно, годы пройдут. Будто вы не понимаете. Ловкий вы человек!
— Какой там ловкий… старик, и больше ничего. Есть грех, карты люблю. Игрок. Впрочем, вам это все равно — люблю я карты, не люблю. Сколько вам лет, простите? Тридцать?
— Примерно.
— Тридцать. Так-так. А на каком вы курсе? Ах, на третьем! В училище? Совсем хорошо. Значит, до вуза — в лучшем случае — два года. Бывают чудеса — допустим, вы поступите. Я говорю «допустим», потому что любая приемная комиссия резонно посчитает, что вы м-м-м-м… чуточку опоздали… годочков на десять… Слушайте, правда, где вы были раньше?
— Знаете… — начал Сапроненко.
Он хотел сказать, что в вузы по закону можно поступать до тридцати пяти — на дневные отделения — и что… но вдруг похолодел и осекся, увидев себя кончающим институт в сорок лет, когда уже…
Да-да, люди, действительно, жили, работали и выставлялись, получали премии и заказы, существовали где-то в вышине творческого союза, имели мастерские.
Для него все это было как сон, как облака.
К нему все это не имело отношения. Он еще так многого не умел, надо было учиться, а, учась, он не мог вступить даже в молодежную секцию союза, надо было ждать, долго ждать, а вокруг него, где-то в стороне и мимо летела жизнь этих молодых ребят с обшарпанными этюдниками и рюкзаками с красками за спиной — они собирались на вокзалах и в аэропортах, разъезжались и разлетались во все края страны — писали в цехах, в полях, портреты, архитектуру, сибирские пейзажи, провода и нефтевышки, договаривались по твердым расценкам и расписывали яркими панно Дома культуры и кафе — осенью возвращались с багажами картин, набросков, с аккредитивами в карманах — он смотрел и скалился с насмешкой: «Давайте, давайте, бурные аплодисменты!»
Как же! Все они уже были пристроены в жизни, имели заветные синие корочки и притом все они были моложе его — намного, нет, не на десять лет, гораздо больше, но не годами — самим ходом судьбы.
Да, он поздно начал. Его разрывало, и, наверно, отсюда шла эта тяжелая злоба против них всех, против удачников-бородачей на выставках, расфуфыренных хорошеньких художниц, против всего, что они делали и выставляли. «Конечно… счастливцы!»
Он знал, что опоздал, но все еще хотел в жизни каких-то доказательств того, что все было недаром.
Он хотел, он жаждал их уже сейчас, его скрутило нетерпение, он и правда болыпе не мог ждать.
Выставки тут значили мало, потому что в конечном счете они ничего не меняли. Единственным доказательством… так он понимал уже, это если бы за его работу платили живыми деньгами. Тогда было б ясно, что жизнь все-таки не ушла, и он — непонятно как, но — успел.
Михаил Борисович понял его мысли и, кисло улыбнувшись, поднял руку:
— Прошу прощения, прошу прощения, вы пришли за деньгами, а я тут разговоры раэговариваю. Деньги будут. Мне хочется поговорить с вами, потому что многое в вас странно.
— Мне самому многое странно.
— Это очень понятно. — Михаил Борисович смолк, посмотрел через рюмочку, налил себе еще, пригубил и поставил. — Это понятно, ибо вы воюете с законами, диктуемыми временем. Имени нет. Образования нет. Связей нет. Наследство ждете? На что рассчитываете? На себя?
— Зачем вы мне все это?
— Это мое дело, — снова сдвинул тот седые брови. — Я видел ваши работы на двух молодежных выставках. Сейчас говорю с вами. Я ведь немножко разбираюсь в людях. Гляжу на вас, опять же холстики ваши… Хороший вы парень, честный. Но… вы никогда не сможете работать на заказ — вот в чем ваша беда. А между тем вам вбили в голову мысли о вечности, и тут-то вы и пропали. Никогда нельзя работать ва вечность!
— Никто мне ничего не вбивал.
— Значит, сами вбили? Еще хуже. Итак, давайте рассуждать. Никому не известный, в возрасте Иисуса Христа, вы заканчиваете училище. Вы — один из легиона, серое пятно…
— Ну? — Сапроненко налил и себе рюмочку.
— Выражаюсь фигурально. Так… — Михаил Борисович сощурился. — Вы хотите славы…
— Не хочу.
— Хотите. Успеха хочет каждый. На самом донышко — а? Лежит? Чтоб работать для фонда, надо быть членом союза, чтоб вступить в союз — надо работать так, чтоб приняли. А вам никто пе указ, вы лучше всех знаете, что и когда вам делать, вы торопитесь и не собираетесь ждать своего дня, а вам нужно еще искать, копать, вы ведь не из тех, кто однажды решает: «Все, и так сгодится» — и кончает расти. Нет, вы другой. Работать по принципу «как надо» вы не желаете и вряд ли захотите. Вы любопытно устроены — чтоб вам писалось-рисовалось, вам надобно мучиться, только в мучениях способны вы сделать что-нибудь путное! А живот требует хлеба — и этого барьера вам не перескочить. Я вижу, как вы берете рюмку, и я говорю себе: «Он пьет». Так же мне видно и остальное.
— Это как же я так… особенно… рюмку беру?
— Да уж так и берете. И теперь я позволю себе задать вам вопрос: так во имя чего все эти пытки и муки? Ради того, чтобы три картинки повисели-повисели на выставке, чтоб кто-то на них посмотрел, кто-то что-то сказал… И все? Помилуйте, но это же абсурд!
— Да вам-то что?
— Что мне? Вы учитесь, рисуете эти злосчастные гипсовые носы, имеете какие-то надежды…
— Советуете бросить?
— Ничего я вам не советую. Я просто хочу представить, что будет с вами лет через десять.
— А вам-то что? — снова спросил Сапроненко.
— Ну так слушайте. Вы учитесь, штудии, просмотры, отметки… Сапроненко! Вы — художник! Уже сегодня. Готовый. Вам не нужны институты — вам нужно только писать и писать — ибо вы человек необычайного таланта! И это говорю вам я, потому что я ничем не связан и один могу сказать все прямо, как есть. Ваша живопись не просто интересна — это мир…
— Ну уж прямо так…
— Вообразите! Но это еще не все. Есть мир, есть чувство, взгляд, но нет настоящего мастерства, и вы это, конечно же, знаете не хуже меня.
Сапроненко усмехнулся.
— Разумеется, знаете, — кивнул Михаил Борисович. — И вот тут мы подходим к ответу на ваш вопрос. Зачем все это мне. Отвечаю — мне было бы жаль, вот просто жаль, если бы ваш талант пропал зря. Чтобы наверстать те десять лет, надо вкалывать днем и ночью, без заботы о еде, о заработках, без мысли зашибить копейку, трудиться тихо и скромно, в одиночестве, иметь время и право просто думать. А устроено на свете так, что занятие этим проклятым искусством… знаете, словечко есть — «творчество»? Так вот, занятие творчеством — это роскошь, которая вам, Сапроненко, не по карману.
— А что, если… — задумчиво начал Сапроненко.
— Сочетать одно с другим здесь нельзя, — быстро сказал Михаил Борисович. — Во всяком случае, для вас это невозможно. И уже само по себе то, что вы у меня, подтверждает мои слова.
— Значит, «слаб человек»? — в упор посмотрел ему в глаза Сапроненко,
— Слаб, — тотчас согласился старик, поджав в едва приметной улыбке губы. Он казался сейчас намного старше, чем час назад. — Слаб. Так вот, я не хочу — понимаете? — не хочу, чтобы вы проклинали себя потом ни за слабость, ни за силу.
— Такой вы, выходит, добрый человек?
— Во-первых, с чего это вы взяли, что я добрый? Это не так. И к вам у меня никаких лирических чувств нет.
— Что нужно вам?
В комнате за дверью кухоньки хлестко щелкнуло металлом.
— Автостоп сработал, — встал Михаил Борисович. — Пойду кассеты поменяю. Извините. — Он вышел.
Сапроненко налил себе еще рюмку и выпил.
Неожиданно и любопытно закручивалось в его жизни.
Что, правда, всем людям — там, на улице, в метро, у галстучного магазина — до его натюрмортов, девушек, мальчиков в окнах? Что выставки, если после этого разговора он махнет прямо на Пушкинскую — картона грунтованного штук сорок, кистей новых, мягких, красок и себе и Володъке…
За дверью взыграла, взревела музыка:
Дорогой дальнею, да ночью лунною… Да песней той, что вдаль летит, звеня… И с той старинною, с той семиструнною…И снова стихло, неслышно вошел Михаил Борисович.
— Надо жить, надо кушать, надо иметь на что взять у бедного живописца его полотна. Сколько вам предлагала Лялька? Сто?
— Около.
— Узнают коней ретивых… А Антон утверждал, что картинам жить от силы пять лет? Старый номер… И отправили к Сереже. Угу, угу. Ну так вот. Слушайте меня внимательно. Ни в комиссионке, ни в Столешниковом вы не были, никого там не знаете и к этой шушере больше не пойдете. Что вам вся эта гнусь? Ваше дело — картины писать. Но художников находят они, художники приходят к ним, что поделаешь, мне приходится бежать с ними в одной упряжке. Так что если вы примете кое предложение — условие такое: вы имеете все дела только со мной. Если меня кто-то интересует, ну вот, скажем, как вы, я предпочитаю личный контакт. Что мне Ляля, что этот Антон, разложившийся тип, пропойца с двумя дипломами? Но им без меня никуда, и они отдают мне художников. За то и плачу.
— Веселый же вы все народ… — выдохнул Сапроненко. — Не скучаете. Ну а если вы не берете мои вещи, тогда что?
— Во-первых, я и та компания, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Во-вторых, если не беру я, не получает никто, вся цепочка к черту, никто рук не греет, а вы везете картинки назад домой, чтобы поставить за любимый шкаф. Уяснили? Ну вот и отлично. Сколько вы хотите за эти работы? Двести — не так ли? На эту сумму вы рассчитывали, когда шли ко мне?
— Да.
— Так! Вот вам мое предложение. Вы будете писать, работать и приносить мне свои работы. Только те и только то, что будет особенно нравиться вам самому. Слышите? Других — не надо. Те, кто считает, что кому-то что-то со стороны видней, ошибаются. Лучше всех все видят честные художники вроде вас. Халтурить со мной не выйдет, да вы и не из тех. И потом вот что. Чем больше напряжения и тревоги будет в ваших холстах, тем это будет ближе вам, вашей сущности. Поверьте моему чутью. Я ни на чем не смею и не собираюсь настаивать — пишите, что хотите, но согласитесь, Сапроненко, наша эпоха куда сложней четырех действий арифметики. Вам удается ухватить ее сверхвысокие напряжения… уж как это вы умеете — ни знаю. И не стоит в этом копаться. Главное в том, что мера вашего таланта сегодня определяется тем, как вы находите на холсте образ этой чертовой тригонометрии жизни. Причем вы товарищ без адреса. Вы не высасываете себя из других. Таких, как вы, еще не было.
Сапроненко закурил. Казалось, внутри звенит и дрожит колокольцами каждая жилка.
А Михаил Борисович продолжил:
— Так вот, я хочу и для меня всего важней, чтобы вы сохранили эту чувствительность к внешнему дыханию мира. Пусть это будет… яблоко, пусть — бутылка кефира… я не знаю… — Михаил Борисович пощелкал пальцами, — пусть это будет кирпичная стена. Но живущая своей жизнью… и — без ярлыков, Сапроненко, понимаете? Без сказок в картинках — «вот шофер Иван Иванов, он перевыполняет план, человек читающий — книжка на сиденье; любит природу — ромашка в радиаторе…»
— И что тогда? — тихо спросил Сапроненко.
— Может быть, я чего-то недопонимаю или вы с чем-то не согласны?
— Отчего ж. — Сапроненко пригасил и закурил новую сигарету. — Есть над чем подумать. Вас послушать — я гений какой. Но неужели вы настолько любите…
— Я уже давно никого и ничего не люблю. — Михаил Борисович странно улыбнулся — то ли торжественно, то ли скорбно. — Бог есть любовь, говорят. Ну так вот, я — атеист.
Оба молчали. Наконец Михаил Борисович сказал решительно, как бы подводя итог:
— Вы шли, чтоб получить двести. Я плачу вам четыреста. Сапроненко широко раскрыл глаза.
— Да-да! — воскликнул Михаил Борисович. — И дело не в том, что я вас возлюбил, как самого себя, и не в том, что я добрый старичок. Пусть мои соображения вас не касаются и не тревожат. Допустите, что я всего- навсего оригинал.
— Четыреста? — Сапроненко смотрел все так же, не понимая.
— Чему вы удивляетесь? Я знаю, за что плачу, и не собираюсь раздевать вас среди бела дня. Даю столько, сколько стоят сегодня ваши холсты.
— Да… — незнакомое чувство охватывало Сапроненко, похожее на радость, но он знал: это не радость и не благодарность — другое.
Михаил Борисович пристально следил за ним.
— Прикажете отсчитать?
— Ох… — промычал Сапроненко.
— Согласны? Ну и хорошо. Теперь вот что: и в ваших, и в моих интересах, чтобы о наших делах…
— Да понятно! — махнул он рукой, хотя и не мог бы объяснить, почему должен молчать об этом разговоре.
— Одну минутку, — Михаил Борисович вышел и, вернувшись в кухню, быстро перетасовал и отсчитал засаленные десятки. Их розовело много, ужасно много.
— Может, хотите крупнее?
— А, ладно1 — Сапроненко покраснел, щеки зудели, будто натерли их толченым стеклом, схватил пачку и начал запихивать во внутренний карман пиджака, день не лезли, две десятки скользнули и улетели на пол.
Михаил Борисович смотрел па него печально.
— Да вы проверьте, проверьте… И не сорите деньгами…
— Чего считать… — Сапроненко поднял десятки с пола. На одной из них, истертой и порыжевший от тысяч касаний кошельков, пальцев, карманов, синела густая, расплывшаяся чернильная цифра «сто». Где-то жили люди — не тужили, этой красненькой подбили тысчонку.
— Не деловой вы человек, — заметил Михаил Борисович. — Ну да что с вас взять. Ничего, научитесь. Научитесь, если будете умным человеком. Итак. Время от времена я буду вас находить, и вы будете приносить то, что будет готово. Как часто сие будет случаться — не знаю. Может, раз в месяц-другой, возможно, и гораздо реже. Так или иначе, за каждую работу — вне зависимости от размера и сюжета — я буду платить вам от ста пятидесяти до двухсот рублей. Если сочтете, что какая-нибудь работа стоит больше, можете не приносить и делайте с ней что Бог на душу положит.
— Ничего не понимаю. Подождите… А если то, что я принесу, вам не понравится?
— Вы заставляете меня повторяться. Мне нужно то, что будет очень… понимаете, очень нравиться вам самому. Или я неясно выразился? Других условий у меня нет. У вас есть ко мне вопросы?
Сапроненко молчал.
— Если вы на мои условия не согласны, мы можем сейчас же расторгнуть договор и будем считать, что я ничего вам не предлагал. Вы получаете назад свои три работы, возвращаете деньги, и вы меня не знаете, я вас не знаю. Второй раз ко мне не приходят.
Сапроненко смотрел в окно.
— Согласны, нет? — нетерпеливо, грубовато спросил Михаил Борисович.
Ах, слаб, слаб человек! Что тут было думать?!
Но Михаил Борисович встал и пошел проверять, как там крутится денежно-музыкальная мельница, не застревает ли что. Из-за двери туго ударило звоном и стуком:
За вор-рот-та приходиль,
Парень дьевку польюбиль…
Вернулся он с большой, сплошь пластмассовой кассетой в руке — синяя цветная полоска развевалась и трепетала.
— Я… пойду, — сказал Сапроненко и поднялся.
— Бог помощь, — сухо ответил Михаил Борисович.
Дверь за спиной Сапроненко захлопнулась.
И снова обдало запахом старой сырости, жареным луком, сывороточным духом облезлой штукатурки. Он начал спускаться по каменной ступенчатой спирали и вдруг, взглянув вверх и увидев то разбитое высокое полукруглое окно, понял, что рисовать его не будет… что это сделалось не нужно. И не потому, что он боялся этого дома, и не потому, что картину с этим холодным ветром меж лестничных пространств можно было бы продать дороже, чем за две сотни. Почему-то это стало неинтересно, будто оторвалась и отпала внутри некая хрупкая, горячая деталька души.
На почте к окошечку номер пять тянулась длинная очередь, и, только простояв с полчаса, он, как в полусне, испортив подряд три бланка, отправил Гальке, не приписав ни слова, телеграфом сто рублей.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Сапроненко шагал враскачку по Арбату, сунув руки в карманы старой нейлоновой куртки. У одной витрины он задержался, постоял, строго глядя на щуплых, обернутых прозрачными шелками красавиц; расставив свечечки ног, разведя ручки, они изумленно смотрели через дорогу поверх машин, катящих к Смоленской, на зоомагазин, у которого бродили барыги, спецы по дафнии и мотылю.
За стеклом витрины сидела продавщица и быстро перебрасывала пудреницы, коробочки с духами, ценники. Она заметила его, ее накрашенные губы быстро задвигались, и серым льдом обтянуло сузившиеся глаза. Сапроненко не услышал за толстым стеклом, но понял: «Мотай, давай! Проходи! Чего не видел?!»
Он опустил ресницы, вытащил из кармана обтрепанную пачку «Примы», закурил, обжигая ладони, и пошел дальше. Ноги несли куда-то, внутри все как бы остановилось.
Мимо проплыли рекламные щиты кинотеатра «Наука в знание».
Он вернулся и прочитал всё, что было написано на них, даже время сеансов.
Пойти, что ли, приобщиться за гривенник?
Может, тут и есть спасение на час от этого недоуменного оцепенения в занятой своими делами арбатской толпе?
По экрану ползли и плыли галоши, галоши… черные, блестящие, тупорылые галоши модели какого-нибудь двадцать седьмого года, и, как ни кинь, в них был, во всяком случае, ясный и понятный толк, простая польза, очевидная сегодняшняя необходимость хоть кому-то.
«Впрочем, о чем это я? — вернул он себя в реальность темного кинозала. — Мысли эти уже оттуда, из прошлого, с ними — всё. Сегодня жизнь дала поворот, отныне — всё иначе».
Но как только подумалось так, оцепенение еще сильнее сжало его, затянуло в свои тугие ремни, и он отвернулся от экрана, пробежал глазами по красным огонькам запасных выходов, метнул взгляд назад, к окошечку механиков, из которого вместе с голубым дымно-пыльным лучом и стрекотом проектора вылетала явственная матерщина.
Привыкнув. к темноте, приглядевшись, он понял, что зал почти пуст — несколько пенсионерок да он сидели тут. Сапроненко развалился в кресле, с удивлением разглядывая себя в этом зале, разглядывая отстраненно и с насмешкой.
Потом вдруг увидел жука.
…Жук полз к свету, карабкался в узкой световой полоске, его тянуло к огню, и, сколько ни обманывали его умные кандидаты биологических наук в накрахмаленных белых халатах, сколько ни сбивали с панталыку, включая лампочку то сзади, то сбоку, жук лишь на мгновенье замирал, крутился на месте, выпрастывая и пряча волосатые лапки, и снова шустро бежал на свет.
«Сила! — впился глазами в экран Сапроненко. — Ай да молодчина, таракашка!»
Был жук. И этот жук знал, куда ему надо. И только чья-нибудь кожимитовая подошва или… галоша могли б остановить его, растерев на земле. В голову внезапно пришло сравнение: «Я вроде этого жука. Бегу и бегу на свой огонек».
Но от этого нежданно явившегося сравнения несло такой липой, такой дешевкой, что Сапроненко только замотал головой и, не удержавшись, громко засмеялся над собой.
Старушки словно того и ждали, тотчас возмущенно зашикали из своих рядов. Откуда-то прилетело и упало на Сапроненко слово «пьяный».
Он оборвал смех и все ещё с улыбкой уставился на экран, по которому прохаживался, очевидно, тоже очень умный ворон и стукал клювом то в квадраты, то в круги. За каждую отгадку он получал кусок мяса и, заглатывая, приплясывал, хлопая крыльями.
Нет, жук был другой… он рвался к свету просто так, без подачек и премиальных.
Сапроненко надвинул шапку на глаза и стал пробираться к выходу. Из грязного, забитого пустыми ящиками двора снова вышел на Арбат.
День кончался. Мокрое белесое небо, с утра сыпавшее на город то снег, то капли нечастого дождя, не посинело по-вечернему, а побурело, стало тяжелым и плотным, бронзовым.
Темные громады домов запестрели квадратами окон. Фонари еще не зажглись, и Сапроненко шагал сквозь ветер уже не в той толпе, что днем. Почти все вдруг оказались одетыми в черное, погасли цвета, но на лицах он видел одно выражение — скорей бы проскочить обжигающий щеки ветер.
Наморщив точеные носики, зажимая уши под разлетевшимися длинными волосами, мимо него пробежали две девчушки лет по шестнадцать, модные, дурочки, хорошенькие… привычно обсмотрели его, прыснули, и он успел, расходясь с ними в вечерней толпе, расслышать слово «мумия!..».
Он дошел до знаменитого старого ресторана, постоял под «модерновым козырьком», неизвестпо для чего приделанным к камню иных времен, иной огранки, потом взялся за резную дубовую спираль на двери.
В маленькой прихожей сидел седовласый «адмирал»-швейцар и, вытаращив глаза, смотрел на приостановившегося Сапроненко так, будто отродясь ничего подобного не видел. Желтые канты на черной тужурке и фуражке мерцали веселым трауром.
Сапроненко шагнул вперед, в теплый ветер, отделявший этот мраморно-зеркальный уют от ветра улицы, и швейцар сразу беззвучно поднялся из своего кресла и, выпятив осанистую грудь, пошел на него.
— Ошибся, ошибся, дорогой, — негромко басистой скороговоркой заурчал он, шевеля белыми бровями. — Вот, пожалста — кафе рядом, закусочная…
— Ресторан — здесь? — спросил Сапроненко.
— Рестора-ан?! — выпучил глаза старик. — Сказано: мест нет! — прикрикнул весело и, обернувшись, ткнув через плечо на Сапроненко большим пальцем, хохотнул гардеробщикам:
— В ресторан собрался!
Гардеробщики в такой же форме, как и швейцар, развеселились.
— Почему? — хмуро сказал Сапроненко, чувствуя, что не говорить тут иадо, а… сунуть сколько-нибудь этому пухлому, в соку, в силе старику… Рублевку разве?..
— Иди, тебе говорят! Иди по-хорошему! — швейцар вытащил из кармана серебряный свисток.
— Да вы что? — Сапроненко стоял, озираясь.
И тут он увидел себя в зеркале: муха серая на торте, среди бело-розовых кремовых финтифлюшек.
В вестибюль высыпали итальянцы, за ними обвешанные фотоаппаратами американцы.
О Сапроненко вмиг забыли, он скинул куртку и шапку, остался в своем потертом пиджачке, из-под которого виднелись черная рубашка и шерстяная безрукавка Сафарова. Куртку надо было сдать, он сел в кресло и стал ждать, глядя, как вытанцовывали гардеробщики, как отрабатывали свое право на эту вкусную жизнь, как носились с номерками, бежали, виляя задами, подавали пальто, ловили монеты, почтительно-благодарственно кивали и снова рысили, похабно выгнув спины.
Наконец, когда все оделись и пошли к выходу, Сапроненко подал гардеробщику свое барахло.
— А-адну минутч-чку! — гардеробщик, ухмыляясь, ринулся к нему, схватил куртку, шапку, улетел, примчался, выбежал в вестибюль и, кривляясь, хотел пройтись по плечам Сапроненко платяной щеткой.
— Что, скучно, отец? — негромко спросил Сапроненко и пошел наверх по красному ковру лестницы.
За три года в Москве он первый раз пришел в ресторан, в большой роскошный ресторан: сегодня был его праздник, и он мог это себе разрешить.
Ему плевать было, что думали о нем все эти, уплетавшие цыплят за столиками, но все равно нелегко оказалось пройти мимо белых скатертей, мимо красных сощуренных личностей, пьяно-счастливых женских глаз, когда весь ты, Сашка Сапроненко, сутулый, черноволосый, смотрящий из-под сведенных бровей, шел, отражаясь сразу в сотне зеркал, под взглядами, как под огнем.
— Не занято? — спросил нараспев на свой южный лад, спортивно-небрежного блондинистого мужичка лет сорока, лениво пощипывающего кончик сложенной конусом салфетки.
Тот глянул сверху вниз и снизу вверх, и, не удостоив ответом, чуть шевельнул плечом, как бы говоря: «Мне-то что?»
Сапроненко отодвинул стул и сел.
Потом потянул к себе карточку меню, пробежал главами по строчкам, внутренне шарахаясь от того, сколько здесь все стоило: на один белужий бок они тянули с Володькой всю прошлую неделю — и усмехнулся: «Забыл!»
Забыл, что в кармане целых четыреста… то есть, нет, три… целые три сотни, первые его деньги. Первые деньги, заработанные… малеваньем! Хм, деньги… как-то не укладывалось, что это деньги, было одно ощущение тяжести и несвободы, словно и не его они были, а взятые в долг — первые монеты, заработанные не за баранкой на уборочной, не на «левой» ездке, а тем трудом, из-за которого он… ну нет, не как Гоген, конечно, но все же отбросил всё, что имел раньше, оставил жену и дочку в родном городе и жил теперь в Москве на сорок целковых «стипухи». Набегали, правда, и другие деньжата — были ЖЭКи с их красными уголками и стендами, поликлиники, которым срочно требовалось разукрасить к смотру санбюллетени, кинотеатры, вдруг оставшиеся временно без афиш по причине запоя штатных мазил, автобазы… И он мотался — всегда вечерами, потому что утром были занятия, — из конца в конец города, кропал стенгазетки, выстукивал по трафаретам объявления и «кодексы строителя коммунизма», чтоб хватило им на щи, сосиску с гречкой и компот у Зины в училищной столовке, чтоб можно было взять на Пушкинской стронцианки и парочку кадмиев желтых средних по рупь семьдесят за тюбик, ваять холст и грунтовку, раздавить «банку» с Сафаровым и чтоб хватило послать Гальке с Ленкой тридцатку — не деньги, понятно, и не каждый месяц, но все же.
Подошла равнодушная официантка, и он, сбиваясь и путаясь под внимательным взглядом блондина, заказал что-то неведомое, по-видимому, мясное, с мудреным названием, из чешской кухни: салат, рыбу-ассорти, дагестанского триста…
— Ну и… всего, что полагается… вы уж лучше меня знаете…
— Вам? — сказала официантка, повернувшись к блондину, держа блокнотик на веревочке.
И тот — четко, ясно и, как показалось Сапроненко, понимающе переглянувшись с официанткой на его счет, — заказал то-то и то-то… «И еще, будьте любезны, чесночный соус, а водочку, будьте добры, похолоднее, а кнедлик не пересушен? Чудесно!»
О! Он был знаток этих загадочных блюд, он был свой человек и мире, как в этом ресторане.
А Сапроненко пришел сюда, чтоб отпраздновать свой первый успех. И он скалился, глядя, как расставляли свои зеленоглазые ящики усилителей музыканты, как прилаживали с гудом провода к гитарам, как плавали по эстраде в длинных темно-красных пиджаках, с балаганной — на продажу — непринужденностью и свободой жестов, в мишуре галунов, бантов и в обтяжечку талий, а в голове его все бежали цифры: «Два семьдесят восемь… так, рыба, значит, четыре, нет, уже пять рублей в уме».
Он был смешон, противен сам себе, но три последних года, что он жил вдали от семьи, от всей прежней жизни, поднимались против его желания скинуть хоть на один день тяжесть безденежья.
— Радоваться так радоваться! — говорил себе Сапроненко и — не радовался.
«А ведь я — ничтожный! — думал он. — Не умею быть свободным. Хочу, могу и не умею! Четыре сотни. Не ахти какая сумма, когда-то в месяц больше выходило, не хватало, а теперь в голове от них кавардак полный, а на сердце — такая муть! Как ни вертись: „Знает кошка…“»
Но что, что сделал он плохого? Что натворил гадкого, скверного, чего, вообще говоря, стыдиться? Непонятно! Отчего ж посреди ребер этот тошнотный укор?
А тот, что сидел напротив, пуская по скатерти желтые лучики от граненого золотого перстня, красиво расставил перед собой фужеры, расположил тарелки в виде композиции из белых кругов, поправил пальчиком узел галстука — он готовился к еде с этаким чистым, искренним сердечным волнением. Да-да, он знал толк в радостях жизни и хотел взять их сполна — и сейчас это были какие-то… кнедлики… медлики? Ну да, кнедлики. Все правильно. Кнедлики.
Сапроненко закрыл глаза.
Когда-то и у него все было так же, и этот здоровый простодушный аппетит, и эта природная радость, что ты есть, крепкий и живой. Да-да, было, все было.
Потом… к добру или не к добру, но он понял однажды… И может, лучше б не было никогда той страшной ночной мысли, что жизнь… жизнь ускользает — в еде, калыме, в суете. Мысль эта не была одета никакими словами, она просто явилась и заслонила собой все. И ему сделалось тогда так жутко, будто дали посмотреть на собственную смерть.
Все тяготы последних лет шли от нее, от той мысли, и как же славно и просто было тянуть нехитрую лямку прошлой жизни без нее! Но он все же выбрал для себя эту долгую пытку и знал, что избавиться от неё значило перестать быть вообще.
Той ночью он узнал, что есть в нем сила.
Она еще никак не вырвалась, никак не показала себя под тем южным низкозвездным небом, но она ходила в груди, давила в виски, и он понял той ночью, что надо или отдать этой силе всё, или забыть о ней.
Он ушел. Сам. Никто не неволил.
И хватал теперь жадно то, о чем и думать не думал все прошлые годы, все спрашивая себя — то ли, так ли берет, полной ли мерой загребает… Он чувствовал, как рядом с Сафаровым, рядом со многими другими людьми… в рокоте Гродбергова органа — когда затаскивал в консерваторию Во- лодька — быстро и неуклонно тяжелее, весомее становился его шаг, но…
Но сколько бы ни раздумывал он теперь над тем, что таким ненужным показалось бы ему раньше… над тем, что таилось в вытянутых ликах Эль Греко и светлых красках Дионисия, все равно он чувствовал, что не продвинулся ни на пядь: слишком далек и громаден простирался путь от его натюрмортиков «в колорите» до редких острых вершин тех великих старых холстов в сетке трещинок-кракелюр и осыпавшихся вместе со штукатуркой, почти смытых столетиями фресок.
А то, глядишь, и всколыхнется вдруг зависть: «Живут же людишки! Нормально живут, спокойно, не дергаются, не тянут из себя жил…»
Зависть! Если можно чему завидовать — так здоровью и таланту. Как хорошо он это знал сегодня, на подходе четвертого десятка!
Но как бы отлично он ни знал, «что есть что», сволочь-зависть подступала, исподволь, неслышно, щекочущим сердце искушением швырять деньгу, потом приходило ясное понимание своей бездарности, нет, не бездарности даже, а отсутствия особой связи с миром, которую зовут по-разному, чаще — искрой Божьей, а это значило, что вообще ничего нет, все держится ни на чем, летит невесть куда сплошной перемешанной кашей, и единственное, что казалось тогда реально присутствующим в этой смутной кутерьме, были опять же деньги: проклятые и желанные монеты, тугрики, рубчики, башли — за проданную свою силу, время, за нужное кому-то умение проводить линии и смешивать краски.
Сидевший напротив человек, приглаживая свои гладкие светлые волосы, обеспокоенно глянул на Сапроненко и тотчас отвел глаза, до-видимому, прикидывая, не помешает ли его радости этот скуластый, не затеет ли, напившись, пьяную катавасию? Пускают же сюда таких!
Эти мысли так рельефно вычеканились на лице блондина, похожем на умытое личико образцово-показательного первоклассника, что Сапроненко улыбнулся и, подняв рюмку, приветственно кивнул своему соседу.
Минутой раньше тот налил себе из точно такого же графинчика в точно такую же рюмку и неторопливо выпил, глядя ему прямо в лоб, как бы не видя, понюхал лимонную дольку, радостно куснул ее, схватил вилку, поддел грибок и принялся за салат.
Сейчас, заметив кивок Сапроненко, он перестал жевать, замер, чуть кивнул и опустил глаза к тарелке.
А Сапроненко, отвалившись на спинку стула, ждал, когда коньяк «дойдет». Уголек, вдруг зажегшийся внутри, разгорался все сильнее.
Первый — про себя, безмолвный — тост был за удачу.
«Ну, Сашок, — сказал он самому себе, — за победу, за этот день, за тебя, дурачка!»
Нет-нет, что-то явно сказалось не так. Не теми словами…
«Л-адно-о! Выпил — и конец! — заглушая эти слова, прикрикнул на себя Сапроненко. — Нечего миндальничать тут! Давно в мясо вошел, не мальчик! Жизнь одна-а…»
И вот… вот — рюмка туманится от жгучей рыжей настойки, дубовой корой, орехами и карамелькой плещет, играет, сверкает коньячок — похуже, чем тот, днем, у Михаила Борисовича… однако ж тоже — марка! На большой тарелке — в бледной зелени салатных листков — пахучим жиром, морем, волной, шаландой сочится, просится к губам янтарная осетрина, холодной тонкой солью, чуть касаясь ноздрей, распластались ломтики семги, оливки катаются, чернеет икра…
И как только уголек вспыхнул, огнем вырвался из его темных глаз, он улыбнулся, лег грудью на край стола и закрыл лицо руками, так и сидел, улыбаясь.
И тут грянул оркестр. Взвыл, затянул и повел тему саксофон, зарычал, засвистел электроорган, зарявкали гитары, зазвенели тарелки, забили в грудь, в стены, в пол кожи барабанов, и фоном, неостановимо рассыпаясь металлическим шелестом, пошли работать, охватывая все сеткой своей власти, метелки.
В зале потемнело, свет ушел на эстраду, где в луче красного прожектора, изгибаясь и кланяясь, дул в мундштук сверкающего инструмента длинный седой саксофонист. Играли резкое, мощное, подавляюще-громкое, музыка дрожала в теле, стискивала голову зажигательно-надрывной силой, свет мигал, замелькали тени мужчин, ведущих женщин на площадку.
Сапроненко, жадно уткнувшись в тарелку, работал зубами, и само получалось, что жует и глотает он в такт музыке, а оркестр ревел со всё более грозной озверелостью, по высокому потолку скакали, сталкиваясь и разлетаясь, красные и зеленые тени, искрились в темноте на столах графины и фужеры, вспыхивали то там, то здесь очки.
Блондин радостно оглядывал зал, уже пристреливаясь глазами к женщинам, а Сапроненко все не размякал, как всегда с ним бывало от вина, он мрачнел от рюмки к рюмке, чернел, прорастал злобой и голодной жадностью.
Оркестр уже играл другое, и какая-то разукрашенная, с блестящими губами и веками, объявленная в микрофон под хлопки ресторанных знатоков Ирочка качалась в красном луче, вытягивая, закатив глаза, нечто хрипловато-низкое, насчет любви, и встряхивала красными длинными волосами.
Потом заиграли медленное, тягучее и грустное, сипловато и низко, так что задрожала посуда, расплылся, раскинулся над залом голос саксофона.
Вещь была знакомая, слышанная много раз, только слегка обработанная… твердый и глубокий металлический голос, безнадежные его вздохи вдруг стиснули Сапроненко горло, он перестал есть, замер с непрожеванным куском.
Да как же это?!
Как же это, что он тут, один, без Володьки, сидит, обжирается, сосет коньяк — стопка — три двадцать…
Сапроненко засмеялся, глядя, как много еще наставили перед ним разных украшенных петрушечкой-яичком и всяким прочим сельдереем вкуснющих штук.
«Ну, что глядишь?! — безмолвно крикнул он себе. — Или глаза разбежались? Жри! Ткнул клювиком, куда надо, так лопай, падла!»
Но кусок уже не лез в горло, а официантка все подходила с подносами и ставила, ставила вокруг него, и он понимал, что этого уже не съест вовек.
— Попрошу… — он протянул ей пустой графин, — еще…
— Не многовато? — не глядя, спросила она, но, не дожидаясь ответа, подхватила графинчик и пошла наливать.
Блондинчика, что напротив, можно было бы набросать сангиной — красно-рыжий тон, из кирпичного тумана выпяченная губа, носик шишечкой и по бликам — удары мелом, на скуле, да буграх надбровья…
— Вы что… смотрите? — издали бубнящим голосом спросила голова блондина.
— Ничего, — отрубил Сапроненко и безнадежно ковырнул вилкой остывающее на стальном блюде необъятное это мясо. Сухая картошка соломкой, в красном соусе, как в крови, гляделась пряно, грубо и вроде насмешливо.
Вдруг опять оказался коньяк перед глазами, он налил, уже выверяя движения, чтоб ничего не опрокинуть, щеки стянуло.
— Ну, за праздник жизни! — сказал Сапроненко и поднял рюмку — он услышал себя издали, как бы с опозданием.
«На-армально накачались, — мелькнуло в голове. — Тормознуть бы…»
Но он снова налил и выпил коньяк, уже не чувствуя вкуса.
Во рту сделалось сухо, враз перестали убегать стена, эстрада, зеркала. Он выплыл на миг. И снова все завертелось.
Неизвестно откуда появилась женщина за их столиком рядом с блондином — Сапроненко напрочь не помнил, когда привели и усадили ее.
О-о-о… даб-даб-ду!
Даб-даб-ду…
О дай-дай ду-ду!..
кричала в микрофон Ирочка, и ударник часто-часто кланялся над грохочущей, звенящей, искрящейся блестками баррикадкой из больпшх, маленьких и крохотных барабанов.
ГЛАВА ПЯТАЯ
…Он бежал, проваливаясь по колено в ватно-бесплотную землю, вырывался и снова бежал, зная, что нельзя оглянуться, что если обернется, то все, нагонят. Он бежал, чувствуя спиной их раскаленный дых, приоткрытые в беззвучном рычании пасти, они неслись за ним длинными вытянутыми тенями, и тут начался подъем, сердце бешено и больно заметалось в груди, поднялось к горлу, он понял, что этого подъема не взять, и повалился лицом вниз, чтоб втиснуться и уйти в землю — спрятать, спасти от их зубов горло, а они, почуяв победу, налетели, неслышно рыча, он ощутил холод их зубов и успел удивиться, что зубы так холодны, ощутил запах псины и крови. Ближе всех оказался громадный, мускулистый волкодав, и он первым, легко и тягуче оттолкнувшись длинными лапами, прыгнул, медленно нарастая, увеличиваясь и закрывая собой все…
И он закричал, хрипло, разорванным горлом, уже слыша себя наяву, выдираясь из мохнатого клубка овчарок, из черноты сна.
Что-то тупо ударило в висок.
— Кончай орать, гад!..
Сапроненко со стоном разлепил ресницы, и в мозг ударил свет… и чья-то круглая черная тень склонилась к самому его лицу.
— Только пикни мне еще! — повторила тень и добавила несколько тяжелых, темно-матерных слов.
И снова на миг пропал свет, удар в висок, удар в темя, и Сапроненко понял, что его бьют по лицу. Он зарычал, сам не узнавая себя, и, собрав все силы, рванулся вперед, к этой тени, но ему наступили коленом на грудь, и снова мутно-зеленая вспышка расколола мир и повисла, поплыла.
— Атас, менты… — раздалось где-то у лампочки, горевшей пронзительными лучами, и тотчас лязгнули стальные запоры.
Сапроненко услышал шаги и голос. Сразу стало легче дышать.
— Кто кричал? — среди серых, обшарпанных стен стоял милиционер.
«Где это я? — подумал Сапроненко. — Снится, что ли?..»
— Да вот он, гражданин командир, — ткнул пальцем в сторону Сапроненко долговязый малый в обвисшем по плечам малиновом в желтую полоску свитере. — Орет, как рожает, прибрали б куда, спать не дает.
— Чего кричишь? — милиционер шагнул к Сапроненко. — Встать!
Сапроненко с трудом сел на топчане, спустил ноги, встал — и сразу повело в сторону от боли, он коснулся щеки, она была, как чужая, деревянная и распухшая.
— Чего кричал, говорю?! — милиционеру, видимо, давно стукнула сорок пять, но он все еще ходил в сержантах.
— Что вы?.. — Сапроненко качнулся, сделав шаг вперед, и вокруг загалдели и заржали.
Он различил среди прочих голос той тени, что била его.
— Фамилия?! — крикнул милиционер.
Сапроненко сказал, вышло — «Фапвовенко».
— Студент, что ли? О-очень хорошо, о-очень красиво! — Ну, ничего, отсидишь пятнадцать суток, может, меньше жрать водки будешь, наука тоже хорошая.
Шестеро мужиков и парней, сидевших и валявшихся иа привинченных к полу лежаках, снова заржали.
Сапроненко поглядел на них: публика собралась веселая: почти все с расквашенными носами, распухшими скулами, с черно-лиловыми фингалами вместо глаз.
«Милиция, — понял он. — Ну вот. Приехали».
— Он психованный, — сказал маленький, «метр с кепкой», курносый мужичонка в непомерно широком пиджаке. — Кусается. Как бы не наблевал нам тут. Ежели наблюет, требую себе немедленного освобождения!
— Молчи, молчи, Никишкин, — усмехнулся сержант. — Тебя-то за что привели?
… - Да ни за что, ни за что замели, гражданин Коробов! — заполошился маленький. — И руку спортили. А куда мне без руки? — И он показал левую руку без двух пальцев. — Разве где написано — руки задержанным портить? Вот увидите — бумагу пошлю на вас…
Камера загоготала. Тоненько и ласково засмеялся сержант Коробов, и даже Сапроненко улыбнулся.
— Ты мне тут кончай! — отсмеявшись, сказал сержант. — За что взяли, говори?
— А он без билета ехал, — сказал голос тени.
Сапроненко посмотрел в ту сторону — иа лежаке, подперев голову круглым литым кулачиной, развалился лысоватый, массивного сложения человек в коричневом костюме. Он лежал на расстеленном пальто с барашковым воротником — не по сезону в октябре — и сосал потухшую папиросу.
— А с вами, гражданин, особый разговор, — заметил сержант Коробов, — так что помолчали бы.
— Ехал жулик на телеге, а телега на боку… — отозвался лысый. — Мы ж мирные люди, сержант. Ну да что тут языком молоть… — Он отвернулся и, скользнув узкими глазами по Сапроненко, громко зевнул.
Милиционер перебросился еще несколькими словами кое с кем из своих «знакомцев» и ушел, оглушительно хлопнув окованной сталью, суриком крашенной дверью.
— Вот так, студент, — сказал маленький без пальцев. — Не будешь другой раз ханку лопать.
Сапроненко сразу, в одну секунду отрезвел, все сделалось реально до рези в глазах: и серая краска стен, и черно-ржавые ножки топчанов, и дурные, странно-белые лица в свете стосвечовки, и сама лампочка в толстой металлической оплетке. «Чтоб не кокнули», понял он.
— Кончай ты с ним, Мамочка! — заорал до странности худой длинноволосый парень с вдавленным старческим лицом. — Тут Витюня анекдоты шпарит! Ну-ну, Витек, приходит этот…
Сапроненко лежал, сунув руки в карманы брюк. О нем уже забыли.
Лысый, который бил его, крепко и привычно спокойно спал, завернувшись в длинное свое черное пальто, и на руке его, прикрывшей глаза, отчетливо проступало слово «Люся» и синий голубок, несущий в клюве дубовый листик.
Послушал, послушал анекдоты Витюни и, напялив стеганый толстый ватник — в камере стояла холодина, — свернулся калачиком Мамочка-Никишкин и захрапел.
Рядом, понурясь, сидели двое с «фонарями» во всю щеку, и над ними стояло болбочущее облачко негромкого разговора, в котором слышались иногда с трудом различимые отдельные слова. Вдруг один из них уставился на Сапроненко заплывшим глазом.
— А ты чё слушаешь?! Я т-те щяс послушаю…
— Бей фраеров! — заорал длинный в полосатом свитере и, пригнув голову, кинулся на Сапроненко.
Но недаром Сапроненко служил на границе.
И вышло так, словно долговязый бежал и просто наткнулся на выставленный Сапроненко локоть.
— Уй-я-а-а… — взвыл тот, уже валяясь на сером, заплеванном полу. — Уй, сука-а… Ну, сука-а-а…
— Хорошо ты его, — поощрительно сказал тот, что не велел слушать. Он протянул Сапроненко большую опухшую лапищу. — Николай. Я в этом понимаю. В десантных служил?
— На границе, — сказал Сапроненко.
— А-а… — сказал мужик. — Хорошо. Это я уважаю. Ты… — он наклонился к уху Сапроненко, — смотри теперь, не зевай. Этот, — он показал глазами на длинного, — и «перо» пустит, он его так заховает, ни один мент ве найдет.
Но малый в ярком свитере, подвывая и матерясь, уполз на свое место, натянул на голову пиджак и, скуля похабно-блатным голосом, лег ничком и засопел.
До рассвета, наверно, было еще далеко. Часы исчезли с руки — видно, пропали в драке. За решетчатым оконцем синело ночное небо, и пруты стальных переплетов казались светлыми на его фоне. Камера мало-помалу стихала, новых не приводили. Кто спал, кто просто лежал, уставясь в потолок.
На серой краске стены бывшие постояльцы камеры нацарапали имена, даты, снова имена… видно, не успевали закрашивать или просто махнули рукой.
Сон не шел. Сапроненко лежал, боясь шевельнуться: всякое движение отдавалось болью в надбровье и затылке, и он не мог разобрать, от коньяка это или от ударов по башке.
Он потерял ощущение самого себя. Кто-то избитый, отупевший, отвратный валялся, как бревно, на топчане. Ах, беда, беда, как болит голова, хоть плачь, хоть рыдай.
Ну — денек! И это конец, конец всему.
Припомнился давешний ресторан, туман зеркал, еда, блондин напротив, официантка, ее безмолвно шевелящиеся губы… Или нет? Или это раньше, в витрине… ну да, в витрине магазина, а официантка говорила и щелкала на маленьких счетах, но слова ее бухали и стучали по мозгам, и он никак не мог…
Постепенно стало все возвращаться, он будто смывал черную краску с живых перепутанных картинок.
…Вот официантка, пальцы, счеты, карандашик, бумажка с цифрами перед глазами…
Кого же он бил? Ах ты, дьявол, дьявол, деньги проклятые!
Джаз гремит, баба кричит в микрофон, он тащит кого-то танцевать, потом стоит один в топчущейся толпе, качаясь, бредет сквозь вихляющую массу танцующих в полумраке, почему-то приходит к двери с надписью «библиотека», долго стоит, читая и перечитывая это слово, но, так ничего и не поняв, оказывается наконец среди белой легкой кафельной вони. Старик с полотенцем, двугривенный старику…
И снова на костяшках счет — оп-оп!
«Пятьдесят один восемнадцать».
«Это, извиняюсь, откуда же столько?»
Но он не помнит, напрочь не помнит — что, когда и сколько заказал. Коньяк… да, коньяку ноль-пять, точно.
Что-то говорит блондин официантке — про него?
В улыбках бьются, наступая друг на друга, слова: «Все хотят кушать… все хотят кушать…» Блондин кричит ему в лицо какие-то слова — и его, Сапроненко, собственный голос как из бочки:
«Давить таких надо!» — в холеную морду блондину.
«Вы собираетесь расплачиваться? — это уже мужчина в смокинге. — Я жду! Платите — и марш отсюда!»
И снова голос из бочки:
«Дорогой, у меня сегодня такая большая расплата…» — И он лезет в карман, показывает десяточный веер: «Видал, дядя?»
«Да вызовите милицию!» — выговаривают губы блондина.
«Ах ты, поганка!..»
Визг, мелькнувшие подошвы перевернувшегося блондина и боль в кулаке.
Вот тут и началось. Амбал в клетчатом пиджаке — сто кило боксерского веса — это уже внизу, у гардероба. Сапроненко в лицо летит его куртка, и он, вырываясь из чугунных рук, кричит гардеробщику: «Старая гадина!»
И снова: «Все хотят кушать… все хотят кушать…», седые брови и печальная усмешка.
Амбал заламывает руку…
«Нас не возьмешь…» — хрипит Сапроненко и хочет сделать амбалу «мельницу», но рука соскальзывает, хватает вместо лацкана воздух, и амбал легко и четко проводит подсечку на болевой с захватом.
И опять пол взлетает к потолку, и люстры просверкивают вдали дальними равнодушными молниями. Сладили, заломали!
«Где мои деньги?!.»
Об пол спиной — р-раз! Плевать…
Дальше уже не было ничего. Одна тысячечасовая ночь. Но были, значит, в ней и свистки, и милиция, и какие-нибудь свидетели для протокола, он отмахивался, наверно, орал, и его погрузили — это орущее, пьяное, гнусное и избитое — в машину с зарешеченным окном и повезли.
Было, было все это, и все поделом, все заслужил, все как надо.
Что-то случилось со временем. Невозможным казалось представить даже, что вчера — только вчера! — он говорил с Татьяной, стоял над Володькой. Неужели это и был он — там, вчера? А может, рухнувшее на него — тоже сон, как с собаками? Может, надо, только как следует, хорошенько проснуться?
Но нет. Он не спал.
В двух шагах от него с присвистом похрапывал Мамочка.
Еще набегала и откатывалась волной мысль о том, как написать эту камеру. Потолок через сажу с белилами и ультрамарин, захолодить, заледенить всю гамму и, еще не касаясь ни лиц, ни рук здешнего народца, всю силу отдать этой лампочке, живущей, как светящаяся птичка в клетке.
Но жизнь сломалась.
И живопись, кисти, мастихины, смятые тюбика существовали в таком чистом и чужом недосягаемом прошлом, что о них казалось глупым даже думать. Нет, он не напишет этой камеры. Все кончено.
Вдруг — ярко и страшно в своей реальности — из серой стены, из надписи «Жулик Сеня. 1972 г.» посыпались политые, как кровью, томатным соусом жареные картофельные соломинки — хрустящие, пропитанные маслом. Была в них некая все ускользавшая вчерашняя мысль…
Картоха, картошечка… поклон тебе, и в будни ты, и в праздник — да что без тебя и как без тебя?
Эх, картошка-тошка-тошка…
Он напрягся, наморщил лоб — и вспомнил, как чуть не взвыл вчера, поняв, что купил себе эти тоненькие вкусные картошечные соломки, отдав навечно в чужие руки ту разварную, горячую картошку из натюрморта, их новогодний ужин с Сафаровым.
И Сапроненко тотчас вспомнил, как сложился в новогоднюю ночь этот натюрморт, и как он сразу набросал его схемку на обрывке бумаги, и как долго потом шел к той минуте, когда почти совпали два изображения — на холсте и в представлении, в голове.
Все не получался смутный желтый свет, падавший сверху, все не ложился на стол, а висел над досками столешницы, в не светился ожиданием весны воздух их комнатушки под сводами, и не было спокойной давней печали в размытой фигуре Володьки.
Сапроненко наваливал краску в снова сдирал, чистил палитру и выжимал, сгоряча забывая экономить, свернутых цветных червячков из тюбиков, и Сафаров, возившийся с маленьким пейзажем — силуэтом синего минарета за сухим деревом, — смотрел на него и только вздыхал.
У него тоже не клеилось, он тюкал кисточкой со все большим ожесточением, сжав голову узкими руками, часами просиживал над библиотечными репродукциями Бехзада, над его веселыми, как малюсенькие коврики, невероятными книжными маниатюрами, яркими и филигранными, детски простодушными и недосягаемо цельными.
Вот Меджнун стоит у ручья, и лань пьет голубую воду, гусь идет к гусыне, и тонкий, как насекомое, лев играет с львицей, цветут гранаты и миндаль, к плоской горе лепится плоская хижина Лейли, и поет, дрожит и свистит на картинке флейта любви, и пряная радость скрыта в кроне черно-зеленой арчи.
— Нет, ну ты посмотри, ты только посмотри! — Сафаров совал ему в руки эти древние картинки.
И опять они сидели в тишине над черными фигурками, прорезанными сеткой белых штрихов, над гравюрами Фаворского, над мощным и непреклонным в своей уверенности Дейнекой над могучими спортсменками Самохвалова и напряженными, как музыка оркестра в предожидании страшного форте, эскизами Рындина.
И снова стучала тонкая колонковая кисть Сафарова, и не раз, не два Сапроненко хотелось крикнуть другу: «Все! Больше не трогай, остановись!»
Но он не имел права этого сказать, и проходили в молчании часы. И когда взгляд Сафарова звал к себе — посмотреть на его холст, Сапроненко делал к нему эти три шага — и новый оттенок чувства сбегал с минарета, с засохших неподвижных ветвей. «Ах ты, дьявол!» И Володькино вечное: «Ах, брось!», но все равно радость в глазах.
Что еще нужно было, кроме этой комнаты, и глаз друга среди легких морщин и острого хвойного запаха даммарного лака?
Однако надо было возвращаться к своему натюрморту. Второй месяц он бился над этим холстом. И Володька придумал смешную штуку… Поначалу не верилось даже, что он это всерьез.
— Слушай, мы зажжем свечи, — сказал Сафаров. — Понял? Мы не будем сидеть, как два индюка, — мы будем как они. Надо, чтоб рука уставала, тогда будем писать самое главное.
— Это еще зачем? — не понял он тогда. — Муровина! Чего это я буду силы кидать?!
— Индюк, — сказал Сафаров. — Пустая голова. Тебе будет трудно, рука заболит — скорей писать будешь, раздумывать кончишь, свечи купим, а?
И они стали писать ночами, а днем занавешивали окна дырявым рядном. Зажали, закрепили холсты досками, как если б то были вознесенные ввысь плафоны — наклонно, картинкой вниз, высоко над полом, а свечи в бутылках расставили на полу.
Темные громадные тени носились по потолку, в сумраке горели язычки огней, трепеща от каждого шага, и тени дрожали. Подсвеченное снизу, страшным и таинственным смотрелось Володькино лицо, и сухо вспыхивали отсветы на стальной оправке его любимого «колонка» номер три. Рука начинала отваливаться уже через десять минут.
— Я тоже… дуррак! — плевался Сапроненко в первый день. — Рука отсохнет к чертям! Не могу, болит!
— Ну потерпи, а? — умоляюще заглядывал в лицо Сафаров. — Попробуй еще, потерпи. — И по голосу его делалось понятно, что и его рука не из железа. — Ты вон какой сильный… Хочешь хлеба? Вот хлеб, луку поешь, слышишь? Лук — очень хорошо.
Но потом они привыкли… и правда, натюрморт дописался в три дня и три ночи — странным, нездешним светом отозвались краски в бело-голубом луче, хлынувшем утром из окна.
— А? — плясал Володька. — А? Как все живет!
И пошли дни и ночи при свечах — они работали, доводя себя почти до расстройства ума — все набегали в глазах синие и желтые буруны красок, затмевали дома и деревья бульваров — они брели, как пьяные, по утреннему городу, но все равно до того, о чем мечталось, был почти не скраденный видимостью движения, бесконечный путь.
Что же за тайна, пугающая и нагая, пряталась внутри старых музейных рам?
Чего не хватало им с другом, чтоб покрыть, преодолеть эту дорогу?
Где теперь его работы?
Сапроненко смотрел в окно решеткой.
Уходя вчера — неужели же все-таки только вчера?! — он слышал короткий разговор Михаила Борисовича по телефону:
— Да-да, — говорил он внушительно в трубку. — Ваш аппарат ушел. Два-один. Иначе не вышло. Так что приезжайте.
Только сейчас, на пропитанном запахами людей дощатом топчане, Сапроненко мгновенно расшифровал этот разговор. «Ушел» магнитофон. «Два-один» — на их торгашеском языке — двадцать одна тысяча старыми. Значит? — значит, его четыре сотни прямехонько из кармана Егорыча.
Ах ты собака! Вон когда допер!
Володька сейчас ищет его, а всего верней — лежит и курит. Не жди, милый, скоро не свидимся. Только сейчас, среди пьяниц и шпаны, храпевшей с перепоя на все голоса, ему стало до последней точки очевидно, с кем схлестнула его проклятая, такая презренная, если смотреть отсюда, зависть.
И как не догадался он, Сапроненко, зачем берут его картины!
Неужто за три года растерял в себе того ушлого хитрована-шофера, который сам был не промах и знал, что почем?
Совсем одурел от безденежья — руки затряслись, а тот-то уж не дал сорваться рыбке, по всем правилам закрючил — и что для него есть на свете, кроме пачек, пачек… пачек лиловых, пачек красноватых… Потому-то и не пахло ничем под его крышей — ни одна вещь не задерживалась больше чем на день и «уходила», не оставив ни следа, ни запаха, — дороже, чем пришла.
Значит, кому-то нужны картины молодых-неизвестных? Может, входят или должны войти в цену. Или в карты он их спускает?
Володьку — в карты? И «Мальчика в окне»?
Но ведь то не просто «Мальчик». То твоя, Сапроненко, умчавшаяся юность, попытка вернуть острое чувство жизни, что приходило тогда, пятнадцать лет назад, на подоконнике в кухне, когда все спали и плыли огоньки самолетов среди огоньков звезд над морем…
Сапроненко застонал, и лысый сразу поднял крутолобую башку, посмотрел на него и отвернулся. Заворчал и перевернулся на другой бок Мамочка. Сапроненко открыл и снова закрыл глаза. Он лежал, плотно сжав веки, вслушиваясь в чужой храп.
Вот так. Мелкое, значит. Мелкое хулиганство. Вот именно мелкое. Стоило всю жизнь горбатиться за черной баранкой и испытывать страх — не наехать бы, не прижать ненароком бортами, подавая назад железную колымагу. Вот, не наехал. И оттого эти мелкие пятнадцать суток казались ему особенно позорными, а судьба смеялась гаденьким дробным смешком, как Сергей Семенович со Столешникова переулка: «хе-хе-хе…»
Нет, надо выскочить, выскочить, проснуться, выбраться из этого сна!
Как же это он потащил продавать именно эти картины?
«А других мог и не носить, — ответил самому себе. — Разве имел ты еще что-нибудь, что можно было бы нести без стыда?»
Выходит — всего-то три работки за жизнь? Не густо!
А теперь — что ж? Набаловались — и будет. Красочки, кисточки — привет! Теперь что? Метла? Что у них там?..
Счастливыми неслись эти училищные годы. Володька, Татьяна, старые коридоры и тряпочки-кувшинчики натюрмортов…
Вдруг подступили слезы, но, давясь от презрения к себе, он не дал им пролиться, глотнул и оцепенел.
За окном светлело. Сапроненко уснул.
Этой ночью, на рассвете, три овчарки приходили к нему много раз, он убегал от них, прятался в какие-то люки, снова — убегал, но собаки неизбежно догоняли его, не спеша надвигались, скаля клыки, пока их не заслоняло старое невеселое лицо.
— Вот ваши картины, — расставлял среди сугробов холсты Михаил Борисович. Картины были те же — и не те.
— А где же «Мальчик в окне»?..
— Знаете, — доверительно шептал Михаил Борисович, — я решил, что лучше так — разве нет? И по композиции острее — я отдал их сержанту Коробову, чтоб он перетянул холсты на другие подрамники, так что вы ему должны восемнадцать рублей пятьдесят одну копейку.
— А здесь? Здесь был нарисован мой друг…
— Разве я не имею права делать что хочу с моими вещами? Вы их мне продали? Так что уж извините — делаю на свой вкус. А друг ваш тут ни к селу ни к городу: посмотрите — ей-богу же, лучше без него.
И он начилал ножом подрезать снятый с подрамника мятый холст.
— Стойте! Это же мое…
— Ваши теперь денежки, а это — мое, и я тоже хочу кушать хлеб… хочу хлеб… хлеб… хлеб…
Сапроненко проснулся от холода, он весь закоченел, воняло хлоркой, зубы стучали, еле сгибались пальцы. За решеткой окна стоял солнечный день.
— Хлеба давай, хлеба! — наперебой кричали в лицо сержанту Коробову Мамочка и длинный в свитере.
Коробов стоял, улыбаясь, держа в руках большие, уставленные друг на друга судки.
— Уж и без хлеба не могут, — ворчал он добродушно. — По мне — так вообще б не кормить вас. Небось другой раз не хулиганили б. Нету хлеба. Сказано, не-ту. Забыл. Не отощаете. А-а… вот и студент проснулся. С добрым утром!
— Сколько времени? — хмуро, отдергивая от распухшей щеки руку, спросил Сапроненко и огляделся — давешнего лысого в пальто уже не было.
— А вам теперь без разницы, товарищ дорогой.
— Ты хлеб гони! — сказал длинный. — А то вот он сейчас, знаешь, куда напишет?! — и он ткнул кривым указательным в спину Мамочки.
Камера захохотала.
— А пишите куда хотите… — лениво зевнул Коробов. — Мне бояться нечего. Законов не нарушаем. — И добавил, повернувшись к Сапроненко: — Ты поешь, поешь, ничего, передачу-то не скоро принесут. Пока узнают — то… сё… Бери ложку да садись. Сапроненко покачал головой.
— Ты-ы что-о! — махнул рукой Никишкин. — По первому разу два дня жрать не будешь. Закон. Не лезет. А там уж как пойдешь трескать!
— Уж тебе ль не знать! — улыбнулся Коробов.
— Тьфу! — стукнул ложкой по алюминиевой миске Николай, тот, с кем Сапроненко познакомился ночью. — Холодное всё!
— А тут тебе, милый человек, на то и «холодная», — веско и со знанием дела заметил Коробов.
Он еще потоптался некоторое время, побалагурил и ушел, звякая коромыслицем от судков, и гулко захлопнул дверь.
— Слышь, ты, профессор, — толкнул Сапроненко Мамочка, — так я кашу твою схаваю, ага? — Он улыбался во всю смешную плутовскую рожу.
— Ешь.
— Ага, ну и спасибочки. Да ты не грусти, может, еще и открутисся…
Подошел, тоже улыбаясь, долговязый.
— Здорово ты меня ночью, — произнес с восхищенным уважением. — Прием, что ли, такой? Покажи.
— Заорешь, — хмуро сказал Сапроненко. — Ешь иди.
— Не, ты покажи. Сгодится. Это самбо?
— Угу. Боевое.
— А-а-а! — крикнул малый и выбросил руку снизу от бедра, будто кинулся с ножом. Сапроненко, скривившись от боли в кисти, перехватил его предплечье, рванул.
— Чур, не уродуй! — успел крикнуть парень. Сапроненко не стал кидать его, взял в «замок» шею, притянул.
— Все, — просипел тот, красный от удушья. — Понял. — Потирая шею и плечо, он сел на лежак Сапроненко: — Генка. А тя как?
— Сашка, — глядя в пол, ответил Сапроненко.
— Ну, и чё там у вас в институтах показывают?
— Все, что хочешь.
— Ты ж на художника, вроде?
— Н-ну… да..
— А баб голых?
Сапроненко лег и отвернулся к стене. Потянулись часы. Все чего-то ждали, разговоры стали тише и короче. Камера приуныла, даже Никишкии-Мамотка больше не потешал камеру, а, присев на краешек топчана, похожий на грустную обезьянку, грыз ногти, время, от времени взглядывая в солнечное окно.
Наконец щелкнули замки. Высокий худой старшина в отутюженной шинели вошел в камеру.
— Моргун… — прошелестело от стены к стене.
— Задержанные, встэ-а-ать! — тонким голосом крикнул он и беркутом оглядел их всех. — Кандауров!
— Я… — выступил длинноволосый.
— Руки! За спину! И — на выход!
Длинноволосый ощерился, показав дырки от выбитых зубов.
— Мой козырь! — Он заученно заложил руки за спину и как бы согнулся. — Повели Юрку! Покеда, мужики! — заорал, озорно блеснув холодными глазами.
В камеру шагнули еще два милиционера.
— Вперед! — звонко выкрикнул Моргунов.
— Ах ты, жись моя! Жись казенная! — заорал с надрывной веселостью Юрка Кандауров и исчез в дверях.
— Чтоб порядок был… — тихо сказал старшина, — с-субчики…
— Кисло, — помолчав, промолвил Мамочка. — Моргун, падла, гнет.
Вскоре увели и его, и он тоже странно развеселился на выводе, кричал про какие-то подштанники, которые у него, мол, прошлый год свистнули в бане, и как теперь без них?
— Там дадут, — заверил Моргунов.
И Сапроненко, удивившись себе, тоже засмеялся вместе со всеми.
Увели Николая, долговязого Генку, Витюню с его анекдотами. Сапроненко остался один. Прошло часа полтора, пока пришли за ним.
— Собирайтесь… — глядя в сторону, приказал молоденький милиционерчик, и в его лицо Савроненко почудилось нечто вроде смущения.
— Куда? — спросил он, хотя спрашивать было глупо, а собирать нечего. Накинул куртку, сунул под мышку шапку, куртка спереди заляпана была бурыми каплями, «молния» сломалась. «Погулял» вчера!
— Иди! — негромко сказал конвойный. И добавил, как будто спохватившись: — Руки…
Его повели по коридору мимо игравших в шашки милиционеров, сонно глянувших на еще одну «пташку».
За окнами стоял черно-серый, наглухо задраенный автофургон с красной полоской на дверцах кабины. «За мной», — тоскливо подумал Сапроненко.
— Налево, — раздалось за спиной. — Стой. — И снова это непонятное виноватое выражение — невесть почему и откуда — на чистом лице мальчика-конвоира.
Стоявший у двери старший лейтенант значительно переглянулся с приведшим Сапроненко н вошел, наверно, чтоб доложить. И в ту секунду, пока открыта была дверь, Сапроненко услышал — и током прошибло до подошв, огонь вмиг сжег и щеки, и шею, когда он услышал страшно знакомый голос:
— Я вас очень… очень…
И невнятное бубнение в ответ.
— Введите, — сказал, выглянув, старший лейтенант.
На каменных ногах Сапроненко сделал эти три шага.
— Ну вот… — сказала тихо и горько Татьяна Михайловна.
— Вот он, орел ваш, — показал пожилой майор. — Полюбуйтесь. Художник!
Татьяна смотрела ему прямо в глаза и, кажется, жалела его, скота. Сапроненко не выдержал и отвернулся.
— Отворачивается, — кивнул Татьяне Михайловне майор. — Несладко теперь, конечно.
— Я очень… прошу… я просто… Я же объясняла вам. Поверьте, мне так стыдно… но я прошу…
— А что мне его талант? — вздернул плечи майор. — Закон, сами знаете!
— Я не о том, вы понимаете, о чем я… — Ее большие глаза умоляли — впервые Сапроненко видел Татьяну смятой, униженно просящей. Он совершенно отупел от стыда.
— Ни радость, ни горе не позволяют делать то, что он устроил, — голосом лектора пояснил майор. — Вы только посмотрите — ударил гражданина Махотина, нанеся легкие телесные повреждения, оскорблял администрацию ресторана, отказался оплатить счет, нанес убыток, перебив посуду на столе, на сумму сорок семь рублей сорок копеек, оказал сопротивление сотрудникам милиции и дружинникам, применяя приемы самбо… — Майор поднял лицо от исписанного протокола и посмотрел на Татьяну так, будто она это все учинила.
«Хорошо, зеркала не поколотил, — подумал Сапроненко. — Хоть не к смерти…»
— Поверьте, — Татьяна Михаиловна просительно заглядывала в лицо майору, — это впервые, и произошло только потому, что… я говорила вам… Это — мой лучший ученик, и только то, что случилось… Но майор ее не слушал.
— Ничего себе лучший! Поздравляю! А другие какие? Бандюги с большой дороги?
Татьяна осеклась и с надеждой на понимание робко посмотрела на старшего лейтенанта. Тот отвел глаза.
— Но вы же понимаете, что бывают исключительные моменты. Простите, как ваше имя и отчество?
— Иван Петрович, — устало наклонил голову майор. — А фамилия моя Чесноков. Только это дела не меняет.
— Да, конечно, — погасшим голосом сказала Татьяна Михаиловна. И вдруг схватилась ва край стола. — Я эаслуженный художник РСФСР, член Союза художников двадцать лет, преподаю пятнадцать. Вам нужно ручательство? Я могу…
— Да… — майор смотрел на Сапроненко, — положение… Ну что, художник, как самочувствие?
— Отпустите его, — тихо и горячо, задыхаясь, сказала Татьяна Михайловна. — Это несчастье…
— Не надо! — дрогнувшим голосом выговорил Сапроненко. — Не надо ничего. Все правильио.
— Молчите! — низким голосом, гортанно и гневно вскрикнула она. — Позор! — и повернулась к майору. — От кого зависит ваше решение? Я поеду прямо сейчас. Ведь нет же времени, ни часа.
— Ах, слушайте! — вдруг с сердцем сказал майор Чесноков. — Что мы — не люди? Отпустим мы его. Конечно, отпустим, под расписку, штраф наложим, возмещение ущерба и… в училище письмо направим, но… Ведь закон нарушаю, знайте.
— Спасибо. — Татьяна коснулась руки майора. — Вы… очень хороший и настоящий человек.
— Человек я обыкновенный. И благодарить меня не за что, — посуровел майор. — Он вот пусть вас благодарит.
— Вы можете письмо не посылать? Это равносильно…
— Ладно, — сказал майор. — Вас понял. Сделаем так: официальное письмо под расписку вручим старшему преподавателю худучилища товарищу Бекетовой, и она нам даст официальный ответ о мерах, которые будут приняты. Я все правильно говорю?
Сапроненко стоял в зыбком столбняке, казалось, чуть толкни его, и он упадет.
— Да, конечно… — вступил в разговор старший лейтенант.
Татьяна Михаиловна шагнула к майору.
— Дорогой мой, — огромные темные ее глаза переполнились болью, — вы сами не знаете, какой вы… Спасибо.
— Получайте свои вещи, — угрюмо, не глядя на Сапроненко, сказал майор. — Паспорт… А, ладно, получайте паспорт, сейчас вам без него никуда, военный билет, водительское удостоверение, студенческий билет, записная книжка, блокнот с рисунками, двести двенадцать рублей, так… штраф пятьдесят, ущерб — сорок семь, получайте сто пятнадцать. И часы марки «Победа»…
Часы были с вдавленным циферблатом, без стекла и большой стрелки. Он расписался несколько раз, крупно, заметно дрожа, так что получились скачущие завитушки.
— Если вам нужно будет в чем-то помочь, что-нибудь оформить, я вас просто прошу, всегда ко мне… мои ребята всегда, — бормотала Татьяна Михайловна.
Майор Чесноков грустно улыбнулся и крепко пожал ей руку.
— Рад был познакомиться, товарищ Бекетова… — и незаметно кивнул в сторону Сапроненко.
Татьяна Михайловна только прикрыла глаза.
И Сапроненко пошел за ней, ничего не понимая, еще не веря, не смея радоваться. Она быстро, гневно шла, не оборачиваясь, по коридорам милиции, мимо залитых чернилами столов, и он еле поспевал за ней, покрывшись ледяным потом, шел, почти теряя сознание, совершенно белый — и вдруг его оглушили шум улицы и гудки машин, топот ног, зарябило в глазах от солнца, окон, лиц.
Татьяна остановилась и перевела дух. Он стоял около нее на тротуаре. Ее лицо было словно бы подернуто пеленой.
— Позор, мерзость… — тихо сказала она и громко вздохнула. — Как вы могли… Я врала им… как последняя… как не знаю… Ну, теперь, дорогой мой… Он поднял к ней убитые черные глаза. — …держитесь, Саша, — договорила Татьяна Михайловна, и он подумал, что сейчас она… но в руках его вдруг оказался линованный листок бумаги со словом «срочная» по голубому.
МОСКВА СРЕТЕНКА ХУДУЧИЛИЩЕ САПРОНЕНКО ГАЛЯ ПОПАЛА МАШИНУ ОЧЕНЬ ПЛОХО ВЫЛЕТАЙ СРОЧНО ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНАГЛАВА ШЕСТАЯ
Да нет… это шутка, ее шутка, ее же, Гальки, обман.
Обычная ложь ради ей одной известной корысти: отомстить ему, пугнуть, чтоб приехал, прилетел, она умеет, она может так врать и не боится. Ничего не боится.
Сдавлена голова, слабость в ногах, но надо, надо идти — непонятно зачем, в забрызганной кровью куртке — в Домодедово, на аэродром, на остатки злосчастных четырех сотен — билет до дому.
Кто-то трясет за плечо: «Ты постой здесь, я сейчас…»
А, это Сафаров. Куда он побежал, схватив телеграмму?
— Держитесь, Саша…
Кто это говорит, впившись в него глазами?
А-а, Татьяна.
Домодедово, толпа, очередь в кассы. И Гальки уже нет, она умерла или вот сейчас умирает, в эту минуту. Куда его несет, зачем ему лететь, все сделается и без него, кому он нужен там?1 Но он не может не лететь, его не может не быть там.
— Держи… вот билет, вот посадочный талон. Сашка, ты слышишь?
Они стоят молча втроем у громадного стекла. На поле почти бесшумно двигаются самолеты, взлетают, садятся. Говорить не о чем.
— Пассажиров, отбывающих рейсом… просят пройти к галерее номер два…
— Это твой. Пошли, дорогой. Ты… ты поплачь.
Но нет слез и не может быть, и пусть давно нелюбима, совсем чужая тебе та умирающая женщина в больнице — страшен, как по ножу, каждый шаг к ней.
— Ах, Сашка! — и колючая щека Сафарова у его щеки, закрытые глаза. — Ты… смотри! Слышишь!
А, ну конечно, он посмотрит, посмотрит.
— Саша! Я очень верю в вас. Мужайтесь… и — возвращайтесь.
О чем говорит Татьяна?
— Проходите, молодой человек, не задерживайте!
— Ну, иди, не оглядывайся. Может быть, еще…
Он ныряет вслед за всеми и идет по стеклянному переходу, и там пропадают за стеклами лица Сафарова, Татьяны.
— Билет! — контроль у трапа, женщина с голубой повязкой на синем рукаве, солнце, гром самолетов, ветер гуляет по полю, рвет ее пальто.
— Вот…
Насмешка и презрение, отвращение в глазах, когда она видит его разбитое, заплывшее пузырями синяков лицо.
— Хор-рош! Проходи!
С пустыми руками, без всего он ступает на трап.
— Са-ш-ка-а-а…
Взгляд через плечо — где Сафаров, откуда он кричал, перекрыв рев самолетов? Глаза носятся, мечутся по зданию, по его крыше, по загородочкам. Нет, не видно. Далеко.
— Са-ш-ка-а-а-а-а…
— Проходи, чего стал!
Душноватый салон, серые засаленные чехлы на креслах. Иллюминаторы. Где, где он там, как бы увидеть…
— Я — у окна! Мое место! — овал злобного женского лица среди мелких кудряшек.
— Садитесь…
И уже потянули, потащили, закрутились винты.
Эх… надо было Ленке с Галькой чего-нибудь в «Сувенирах»…
Ах, да ведь Галька… А Ленка, после трех лет его отсутствия… что ей все кукляшки теперь?
— Командир корабля самолета «Ил-18» приветствует…
Пряжку ремня — в скобу застежки, загудело, завыло, оглушило. Где там Сафаров? Только серо-голубой силуэт здания с башенкой у горизонта.
И вдруг его пробивает ударом, и сразу все становится ясно.
Все шло к тому и не могло быть иначе! Все не случайно! Это он, он… он убил — когда ушел тогда. Эта смерть — на нем. Вот почему так страшно туда.
Не уйди он, не свяжись со всеми этими барыгами — и Галька… да что там! Точно! Перевод аж на сотню, обрадовалась, побежала, думала, накупит сейчас, не оглянулась на радостях — и под скаты метровые, под бампер головой, животом. Вот она, твоя сотня!
— Возьмите, пожалуйста, конфетку…
Он поднимает голову, кидает в рот кислый леденец, прячет лицо в ладонях, склоняется — и вместе с другими его отрывает от земли, и страшной грохочущей силой несет, утягивает вверх, туда, где одинокой фарой среди синевы горит мертвое, смертно-больное солнце.
Сапроненко тупо смотрел перед собой. Иногда доставал листок телеграммы: «Галя попала…»
Четыре года шоферил он и знал, что это значит.
«Галя попала…»
Не раз и не два, вспомнив разбитое свое лицо, он вздрагивал от стыда — увидит такого после трех лет отсутствия, усмехнется: «Где же это вас так, муж дорогой?»
И сразу оторопь: «Да нет, не скажет, не усмехнется».
И снова бежала вчерашняя карусель: Джерри, Михаил Борисович, ресторан, музыка. «Есть у нас, в районе Молдаванки, улица веселая, друзья…», милиция, начальник в майорских погонах — и ненависть к себе швыряла в озноб, в тошноту.
Так вот от чего, вот кто… и как спас тебя!
Она, жена, брошенная твоя Галька! Как все завязалось! Железно, не разорвешь! Телеграмма, переданная по проводам, нашла за решеткой и спасла, все двери настежь, все зачлось, все простили — сразу и навсегда. Но он не прощал себе.
Самолет набирал высоту. Второй час шел он курсом на Краснодар, а Сапроненко так и не поднимал головы.
«Там…» — говорил он, живя в Москве, и кивал неопределенно — «там…», «те люди», — словно огораживал себя крепким забором от всего, оставленного у Азовского моря. «Вот оно, настоящее, — думал, входя в училище, — а позади — долгий пустопорожний сон, отнявший лучшее время». Еще вчера он убеждал себя в этом, но внезапно, как от того удара в ресторане, все перевернулось.
Уже «там…» была Москва, училище, комната под сводами, даже Володька. И не пять часов прошло с той минуты, как остановился он посреди тротуара с телеграммой в руке, — прошел год.
Шесть лет без малого прожили-прокантовались они с Галей, оставшись, в сущности, каждый сам по себе. Что сохранилось от тех лет? А ничего, только каша из лиц, денежных его рейсов, бензиновой духоты кабины, надоедных разговоров бесчисленных Галькиных подруг с фабрики, ссор и насмешек, когда стал он месить краски на картонках.
Кое-как помнился, правда, первый год их жизни. Не год даже, а так… несколько месяцев — какими-то скитаниями под звездами, смешками-поцелуями, нескончаемыми застольями среди чужих — с непременной «беленькой», борщом и варениками со сметаной…
Еще помнились бессчетные стаканчики за их счастье, на целый год растянувшаяся, размазавшаяся по дням свадьба, его постоянная внутренняя легкость пустоты, бездумья, веселья от того, что до тридцати вон еще сколько лет!.. Танцы, радиола и красные наклейки пластинок, хриплый певец из «колокольчика» над танцверандой: «Арри-иведе-ерчи, Ро-о-ма…» — и хмельная, даже по ночам, мечта о мотоцикле.
Дальше на несколько лет в памяти лежал провал, бессвязная кутерьма: дочка вдруг откуда ни возьмись, мужики, расчеты со слесарями, домино под пожарным щитом в гараже, золотые рейсы по Кубани с хлебом, «левые» ездки, бабы на шоферском пути с поднятой рукой на обочине, шипенье тормозов. «Куда? Садитесь». Разговор, а после нередко поворот с шоссе на проселок, к ближнему леску или ночевка в незнакомом городке, в незнакомой комнате.
Жена стала чужой быстро, а может, и никогда не была своей, и вместо веселой девчонки вдруг хмурая, вдруг ворчливая, всему знающая счет, неинтересная, не зовущая, усталая, оживающая только в ругне да в гостях.
Так думал Сапроненко после своего окончательного ухода из дома, такой виделась ему из Москвы вся его… прежняя жизнь.
Сейчас, в самолете, он понял наконец, что просто пытался оправдаться так перед самим собой, очиститься, скинуть камень с сердца и забыть о том, хорошо, плохо ли живется им там, без него, жене с дочкой, и писать, писать, писать живыми певучими красками, не думая больше ни о чем.
И как только он понял это, вдруг всё сразу сделалось другим, и другим увидел он лицо жены, себя, всё свое прежнее, выброшенное на свалку житье. Что-то сдвинулось, сорвалось и покатило на него, он старался еще защититься, увернуться, но его затягивало, сносило, и часто, гулко бились в мозгу слова: «Что ж, лети, посмотри, что ты наделал!»
Он знал… как это бывает. Однажды в гараже возился в смотровой канаве под своим грузовиком, подтягивал картер коробки — поскользнулся на луже слитого масла, махнул рукой, рука пришлась по раме — он долго прыгал от боли и сосал черную, перемазанную руку. И подумал тогда: что же чувствует, что делается или нет… что остается от человека, когда налетает на него мчащаяся под семьдесят километров железная восьмитонная махина?..
Четыре года шоферил он по югу. Отчетливо, как наяву, возникла перед глазами странно плоская женщина в зеленом плаще, ничком лежащая на мокром ночном асфальте, свернутый в кювет самосвал, подгоняющий взмах инспекторского жезла в свете горящих фар и фонарей — «Давай, давай, проезжай!», темные фигуры, растянутая лента рулетки… — как вспышки за стеклом кабины, и долго еще виделись точки огней, маленькое зарево несчастья среди черноты в дрожащем зеркале заднего вида… «Спаси и помилуй, спаси и помилуй…» — шептала старуха, которую он вез за трояк на своей пятитонке, и он, глядя в ночь через дождь, крутя тяжелую баранку, молился про себя, чтоб и его спасла и сохранила судьба от такого вот, оставшегося за спиной.
Самолет летел, чуть покачиваясь. Дружно и мощно гудели моторы.
«Спасло, — думал Сапроненко. — Сохранило».
«Ил-18» скользил вниз по многокилометровому кругу, нацеливаясь на горячую серую дорожку краснодарской полосы. Пассажиры вокруг пристегивались, щелкали замками ремней. Сапроненко только сейчас заметил, что весь полет просидел в ремнях.
«Скажу Гальке, что на посадке… трахнулся мордой, не привязался», — неожиданно решил он.
Машина качнулась сильнее, раскрылись дюралевые створки гондол, и тотчас поползли из своих гнезд колеса шасси. До посадки осталось четыре минуты.
Когда самолет сел и зарулил к вокзалу, терпение пассажиров кончилось. Все повскакали, снимая с полок сумки и портфели ручного багажа, затопали к дверям. Один Сапроненко сидел как сидел, не шевелясь. «Спешить некуда, — понял он с поразившим его самого спокойствием. — Всё уже сделалось… успею. Ко всему — успею».
Он медленно спустился по трапу последним и побрел, не видя ничего, кроме шершавого бетона под ногами.
До его города несколько рейсов в день делал маленький одномоторный самолет, но можно было доехать и на автобусе. Он постоял, раздумывая, как лучше добраться, не спеша покурил и пошел к кассам местных авиарейсов.
Там тоже была очередь, народ, как всегда волновался, громко «качал права» дочерна загоревший украинец с усами, кассирша так же громко и нараспев отвечала неласково. И сразу пахнуло своим, своим…
Почти засыпая на ходу, Сапроненко протянул в полукруглое окошко кассы десятку — как раз ту, помеченную авторучкой.
— На девять сорок, — сказала кассирша.
— Вечера? — глухо спросил Сапроненко.
— Ой, та ну вы побачьте на його! Як размалевали… Та ты шо? Та когда воны на ночь летали?! Завтра!
— Как завтра?!. Мне — сейчас!
— Да ушел, ушел самолет. Последний.
— Когда?!
— Ты шо, не проспался! И где ты блукал? Та вот пять минут как ушел.
И он стукнул кулаком — вот оно! Только сейчас он мог и прокурил, прошатался тот самый единственный рейс. И почему-то, подумал, что от того, прилетит ли он сегодня, зависит все, ее жизнь или смерть.
— Да шо с тобой? Э-э! Ну ты шо, ты шо, хлопец?!
Вместо ответа он протянул в окошечко телеграмму.
— Жена? Ну, погоди, погоди… — и закричала на тех, что напирали сзади. — Ну куда, куда лезете?! Не видите — шо с человиком?!.
Пощелкала на клавишах селектора и опять закричала — уже в трубку, узнала что-то, обрадованно закивала Сапроненко.
И он сорвался и кинулся сначала в штурманскую, потом в соседнюю служебную комнату — вверх по лестнице, оттуда вниз, сердце быстро в сильно выламывало изнутри рёбра.
Наконец ему дали голубую служебную бумажку, соединились по радио с «двадцать восемь полсотни первым» — самолет вылетал грузовым рейсом через шесть минут.
— Борт, я ноль третий Эр-Пэ, как слышишь меня? Слушай, возьми человека, несчастье у него. Разрешение оформил. Как понял? Найдешь место?
— Пусть бежит, — ответ по рации.
Значит, бывает и такое?
И опять бег — по выгоревшей бурой траве, по лужам, туда, где на отшибе зеленеет плоскостями «аннушка».
…Потемнело в глазах и в висках разрывалось, когда он привалился наконец к обшарпанному фюзеляжу старого «кукурузничка» и протянул командиру паспорт с разрешением на полет. Летчики перекинули через дверной проем пилотской кабины брезентовую люльку, усадили.
— Держись!
Он сидел между ними, немного повыше — за стеклами кабины расстилался вечерний, еще солнечный простор аэродрома. Пилоты нацепили наушники с лярингами — их затылки сделались похожими, как у близнецов. Командир нажал кнопку. Кудахтнул раз-другой мотор, качнулся и растворился в воздухе пропеллер, стал серым кругом, цилиндры застреляли чаще, пыхнуло из патрубков черным дымом, сыпануло искрами, и Сапроненко оглох.
Самолетик запрыгал по кочкам, пробежал по траве в стороне от большой бетонки и взлетел. Он шел на высоте трехсот метров, и прекрасный вечерний мир медленно уходил под капот мотора. Сапроненко закрыл глаза. Темнота. Мягкая, теплая, обволакивающая. Неужели такая и смерть? Только еще надо наглухо заткнуть уши, не чувствовать запаха горелого масла, бензина — и тогда смерть? Да… и еще выбросить боль из груди, лицо Галки в тот день, когда он молча, сжав зубы, собирался в дальнюю дорогу.
Он разлепил веки. Впереди было только пустое небо. Оттянулся назад, изогнулся, перекинул ноги, перебрался назад в фюзеляжик и приник к оконцу маленького бортового иллюминатора. Внизу, пошатываясь, двигались земля, линии электропередачи, белые элеваторы, заводы, столбы вдоль извилистых дорог, перелески, машины на шоссе — всё в ярком рыжем свете, четкое и ясное, и длинные лиловые тени от каждого деревца, столба, выступа земли — мир светился жизнью, покоем, надеждой, чистым и простым смыслом, рапростертым от горизонта до горизонта.
«Так что, значит это и есть моя жизнь? — будто не в силах уразуметь, спросил себя Сапроненко. — Вот это все: небо за кругом винта в проеме двери кабины, наушники на головах летчиков, руки их на штурвалах, и есть — жизнь? И эта закатная медь, залившая всё внизу внизу под коротеньким толстым крылом, и размытая даль лиловых горизонтов, и жаркие, докрасна раскаленные облачка в синей выси?.. Зачем и почему именно это должно было стать моей жизнью?»
Земля горела красками… резкая чернильность берлинской лазури отделяла землю от близкого большого неба, жирной бурой сепией темнели распаханные под озими поля, в них втекали и оплывали зеленью хрома леса, рощи еще отдавали кое-где желтым, английская красная рдела в кирпичных кладках водонапорных башен, депо, деревенских школ, и не было черного в этом отходящем к ночи мире, как не было и не могло быть в нем смерти.
И чем ближе подлетал он к своему городу, тем сильней и неотступней вставала перед ним «та» жизнь, и Галькино лицо, и то, как она с тревогой провожала его в поездки, складывала ему майки, носки и трусы, как просила… не тормозить у «чайных».
Он не вспоминал — он опять заново проживал все, что променял на то, чтобы вырваться из самого себя, стать другим. Галка… Галка… Нет, он не забыл, какая нежная она бывала порой, как не знала, чем угодить ему, а он смотрел на это — та-ак… лениво… «Давай, пляши вокруг, баба, на то ты и „жана“!»
И сейчас, впервые за все эти года разлуки, он расслышал сквозь пальбу тысячесильного мотора, как билось в темноте рядом с ним ее сердце, он увидел себя, везущего ее в роддом, бегающего потом вместе с другими ошалевшими папашами под окнами.
Да как же это, как мог он так легко, так беззаботно и твердо отвернуться, шагнуть, закрыть дверь и забыть?!
Как забыл он ту южную жаркую ночь… сараюшку в деревне у дальних родичей… и ее — еще не жену, — загоревшую так, что светились только одни белки да зубы, пьянящий запах сухой травы, они валяются на сене, и веселая красная подушка летает под низкими стропильцами сарая.
— Вот она! Держи, Галка!
— А, вот тебе, вот! — Она звонко шлепает его по мускулистой спине. — Ой, да не щекочись ты, а… а… вот тебе… вот!.. Ой, сено колется! Пусти…
Запах сена и терпкий добрый дух навоза — под ними чавкает розовая свинья, они кидают в нее хлебными корками, хохочут, и долгая ночь пролетает в три часа, и уж чистит горло петух, а они всё словно плывут в объятьях на светлых облаках…
Да, сейчас все виделось не тем, чем казалось вчера. Был — дом… И он мог жить в своем доме, стучать-пилить по хозяйству, ездить за шифером и латать крышу, толковать о том о сем под вечерок во дворах с мужиками, рисовать себе в охотку — не рыпаясь и не руша одним махом сразу три жизни. Все бежало бы по закону, ладно, своим чередом. Принарядившись по такому случаю, отвел бы Ленку в первый класс, потом немножко бы «приняли» за первоклассницу с ребятами, а Ленка всем бы показывала, какой красненький портфельчик привез ей папка из самого Краснодара. Не гоняться бы за шальной шоферской сотней, не баловать бы с бабьём у дорог, а уж коль грешить — так чтоб без злобы потом на себя, чтоб заезжать при случае, по-людски, но все равно, а может, и еще крепче — от сознания тайной мужской вины — любить и хранить свой дом… Садить, окучивать и копать по осени картошку, солить капусту, не «левачить», не рвать жилы за деньгу, своими руками добывать свой не ворованный хлеб.
— Скоро? — крикнул он, подавшись к летчикам. Командир кивнул и, обернувшись, показал два пальца.
— Что?!
— Двадцать минут! — прокричал летчик.
Двадцать минут… Сапроненко кинуло в пот. Ему стало нестерпимо тошно оттого, что даже сейчас мог он подумать о ком-то на стороне.
Была жена, свой человек на свете, дочь от нее — единая, навечная связочка… А все нелады, все муки из-за него, из-за нерастраченной его тяги к молодой жеребячьей воле. Вот и аукнулось, отплатило за все — а Галке-то за что?!
«Разбитая, потерявшая память, глухая, слепая, без рук и ног — останься! Не отойду, костьми лягу, останься…» Так шептал он, глядя вперед, уже не слыша грохота мотора, остановившимися глазами вбирая домишки… лески под крылом, и вдруг, косо переломив стекла кабины, встало далекое, плоское, будто твердое и неподвижное море.
Машина летела к нему, одновременно заворачивая вправо, все глубже ложась в вираж, заваливаясь на правое крыло, и все круче и ниже уходил вниз левый край далекого, вычерченного по линейке горизонта.
— Азов! — обернулся летчик. — Считай, прилетели!
Они спустились ниже, земля под ними побежала быстрей, мелькнули внизу прибрежная гряда холмов, дамба, нитка железной дороги с длинной цепочкой колбасок-цистерн, отлетела назад стрела песчаной косы, и заблестели, заиграли на желто-сером последние солнечные блестки.
По морю ходили волны, встречались, вздымались и осыпались белыми барашками, прибой казался каменным, застывшим — они летели вдоль берега, самолет начало встряхивать, как сани на льдистых колдобинах, и вот рассыпались в прибрежном мелководье черные тараканы заякоренных лодок, белый ракушечный пляж завился ускользающим долгим канатом, мелькнула знакомая башня элеватора, вокзальчик, город, кино «Звезда» на площади… где там больница?
Мотор застучал тише и реже, зарябили лопасти винта. Дома умчались назад, крыши… крыши… голое поле…
Толчок, подскок, опять толчок… они катят по грунту полосы, разворачиваются, громко шипят тормоза. Замирает и отдает назад пропеллер. Плотная тишина.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Больниц в городе было четыре, и, чтоб узнать, где Галька, Сапроненко забежал к ним домой, в маленький деревянный домишко по улице Щорса. Дом не изменился, та же красочка голубая, рукомойник на столбике во дворе, лавочка у забора…
На улице начинало темнеть, он дернул калитку — петли скрипнули звуком, который он различил бы среди всех прочих. Прошел по тропинке к крыльцу. Сердце застучало — вдруг выйдет сейчас Галина, жива-здорова: «Ну, заходите, гость дорогой, чего уж…»
Но не горел свет в окошках, молчало все за дверями. Он стукнул своим стуком — не отозвались, вошел в сени — керосиновая вонь, облупленный китайский таз во мраке, всё как при нем, и ведро зацепил, как всегда, чертыхнулся: «Наставят вечно, как…»
Он потянул дверь в дом, встал под косяком.
— Дома кто? — спросил сорвавшимся голосом.
Никто не ответил. Сапроненко щелкнул выключателем. Не было Ленкиной детской кроватки, пол свежевыкрашен охрой, плетеные тряпичные половики красно-желтые. «Ван- Гог…» — независимо, сама по себе пробежала мысль. Цветы на окнах разрослись, Ленкины учебники на полочке, похвальная грамота… Он шагнул поближе: «Награждается ученица Сапроненко Лена за отличную…»
А повыше чуть по-прежнему красовалась большая рыночная «картина»: плывут по синей воде лебедь с лебедью, и олень с оранжевыми рогами выступает из-за смешного коротенького дерева.
Как часто в тот год, когда он все решался уйти и не уходил или когда зудела все одно: «Мало, мало, вон у Охрименков…» — умелая в жизни, крепкая его теща, он глядел на этих лебедей, понимая, что давно в разные стороны плывут обвившие друг друга гнутыми шеями птицы… Он стал привозить из рейсов книги… как-то в один из дней, дрожа от счастья, прикатил с громадным альбомом Петрова-Водкина в блестящем супере — «Купание красного коня», гнал всю дорогу так, что подкидывало до крыши кабины, тормознул у калитки, гуднул. Галька только усмехнулась его покупке и радости. «Бо-ожечки… — глянула и, поджав губы, пошла к себе теща. — Было на шо груши кидать!..»
Он листал еще пахнущие типографской краской страницы ночью. «Иди ложись…» — «А! Спи давай…» Лебеди на стене расплывались, расходились по воде, в их любовной слитности был обман, насмешка. И он возненавидел эту мазню и все хотел содрать со стены. «Да сними ты их к чертям! Глядеть тошно, пошлятина!». — «Ах, Боже ж ты мой, вы смотрите, какие мы культурные заделались! Всегда тут висели и висеть будут!..»
Сейчас он смотрел на них уже иначе… и словно выступило из простых детских красок тепло рук, родная домашняя уютность… В детском взгляде немудрящего кустаря Сапроненко вдруг земетил, рассмотрел — и сам удивился — нечто от того ясного спокойного знания, что морозом пробирало, когда стоял он в Пушкинском у картины француза Анри Руссо «Муза и Аполлинер». Сапроненко смотрел в лицо поэта, открытого ему однажды Сафаровым, прибежавшим с маленькой белой книжечкой в руках:
Ты от старого мира устал, наконец,
Пастушка, о Башня Эйфеля…
…Мосты в это утро блеют, как стадо овец…
«Нет, ты послушай, подумай… — поднимал блестящие глаза Сафаров. — „Ты церковь обходишь — войти помешал тебе стыд…“ А! Ты понимаешь, Сашка?!»
Лебеди плыли, плыли, олень дышал и смотрел зачарованно куда-то. И чего было воротить нос, чего лаяться?!
— Есть кто? — повторил он.
За ситчиком занавески кто-то зашевелился, заохал. Он шагнул по половицам, отдернул. На тещиной лежанке сидела незнакомая старуха, нашаривала ногой шлепанец и испуганно смотрела на него.
— Здорово, тетя, — сказал он. — А где Коваленки?
— Та ж у больнице усе. У Галы. А ты кто же?..
— Свой я, бабушка. Свой…
— А Галычка-то наша… Ой, горе… люды, люды…
— Жива? — спросил он, чувствуя, как мутится в глазах от напряжения.
— Вмирает, детусечка… Уси побигли.
— Иде вона? Больныца — яка? — перешел он на украинский. — Я бачу — нема никого. Та кажи ты, тетка!
— На Володарьського… У новой. Може, ще живая. Да ты чей?
Сапроненко не знал, как сказать. Пошел в сени, хлебнул прямо из ведра и скривился невольно — отвык! Отвык от вкуса воды, что пил с рождения, — сколько ни бурили тут скважин, вся вода была от веку солоно-горька, и привкус этот чувствовался во всем, даже в пиве.
Вернулся в горницу, постоял. Старуха молча смотрела на него.
— А ты чья? — вздохнул он и вытер со лба пот.
— Та ж Охрименков. Хату гляжу. Валя ключ задевала. Ох, дочкб, дочкб! Да ты-то не Сашок ли, що Галу бросил?
— Молчи, бабка, — сказал он. — Ну… прощай.
На улице стемнело, зажглись редкие фонари. Сапроненко пошел — ходу до больницы было четверть часа. Вот и угол Володарского и Тараса Шевченко.
Он остановился, перевел дух и твердым солдатским шагом погнал себя к новенькому трехэтажному зданию с голубыми лампами дневного света в окнах. Рванул дверь хирургического отделения и вошел в сладковатый больничный туман.
Несколько человек толпились в конце длинного коридора. Сапроненко сделал несколько шагов и сразу узнал их всех, всю Галькину родню, и по тому, как они стояли, и по тому, как ждали чего-то с одинаковыми неподвижными распухшими лицами, понял, что успел.
Все молчали. И он подошел к ним почти на цыпочках, остановился, замер, глядя вбок и вниз. На него взглянули бегло, красными глазами — и отвернулись. Галькина тетка, Маруся, наклонилась к другой женщине (Сапроненко забыл ее имя), шепнула ей, та кивнула. Сбитой вместе черной кучкой стояли они все у двери, он не мог подойти к ним, стал поодаль, плечом к стене.
За дверью клокотала и булькала вода в кране — приглушенно сквозь дерево и стекло, но сиплый этот звук всверливался в уши, то спадая, то нарастая.
«Чего они не закрутят кран?» — думал он, а неотвязное клокотание разносилось по всему коридору с неумолимой дерзкой настырностью и равнодушием.
Вдруг звук стал громче, Сапроненко обернулся на дверь, и сердце садануло: кто-то маленький вышел… лица не видно — красное платье в горошек, чулочки серенькие, чернота волос. И стыд, стыд залил Сапроненко — за свое лицо, страшное, багрово-синее, — перед ней, перед этой маленькой, худой, с зелеными кругами у глаз, с полураскрытым ртом.
— Леночка… — глотнул он, — Лен-чка… — и шагнул к ней по качающемуся полу. — Дочк…
Ее глаза были темны после того, что увидела она за дверью. Строго посмотрела ему в лицо и, кажется, не узнала.
— Ленк, — жалко улыбаясь расползшимися губами, он пошел к ней, впившись глазами в эту бледное личико, руки, ноги, короткое платьице. — Я это, папка, вот… Здравствуй, слышишь… — И он протянул к ней руку, нагнулся, чтоб схватить и прижать. Но Лепка смотрела и не узнавала его за синяками, и вдруг он понял — узнала: гордо взлетели бровки, расширились и тотчас сузились большие, взрослые глаза.
— Доченька. — Он поймал ее за плечи, и, наверное, впервые за все тридцать лет сделалось так страшно, когда вблизи, рядом с его враз отяжелевшими веками, исказилось непритворной страстной ненавистью ее родное, чужое, единственное лицо.
— Пуссь-ти! — прошипела она, вырываясь.
Он хотел погладить ее волосы, но она с силой уперлась ему в грудь кулаками, брыкнулась, вырвалась и отскочила. Он отпустил, глядя, как, бросившись от него к Марусе, она спряталась за нее.
Маруся посмотрела на него мокрыми, снизу вверх жалеющими глазами, подошел Галькин брат — не брат, седьмая вода — Пашка Чепуров, механик с элеватора, чуть «под мухой», сунул руку.
— Здоров, Сань. Во дела какие, вишь. — Смолк, постоял и отошел.
Опять громче стало слышно бурление воды в кране. Из отворившейся двери медленно вышла теща, Валентина Степановна. Все уставились на нее — она покачала головой. Лицо ее было совсем белым, только уголки глаз опустились. Она пошла по коридору, все расступились с поспешностью — не спрашивая, боясь задеть взглядом.
И Сапроненко отступил к стене. Но Валентина Степановна заметила его, гневно прожгла зрачками, задержала шаг и, охнув, ослабев, огребла его, привалилась к плечу, затряслась. Чувствуя, что и ему петлей давит глотку, он обхватил ее полные плечи, прижал к себе изо всей силы, трясущимися руками гладил ее голову.
— Ну, ну… — шептал он.
— Не… несов… — всхлипывая, она все хотела что-то выговорить и наконец выдавила, — несовместимо с жизнью. Врачи сказали, несов… — глаза ее опять залило слезами, — несовместимо…
— Мать… — шепнул он, почти не слыша себя, — Я вот… — Он и сам не знал, что хочет сказать ей, в все выплеснулось в то, как он назвал ее — за всю жизнь впервые так.
Валентина Степановна справилась, сжала губы, отпрянула и произнесла по-семейному, свойски:
— Приехал, хорошо. Поди, поди к ней, по одному пускают, ступай, не долго только.
И он посмотрел ей прямо в лицо, слыша и не веря, и целый шквал чувств захлестнул его — как он ругался с ней вечно, как ненавидел эту осанистую сильную бабу, хваткую, властную и крутонравую, как презирал за ломовую ее работу — всё на огороде, всё за рубли, на рынок, на рынок, копеечку к копеечке, и помидоры, и огурцы, и семечки, и картошку — в Майкоп, в Краснодар, а то и в Ростов — «Неближний свет…» — «Ладно, нечего! Ехай!..» — как называл ее «куркульей породой», «кулачкой», «жлобой семижильной», как чертыхался в дороге и ночами в постели: «Х-хо!.. Нич-чего себе, устроились, кулбчки, нашли себе лошадку с мотором, выгодного муженька…», как и к Галке стал стыть — всё из-за нее, из-за тещеньки дорогой, все чаще примечая в жене то же, тещино, жадное, тупо-ненасытное, твердый тяжелый нахрап. И как же муторно делалось тогда — вот так: «груши, груши, груши…» — до конца?
И тут, в больничном коридоре, он только понял, что никогда не знал этой сутулой, работящей тетки, никогда не понимал ее сердца, не заглядывал в глубь этого чужого чугуннолобого человека. А ведь присмотрись — и мог бы, наверно, углядеть это — живое, горячее от быстрой крови, отзывчивое, человечье, готовое прощать… — значит, было в ней и сердце, и какая-то особая, своя доброта и правда, не из ничего же они взялись, если сейчас она пускала его туда, к Галке, к дочуре своей, отнимала у себя последние минуты — побыть около нее, уходящей из жизни. Чего же он раньше-то не понимал в своей теще, отчего не распознал?
— Иди, иди, Саша, — повторила она. А он все смотрел на неё, зная, что не забудет этого никогда.
— Иди, иди… — закивала Маруся.
— Давай… — кивнул Пашка.
Сапроненко переводил глаза с одного на другого — что же это за люди такие, что сделалось с ними? Или они были такими всегда, и их он тоже никогда не знал? Одна дочь его, Ленка, смотрела в пол, а рядом с ней он теперь только заметил незнакомого крепкого мужика с совершенно провалившимися глазницами.
«А-а… — сообразил он. — Что ж, все законно». — И скрестился с ним взглядом, по-братски прося простить.
Дверь открылась — звук текущего крана врезался в уши. Палата была большая, светлая, горели все голубые трубки у потолка, в углу стояла белая ширма, за столиком сидели два врача и сестра.
— Вы кто? — обернулась женщина-врач.
— Я муж ей.
— Какой муж? — повернулась вторая докторица. — Мы мужа видели — в коридоре стоит.
— Ну… бывший, — нахмурился он.
— А-а… — сказали они. — Ну… пройдите.
И он шагнул к ширме и увидел, что клокочет вовсе не кран.
«Зачем Ленку пускали?» — подумал он.
Лица не было — блестящая от испарины серая глина с черной лентой бровей, в бинтах. Он стал у задней спинки кровати и смотрел в упор, с ярой жадностью, неотрывно, чтоб запомнить все-все, до конца…
То, что было Галкой, лежало неподвижно, и лишь грудь ее с хриплым клекотом приподымалась высоко и с тем же шумом опадала.
Запомнить… все запомнить… как лежит, как ровно падает свет с потолка — и никому уже не нужное полотенце на спинке койки.
— Отойдите, — сказала сестра со шприцем в руке.
«Зачем колоть? — удивился он про себя. — Разве не понятно, зачем еще что-то, отпустили бы так».
Он помнил Гальку, всю Гальку, от макушки до мизинчиков ног… он знал ее оболочку лучше, чем свою.
Он смотрел искоса — как вонзили в нее шприц, переставили рыжие резиновые трубки в сосудиках-склянках, пузырившихся на стальном штативе в головах. Желтое тело в бинтах лежало плоско, провалившись в белизне простыней, и от смятых грудей до ног, по боку, по животу, уходя в бинты, темнело сплошное черно-лиловое пятно. Нет, нет, можно было и не спрашивать — это, и правда, никак не возможным казалось совместить с жизнью, но в теле жены еще держались какие-то силы, и их хватало, только чтобы прокачивать через горло последние комки воздуха.
Нет, нельзя, чтоб это длилось долго. Тут уже кончилась борьба за жизнь, тело само сражалось с жизнью, оно хотело неподвижности и покоя, но ему не давали того, чего жаждала каждая его клетка. И он, Сапроненко, бывший муж, почувствовал, что и на его щеках возникло, как и на лицах Галькиных родных, это сходное с нетерпением ожидание.
После этого булькающего звука в горле уже ничего не могло быть, но смерть всё не слетала с потолка, всё не брала свое.
«Случайность…» — словно кто-то развел руками в душе, но Сапроненко мгновенно отогнал спасительную уловку. Уж кто-кто, а он, понимал — нет. Не случайность.
«Да брось ты, кончай, конечно, случайность! — нашептывал голос в груди. — И не думай, не морочь себе голову. Ты ничего не решал, все вышло как вышло. Вот уж и муж новый намечался, и дочь твоя жмется к нему, — так что не вклинься поправочка…»
Он сделал тогда как решил. И вот за это его желание писать красками, чиркать углом и выводить карандашом на бумаге лица людей, деревья и города его бывшая жена платила самой жизнью.
Он не хотел, не хотел ее смерти, не хотел этого лица и черного кровоподтека от шеи до ног, он… А какая разница — хотел, не хотел? И неужто для того была поломана жизнь, и Галка уплывает в ничто, чтоб разменять всё на те рубли? Но тогда ведь он мог и не срываться из этого города, тянуть, как тянул. Ведь на поверку все высокие слова — «Ах, искусство!», «Ах, идеалы!»… Ну — что? Слова не найдешь? — обернулись тем же калымом!
Он вышел из-за ширмы, остановился перед врачами.
— Вы сами всё видите, — предупреждая его вопросы, сказала одна из них. — Хорошо, если дотянем ее до утра. Очень сильный организм.
«Да зачем… зачем тянуть?» — внутренне закричал Сапроненко и спросил тихо:
— Ей… больно?
— Нет, — уверенно сказали в ответ. — Она ничего не чувствует.
Он еще раз взглянул на Галку и вышел из палаты, приостановился возле ее нового мужа, кивнул на дверь:
— Иди…
И тот вошел. Потом с ней сидела Валентина Степановна, потом Пашка сбегал домой, притащил им всем поесть, но никто есть не смог, и Пашка огорченно качал головой, потом Маруся увела Ленку, потом они остались втроем — мать и два мужа.
…Начинало светать. Хрип сделался тише и реже, их пустили к ней всех вместе, и Валентина Степановна сидела, держа дочь за руку, а они оба стояли рядом в ногах.
— Как тебя? — тихо спросил Сапроненко.
— Юрий…
Дыхание становилось все прерывистей. Иногда оно смолкало почти на полминуты… Галка лежала неподвижно с опустившейся грудью, и они все напрягались и замирали, пристально смотря на нее.
«Ну вот… — думал Сапронеимо, когда приходила тишина, и впивался глазами в лицо жены. — Ах нет, еще нет…»
Наконец дыхание смолкло, опустилась — особенно глубоко и плоско — грудь. Но они все смотрели, не шевелясь, ждали, когда снова… Дыхание так и не наступало. Сапроненко и Юрий стояли, вытянув шеи. Валентина Степановна держала тонкую серую руку. Подошла врач, наклонилась, подняла Галькино веко, заглянула туда с пронзительной зоркостью, распрямилась.
В Намангане яблоки
Зреют ароматные,
На меня не смотришь ты -
О-ой… Неприятно мне… -
совершенно отчетливо услышал он Галькин голос, как она напевала этот куплетик, обхватив его сзади и прижавшись подбородком к его затылку.
Валентина Степановна сидела около дочери, смотрела на нее.
Глаза тещи были сухи, а лицо будто смягчилось и просветлело.
— Идите… — чуть слышно сказала врач.
— Можно я посижу? — робко подняла лицо Валентина Степановна.
— Посидите…
Сапроненко смотрел на тещу.
— Пошли, — дернул его за руку Юрий. Они тихо прикрыли дверь, миновали коридор, оказались на больничном дворе.
— Курить есть? — спросил Юрий.
Сапроненко протянул сигареты, дал огонька в сложенных «лодочкой» ладонях, и, когда тот, согнувшись, прикурил, Сапроненко увидел как бы свое отражение — застывшее удивление в глубоких впадинах глаз.
Были б слезы, крики, — это было б легче и понятней, но всё совершилось в скупом белом молчании.
Они стояли на больничном цементном крыльце, курили. На улице было по-осеннему хрупко и холодно,
— Я — на предприятие сейчас, — сказал Юрий, — в завком, потом это… в цех. А ты на кладбище ехай, там контора, знаешь? Договорись, машину наши дадут. Два автобуса заводских и этот… фургончик такой. У тебя деньги есть? А то дам.
— Найду, — отмахнулся Сапроненко.
— Ты где будешь-то?
— У тетки, на Первомайской.
— Так ты какой получше возьми. Самый лучший. А мы тогда с Пашкой приедем заберем.
Он пошел к воротам больницы, и Сапроненко увидел, как водит-качает этого здоровенного, еще незнакомого вчера и такого близкого вдруг человека.
Идти к тетке было незачем. Стало быть, что ж… только туда — в тещин дом, в дочкин дом. И он пошел по пустынному, освещенному ранним солнцем городу.
Маруся неумело перекрестилась, когда, он сказал, и отвернулась. Постояла так и сказала:
— Ступай в хату, поешь.
И, войдя в дом, первым делом завесила зеркало шифоньера.
Ленка спала в маленькой комнате. Он присел возле дочки на табуретке. Ленка мотала головой по цветастой наволочке, морщила лоб. Сапроненко смотрел на нее, затаив дыхание, и она, наверное, ощутила это сумрачное давление взгляда и внезапно села, раскрыв глаза.
— Умерла мама?
— Умерла, — произнес он чуть слышно, плохо понимая, может ли она в свои восемь лет знать, догадываться, что это значит. Хотя… она видела вчера. Такое — навсегда.
— Насовсем?
— Ага.
— А зачем?
Сапроненко не понял этого дочкиного вопроса — то ли глуп был детский вопросик, то ли — и в это верилось с трудом — пугающе прям, огромен и прост.
— Не знаю… — ответил он.
— Все-все умрут? — спросила дочь.
— Ты не умрешь, — сказал он.
— А бабушка Валя?
— И бабушка не умрет.
— А теперь будут похороны?
— Ага.
— Уходи… не люблю тебя, — опять стало вчерашним ее лицо. — Не хочу с тобой.
Он смотрел на неё, все понимая, понимая и то, что она чувствовала, и то, что у нее еще не получалось сказать словами.
— Я тебя никогда-никогда не буду любить! — с жаром, страстно сказала дочь.
Он слушал ее, боясь упустить хоть единое ее обращенное к нему дыхание.
— Чего смотришь?! Не смотри! — Она махнула рукой и отвернулась.
— Это я, дочк, в самолете… ушибся, — соврал он и посмотрел на подоконник с Галькиными цветами в горшках. Лоскуток бумаги приковал его внимание. Сапроненко встал, шагнул к окошку, взял бумажонку.
Это был брошенный, забытый в беготне горя бланк извещения на его телеграфный перевод, позавчерашняя сотня. Так что же это? Выходит, не успела Галька? Но легче стало лишь на минуту — так ли, этак — не уйди он от них, вся бы жизнь пошла другими путями, и неправда, будто «от судьбы не уйдешь».
Он подошел к Марусе, уже заладившей поминальную готовку.
— Слышь, Мань, а… когда?..
Маруся догадалась сразу.
— Та ж в среду… часа в два.
«Значит, когда я Ляльке звонить собирался. Еще не знал ничего — ни что купили, ничего, веревки искал. Знать бы тогда — куда эти денежки, на какую покупку».
Надо было идти в контору за этой штукой, которую они оба с Юрием боялись назвать, но прежде — деньги, те самые, хочешь не хочешь — приходилось выручать их на почте.
…Несчастья случались редко в их маленьком городе, и на почте говорили о том, что женщина, «що пьяный сбил — слыхали? — умерла… утром сегодня. Муж ее прилетел, а у ней уж другой завелся, ага… Да что ж, три года — ни ответа, ни привета…».
Он слушал разговор пенсионерок с серенькими собесовскими книжицами, слушал, бессознательно читая какие-то дурацкие правила оформления посылок, бандеролей и ценных писем. Наконец подошла его очередь.
— Пусть адресат приходит. С паспортом. Так не выдаем.
— Она не придет, — сказал Сапроненко.
— Уехала, что ли?
Сапроненко сунул руку в карман и — в какой уж раз! — показал замусолившуюся телеграмму и паспорт с их загсовским штампом.
— Это… я ей… переводил.
Только сейчас женщина в окошечке посмотрела на него, увидела разукрашенное его лицо.
— Та це ж його жинка! — сообразили в очереди. И все замолчали.
И ему выдали эту сотню, забрав, чтоб подшить в свои папки-архивы, срочную телеграмму.
А в конторе на кладбище, видимо, тоже обо всем прознали и ждали: подвели сразу к белой ребристой крышке, узкой внизу, широкой вверху, пахнущей столяркой и лесом.
— Вот, — сказал мастер, — выбирайте. По прейскуранту это, значит… Подушечку атласную возьмете? Сапроненко кивнул, прикусив губу.
— Веночки желаете? Поскольку несчастный случай, посоветую с белым цветком, плетенье отличное, а ленточку белую с голубым. Как написать? Вот вам карандашик, а наш художник очень красиво напишет — можно черным…
Сапроненко смотрел на свитый из цветков белой стружки венок «отличного плетенья» — хлопала дверь, и мертвые цветки долго тряслись на зеленых проволочках. А на ленту что же? Что стучать по трафарету местному букводелу? «Дорогой и любимой жене Гале — от мужа Саши»?
— Не надо венков, — сказал Сапроненко. — Вот этот вот… — он показал на белую крышку. — Другие, может, потом… закажут.
Подъехал грузовик, с подножки соскочил Пашка, Юрий выпрыгнул из кузова и откинул задний борт. Они погрузили втроем и уехали в больницу.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Как положена по заведенному меж людьми правилу, ее хоронили на третий день после кончины.
В маленьком городе и людей умирало немного, хоронили не каждый день, а то и не каждую неделю. И оттого непомерно большим, вольно раскинувшимся казалось утыканное крестами, пирамидками и камнями памятников городское кладбище.
За медленно ехавшей открытой грузовой машиной с красно-черной полосой по борту ползли фабричные автобусы, шли женщины из ее цеха, соседи, знакомые и прохожие — эти узнавали, кого хоронят, и тоже вливались в длинную людскую вереницу.
За машиной с гробом, заваленным венками, за степенно и строго двигающейся этой машиной с поникшими Галькиными родными, шло человек двести, а перед обтянутым черными лентами капотом шагали музыканты и играли — то тихо-тихо, то все громче — это неспешное, похоронное, вырывающее сердце.
Возносились к солнцу стрелы труб, бухал тупыми мерными ударами барабан… гортанно рычал геликон, и тарелки жестяным громом отбивали это музыкальное «никогда… никогда…», и смолкала медь, давала секунду для вздоха — и снова из тишины, из ниоткуда сокрушенно вступала в печальном сплетении голосов мелодия Шопена, вздымалась все громче, все выше, выше… но властно, ставя черту, ни оставляя места надежде, расшибались звонким металлом тарелки.
Сапроненко не посмел сесть в машину с гробом, хоть и тянули его, пошел в толпе, а в машину сел тот, кто и должен быть рядом: бледный, в парадном костюме и синем галстуке с штучкой-прижимкой, Юрий глядел не отрываясь на покрытое кисеей Галкино лицо.
«Хорошего мужика нашла себе Галина — думал Сапроненко. — Отличного мужика…»
До кладбища вилась трехкилометровая дорога, начало бравшая от центра города, по улочкам вдоль кое-где дощатых, кое-где залитых асфальтом тротуаров, по камню, по грязи, и снова по камню, заборы, штакетник, ветлы голые, по знакомым с детства улицам.
Сапроненко видел, что некоторые узнают его, тычут пальцами, шепчутся. Пускай…
На подъезде к кладбищу машины остановились. Гроб сняли, высоко подняли и осторожно приняли на плечи Юрий, Пашка, другие мужчины, и он почувствовал необходимость тоже подставить плечо и нести ее, но опоздал… и мыкался возле, все протягивал руки к белой коробке.
У вырытой могилы высился комковатый вал желто-бурой глинистой земли. Отыграв свое, смолкли трубы.
— Трагически оборвалась жизнь… — начала, выступив вперед, немолодая женщина из цеха, то ли парторг, то ли предцехкома, — ушла от вас наша любимая подруга, веселая наша Галина… — Голос ее стал сдавленным, низким, она перевела дух и заговорила опять.
Отрешенная до этого, Валентина Степановна теперь слушала напряженно-внимательно, ловила каждое слово, будто забыв, почему это говорится, потом спохватывалась, опять тянулась к дочери, а Галка лежала на возвышении, в солнце, и странно разгладилось, похорошело ее четкое, словно вырезанное из светлого дерева, молодое лицо.
Выступали женщины, говорили о Галине — кто что помнил, и многие плакали, теряли слова, подолгу молчали, уходя взглядом во что-то свое, и вспоминали о том, как работалось-жилось рядом с его бывшей женой, прощались и обещали помнить о Ленке.
А Ленка стояла между бабкой и Юрием, и тяжеленная его рука чуть гладила ее голову под черным платком — осторожно, спокойно, и Ленка не отталкивала этой руки с наколотым синим моряцким якорем.
Потом пошли по кругу, человек за человеком, — и до тещи вдруг все дошло, но она не ударилась в крик, а, вцепившись в угол гроба, все раскачивалась из стороны в сторону.
И Сапроненко, не имея сил видеть это, взглянул вверх, окинул широту блестящего под солнцем моря — глаза его вдруг прозрели, и он увидел хилые деревья акаций, голые лапы ветел и стройность тополей в ярой сини неба и моря, игру солнца на железе могильных оград, густую ноту гибели в черно-красном убранстве грузовика с опущеннымн крыльями бортов, неприкосновенное снежное одиночество гроба, рябь веночных цветов и лент, он увидел, как плавилось в солнце золото оркестровых труб, вновь запевших о невозвратности и этой, еще одной судьбы, увидел глаза Валентины и уставшую ждать того, чего все ждали, начавшую уже крутить головенкой дочь, увидел беспредельную огромность того, частицей чего был он сам, и той воли, что двигала вперед их всех…
Он увидел, как опускают длинный белый ящик на веревках в яму, прячут бывшее Галиной Сапроненко, и понял, как это всё надо написать, как разложить краски на палитре, как швырнуть всего себя в едкую терпкость грубого цвета, понял, что нельзя этого не написать, потому что киноварь с сажей и охра с изумрудкой — чепуха, несложно и под силу ему, но главное — эта особенная бледность женских лиц и черная зелень в венках: она отобьет ореолом мокрые скулы, отсветит, откликнется в тенях-и все обовьет и свяжет беспощадность желто-лилового высокого солнца.
«Ты что, спятил? О чем ты сейчас?! Жену твою кладут в землю, навсегда зарывают! Вон уж упала первая горсть…»
…а голову Юрки — общо, силуэтом, одной сильной заливкой и чтоб больше не трогать…
Да нет… о чем он? Все кончено. Опять краски, опять кисти, холсты, лаки?.. Нет-нет, он устал, устал… И до раскрашенных ли холстиков, когда отныне — весь день без остатка для того, чтоб сытая и в тепле жила на этом свете Ленка?
Когда вернулись с кладбища — все уже было сделано, приготовлено руками этих, всегдашних при похоронах, тихих, незаметных женщин.
Все было в точности, как тогда, — толчея, белизна составленного из нескольких, длинного стола: свадьба-свадьбой, только говор потише, поневнятней, не слышно смеха и не хватает кого-то в доме…
Расселись, растолкались — с некой особой предупредительностью друг к другу, будто с пониманием, что каждый — тоже, вот, смертен и от этого никуда…
Сапроненко достался угол — «семь лет без взаимности». Разлили по рюмкам, отодвинули во главу её стаканчик на блюдце — маленький, одинокий и словно сжатый, готовый разорваться осколками от встретившихся, соединившихся на нем взглядов.
Пили. Плакали. Ели.
И Сапроненко пил, не пьянея, ел, жевал с крутым хрустом…
Но вот он оглядел всех за столом и удивился, что за окнами потемнело, а под потолком лучится лампочка.
Все закружилось перед ним. Он вдруг понял сейчас, зачем столько лет ходил, всматриваясь в лица, зачем вообще было всматриваться ему в них, и сейчас он ловил все жесты, полуобороты и мимолетные выражения, схватывал, врезая в память.
— Кушай, Саша, кушай… — Валентина Степановна смотрела на него.
— Кушай, кушай… — провела рукой по его волосам Маруся. — Молодой еще…
Сапроненко усмехнулся ей сквозь слезную муть.
Он напишет картину.
Он расскажет всем об этой семье за столом горя: об этих людях, молоденьких еще и уже отпахавших, отвоевавших, оттуживших десятилетия — всегда в работе, всегда в усилии, прошедших через всё, что дал людям скупой на радости век.
Семья сидела тесно. Семьей были все — и родные по крови, и неродные, мужчины и женщины с ее предприятия, — все сделались семьей, и неотделимой их частью был сейчас он, Сапроненко, пришедший к ним чужак.
И разве не о том же говорила ему не раз Татьяна Михаиловна?
«Вы талантливый человек, Саша. Здесь или там, на родине… не важно, — не зарывайтесь в одиночество, не уходите от людей».
«Связь с народом», — кивал он с насмешкой.
«Называйте как хотите, только знайте — без этого ничего не получится».
«И вы сами — верите в это?»
«Я — верю».
«Да кому мы нужны с вами?.. Набегаются люди, наработаются… до картинок ли после трудового дня? Приткнуться бы на боковую — и привет, граждане!»
«Знаете, Саша, тогда нужно бросать. Бог с ним, с талантом. Бог дал, Бог взял. Только я убеждена, что покуда сие занятие нужно вам самому — оно вообще всем нужно. Тут, Саша, как в физике — помните закон о сохранении энергии? — если где-то убавится…»
«В другом месте присовокупится», — усмехался он, чувствуя, что даже сейчас не может побороть в себе легкой иронии над ее верой, над этой потерявшейся в иных временах, стародавней убежденностью.
«Вот именно! Вы вдумайтесь в это: ваша страсть, когда она перенеслась на холст, не может исчезнуть! Она должна перейти — и она переходит в других людей».
Он смотрел в ее разгорячившееся красивое лицо: пусть думает так, пусть верит в это.
А она все говорила — о том, что в одних людей, в тех, кто повидал искусство, новое — как ток по проводам — входит с меньшим сопротивлением, но в других, в тех, кто еще не «постиг» и не «превзошел», кто не «съел эту собаку», оно входит со страшным сопротивлением… и если входит, то тогда сильней нагрев, и, чтобы входило, нужна совсем другая, огромная сила…
«Вы понимаете, Саша?!»
Ничего он тогда не понимал!
Но не зря летели ее слова. Где-то заронились до поры, и пришла эта пора — на холме городского кладбища и за этим столом со стаканом водки перед пустым стулом.
Пошатываясь — весь хмель ушел в ноги, — он выбрался из-за стола, миновал сени, остановился на крылечке.
Несколько мужчин, светя красными точками папирос, негромко разговаривали на холодке. Сапроненко прислушался.
— Валя-то крепка… — донеслось из темноты. — Не, но щоб так дочь проводить… крепка-а…
— Крепка, слов нет… а я в кухню зашел — стоит вона у окна и эту… таку веревочку с занавески у зубы зажала, стоит, и щоб не слыхал никто… Постояла да пошла к людям.
Мужчины замолчали.
Глаза привыкли, стали различать в темноте. Город спускался с косогора к прибрежью, сбегали уступами крыши, все ниже, ниже черными углами с шестами антенн; горели кое-где окошки, с танцверанды сада Победы долетали звуки оркестра.
Море туманно светилось в безлунье, и узкая черта косы далеко врезалась в него, сходя на нет, пропадая. От моря несло ветерком, едва приметным, чуть касавшимся щек и лба. Над косой, пронзив легкие ночные тучи, поднималась единой точкой света, оставшейся от вчерашнего дня, большая голубая звезда.
Знать бы раньше… все бы знать раньше… Понимать бы, вот как сейчас. И под каждой крышей — живет вот такое, и тайна своя, и скрытая до времени сила… Но как пробиться, как выпытать это у жизни?
Теперь Сапроненко видел, что предал эти крыши родного города, все, что скрыто под ними, под их толем, шифером и железом. И ему было стыдно, до боли стыдно своего угрюмого высокомерия, неизбежно угонявшего в надменное одиночество.
Незаметно для себя он сошел с крыльца, скрипнул калиткой. Невдалеке журчала вода. По памяти, через полусотню шагов набрел на колонку, припал к крану, и холодная вода мгновенно отрезвила его. Никогда, наверно, он так четко не осознавав себя, факт своего временного нахождения под этими блестящими звездами.
Ночь. Городишко, где довелось вот родиться. Дом. В доме — поминки. Галка — одна, заваленная двухметровым пластом земли, там, в той стороне, на холме.
Из этой ночи посреди улицы с колонкой вся та его жизнь смотрелась одним слепящим праздничным утром. Так где, где он был тогда?
Наконец-то, несмотря ни на что, после всего он сумел, смог все-таки связать концы.
Жить, брать жизнь и радоваться каждому дню, тому, что ты есть и можешь кому-то отдать эту радость.
И это в его власти. И с этим — жить.
Но он знал, что опоздал, что время, единственный нужный момент упущен, а он не заметил его, не разглядел, и вот теперь, когда жизнь открылась, когда он нашел то, что так долго пытался нашарить всюду, когда только работать и работать с новыми глазами, — он больше не имел на это права. Впереди были уже не «холостые» дни, а целая «холостая» жизнь… И его замутило от страха перед завтрашним ненужным днем, перед этой пустой будущей жизнью.
Мертвое лицо Галины встало перед ним. Ничего страшного. Обычно и просто, и не все ли равно — когда? Ленка? Не пропадет. Юрка есть, бабушка — все нормальные, люди как люди.
Не было ни страха, ни сомнения — лишь бы остановить это всё, вырваться и улететь, уйти от ясной мысли, что он прошляпил жизнь, что вовек не сделает того, что хотел.
И все… и все… н никаких «холостых»! Не вышло у нас — извините!
Из-под ног его выскочила кошка, отбежала, остановилась, и он застыл. Кошка удивленно смотрела на него. Сапроненко видел ее светлевшую в темноте белую мордочку с темными пятнышками глаз. Она жалобно мяукнула, сделала к нему несколько осторожных шажков, остановилась и мяукнула опять. Он негромко свистнул — кошка стремглав умчалась, растаяла, как не было ее.
Нет, это было б слишком, незаслуженно легко.
Он ощутил подлость того, что пришло на ум — соблазном освободиться от всего. Не-ет… вы заплатите не так, дорогой художничек… вы всей житухой заплатите… вот этой — без красочек-кисточек — житухой.
Ветер дул с моря. Шуршали листья, уже свернувшиеся на зиму.
Сапроненко пробрало жгучим ознобом. Он усмехнулся звездам, вернулся к дому, поднялся на крыльцо, вошел в свет, к народу, пробрался на свое место и сел. Маруся издали посмотрела на него долгим взглядом.
Он отвернулся.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
То серая, то желтая, накатывала азовская волна. То с запада, то с севера задували ветры, и небо над морем, над крышами города то темнело, то вновь полыхало солнцем, из черных фабричных труб поднимались разноцветные дымы, сливались с облаками, изо дня в день меняя направление вместе с ветрами, а ветры гнали все быстрей песок и водную гладь, дули все холодней и на третьей неделе после похорон сплошная осенняя муть окончательно задернула кружок солнца, заслонила синеву, пошли нескончаемые дожди.
Город сделался еще меньше, туманней; отцвели в палисадниках последние цветы, и только жухлые, побуревшие стебли торчали из мокрой черной земли, Пропитались влагой, зачернели частоколы заборчиков, стволы акаций, дождевая вода бежала по-улицам, по старым камням мостовых, с косогора на косогор, все ниже, к прибрежью, потоки свивались в ручей, вода несла к морю щепки, окурки, полусгнившие охапки черных листьев.
А город жил, жил как всегда: разукрасился красным убором на Седьмое ноября — отпраздновал и снова заволокся серым туманом мелкого дождя. И только над портом грохотало, нефть расплывалась по воде радужными масляными кругами, подходили и уходили, валко качаясь с борта на борт и с носа на корму, невеликие пароходы, грузились, забирали в трюмы ящики и контейнеры, сгружали уголь, мазут, бочки кислого крымского вина и снова принимали в себя зерно, отсушенное, очищенное от всякого сора, льющееся бело-желтым потоком, поднимались по трапам пассажиры коротких азовских линий. Город жил. От коптильных фабричек несло вяленой таранью, ложились рядками в круглые жестяные банки с томатным соусом мелкие рыбешки — и отправлялись в ящиках на станцию, в порт, в дальнюю даль, по всем поясам России.
Город жил. Ленка уже ходила в школу, отметки ее поехали вниз… И по русскому и по пению замелькали в дневнике тройки, она сидела на уроках тихая, не тянула руку, не сразу поднимала голову, когда вызывали. И ей все прощали.
Поплакала-поплакала, походила каждый день на кладбище Валентина Степановна, а там жизнь затянула в привычное колесо, и пошло, завертелось: и дом, и Ленка, и на работу — не до кладбища тут каждодневно, с живыми бы поспеть.
Сапроненко вторую неделю возился с машиной. С утра до ночи лежал под ржавым шасси, по пояс сгибался, залезая в капот, потихоньку налаживал, чистил, подтачивал, подгонял и собирал.
— Принимай коня! — подвел его в первый день к этой разбитой колымаге хитроглазый завгар автохозяйства элеватора. — Ну, конечно, починка требуется…
— Конь-то — немножечко мерин… — заметил пожилой механик, кативший здоровенное «зиловское» колесо в темноту гаража.
— Ладно, ладно, работай, давай! — погнал его завгар.
Сапроненко и сам все сразу увидел.
— Резина лысая… — только и пробормотал. он. — Покрышки-то хоть имеете?
Раньше бы он с ходу полез «на грудки»: «Объявление писали — чем думали? Нет уж, извини-подвинься! Шофера требуются — так будьте любезны, машиной обеспечьте! Хрен заработаешь на гробине такой!»
Но он ничего не сказал, да и не один ли черт?
Промямлил насчет колес и заткнулся.
Развалина? А, добро! Ништяк, покопаемся. Хоть и не механики мы, и не наше это дело. Авось и поездим, а что «конь» уж лет сто на автоген дышит — не беда: выкинем проеденный кислотой до дыр аккумулятор, над карбюратором поплачем… А! Все нам в цвет! Не думать бы только, уткнуть все мозги без остатка в эту заросшую грязью зверюгу — и рыться, чистить, клацать домкратами — пускай шоферюги со смеху дохнут, нам бы только в деле этом железном зарыться — и спасибо, и можно жить. И что же, оказывается, живем.
Запчастей в хозяйстве гаража не имелось. Но механики подмигивали и намекали — стало быть, кое-что в заначке хранили. Шоферы учили: «Под аванс с Ермолаевым, с завгаром, сходи в „стекляшку“, посиди, угости, побалакай, Ваську-бригадира прихвати — и всё, парень, ажур полнейший, Ермолаев скалькулирует: через неделю в рейс уйдешь, вон „газ-пятьдесят третий“, видишь, на эстакаде, можно сказать, ничейный и новый почти, а так это тебе вроде штрафа за бабушкины грехи».
Старая история! «Сходи… угости… поговори по-человечески…» Но невдомек было им, веселым шоферам, что плевать ему — с поршнями мыкаться, чужое дерьмо сколупывать иль мотать на счетчик за верный свой километро-тонно-час в копейках.
И снова, как давным-давно, играли в домино у пожарного щита, отбегали договориться с диспетчершей насчет путевых листов, чтоб чего-то дописала, чего-то забыла дописать, и опять хлопали косточками, вмазывали «дупель» и приканчивали «рыбой», уходили в рейсы, гудели у ворот, подкидывали механикам на «ускоритель».
Сапроненко, в замызганной спецовке, перемазанный автолом, не присаживался с ними, как в былые времена, а, скрестив руки, стоял над столом и молча следил за игрой.
У говорливой старухи Федоровой он снял комнатенку с видом на соседский сарай, кой-чего из своего «парада» перетащил от тетки, вымыл на новом месте полы — и у себя, и у хозяйки — заплатил за три месяца вперед и стал жить.
Девятиметровка пришлась ему в самый раз, и кровать впору, и вышивка на стене — Тарас Бульба с сыновьями уезжают, а мать им машет. Глаза у коней были, как у камбал, оба с одной стороны, и это очень понравилось Сапроненко.
В первый же день старуха хозяйка, любуясь мокрыми еще полами, принесла ему вареников, он не отказался, съел с удовольствием.
Вареники, большущие и плохо слепленные, лежали трех сортов: с картошкой, с творогом и вишнями. Он ел, запивая солоноватым чаем, а старуха сидела н рассказывала свою жизнь: и как батрачила девчонкой на купцов Самсоновых, а после на рыбозаводчика Тоцкого, как гуляла-вечеряла, как замужем была…
Так и повелось: он приходил из гаража, мылся, соскребал черное масло с рук, хозяйка — когда угощала, когда и нет, а то и он брал ей в палатке элеватора печенья с конфетами. Отужинав, ложился, забросив руки за голову, и слушал старуху — рассказы ее не кончались и все больше повторялись, многое из рассказанного накануне перепутывалось, изменялось… Он слушал, не перебивал, думал о Галине, о старухиной жизни, о Володьке — написать другу не было сил, слушал — и размышлял, как завтра поговорить относительно тормозов.
Он снял себе жилье там, где вряд ли кто мог его знать, но женщины на улице уж скоро кивали ему по-соседски, а там он прослышал, что Федорова совершенно без памяти от молчуна-постояльца, не нахвалится, всем он ей вышел — и одно только, как чувствовал Сапроненко, смущало и малость огорчало ее: что он в рот не брал никакого вина.
Часто в обед, если выходило со временем, кто-нибудь из своих, из шоферов, подбрасывал его к школе, он встречал Лепку с уроков н доводил до дому. Лепка молчала, отворачивалась, покусывала по-галкиному губы. Раз-другой они столкнулись в школьном дворе с Юрием, пожали руки, покурили, а после, не сговариваясь, устроились так, чтоб встречать дочь и не видеться самим. Но все равно накладки случались: покупали ей одинаковые книжки, и, если опаздывал с подарком Сапроненко, Ленка презрительно морщилась и говорила: «У меня такая есть!»
Он терпел, отворачивался и щурился на туман, стлавшийся над морем, курил, радуясь тому, что осталось хоть это и он может просто видеть ее. На кладбище — не ходил.
Мало-помалу к концу ноября он довел-таки машину до рабочего состояния, отладил, обдал из шланга и с час поездил по территории элеватора.
Вот и снова его несло вперед силой рокочущего мотора, и руки-ноги сами делали, что им положено, втыкали передачи, прибавляли-убавляли газ, а голова механически прикидывала, где пройдут задние колеса и не наскочат ли на бортовой камень.
Приближались холода. Можно было перезимовать и в казенном ватнике, но там — осталось зимнее пальто, еще кое-что из нужного ему добра. Кроме того, нужно было забрать в училище документы.
В виде премии его пересадили на другую, по-настоящему рабочую крепкую машину, на которой он мог без опаски отправляться по зиме хоть в Крым, хоть в Ростов. Перед первым дальним рейсом Сапроненко взял за свой счет четыре дня и в забитом плацкартном поехал в столицу.
В Москве уже лежал первый снег.
Подняв воротник новой куртки, поводя плечами, он быстро, не глядя по сторонам, прошел по длинной темной предрассветной платформе и спустился в только что открывшееся метро.
В раннем поезде вместе с ним катили на свои заводы еще одни только работяги. Сапроненко стоял у дверей качающегося вагона, и ему казалось, что с тех пор, как он уехал отсюда, прошло много лет. Поезд нес его, а он все никак не мог решить куда же поехать сначала?
В училище? К Володьке?
Или — туда?..
Эскалатор поднял его на белый свет. Сапроненко быстро шагал по Арбату, свернул в проходной двор, вышел в другой. Дамочки выгуливали овчарок, собаки носились, празднуя зиму, таскали в зубах палки.
Вот и дом — всё тот же, в изморози на окнах, и мрачная беспредельность в темном парадном — только где-то отблески света на перилах, на ступенях, ввинчивающихся в черноту. А ветер? Нет, не поет. Забито там, где раньше сквозило, — фанеркой заколотили, зима — не лето.
Музыки не слышно было за дверью.
Он нащупал деньги в кармане и нажал на кнопку звонка, напружинился, еще не зная, что и как скажет, чувствуя только, как взглянет, неторопливо, и как не даст захлопнуться крепкой старой двери.
Никто не открывал. Жестокая решимость охватила его. И он навалился всей силой, и жал, жал, не отпуская, и звонок плясал, дребезжал н зудел.
Наконец, движение послышалось за дверью. Она распахнулась, едва не стукнув Сапроненко по лицу, и он еще ничего не разобрал а полумраке, никого не различил, но понял, что ошибся квартирой; хлынул запах людей — живших, дышавших, готовивших еду, приносивших цветы…
— Извините… — пробормотал он, но вгляделся и остановился.
Это была все-таки та самая квартира, он не мог спутать, он запомнил эти разводы на потолке, и вешалку…
— Вам чего?
Перед ним стоял парень лет двадцати, растрепанный, спортивный, испуганный и готовый пустить кулаки от распиравшей его горячей молодости.
— Мне… Михаила Борисовича… — сказал Сапроненко.
— Кого-о? — переспросил парень. — Не знаю… Нет таких! — Он обернулся к дверям в комнату. — Наташка! Тут какого-то Михаила Борисовича…
Из той двери показалась тоже раскрасневшаяся, смущенная и растрепанная головка. Глаза большенные, счастливые, еще не стеревшие счастья с ресниц, удивленные…
— Кого?
— Я здесь был… у знакомого… — сказал Сапроненко.
— А-а! — улыбнулась, как бы сквозь сон, девчонка в голубеньком халатике и выскользнула в коридор. — Вы знаете… — Тут она совсем проснулась и зачастила радостно. — Это, наверно, человек, который до нас тут снимал, пожилой такой, да? Он заболел, кажется, а нам его знакомый пересдал… нам сняли квартиру, потому что с родителями — сами знаете… Ну вот, мы месяц тут живем, а где тот человек, честное слово…
— Ясно, — кивнул Сапроненко. — А вы… молодожены, так понимаю?
— Ну да! — заулыбалась она, и муженек молодой не выдержал, улыбнулся ей укоризненно, а Сапроненко — как бы прося извинения за ненужную ее болтливость.
— Значит, говорите, месяц? — в ответ им улыбнулся Сапроненко, — Ну да, вот ведь… Извиняюсь, ребята, знал бы — не будил…
— А мы так испугались… — все говорила она, — думали, это из домоуправления, потому что мы не прописались. А если мы в Москве прописаны, нам тут тоже надо — не знаете?
— Ой, не знаю! — развел руками Сапроненко.
Они стояли перед ним, чуть обнявшись, такие молодые, такие звенящие…
— Не знаю! — повторил он. — Живите — и все! Ну, привет!
Он ощутил вдруг зависть к этим ребятам и, почувствовав ее, понял, что снова может жить и — живёт.
Выйдя на улицу, Сапроненко остановился. Как же! Заболел он!
Прознал, конечно, что влетел один его знакомый в историю, и решил, пока суд да дело, махнуть на новый адресок.
Или он все время так кочует в огромном этом городе — поди, сыщи его тут!
Сапроненко вошел в кабинку автомата, постоял, припоминая номер, полученный когда-то в кабинетике комиссионного магазина. Номер вспомнился, и он набрал его резкими движениями пальца. И — странное дело — несмотря на ранний час, трубку сняли мгновенно, не догудел еще первый гудок, будто ждали.
— Да… — тревожно, напряженно прошелестела мембрана.
Сапроненко узнал голос Сергея Семеновича.
— Здрасьте! — сказал он. — Не узнаете? Это Сапроненко, художник. Дайте мне новый адрес Михаила Борисовича.
Трубку стремительно повесили. Сапроненко набрал снова. И опять трубка мгновенно слетела с того далекого рычага.
— Да…
— Я прошу вас дать мне адрес Михаила Борисовича.
— Я вас не знаю! — вдруг визгливо зачастила трубка. — И никаких Михаилов Борисовичей ваших не знаю. Зарубите себе на носу: не знаю! В глаза не видел!
— Подождите… — Сапроненко весь сжался.
— Я вас всех не знаю и дел ваших не знаю, поняли?! — кричал Сергей Семенович, но как-то неуверенно. — Извольте меня не впутывать! В тюрьме ваш Михаил Борисович, ясно? Под следствием!
Трубка упала, и пошли короткие гудки.
— Падаль… — прошептал Сапроненко, но Сергей Семенович уже не услышал.
На ослабевших ногах Сапроненко вышел на тротуар и остановился.
С концами! Только сейчас он понял, что приехал-то все же не за пальто, а за теми тремя своими холстами, чтоб выручить их, правдами-неправдами, но вернуть. Теперь все было кончено.
Он бы уже не вытряс их — ни из Ляльки, ни из Антона… Все они теперь сидели тихо, сидели и ждали, как этот, спозаранку. Каждый из них теперь работал только на себя.
Но не было ни радости, ни злорадства, что всем им теперь не сегодня — завтра крышка. А утешения — и подавно! А может — и свист? Может, и нет следствия никакого, и гуляет себе премудрый старик вольно по полному кайфу, потягивает коньячок в другой квартирке или на дачке… наставляет кого-то — как жить на земле?.. А кассетки крутятся, крутятся… намолачивают рубли… Но так ли — сяк, картин своих ему не вернуть, это ясно. Нечего и пытаться.
И он пошел пешком туда, где жили они с другом, — через центр, уже гудевший потоками машин. Город, громадный, бескрайний город, всей массой лиц, дел, окон въезжал в новый свой день…
Ключ лежал, где всегда, в щели между кирпичами.
Сапроненко отпер дверь и, спустившись на три ступеньки, шагнул под свод и зажег свет. Лампочка вспыхнула. Сапроненко обернулся и замер.
Чисто было в комнате — так чисто, как не бывало никогда.
Отмытые от вековечной грязи, поблескивали полы, мебелишка — и та, казалось, обновилась, даже пятна на обоях смотрелись не безобразными расплывами, а словно разбросанными по стенам кусочками абстрактной картины.
Стоял убранный голый стол под лампой, ни сдавленных тюбиков, ни драных рюкзаков, ни сваленных в угол грязных флаконов из-под пинена и лаков, ни тряпок…
«Хозяйка…» — подумалось ему, но нет, хозяйка никогда б не убрала так раскладушки, не заправила их по-солдатски, по казарменному уставу, не расставила б на окне банок с дрезденской гуашью — цвет к цвету, колер к колеру…
Несколько репродукций, паршивеньких, из журналов, наклеено было по стенам — Джотто, Фаворский… Куприн… Серебрякова, Левитан и, конечно, Сезанн.
Сапроненко стоял на пороге, боясь шагнуть в глубь комнаты, оцепенев, боясь что-нибудь повредить, нарушить в этой чистоте.
Володькиной раскладушки не было, и вообще не выглядывала ниоткуда никакая его вещичка: ни смятой рубашки, ни любимого его сероглинного кувшина. На столе лежал конверт, и Сапроненко, со сжатым, остановившимся сердцем подошел к столу, подошел, как бы тайком забравшись в чужое жилище. Письмо было ему.
Он схватил его, разорвал, уже понимая…
«Сашка, мой брат!..»
Сапроненко опустил письмо, перевел дух.
Мелко-мелко, похоже на старую арабскую вязь, тянулись строчки.
Он стиснул зубы н снова поднял письмо к лицу.
«Сашка, мой брат!
Я знаю, она умерла.
Пишу тебе первый раз, слушай.
Моя мать стара. Моя жена одна, ее некому защитить, у меня дочь. Как могу я жить тут, когда они там одни? Какой же я сын? Какой же я отец? Я же еще пока жив, и они живы пока. И ради чего мне быть тут?
Я ходил, ходил… смотрел картины, смотрел книги. Но ведь уже все сделано, Сашка! Всё, всё уже было.
Я знаю, правы, кто говорят, что у меня талант. Но зачем он мне, если все уже сделали до меня? Я не хочу повторять. И я спал, спал… я не мог ходить рисовать этот натюрморт, как кто-то уже рисовал, когда мама там одна, и жена одна, и дочь не помнит, какой я. И я спал, чтобы не думать все время, но все время думал, даже когда спал. Смерть твоей жены меня разбудила.
Мне стыдно за каждый день здесь.
Я знаю, что рано или поздно ты это прочитаешь.
Не сердись. Прощай.
Сафаров».
— Все… — прошептал Сапроненко. — Уехал!
Он стоял с исписанным листком в руке, светила лампа, за окном начинался розовый снежный день. И он почувствовал такую боль, такое одиночество, что, свалившись на табуретку перед столом, уронил голову на руки.
Он сидел так долго, неподвижно, без мыслей, чувствуя, что его несет куда-то, несет и прижимает к серой паутинной стене и вот — прижало, и некуда дальше.
— Уехал! — крикнул Сапроненко. — Уехал, значит? Дура-ак!
Бормоча и ругаясь, он сунулся под раскладушку — вытащил чемодан. К дьяволу чемоданы! Выволок и поднял к свету загрунтованный два месяца назад холст — семьдесят на сто. Белый грунт лег хорошо, нигде не повело, не потрескалось.
Сапроненко постоял, задумавшись, потом не спеша снял и повесил куртку, достал из чулана свой старый, но крепкий еще этюдник, отвинтил винты, расставил его металлические ноги, открыл.
Ну, что ж… всего навалом.
Несколько новых щетинных кистей, незнакомых, вперемежку со старыми. Спасибо, брат!
Он взял угольную папочку и твердо, кроша уголь, провел линию, другую…
Он набросал черными штрихами на белизне — стол, бутылку, перед бутылкой миску, а в ней несколько больших разваренных картошек.
Потом подумал немного и набросал за столом, в пространстве, размытую фигуру человека, лежащего, забросив руки за голову, но уже никто не сказал бы, что это лежит Сафаров.
Красок на палитру выдавил немного, только для подмалевка; белил, охры; светлой умбры, хрома и чуть-чуть марса.
Завтра, в четверг, живопись начиналась с девяти тридцати, и он не знал, какие потребуются краски.
1976
Песня
Посвящаю светлой памяти моего отца
В одиннадцать совершаю должностное преступление. Как все скучные, малоинтересные люди, я склонен к философствованию по любому поводу. Вот и сейчас, раскидывая диван-кровать в ординаторской, расстилая наше «походное» одеяло, я все думаю и думаю. И. обрадовавшись поначалу своим открытиям, через какие-то минуты уже стыжусь их. Стыжусь ужасной неновизны, серой, мешковатой неуклюжести своих мыслей.
Я знаю, что опоздал в жизни, что многие, кто был когда-то со мной наравне, давно меня обошли, и, наверное, поэтому всегда молчу в компаниях, которые тоже не очень-то люблю, молчу, смотрю исподлобья, улыбаюсь, слушаю, до боли в подреберье завидуя тем, кто так вольно, так просто, красиво и умно умеет говорить о литературе, о живописи — обо всем, до чего я поленился дотянуться, и теперь могу только молчать или соглашаться и говорить «конечно», слыша незнакомые имена.
Стыдно перед своей ушедшей молодостью, стыдно потому, что я раз за разом прихожу к выводу, будто не так уж плохи мои дела, коли стыжусь того, что все вот так, как оно есть.
Вот и сейчас, раскидывая диван-кровать с биркой инвентарного номера, я прихожу к поразительно новому заключению — наша жизнь интересна лишь постоянными нарушениями ее формальных законов, этими бесчисленными переплетениями маленьких, тихих беззаконий, которые, наверно, и делают на нее то, от чего она потом называется «сложной», «противоречивой».
Нельзя спать на ночном дежурстве. Но в нашей ординаторской, как в любой ординаторской, есть постоянный комплект свежего белья, и об этом знают все: и сестра-хозяйка, и главный, и это, правда, нехорошо, но все спят, и я сплю, потому что, стоит только скрипнуть двери, и ты уже на ногах — спим мы не раздеваясь, лишь сбросив халаты, — ты уже бодр, уже сидишь, торопливо завязывая шнурки на ботинках, и, глядя исподлобья, коротко выспрашиваешь: «Как? Когда? Сколько кубиков»? А после бежишь… Нельзя спать и сестрам.
Но и они дежурят по своим законам — одна на посту, а две спят на кушетке в процедурной, тоже готовые вскочить и бежать в любую секунду, и, когда они вступят в дело (это проверено на практике), две успевшие поспать сестры работают лучше, чем три сонные. И так во всем, во всем…
Наверное, оттого, что мысли мои всегда бегут вот по такому размытому, неопределенному, всегда одинаковому кругу посылок и умозаключений, я остался один в свои тридцать четыре года, живу тянущими за сердце воспоминаниями о давным-давно, лет шестнадцать назад, пролетевшей весенней любви, когда однажды с букетом сирени я вбежал, как пьяный, в ночное закрывающееся метро и вступил не на уносящий вниз, а приносящий эскалатор и все боролся с силой, что тащила назад, все никак не мог понять, что же это, почему.
Да, жизнь бежит и несет на себе всех и вся, и правых, и виноватых, и педантов, и нарушителей. И медсестру Наташу, о которой сплетничают, на которую некогда с высоты своей абстрактной чистоты взирал и я сам.
Но что, что, да еще и по слухам, я брался осуждать в ней? Разве знаю я, как именно должно быть все у людей? И было ли вообще то, что я так спокойно осмелился осуждать? Да и что осуждал я? Неужели то, что она хотела любить и любила? Или то, что ночами около ее стола, на посту в коридоре, сидели мужчины, молодые и не очень, и она говорила с ними о чем-то…
И так однажды, размышляя об этой красивой, тяжеловатой двадцатисемилетней девушке, начавшей и почему-то бросившей институт, в который поступила с первого захода — не в пример многим, — я неожиданно увидел всё как оно и было на самом деле, — увидел, и меня окатило стыдом, тем жарчайшим стыдом за скудость и бедность того, что есть я.
И вот уже года три смотрю на нее со странным уважением, как на человека, который, несомненно, больше меня самого этим спокойным превосходством душевной силы.
Наверно, то, что понял о ней я, знает и наш главный врач, или просто главный, и я люблю главного за то, как он коротко и резко обрывает все новые сообщения о ночной Наташиной жизни.
— Она отличная сестра, — быстро говорит главный. — Все остальное мне неинтересно. Да, так как там у нас с пилокорпином? Пятипроцентный? В аптекоуправление звонили?
Полночь скоро. Спит больница. Наше отделение считается спокойным, здесь не умирают. Почти никогда не умирают, хотя много стариков. Нет густого неистребимого запаха тяжелых отделений, и дежурства проходят без закрытых наутро историй болезни и сообщений для родных в справочную.
Выключаю настольную лампу и лежу в темноте, заложив руки за голову. Как тихо! Окна выходят во двор больницы, и только иногда ветер вдруг дернет железо крыши, загудит. Вспыхнет голубым, и осыплется искрами трамвайный провод…
Руки… руки… Почти всегда эти мысли о руках. Мои неумные, неинтеллигентные руки и руки шефа, в которых гениальность, странные руки с необычными, какими-то тупорылыми тонкими пальцами, но в них гениальность, как в мужицкой бороде Толстого и печальных очках Чехова. А мои руки тяжелы, и я знаю об этом от больных: они устают под моими руками, я вожусь, аккуратничаю, стараюсь, пыхчу… И всегда, когда особенно становится тяжело, вот как в это, может, тысячное мое ночное дежурство, я задаю себе один и тот же вопрос: да или нет? Будет ли, придет ли когда-нибудь ко мне та страшная легкость, с какой он, будто играючи, работает иглами и ножами, и почти всегда счастье блестящей удачи, или это правда свыше, и я до конца так и пребуду в сем качестве среднего, надежного, толкового, но навеки привязанного к земле…
Уже девять лет я здесь. Высокий стабильный процент успешных исходов и гладких течений. Видно, от той же лени я не пишу и не собираюсь садиться за кандидатскую, вообще как бы сторонюсь науки, исследований, статистики… Только иногда вдруг подкатит зависть к кому-нибудь, кто придумает, как проще и быстрее набрасывать петли швов, — усмехнусь втайне, будто теша себя, что и я думал об этом и даже несколько раз применял на столе уже года три назад… В общем, кольнет и отхлынет.
И только все терзаю кроликов, пытаюсь приучить руку к тому движению, каким шеф, будто в воздухе, прочеркивает, взрезая поле, и вот оно уже кровоточит, а больной улыбается, слушая торопливую веселую скороговорку шефа, отвечает шепотом…
Зачем мне в науку? Мама… Она все еще верит в меня, в мою «высокую звезду». А я, скорее всего, никогда не создам школы, не возглавлю направления… Я умею с правильными ударениями читать стихи, но писать их мне не дано. Да, мама, не дано.
Мне словно и не хочется ничего. Были бы только вот эта жизнь, больные, конференции, спирт на руки, антисептик в тазу, иглы, офтальмоскопы, громадные зрачки в окулярах щелевых ламп с красной полоской на дне черного космоса бездонного глаза…
Я начинаю засыпать, думая о том движении, о том движении, каким шеф открывает операционную рану, когда… когда…
— Александр Павлович! Александр Павлович!
— А… да? — Я стремительно просыпаюсь и сажусь на кровати.
— Слушаю, Наташа!
Она стоит на пороге ординаторской, встревоженная.
— Да! — вскакиваю, надеваю ботинки, халат, быстро мою руки, слушаю.
— Скорее, скорее, Александр Павлович… Она уже…
И вот мы бежим по ночному коридору, где одиноко светят друг другу на далеких постах две лампочки. Над одной из женских палат горит сигнал.
Мы вбегаем в палату, там шум, переполох, женщины испуганно смотрят с кроватей…
Боже мой, Шаврова! Откуда столько сил в этом иссушенном теле? После наших операций, чтоб был успех, нужна неподвижность. Одно неловкое, поспешное движение — и все летит… Восьмидесятилетняя Шаврова — крохотная, с худенькими ручками и ножками. Кувыркается, отталкивает нас, часто-часто бормочет низким надтреснутым голосом. Острый несчастный нос торчит из бинтов повязки. Как только взял ты ее на стол, отважный ты парень, Юрий Михайлович?.. Какой уж теперь успех… женщины на кроватях вскрикивают.
Все ясно — послеоперационный психоз. Обычная история у таких стариков. Что же я завтра скажу Юре? Конечно, глазу конец.
— Быстро! — это я Наташе. — Бинты! Много бинтов.
Ах, умница, вот они, бинты, уже принесла. А меня поняла, потому что ведь правда восемьдесят, все, все может быть.
— Снизу продевай, осторожненько, о-от так! Не затягивай, теперь давай под сетку, ага…
— Ой, боже ты мой! — хрипит Шаврова. — Ой, боже ты мой! Мама… Мама-а… Ну, я пошла в гимназию… Ох…
И снова торопливый, спутанный гонор. И снова «гимназия».
— Завязывай… Во-от так… Спокойненько, бабушка. Еще бинт давай, руки прижми, осторожно…
И вот она лежит у нас, и Наташа крепко и нежно удерживает ее голову. Я знаю — она будет так сидеть до утра. Надо старухе что-нибудь вколоть, но что? Как узнать, какие нужны нормы и дозы, когда одно прикосновение может притушить последние огоньки жизни…
— Кипятильники…
— Готовы.
— Подержи ее, я сам. Девочки где спят?
А на постах и в ординаторской разрываются, подскакивают телефоны. Сестры уже проснулись, бегут со всех ног. Глаза виноватые. Я хватаю трубку.
— Приемный! Что вы, черт возьми, дрыхнете там, десятое отделение! Почему не снимаете!
— Дежурный слушает.
— Давайте к нам быстро! Старик тут у нас…
— В сто девятой Наташе помоги! — уже на ходу кричу я Ларисе, вбегаю в палату со шприцем в руках. Нет, девочки. Вам колоть не дам. Только сам. Острый хвойный запах спирта и новокаина. Сухой щекочущий запах.
— Ох, боже ты мой. Пустите! Пустите!
Женщины всхлипывают. Маленькое тщедушное тельце на полосатом голом матраце. Простыни она умудрилась забить в ноги. Приподнимаю ее. Она весит… Да она ничего не весит. Чья-то бабушка. Мама. Наверно, уже прабабушка.
— Лариса! Держи голову. Вера — на пост. Сменишь Ларису. Наташа, со мной, в приемный.
— Кто там?
— Старик какой-то.
С офтальмоскопом, с тонометром под мышкой бежим по лестнице к приемному покою.
— Из глазного? Вы что, черт вас возьми! Вы будете работать когда-нибудь, черт вас возьми?! Подам рапорт. — Настасья Артемовна, маленькая горбунья, герой войны, прекрасный лекарь, закутанная в громадный пуховый платок (в приемном покое, как всегда, холодина), кидается ко мне на своих коротеньких ножках. — Я вас выгоню к чертовой матери! А, это ты, здравствуй. Смотри старика.
А вот и старик. Да ему лет сто. Коричневый до черноты, с грязной серой тряпкой на глазу. Тоненько стонет, когда приподнимаем его под локти и ведем к свету.
— Шапку снимите, дедушка.
Да он слепой! Глаукома — видно и так по мутному зрачку незавязанного глаза. Значит, приступ. Снимаем тряпку.
— Ох!.. — Не могу я удержаться. Никогда не видел такого. Давление? Глаз тверд, как камень, и легчайшее мое прикосновение… Проклятые тяжелые руки! Старик вскрикивает. Наташа смотрит на меня, как я отдергиваю пальцы.
Давление — не меньше семидесяти… при норме около двадцати… Глаз разорвется с минуты на минуту.
— Документы есть? — быстро спрашиваю я. — Оформим после.
Бросаюсь к телефону:
— Операционная! Валентина Сергеевна!
— Да! — говорит она степенно, будто и не спала.
— Это я. Экстренный. Приготовьте малый набор. Сейчас начну.
— Хорошо.
— Машина есть? — оборачиваюсь к Настасье Артемовне. — Нет? Ну ладно! На носилки быстро — и к нам.
— Как фамилия, дедушка?! — кричит ему в ухо сестра приемного покоя.
— Кто с дедушкой приехал? — вторая сестра открывает дверь в общий зал, где сидят родственники. — С дедушкой — кто? — и оборачивается к нам. — Нет никого, Настась Артемовна. Дядька привел какой-то. Ушел, что ли…
Настасья Артемовна шарит у старика за пазухой и достает что-то завернутое в тряпку. Кивает мне:
— Всё тут. Пенсионная книжка, паспорт. Забирайте.
— Мыть будете? — быстро спрашивает сестра приемного.
— Не успеем. Обработаем после.
— Я запишу.
— Да, да.
Мы кладем старика на носилки, он вскакивает, мы придерживаем его, он сучит по брезенту ногами в валенках.
Санитарная машина, рев мотора, ночь, пятна света от фар по стволам старых деревьев… Старик уже воет… Лифт… Каталка…
Я бегу в операционную, на ходу скидываю халат, бросаюсь к умывальникам, к тазам с раствором, ввожу руки в рукава стерильного халата. Валя завязывает, натягивает тесемки маски, колпака.
— Хорошо?
— Порядок, спасибо.
— Эну?
— Конечно.
Энуклеация — удаление. Больше ничего не придумаешь, и это спасение: боль бьет прямо в мозг, боль страшная, непонятно, почему он не теряет сознания — от старости, наверно… Что-то притупилось.
— Негодяи…. до чего деда довели…
Он уже лежит на столе в серо-розовых подштанниках, с большим позеленевшим крестом на темно-коричневой груди. Ну…
— Дедуль, слышишь меня?
— О-ох…
— Терпи, дед! — это я.
Но слышит ли он, понимает ли? Да и что та боль, которой я ему угрожаю, против этой?
Нащупываю ямку около уха, игла с хрустом входит в нерв. Но я уже не успеваю, и, когда мы пытаемся подвести расширитель, глаз лопается прямо под нашими руками от страшной натуги, и я вижу тончайший фонтанчик крови и глазной влаги, поднимающийся и сверкающий в луче бестеневой лампы. Ну вот и всё.
Глаз сразу сжимается. Нам остается только кончить дело. Валя, придерживая деда одной рукой, подает мне инструменты.
— Анатомические… подержи вот так… Ну…
Всё это надо бы под общим, но у старика шок. И… что уж там!..
Я вывожу яблоко из глазной щели. Валя убирает кровь, сушит. Зажимаю нерв, перерезаю. Все! Теперь культя, мешок конъюнктивы. Ну вот. Вставляю тампон, обеззараживаю. Пенициллин.
— Завязывай. Ну, дедушка, живой! Ну все, дорогой, ну все, мой хороший. Ты прямо герой у нас. Как звать тебя?
— Василий, — шепчет старик.
Перекладываем его на каталку.
— Александр Павлович, куда класть?
— Ни одного места?
— Ни одного.
— Давай в холл, а там видно будет.
И его увозят. Мы стоим с Валей в оцепенении.
— Да, — говорю я, глядя вниз, — глаз заформалиньте, пожалуйста, и на лед. Мне кажется, Лидии Николаевне пригодится, для диссертации… дегенерация глубокая, интересно.
— Хорошо. Отдохните, доктор.
— Н-да… Да-да…
Я пожимаю зачем-то плечами, снова надеваю нестерильный халат, разоблачаюсь, одним словом, выхожу.
Иду мимо лестницы и замечаю Наташу за кривым стеклом — она показывает мне пачку «Опала». Киваю и заворачиваю к ней.
— Уложили?
— Все хорошо, Александр Павлович. От окна отодвинули. Спит.
— Старуха как?
— Тоже спит.
Тишина в больнице. Но наша тревога, беготня, звонки разбудили больных, и вот начинается хождение, шлепанье ног, осторожные шажки, постукиванье палок. Всегда в это время, будто в некий фазис входит луна, пробуждаются среди глухой ночи старики, почти одновременно, и идут, идут в уборную и из уборной, ведут слепых, сплошное движение в полутемном коридоре, шаги, шаги.
— Давно мы не дежурили вместе, — говорю я Наташе, затягиваясь так, что холодеет в ногах. — Как вообще… жизнь?
Она пожимает плечами, чуть приподняв бровь.
Мне хочется сказать ей что-то хорошее… или о том, что лежит на душе, — это тяжелое угрюмое чувство неприязни к самому себе, оттого что никак и, наверное, уже никогда не научусь спокойно и привычно бросать на лоток удаленные глаза, — но я только курю, и от крепкого болгарского табака кружится голова.
— Хороший старик, — говорит Наташа. — Верующий. Знаете, мы его уложили, а он: «Христос с вами, Христос с вами».
— Да, — говорю я. — Не знаешь, когда умирают, хоронят с крестом?
— Не знаю. Кажется, да.
— Ты к Вике заходила? Как она?
И снова то же движение: пожимает плечами и поднятая бровь.
— Знаете, Александр Павлович, — говорит Наташа, сбивая осторожным постукиванием пальца хрупкий столбик пепла. Пальцы у нее длинные, с аккуратно подстриженными ногтями, в руках простота и чистота. — Только вы не смейтесь, хорошо?
— Постараюсь.
— Знаете, я опять поступать хочу. Дура, да? Скажут — ненормальная.
— Пусть говорят. Поступай.
— Вы думаете?
— Думаю.
Почему она меня спрашивает? Разве я знаю? Разве могу давать советы? Я снова смотрю на ее руки. На эту ясную открытость больших спокойных рук.
— Хорошие у тебя руки, — говорю я, и меня тотчас охватывает стыд. Что-то сказано не так. Стоило бы мне только проговорить: «Хорошие у в а с руки», — и не было бы этой чуть нагловатой, фатовской ноты заигрывания. Ее и не было, но можно понять именно так, и мне стыдно. Стыдно, хотя мы уже немало лет в этом неравноправном положении: «ты» и «вы».
Бывают минуты, когда тебе вдруг делается совершенно очевидным, что ты, самое тайное твое разгаданы и поняты, что в тебе читают, как в книге. так и сейчас. Наташа чуть улыбается, и в углу ее рта еле заметная складочка боли. И еще то ли сожаления, то ли сострадания. И хоть я давным-давно не верю в то, что людей вредно жалеть, мне самому этот ее взгляд сейчас мучителен.
— Простите, — говорю я, нахмурясь.
Мы молчим, и вдруг снизу, из общей хирургии, из лестничного пролета, вспарывая ночь, слышен долгий, пронзающий крик: «Не хочу-у-у!»
Мы оба вздрагиваем. У них там, внизу, тоже свое. И там все куда страшней, чем у нас…
— Не-е хо-о-чу-у-у-у-у! — Нельзя понять, женщина кричит или мужчина, от боли или от страха смерти, что наваливается иногда ночью на всю больницу, и тревожны тогда все, и бегают с кислородом, и топот ног, и непременные летальные исходы… Наташа плотнее прикрывает дверь в наше отделение.
— Н-да, — говорю я. — Ты в полостной хирургии работала когда-нибудь?
— В училище, на практике.
— Это все чепуха. Слышала? И вот так каждый день. Крик, кровь… очень тяжело. У нас, как говорится, семечки.
— Я знаю. Но я хочу быть глазным хирургом.
— Что ж. Нива знакомая.
— Дерзать?
— А почему ж нет?
Догорает сигарета, и мы идем в отделение. Сегодня одна из таких тяжелых ночей, в палатах разговоры, стоны. Но есть люди счастливые, крепкие люди, которым нипочем и это общее гнетущее ожидание: «Скорей бы кончилась ночь!» Слышен их хороший ядреный храп. И Салтыков, верно, вовсю почивает в своем персональном боксе. Ну и слава Богу. Почему-то кажется, что ему не должны сниться сны.
Три часа. До утра еще пять. Захожу в холл, зажигаю свет. Старик всхрапывает на кушетке под пальмой. Злобно вздрагивая, стучат громадные холодильники. Я подхожу к старику, осторожно беру руку, нахожу пульс. Ну, ничего. Девочки уже переодели его, и он кажется совсем тёмным, как индус, в белых одеждах.
Витька болтает ногами, присев в кресло-каталку, потом отталкивается, едет по коридору и наезжает прямо на меня.
— Здравствуйте, — говорю я. — Это еще что такое?! Ты что — спятил? Три утра! Спать!
— Здрасьте, Сан Палч! — Нахальный глаз светится по-кошачьему. Щурится. — Сан Палч, а вы дежурите, да?
— Нет, — отвечаю. — Собак гоняю.
— Значит, спать надо, — понимающе кивает он.
Ему тринадцать. Рогатка. На глазном дне крохотный кусочек немагнитного металла. Если его не достанет шеф, не достанет никто. Вторую неделю Витьку водят в рентгеновский кабинет, снимают инородное тело со всех точек, таскают к студентам, показывают. Он больной шефа, привилегии и эта жизнь ему, как я понимаю, очень даже по сердцу. Сейчас он смотрит на меня с вызовом и интересом пытливого экспериментатора.
— Ну, — сообщает он, — я пошел.
— Подожди-подожди, — хватаю его за острое плечо. — Ишь разбежался. А кто на место поставит?
— Эту? — кивает он на каталку.
— Нет, — говорю я, — ту.
— Садитесь — прокачу! — предлагает он широким жестом.
— Борисов, Борисов, — говорю я, стараясь наддать побольше дидактики голосу. — Где ваше пионерское сознание?
И в тот же миг я перестаю быть ему нужен, интерес его ко мне иссякает. Про пионеров — скучно. Он отворачивается и бежит вприпрыжку, толкая перед собой это кресло на велосипедных колесах, потом невероятным образом обгоняет его и на ходу успевает вспрыгнуть и усесться. Я только охаю, грожу ему издали, он ухмыляется и уходит в палату.
И снова ординаторская, сбитое шерстяное одеяло, подушка. Ложусь, чувствуя бесконечную пустоту, знобит, я сплю и не сплю, просто лежу с закрытыми глазами, вслушиваясь в звуки ночи, а в ушах все тот же крик: «Не хо-о-чу-у-у!»,
По потолку время от времени пробегают светлые пятна, иногда оранжевыми и синими вспышками отмечается прибытие очередной «скорой». Девять лет я здесь, но так и не привык к этим ночам острой тревоги, к этим потокам «скорых», несущихся сюда со всех концов огромного ночного города. Здесь слишком высока плотность боли и тревоги на квадратный сантиметр, я это чувствую всегда, особенно сильно ночами. Здесь замкнуты все круги — от приемного для рожениц до далекого, приземистого, задвинутого на самый край больничной территории двадцать четвертого корпуса. И, как всегда, в эти ночи мне ломит виски от напряжения, что исходит из каждого окна, из широких проемов операционных. Я сжимаюсь на кровати — меня придавливает этими тысячами атмосфер боли, страха, надежд, счастья.
А ветви деревьев за окном качаются из стороны в сторону на фоне чуть светящегося ночного неба, качаются, качаются, и снова синие вспышки по потолку.
Лежать бы так долго-долго, ловя и продлевая каждый миг этой холодной неподвижности.
В тумбе письменного стола — книги.
Я знаю — там ответы, мысли, к которым надо снова и снова приходить по спирали своего блуждания по жизни — все выше и выше, год за годом, все сложней, виток за витком, но до чего же трудно идти на балы, охотиться и толковать с умными крестьянами, зная, что сейчас рядом гаснет свет чьей-то судьбы, полный неутолимого ожидания счастья. Ну вот, старик этот. Значит, так и никак иначе должны были десятки лет складываться обстоятельства, чтобы лежать ему сейчас в холле, под пальмой, в темноте навсегда, а сколько, верно, было всего, сколько мук было принято, сколько водочки выпито, сколько слез удержано в горле с того дня, как окунал его, орущего и голого, бело-голубой батюшка в серебряную купель, в святую воду, отгонял и заклинал нечистого, дабы никогда не касался малой души сей… Ну и что же? Один, темнота, некий исполненный завет, валенки в больничном цейхгаузе, стук холодильников, все тот же крест на груди и скорый неизбежный конец.
Уже светлое утро за окном, когда меня будит телефонный звонок.
— Александр Павлович! Это Юрий Михайлович… Просит вас…
Ну — так. Всё понятно.
И я тут же мысленно прикидываю, как поеду в утренних поездах метро, как поднимусь домой, сброшу пальто, мама даст завтрак и заведется у нас обычный нескончаемый разговор, от которого мы оба так давно устали, но я буду слушать ее, отрываясь от телевизора, буду отвечать, потом разговор раскрутится, станет горьким, будут задеты и ее и моя болевые точки, — мы разойдемся по комнатам, потом улыбнемся друг другу, дадим слово впредь прощать друг другу все, а через полчаса уже забудем об этом.
Так прикидываю я и понимаю: этот ранний звонок спасет меня от разговоров, от долгого хождения по комнатам с изредка мелькающим в зеркале нервным неприятным лицом.
— Слушаю, Юрий Михайлович.
— Понимаешь… Даже не знаю, как сказать, тут так получилось…
— Короче, — усмехаюсь я, глядя в окно. Дождь.
— Понимаешь…
— Только не ври. Что у тебя там — «тещу в санаторий» или «с Ленкой сидеть»?
— Честно? — Голос его сразу меняется, теперь в нем облегчение, нет растерянной, заискивающей просьбы. Могло бы и вовсе ее не быть. Ну да что там! — Мне сейчас один парень позвонил… сегодня на Дмитровское кое-чего для «тележки» моей должны подбросить. Ну, сам понимаешь, надо переть, в хвост становиться. Хорошо, ежели к закрытию отоварюсь.
— С вас пол-литра, — говорю я то, что говорю всегда в этом случае.
— Так я могу быть спокоен?
— Почти. Твоя Шаврова нам сегодня такой цирк устроила!
— Ну-у! — в голосе тревога. — Ты смотрел?
— Да нет еще. Боюсь. Прикрутили до утра.
— Психоз?
— Семь баллов по Рихтеру. Если кровоизлияние, так я уж на свое усмотрение…
— Я позвоню. Слышишь, Саша? Позвоню! Ты ее часов в двенадцать открой, посмотри, а я, если что, подскочу.
— Ладно.
— Ну уж спасибо тебе, так спасибо! — заканчивает он уже совсем бодро и — гудки.
Вот всё и решилось. Я тоже чувствую облегчение — нет, невозможно, совершенно невозможно было бы сейчас ехать домой.
И я снимаю трубку.
— Доброе утро, мамочка…
— Где ты? — тусклый и хрипловатый спросонок голос.
— На работе. Как ты себя чувствуешь?
— Как всегда. Ты скоро приедешь?
Я молчу. Всякий раз я спохватываюсь, вдруг вспоминая о ней, понимая, чем куплены это мое облегчение и ясный взгляд на два дня вперед.
И мне уже стыдно, уже неприятен очаровательный Юрий Михайлович, противен его просительный голос, еще звучавший в ушах, в котором уверенность, что отказа не будет. А ей? Ну что ей? Смотреть «Сельский час», мультипликации, каких-нибудь гадов заморских в «Мире животных» и все время — одной. Но при чем здесь, собственно, Юра? Не отказался ведь я сам.
— Сашенька, ты скоро приедешь? Я испекла пирожок, очень вкусный.
— Мамочка…
— Что?
— Тут так получилось, товарищ позвонил, придется подменить его. Ты уж…
— Ну ладно, — говорят она, помолчав. — Так мне, значит, тебя не ждать?
— Нет, — отвечаю я и морщусь, постукивая ногтями по трубке.
— Что-то стучит, — говорит она тихо.
— Это… я стучу.
— А я так хотела…
Я знаю. Она хотела. Она мечтала. Ждала. Она так ждет этих воскресных дней.
— Саша, так, может быть, мне поехать к нашей Зиночке?
— А что? — подхватываю я. — Очень хорошо. И пирог повези…
— Саша, — очень тихо говорит мама, и мне делается совсем не по себе от того, как она это говорит. — Сашенька, что ты говоришь, подумай! Неужели ты не понимаешь, сыночек?
— Ну, мам, прости. Я съем его весь, слышишь? До крошечки.
— Так я поеду?
— Да-да, конечно. Оденься потеплей. Дождик.
Это я проявляю заботу, ловя ее голос, стараясь запомнить каждое придыхание, каждый звук, — ведь у меня нет никого дороже.
— Я исправлюсь, слышишь, мама?
Она молчит.
А я бросаю короткий, мгновенный взгляд в будущее, в то время, где ее уже нет, зная, что та моя жизнь будет одним непрестанным укором себе, одним долгим — навсегда — сожалением о тех днях, когда я мог еще быть с ней, слышать ее.
И опять в трубке гудки.
Надо приниматься за новый день. Значит, кофе. Крепкий, густо-черный. И свежий халат обязательно, блистающий, белый до голубизны.
А в коридоре уже шум и металлический стук: идет раздача, привезли завтрак, разносят по палатам, и долетают слова:
— Третий стол — кому? Седьмой — кому?
Сажусь на пост и быстро просматриваю «истории». Кому что назначено лечащими, процедуры, подготовка к операциям на понедельник, температурные листы, выписки. Сегодня мой Гришин уходит.
— Это дедушка в холле, — говорит Наташа, протягивая мне новую, еще тоненькую «историю». А что…
— Ты чего домой не идешь? — спрашиваю, пробегая строчки «истории». Оказывается, его фамилия Жаркин. Какая веселая молодая фамилия. Пастушок Вася Жаркин. Кнут, рубашонка, весна, коровы мычат, солнце… Василий Никанорович Жаркин. — Слышишь, Наташа? Иди. Смена пришла.
— Не хочется что-то.
— Бывает, — бормочу я, упершись глазами в цифру. Ничего себе! Девяносто шесть! — Не ошиблись?
— Все правильно. С восемьсот восемьдесят первого.
Что-то знакомое в этой цифре. А… Ну конечно. Метальщики; бомбы; летят обломки кареты, толстый чернобородый человек в эполетах на снегу первого дня марта, и бледная маленькая женщина на помосте эшафота. Девяносто шесть лет. Как пришелец… Впрочем, он и есть пришелец. Страшно. И я вспоминаю окровавленный глаз на лотке.
— Очнулся?
— Слабенький очень.
— Глухой, наверно, совсем.
— Что вы, все слышит.
— Ну, посмотрим. Это чья? — показываю на еще одну, тоже новенькую «историю». — Ее?
Наташа кивает и отводит глаза. Мы молчим. И я, нахмурив лоб, просматриваю то, что назначил ей главный. Ну да. «Полн, покой. Строг. пост. режим. Внутривен. вливание из системы».
— Капельницу поставили? — спрашиваю глухо.
— Алла Михайловна просила, чтоб вы сами поставили.
Я киваю. Сколько можно проходить мимо этой палаты, будто мне и невдомек?! Мы уже словно прячемся. Но делать нечего.
— Пошли. Приготовь баллоны, иголки.
— Хорошо, — тихо говорит Наташа и уходит.
Вчера у меня стало одним врагом больше. Я не знаю его в лицо — оно сливается и моем сознании с лицами всех тех, кого я ненавидел и называл своими врагами.
Просто он есть, этот новый враг, и неважно, где он сейчас крутит свою баранку, хамит, окатывает грязью из луж, торгуется, закусывает у стойки или скрипит зубами, завидев «гаишника». Он — есть, а остальное неважно, как неважно найдут его или нет, а если найдут, то неважно — накажут, уволят, лишат премии или переведут на месяц и мойщики. Это уже все неважно.
— Александр Павлович, здравствуйте. — мертвенная слабость в голосе, покорная и уже смирившаяся тусклость глаз.
— Здравствуйте, Алла Михайловна.
Она подходит ко мне в своем белом халате, и я, не находя слов, беру ее за руку. Молчим, и слезы блестят на ее ресницах, и их так много, что странно, почему они не стекают вниз по щекам.
— За что так? — шепчет она, — Я ничего не могу понять. Ничего.
Ей нужны мои слова, надежды, утешение, может быть, ей просто нужно, чтобы я тоже заплакал вместе с ней.
Вот так, прямо на глазах, будто физически ощутимо, уходят из людей те годы жизни, что они могли бы прожить, но уже не проживут. И нет у меня сил посмотреть в лицо этой матери, потерявшей все надежды.
Я молча глажу ее руку, а она только часто-часто кивает мне.
— Ну вот, — бормочу нелепо. — Ну вот…
А сам думаю — сколько же у меня врагов!
Мой враг тот, кто, вешая однажды в зале института новый транспарант, плохо вбил гвоздь. Полотнище, обтянувшее тяжелые рейки, сорвалось вниз. Сотрясения у Вики не было. Отслойка. Двусторонняя.
Мой враг — сама природа: не позаботилась о том, чтоб сделать прочней сетчатку — она укреплена и глазу только в двух точках. Но откуда знать природе, что кто-то может плохо вбить гвоздь?
— Мы ей будем глюкозу вводить, по капельке, — бормочу я. — Очень помогает… витамины…
Алла Михаиловна усмехается, глядя в окно. Дождь.
Еще вчера утром мы провожали их всем отделением, махали в окна. И они улыбались нам внизу и тоже махали, а Алла Михайловна удерживала ее руки: «Осторожней, осторожней…»
Она лежит на той же кровати, у окна, и опять на ее глазах ватные подушечки, и лицо желтое, вымученное, с оттянутыми вниз уголками ненавидящего рта. Я осторожно присаживаюсь на краешек кровати, осторожно касаюсь ее холодной влажной руки.
— Здравствуй, Вика. — На меня со всех сторон смотрят женщины в палате. Два года назад, когда ей было девятнадцать, она была совсем другой. С тем покончено. Теперь беспредельная усталость, недоумение.
— Тебе удобно лежать? — спрашиваю, наклонившись к ней. Уголки рта вздрагивают.
— Александр Павлович… Это — всё? — спрашивает тихо.
— Кто тебя смотрел вчера?
— Георгий Иванович. Он ничего не сказал.
Да и что мог сказать главный?
— Посмотрите меня. Пожалуйста!
Сколько глаз глядят на меня — я опускаю ресницы.
— Хорошо. Подожди.
Мы приходим с Наташей, я включаю ослепительно яркую «свечу», снимаю подушечки.
— Свет видишь?
— Вот здесь. — Она показывает рукой где-то у носа. Сетчатка блеклая, серая. Местами, как темные, тяжело нависшие облака, собрались складки.
Четыре раза они прилетали сюда. А как труден был путь к нам, хождения по порогам горздравов и Минздравов, поджидания профессора — у порога его дома, у машины…
И шеф взял Вику, и штопал разрывы сетчатки, приваривал зелеными и алыми «выстрелами» лазеров, прижигал снаружи, стягивал глаз тугими поясками, сплетенными из сухожилий, взятых с её ноги, и все-таки, потеряв один глаз, все бился за другой. И пока это длилось, прошло два года, и Вика с ее мамой давно стали тут своими. Месяцы и месяцы они жили здесь и ждали, и все становилось хорошо, они улетали, а после прилетали опять, и все начиналось сначала. Последний раз был и правда последним — он все решал, и после операции, седьмой или восьмой по счету, шеф сам дежурил двое суток у кровати Вики. И снова, как раньше, пытка неподвижных двухнедельных лежаний, уколов, первых шагов на разучившихся ступать ногах, судорожная бережность в каждом движении головы.
— Александр Павлович…
— Да, Вика?
— Это — всё?
Всё. Тотальная отслойка. Никаких шансов. Два-три месяца, дегенерация, и даже проблеска света не останется. Соврать? Может быть, пусть надеется и хоть так, надеждой, тянется к жизни?
Когда-то в школе учили: был нехороший Лука, он всех утешал, обнадеживал, а Актер все равно удавился и испортил песню.
— Молчите, — говорит она негромко. — Что вы все молчите?!
— Видишь ли, Вика…
— Вы очень добрый, очень хороший, Александр Павлович. Скажите правду!
— Вот вернется Сергей Сергеевич, — прячусь за имя шефа.
— Хорошо. Спасибо. — Она закрывает глаза.
У него, наверно, было плохое настроение, у того таксиста. Или что-нибудь не ладилось с планом. И когда они попросили ехать потише и осторожней: «После операции… как можно плавнее, пожалуйста», — только нажал на газ. И где-то, уже на выезде из Москвы, пытаясь проскочить на желтый, не успел и ударил по тормозам. Швырнуло вперед, подумали — наткнулись на что-то, налетели, но это просто намертво схватили тормоза.
И среди темных пятен, оставшихся в поле зрения от прошлых разрывов, перед Викой тотчас засверкало новое. Она сразу поняла, что это, но молчала до самого аэропорта, боялась сказать, а мать боялась спросить. Пятно расширялось, темнело, а в Домодедове уже все стало ясно.
— Давай ногу, — говорю я, глядя ей в лицо. — Системку присобачим…
Уголки рта дергаются в усмешке.
Она лежит нагая под одеялом — тело бледное, желтое, ослабленное неделями лежания на спине, ушла из него юность, и это такая чепуха перед тем, что случилось, даже смешно говорить.
Осторожно укрываю ее, оставив над одеялом одну ногу, протираю спиртом, нахожу вену, вкалываю иглу и подсоединяю к канюле трубку шланга.
— Ну… лежи.
— Спасибо.
«Спасибо». Хм. Зачем ей уже, собственно говоря, лежать?
Я знаю — Наташа стоит за моей спиной. Вот она может. Она знает, что делать тогда, когда и для надежды уже, кажется, ничего не осталось.
В ней есть то, чего нет во мне, — смелости жить так, как нужно жить людям. А что же я? Так и прошепчу все свои проклятья до старости, до тех пор, когда всё будет поздно?
Я смотрю на эту распластанную, неподвижную девушку, которой все оставшиеся дни ходить в темноте, и внутри меня все сильней разгорается дикая, ни разу не испытанная до этого дня ярость.
Я встаю и выхожу из палаты, останавливаюсь в коридоре, часто дыша, будто кто-то сжал в кулак сердце и играет им, то чуть отпуская, то сжимая снова так, что уходит сознание.
Больше нельзя. Немыслимо больше. Что им, моим врагам, от этого моего тихого, молчаливого презрения?! Что им от моей запрятанной ненависти? Разве хоть что-то поколеблется в моем враге от этих нескончаемых, пустых словопрений наедине с собой доктора Николаева?!
Я знаю своего врага. Я узнаю его по тому, как он входит, садится… Окажись здесь тот таксист, я тотчас узнал бы его по десяткам примет.
Ледяная иголка стоит в сердце. Сердце болит? Ничего. Это пройдет. Наверное, что-то меняется в моем лице, я чувствую непривычную жесткость в щеках; глаза раскрываются широко и бесстрашно.
— Вам нехорошо? — Наташа смотрит вопросительно и тревожно.
— Мне? — Я вдруг как бы просыпаюсь — мы стоим вдвоем в коридоре у двери сто пятнадцатой. — Нет-нет…
А она смотрит на меня, не веря, требуя правды.
— Иди, — улыбаюсь я и киваю. — Ничего.
Я гляжу ей вслед — высокая и тяжеловесная, она твердо идет по старому больничному коридору, идет — с правом жить так, как живет, и ходить, как идет.
Гришина я нахожу в коридоре — стоит у окна и высматривает жену.
— Придет, придет. — Беру его за руку. — Ну пошли, посмотрю напоследок.
Он чуть улыбается мне и послушно идет.
У смотровой «темной» комнаты прогуливается Салтыков. Я бросаю на него взгляд, на всю его массивную, мощную фигуру и, глубоко выдохнув, касаюсь спины Гришина:
— Подождите минуточку. Сергей Петрович. — Краем глаза успеваю заметить ироничный, высокомерный взгляд Салтыкова.
Подхожу к каптерке сестры-хозяйки, но она еще не пришла. Нахожу Наташу и Ларису.
— Девочки! После завтрака переведете Салтыкова из бокса в сто двадцатую. На место Гришина. Да-да. Что вы так на меня смотрите? Салтыкова — в сто двадцатую, а в бокс перевезите Кирюхина.
Наташа, а за ней и Лариса не могут сдержать улыбки, и я понимаю, что мой приказ им приятен. Ничего не сказано, но мы отлично поняли друг друга. И тотчас я представляю хорошенькое, холодное, с тщательно накрашенным брезгливым ртом женское лицо. Коллега Широкова, зам нашего главного. И ледяная усмешка в ее серых глазах.
Гришин ждет. Сегодня ему домой. После пяти месяцев и трех операций. И вот он может стоять и смотреть в окно, может увидеть жену.
Ему малость за сорок, сухощавый и скромный — простой, немногословный рабочий человек, слесарь наивысшего класса, тихая звезда своего большого завода. Много ночей протолковали мы о жизни — операции были трудны, и поначалу я дежурил около него сам, потом разговоры эти вошли в привычку, он все лежал с повязкой, и мы играли в шахматы: он — вслепую, я — удивляясь его быстрому и сильному уму.
Ну вот и расставание. И он видит обоими глазами. И в его тумбочке — в ампуле — мои подарки: пять кусочков окалины, извлеченных с глазного дна.
— Просто молодец, — бормочу я, приникнув к окулярам щелевой лампы. Мы говорим в полной темноте, только лучики света мерцают на марсианских конструкциях прибора.
— Это вы молодец, — вышептывают его губы. Мы выходим, зажмурившись после темноты. На скамейке с узлом теплых вещей жена Гришина, расплывшаяся сорокалетняя женщина, около нее двое мальчишек. Она протягивает мне букет крупных гвоздик, розовых и красных.
— Александр Павлович. — Она волнуется, и, как всегда в такие минуты прощаний, я чувствую вдруг внезапную неловкость, а женщина говорит быстро, горячо, волнуясь, — дорогой вы наш спаситель, спасибо вам, мы…
— Ну хорошо, хорошо, — останавливаю ее невпопад.
Мальчишки глядят на меня снизу, а в глазах женщины радость с уже навек прижившимся в зрачках страхом, радость пополам с болью — в окружье глаз, в бровях.
— Берегите его, — говорю я, кладя Гришину руку на плечо. — Пусть первое время не читает. Я там вам все написал, все рекомендации. На работу пока нельзя.
Я чувствую, что говорю глухо к невнятно, неловко поворачиваюсь к Гришину:
— Капли капайте, Сергей Петрович, желтенькие — по пять капель, будет сначала щипать, ничего. Через пару недель приезжайте, покажитесь. Голову пока не мойте и не наклоняйте.
И он, я вижу, слушает меня, как сквозь сон, озирается, беспокойно ловит взгляды жены, сыновей, кивает, потом крепко стискивает мою руку и держит, не отпускает.
— Вот…
— Да-да. — Я прощаюсь и иду на пост. Да! Цветы. В воду их надо пока. Отвезу маме. Навстречу мне делает шаг Салтыков.
Вот он, в своих выпуклых очках, мощный, пружинисто-надежно держащийся на ногах. Ему шестьдесят с небольшим, он ходит с палкой, которая ему не нужна, одет в дорогую бархатистую кофту и домашние спортивные брюки: как больному шефа, как имеющему некие особые заслуги, ему это разрешено в порядке исключения. Он старый и больной человек. У него катаракты. Но я знаю, что и он мой враг, несмотря на все заслуги и послеоперационный период.
— Простите, Александр Павлович. Вы не посмотрите меня? Я останавливаюсь с цветами в руке. Посмотреть? Ну да, конечно. Я не люблю этого человека — за то, что он сильнее меня, сильнее камея ной волей, отточенным умением придавить и отшвырнуть: сильнее веси своей судьбой, дающей ему право быть надо мной даже здесь, в больнице.
— Идемте.
И мы направляемся назад, в смотровую. Я чувствую на своих лопатках его уверенный, начальственный взгляд.
Я знаю, что и он меня не любит, если, конечно, вообще принимает меня в расчет. Я для него, как почти все кругом, лишь пятнышко на пути, вымощенном привилегиями, исключениями к дозволениями быть там, куда других не пускают.
Такова вся ею жизнь, и, наверно, правда, были когда-то эти особые заслуги. Но я знаю, что и заслуги заслугам рознь, и что мой друг никогда бы не стал так часто, даже по мелочам, ссылаться на них, торя себе дорогу напролом.
Я видел заслуженных людей.
Они почти не заметны. Их редко услышишь и не остановишь на них внимания.
Года два назад у нас в отделении появился задумчивый старичок с усложненной глаукомой. Он появился в обычной синей цейхгаузной униформе — в страшноватых штанах и такой же куртке. Он лежал в общей палате, вместе со всеми ходил в столовую, курил трубочку на лестнице и слушал больничные разговоры. Потом оказалось, что он академик, громадная, мировой значимости фигура в химии молекул. Лежали у нас летчики-испытатели после катапультирований на большой скорости, лежали старые ветераны, истерзанные лагерями старые большевики, старые солдаты войны. Все они хотели оперироваться у шефа, и у них было это право.
Нет, я видел заслуженных людей, видел…
Впрочем, видел немало и таких, как Салтыков. Но он — особый. Он враг мой по сути и духу, а я лекарь, и я обязан лечить врага. А для Широковой он — свой.
Нет, не родственник, не сват и не кум. Он просто свой.
Мы входим с ним в темную смотровую, и вот у той же щелевой лампы совсем другой человек, и кажется, токи, пробегающие между нами в темноте, совсем иные. Салтыков привычно и прочно ставит подбородок на подставку, я включаю и направляю свет.
Ну что? Обычная операция шефа — маленький изящный разрез, чистый, идеально круглый зрачок.
— Так, хорошо… Теперь чуть-чуть правее, пожалуйста.
Я выключаю щелевую и зажигаю настольную лампу, беру зеркальце офтальмоскопа, навожу ему на глаз яркий «зайчик». Да! Все идеально.
— Ну как? — спрашивает он печально.
— Отлично! Домой пора!
— Хм… Видите ли… Ольга Ивановна полагает, что…
— А Сергей Сергеевич что вам говорит?
Его брови на миг сходятся, и, чуть склонив набок голову, он тихо и внушительно спрашивает:
— А разве вы ничего не видите? Мушки летают!
Мы сидим вдвоем в комнате с черными стенами, горит одна только лампа, и кажется, что мы в огромном пустом пространстве.
Шеф оперировал его месяц назад. И, как всегда почти, сорок минут на столе, гладкое течение, отличное зрение.
Но после этих операций в стекловидном теле остаются плавающие микросгусточки крови, они почти не мешают смотреть, но и избежать их появления пока невозможно. Больные говорят: «Мушки летают».
— Мушки? — переспрашиваю я. — Ну и что! Скорей всего они со временем рассосутся.
— То есть как это? — Он смотрит на меня насмешливо и надменно. — Это же правый глаз! А я охотник, понятно вам?! Я привык с правого плеча целиться!
Я смотрю — и не верю себе, слушая этого человека. Охотник… Целиться… И Вика со своей мамой в двадцати шагах. И Кирюхин, и все эти люди, пришедшие сюда, как к самому господу Богу, за исцелением.
— Тысячи людей, — с трудом выговариваю я, — мечтали бы… Но он больше не намерен со мной разговаривать, он встает, тяжело опершись о стол, и, медленно повернувшись ко мне необъятной спиной, спокойно и твердо выходит из смотровой.
А Широкова, значит, все это знает) И про «охотника» тоже?!
И снова передо мной встает лицо Широковой. Что ж, она неплохой врач я вполне приличный хирург. Четыре года она у нас и из них два заместите' дек заведующего. Весьма шустро. Но дело здесь не в ее талантах и даже не в ее отменной жизненной прыти. Она — племянница. Вот в чем штука.
Она красива, умна, почитывает, как водится, «Иностранную литературу», позванивает серебряными грузинскими финтифлюшками на шее.
Но кажется, даже эти черненые металлические загогулины и те звенят на ней иных звоном, чем звенели бы на прочих.
Пора перевозить Кирюхина. Я захожу в большую палату, сестры приготовили каталку, больные с интересом смотрят на нас со всех сторон. Все-таки событие.
Кирюхин, измученный болью в солнечном сплетении, слабо улыбается мне с подушки. На нем черные непроницаемые очки с маленькими дырочками. Так он немного видит.
— Здравствуйте, Кирюхин! — говорю я, наклоняясь к нему. — Собирайтесь, будем квартиру менять.
— А ордер имеется? — спрашивает Кирюхин.
— На арест, — прыскает кто-то на соседней койке.
— Глупый человек, — произносит в пространство Кирюхин. — Не ордер, а постановление. — Он важно поднимает татуированный палец.
— Грамотный, — смеются на койках.
— Да… станешь грамотным, — покашливает Кирюхин, и лицо его тотчас заметно темнеет от боли — кашлять ему тяжелей всего. — Так куда вы меня, Сан Палыч?
— Не волнуйся, Паша, просто положим в отдельный бокс.
— А, в «люкс», значит. Был про то разговор. Да только…
Его палатный врач — молоденькая Наталья Владимировна. Куда ей против Широковой! Ведь все знают — за последние два года из нашего отделения ушли пятеро врачей. Проработав здесь много лет, ушли. Главный молчит. И все молчат. Лишь один человек мог бы вернуть отделению его былое — тот ныне почти выветрившийся дух надежной дружбы, что как бы сам иссяк и пропал с приходом к нам Широковой. Этот человек — наш шеф. Но он занят проблемами высшего порядка, и что ему до наших мелочей. И в конце концов, наверно, шеф прав: всякий имеет то, что он заслужил. А мы молчим, и нам не на кого сетовать, кроме как на себя.
— Что значит «только»? Никаких «только» быть не может. Перевезем вас. Так надо.
Есть люди, с которыми никак не поймешь, как лучше: на «ты» или на «вы». А Паша Кирюхин как раз из таких.
Снова приступ кашля, и снова лицо его становится на минуту бурым. Кирюхин — «человек с прошлым», но о том, далеком, лишь вечными памятниками синие узоры наколок. Ныне и уже давно он — рабочий-печатник. Очень сильный, веселый на язык, любящий поговорить о политике и женском воле. Послезавтра шеф будет делать ему операцию, которую еще не делали никому.
Говорят, Кирюхин спас человек шесть. Своих, типографских. Пятисоткилограммовый бумажный рулон сорвался со стопора и покатился на людей по наклонному настилу. Кирюхин как раз вышел из цеха к автомату хлебнуть газировочки, когда раздался крик. И он кинулся под полутонный рулон и остановил его, но надорвался. А через час, уже у нас, в травматологическом отделении, вдруг почувствовал, как в глазах встает темный туман.
С тех пор прошло больше года. Не стало здоровья и прежней силы, а он, почти ослепнув, живет. И еще может потешать народ и подводить итог перебранкам и спорам между больными, вставляя свое веское соленое слово.
— Ох, и скучно-то мне одному будет, — улыбается он, — разве только бабулька какая забредет.
— Молчи, охальный! — раздается сзади знакомый сипловатый голос.
— А-а, Машенька! Здравствуй, теть Маш! — несутся со всех сторон мужские голоса.
Санитарка Маша, маленькая, старая, с большим курносым носом и, похоже, как всегда, малость «под градусом», стоит на пороге, взяв под козырек. Но тут она замечает меня и, страшно смутившись, ныряет назад в коридор. Палата хохочет. А Маша, церемонно раскрыв дверь, входит в палату на цыпочках и, чуть подрагивая головой, изображая убийственное подобострастие, направляется прямо ко мне.
— Здравствуйте, товарищ доктор! — Она стоит навытяжку. — Рядовая отдельного санитарного дивизиона номер тридцать восемь дробь два бис Мария Прошина по вашему приказанию явилась.
— Добрый день, Маша, — говорю я. — Давайте помогайте нам.
— Вот этого дерьмодела увозите? — Она тыкает корявым пальцем в сторону Кирюхина. — Давно пора! Что, милок, допрыгался? Ее глаза блестят.
Санитарка Маша… Днями и ночами ходит она по отделению строевым шагом, кричит на стариков, матерно ругается, куря с мужиками на лестнице. Над ней смеются, а она, то озорная, то грозная, с папиросным мундштуком в углу рта, ссутулившись, носится по коридорам, затирает за слепыми лужи в уборных, таскает судна, бурчит себе что-то под нос и, улучив минутку, устраивает крохотные выступления перед больными. Над ней смеются, но, посмеиваясь, качая головами, слушая ее путаную матерщину и краткие изложения собственных теорий устройства мира, люди любят Машу и с удовольствием пускаются с ней в разговоры.
Они рады бы поговорить и сейчас, но им мешаю я, а, главное, надо поднять и положить на каталку тяжеленного Кирюхина. Больные оттесняют сестер. Четверо крепких мосластых парней осторожно подхватывают его.
— Давай, давай, Паш, за шею меня бери. Смотри, Ковка, голову ему не толкани. Ра-раз…
— А жирен! — качает головой Маша. — Наел задницу по больницам. Все смеются, и Кирюхин смеется, кривясь от боли в животе. Маша бережно подкладывает ему под затылок сбитую плоскую подушку, но он только улыбается сквозь темноту и боль.
— Заходите в «одиночку»! — приглашает бывших соседей на кроватях. — В доминошко постучим.
— Да, — усмехается кто-то, — ходить недалеко.
Сестры мягко трогают каталку к дверям, но Маша вскрикивает и преграждает им путь.
— О дурные-то! Куда ж вы его ногами-то вперед!
— Эй-эй1 — весело отзывается Кирюхнн. — Вы что это, правда! Я против! Жена у меня и эти, соплята.
Но каталку не развернуть в узком проходе между хромированными спинками высоких кроватей. Почему-то все смотрят на меня. Как быть? Не знаю.
— Ну, взяли! — решаются мужики, и все повторяется снова: они приподнимают его плотное тело, бережно поворачивают, я поддерживаю его голову, чувствуя, как он мелко дрожит от внутреннего напряжения, и вижу капли на его лбу.
— Фу, ну вот, спасибо, мужики, — шепчет он. — До ста лет жить буду. Но тут в дверь быстро входит Наташа.
— Александр Павлович, можно нас на минутку. Мы выходим в коридор.
— Салтыков отказывается переходить в сто двадцатую.
— Ясно. — Я пристально смотрю в ее взволнованное и суровое сейчас лицо.
И иду к Салтыкову.
Это маленькая комнатка — там стоит одна койка, тумбочка, есть свое отдельное окошко с видом на московские дали, есть свой отдельный душ и уборная. Действительно, «люкс». Салтыков лежит поверх одеяла в одежде и читает «Литературку».
— Так, пожалуйста, — быстро говорю я (как натужно вырываются из меня слова), — соберите свои вещи и переходите в палату.
Он опускает страницу с заголовком «Семь дней в ноябре» и с интересом смотрит на меня через очки.
— Вы слышите меня, Салтыков?
— А-а, — он садится на кровати и опускает ноги вниз, — так это, значит, вашей милости я обязан?!. Поня-ятно!
Его лицо заливает кирпичный румянец:
— Я никуда не собираюсь переходить!
— Вам и здесь хорошо! — Я чувствую, как бледнею и как мной стремительно овладевает холодная злоба.
— Да! Мне и здесь хорошо. - чеканно выговаривает он снова ложится и загораживается газетой.
— Но вы же понимаете: бокс предназначен для очень тяжелых больных, для людей, которым нужен усиленный уход.
— И слушать ничего не желаю. Вы не мой лечащий врач. Будет распоряжение Ольги Ивановны — тогда никаких разговоров.
— Я дежурный врач.
— А вы согласовали это со своим руководством? — иронически склоняет набок голову Салтыков.
И вдруг начинает орать мне в лицо в полный голос:
— Да как вообще вы смеемте волновать больных людей?! Вы, врач?! Да вы знаете, с кем говорите?!.
— Здесь должен находиться человек после тяжелейшей операции, ему нужен абсолютный покой. Неужели вы…
— А мне пле-евать! Мне тоже нужен покой. Изыщите другие резервы. А я отсюда — и шагу не сделаю. Вам понятно?
Он возмущенно сопит, а глаза его в увеличивающих очках насмешливо-спокойны, и в них заметно новое: недоумение перед моей внезапной отвагой. Ну конечно, он считает меня одним из тех, кого мог он некогда вызывать на свой широкий ковер. И сколько же, верно, народу ушло с того ковра с перебитой хребтиной!
— Собирайте вещи и переходите, — тихо говорю я.
— Да по какому праву вы…
— «По какому праву»? — так же тихо повторяю я. — По тому праву, по которому я, если случится в отделении пожар, отвечаю за жизнь восьмидесяти человек. И за вашу в том числе. По тому праву, которого вам никогда не понять. По праву дежурного врача.
— А сегодня, между прочим, не ваше дежурство!
— Знаете что, — Я подхожу к нему вплотную и говорю совсем тихо: — Вас вывезут отсюда вместе с кроватью.
— Предупреждаю! — В его зрачках веселый мстительный огонек. — Каждое ваше слово пойдет против вас!
— Не сомневаюсь.
Ну что ж, коли угодно ему, мы, и правда, можем его прокатить до сто двадцатой. Будь он чуть слабей в этой жизни, он стал бы сейчас спекулировать на мелочи: разыграл бы истерику или сердечный приступ — вот, мол, до чего довели! — но он слишком уверен в иных своих возможностях.
— Так что же вы? — спрашивает он с иронией, повернувшись на бок и подперев голову тяжелой рукой. — Давайте действуйте! — И, как бы приглашая меня начинать, делает широкий жест: — Приступайте! Только вы кре-епко пожалеете! Гарантирую!
Но тут в коридоре слышатся голоса. Маша широко распахивает дверь я входит со стопкой свежего белья, за ней Наташа, она тревожно смотрит на меня и Салтыкова. А Маша подступает к Салтыкову:
— Эй, друх! Вставай, застилать буду, слышь!
— Ну хорошо! — неожиданно поднимается и нашаривает ногами тапочки Салтыков. — Отлично! И это, — он тыкает пальцем в сторону Маши, — против вас, Николаев!
— Как вам не стыдно! — говорит Наташа. — Пожилой человек и…
— А вы… девушка, вообще помолчали бы. Вот так. — Слово «девушка» он произносит на особый лад. — Вы меня поняли, надеюсь?
Наташа брезгливо усмехается и передергивает плечами, а меня мгновенно окатывает огнем, но я должен смолчать. И вот в эту минуту я понимаю, как давно, как родственно сильно дорога мне Наташа.
Я проглатываю сухой комок бешенства, делаю шаг к Салтыкову, но маленькая сухопарая фигурка выныривает из-за моего плеча.
— Чего-чего? — быстро говорит Маша, подступая к Салтыкову. — Чего это ты тут сказал? Ах ты… Вот щас как ляпну тряпкой! Ты погляди-и! Царь-султан какой! Прям — царь-султан… А ну, давай отседова! Кому говорю?!
Она надвигается на него, маленькая и страшная, и Салтыков начинает выволакивать из тумбочки апельсины, конфеты, засохшие корки,
Отлично! — бормочет он под нос. — Отли-ично! О-очень хорошо! И тут раздается перестук колесиков, и в бокс въезжает каталка с Кирюхиным. Медсестры поспешили, теперь мгновенно поняли это, но уже поздно, а Салтыкову того и надо.
— Отлично! — говорит он, сверкая очками. — Давайте, давайте! Располагайтесь! Только надолго не рассчитывайте.
— Что? Что такое? — обеспокоенно приподнимает голову Кирюхин. — Чего вы, товарищ?
— Ни-че-го! — отрубает Салтыков. — Извольте располагаться! Прошу! По тому, как он это произносит, Кирюхин с обостренной чуткостью незрячего сразу улавливает неладное, эту внезапную, окружившую его напряженность общего молчания.
— Эй! — встревоженною говорит он. — Мужики! Что за дела? Об чем звон?
Больные, пришедшие с ним, те самые здоровенные парни, понуро молчат.
— Ничего, ничего, — с таящей недоброе усмешкой, многообещающе кивает Салтыков. — Ложитесь себе на здоровье.
— Ложись, Пашка, — касается плеча Кирюхина один из больных, — все нормально.
Но Кирюхин уже все понял.
— Да ладно, — хмуро говорит он. — Зачем эта… фигня?.. Мне ж без разницы. Не люблю я все эти…
Салтыков важно шествует к двери и выходит.
— О! Брюхо-то понес! — провожает его Маша. — Оп, оп, — она ковыляет вслед за ним, показывая, как тот пошел, — царь-султан как есть!
— Ложитесь, Кирюхин, — глухо говорю я, ощущая вину перед ним: не уберег от этих волнений, от разговоров.
— Обиделся, что ли? Согнал я его? — озабоченно спрашивает Кирюхин. — Вот ведь дрянь какая вышла! Старый мужик, что ли?
— Лежи, Паша, спокойно, — говорю я ему. — Сделано как нужно.
— И не думай ничего, — поддерживает Наташа, — уж поверь.
Но мне сейчас как-то мало радости от того, что все сделано «по закону». Я выхожу из бокса. Наташа подходит ко мне в коридоре:
— Ладно, Александр Павлович, не переживайте. Всё правильно.
— Да знаю! Противно только очень, понимаешь?
Ее глаза улыбаются мне ободряюще, и я благодарно киваю.
— И ты наплюй. Мало ли таких вот…
— А я уж и забыла. Правда. А Маша-то наша — чудо, да?
— Чудо, да…
А чудо-Маша, широко размахивая руками, марширует в дальний конец коридора. А Витька ведет за руку в уборную плешивого деда, круглоголового и остроносенького, с бесцветным пушком на затылке, похожего на большого слабого цыпленка, а больной Салтыков Борис Борисович направляется на лестницу, и я даже знаю зачем.
Вот он мелькнул и скрылся за стеклами — прошел и пропал призрачной тенью, но он не исчез, он есть. Пусть так. Я готов ко всему.
Ко всему?
Или это только слова в попытке наконец-то увидеть себя таким, как тот парень на обложке спортивного журнала? А как давно это было! Много лет отлетело…
Он стоял у зеркала в спортзале, на пластиковом блестящем полу, стоял, развернув грудь и плечи, вздув каждую мышцу, весь обросший буграми и бугорками напружиненной загорелой плоти. Шары бицепсов были врезаны в литые тяжелые руки, живот втянут и разделен на выпуклые квадратики, как на белых античных статуях, красные плавочки обтягивали круглые ягодицы, выпиравшие из тоненькой талии под широчайшей треугольной спиной.
С мальчишеской завистью я все рассматривал эту фотографию — хотелось «накачаться» и быть таким же, и тогда, придя на пляж, небрежно сбросив рубашку, и я пыхтел с гантелями, с пудовичками, подкидывал и ловил, растягивая сухожилия.
Мне было семнадцать или восемнадцать. Впереди предстояли годы и годы этой возни с железом, а мышцы росли еле-еле, и через несколько месяцев мне сделалось лень дважды в неделю убивать, вгоняя в мясо, три часа такого короткого молодого дня… Гантели пылились под кроватью, потом я снова брался и вновь бросал заниматься, хотя радостно бывало шагать вечерами, ощущая кипение и огонь в каждой жилке набухших, усталых мышц. Потом мне стала нужна не сила, а точность в руках, потом я понял, что можно прожить и без наглядно-показательной мускулатуры, что вообще можно без многого прожить, — мысль эта сама по себе облегчила мой бег по кругам заданной судьбой дистанции…
Но иногда вдруг черные гантели с тупым коротким звоном пристукнут друг о друга, я вспоминаю так и не исполнившуюся мечту о красивом и стройном себе, и стыд приходит на миг и сразу отпускает при мысли о том, что гантелями все равно не исправить ног, искривленных послевоенным рахитом.
А рахит — это детство, длинный серый день, рыбий жир, конфеты «Коровка» россыпью. Это запах картошки и керосина, московский двор и бульвар, злая соседка в кухне, за что-то ненавидящая маму, это…
Шли годы. Я пытался уйти от себя, от своей вялой сути, бегал и прыгал, но никому ничего не доказал, отращивал мускулы — и бросил, читал книги, но слишком многое забыл и на четвертом десятке так и остался, в сущности, тем же самым, каким был всегда… Так неужели теперь я выкарабкаюсь из самого себя? В конце концов, я хирург, человек упругой, жилистой работы, и, может быть, не в руках моих дело, а в том, что у меня за душой? Тоже, кстати, поразительно новая мысль!
— Александр Павлович! — Одна из сестер подзывает меня к телефону, и я иду в ординаторскую.
— Ну как? — В трубке искаженный автоматом голос Юрия Михайловича.
— Вашими молитвами, коллега, — усмехаюсь я, забыв об утреннем своем раздражении. — День да ночь — сутки прочь.
— Это все хорошо. Правда, спасибо тебе. Я говорю, Шаврова как? Не смотрел?
— Сейчас пойду, посмотрю.
— Черт! Ты знаешь — сердце не на месте. И вроде как перед тобой виноват.
— Брось ерундить, Юрка. Ну ты, скажу тебе, герой. Такую бабулю взял!
— Ладно, ты знаешь, о чем я. Конечно, что сделано, то сделано. Пользуюсь, как свинья, твоей безотказностью — вот и все!
— Явка с повинной облегчит вашу участь. Серьезно, кончай достоевщину разводить.
— Хм, а ты вроде веселый там!
— Вообрази! И тебе между нами, девочками, за это дежурство весьма признателен.
— Нечаянная радость?
— Ну да. Вроде. Как твои частнособственнические проблемы?
— Да стоим тут как дураки, ждем.
— Ну да, ну да.
— Я ближе к вечеру подъеду.
— Заходите, — улыбаюсь я, — гостем будете. И вешаю трубку.
Странный разговор какой-то.
Да-да, личное и общественное. Знаменитая дилемма. А у нас, хирургов, узнай, что есть что, где то, а где это? Шаврова, например, личное или общественное?
А она уже давно пришла к себя. Я осторожно бужу ее, вырываю из легкого старческого сна, осторожно сматываю бинты. Наташа стоит рядом с лотком в руке, невозмутимая внешне, но по тому, как она напрягается, когда я сбрасываю последние нитки узкой марлевой ленты, я догадываюсь о ее волнении.
Я морщусь и отрываю ватные тампоны, обнажаю оперированный глаз — вот он, узкая щелка с обстриженными ресницами, зеленка на чеках и на брови, трепет живой дряхлой ткани; глаз сжат подобно створкам древней раковины — я осторожно и твердо развожу их.
— Что видите? Наш первый и главный вопрос. Сейчас я задаю его с замиранием сердца.
— Вижу… светло… вон окно… — Старческие губы дрожат, будто она хочет что-то вышепнуть и не может. — Все вижу. Боже мой…
Старая-старая, словно отлитая из темного металла, ее рука поднимается над кроватью, движется в воздухе, как бы касаясь всего, что она видит, а не видела она три или четыре года.
Огромный зрачок, тревожно-красный, кровавый белок. Это все пройдет, так и должно быть, но вот что внутри? Я вглядываюсь в черноту зрачка. Да неужели? Нет, быть того не может. После ночных кульбитов…
Это тоже, как сон наяву, — глаз не заволокло мутью, не полопались сосуды, я сразу вижу, что глаз жив и будет жить, и в том — усмешка судьбы.
— Вот… — гладит издали взгядом лепестки Шаврова, — цветочки…
На подоконнике в бутылке из-под кефира большие красные цветы.
Сейчас, без очков, она все видит в тумане, но туман этот ярок и наполнен сиянием цветных пятен. Я снова забинтовываю ее, и мы выходим из палаты.
— Вот такие фокусы! — говорю я, не имея сил скрыть удивления. — Ходи, ищи тут высшей справедливости! Слышала — «цветочки». Счастье, конечно.
— Да, — улыбается Наташа, и ее улыбка радостно-горька. Я знаю — мы думаем об одном, но ее мысль тоньше и, наверно, дальше идет.
И, как бы услышав нас, в конце коридора с бесстрастным, каменным лицом проходит Алла Михайловна.
— Хорошая эта Шаврова, — отворачиваюсь я, чтобы не видеть этого лица. — Жалко, Юрия Михайловича не было. Все же, как ни говори, нам с тобой его радости перепали — «цветочки».
— А вы расскажите ему.
— Расскажу. Нет, это всё не то. Тут… как это говорится? — «личная явка обязательна». Нет, правда жалко! А ведь шансов-то — скажу тебе по секрету — не было.
Говорить больше невозможно, сказано я понято слишком многое, и мы расходимся. Я иду к себе в ординаторскую — ждать событий. Ясное дело, долго ждать не придется. Но меня догоняет сестра дневной смены:
— Там… дедушка в холле…
— Что? — остолбеневаю на полушаге.
— Нет-нет, Александр Павлович, живой! Только он, это… не может…
Ну, конечно, то самое, стариковское. Возраст, наши уколы, операция, наверняка — аденома, и вот его распирает, но нет мочи, уже много часов. Это грозное! И как я не подумал?!
А уж так, было, ладно решилось, чтоб положить его на место Кирюхина, к молодым, ходячим.
Нет, теперь не до того. Теперь — любой ценой, лишь бы только добыть и выпустить несколько этих капель жидкости, пропущенной через дряхлые пути дряхлого тела. Таких драгоценных сейчас капель!
Дед полусидит на кушетке в своей, будто сползшей на глаза, белой чалме из бинтов, губы закушены, руки на животе. В его скорченной фигуре боли куда больше, чем в жалобе или стоне. Я отбрасываю одеяло, нащупываю низ живота. Ну, конечно! Оставив около него сестру, бегу звонить с поста.
— Алло, урология?! Дежурный глазного. Не выручите? Тут старик у меня, моча не отходит. Аденома? Думаю, есть. Я б сам спустил, конечно, но хорошо бы кто из ваших глянул. Ну, спасибо, братцы! Ага, и хорошую сестру процедурную, только побыстрей, дело плохо.
Они приезжают минут через десять — со всем своим невеселым резиново-стальным набором.
Уролог — насупленный парень с хорошим деревенским лицом. Будь я больным, я поверил бы врачу с таким лицом.
— Давно? — деловито спрашивает он, моя руки и готовя перчатки.
— Думаю, часов восемь-девять. В общем, проморгал я. Не учел.
— Бывает. Старый?
— То-то и оно. Девяносто шесть.
Уролог присвистывает. И сразу приступает к работе:
— «Историю» покажите. После операции, так… угу…
С ним сестра, некрасивая и тоже из надежных.
— Ну пошли.
И им идем в холл.
Уролог садится около старика Жаркина, он не торопится, он внимательно смотрит старику в лицо — на острый облупленный нос торчком из-под бинтов, на обветренные смуглые скулы, — и в этой продуманной неспешной работе, в этой нудноватой замедленной основательности я словно узнаю себя, и мне хочется поторопить этого парня, прибежавшего ко мне на выручку, но теперь я обязан ждать и подчиняться ему, может быть, своему спасителю, который всего-то года два-три как расстался с вузом.
— Что, дедушка, не идет? — кричит в ухо старику уролог.
Дед мотает головой.
— И часто с тобой так?
Ясно, паренек хочет отвести от меня беду. Спасибо, брат, спасибо. Дед машет рукой. Что он хочет сказать? Часто? Впервые такое? Непонятно. И долго этот колдун намерен собирать анамнез?
Ну вот наконец он приступает. Сестра помогает, и руки их в перчатках суровы и желты на темной стариковской коже.
Но что-то у них не так. Они оба краснеют и хмурятся, они стараются и не могут. Я вижу на миг отчаяние в его глазах — ах, как не знать мне этого немого крика о помощи в напряженных зрачках товарища, — тогда я с ходу иду на выручку, ободряя прикосновением плеча, но сейчас я не помощник.
По смелой и верной хватке я вижу, что парень и ловок и умел, но загвоздка не в его опыте или знаниях, все дело в девяносто шести годах больного Жаркина В. Н.
Старик вскрикивает, и уролог, я понимаю, концами пальцев чувствует эту наносимую им боль. Они меняют катетеры, все тоньше, тоньше, но успеха нет, ничего не происходит.
— По Фрейеру попробуй, — советую я, мучительно вспоминая обрывки институтской урологии.
— Нет, — отдувается он. — Не пойдет тут.
Старое-старое тело все сильней с каждой минутой отравляется невыведенными ядами. Скоро дед потеряет сознание.
Сестра с испуганным лицом прикидывает тонюсенький катетер, но и он не поможет.
— Как похожу, так маленько идет, — еле выговаривает старик.
— Классика, — зло шепчет уролог. — Никак. Фу ты. Может, по Мерсье? — Он вопросительно смотрит на меня и с сомнением на старика.
Четыре человека в холла.
Минует данное природой время, и их станет трое, а четвертый ненадолго будет обозначен иным, коротким и страшным словом. Все будет очень просто и понятно: «в результате общей интоксикации… при явлениях…. наступила…» О, черт возьми! Неужели эта такая длинная жизнь должна пресечься сегодня на наших руках?! Но мне она почему-то особенно дорога, сам не ведаю почему, а мы… мы совсем не боги. Так неужели мы упустим его из-за такой чепухи? Это мы-то, понаторевшие хирурги, так и не сумевшие провести дурацкий катетер!
— Пошли, выйдем на минутку, — тяну я за рукав уролога, и он послушно выходит за мной. — Ну что будем делать?
Он, сощурившись, жестко смотрит в стену.
— Вы же сами видите. Тут никто не введет. Там опухоль — чую — вот такая! — Он сжимает большой кулак. — Запустили старика.
— Ты какой вуз кончал? — спрашиваю, чтоб отвлечься на полминуты и освежить мозги: а вдруг что выскочит путное?
— Второй «мед».
— Ясно. Ну… придумай что-нибудь.
— Думать нечего, пойду еще попытаюсь, но только жалко его очень.
И снова все начинается сначала.
Старик уже заметно ослабел. Потом я беру дело в свои руки. В конце концов, считается, что эту элементарную процедуру я всегда могу сделать, по крайней мере, на «четверку». Но и я упираюсь в живую телесную преграду — сужение или рубец.
— Может, к вам его? — говорю, оставив попытки.
— Оперировать? — качает головой парень и произносит простые латинские слова, смысл которых так ясен — «больному не пережить». Мы загипнотизированы и парализованы его годами. По будь это «О.Ж.» — «острый живот», — мы были бы обязаны вступить в дело ножом, невзирая на годы по витальным основаниям. «Невзирая»?.. И мы ли?..
Нет, не мы, а эти лихие и отважные мужики из экстренной обшей хирургии.
А наш дед все слабеет, он уже лежит, скорчившись на боку, подтянув коленки к подбородку, и если он умрет, то какая долгая, затяжная у него смерть. Она началась давно — слепотой, а жизнь все не отпускает и держит — темнотой, болью, нашими прикосновениями и голосами. И все же это жизнь.
— Александр Павлович! — заглядывает в холл медсестра. — Вас к телефону.
— Кто?
— Не сказали, — пожимает она плечами.
Любопытно узнать, кому это известно о том, что я сегодня здесь? Или звонили домой и мама сказала?
— Будут звонить — скажите, занят.
— Уже несколько раз звонили.
А… несколько раз! Ну тогда понятней.
— А, ладно. Пусть звонят! Не до того.
Мы стоим над стариком Жаркиным в полной беспомощности. Неужели вот так — стоять и ждать, когда дело завершится само собой?
— А-а, вот вы где! — Оживленный и румяный, входит Юрий Михайлович, и сразу становится шумно, будто распахнули окна. По его веселому лицу ашдпо, что он только что от Шавровой. — Здравствуйте! — кивает незнакомому урологу. — Что у вас тут за беда?
Я объясняю в двух словах.
— Паршиво. — Юрий Михайлович берет старика за руку, просчитывает пульс. — Не ахти наполнение. Он слышит чего-нибудь?
— Слы-ышу, — глухо говорит Жаркин.
— Ну вот и хорошо! — неестественно бодро откликается Юрий Михайлович, но лицо его делается тревожным, он наклоняется ко мне. — Смотри — не упусти его.
— Да уж, смотрю! — говорю я с сердцем. — Ты чего прискакал, говорил же — к вечеру.
— Говорил! Да уж… вот…
— Кстати, сударь мой, Шаврова ваша в порядке. Ирония, так сказать.
— Я уже смотрел её сейчас. Да. Стоял, стоял за этими… опорами шаровыми… — и не выдержал. Плюнул и приехал. Вот и все. Я даже не знаю как тебя… Спасибо, Саша! — И он крепко сжимает мое плечо.
— Да что я? Что с ним вот делать? Может, чего придумаешь, свежая голова?
— По Фрейеру пробовали?
— Мы всё пробовали.
Дверь холла приотворяется, и просовывается голова нашей Маши.
— Доктор, — заговорщицки шепчет она. — Э-э… Доктор! К телефону вас.
— Кого? — спрашиваю я.
— А я почем знаю — кто из вас дежурный?
Мы переглядываемся с Юрием Михайловичем.
— Слушайте, Маша, — говорю я тихо. — Кого просят и кто звонит?
— Вас, вас, Сан Палыч, — громко шепчет она мне в ухо и, сложив пальцы колечками, делает себе «очки». — Сама-а!
Я догадываюсь, но все же спрашиваю:
— Ольга Ивановна, что ли? Пусть сестры скажут, что я занят.
— Есссь! — козыряет Маша и пригибается ко мне, часто шепчет: — Да ведь как требует-то, Сан Палыч! Растуды твою! — немедля подай ей Николаева!
— Ах, скажите ей что хотите!
— Есссь… А чего это вы тут мучаетесь-то? Невеселые какие!
— Ладно, спасибо вам, Маша. Идите, пожалуйста.
Уролог смотрит на нас с удивлением.
— Чего это вы? — невозмутимо поднимает бровь Маша. — Мочу, что ль, никак не возьмете?
— Маша, я прошу вас, — говорю я строго, но она уже не слышит меня. она подходит ближе к старику, смотрит на разложенный инструментарий.
— Не идет, ага? — Лицо ее делается строгим, теряет обычное грозно-плутовское выражение. — Дед! — кричит она старику. — Эй, слышь, деда!
— Чего? — еле слышно отзывается Жаркин.
— Потерпи, щас мы тебе поможем, — бормочет Маша.
— Маша, давайте-ка отсюда, — грубовато-любезно говорит Юрий Михайлович. — Ступайте, Маша, не мешайте.
— А я чем мешаю? Вы ж стоите, и всё. Я не мешаю. Я ему щяс сделаю всё.
— Да что вы сделаете? — раздраженно говорит уролог. — Вы что, врач, что ли?
— Ладно, правда, Маша, спасибо, — говорю я. — Вы же не знаете…
— Эт-то почему эт-то я не знаю? — Она гневно раздувает ноздри. — Да я, может, всю войну в госпиталях только это и делала, откуда ты знаешь? И трубок мне энтих не надо ваших. Я без трубок. Чего тыкать-то трубками?!
— Слушай, — быстро говорит Юрий Михайлович. — Что тут у нас происходит, вообще? Три хирурга и…
— Нет-т! — поднимает палец Маша. — Вы, доктор, не правы. Я чего не знаю, не возьмусь! Я всю войну…
— Да тише, вы! — шикает сестра урологического.
— Ты уж молчи! — машет на нее Мария Прошина. — Сопли подбери! Я ж в урологии, может, двенадцать лет дерьмо носила и это вот делала, — она показывает на старика, — без трубок ваших.
— Бред какой-то! — отходит в сторону Юрий Михайлович. — Гнать ее отсюда на все четыре…
— Как без трубок? — вдруг спрашивает уролог. — Вы же понимаете, у него там…
— Опухоль! — истово кивает Маша. — Понятно. Она и не пускает. Шишка-то — во… и не пускает. И на фронте так бывало, когда в живот попадание, часто…
— Ладно, — говорю я, — попробуйте.
— Ну, знаете ли! — возмущенно восклицает Юрий Михайлович. — Я этого вообще видеть не желаю. Ты что, Александр Павлович, в своем уме?
— Хорошо. Что ты предлагаешь? — быстро говорю я. — На, бери катетер, спусти ему мочу — давай!
— Но, Саша, помилуй, это дико!
— Дико. Согласен.
— Пусть делает, — кивает уролог.
— Ну, товарищи, дожили! — сквозь зубы говорит Юрий Михайлович и направляется к дверям. Но он не уходит. Он возвращается.
А Маша подходит к старику и становится на колени. Ее корявые руки касаются его сожженного годами живота, ее лицо меняется и делается сосредоточенно-угрюмым. Какое-то новое, совершенно незнакомое выражение появляется на этом испитом морщинистом лице, она словно прислушивается к чему-то, доступному только ей.
Я безотчетно отмечаю незнакомую верную сноровку ее рук, неслучайность каждого касания — она точно идет по рефлекторным точкам. Мы все молчим, глядя на ее работу. А она и не видит нас, она нахмурена, углублена в свое.
— Деда! — окликает старика Маша. — Слышишь меня, нет?
— Чего? — тихо отзывается Жаркий.
— Александр Павлович! — снова сестра в дверях. — Вас к телефону.
Я только машу рукой:
— Закрой, не мешай!
— Деда! А ну-ка покашляй! — приказывает Маша. — А ну-ка кхе-кхе! Кашляй, говорю! Кхе-кхе!
Старик не отзывается.
— Фу… шаманство какое-то, — бормочет Юрий Михайлович, но и он, как и мы, жадно следит за каждым движением санитарки.
Руки Маши, привычные к мокрым клеенкам, «уткам» и суднам, сейчас эти руки живут новой, невиданной жизнью, какой-то извечной, бессмертной простотой — они тормошат старую намученную плоть, будоражат в ней токи, воскрешают в ней уснувшие импульсы. Эти руки, большие, искореженные работой, полны тайной силы, они делают и делают ведомое им с материнской неутомимой настойчивостью: от точки к точке, от пупка вниз, по бокам живота и к паху, по бедру вниз и назад. Легкие ответные сокращения бегут по телу Жаркина.
— Кашляй! — хрипло кричит Маша. — Ну!
— Кхе! — слабо кашляет он.
— Шибче! — кричит Маша. — Кхе-кхе! Шибче, давай! С дыхом! Кхе-е!
— Кха! — послушно кашляет сильней Жаркий.
— У него ж кровь пойдет из культи! — хватает меня за руку Юрий Михайлович. — Ты что?!
Я мотаю головой: «Только молчи, не мешай». И он смолкает. И он смотрит на Машины руки. Нас всех захватывает это страстное ее упорство, нас уже всех куда-то несет этой ее дикой первозданной волей.
— Кхе! — кричит Маша.
— Кха! — громко басом повторяет Жарким, кашляя всей грудью, с наддачей, и в тот же миг Маша пристукивает по его животу ребром ладони — неким особым, сложным резким движением: несильно, но точно.
— Кашляй! — свирепо кричит она и снова пристукивает. — Кашляй, деда! Ну! Ну, вот так. — Маша резко оборачивается к сестре. — «Утку» давай!
Сестра лихорадочно подает это стеклянное изобретение для людских надобностей. Маша хватает и тем же верным, простым и бессмертным материнским движением прилаживает эту штуковину к старческому телу.
— Кашляй!
И вдруг — отдачей на легкий удар по животу — разжимаются створы тела и с кашлем из старика льется вялой прерывистой струйкой темно-бурая мутная жидкость… «Утка» потихоньку наполняется. Маша помогает, постукивает.
— Фу ты, — шумно выдыхает уролог. — Это ж надо!
Маша, разгоряченная, вспотевшая, со сбитой марлевой косынкой на голове, с гордостью поднимает «утку» — показывает нам — и строевым шагом идет выливать. Потом она возвращается, нахмуренная и как бы не имеющая к происшедшему никакого отношения.
Жаркину сразу заметно легче, отошла острая боль — он дышит полно, сильно.
А Маша, потоптавшись еще немного, покашляв, уходит с выражением гордости и легкого презрения на лице.
— Во дела… — растерянно повторяет уролог. — Это ж надо!
— Может, посидим немножко, кофейку выпьем, — предлагаю я.
— Нет-нет, — смущенно отказывается парень, — бежать надо к своим, я ведь тоже дежурный.
— Спасибо тебе, — говорю я ему. — И вам, — киваю сестре.
— Да не за что, — обычные, не нужные никому слова.
— Да это уж нам видней. — Я крепко жму его мясистую лапу, и мы с Юрием Михайловичем идем к себе в ординаторскую.
— А ты молодчина, что приехал, — говорю я, когда мы шагаем по коридору.
— Зашиваешься, небось?
— Да не особо. Вот только это… Но Маша, а! Ты скажи!
— Хоть в реферативный журнал сообщение давай.
Мы чуть пристыжеппо смеемся. Юрий Михайлович задерживается на посту, берет свои «истории». Наташа раскладывает таблетки по назначениям.
— Ну так что ж, Александр Павлович, спасибо тебе. Спасибо — безмерное! Выручил! Я, пожалуй, теперь уж сам додежурю. Езжай, отдыхай.
А я смотрю на Наташу, и в это мгновение ее пальцы внезапно замирают на пробке стеклянной трубки левомицетина, сжимают ее крепче и тотчас снова принимаются вытаскивать эту пробку. И Юрий Михайлович что-то чувствует, что-то неясное…
Но тут на посту взрывается звонком серый телефон. Я беру трубку.
— Дежурный глазного слушает.
— Кто это говорит?! — четкий, стальной голос Широковой.
— Николаев.
— Что вы делаете в отделении?
— Ну, по-первых, здравствуйте, Ольга Ивановна.
— Извольте отвечать на мой вопрос!
— В подобном тоне, уважаемая Ольга Ивановна, я говорить не собираюсь И потрудитесь, пожалуйста, перезвонить в ординаторскую. Юрий Михайлович делает большие глаза. Широкова еще что-то кричит в трубке, но я опускаю палец на рычаг.
— Ба, ба, Николаев, что с тобой? — Юрий Михайлович смотрит потрясенно.
— Пошли! — Я беру его под руку и увожу в ординаторскую.
Мы не успеваем еще дойти до дверей, а за ними уже слышны пронзительные звонки. Я вдыхаю поглубже и снова снимаю трубку. Мне почти весело, словно взяли и поставили мою пьесу. И вот играют.
— Слушаю!
— Уважаемый Александр Павлович! — ядовито цедит она, и я отчетливо вижу голубые ледяные искры за ее большими круглыми очками. — Все же соблаговолите объяснить мне, что вы делаете в отделении и где доктор Ольшевский?
— Доктор Ольшевский попросил меня заменить его.
— На каком основании?! Для кого существует график дежурств?
— Юрий Михайлович не мог быть в первой половине дня по семейным обстоятельствам.
— Ну хорошо. С ним будет особый разговор. А теперь извольте…
— Нет, уважаемая Ольга Ивановна, не изволю. Субординация субординацией, но в таком тоне, повторяю, я с собой говорить никому не дам.
Она на миг теряет дар речи — чего-чего, а такого, да еще от меня, она никак не ожидала. Юрий Михайлович сидит рядом ни жив ни мертв.
— Прекрасно! Ну так вот, вы это все хорошенько запомните. Александр Павлович. И не сетуйте после! На каком основании вы оскорбили моего больного? Как вы посмели его беспокоить?!
Но теперь, когда жив и будет жить Жаркин, все эти слова мне бесконечно смешны.
— Алло! Вы слышите меня, доктор Николаев?!
— Да-да. Я вас внимательно слушаю, Ольга Ивановна.
— Так вот. Извольте, повторяю, из-воль-те немедленно вернуть Бориса Борисовича на прежнее место.
— Да нет, Ольга Ивановна, не будет этого.
— Это, интересно, почему же?
— В боксе Кирюхин. Ему предстоит цирклиаж. И вы это знаете.
— Да вы знаете, кто такой Борис Борисович?! Да вам, если хотите знать, надо перед ним по стойке «смирно» стоять!
— Вы ошибаетесь, Ольга Ивановна. Я капитан медицинской службы в запасе. И по стойке «смирно» буду стоять только перед своим воинским начальством. Согласно уставу. А больше ни перед кем. И никогда.
— Не думайте, что я шучу, Николаев. Вы о-о чень рискуете, друг мой! Выполняйте распоряжение!
— Я уже сказал вам. Я буду исходить только — и только! — из медицинских показаний.
— Вы ответите за это!
— Возможно. Но в понедельник я поставлю вопрос на конференции о том, по какому праву вы создаете привилегии для своих больных и почему у вас практически выздоровевший человек занимает больничную койку. Я же смотрел его, Ольга Ивановна. А если будет нужно, подам докладную на имя директора клиники
— О-о, сколько угодно! — говорит она уже весело, она уже получает это свое кошачье наслаждение от игры с мышью. Но я не мышь, я русский врач, я сделал тысячи глазных операций, и не этой особе играть со мной в свои игры.
— Я отстраняю вас от дежурства!
— Нет, — говорю я твердо, — уж, простите, доработаю!
— Где Ольшевский?!
— Он здесь. Дать его вам? Всего доброго.
Юрий Михайлович с опаской берет трубку.
— Здравствуйте, Ольга Ивановна… да, это я. Да… да… Да, понимаете — так получилось сегодня. Что-что? То есть как? Он мне ничего не сказал! Ну, конечно, вы сами понимаете, что если бы я… Нет-нет… Но, послушайте, при чем здесь я? Нет, Ольга Ивановна, нет. Разумеется, двух мнений тут быть не может. Обязательно. Всё будет сделано… Не беспокойтесь.
Он со сдерживаемой яростью бросает трубку и поворачивается ко мне взбешенное лицо — губы его дрожат.
— Ну, сударь, удружили вы мне! Ну, спасибо тебе! Ты что вообще думаешь-то?! О черт! О черт! — Он ходит по ковру ординаторской, сжав кулаки. — Ох, если б я знал! Ну кто, кто тебя просил? Жалкое, расстроенное, несчастное лицо.
— Успокойся, прошу. — Беру его за руку, но он выдергивает ее, похожий на обиженного мальчика. — Что она тебе сказала?
— Это низко с твоей стороны! — быстрым шепотом выговаривает он, — Низко, да! Я тебя не для того просил. А обо мне ты подумал? Теперь всё, всё на мою голову! Да ты знаешь, кто этот Салтыков?!
— Догадываюсь… Да какая нам с тобой разница?
— Только не надо строить из себя простачка! Ты мне всё, всё испортил! Ах черт, если бы я знал!
— Брось, Юрий Михайлович! Я все беру на себя. И не трясись ты так, честное слово!
— Что ж ты сделал, а?! — плачущим голосом вскрикивает он и подходит ко мне вплотную. — Дежурство мое — такчто давай-ка всё вернем на свои места. Я не собираюсь расхлебывать…
— Да не будешь ты ничего расхлебывать, не волнуйся!
— Как же! В конце концов, ты мог сводить с ней счеты не в мое дежурство!
— Какие счеты? Ты что, Юрка?
— У тебя свои дни, свои дни дежурства, пожалуйста! Сколько угодно! А мне это всё не нужно! Не нужно, понимаешь? Я хочу жить без нервотрепок и имею на это право. Так что давай… переводи их на прежние места.
— Нет, ты вдумайся, о чем ты говоришь? Из-за чего сыр-бор?
— Тем более. А то я сейчас сам этим займусь. Вот увидишь!
— Сомневаюсь, чтобы ты… Ну что ж. Коли охота вот так терять себя… А впрочем, я тебе этого сделать не дам.
— Тогда я прошу тебя… по-человечески.
— И не подумаю. А ты вот что, езжай-ка, брат, до дому — и давай считать, что тебя не было. Ты же, черт возьми, врач — не хуже меня знаешь, что к чему и зачем я это сделал.
— Да! Знаю! Но ты все равно не имел права хозяйничать за моей спиной. Это, знаешь ли, легко быть принципиальным, когда… Так что давай…
— Нет, Юрий Михайлович. Не пойдет. И пожалуйста, не кричи на меня.
— Я не кричу, — сбавляет он тон. — Я тебя просто… прошу.
— Ну да, я не подумал, подвел тебя. Верно. Но, в конце концов, врачи мы или не врачи?! О чём мы говорим?
— А я тебе скажу о чём. Тебе, может, плевать, где работать, дорогой Александр Павлович, а мне не плевать. Мне здесь хорошо. Да, хорошо! И я этим дорожу.
— Слушай, Юрка, ты помнишь, как мы жили здесь раньше… ну лет пять назад? До ее, так сказать, появления? Ты вспомни. Мы ведь все были другие. Как весело мы жили, какая была радость каждое утро вот в этой комнате. Или не так?
— И что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать, как нас всех скрутила эта Ольга Ивановна! Чего ж мы все стоим? Помнишь, вот тут стоял аквариум, и после операций мы смотрели на рыбок. Пили кофе и смотрели на рыбок. Вот тогда все и началось — с аквариума, помнишь? А еще — помнишь? — мы с тобой были друзьями. Какая ж тогда цена всему? Ты вдумайся, что вообще произошло? Мы не были все чужими людьми. Или мне это казалось?
— Это беллетристика. Как идет жизнь, так и идет.
— Ну да. И все действительное разумно.
— Именно так.
— И тебе не больно, что вот мы, два друга, два товарища, коллеги… говорим как враги и — из-за чего?! Из-за кого?!
— Знаешь, мои эмоции — моя проблема. Я не собираюсь их вытаскивать на всеобщее обозрение.
— Это мудро.
— Уж как есть.
— Слушай, Юрка, давай попросту — люди мы или не люди?
— Не люблю пустых слов! И ежели хочешь знать, твоей, Александр Павлович, принципиальности цена — грош! Ну — смелость показал! Тишком. За чужой спиной. Браво!
— Вот ты как говоришь.
— Ага. Вообще, наверно, очень приятно чувствовать себя смелым. Особенно вот таким… как ты.
— Это логично. Логично, — говорю я и с долгой грустью гляжу на него. — Что ж, спасибо. Я вижу, ты все-таки понял. Знаешь… поезжай домой и будь спокоен: тебя всё это все не затронет. — И вспоминаю веское салтыковское слово: — Гарантирую.
И снова раздается звонок.
Снимаю трубку и слышу характерное покашливание нашего главного.
— Александр Павлович, вы?
— Здравствуйте, Георгий Иванович.
— Ну всё… закрутилась машинка!.. — вскакивает и начинает ходить по ковру Юрий Михайлович.
— Слушайте, Александр Павлович, что у вас там с Ольгой Ивановной получилось, в двух словах?
И я докладываю ему, что да как.
Он слушает, покашливая. Я договариваю, и он, помолчав немного, говорит:
— Та-ак. Значит, скандал в благородном семействе. Ну почему бы вам не позвонить мне, не согласовать. Как думаете, нужны мне эти свары? Что теперь делать, и не знаю.
— Я понимаю, Георгий Иванович.
— Так что ж с того, что понимаете. Понимаете, конечно.
— Просто мне казалось, что если во время дежурства мне доверено в случае надобности экстренно оперировать, то уж вопрос размещения больных…
— Слушайте, Александр Павлович, разве в этом дело!
Я и сам прекрасно знаю, что не в этом.
— Значит, Кирюхина — в третий бокс, так?
— Да.
— Ох-ох-ох, ну ладно, додежуривайте и больше чтоб никакой самодеятельности. Мне уж тут все семейство этого Салтыкова с челобитными прозвонилось. Ну, всё, трудитесь.
И гудки в телефонной мембране.
— Ну? — смотрит на меня Юрий Михайлович. — И чего?..
— Да ничего.
— А раз так, тогда вот что: разбирайся тут сам.
— Конечно, конечно. Я же сказал.
— А я поехал. За Шаврову спасибо еще раз.
Снова звонит телефон. Я со злостью срываю трубку и хрипло кричу:
— Да!
— Сашенька, это ты?
Далекий и нереальный голос мамы.
— Сыночек, у тебя все хорошо? Мне что-то стало очень неспокойно за тебя, ты прости, что я звоню.
— Да ну что ты, мама, все у меня хорошо.
— Правда?
— Ну конечно.
Юрий Михайлович сбрасывает халат, прячет его в плоский черный чемоданчик и — заминка с рукопожатием. Дурацкая заминка, за которой конец всему, что было между нами прежде. По руки всегда можно чем-нибудь занять. И вот они заняты, и на прощание — лишь вежливые кивки.
— Саша, ты слышишь меня? — Да-да, мама, я слушаю.
— Ну вот. Я и подумала: ну что я поеду к Зине, правда… ехать далеко и потом… Я не мешаю тебе?
— Говори, говори, у меня сейчас есть время.
— Да. Так я ей позвонила и…
Юрий Михайлович в синей канадской куртке с веселыми полосками и кленовым листом на рукаве идет по больничному двору. Он стройный и крепкий — таких должны любить женщины, в нем есть вот этот самый мужской шарм: плотные широкие плечи, длинные ноги. Я вижу в окно, как он подходит к свой любимой синей «тележке», отпирает дверь, садится, заводит мотор и уезжает.
И мне не больно, не горько, а пустовато. Словно я не знал всего этого раньше и узнал только сейчас.
— Ты слышишь меня, Саша?
— Да, да. — Я плотней прижимаю трубку к уху, ощущая, как приходят ко мне по проводам эти волны тепла, того тепла, которого мне не найти больше нигде и ни у кого.
Уже вечер. Начинает темнеть небо. Ноябрь. В коридорах зажигаются голубые газосветные трубки. И вдруг острое одиночество в этой большой сумрачной ординаторской, что нахлынуло и опутало меня всего, сменяется радостным ударом в груди: Наташа! Может быть, она тоже не ушла?
Но резко звонит телефон, я смотрю на него с ненавистью и, вздохнув, беру трубку.
— Дежурный глазного.
— Александр Павлович, это я опять, — снова на том конце наш главный. — Я тут посидел да и вспомнил, и как мы с вами забыли! Помните, в пятницу, мы как раз с Натальей Владимировной толковали. Вы еще сказали насчет Кирюхина, чтоб его в бокс поместить, а я вам сказал, что в принципе не возражаю. Ну, вспомнили?
— Что-то не помню я такого, Георгий Иванович.
— А вы все-таки вспомните, вспомните.
— Я вас понял. Спасибо вам.
— Вспомнили, значит. Ну и добро.
— Не было такого разговора, Георгий Иванович.
— Знаете что, Николаев, вы меня слушайте, что я вам говорю. И не становитесь в позицию. Не надо. Разговор был.
— Я не хочу, чтобы вы еще имели…
— А я не хочу, чтоб вам пришлось заявление на стол класть. Вы мне нужны здесь, в клинике, так что прошу вспомнить и больше не забывать.
— А Кирюхин? — тихо говорю я.
— А что Кирюхин? Пусть лежит, где его положили, у него операция тяжелая будет, полный покой — все сделано резонно. Все. Экстренные были?
— Один старик. Соперировал ночью.
— Ну хорошо.
— Спасибо вам, Георгий Иванович.
— Ладно. Сидите и вспоминайте. Счастливо!
Ну что ж, спасибо вам, Георгий Иванович, славный вы человек.
Буду сидеть и вспоминать.
От себя не скроешь — да и зачем? — мне сразу легче после этих слов поддержки, и сразу кажется детским мой романтический героизм в ожидании боя.
Только теперь, после разговора с главным, до меня вполне доходит понимание реальности начатой мной войны, реальности возможных потерь. Значит, действительно может встать вопрос о том, чтобы мне уходить. Но мне не страшно. Да и чего мне бояться? И тут, представив себе, как оно может быть, я внезапно понимаю, чего я боюсь, не отдавая себе в том отчета.
Ну, конечно, боюсь. И совсем не хочу уходить, мне нужно быть здесь, в этих старых стенах, под этими потолками с лепниной, чтоб иным стал здесь воздух, чтоб иными, такими, как раньше, стали наши лица и мысли, чтобы видеть Наташу.
Ольга Ивановна всего этого не оставит просто так. Но и я постою за себя. Да и за себя ли одного? Так или иначе я знаю, во имя чего и зачем мне биться с Широковой. Дело не в упрямстве моем или ее, дело в том, какими и кем нам всем тут жить. Я выхожу в коридор. Наташа быстро идет мне навстречу.
— Александр Павлович! Ну что?
— Что? — я подмигиваю ей. — Тучи носятся над морем. Между тучами и морем гордо реет Николаев… Сама понимаешь, назревают события.
— Она вам этого не забудет.
— Естественно. Звонил Георгий Иванович — советует сослаться на его, так сказать, разрешение и так далее.
— Он хороший.
— Да ты-то что так волнуешься?! Она усмехается и смотрит мимо меня, за меня, далеко.
— Без вас тут будет паршиво, доктор.
— Правда?
— Да.
Я не могу скрыть радости и улыбаюсь:
— Да что вы смеетесь-то, в самом деле, Александр Павлович?! Вы знаете, как она выживала Манукяна?
— Я всё знаю.
— Неужели она такая сила?
— Во всяком случае, видишь, нам с тобой приходится с нею считаться. А вообще, знаешь, мне действительно хорошо.
— Да, я вижу. Вы такой перед операциями.
— Не выдумывай! Перед операциями я вот какой! — и делаю постное, унылое лицо.
Наташа улыбается. И я улыбаюсь ей.
— Вот что. Пока сейчас затишье, «мертвый час», то да сё, объявляется большой перекур.
И снова мы на лестнице, и снова за окнами темнота. Мы курим и молчим, потом Наташа говорит, осторожно подбирая слова:
— Вы очень устали?
— Да так, в меру. Главное, настроение боевое! Знаешь, я, по правде сказать, забыл, когда и было такое. Ух!
— Неправда. Вы очень устали.
— Почему ты так думаешь?
— Да просто вижу.
— Слушай, я тебя всегда хотел спросить: почему ты ушла из института?
— А получилось так. Сначала мама заболела, и я решила стать врачом Знаете, вот в один день решила — и все! Потом она умерла. — Наташа замолкает, смотрит в окно. — Я уже когда тут работала, поступила ни вечерний. Потом заболел папа. И мы как раз с мужем разошлись.
— Так ты замужем была? А я и не знал.
— Что вообще мы друг о друге знаем? Ну вот. Стало не до института — отец все лежал, пенсия маленькая. Да что там! Жизнь, Александр Павлович. Жизнь.
— Говори, говори.
— А зачем вам?
— Нужно, Наташа. — И я смотрю в эти грустные, спокойные глаза. — Мне это… очень нужно.
— А знаете, как я решила врачом стать? Я тогда была в десятом. Каждый день после школы ездила к маме в больницу. Как-то шла по коридору, я вот одна женщина упала, ей было плохо, тошнота, рвота, всё такое. Ну, понимаете… И я к ней кинулась и что-то стала делать, чтоб ей помочь, и мне совсем не было неприятно там, противно. Просто вот оно, человеческое, понимаете? Я тогда поняла, что мне никогда не будет противно, ни запахи там, ничего. Значит, смогу.
— А мама где умерла?
— Здесь, у нас, на втором этаже.
— Значит, ты…
— Устроилась санитаркой сначала, чтоб поближе быть. А потом так и осталась. И папа тоже умер здесь. В неврологии.
— А не тяжело?
Она грустно усмехается и замолкает.
— Странно. Сколько лет мы, можно сказать, рядом… и…
— Да зачем говорить, Александр Павлович? Ну а вы, коль не секрет, как а медицину попали?
— Выражайся точней — как я, вот такой, какой есть, в хирурги угодил? Да так же примерно, только случилось с отцом. Сначала проклял всю медицину — отца не стало. Из-за одного идиота-хирурга в приемном покое. Вот так и махнул в «мед». Была практика в глазном. Интересно стало.
— Да, — говорит она, как-то странно глядя на меня.
— Что ты так смотришь?
— Как?
— Ну, не знаю.
— Да просто думаю.
— О чем?
— Так. О своем. Просто думаю, что понимаю, почему вас больные любят.
— Любят?
— Да.
— А Салтыков не очень.
— И Ольга Ивановна.
Мы смеемся, бросаем сигареты, докуренные до желтых ободков фильтров, а идем в отделение.
— Пойду, скоро капли вечерние, — говорит она. — Потом ужин.
— Конечно, — отвечаю я тоже тихо. — Кажется, сегодня будет спокойная ночь.
— Хорошо бы.
Больничный вечер. Он всегда долог, он дольше и трудней всех других вечеров. Он рано начинается и тянется не кончаясь, для одних больных ожиданием, когда кто-нибудь придет из родных, а для иных нет и этого, и тогда, если они могут ходить, люди ходят и ходят, говорят и молчат, слушают «Последние известия» в наушниках и все равно ждут.
Эти вечера не легки и для нас: почти нет работы, нет операций и процедур, нет осмотров, и мы тоже ждем.
Кто-то выдумал эти грустные больничные стандарты, эти мутно-блеклые, якобы успокаивающие стены, эти печальные скупые краски — по вечерам, в трепещущем сизом свете люминесценток, в больнице особенно трудно прожить каждый вечер, и к этому не привыкаешь.
Вечер в больнице грустен всегда по-особому — весной, осенью, летом и зимой, всегда по-разному — в солнечные и хмурые вечера, и если есть где утешиться глазам, так на окнах родильного корпуса, горящих от заката до восхода.
Но есть люди — и их так много здесь, у нас, — жизнь для которых всегда вечер, они не видят света зари и окон роддома, и никто не знает, увидят ли когда-нибудь. Да, мы не боги, и мы не знаем, увидят ли они, но мы верим в это, мы живём этим, так же, как и они.
Надо пройтись по палатам, взглянуть послеоперационных, пустить в ход нехитрую психотерапию, успокаивая тех, кому оперироваться в понедельник, измерить давление, записать показания в «истории»… На все эти дела уходит около полутора часов. Усталый, я бреду по своему отделению.
Пробежала Маша с судном, шмыгнул и скрылся на лестнице Витька, воровато пробегают с сумками «нелегальные» посетители — я делаю вид, будто не замечаю их, — из мужской уборной доносится смех — там ночной клуб, рассказывают бесконечные истории и анекдоты, где-то в палатах крутят приемник…
Странный народ — больница ведь все-таки. Нельзя же так громко!
Хочешь не хочешь, надо наводить порядок.
Я иду на звук песни — заунывная и протяжная, она гулко звучит в белом длинном коридоре. Да это в холле! Что за люди, включить на всю мощь над ухом у старика! Я распахиваю дверь в холл во время паузы. В холле почти темно, выключен свет, и темными пятнами рисуются у большого круглого стола фигуры людей. Они поют.
Три старика, все слепые, с палками, сидят у стола. В темноте под пальмами едва различима кушетка моего Жаркина.
Я всматриваюсь и вижу, что в холле много людей — они стоят и сидят у стен, а старики поют.
Они поют знакомую с детства песню, поют, то поднимаясь в высоту, то снижаясь до шепота, поют не очень складно — на три давно пропетых, надтреснутых голоса.
Хрипловато вытягивает бывший гренадер, за ним поспешает маленький худой старичок, и пронзительно-грустным высоким тенором все выше улетает тот, похожий на цыпленка, круглоголовый плешивый старик. Он поет, закрыв глаза, весь уйдя в даль этой старой русской песни, и на его пухлом остроносом лице — слёзы.
Вот кончилась песня, и в холле тишина — все молчат и ждут.
Я стою у дверей и различаю в полумраке знакомые лица. Вон, опершись на швабру, стоит Маша, в углу белеют халатами сестры, за чьими-то спинами стоит притихший Витька, Алла Михайловна у окна смотрит в синюю ноябрьскую непогодь.
— Митька! — говорит бывший гренадер. — Давай вот…
— Какую? — тоненько спрашивает похожий на цыпленка.
— Я начну, — говорит гренадер, — пониже, а ты веди после, я за тобой, а ты, — он машет в сторону маленького деда, — ты не спеши, чего частишь, ты слушай вон его.
Тишина в холле. Я вдруг вижу Наташу совсем близко от себя, у холодильника, под пальмой, и кажется в темноте, что она тоже смотрит на меня.
Вот мчится тройка почтоваая-а… — сильно и, разрастаясь вширь, начинает гренадер, и, допев, кивает головой, хмурится, и громко вдыхает воздух, но уже подхватил — нежно-нежно, волнующе тоненько, с рязанскими нотками — лысый Митька, и брови его на взвыси поднимаются удивленно: Вдоль па-а доро-ожке столбово-ой…И все трое они свиваются голосами, свиваются и снова уходят вверх, в темноте помутившихся глаз, уходят на волю гулять и горевать. И уж не по семьдесят им с лишним, уж сброшены все годы над долгой дорогой, разбитой колесами и полозьями, бесконечной русской дорогой, идущей все выше в холмы…
И колокольчик, дар Валдая, Звенит уныло под дугой…Старики сплачиваются, скрепляются воедино голосами, и песня стоит над столом, колышется звучащим, собранным снопом слов и дыханий, и все слушают в тишине — только иногда приоткроется дверь и еще кто-нибудь войдет на песню.
Ямщик лихой — он встал с полночи…дрожащим голоском ведет старик, похожий на цыпленка, и оба товарища подхватывают с надсадой и рокотом:
Ему взгрустнула-ас-ся в тиши-и-я… И он запел про ясны о-очи-и, Про очи девицы-души…Но тут что-то меняется.
Голосов становится больше, протяжный хриплый бас вдруг вступает, и вторит, и тянется к трем старческим голосам. Он обнимает, стягивает их своей угрюмой древней силой, и непонятно, откуда он.
Вы о-очи, очи голубы-ыя-а… Вы со-окрушили молодца-а…Старики за столом на миг смолкают от неожиданности, и тогда вдруг мы все слышим, что голос этот, крепкий и звучный, вздымающий и уносящий в вечную неистребимую русскую даль, берущий нас так властно и верно, он идет с кушетки, из бинтов.
Зачем, о люди, люди злы-ыя-а… Вы их разрознили сердца-а?.. —поёт Жаркин.
Он поет один, в полной тишине и темноте, он поет, набирая как можно больше воздуха. Голос его дрожит от напряжения, вот он начинает слабеть, но все держит ноту, и когда она начинает качаться и пропадать, старики вступают все вместе, и снова песня звучит широко, длинно и высоко.
Они поют уже все четверо, и голос Жаркина так отчетливо слышен в распевных местах — глухим рокотом еще не смолкшего звона над полем.
Я смотрю на Наташу. И она смотрит на меня, улыбается, и уголки ее рта дрожат. Я осторожно нахожу в темноте ее руку и сжимаю. Рука ее горяча, я сжимаю еще крепче эту руку, и она вдруг тоже сжимает мою — сильно, до боли.
Лето 1979 г.
Свадебное путешествие
Мы уезжали в свадебное путешествие.
И хотя со дня свадьбы пролетело уже больше месяца — как-то незаметно, неосязаемо кануло в делах, планах, разговорах и ночах, мы знали, что это было именно наше Свадебное Путешествие.
Все эти стремительно промелькнувшие дни мы часто мечтали с ней о том, как поедем вдвоем, оторвемся ото всех и всего, останемся совсем одни, как будем бродить по незнакомым улицам, как хорошо нам будет вместе.
Мы все откладывали отъезд, переносили с пятницы на пятницу. То ей надо было работать сверхурочно в редакции, то мне вдруг звонили из журнала и просили срочно приехать, взять статью для иллюстрации или сделать заставки. И мы с легким сердцем — все равно ведь не убежит! — говорили: ну и ладно, подумаешь! Поедем через недельку…
И вот мы собрались. Я нарочно не снимал телефонную трубку, у нее на работе кончилась очередная запарка, и мы начали готовиться.
Давным-давно… еще юношей, узнал я в себе эту странную мечту: когда-нибудь… если придет в мою жизнь любимая, единственная — моя жена — непременно поехать с ней после свадьбы в один из древних русских городов.
И вот это пришло, сбылось. И мы собирались в путь.
Мы ехали во Владимир, ехали на три дня. И всё, связанное с этой поездкой имело для меня особый, огромный внутренний смысл: готовясь к отъезду, я жил желанием, приехав, в одну из минут нашей глубокой душевной близости и счастья — сказать ей — там, что значит для меня быть с ней вместе в этом прекрасном, многострадальном и светлом людском становище, в этом граде Руси, где и должна была, собственно, начаться наша с ней общая, сокровенная освященная историей, семейная жизнь.
Я никогда не знал — где случится это. Не намечал заранее ни мест, ни названий городов. Тут слово оставалось за судьбой — лишь бы то было родное, русское, отрешенное и вознесенное над неистовой спешкой времени.
И когда у нас зашел разговор куда бы махнуть на эти три дня, чтобы быть совсем одним и днем и ночью, я спросил ее — куда тебе хочется?
И если бы жена назвала какой-нибудь Кашин… Муром… Ярославль или Ростов Великий — мы поехали бы туда. И я был бы счастлив с ней везде. И тот город стал бы навсегда тем самым… нашим городом.
Но… она задумалась лишь на мгновение, улыбнулась растерянно и назвала Владимир.
Значит так — и быть посему! И этот недальний град сделался нашей ближайшей жизненной целью — вошел в разговоры, в обсуждения грядущей поездки… то было чудесное, еще дотоле не виданное нами место, и ее выбор был так понятен и удивлял меня точностью чувства, рожденного магией слов «Владимиро-Суздальская земля…»
Утром я слетал на «Курский», часа два простоял в очереди к билетной кассе, и мне не было жалко этих часов.
Я топтался вместе со всеми, болтал с народом, слушал окающую добродушную ругань и смотрел за окно на падавший снег. Во Владимир уходил один вечерний поезд, и все опасались, что не достанется мест и придется тащиться на автобусе, пять часов трястись по узкому, забитому грузовиками шоссе в гололедицу. Но билетов хватило, и я помчался домой укладываться.
Уже по-вечернему синело небо, сплошь расчерченное бесчисленными проводами над составами, когда мы вошли, наконец, в поезд и уселись в высокие самолетные кресла вагона, взялись за руки и в молчании стаяли ждать отправления.
Она сидела задумчиво и торжественно-тихо и смотрела в полузамерзшее окно на перрон, на бегущих людей, на голубые фонари, а я смотрел на нее, на ее чуть припудренную щеку, светлые волосы выбившиеся из-под белой пушистой шапочки, и ждал ее особого взгляда, с каким она непременно должна была обернуться ко мне, когда тронется поезд.
Где-то вверху в потолке что-то зашуршало, и сиплый патефонный женский голос стал перечислять станции. Зашипел сжатый воздух, сомкнулись двери, вагон плавно двинулся вперед, и она тотчас обернулась, посмотрела мне в глаза, без улыбки, тем взглядом, какого я ждал.
И мне стало жарко от счастья, я крепко сжал ее руку, а по морозным стеклам поплыли желтые пятна огней, далекие окна фабрик и депо, горевших серо-розовым светом, и — вагоны, вагоны…
И мы незаметно коснулись с тихим, слышным только нагл звуком, нашими обручальными кольцами.
Мы ехали в головном вагоне, мчались сквозь сизую темноту, мимо нашего окна летел снег, летел сплошной белой завесой, и ничего не было заметно за ней — ни станций, ни ночных заснеженных полей — ничего…
Поезд все набирал скорость, он рвался к длинным перегонам с редкими стрелками и семафорами, его начинало раскачивать всё сильней, всё громче и чаще бились колеса на стыках. Через час зашипели под полом тормоза и надвинулась первая станция, где он должен был стоять две минуты. Вместе с паром и потянувшим по ногам холодом вошли в вагон люди все в снегу, ринулись занимать места, усаживались, забрасывали на полки чемоданы, сумки, корзинки.
Когда поезд снова летел дальше, вдруг раскрылись двери площадки, и все посмотрели туда, потому что визгливо рявкнула гармоника.
В проходе между рядами кресел двигались двое. Двое маленьких цыганят, держась друг за друга, качаясь и оступаясь, шли нам навстречу. Нелепо висел на втором большой, весь в ободранном зеленом перламутре аккордеон, маленькая смуглая рука, странно дергаясь, перебегала по грифу сверху вниз, и из аккордеона вырывалась хриплая полузнакомая мелодия. А первый стащил с головы большую фуражку с красным околышем и вытянул ее пород собой.
И лишь когда они подошли совсем близко, когда я разобрал, что мелодия это — «Ехал цы’ган на коне верхом…», я вдруг понял, что второй мальчишка слеп, слеп от рождения — страшны и мертвы были его белые зрачки под черными бровями на маленькой неумытой горбоносой мордочке.
Зазвенела медь. Заохали, запричитали, окая, владимирские женщины. Я знал, что тот, кто притащил сюда этих замерзших детей в тощих шубейках — здесь, зорко следит черным глазом за аккордеоном, что ребятишки — чужие, взятые напрокат. И что деньги, которые наберут в фуражку, пойдут на выпивку шалой братии. Но я все равно почувствовал радость, глядя как жена, опустив ровницы, неловко бросила какие-то монеты мальчишкам.
Изредка налетали встречные поезда, грохочущей светлой лентой мелькали за окном и, сближаясь с ними, наш машинист давал протяжные свистки… Мы приехали в полночь.
— Остановка Владимир… — пророкотало в репродукторе, и поезд, завывая буксами, начал сбавлять ход, подъезжая к платформе.
Она была очень низкой, и женщины с кошелками стали прыгать прямо в снег между путями, вскрикивая от собственной смелости. Светя красными точками папирос, мужики деловито спустили наземь кряхтевшую старуху, потом ее мешок, стали спускать еще кого-то. Я соскочил вниз по заледеневшим решетчатым ступеньках. Она испуганно глянула не меня сверху и по-детски протянула руки. Сердце мое зашлось от нежности, я снял и поставил ее рядом с собой, ощутив на мгновенье эту родную тяжесть.
Она заробела и растерялась от суматохи в темноте, и тащила меня куда-то за руку, забыв, что спешить нам некуда.
— Пойдем… ну пойдем же скорее, — бормотала она, кивая в ту сторону, куда бежали все.
Ночная привокзальная площадь казалась громадной. Вся мостовая потонула в луже, по которой были разбросаны доски. Несколь ко разбитых такси, врубив дальние фары, рыча, барахтались в воде, смешанной с грязным снегом, и этот резкий слепящий свет фар в темноте над площадью усиливал смятение и тревогу…
— Представляешь, что здесь весной творится! — воскликнула она. — Так куда мы пойдем?
— В гостиницу, конечно, — засмеялся я.
— А вдруг мест нет?! Эх, дураки мы! Надо было заранее заказать и утром приезжать, а то где мы приткнемся среди ночи?!
Разумеется, она была права. Если мест в гостинице не будет, то действительно — где? Но ведь мы были уже во Владимире, а нам с ней еще не стукнуло и двадцати трех.
Падал снег.
Ветер, круживший над площадью, унялся, и снежинки беззвучно сыпались в мягкой тишине.
Мы выбрались на тротуар и, взявшись за руки, пошли по ночной улице среди старых домов. Было светло от снега и пустынно, редко проезжала машина, да и та катила неторопливо, без азартной московской скорости.
Мы брели наугад вдаль, мимо аккуратных особнячков, невысоких мещанских и купеческих домишек, похожие на последние мирные уголки таганского Замоскворечья, и мне казалось, что судьба завела нас в прошлое, в давно исчезнувшее время.
Завороженно разглядывал я новое и незнакомое, жадно крутил головой, остро впитывая и кладя на сердце чувство первой встречи с незнаемым и невиданным прежде… Уже зная, что это точное первичное ощущение от соприкосновения с новым дыханием — навсегда станет неповторимым знаком этого места, этого города, его особенной жизни. И… как-то сразу, сам собою и помимо желания — мил мне стал Владимир.
Здесь — в мостовой… в старинной кладке резного мелкого кирпича… в заснеженных крылечках и ставнях — звучала тихая песнь старинного города, негромкого, но такого же вечного, как и все города, по которым прокатилась сама история.
Сегодня — на этой снежной мостовой наши следы, и завтра от них не останется ничего, а там и домишки развалятся, новые люда станут тут жить и новыми, неведомыми будут их лица… Светло и грустно мне было думать так, и хотелось шагать долго-долго, чувствуя в руке ее руку в колючей варежке, идти и молчать… и вдруг — останавливаться, и смотреть в ее лицо, и осторожно целовать чуть раскрытые холодные губы… И чтоб она вот так молчала, только прикрывала глаза, а я касался бы ее щеки, замирая от невозможности еще сильнее выразить всё, что во мне.
Мы шли и шли, обогнули угол дома и из-за него вдруг явились нам Золотые Ворота.
Они открылись из снежного воздуха, светлея в темноте крутой ножовой арки и заваленной снегом кровлей надвратной церкви.
Мы смотрели на едва различимый в черноте неба скупо мерцавший купол, на маковку и крест, обведенный снежной оторочкой, и страшно становилось от сознания краткости наших жизней и дел перед этой недвижной скалой спрессованных лет. А сбоку в белом камне чернели узкие двери, и когда мы подошли к ним, увидели тяжелые кованые затворы и кольца, притертые временем к толстым петлям.
— Сколько им лет? — спросила она тихо.
— Восемьсот. Жутко, да?
— Невозможно представить. Что они видели, подумай…
Она взяла меня под руку, прижалась ко мне, и я почувствовал, что она дрожит.
— Замерзла?
— Нет — нет!.. Что ты!
— Простудишься еще!
— У меня будет прострел, — засмеялась она, — и ты станешь за мной ухаживать. А я буду лежать, мучить тебя своими капризами. Ты ведь этого боишься, пря знайся…
— Само собой… Ну — шагу, шагу! И где тут эта гостиница? Найди её, попробуй… И спросить некого…
— Да… — она рассеянно оглядела стены, окна, снежные крыши. — Догоняй! — крикнула вдруг задорно и побежала почему-то обратно, свернула за угол, спряталась, выглянула и поманила меня со смехом, снова побежала, прокатилась по ледяной дорожке, поскользнулась, упала, и, хохоча, протянула ко мне руки.
Я оторвал ее от промерзлого тротуара, прижал к себе, задыхаясь от бега, запаха духов, от любви к ней, от того, что эта девчонка — моя жена!
Я принялся стряхивать с нее снег, и вдруг за белыми ветвями увидел в вышине светящиеся буквы.
— Ну и интуиция!.. Смотри — гостиница «Владимир»!..
— Ура — а! — закричала она. — А мест-то все равно, конечно же, нет!..
Мест, конечно же, не было. И она огорчилась. Я уже знал это ее обиженно-удивленное выражение лица. Опустив голосу, она круто отвернулась от загончика администраторши, отошла и отчужденно села в низкое кресло.
— Послушайте… может, сообразите что-нибудь?.. — зашептал я увесистой даме за барьером. — Ну… хоть жену пристройте на ночь.
— А вы — тут, в креслах? — усмехнулась. Помолчала. — Ну ладно… «Люксы» у меня есть. В «люкс» пойдете? Только дорого…
До чего же чудесно, распевно окала эта гостиничная тетка!
— Господи!.. Давайте! Что ж вы молчали!?..
И радостный, не веря себе, побежал к жене, не в силах спрятать улыбку.
Мы побежали наверх по истертой ковровой дорожке, выстланной по лестнице. Спала гостиница, и такая тишина стояла в коридорах, что слышалось зуденье лампочек.
Она взяла ключ, замерла на миг у двери со «старинной» расписной инкрустацией, потом распахнула дверь и первая шагнула в черный номер.
— Зажигай свет! — весело распоряжался я, не скрывая гордясь своим умением «вышибать номера» из неприступных администраторш. — О… да тут весьма симпатично — смотри!..
Большой темный шкаф с зеркалом, вытоптанный ковер на полу, столик с конторкой, широченная кровать, застланная голубым китайским покрывалом. Было жарко, пахло горячими батареями и крахмальным бельем.
Она не смотрела на меня. И каким-то растерянным… рассеянным и отсутствующим сделался вдруг ее взгляд.
Я вошел в маленькую ванную комнатку я весело крякнул ей яз кафельной гулкости:
— Есть горячая вода, представляешь! И правда — «люкс»!
Она не отозвалась. И когда я выглянул из ванной — увидел ее у окна — стройную женскую спину, обтянутую серым свитером, черные брюки, заправленные в высокие точеные сапожки. Она стояла, задвинув руки за голову и по плечам ее струились, разметавшись пепельно-светлые волосы.
Я окликнул ее негромко.
Но она не услышала меня. Расширившимися, как бы удивленными и недоумевающими глазами смотрела она куда-то далеко, через мое плечо… не мигая, и мне сделалось не по себе от ее взгляда.
— Что с тобой, хорошая моя? Ты — где? Ау!
— Да ладно… все хорошо… — неуловимым движением плеч, словно высвобождаясь, она оттолкнула что-то от себя, я увидел усталую давнюю горечь на таком близком, таком дорогом лице… еще ни разу не пойманное раньше выражение скорби в губах… Это отображенное в лице чувство на миг поразило меня, но она пригнула к себе мою голову и поцеловала меня.
Голова моя закружилась от этой внезапно хлынувшей в меня силы… — и неведомо сколько времени прошло, наверно, пока мы стояли, обнявшись.
Я чувствовал: нас несет куда-то, несет нечто огромное, необоримое, неподвластное слабым людям — летел под ногами пол, вырывались и улетали — и номер, и вся гостиница, и город весь, а мы стояли двое на темном шаре, несшем нас.
Потом, обессиленные, оторвались друг от друга и она, положив руки мне на плечи, взглянула — прямым, сильным и строгим взглядом, как бы удостоверяясь в чем-то. И опустила глаза.
У нас в сумке была бутылка вина. И когда она разделась, легла и завернулась в хрустящие жесткие простыни, следя за мной потемневшими глазами, я откупорил бутылку. Она облегченно улыбнулась, села, уютно устроилась в постели и мы выпили — не чокаясь и без слов.
Я смотрел на ее шею… плечи и руки в снежных кружевах рубашки. То ли от мороза, то ли от воды или усталости — у ее глаз собрались морщинки, которых я тоже не видел раньше, лицо сделалось старше, и я подумал, что никогда не ослабеет моя любовь к ней — даже когда она станет старой, совсем не похожей на эту светловолосую, юную, сильную женщину.
— Налить тебе еще?
Она помотала головой и поморщилась. Потом откинула к изголовью подушки и неподвижно вытянулась под одеялом, не мигая глядя в потолок.
— И что ты видишь там? — спросил я шутливо.
Она вздрогнула, глянула на меня, не понимая.
— Так… ничего, — и улыбнулась неожиданной робкой улыбкой.
Я смотрел на нее, как она лежала — распростерто-недвижная, притихшая.
Мы были одни в этой бедной «меблирашке» жалкого провинциального «люкса» с убогой «картиной» над кроватью… мы были отданы друг другу небом и судьбой — супругами, единой плотью.
Сокровение полной, предельной близости с ней — уже и после медовых наших дней и ночей — было полно для меня волнующей мистической тайны, необъятного и непостижимого разумом чувства ирреальности. И чувство это не убывало, не истаивало в привыкании, но лишь обострялось, вырастало и мощней овладевало моей душой. И потому это теперешнее особое, напряженное, почти экстатическое приготовление самого себя к новой встрече с ней, с ее плотью, было торжественно-важным, благоговейным внутренним обрядом… не сравнимым ни с чем иным вдохновением… здесь, в этом долгожданном городе напряжение это достигло предельной черты какого-то главного исполнения.
Погасив свет и тихо раздевшись, в сосредоточении всех сил и чувств постояв минуту у окна, я шагнул к ней.
— Я иду… — сказал я тихо и глухо. Но ответа не услышал.
Я отбросил край одеяла а прилег рядом, осторожно протянул руки и коснулся ее плеча. И словно волна ледяного тока пробила насквозь и свела судорогой неподвижности ее тело. Такого не бывало у нас прежде. И, не зная как быть, я сильней и горячей прильнул к ней, привлек и прижался, чувствуя как часто и сильно сотрясает нас обоих мое бешено стучащее сердце.
Она отвернулась, пытаясь высвободиться… Я попытаются повернуть ее к себе. Ласково, но властно и непреклонно она отвела мои руки.
— Послушай… — прошептал я срывающимся хриплым голосом.
— Я… прошу тебя… очень… — не оборачиваясь, сдавленно тусклым умоляющим шепотом с трудом выговорила она. — Я… хочу спать.
Эта… вечная, классическая во все времена фраза отказывающей в любви женщины словно вмиг парализовала и меня тем же жгуче-ледяным током. Я отпустил её, отделился… бережнейше отклонился. Незнакомая, стылая боль и горечь окатили меня и неспешно поползли от макушки — по груди, спине… к ногам… обволокли всего и словно погрузили в мертвую воду.
— Да-да… конечно… спи, — пробормотал я печальным откликом и замолчал, опустошенно и слепо глядя, ничего не понимая, в потолок, и какие-то смутные тени скользили там, и вихрились, свивались серыми спиралями в темноте… и я не мог понять — то ли и вправду там вершится запредельная бесовская кутерьма, — то ли эти мглистые фантомы мятутся и борются в моем мозгу…
— Знаешь… — начал я было… еще сам не зная, что хочу сказать ей, но вдруг оборвал себя на полуслове чего-то мучительно устыдившись… То ли ненужного ей порыва страсти, то ли ненужных слов.
Она не отозвалась. Она… как бы спала, но я чувствовал как натянута она вся в этом решительном, холодно-непреклонном противлении мне.
Обида?… Разочарование?.. Что нахлынуло на меня — сдавило грудь, стиснуло виски?..
Лежать вот так, рядом, было невозможно.
Я встал и босиком подошел к окну. Отодвинул штору и уставился в отчужденный безразличный мир.
Синий мрак, а в нем — темные дома, дрожащие огоньки, трубы, от которых поднимались светлые дымы — все там было и существовало как бы отвлеченно и отстраненно от нас, в полнейшем равнодушии к нам.
Утраченное… потерянное вдруг, минуты назад — казалось уже недосягаемым… несбыточным и невозможным — стремление всюду и во всем быть вместе, неразделимыми… чтобы раскрыть окно и слушать, обнявшись, ночные звуки: фурканье малорослой длинногривой лошадки во дворе гостиницы, манящие в дальнюю даль тревожные гуды и перестук железной дороги…
Я приоткрыл форточку. С улицы пахнуло мокрым сеном, углем, студеной свежестью. Я стоял, вдыхал эти запахи морозной зимней ночи словно просыпаясь и трезвея.
Я подошел к постели. Теперь она и правда спала, и брови ее были нахмурены. Что снилось ей и отчего так тревожно смотрела она внутрь себя закрытыми глазами?..
Осторожно, боясь прикоснуться к ней, я прилег рядом, слушая тишину… какие-то скрипы, шорохи… ее дыхание.
Рассвет мы проспали и вышли из гостиницы, когда город под солнцем уже сверкал снегом. В это субботнее утро еще почти никого не было на улицах, и это безлюдье было нужно нам.
Солнце пронизывало негреющим светом дымный от стужи воздух, играло в окнах низких домов, в старинных, писаных уставным шрифтом — разве что без твердых знаков и ятей — вывесках.
Улицы поднимались по крутым холмам, скатывались в долину реки, угадывавшейся голыми заиндевелыми ракитами по берегам, и дома и домишки, строеньица и хибарки громоздились уступами крыш, а над ними высился шпиль колокольни.
Успенский собор стоял, вознесясь и подчиняя себе город, устремясь к небу своими круглыми, светло-златыми главами, и белая мощь его стен, темные барабаны под куполами и простые кресты — все звенело суровой музыкой древности. А на площади перед собором с каменной серой глыбы смотрел на далекие Золотые Ворота черный, в заснеженном шлеме, Александр Невский…
Я вглядывался в лепные украшения домов, в каменных бородатых львов, выступавших из стен, и хотя все это было так знакомо по Москве, Питеру, Одессе — я удивлялся им, будто никогда не видел подобного, и во всем искал и находил свою, едва приметную особенность… Все в этом городе казалось присущих только ему: и праздничное, ярмарочное многоцветье стен, и театральная уютность улиц, и ясные лица редких прохожих. Люди эти казались иными — они должны были быть совсем не такие, как москвичи, в их городе жизнь двигалась в неспешном ритме иного измерения, и им наверняка должно было хватать времени, чтобы сосредоточиться и додумать то, на что нам — времени не хватало.
Мы уходили куда-то по новым… незнакомым улицам, и минувшая ночь была уже далеко позади, и ледяное солнце как могло старалось отогреть нас, но вошедший в меня спокойный холод не отступал, и уже было как-то пустовато-странно… невесомо-печально и скорбно-прекрасно в этот день рядом с ней.
Тонкая ледяная игла не таяла в сердце, торчала постоянно, и — то ли благодаря этой боли, то ли почему-то ещё, не поддающемуся уразумению, — моя душа, мое сознание и глаза были обостренно пристальны, зорки и приметливо-чутки ко всему вокруг, и я словно мгновенно и безошибочно проникал во всё, прозревая главную изначальную суть.
Я был художником — то есть открыл уже что такое линия и пятно, что такое отношения тонов и цвета, но еще лучше я знал, что не это — главное.
А оно — это то необъяснимое преображение в твоих мыслях, а после — в рисунках, картинах, гравюрах — всякой частицы мира увиденного — в мир понятый и вновь сотворенный тобой и только одним тобой — в мир, присущий лишь одному тебе и воплощенный лишь в тебе свойственной пластике… Быть может в том и была коренная и мучительно тяжкая задача всякого искусства, и я знал что бывали дни, а подчас и месяцы, когда я не мог и не умел видеть этой пластики претворенного мира.
Но в этот день… и я чувствовал — в сосредоточении тайного внутреннего страдания — глаза мои были раскрыты. И в этой радости, рожденной болью, — была своя мудрая, разъедающая душу, истинность жизни.
Целый день мы бродили по Владимиру, слонялись по уличкам и проулкам, заходили в музеи, покупали книжки, сувениры, гостинцы московским друзьям… я любовался ею — высокой, с длинными стройными ногами в черных сапожках на каблуках, мы обменивались какими-то легкими необязательными словами… день пролетел и уже под вечер — будто ничем не связанные друг с другом кроме этого города — пошли в Успенский смотреть фрески Рублева.
Кончался день и солнце былинным малиновым диском уходило за собор, и он рисовался четким синим силуэтом на фоне светящегося неба.
Мощеная широкими каменными квадратами присоборная площадь стыла обратившейся льдом водой, и не один раз мы упали на этой скольжине, пока подошли к пустой паперти.
Миновали дряхлых старух, толпившихся у входа, — и голова закрутилась от темной бездонности, беспредельности соборного пространства, от густого, веками настоянного запаха ладана и кадильного дыма. Пахло и еще чем-то… но таким древним, далеким и забытым, что и понять нельзя было — что источает этот запах. Может быть, то пахло самой вечностью.
В тумане коричневатой мглы искрились огоньки лампад у образов — красных, зеленых, желтых и звучал, гулко разносясь по собору, высокий, надтреснутый голос дьячка. Он невнятной скороговоркой читал по требнику, время от времени поправляя сползавшие очки. Недвижимо, как колонна, замер пред Царскими вратами, оборотясь спиной к приходу, священник в черном будничном облачении. Тоненько тянули «Господи, помилуй…» старушечьи голоса.
Мы стояли пред алтарем, не венчанные супруги, как бы в неловком смущении своего чуждого бездействия среди пришедших на молитву… И словно рука моя отяжелела и не было силы поднять ее, чтоб осенить себя крестом.
Но вдруг… что-то сместилось в душе, стронулось и прояснилось, и я, словно наученный кем-то, внезапно обратил просящий взгляд к сияющему вечному Лику в райской глубине алтаря… безмолвно шепча про себя таинственные древние глаголы о помиловании и спасении наших душ…
— Ну ладно, пойдем… — потянула она меня за руку, и мы пошли по собору отыскивая Андреевы образа. Но увидеть их не пришлось: они были закрыты бесконечными переплетениями железных трубчатых лесов, уходивших вверх — работали реставраторы.
Мы еще постояло немного, послушали пение, поглядели на маленьких сморщенных старушек в черных рясках и белых платочках, озабоченно сновавших среди немногих прихожанок — таких же старушек, только в долгополых ветхих пальтишках, с палками, в стоптанных валенках… Древние лица были у них, и казалось — они всегда так неслышно хлопотали здесь и жили при соборе, всегда с тех времен как поднялся он… в их лицах дышало неистребимое, молитвенное русское сосредоточение приобщенности к Богу, твердости в вере и преданности Христу…
И вдруг я поймал скучающий взгляд жены. Она томилась.
И я внезапно вспомнил, что уже не раз в этот день ловил на ее лице тоскливое выражение, но она сразу преображалась и начинала что-то говорить — веселое, легкое и беспечное.
Сейчас, перехватив мой взгляд, она не улыбнулась. И я словно на миг проснулся, и с совершенной ясностью понял, что страшусь наступающей новой ночи и бессознательно стараюсь отдалить её.
Мы вышли из собора.
Темнело, и в холодном желтом небе с плачущими криками летали огромные стаи галок — как летали они здесь и сто, и двести, и пятьсот лет назад.
Пора было возвращаться.
Было совсем поздно, когда вымотанные и усталые мы пришли в наш жарко накопленный номер. Сразу легли, я погасил свет и торопливо, словно оправдываясь и боясь так и не сказать ничего, стал говорить те заветные слова, что берег в себе много лет для этой минуты… Говорил — и мучительно чувствовал, что говорю не то и не так, как мечтал, что слова эти, в сущности, смешны, нелепы и никому не нужны, кроме меня одного.
Я прервался на полуслове и замолчал. И она лежала в тишине, не шевелясь, не отозвавшись на сказанное мной.
И страшную, необратимо расширяющуюся пустоту ощутил я внутри себя.
— Теперь… ты понимаешь, почему мы здесь?
Она молчала. Даже дыхания ее не было слышно. Я вгляделся в темноте — сумрачным и далеким увидел я ее лицо.
— Ты… слышишь меня?
— Говори, говори, — ответила она поспешно и испуганно, — я слушаю.
— О чем ты думаешь? Скажи?
— Я… слушаю тебя, — повторила жена, но голос ее был сдавленным и словно виноватым: что-то тяжелое не оставляло её.
Я оглянулся мысленно, пытаясь вспомнить весь этот день, все улицы, по которым мы ходили, кружение по городу в кольцевом троллейбусе… музейчики… службу в соборе — и меня вдруг поразило, что я за весь этот нескончаемо долгий день не мог вспомнить ничего, кроме своих слов, своих мыслей — словно её и не было рядом.
Я приподнялся и посмотрел на неё с удивлением и немым вопросом.
И словно ища защиты, словно прячась от чего-то преследующего и беспощадного, она внезапно порывисто охватила меня руками и, как в первый вечер, стала душить мучительным, неистовым поцелуем…
И с острым чувством высвобождения из-под темной тяжести, придавившей нас, с жаркой благодарностью за внезапное спасение — я прижал ее к себе, и прирос к ней всем существом, и мы стали вместе.
И мир исчез, рухнул вместе с нами в темный провал времён, и не было ничего, кроме нас двоих в центре мощно пульсирующей животворящей и обновляющейся вселенной… и золотые россыпи неведомых звезд разлетелись в крепко сжатых глазах, когда раскрыв их на миг, я увидел совсем рядом — ее далекое, чужое, кому-то другому отданное лицо.
И это ее бездушное участие в том, что совершалось между нами, — как неслышимым выстрелом в упор разнесло на куски мое сердце.
Мы не были вместе!.. И сейчас, в эти минуты, мы были поодиночке, каждый сам но себе — как днем, как в соборе…
С совершенной ясностью понял я: эта женщина — не моя и никогда не была моей. И тут не нужно было ни слов, ни подтверждений, ни отрицаний, и оба мы вмиг поняли это и разгадали один другого.
Задыхаясь и еще часто прерывисто дыша, я быстро встал на пол и — точь-в-точь как той ночью — шагнул к окну.
И — обернулся.
Темно было в номере, но странно — я видел все ясно и неоспоримо-точно. Она лежала, широко раскрыв глаза, и смотрела в окно. А брови ее были сдвинуты вновь, и вновь вспомнилась прошлая ночь, ее неведомые для меня, трудные сны.
Я… ждал.
Мне чудилось: собравшись, она ищет силы сказать мне то, что тяготило ее. Я ждал, а она молчала, и было так тихо в номере, что я слышал как шумит кровь в голове.
Душа по-детски хотела убежать от случившегося, все переиграть… запрятать, зарыть в землю, вернуться в прошлое, в позавчерашний вечер на вокзале и, словно обманывая судьбу, сесть в другой поезд, поехать в другой город… И потому хотелось спросить её, растормошить, встряхнуть и выгнать из нее это… чужое, чтобы вернулось вдруг рассыпавшееся наше счастье… верней — моё… слепое и дурацкое счастье… хотя бы лишь видимость его.
Но что, что разделило нас, отрезало друг от друга в тишине жаркого «люкса» на третьем этаже владимирской гостиницы?
Я подошел и присел около нее на постели.
— Скажи мне… что мучает тебя?..
Она заплакала, беззвучно, не всхлипывая, слезы быстро бежали по щекам — первые ее слезы, которые я видел. Я обнял ее и она потянулась, забилась в меня лицом, целовала, гладила мои волосы.
— Всё чепуха, — шептал я, — всё, всё чепуха… только успокойся, не плачь, не мучай себя.
— Я… люблю тебя, — простонала она сквозь слезы.
— Не плачь, моя родная, только скажи мне всё, а не хочешь — ничего не говори… только не плачь…
Она безутешно плакала.
— Я люблю тебя, люблю… — словно упрямо доказывая кому-то повторяла она.
И жгучая жалость к ней, загнавшей собственную душу и жизнь в этот угол, охватила меня.
— Ничего… — сказал я. — Ничего… Ну… бывает. Пройдет…
И тут… словно тугой темной волной на меня нашло прозрение. Вспомнились ее отчужденность… редкие слова, ответы невпопад, короткие замечания, кивки головой… долгие взгляды куда-то в сторону… — и вдруг все это соединилось, сплелось и сложилось вместе.
Весь день, да еще и вчера… куда бы мы ни шли в этом незнакомом городе, петляя по узким проулкам, пересекая проходные дворы… — мы почему-то сразу оказывались там, где хотели. Она легонько поворачивала меня на перекрестках или тянула за руку, и так же, как в первую ночь нам неожиданно попалась гостиница, — так же сразу вырастали на пути монастыри, музеи, церкви…
Она уже была когда-то во Владимире!
Конечно же была! И она хорошо знала этот город. И назвала его — совсем не случайно, не наугад!..
Я все дивился ее интуиции, а она, верно, грустно усмехалась про себя.
И как же много он значил для нее в той, закрытой для меня, ее прошлой жизни, и как, вероятно, много значил тот… с кем она была здесь, может быть… вот в этой самой гостинице… если она ничего не сказала мне, предпочла смолчать, обрекая себя на пытку воспоминаний, все время боясь проговориться и выдать себя…
И что потянуло ее сюда? Желание проститься… справить тайную тризну по прошлому или… вновь пережить, вновь погрузиться в свое заветное, женское, заповедное… Зачем она молчала? Разве не понял бы я?.. Она должна была сказать мне всё. Непременно… У нас не должно было быть тайн. И… в конце концов не важно мне было — когда, почему и с кем она была здесь, но она… должна была сказать: ни белых, ни темных пятен не должно было оставаться между нами, если мы верили и… любили.
Я знал — не сомневался — вот сейчас, в эти мгновения, решается что-то бесконечно важное, определяющее во всей нашей будущей жизни. И потому ждал, ждал ее слов. Она тихо плакала. Я осторожно отстранился и встал.
Владимир… Деваться было некуда — и я вновь подошел к окну.
Все за стеклом было таким же, как и вчера, как в минувшую ночь.
И та же лошадка понуро переступала спутанными ногами и покачивала длинной тяжелой головой. Дрожали огоньки, курясь поднимающимися дымами, чернели далекие трубы, спал город, спала гостиница, и все это было теперь таким далеким, таким ненужным, живущим само по себе.
Чего я хотел от нее и чего ждал? Признаний? Покаяний? Пылких смертельных клятв?.. Смешно!.. Нет и нет. Я хотел лишь… отсутствия преграды, но она молчала, и преграда эта становилась все выше, несокрушимей.
Чем ближе было утро, чем бледнее становилось небо в окне, тем со все большим страхом я думал о наступающем дне. Зачем он нам и что принесет — если вломилось и пролегло это?
Надо было входить в утро, вплывать в новый день, вставать, говорить какие-то слова, что-то сглаживать, делать беспечный непринужденный вид… а после — как будто и вовсе забыть эту ночь молчания.
Жена лежала, отвернувшись, водила пальцем по стене, рисовала какие-то невидимые узоры, сетки, круги.
И утро пришло, и был завтрак в почти пустом зале ресторана, и не знаю почему, глядя как официантки снимали с давно осыпавшейся елки блестящие шары и звезды, как они сдирали со стен бумажных толстощеких зайцев, как смывали тряпками нарисованных на зеркале Деда-Мороза и Снегурку, — я остро почувствовал, что началась новая жизнь, новая полоса, и испытал какое-то горестное облегчение. И на меня налетела нежданно злая, отчаянная жадность к жизни, холодная отвага перед будущим и обособленность души ото всех… ото всего… от нее. И словно физически ощутил как изменилось мое лицо, изменились глаза.
Быстро вдруг завертелось всё, будто пришпорили судьбу: я разговаривал и смеялся с официантками, шутил с парнями за соседним столиком, а она была рядом, слушала, тоже смеялась, тожке говорила что-то… я старался верить ее смеху, взглядам, словам, не верил уже ничему — и этот последний день в нашем Владимире превратился в муку.
Все вчерашнее, все давешнее — радостное, обещающее счастье, оборачивалось нестерпимой болью в груди: и эти милые уютные улицы, и домишки, и дряхлый кольцевой троллейбус, на котором мы поехали вечером к вокзалу.
В поезде я стоял в тамбуре, курил и, прищурясь, смотрел на нее через стекло вагонной двери. И она смотрела на меня, сидя в пустом холодном вагоне — печальная, усталая, а через площадки носились с хохотом и гиканьем вихрастые пацаны, прятались под лавками, вскакивали, звонко орали, топали ногами и убегали в другие вагоны.
Я курил, курил… а к поезду собирались люди, карабкались по лесенкам, и скоро в вагоне было битком народу.
Громыхали гитаркой в какой-то шумной лыжной кампании, и от них — молодых, веселых, красных с мороза, прилетали токи беспечной радости. Мы перебросились словами, разговорились, я подсел, к ним, а потом, когда поезд уже летел к Москве, мы хохотали, я подпевал их песням, а жена грустно улыбалась и рассматривала свои ногти.
Убегу — не остановишь, Потеряюсь — не найдешь! Я — нелепое чудовище Ласкающийся еж…Напротив нас на лавке сидел невысокий большеголовый парень с бледным, умным лицом горбуна. Он молча исподлобья смотрел на кампанию лыжников. Я все разглядывал его, сильные рабочие руки сплошь разрисованными синими наколками, однако моряцких якорей я не приметил. Вытатуированные на пальцах «перстни», буквы, значки и солнце с лучами. Казенная телогрейка, шапчонка уставного образца, брезентовые сапоги, полупустой «сидор» у ног.
Он порылся в мешке, достал какую-то книжку и закрылся от моего взгляда.
Обложки на книге не было. Уцелел титул, и он — будто подстать его рукам был весь разрисован химическими карандашами: запутанными, причудливо сплетенными тонкими узорами, женскими головками, райскими птицами, рвущимися из клеток в облака… «Александр Блок. Избранное» — разобрал я на листе в виньетках, цветах и рисунках орнамента.
Он почитал немного, потом захлопнул книжку. Глянул с вызовом исподлобья:
— Зекаешь всё?
— А что — нельзя? — я улыбнулся. Мне нравился его спокойный взгляд. Но он не удостоил меня улыбкой.
— Читал? — показал книжку. — Хорошо пишет!..
— Читал. Очень люблю.
— С Владимира?
— Да нет. Просто ездили…
— На экскурсию?
— Вроде. А ты?
— Был… в командировке. Централ Владимирский — слыхал?
— Слыхал. Домой теперь?
— Домой. В Мурманск.
— Долго был?
Он посмотрел в окно. Помолчал.
— Восемь лет.
— Понимаю.
— Сегодня вышел. В два, — он полез в карман, достал и протянул сложенный листок казенной справки.
— Да ладно, чего показывать. Верю.
— Сильно видно, что я меченый?
— Да почему меченый… Человек как человек. — А восемь лет его тюремной жизни вдруг пронзили ужасом. Где был я, что делал восемь лет назад и все эти годы? А он — прошел за иную черту и восемь лет не знал никого, кроме воров, насильников, убийц.
Он, словно услышав мои мысли, быстро наклонился ко мне:
— Ты вот — знаешь — что такое — восемь лет?!.. Я крутился в шестнадцать. За дело. Ничего не скажу — подлое было дело. Сорвался на пересылке в Омске. Ушел. Взяли. Накинули трешник. Опять соскок. Еще три. Молодой был… Сейчас бы дотерпел. Так и набежали все восемь — от и до. А книжку эту по всем зонам таскал. Два раза за нее дрался. Мне подарили ее. На — посмотри. Со странным чувством перелистывал я замусоленные, истрепанные страницы: подчеркнутые строки, обведенные строфы, галочки, восклицательные знаки… В чьих руках побывала книга нежнейшего из поэтов, чьи глаза читали это?.. Одно стихотворение было обведено ярко-красной рамкой:
Ты жил один, друзей ты не искал,
И не искал единоверцев,
Ты острый нож безжалостно вонзал.
В открытое для счастья сердце.
Далекий друг, ты мог бы счастлив быть…
Зачем? Средь шумного ненастья
Мы все равно не можем удержать
Неумирающего — счастья.
Она сидела рядом, притихшая, и, не вмешиваясь, слушала наш разговор. И казалось, будто мы, и впрямь, чужие, незнакомые люди, просто попутчики в вагоне дальней электрички.
Потом мы ушли с ним в тамбур и долго курили бок о бок, обмениваясь короткими словами — о жизни, о людях и встречах, а она смотрела на нас, и мне думалось, что вот… как странно все на свете… там, в освещенном вагоне — самая близкая мне душа, жена, часть меня, моя половина… Но отчего тогда — этот маленький человек в стеганке и тюремной шапке — мне сейчас ближе, чем она?
Мы вернулись в вагон, я достал из сумки блокнот, карандаш и сделал несколько точных похожих набросков его скуластого умного лица.
— Могёшь, — кивнул он, рассматривая себя на листках. — Правда, художник. Подпись-то поставь… Тут вот: «Юрке — в первый день свободы…» И число! Ага…
Она полезла в сумку, достала приготовленные на дорогу бутерброды, и мы принялись за еду, а поезд летел через сизый вечер, через белую снежную даль поля.
Юра ел не спеша… проглатывал с усилием и не глядя на нас, уставившись в полузамерзшее стекло.
На вокзале в Москве мы постояли у вагона глядя друг на друга.
— Ты… вот что… — сказал Юра, жестко посмотрев на меня, — Хорошая у тебя женщина, парень. — Ты ее это… не обижай, понял…
— Он не обижает… — с чего вы взяли, Юра! — улыбнулась она. — Будьте счастливы!
— А… ну да, — кивнул он. — Попробуем.
Мимо нас двигалась, плыла, растекалась вокзальная толпа.
Мы спустились в метро, вошли в голубой переполненный вагон.
Она стояла рядом, но не положила мне руку на плечо, как всегда, а взялась за поручень, провожая глазами умчавшуюся «Курскую».
Черные кабели и провода бешено неслись за окнами, сходились и расходились в темноте тоннеля.
Мы возвращались.
Наше свадебное путешествие кончилось. Поезд подземки уносил нас в нашу будущую жизнь.
1981
Плач по Сергию. Глава из романа
Он лежал на широком белом полотнище среди складок и марли. Все было бело вокруг — потолок, стены, сильный, льющийся из высокого окна поток дневного света, в котором он ворочался, раскрыв глаза. Минуту назад его обмыли, отерли кровь, взвесили и охватили у запястья тесьмой с клеенчатой биркой.
Он откричал. Сомкнулась разинутая воронка рта, и он вбирал этот свет бесцветными, нездешними глазами.
Что видел он? Чем было для него то, что открылось вдруг из вечной зыбкой темноты, в которой он плавал, а после прорывался сквозь красное — к этому белому свету?..
Никто в мире не знал его тайны, и никому не дано было ее раскрыть.
Он лежал в свете дня, неся в себе отныне как бы смутный отсвет того окна, сладкий запах молока и громадный, спускающийся к нему теплый купол с темным центром соска, что был для него и солнцем, и небом, и всем сущим безмерной вселенной. И он тянулся к нему, пил, искал его маленьким жадным ртом, пил и постигал в этом вкусе первое блаженство.
Кто он был и чей он был? Все смылось и рассеялось среди ветров судеб. Но были — отец и мать. Они кормили, ласкали, агукали, тормошили, радовались его первому зубу и первой улыбке… мыли, купали, носили в одеяльце, горделиво показывали родным, о нем мечтали и думали втайне, но…
Но он впервые увидел себя и начал отсчет не с улыбок отца и матери, не с их рук и голосов, не с комнаты, не со двора и крыльца — он ворвался в мир страшным бегом и чьим-то криком. Кто кричал, ища и зовя его среди огня, дыма, среди летящих ему под ноги комьев земли и звонкого грохота разрывов?.. Он бежал и вопил — тоненько, на единой ноте убиваемого, чуящего смерть зверька, он падал, сбивая голые коленки, и снова бежал, один перед этим огнем, мокрый, белоголовый, светлоглазый ребенок трех лет от роду — навеки теряющий все связи с тем, что было вокруг него и чем был он сам.
Он бежал… Свет дня звал его к себе, но вдруг затмевался черно-рыжим лохматым дымом и неостанавливающимся треском сверху, догоняющим его со смертным воем и взмывающим черным перекрестьем в небо.
Он добежал куда-то, остался цел — зверь над головой не утащил его в вытянутых железных лапах, — увидел себя как бы со стороны, увидел среди чужих дрожащим, не могущим подавить частой икоты: руки людей тянулись к нему, к его белым волосам, он отдергивался и крепче прижимал к себе обкусанную, вывалянную в пыли ржаную буханку.
Так родился он — не для других, для самого себя. Так открылось ему его начало. И в тот день, уже к вечеру, он ответил, наконец, на вопрос идущего откуда-то с высоты женского голоса:
— Ну, не плачь, детка… Как тебя зовут?
— Се… Селёза… — прошептал он, все не отдавая своего хлеба, еще крепче впиваясь в его черствеющее ржаное тело. От всего, чем он был, остались лишь хлеб да имя «Селёза», а те, чужие, все не могли понять его и спрашивали:
— Какая слеза? Что ты говоришь?
Но вот догадались:
— Ах, Сережа!..
И он сразу готов поверить тем, кто понял его, он ищет глазами её, её лицо, то лицо, которое для него всё, он зовет ее, но стальное перо бежит среди наспех расчерченных граф в тетрадке: «доставлен в детприемник…», «около трех лет…», «в розыск не заявлен…», «родные не обнаружены…», «адреса, фамилии не знает…»
Что было там? Что оставил он на дороге, по которой бежал и падал? Разбитые в щепы грузовики, рваные, окровавленные ситчики, размозженные лица? Концы обрезались и оборвались. Он стоял, озираясь, маленький, с разбитыми в кровь худенькими коленками, стоял, крепко прижимая к себе каменеющую краюху черного хлеба пополам с дорожной пылью, и перо, глотнув лиловых чернил и зависнув на минуту в размышлении, вывело в графе «фамилия» отныне и навсегда короткое — «Хлебов».
Голоса вокруг были стерты от усталости, а после замелькало перед ним кричащее, плачущее, сопливое множество детских лиц, среди которых он тотчас и затерялся. Стриженные под «нулевку», кто в чем, потерянные в панике бегств и бомбежек, найденные в развалинах, не сознающие сиротства, они ехали куда-то, спали на чем-то, кормились из дымящих ведер, сбиваясь в кучки, терялись и находились вновь; на них орали, кормили с ложки, плача и улыбаясь, и снова везли, сгоняя в маленькие гурты сорванными голосами, распределяли по комнатам, вагончикам, подводам, пересчитывали по головам — и среди них несло куда-то и его, Сережу Хлебова, падающего в темноту и вновь находящего себя то на каких-то дощатых платформах, то за миской картошки, то в детдомовской рубашонке…
Он болел — и его выхаживали, он вшивел — обрабатывали керосином, купали, стригли, заставляли разучивать веселые песни, и так летело его младенчество — одинокой обгорелой травинкой среди стука вагонных колес и в реве паровозов…
Однажды он увидел себя запертым за какую-то провинность в подпол амбара при детдомовском бараке.
Он дрожал от холода и все не мог одолеть скулящего плача — все виделся ему широченный зад колышущихся перед ним галифе, за которыми волокли его маленькое, с торчащими ребрышками, шестилетнее тело. В подполе было темно и зябко, но сквозь щели в полу пробивался свет: приглядевшись, он различил кучу тряпья — старые, драные мешки, сел на нее и зарылся глубоко-глубоко, чтобы унять дрожь. Мальчик сидел и прислушивался к звукам, шмыгая носом. Вдруг мороз ошпарил спину — он различил быстрый перестук мотнувшихся поверху коготков. Прямо по нему пробежало нечто цепкое, верткое, потом снова — судорожно-быстро, неуловимо, и он закричал, забился, зажмурив глаза и отмахиваясь руками. А крысы лезли и лезли, взлетали по стенам, прыгали через его голову, карабкались друг на друга, и крик его разгонял и вновь собирал жутких, снующих зверей.
Он не помнил, какая сила вырвала его из подвала, как вышиб подпорку воротец — может, кто и гнался за обезумевшим его тельцем… но над миром, прижав и распластавшись, висела война… Сбивая ноги, он бежал, не ведая куда.
Война грохотала в невидимой дали. Ползли эшелоны, катили эшелоны, выстаивали на узловых, ждали на полустанках и разъездах и снова гнали через страну тысячи вагонов с людьми, прокатом, крупой, накрытой брезентом техникой, сформированными частями резервов.
По тем путям и перегонам несла война Сережу Хлебова. Его ловили, затаскивали в детприемники, кормили, но он уже был отравлен волей одинокого бега и под любой крышей ждал подвала и крыс, поэтому срывался и убегал, перелетным птичьим чутьем уходя по дистанциям железных дорог — от зимы и смерти — на юг.
Стучат эшелоны, гудят эшелоны… Полетит с площадки теплушки надкушенное яблоко — палит солнце, лупит в торчащие лопатки, бежит себе дите, грызет чего-то, улыбается сквозь клочья пара… Дрогнет и сожмется летящее мимо солдатское сердце. Беги, беги, милый, беги, чумазый, — далек наш путь, ох, как далек наш путь, не дай тебе Бог…
Сколько брело и мыкалось их по стране — непойманных и беглых, ненайденных и вольных, сколько гибло их на проселках, под буферами составов от голода, от кровавых поносов и простуд — чьих-то детей, так недавно любимых, хрупких и нежных… И шагал на каком-то километре Сережа Хлебов, взбивал мелкую межшпальную щебенку носками еще крепких дамских тапочек: не первый день шел он, минуя кордоны линейных милиций, патрули на станциях, часовых у мостов, обходя санпропускники и вовремя прячась, чтоб проскользнуть, хитрить и врать, учиться воровать по мелочи, нарочно попадаться на кормежку и снова уходить…
Вечерело.
Солнце приуральского лета садилось в верхушки черных сосен. Повеяло холодком. А он шагал, упорно и бодро, — сама жизнь и частица огромной, всевмещающей жизни, шел, уже зная, что куда-нибудь да придет по вьющейся железной линии.
Он шел, обретая бесстрашие, уже привычный ночевать в разбитых вагонах, на полустанках, в штабелях вонючих смоленых шпал, и так нов, так ярок был всякий день его детства, так нужна была ему встреча.
Все тверже делалось мальчишечье, бесприютное, часто бьющееся маленькое сердце, и, верно, нужен он был зачем-то на земле — упорно хранила его от гибели какая-то сила.
Темнело. Солнце спускалось, станция метила впереди широким разливом колеи на многие стальные нити. Где ты, добрый человек?
Выйди, яви себя из этого вечера войны, из этой несущейся мимо людской массы. Велика твоя власть, немерена сила — приди, добрый человек, заметь ребенка на путях, не пропусти, покажись из-за косогора над полотном, шагни из-за поворота, из кустов, подойди, окликни, не спугни, улыбнись, подкупи, подмани — чтоб рванулся живым дыханием детства к живому теплу доброты.
Возникни на путях!.. Путевым обходчиком, бабой в платке, эвакуированным ссыльным… окажись говорливым домовитым дедом-хохлом, немногословным узбеком, курносым русским пареньком, суматошной татаркой… увидь эти храбрые, твердо глядящие детские глаза.
Ты же всегда приходишь — непременный добрый человек на дороге, с простым словом своим, с улыбкой сквозь морщины невзгод — выйди навстречу в этот вечер, шагни наперерез…
Но поворот за поворотом, поворот за поворотом вышагивал мальчик по хрустящему гравию, перепрыгивал со шпалы на шпалу — и ни души не было впереди, никто не шел навстречу, все так же, пустынны и безлюдны, тянулись рельсы…
Тонкий посвист в полумраке вечера остановил его. Он вытянул шею, повел глазами.
— Эй… Пацанок! Слышь… Тихо только… — Рядом, откуда-то из-под вагонной рамы раздался хриплый голос, за колесной тележкой блестели белки глаз. — Не бойсь… не трепыхайся. Ты это… с кем, а?
— Ни с кем…
— Только это… чур, по-тихому… Слышь, родной, сбегай за кипяточком, а?
Кто эти — под вагоном? Удирай, ребятенок! Беги и забудь!
Но будто нюхом ловит он свой, общий, братский беглый дух. И общность эта сильнее страха.
— Как принести? — удивляется мальчик и разводит руками.
— Уж скумекай, родной! — Та же вера — без оглядки. И шершавы, перетерты дорогой их просящие голоса.
Что же в зрачках их, что в молящих точках взглядов, отчего спешит мальчик во мраке через пути, ныряет под составы и бежит к станции, где в темноте — гвалт посадки, драка, крики, где никто не схватит, никто не остановит?..
— Тетенька, кипяточку!
Вот он, добрый человек. Расспроси, тетенька, разузнай — куда он и с кем?..
— Налью, детонька! Варька, налей-ка ему кружечку! Пей, миленький, не ошпарься.
— Мне — брату… — Он неопределенно машет в сторону составов.
Жалко ей кружку: вернет ли? А просящие детские глаза, в темных кругах, — куда жальче, вот горе!
— Кружечку-то принеси, не обмани, сынок.
Он кивает и с обжигающей железной кружкой спешит назад, снова лезет под вагонами. Разбегается по сцепкам затяжной рывок паровоза. Успел, проскочил, не пролил, еще успел… скрипнули, двинулись колеса. Не найти ему теперь их среди черных одинаковых вагонов — все спуталось в громе и лязге — отвела судьба!
Но знакомый шершавый шепот окликнул из темноты.
— Ну, пацан! Ну — раскумарил, корешок! — Черная рука стискивает его тонкий локоть в болячках. — Думаешь — чего? Дело у нас такое, понял? Секретная работа. Молчок, значит, ага, пацанок? Как твоё фами-лие-то?
— Хлебов!
— Хлебов, слышь, Клешня! Хле-ебов!
— Хлеба… хорошо бы, — отзывается второй.
Он протянул им свой припасенный ломоть, дал зеленых яблок-дичков.
— Вот так, кореш! И куда ж ты чапаешь?
Он пожимает плечами.
— А то вон — с нами давай! Не пропадем!
Когда захрустели на щебне сапоги часовых, приближаясь из темноты, он влез в теплое пропахшее грязью тел, гнилью и тавотом подвагонное гнездо.
Стрелочник взялся за пудовый рычаг перевел рельсы и тронулся в Азию длинный состав.
Ехали долго, и потом за всю свою жизнь он не помнил ничего веселее той езды — как бегал, тырил товарищам разную еду, как обманывал ловко, как радовался что кормит Клешню и Спирю, и крепче приставала к его лицу жесткая кора грубел его смех в быстром перестуке, в ветре скорости.
Ну и друзья у него! Веселые какие! Какие у них ножики, картинки разные на руках и пальцах нарисованы, птицы на груди. А какие песни поют, они ему на ухо перемигиваются меж собой — вот это жизнь!
А молодой жульман,
А жульман-жульманок
Зарабо-отал вы-ышку-у…
А после — жар выгоревшего от солнца неба, новые запахи и люди в халатах, говор рынков, свистки милиционеров, жуткая игра воровства и погони, озорные штуки и «покупки», неразменная дружба то беспечно-шального, то угрюмого Спири, жизнь на бегу, недолгая школа хитрого ремесла буйные ночи, вкус самогонки на дне стакана, потайная жизнь атасника-пролазы, блатного «сынка».
И снова выплывал он из черноты и видел, как выволакивали его из-под вокзальной лавки пыхтящие «оперы», а неподалеку трое заламывали Спирю — и плакал Сережка слезами ненависти к легавым и получил свои первые три года — и некому было шепнуть ему что хуже так, чем в подвале с крысами, что богата жизнь и не делится только на «законных» и «фрайеров».
Побеги, засады, новые срока — привычной стала тюремная машина, белые волосы не успевали отрастать.
Сильным пришел он в людскую круговерть, не обделен был и умом. Быстро матерел закаленный и стойкий четырнадцатилетний вор, приметливый глазом, доходчивый головой. «Весь мир — бардак!» — говаривал Спиря. Он не мог не верить — кончили Спирю в Уфе злые «мусора». Бардак так бардак и понесла по кочкам лихая кровь!
Лагеря, начальники, камерный народ — беспощадство со всеми, товарищи-товарки, горячее житье! Быстро бежал он по жизни, уже старый в свои шестнадцать, колотый «пером» и оттого спокойный. Сила пенилась в нем, вспучивала тяжелевшие руки, но, будто какая-то скука припустилась след, в след.
Где ты, откликнись добрый человек! Самая пора! Выгляни из оконца судьбы, разгони эту дурь вправь хорошие мозги, сбей с этапной тропы!
Но пойдут другие дела, и другие заведутся кореша у Сереги Хлебова. Серени Седого, Серки Белого, другие засветят ему статьи и срока.
Ах, затейная жизнь, ах, смертельная карусель! Закружила мальчишку, затянула в центр! Галопом неслась необъезженная лошаденка семнадцати лет! Был он со стажем: десять лет с ворами — не семечки. Причалы, баржи, города, поселки, новые «хазы», фартовый расклад, чужие сеновалы, камеры допросов и густая пена злобы на сжеванных губах.
Отпетый и гордый, холодный и бесстрашный, он вновь оказывался в вагон-заке и усмехался назад — знакомые всё места!
Эх дороженьки, ах, игрушечки! Ни к чему он тут не присох и верил лишь слову оружия, разным «пушкам», ножикам, а больше всего — своей руке, знавшей некий фокус, который стоил и «пушки», и «пера».
Был он красив суровой статной красотой — в шрамах по телу, в рельефе точеных мышц по плечам и стальному животу. Не много книжек застряло в неглупой башке, не больно верил им, но те, что помнил, знал хорошо… много чего разного мог бы делать он в белом свете дарованного ему дня, во многом бы преуспел, но сидела в мощной груди старая отрава и неясная, неюная тоска.
Эй, услышь ту тоску, где ты там?! Выпади хоть с неба, добрый человек, — может, есть еще шанс, есть надежды чуток — приди! Разогрей его сердце, разгони черноту, выйди из переулка хорошей девушкой… Выгляни, милая, откройся, рассвети ему небо ожиданьем твоей улыбки. Чтоб тряхнуло любовью, чтоб навсегда проклял ту кружку кипятка.
Может, и вышла бы она, а, может, то и была она? Но случилось иное: разорвался вечер девичьим криком — в канаве, под мостом за деревней, совладал он с долгожданным и сладким, растерзал, испоганил, вывалял в грязи. И что-то сделалось с ним в тишине вечера, будто кто-то с высоты указал на него пальцем — и узнал он на вкус небывалую печаль. Стало ему жутко, стоял он над ней, смотрел, как вздрагивала и чуть слышно стонала она, враз вспомнил подвал, крыс на затылке и, прежде, чем убежать дальше в свою судьбу, вдруг захрипел и стал бить — это страшное, женское… всаживал, вгонял сапогом в девичьи ребра ненависть к кому-то над собой, к тому, кто проклинал его внятным властным голосом закатного холодного неба над черной деревенькой.
Проморгал, припозднился, добрый человек! Те удары коваными каблуками вышибли что-то из него самого. Он знал, чувствовал — проклят. И некого, и незачем сделалось жалеть.
«Ну, а что же душа? Что же он сам? Или щепка он в бегущем ручье? Или все спуталось в кровавый ком в его прозрачно-голубых, будто мертвых, глазах?
K двадцати пяти он растерял все клички. Стучали тюремные воровские „телеграфы“, катилось по зонам, по „малинам“: ходит по России лютый Хлебов, „вор в законе“, а будто над „законом“ — в карты не играет, всегда молчит, в делах одинок, не чифиряет, не колет „перстней“ да сердечек, страшен Хлебов, и неведомы его пути.
Огромного роста, непомерной силы, он был уже навсегда просто Хлебов. Девять человек „замочил“ он с того вечера под мостом. Не было такого, чего не сделал, бы он, если б захотел. Не ведал людского страха и равно презирал всех, своих и „легавых“, всем платил равно — ледяной, отточенной ненавистью, и таким ходил по улицам и дорогам, летал самолетами и катался в метро — всегда один, обритый, как в малолетстве, дерзкий, надменный и могучий Хлебов, страх начальства, гроза воров, конченый беспредельщик, беспощадный зверь.
Неужто кончен? И никто не простит? Какой уж там добрый человек! Девять жизней повисли на нем, но не добрались до Хлебова по „мокрым делам“. Один он на всем свете знал, что оставил за собой, так же как знал, что жить ему незачем. И все-таки жил. Но как жить после всего-то? Остался ли в мире хоть кто-нибудь, кто б забыл? Разве только мать могла бы. Но не было ее под ненужным ему солнцем, и если жила где-то и искала его — не нашла.
Тоска жила в нем наяву и во снах. Он не хотел и не любил денег, водки, баб, детей. Желаний не осталось. Прожив тридцать восемь лет, он сумел полюбить только вора Спирю, сам толком не зная, за что и почему. За тридцать восемь лет он не работал ни часу и гордился этим. Теперь все сделалось смешно: Спиря какой-то, дурная гордость, постылые бабьи ласки за монету да марафет, пляжи юга — тоска! Скука и дешевка все, волчий юмор да обман! Он понял, подходя к сорока, откуда в нем эта блажь: иначе всё могло повернуться! Как — он не думал. Знал только: могло! Надо было деться куда-то, спрятаться от кого-то. И будто делалось жалко чего-то, как тогда в кино, когда забрел невзначай на „Калину красную“ и расквасился, сам себе не веря. Копец, копец!.. С повинной — пусть рыжие ходят. Дела варить? Будя, наварил. Забиться бы, как тогда, под вагончик, и куда-нибудь… не глядя… хоть с моста…
Но пробежал кто-то мимо сараюшки, где он прятался шестой час. Где ж это было? Кажется, в Ростове или в Киеве? А, без разницы! Ошибки не наблюдалось: то был старый „опер“ Сулимов, крупный спец по части захвата. Это ж надо — какие силы подняли на его берлогу! Ладно, будем на взводе. Сулимов брал его когда-то, много стволов тогда наставили, пришлось выходить. Здорово! Живой значит, полкан-Сулимов, гляди-ка!..».
А это кто там еще рыпается? Ну, мальчики, вам в такие дела ишшо не натикало..
Он посмотрел через щель сараюхи на небо. Дело к вечеру. Вот ведь смех никому-то он не нужный, и стольким его надо! Это чтоб, значит, по новой намотать или под «вершок»? Ну, мотать уж некуда, только ловят больно делово — шутить не станут.
Ай-лю-ли! Ай-лю-ли, Сулимов! Не авторитетно встал под выстрел! Или нарочно — жизнь под кон, чтоб нам себя выдать?
Он бесшумно взвел курок. Старая механика легко и привычно лежала в руке, и сулимовский лоб на прицеле. Шмальнуть? Юморист, сволочь! Ну, у нас в голове не сено.
Один из молодых — совсем салажонок — высунулся из-за поленницы. Дурашечка, хочешь в «тыкву» косточку вишневую?
— Степанов! — обернувшись на миг, резко крикнул Сулимов, но дверь уже вылетела с петель, с громом посыпались мокрые дрова. Сулимов не успел и тяжело упал на поленья. — Не стреля-ять!..
Всю жизнь он куда-то бежал. Всё бежал и бежал. Сначала это было игрой, потом стало работой, теперь — потребностью выжить.
Так бежал он и в этот мокрый весенний день, и вновь гнались за ним — в ненавистной форме и в штатском.
Он мог отстрельнуться, но словно забыл о «пушке», бежал напролом, скользил по глине, карабкался по склонам, по молодой яркой траве, грохался оземь, подбрасывал себя и бежал дальше, держа на прозрачный лесок.
Усталость овладела им. Она была во всем, всюду и везде. Усталость от бега всей жизни. Когда-то перебивало дыхание — сейчас задыхалась душа. Тело мешало ей, держало и не давало улететь быстрее, чем могло оно, это большое, тяжелое, хрипящее, бухающее ногами, открытое пистолетным стволам тело. Душа билась, просилась вон — оторваться и избавиться от этой ненужной, проклятой обузы. Да, он устал, он не мог, не хотел больше бежать. Пришла пора дать душе покой, но он нёсся вперед к леску — собранным, твердым клинком воли и ненависти — высоченный, белоголовый, в выбившейся рубашке в красный горошек.
Вот и опушка! Добежал! А силы остались где-то там, на дороге, на косогорах, но он бежал — душа вырвалась и волокла тело на буксире, на тонкой нитке…
Вечерело. За ним гнались шестеро, за их спинами корчился на земле раненый молодой курсант.
Много раз брали его, и много раз он уходил: в пиджаках, майках, ватниках, плащах, а в этот вечер — белая рубаха в красный горох — выноси!..
Нить меж телом и душой натянулась до боли: и боль была так остра, что тело особо опасного рецидивиста Хлебова стонало: оставь же, хватит, больше не могу, сполна!
Он уходил — не в первый раз, — и тогда главный из шестерых, бледный и уже немолодой, быстро выкрикнул остальным:
— Беглым, на поражение, огонь!
Белая спина запрыгала на «мушке», рванулся палец, и страшная сила порохового огня вышибла в донце маленькую пулю.
Он убегал, но округлая свинцовая капля, просверлив воздух, легко догнала его и вошла в одну из красных горошин…
Много месяцев отец и мать учили его ходить радовались каждому шагу, и вот маленькая пуля вмиг разучила: он упал, как в младенчестве, рухнул плашмя головой вперед, рябь пошла по его лицу, страшная боль прорезала насквозь, и он так был рад, что не надо больше никуда, вот и всё, можно полежать…
Сержант Степанов, разучивший его ходить, был уже близко. Он, умевший выбивать на стрельбах 9 из 10 и гордившийся этим, еще ничего не понимал, еще не видел, что сделал одним движением пальца. Они подбежали.
— Осторожней!
Но по телу Хлебова уже перекатывались последние буруны, глаза жадно смотрели на подбежавших людей, и такая великая, такая давняя мука… такая безмерная радость была на этом свободном лице.
Пузырилась кровь на его губах. Боль захватывала целиком. Он потянулся к белому небу над собой, лицо сделалось детским, беззащитным и робким
Последний пузырек лопнул на губах. Ниточка оборвалась.
«Ну вот…» — мелькнула мысль.
Огромная волна выкатила на берег, подхватила и унесла, вернула его в свою глубину, и осталось на опушке весеннего леса прекрасное мужское тело с отрешенным лицом.
И страшно было сержанту Степанову смотреть в это лицо, и не знал сержант Степанов, зеленый паренек, что он-то и стал тем добрым человеком, который так долго проходил мимо, но вот — успел.
Лицо Хлебова делалось все спокойнее, а Степанову становилось все хуже. Он видел ускользающее, уходящее, детское лицо в кровавых пузырях и торопливо говорил себе, что всё нормально, всё правильно… и только так должно быть, что лежащий на земле человек — изверг, зверь, которого давно по ошибке носила земля, что собаке собачья смерть, что…
И все же Степанов чувствовал, что в этот вечер сделалось такое, чего никогда не должно было быть в его жизни, что не хотел он неподвижности человеку, легко и сильно бежавшему по земле и видевшему лес… И жалость, то ли к себе, то ли к этому… внизу… все сильней охватывала его горло. Он глотнул воспаленным ртом свежий влажный воздух распускающегося леса. Было тихо. Где-то в ветвях высвистывала птица. Прошумел далекий самолет. Все были бледны, и на лицах застыло общее, неприятное, будто пристыженное выражение. И это смущение перед чем-то, что было неизмеримо больше их самих, мешало встретиться глазами.
И видя такое, полковник Сулимов пробил тишину негромким голосом:
— Отбегался, г-гад!..
Но Степанов будто не слышал. Механически сунул он пистолет под мышку и побрел в глубь леса. Его мутило.
— Сержант Степанов! — крикнул Сулимов. — Ты что-о?!
Тот не отозвался. И Сулимов, вспомнив первый свой труп — давно, лет тридцать назад, крикнул громче и злей.
— Чего разнюнился?! Не знаешь, кем он был?! Дьявола кончил, ясно?!
Он понимал: не для Степанова слова — для остальных. Но все молчали, даже не пробовали закурить.
На земле лежал человек. Раскинулось тело редкой силы, на которое охотились так давно и упорно. Зачем жил он, кем был в пути, куда так неистово спешил? Сюда, в этот лесок?.. Тридцать восемь лет был он на земле и почти тридцать прожил злодеем. Кровью пометил след. Но… жаль! Все равно жаль души, жаль мощи сердца, жаль волпи и ума, жаль… Какая горькая насмешка!
Страшна смерть живым, и тяготятся живые подле мертвых. Синели на побелевшей руке Хлебова три слова: «Отбегалось, отпрыгалось, отпелось», — не нужная больше никому розыскная примета. И не приходила к охотникам радость. Один он праздновал свой покой, и не было никого, кто заплакал бы о нем, ни одной далекой или близкой души.
Сержант Степанов шел за другими как оглушенный, зная, что непоправимо нарушена его связь со всем, что любил, и не знал он, как встретит завтрашнее утро, в один миг поняв впервые и до конца — что такое война.
Сулимов больше не покрикивал на него. Это он, Сулимов, провел неудачную операцию и ругал себя всякими словами. Мертвого тащили вчетвером, пока не вышли к вездеходу. Тело кинули в кузов и набросили армейский брезент. Взобрались под тент и поехали в город. Степанов смотрел на убегающую мокрую дорогу.
— Ну, всё, всё! — сказал Сулимов Степанову. — Ты бы лучше о Муртазине подумал — выживет ли.
— А? — очнулся Степанов.
— Сейчас в управление, говорю, приедем, рапорт напишешь. А хочешь, давай завтра. Я тоже завтра подам.
Сулимов смотрел на Степанова, но думал не о нем. «Странно, почему он не стрелял? Оружие заклинило?..»
— Степанов, слышь, что говорю? — Он похлопал его по коленке.
Степанов кивнул…
1984
Рыдван Мечта
Итак, действие начинается в середине пятидесятых.
Вечер, начало лета, какое-нибудь двенадцатое июня. Начало сумерек. Теплынь.
И вот он, мальчик лет пяти, выходит из двора и попадает в чужое пространство: на тротуар у череды домов вдоль изгиба Гоголевского бульвара.
Тихо, тепло, и так ещё уютно на земле. Ещё ничего не случилось, не произошло, не разразилось. Он один. Никого вокруг. И всё проникнуто, всё наполнено ожиданием.
Он стоит одиноко — может быть впервые осуществляет самостоятельную вылазку в неизвестность… в пугающий неведомый город.
И вот — вспышкой счастья, разрядом тайны… запечатлением этого благорастворения, этого мягкого сумрака, парящего над вечерним бульваром, — вдоль чугунной ограды проносится мимо длинный, нескончаемо-протяжённый американский автомобиль цвета волшебного, непостижимого… цвета нежнейшего и изысканного… бледно-изумрудного цвета вспененной морской волны.
По всей видимости — то посольский «бьюик» какого-нибудь пятьдесят третьего… вытянутое летящее над асфальтом тело, быстро заворачивающее и — исчезающее за поворотом.
Он всё стоит и ждёт — когда оно пронесётся опять. Нет, не проносится больше. И этот краткий миг его начала, это видение скрывающегося автомобиля цвета далёкого утреннего моря — оказывается самым ярким событием всей его судьбы, мигом полновесного обретения счастья.
Годы, годы и годы — вновь и вновь перед ним мысленно проносится тот чудесный автомобиль, то воплощённое блаженство, повергшее в состояние потрясённого остолбенения — столь быстро утраченное и ожидаемое все дальнейшие времена.
Проходят годы.
Проходит больше сорока лет.
Жизнь — прожита. Она — на излёте.
Сотни раз он проезжает на «пятнадцатом» троллейбусе тот поворот, но той машины всё нет. И с тем же детским ожиданием — он впивается глазами в изгиб бульварного кольца… нет, нет…
Однажды он признаётся себе, что уже не увидит её — никогда.
И в нём — уже пожилом — растёт удивлённое недоумение. Как же так? Ведь тот вечер… сулил наверняка…
Он ждёт всё равно.
И вот — судьба невероятной петлёй набрасывается ему на шею, удушая, вырывает с Гоголевского и, размахнувшись, почти умершим… развалиной с дыркой в сердечном клапане и страшными взбухшими синими ветвями сосудов на ногах — забрасывает через океан в Штаты.
Он уже так устал, что равнодушно-покорен всему. Но… первое, что он делает, накопивши долларов: тащится на такси на свалку отживших машин. И бродит там один среди груд искорёженного металла, ищет у торговцев авторухлядью и… о чудо… где-то у кого-то — находит.
И стоит это — всего-то сорок долларов, дешевле железа — с истлевшим аккумулятором в придачу.
О н о уже не ездит лет тридцать и никогда больше не поедет. В сущности — это только остов. Но цвет — тот самый, несомненно. И модель та же… «бьюик» выпуска 53-го… с четырьмя магическими хромированными колечками вдоль капота по ободранной облупленной краске заветного оттенка. Колеса спущены навсегда, кузов — в громадных проржавленных дырах.
Купив э т о, он с трудом открывает дверь и садится на продавленный диванчик. И смотрит через потрескавшееся исцарапанное стекло.
Никаких мыслей. Только тончайшая, острейшая вневременная печаль, которая всё растёт, ширится, затопляет, обращаясь в неизъяснимую благодарность к кому-то там… впереди.
1991 г.
Примечания
1
Михаил Михайлович Краснов (1929–2006) — выдающийся советский и российский офтальмохирург, директор Всесоюзного научно-исследовательского института глазных болезней Академии медицинских наук СССР, действительный член академии Медицинских наук, основоположник микрохирургии глаза в СССР и России, лауреат всех высших государственных и профессиональных отечественных и международных премий, обладатель «Золотого скальпеля» — высшей награды глазных хирургов, им были награждены во всем мире только 30 человек. На протяжении многих лет автору пришлось быть пациентом профессора М.М.Краснова, и радость общения с этим во всех отношениях блестящим человеком навсегда останется во мне чувством огромной любви, огромной благодарности и восхищения. Эта повесть была напечатана в первом январском номере журнала «Юность» за 1974 год.
(обратно)








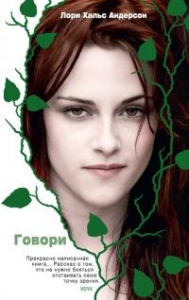

Комментарии к книге «Старая проза (1969-1991 гг.)», Феликс Аркадьевич Ветров
Всего 0 комментариев