Выплывая из поглотившей меня тьмы, прямо перед собой обнаружил я красное и озабоченное лицо бедняги.
- Ах, мсье, вы меня напугали... Вам ведь уже лучше?.. Антенны, железные стержни, прутья - у меня астигматизм - торчали из фуражки охранника и, над этой решеткой - суверенный, одинокий в своем безразличии: он, тигр.
Его взгляд, касавшийся моего безучастно, - по крайней мере, на сей раз - кое-что все же изменил. Теперь ничто не смогло бы вычеркнуть мой обморок из великого всемирного итога. Под этим взглядом я обрушился в недолговечное, хотя и абсолютное по сути небытие, распался, как батавские слезки[1], что превращаются в пыль, стоит отломить им кончик. Одного лика оказалось достаточно, чтобы растворить мой собственный, поглотить мою душу.
- Это все из-за жары, - говорит охранник. - А, может, из-за запаха тоже...
Стоял зимний день, и в помещениях Венсенского зоопарка отопление работало во всю мощь. Парок поднимался от звериных тел, от лужиц мочи, впитываемых опилками, от разрубленных, с синевою, туш. Помогая мне подняться на ноги, охранник отвел взгляд и спросил, часто ли у меня бывают обмороки.
- Сегодня - второй раз... Второй раз за сорок три года - нечасто.
Первый раз это случилось, когда мне было лет одиннадцать. Я слышу крики Бланш: Дени упал! Дени упал!.. Чувствую, как садовый гравий впивается мне в ладони - и больше ничего, чернота, до самого пробуждения - запах уксуса и лаванды - на канапе в гостиной.
- Я вызову такси, - говорит охранник.
Он отвел меня в кладовку, которая имеется в каждом корпусе зоопарка, - в комнату, освещенную неоном, где ведра и метлы, склянки с витаминным сиропом и дезинфицирующими средствами составлены рядом с изрубленным в клетку столом для разделки звериного пропитания. На стене - старый телефонный аппарат, иллюстрированный календарь с фотографиями животных и висящая на крюке связка ключей. Маленькие - от дверных замков, а от клеток - большие, черные и примитивные, как ключи от стенных часов или садовых водозаборов.
Охранник проводил меня до выхода, где уже ждало такси. Когда автомобиль тронулся, я почувствовал себя во власти необъяснимого замешательства, лихорадочного волнения души и тела. К нему примешивалось ощущение пустоты, будто меня внезапно избавили от какой-то скрытой массы; я был, как шар, легкий и наполненный болью. Это состояние длилось до тех пор, пока я, наконец, не осознал, что не выполнил задуманного, что покинул обиталище хищников и - без прощального взгляда на тигра. Угрызения совести за это упущение, фатальное, как я предчувствовал, поселились во мне, заполнив пустое пространство тяжестью еще более болезненной. Не нашедшее воплощения намерение приняло конкретные очертания, идея стала «черным камнем»[2]. Позади осталось еще одно поражение.
День, тяжеловесный и хмурый, никак не желает разгораться. Однако в воздухе брезжит слабое сияние, проникающее из-за шторы, обещание света, как в дни детства, когда я чертил узоры на запотевших стеклах. Настоящее - текучая неподвижность неуловимого, вновь и вновь повторяемых слов и жестов - стиснуто сужением клепсидры - болезненной и хрупкой осиной талии, соединяющей прошлое с будущим, - в поиске собственной длительности, всегда мимолетной.
И все же: проявленный образ, исчезнувший образ, Нант и его туманные зимы, когда ревут на реке грузовые суда и лампы весь день не гаснущие в домах, где стоит запах горящих дров. Серый цвет хорош для размышлений и нет ничего лучше унылого детства, чтобы углубиться в себя. Теперь я это хорошо понимаю, хотя прежде мне и случалось завидовать другим детям, которым достались апатичные отцы и толстозадые матери бежевых костюмах. Иногда я воображаю, с каким удовольствием - может быть - я раскрылся бы и развернулся, если бы не печать, отметившая мое детство. Думаю, так было с самого начала, с того момента, когда я ощутил принуждение как нечто, что можно устранить, но от чего нельзя устраниться, когда запрет и неизменное его отражение - трансгрессия - впервые явились моему взору по обе стороны зеркала. А потому, независимо от того, жива во мне вера или уже нет - всякую догму я презираю как чересчур тесную одежду, - во мне навсегда сохранится склонность к жестким кроватям, холодному душу, белым стенам. Я отмечен пуританством, но я не пуританин: сила всякого пуританина в мощном арьергарде, у меня же никого нет. Я одинокий человек, из числа тех, кому святой Павел возвещает и сулит несчастье.
Те, кто плохо знает Дени, могли бы восхититься тем, как хорошо он сумел обрисовать себя в столь немногих словах. Портрет получился, безусловно, правдоподобным, но неполным. Этот человек, считавший себя свободным от всех чувственных искусов, постоянно приносил жертвы худшему из них - искусу воображения. Он бесповоротно выбрал для себя одиночество, чтобы присутствие других ни в коей мере не мешало ему исследовать в свое удовольствие лабиринты личного Запретного Града, эти экскурсы были не лишены нарциссизма, и под предлогом безжалостной откровенности он проводил свою жизнь за пристальным изучением зеркала. Само собой, туман его собственного дыхания многое от него скрывал, а вещи, доступные его восприятию, виделись ему лишь в обратном отображении.
Думая о сером свете, думая о тогдашнем своем обмороке, я вспоминаю грезу, явившуюся мне нежданно или, быть может, как бы нежданно.
Я – в узкой плоской лодке, что скользит без парусов, мотора и весел по окаймленным тростником каналам. Окрестности напоминают Голландию, или, скорее, Торчелло. Да, это Торчелло, та же бесконечная грусть неба и вод. Лодка скользит довольно быстро, скрытая стенами камыша, монолитными, как прибрежные скалы. Напротив - тигр, раскинувшийся, словно куртизанка, на тигровой шкуре; он смотрит на меня без любопытства, отстраненно. Я не знаю, сколько уже столетий мы скользим так по каналам цвета свинца. Я не ощущаю ни горя, ни радости, ни страха ни надежды. Достаточно того, что лодка уносит меня в обществе тигра полулежащего на тигровой шкуре. Греза остается неизменной, ей чужды метаморфозы, она покоится в самой себе, как покоится в лодке этот тигр, великолепный в своих мехах. Я уже не помню, когда эта греза привиделась мне, давняя она или новая. Мне это безразлично. Она возникает в моей памяти, несказанно реальная и достоверная.
Раз уж я начал вести этот недатированный дневник и раз я, пусть даже мимоходом, воскрешаю в нем свое детство, вот еще несколько воспоминаний о Нанте, когда - уже претерпев деформацию, но, вместе с тем, быть может, и безотчетное приращение за счет некого принудительного действия, коим был беспомощный поиск абсолюта, в итоге, весьма относительного, ибо человеческим сознанием он постижим, но не воображен - я постепенно осознавал свое окружение.
Там тоже были камыши, окаймлявшие гладкую и неторопливую, блестевшую местами Луару. По вечерам в них поднимали гвалт лягушки, которые ассоциировались у меня с их сородичами на майоликовом фризе, тянувшемся вдоль нашей террасы. За домом находилась веранда, осаждаемая плесенью, а на нее выходила очень темная столовая и холодная гостиная с паркетом «в елочку».
Был ли то воздух города? Жило ли в нас желание превзойти суровостью кальвинистов? Не знаю, но в нашей семье католицизм казался сплавом пыла и строгости.
Мой отец был суперкарго. Черные волоски курчавились на его бескровных пальцах. Высокий и сухопарый, с орлиными чертами лица, он обходился со мной крайне жестко. Прекрасно сознавая страдания, которым он меня подвергал, чтобы дать возможность приобщиться святости, он мог бы тем самым представить доказательство и своего невыразимо милосердия ко мне, если бы удовольствие, которое он в этом черпал, умалило его деяние. Вероятно - хотя здесь я могу лишь строить догадки - это умаление значило ничтожно мало по сравнению с его неколебимой уверенностью в обладании Благодатью.
Моя мать казалась безликой, как стертая монета, и даже ее присутствие оставляло ощущение пустоты. Всегда в черном, с жестким шиньоном на голове, она, должно быть, все же не лишена была чувственности, так как я помню, что она смягчала руки миндальным кремом, а когда готовили варенье, распоряжалась закрыть окна и отворить внутренние двери, чтобы аромат мог распространиться по всему дому. Меня же это удивляло, потому что грехом у нас считалось все: опереться о спинку стула засмеяться, съесть галету, не прочтя Benedicite[3], посмотреться в оконное стекло...
Я, например, помню, как однажды к нам пришли два каменолома, чтобы снести позеленевшую статую уж не знаю какого божества, долго украшавшую один из углов сада. Бабушка неизменно просила ее пощадить; едва старушка умерла, статую разбили, и у меня сохранилось о ней лишь весьма смутное воспоминание. Но я, как и тогда, ясно вижу каменоломов с молотками, слышу звук ударов, и это причиняет мне боль.
Когда Дени было всего два года, он, играя как-то днем в саду, указал на статую, наполовину скрытую кустами бересклета, и спросил у бабушки, кто эта белая женщина. Она ответила, что это Диана. Тогда он спросил, кто такая Диана, но бабушка не смогла или не захотела ему объяснить. Имя показалось Дени красивым, и, подобно тому, как брошенный в воду камешек погружается в тину, увязло в его глубинах, в той богатой и темной области, которую мы весьма напрасно называем «забвением».
Тощая, как швабра, бонна не сыграла в моем детстве никакой роли, но в доме у нас была еще Эдме, горбатая кухарка с грубыми потрескавшимися руками, и ее общество я любил. Иногда, в нарушение запрета, я помогал ей, с удовольствием вылущивая пару-тройку стручков гороха, забавляясь вытиранием стаканов, втайне наслаждаясь неприглядностью их работ. До нас Эдме долго прослужила у другого пуританина, чей дом грибок проел насквозь, заполнив его своей вонью. Эта кухарка готовила отменную снедь, о которой мои родители никогда никак не отзывались и которую мы съедали, опустив глаза; отец - потому что поглощение любой пищи было следствием первородного греха; мать - из благопристойности, а я - потому что ни разу не участвовал в трапезах иного рода.
Будучи янсенистами, мои родители сами о том не ведали, привычно исповедуя определенный образ мыслей, заимствованный ими издалека и никогда не ставившийся под сомнение. Поэтому всю жизнь они прожили словно на сцене, освещенной a giorno[4], перед грозным зрителем коим был Бог, и походили сами на себя, как лицо в конце концов уподобляется маске. Я же никогда не был похож на себя. Я хочу сказать: я - инородное тело, в истинном смысле этого слова, в двусмысленном его звучании, в многообразном значении.
На редкость проницательный ум моих родителей сочетался с пристрастием к анализу и склонностью к логике. Этот неустанный духовный поиск, безусловно, заменял им любые другие развлечения, превосходя собой их все. Что же до меня - слишком малоискусного в упражнении духа, хоть меня и приучили к нему с младых ногтей путем регулярного испытания совести, - то мне требовалась пища более сытная и более пряная. Эдме это знала и часто рассказывала мне о чудесах, в которых Господь является Избранным. У нее был целый набор ярких картинок, и она воплощала иную, чем у моих родителей, форму веры, которой я упивался, как дворянин, стремящийся в самую гущу ярмарочного сброда. Несмотря на горячую любовь к порядку и чрезмерное пристрастие к чистоплотности, я все же подпал под очарование христианской скатологии. Мне безмерно нравилась история о припадочных Сен-Медарского кладбища, доставляли невыразимое удовольствие раны стигматиков, гнилостные истязания мистиками своей плоти, ужасные мучения, которым демоны подвергали святых. Я втайне населял этими образами наш большой дом, приписывая ему чудесные свойства, и порой удивлялся тому, что не вижу в коридорах серафимов с мечами, огненных шаров, катящихся по лестнице, или тигра, притаившегося у меня под кроватью. Эти вымышленные образы накладывались на другое духовное настроение, на состояние, которое можно было бы выразить прилагательным «ясный» - да, как жестокий в своей ясности свет, - заставлявшее нас проживать каждый час так, будто он был кануном Страшного Суда.
Tuba mirum
Spargens sonum
Per sepulchral regionum...[5]
Невыносимые для слуха раскаты исходили, казалось, прямо из стен, труба архангела гремела из розетки на потолке.
Однако надо признать, что по мере того, как я рос, влечение к сомнительной и сенсационной стороне религии - сохранявшееся во мне, пока я мог верить, и даже после того шестнадцатого лета моей жизни, когда я утратил веру - все же вызывало во мне известное смущение. Я знал, что должен был отринуть все эти базарные картинки - безусловно, недозволенные - во имя возвышенных, абстрактных образов. По примеру сифонофор[6], источником беспрерывного обновления должна была стать высшая точка существа. Между тем наш постоянный духовник скончался и его сменил священник, дыхание которого пахло требухой и кофе с молоком. В силу моей наивности ему очень скоро открылось, какие настроения мной овладели, он обвинил меня в неповиновении Церкви, и я впервые услышал о янсенизме, тут же получив и упрощенное его объяснение. Узнав таким образом, что в возрасте двенадцати лет уже стал еретиком, я ужасно испугался возможного проклятия, так как перед этим у меня хватило нечестивости мысленно осудить Папу за недостаточную, по сравнению с моим отцом, строгость веры. Это усилило мои хронические угрызения совести, но я никому в том не признался.
Сегодня, когда эти вещи мне безразличны, я нахожу современных христиан скорее забавными: спасение представляется им своего рода общественным мероприятием в складчину, чем-то вроде поездки, организованной с наименьшими затратами. Несмотря на антипатию, которую вызывает у меня сейчас любая религия, я убежден, что мое детство было таким, каким ему следовало быть. Химера никогда не приходит к нам через врата свобод.
Мне на глаза попадается в прессе странная заметка. В Гамбургском зоосаде какая-то женщина не устояла перед искушением приласкать тигра сквозь прутья клетки. Несколько мгновений тот терпел ласку, затем, молниеносно развернувшись, оторвал дерзкой руку
Так эта женщина умерла из-за жеста, отказ от которого был для нее равносилен смерти. И вот я упорно пытаюсь представить себе не только магнетизм краткого прикосновения, но, главным образом, ту разрушительную страсть, которая могла поселиться в этой женщине. Объяснений случившемуся, конечно, нашлось бы немало, и не самым неправдоподобным из них была бы интуиция, предчувствие, приятие катастрофы. Сознательный, в итоге, поступок, признание неизбежной необходимости. Размышляя об этом - мои одинокие вечера тянутся долго, и у меня много времени на размышления, - я вспомнил о книге, которая пылится где-то в моей библиотеке и которую я хочу перечесть. Это труд профессора Гейдельбергского Университета, дважды доктора наук гонорис кауза Габриэля М. Вайссхаупта Das totemiche Tiersymbol in der atavistischen Vorstellungswelt[7], зеленая выцветшая книжечка.
...Едва завоевания Александра знакомят с тигром Античность, как сфинкс начинает отступать в туман архаичности, а миф о нем, внезапно ставший автономным, напротив, обретает схематичность и конкретность в реальном мире. Мотив тигра проникает в западное сознание и совершенно естественно вписывается в реестр символов.
Необычный, блистательный, безжалостный - тигр ставит перед человеком вопрос, более неразрешимый, чем старая загадка сфинкса, вопрос тем более мучительный, что он не поддается четкой формулировке. Ибо ужас, внушаемый тигром, коренится не в страхе перед незнанием ответа, а в невозможности постичь условия уравнения. Исходные данные вопроса, заданного Эдипу, обнаруживали, собственно, лишь наличие очень грубо упрощенной морфологии, заимствуя у породивших их умов рациональную прозрачность, противоречившую характеру сфинкса. Будучи демоническим и хтоническим, тот неожиданно задавал аполлоновский вопрос из области человеческого знания, сведенного к явлениям передвижения. А это значит, что диссонанс между вопросом и вопрошателем коренился в фундаментальной порочности формы. Иррелевантность утверждения, единожды сформулированного ответом Эдипа во всей полноте, в то же время доводила существование сфинкса ad absurdum, не оставляя ему иного выхода, кроме самоуничтожения. Таким образом, речь шла о несовершенном мифе: не из-за смерти чудовища - ибо мифическая смерть чужда всякому незыблемому историческому понятию, - а из-за посылок силлогизма, на которых основывало развитие легенды.
Эта недостаточная глубина корней являлась, вероятно, результатом того что, позаимствовав фигуру сфинкса у Египта, Греция не подвергла надлежащей трансцедентальной интерпретации.
Это чтение подвигло Дени к систематическому изучению всего, что имело отношение к тигру. На эту тему он прочел множество английских, французских и немецких трудов. Библиография одной работы вела его к библиографии другой и так далее. Он отправлял заказы в книжные магазины Лондона, Берлина и Цюриха, с бьющимся сердцем ежевечерне забирал у консьержки почту, распечатывал пакеты, надрывал конверты, приходил в отчаяние, узнав, что издание распродано. Дотошные исследования мелким шрифтом, длинные пожелтевшие диссертации, научно-популярные труды и фотоальбомы вырастали горой на большом столе в гостиной. Особенно зачаровывали его изображения, цветные фотографии в американских изданиях, дышащие и пульсирующие, наискось освещенные желтым неярким светом. На них тигра подкарауливали во время охоты, игр и любовных утех, застигая его всюду, даже в смерти. Дени обнаруживал знакомые пейзажи, вновь улавливал влажное чмоканье подающихся под ногой мхов, жесткий скрежет высоких водяных трав - звуки, слышанные им на Суматре, куда он отправился как-то для собственного удовольствия с экспедицией, занимавшейся зоологическими наблюдениями.
Он был поражен разнообразием их ликов, потрясающей индивидуальностью каждого из них. Он рассматривал различные выражения глаз, всегда маленьких и уклончивых, узоры, прочерченные на двух белых пятнах во лбу, отличные у каждой особи, уши, окрасом напоминающие крылья ночного «павлиньего глаза». Ярость охватывала его при виде охотников, при описании масштабов истребления.
Свою новую страсть он назвал интересом. Он наивно принял ее, в надежде свести до уровня филателии с библиофилией, будучи не в состоянии представить, насколько всепоглощающей может быть их власть. Частое присутствие тигра в его мыслях было всего лишь блажью - так он себе говорил. Но в самых сокровенных глубинах, в пещерах внутреннее - зарождалось у него беспокойство, из смутного становившееся все более четким, пока однажды он не признался себе, что главенство тигра в его жизни стало анормальным. Тогда он поспешил покорно принять этот факт, как нечто неизбежное, но лишенное важности. Он даже не потрудился задаться вопросом о первопричине этого феномена, хотя, сам по себе тот являлся уже более чем настораживающим.
Существует целая мифология тигра, огромное строение, элементы которого переплетаются между собой и поддерживают друг друга, полу-лес, полу-дворец, пальмы, полосы, отсветы, завитки - сооружение, над которым потрудились мужи всех времен, охотники, моряки и даже колонизаторы в отставке.
Помню, мне как-то довелось увидеть зародыш тигра в винном спирту. Он был едва ли больше домашней кошки, превосходно сформировавшийся, родом из Индокитая. С закрытыми глазами и обернутым вокруг себя хвостом, он плющил о стенку сосуда розовые пальцы, похожие на лепестки цветов. Принадлежал он одному дальнему родственнику, жившему в Пельрэн, на берегу Луары, в светлом, как фонарь, доме, окруженном беспорядочным садом, где бродили в поисках корма куры, которых никто не убивал. Лишь очень редко мне разрешали посетить этого отставного капитана, скрюченного, как виноградная лоза, в привычном одеянии из темно-синего сукна: его подозревали в атеизме, не говоря уже о том, что он был женат на еврейке, день-деньской раскладывавшей пасьянсы и пившей шоколад.
Раз уж речь зашла о родственниках, хочу рассказать о своей кузине Бланш. Дом на улице Добрэ, в котором она жила, не напоминал фонарь даже отдаленно. Слепой и безмолвный, с вечно закрытыми окнами, он принадлежал двум грозным старым девам, взявшим к себе осиротевшую племянницу. Они были похожи друг на друга и выглядели такими сухими, что, казалось, вот-вот захрустят, как старые листья. Особенно запали мне в память их огромные черные глаза, неописуемо круглые и неподвижные, заключенные в пергаментные створки век, покрытых сиреневыми крапинками.
Тетки обходились с Бланш еще суровей, чем отец со мной. Он же сильно восхищался тем непревзойденным уровнем, на который они сумели вознести пуританский идеал. Мои родители считали для себя назидательным общество этих несгибаемых святых и, разумеется, встречали у них благосклонный отклик, а потому нам с Бланш часто выпадал случай увидеться. Мы были ровесниками, и по сей день я не могу найти объяснения тому, что наши семьи, беспрестанно опасавшиеся греха нечистоты, который они чуяли повсюду, оставляли нас вдвоем без присмотра. Думаю, мои родители переносили на племянницу добродетель, которую видели в тетках, надеясь, что Бланш окажет на меня сколько-нибудь благочестивое влияние, а старые барышни, рассуждая, со своей стороны по такому же принципу, ожидали, что Бланш путем осмоса приобщится к моим достоинствам.
Бланш. Ее чересчур длинные платья, перчатки, застегнутые на все пуговки, остриженные под горшок черные волосы... Приседая перед моими родителями в реверансе, она делала это безо всякого изящества, сгибая колено, как деревянная кукла, поскольку ничего светского в этих знаках вежливости не допускалось. Но у нее были глаза цвета травы, каких я больше ни у кого не видел.
Если не было дождя, мы шли в сад, а в плохую погоду - на веранду. Там Бланш, прислонясь к дереву или опершись спиной о стену, спрашивала нежным голоском:
- Ну что, начинать?
И, не дожидаясь ответа, и впрямь начинала ритуал, впервые совершенный, когда нам было лет по восемь, и сохранившийся, должно быть, до поры нашего отрочества.
Она, не торопясь, произносила самые ужасные богохульства, которые мне когда-либо доводилось слышать. Христианская вера, пропущенная сквозь ее уста, разваливалась даже не как падающее здание, а как расползшийся мешок с отбросами. Нечистоты истекали, клокоча, из ран Святого Сердца. Из вспоротого чрева Непорочного Зачатия вываливались потроха, кишащие червями. Оскверненная облатка липла, как склизкие обноски каторжника.
Бланш... Никогда не игравшая ни со своими, ни с чужими гениталиями. Ее неописуемо зеленые глаза...
Каждое слово Бланш, как стрела, которую невозможно вырвать, вонзалось мне в душу, в детскую плоть, чтобы, измучив, добраться до заветной точки «острой боли». Все сказанное ею продолжало звучать у меня в ушах, когда я делал уроки, ел и, особенно, когда молился. «Вспомни, о всемилостивая Дева Мария, что испокон века никто не слыхал о том, чтобы кто-либо из прибегающих к Тебе...[8]» И Мария лопалась, как прогнивший бурдюк. Поток сукровицы угрожал меня захлестнуть. Ежечасно в течение дня, и даже когда я вступал на ведущий ко сну хрупкий мостик, нечестивые слова всплывали из глубин моей души, как зловонные пузыри, и лопались с влажным чмоканьем.
Всякое известие об очередном визите Бланш, с каждым разом все более мучительном и навязчивом, - поскольку действовал еще и кумулятивный эффект - приводило меня в полное смятение. Нетерпение не давало мне ни есть, ни спать до тех пор, пока маленькая фигурка не появлялась наконец на пороге гостиной. Здравствуйте, тетушка... Спасибо, тетушка... Реверанс...
Выдать Бланш старшим было для меня легче легкого. Я также мог бы избежать ее общества под каким-либо предлогом или притвориться больным, хотя до этого я не додумался, поскольку подобное предательство или притворство всегда было мне чуждо. На самом же деле, я не мог обойтись без Бланш или, точнее, без мук, которые она мне причиняла. Она была моим ангелом, особенно когда ее жуткие литании насиловали мое целомудрие, живьем сдирали с меня кожу, когда их мерзость проникала во все фибры моего существа, бессчетно повторенная и вечно новая. Эта пытка стала мне необходима, как наркотик. При каждой нашей встрече Бланш удивляла меня все новыми арабесками, и я часто задавался вопросом, какой бес нашептывает ей эту нескончаемую поэму и что за инфернальные нечистоты питают этот грязный прилив.
Написав эти строки, Дени встал и некоторое время внимательно разглядывал свое лицо в зеркале над камином. Так, в одном четком жесте, он конкретизировал свою абстрактную привычку к самоанализу. Он вгляделся в смуглое лицо с асимметричным ртом и глазами цвета подгоревшего хлеба. Все еще находясь в возрасте, когда губы становятся более тонкими и чувствительными, он уже обрел некую изношенность взгляда, как у старых священников и больничных врачей. Будучи не слишком уверенным в себе, не уверен он был и в своем лице, и потому удивляло его лишь странное чудо - эти черты, вырванные из хаоса, существующие отмеренный срок, но пребудущие во веки веков, его лицо, краткий отблеск между небытием и ночью. Ничто уже не могло отменить существование этого лица, его лица, бывшего им самим, недолговечного, но реального, как пламя, отраженное в темной воде.
Ему вдруг стало интересно, похож ли он на Бланш, хоть их родство было отдаленным. Он стал искать и нашел, счел это за ошибку, упуская ускользающее и, возможно, иллюзорное сходство, снова его отыскал, думая удержать, и опять потерял...
Внезапно его охватила зависть к вере, которой его кузина, по очевидности, обладала, раз смогла вложить в богохульство такую страсть, и позавидовал одушевлявшему ее пылу, этому двойственному источнику покорности и неповиновения, однако, попытавшись представить себе наслаждение, которое Бланш черпала в святотатстве, невольно вообразил страдание, похожее на свое собственное, непоправимое отчаяние ребенка.
Им овладело сильное смятение. Он отвернулся от зеркала, - по крайней мере, от внешнего - закрыл тетрадь, где описывал некоторые свои душевные состояния, и, как и ежевечерне, принялся за чтение, едва вернувшись в квартиру, которую занимал на улице Монж. Живя всего в нескольких метрах от своей нотариальной конторы, он мог позволить себе роскошь обходиться без автомобиля. Окна его жилища выходили на Арены Лютеции[9]. Темная и тяжелая мебель XVIII века выглядела скорее благородной, нежели красивой - в духе западных провинций.
У меня очень редко бывают гости. Один из них, впрочем, поинтересовался, почему у меня нет кошки. Я всегда любил животных, но в детстве мне не разрешали их держать, потому что, как говорила моя мать, к твари привязываться нельзя. А после того, вероятно, мне было уже поздно обзаводиться новыми привычками. Нуждаюсь я, впрочем, не в безмятежной дружбе. Не все кошки одинаково кошки, а принадлежность к этому семейству имеет свои степени и оттенки. Есть самые настоящие кошки, ведущие себя совсем не по-кошачьи, например, красавцы коты-рыболовы. Заговорив о коте-рыболове, я вдруг на краткий миг снова вижу перед собой золотую цивету - линсанг, быстро мелькнувшую в свете фар, прежде чем исчезнуть в джунглях, струящихся испарениями и соком. Иногда я путешествую, но в дальние края отправляюсь, из принципа, лишь изредка, принуждая себя заниматься скучными регистрациями, тяжбами и наследствами, хотя меня самого ничто не связывает и рутинные дела в мое отсутствие идут удовлетворительно, контора с мебелью светлого дуба, запах папок и копирки, холодные окна, очерченные серым дневным светом, мадмуазель Жандр с длинными, в синих пятнах, зубами и в выцветшей подмышками блузке, клерки в ярких галстуках, с лицемерными взорами, - все это часть моего существования. Я испытываю даже некое наслаждение от этой смехотворной зависимости и счастлив тем, что чувствую досаду.
.
Вчера мне нужно было зайти к одной пожилой клиентке, чьи перемещения ограничиваются пределами спальни. Возвращаясь по улице Де Боз-Ар - темной и фальшивой, с гулкими, обсаженными бересклетом в ящиках дворами, я прошел мимо гостиницы, где умер Оскар Уайльд, в соседнем с ней доме помещается магазин фотографических репродукций; рядом с прилавком, на мраморной доске, можно прочесть:
ТЕЛО БЛЕЗА ПАСКАЛЯ,
СКОНЧАВШЕГОСЯ 19 АВГУСТА 1662 ГОДА
В ЭТОЙ ПРИХОДСКОЙ ЦЕРКВИ СЕНТ-ЭТЬЕН-ДЮ-МОН,
ПОХОРОНЕНО РЯДОМ С ЭТИМ СТОЛПОМ.
R.I.Р
Два лика одного и того же поиска. Однако, если я завидую Паскалю, достигшему последних рубежей воображаемого в погоне за высшим свершением, то Уайльда мне жаль, ибо он имел несчастье видеть, как химера рассыпается у него в руках, и умер не столько из-за того, что был смертен, а из-за того, что однажды ее настиг. Да, химеру. Все любови - родящие, убегающие линии - параллельны, так как встретиться им никогда не дано.
Раскаленный каменный тигр храма Мендут схватил обезьяну, пожелавшую над ним возобладать, и, прицепив ее к собственному телу, безжалостно тащит по земле, пока она не умрет.
Я, конечно, знаю, что смерть обезьяны - всего лишь один из порогов, которые нужно переступить. Но тигр...
С некоторых пор Бланш стала неизменно появляться у нас с железной коробочкой, которую сжимала в руке с обгрызенными ногтями. Раньше в ней лежали пастилки от кашля - единственные сласти, дозволенные детям пуритан. Бланш рассказала мне, что у нее там хранится освященная облатка, и обещала как-нибудь ее показать. Иначе говоря, пока ее тетки выслеживали грех с хищным вниманием варана, подстерегающего добычу, Бланш фактически на их глазах совершала грех, страшнее которого не бывает - грех, который бы ей не отпустили. Причащаться, чтобы осквернять, исповедовать веру, чтобы богохульствовать – вот были единственные свободы ее детства.
Как-то раз, когда у открытого окна моя кузина произносила кощунственные слова, рвавшие мне душу, я вдруг увидел в оконном стекле отражение нас обоих: профиль Бланш, стоявшей ко мне лицом, и себя самого – на три четверти в фас, отвечающего на каждое богохульство содроганием и кратким рывком торса вперед, что можно было бы принять вызванное шоком негодование, если бы не движения губ и не напряженное внимание на моем лице - все, что выдавало поощрение, которое выказывал Бланш, до сих пор того даже не сознавая, будто диктуя ей слова, которые ожидал услышать, неслышно рождая внутри себя эти жуткие водопады, низвергавшиеся с ее губ.
Я часто возвращался мыслями к увиденному, особенно в те времена, когда еще верил. Будучи совсем ребенком, я все же усмотрел в этом свою ответственность или, по меньшей мере, сообщничество. Однако сознание этого сообщничества начало мучить меня еще раньше. Поскольку до того момента я неизменно приписывал богохульства одной Бланш, отводя себе лишь роль возмущенного зрителя, - втайне счастливый своей ранимостью, которой она, несомненно, завидовала, как позже мне суждено было позавидовать ее вере, - я никогда не говорил об этом на исповеди, подтверждая таким образом самому себе, хоть я в том и не сомневался, насколько я был не виновен в этих преступлениях. И вот внезапно и почти неоспоримо я обнаружил, что двигало мной, по сути, опасение лишиться привычного опиума и, более того, оказаться вероятным источником святотатства. Поэтому образ, увиденный в оконном стекле, дал мне богатую пищу для размышлений.
Подобно фараонам, египетский сфинкс позаимствовал свои зооморфные атрибуты у льва - солнечного и мужественного, олицетворяющего огонь-прародитель. Вот почему вопрос, задаваемый львом - не что иное, как вопрос о мистических связях между созидательным и разрушительным импульсами огня. Именно этим символом как таковым широко воспользовались алхимики Средневековья. Если материальное существование тигра, как кажется вначале, закрывает ему прямой доступ к определенному, четко ограниченному мифу, то сущность тигра, тем не менее, спонтанно приобщает его к тому, что Э.-Т.-А. Гофман назовет «Der Dunkle im Spiegel»[10]. Пантера, рысь и тигр следовали за Дионисом в его свите, ибо он - властелин скрытых вещей, сметного пьянства, безумия и тайных бездн. Являясь поочередно Богом и жертвой, вином и кубком, мужчиной и женщиной, Дионис повелевает метаморфозами. Иногда метаморфоза называется мимикрией
В укрытьи трав, одетых росной пеленой,
Тигр снежнобрюхий с грациозною спиной
Дремал..[11]
Этот тигр с белым, как луна, брюхом, с эластичным хребтом, способным воплотить любые трансформации, на которые только его подвигнет хитрость, бродит по болотистым лесам, по берегам рек. Его природа - порождение влажности, луны и ночи. Он женского рода. Он - Инь.
Фигура тигра совершенно не сочетается с коллективной, общественной стороной дионисийской оргии, соответствуя другому аспекту божественности, подразумевающему глубину, кровь, темные лабиринты внутри нас, недоступные исследованию области души и плоти, где дремлют чудовища.
В противоположность созидающему и общительному льву, черпающему свою мощь во всем, что он отдает, тигр в высшей степени одинок - качество, присущее как раз эллинскому сфинксу. Но, феминизированный греками, этот сфинкс, обретя облик женщины-льва, терял, таким образом, весь свой смысл, поскольку изначально его имманентная доля женственности соответствовала лишь доле солнечного божества, бывшей весьма незначительной.
Женственность тигра, далеко не сводимая к одной лишь половой принадлежности и ритмам плодоношения, - это, прежде всего, женственность космическая. Олицетворяя собой отрицательный знак, без которого невозможен был бы знак положительный, она, следовательно, является творческой уже в своем отрицании, смыкаясь здесь с концепцией, воплощенной во всех примитивных культах женского божества. (Мотив тигриных полос с чередованием «положительное-отрицательное» мог бы также интерпретироваться в своей двойственности как аналогичный ключ.) Так же, как и в магии всех этих культов, где акт разрушения всегда тождественен приумножению и усилению основной идентичности, Тигр - то есть сфинкс - в отличие ото льва, имеет обыкновение убивать всякой связи с целями пропитания.
Вчера я опять побывал в зоопарке. Я часто туда хожу. Запах тигра объемлет меня, как водяной поток, - едкий запах мяса, крови, подмышек.
Было время кормления: клацали двери, тележки катились по плиточным коридорам, слышался металлический лязг. И, перекрывая все, грозный рев крупных хищников, вулканический рык, подземный гром, шипение тысячелетних лав, как в те времена, когда моря были паром.
Тигр меряет клетку шагами, и бока его вздымаются и опадают. Я ощущаю запах его обжигающего дыхания, слышу приглушенный стук его лап. Подходит охранник - человек в синем, гремящий ключами. Он открывает пустую клетку по соседству с той, где рычит тигр, и кладет туда заднюю четверть лошадиной туши. Затем выходит, снова запирает клетку, поворачивает в замке черный ключ и уже снаружи поднимает решетку, разделяющую обе клетки.
Вторжение и близость пищи усиливают рычание до душераздирающего крещендо. Но вот наконец тигр завладевает мясом, оттаскивает его глубь клетки, ложится на живот и, встопорщив усы и прижав уши, обнюхивает добычу, которую придерживает лапой. Одним движением голова его поворачивается вокруг оси, опускается вниз. Отвисшие губы подбираются, обнажая клыки, - вспышка, скрежет. Пережеванные волокна лопаются под аккомпанемент влажного чмоканья. Лошадиное бедро с охряными вкраплениями жира размеренно приподнимается и падает. Тигр жует, пускает слюни и тихонько ворчит, полузакрыв глаза. Подвздошная кость обнажается, проступает белым в обрамлении красного, не окрашенного фиолетовым, - имитация слоновой кости, со свисающей бахромой плоти, разлохмаченными мышцами, обрывками желтой кожи, разорванными венами, похожими на толстые макароны – полые и круглые. Иногда зуб, задевая о кость, издает ужасный царапающий звук, упорствует в своем движении, скоблит и чиркает вновь и вновь, как лезвие о кремень. Временами тигр задыхается, давится своей пищей и отрыгивает одним икающим спазмом. Конец королевской трапезы.
Выходя, я смог окинуть взглядом кладовку - ту самую, где я сидел, пока охранник вызывал такси. Человек в синем как раз разливал витаминные микстуры по наполненным водой мискам. Все те же мешки с опилками, метлы, черный телефон. И на стене - крюк со связкой ключей. Ключ от клетки в точности похож на ключ от водозабора в саду моих родителей.
Любой тигриный лик подобен лабиринту. Круглому лабиринту барочных садов, тропинки которых внезапно обрываются или сужаются до игольного ушка. В этом я вижу безысходность: Ausweglosigkeit[12] - вот оно, слово. Ловушка. Ловушка-лабиринт по образу и подобию моей души, ходы и повороты, долгие танцы, извилины и западни, скрещения дорог и тайные тропы.
Совершенство возможно в этом мире, - говорю я себе, созерцая этот лик, ритм поступи, тело с тяжелыми и удлиненными формами, - и природа не создала ничего более величественного.
Едва идея высшего совершенства выкристаллизовалась в Дени, как он принялся весьма неумело от нее защищаться, и мысли, которые он пытался себе внушить, отчасти напоминали жесты утопающего. Набросав несколько строк о том, что он называл безысходностью, он втайне проникся страхом перед грядущей очной ставкой с чем-то неизбежным, чью природу он, однако, не мог предвидеть точно. Так как, на свой манер, он всегда был честен - постной пуританской честностью, - то говорил себе, что под угрозой потери этого качества, ему, в сущности, требовалось признать то, что он предпочел бы отрицать. Лабиринт не исключал зеркала.
Он всегда любил писать, так что понадеялся отвлечься от образа тигра, работая ежевечерне над созданием романа или новеллы, публиковать которые, впрочем, не намеревался. К тому же, ему было сложнее оторваться от тетради, чем от книги.
Он унаследовал семейную библиотеку - иными словами, множество книг о путешествиях, старых трактатов о навигации, физике и математике, философии и теологии. Никаких романов. Никаких театральных или лирических произведений и, в особенности, ничего в иезуитском духе. Он добавил сюда несколько книг по искусству и все приобретенные в последнее время труды о тигре.
Итак, чтобы лучше сбежать, избежать и убежать, Дени начал, пока не зная даже, как разовьет сюжет, историю человека, которого он поместил в XVIII век и назвал Матье. Он написал пару строк и почти сразу же переключился на дневник.
Служа подмастерьем у гравера, владевшего домом на улице Сен Андре-дез-Ар, Матье столовался у хозяина и жил один в чердачной комнатушке.
Скрытный и одинокий, тигр избегает человека и других крупных млекопитающих. Он нападает только раненый или перед лицом угрозы. Мангровые леса Сандербана - сегодня единственное место в Индии, а может, и в мире, где тигр убивает человека, чтобы утолить им голод, и, однажды отведав его плоти, становится man-eater[13]. Что же за лакомый вкус и запах у нашей крови? Что это за дивное вино?
Мне хотелось бы думать, что на Суматре тигр явился мне воочию, пусть на один лишь миг, - имя его, Харимау[14], крестьяне, возделывающие рисовые плантации на краю джунглей, едва осмеливаются произносить. Но, может быть, я все-таки его видел. Может быть, это случилось в час, когда слои тумана тяжко оседают на просеку Балелуту, катятся и разрываются над ручьем, сбегающим к реке Алас, когда ближайшие объекты вырисовываются на непрозрачном, серо-молочном фоне скупо, словно на китайских эстампах, - может быть, тогда он и прошел совсем рядом со мной, зайдя по брюхо в воду и выбравшись из нее на другом берегу с большим шумом, природу которого я не сумел распознать.
Тот, кого я хожу повидать почти каждый вечер - бенгальский тигр, panthera tigris bengalis. Шерхан... Харимау, тигр с Зондских островов, меньше размером и бледнее окрасом, с полосами поуже, он лучше плавает и отличается большей нервностью.
Под защитой правительственного декрета бродит он по лесам Суматры, но так как при этом истребляет молодых орангутангов Лесера[15], еще более редких, чем он сам, то его отлавливают, чтобы переправить в другой округ.
В тот день охотники-паванги, часто заходившие выпить чаю в наблюдательный лагерь, вызвались показать нам ловушку на тигра. Они провели нас в ту часть джунглей, которую мы еще не изучили, хоть она и лежала Довольно близко от нашей просеки. Почва была такой болотистой, что мы по щиколотку вязли в озерцах грязи, среди больших пузырей, которые булькали и лопались, со свистом выпуская газ. – Awas! Awas!.. Осторожно! Осторожно!.. Приходилось цепляться за низкие ветки, за лианы, перелезать через огромные, покрытые мхами и папоротниками стволы, опираясь на них руками и подтягиваясь вверх. Чавканье грязи. Треск веток. Верткие шустрые насекомые. Отрывистые окрики мужчин. И вдруг - бамбуковый шалаш, высокий и узкий, зеленеющий в вечных сумерках леса. Паванги велели нам натереться травой, чтобы отбить человеческий запах. Они показали нам, как действует устройство, и едва коснулись приманки, как веревка, к которой она была привязана, высвободила дверцу, и та мгновенно обрушилась вниз с грохотом гильотины.
Сегодня ночью, разбуженный шумом дождя, я приподнялся, оперся о деревянную раму кровати и сел в темноте, не зажигая света. «Полночные терзания»[16]. Я хотел добраться до истоков наваждения, искал объяснения тому, что днем и ночью одна и та же мысль довлеет надо мной, околдовывает меня. Внезапно я понял, что ответ находится в книге, которую я читаю и которую уже прочитал когда-то, - в зеленой выцветшей книжечке. Я понял, что знал ответ до того, как был задан вопрос, до того, как была написана книга, до того, как я научился читать и даже до того, как я родился. Удивительная иллюстрация к теориям Августина о предопределении свыше. Воистину, не без иронии...
Итак, мы видим, до какой степени множественность и универсальность мотива делают невозможным выделение из него одного четкого и автономного компонента без вовлечения в процесс дополнительных и даже противоречивых элементов. Очевидно, что, в соответствии с маятниковым балансом космических систем, Дионис делит некоторые свои атрибуты с Танатосом. Метаморфоза, прекращение длительности и уничтожение индивидуального сознания являются для них общими. Бездны - общее их достояние. Если же говорить о тигре, то экзотизм, придающий ему чуждый нормам характер, превращает его в чудовище, явившееся из Гадеса. Итак, круг замыкается почти автоматически: символы смерти и разрушительной ярости сливаются воедино в знаках, воплощаюших ночь, холод, влажность, луну, отрицательное и женское начала. Вне зависимости от факторов времени и места, а также вне связи с любым понятием классической мифологии, механизмы бессознательного, по же, во все времена воспринимали образ тигра как связанный со смелостью, а идея «оседлания тигра» появилась в интеллектуальной вселенной человека стихийно. Представляется также, что роль, приписываемая тигру некоторыми азиатскими легендами, не слишком отличается от той, которой наделен сфинкс в эллинских или эллинистических мифологиях. Так, например, в малайской сказке под названием «Тигр и Отражение» перед нами предстает тигр, обманутый хитростью малого оленька, мемина, и бросившийся в воду на свою погибель. Совсем как сфинкс после ответа Эдипа! Аналогия, сколь она ни случайна, предстает от этого не менее характерной, так как символы - выражения всеобщего желания идентифицировать космические энергии - всегда проявляли свое загадочное родство не только от цивилизации к цивилизации, но зачастую даже от континента к континенту. Небесполезно, впрочем, будет отметить, что мотив существа дьявольского - то есть космического, - обманутого простой тварью, послужил основой для целого ряда средневековых басен; в них изображается Дьявол, становящийся, в конечном итоге, жертвой человеческих уловок - совсем как побежденный Эдипом сфинкс или одураченный мемином тигр.
Его имя Могул, сказал мне охранник. Или, скорее, его так зовут, потому что тайное имя его неизвестно. Я хотел дать ему имя, ведомое лишь мне одному, но меня удержал страх святотатства. Пусть остается неназванным. Пусть пребудет выше дат и слов. Тигр как он есть. Вечный. Несформулированный.
Итак, тигриный лик. Уши, лежащие за сильным изгибом лба.
Впечатляющий пейзаж в тонах жженой сиены и охры испещрен длинными черными отметинами, пересечен бороздами, которые землетрясение, сопровождаемое вулканическим рыком, проложило по обе стороны широкого трепещущего носа, ни единой рябью не нарушив безмятежно чистую гладь двух янтарных озер. Но, в окружении мягких и шероховатых даров моря, волосатых, пульсирующих, жестких, поросших иными белыми антеннами, - преддверие слизистых оболочек, кожа ноздрей, оранжевая и шершавая, чья линия как бы повторяет очертания позвонка. Ниже - черные и влажные вульвы, сердце ракушек. Резцы неправильной формы выглядят трогательно в своей наготе, ибо в устрашающей улыбке тигр открывает взору самое интимное, самое тайное из того что имеет: кость. Какое бесстыдство, и, вместе с тем, какой дар! - сталактиты и сталагмиты с налипшими остатками пены, грот, от которого словно бы отступило море, розовый коралл десен, красный, бугор, губчатый коралл блестящего языка. Мохнатый подбородок круглится, завершая конструкцию, подобно архитектурному парусу свода - на подступах к белокурым пустыням шерсти.
Надо что-то сделать. Надо. Пусть этим Матье завладеет неукротимое наваждение, великое безумие. Он попадет в тиски. Он заскользит все неудержимей, словно по наклонной плоскости.
Я не был к этому готов. До сих пор моя личная жизнь протекала в ледяном одиночестве, напоминавшем сгущенный холод вокзалов. Суетность встречает во мне отклик еще меньший, чем натюрморты с черепами. Я - человек гордости.
Предполагаю, что тигр вошел в мою жизнь, чтобы заполнить образовавшуюся там пустоту. Я всегда знал, что создан для неистовой страсти, так как ошибкой было бы считать, что душевные потрясения являются уделом лишь чувственных натур. Если я мало согласуюсь со своими чувствами, то это, на самом деле, вызвано тем, что большего они и не требуют и речь в моем случае идет скорее о естественной склонности, чем о сознательной аскезе. Если, к примеру, моя излюбленная диета состоит из фрукта и чашки риса, то это просто потому, что мое мнение о «хорошей кухне» еще ниже, чем о плохой. А плотское общение с женщиной меня привлекает меньше, чем общество мужчины, которому я, в свою очередь, предпочитаю одиночество. И даже здесь мои потребности весьма ограничены: мне достаточно тайных игр, чтобы никакое неуместное вмешательство не спугнуло мою химеру.
Впрочем, как-то я посетил один подпольный бордель на улице Обэр. Он помещался в квартире с поддельной мебелью в стиле Людовика XVI с накладками из гравированных зеркал, пастельными листами и эстампами Моро Младшего. Жестоко угнетенный уже одним этим слащавым декором, я увидел, как в комнату входит девица, которую «мамаша» привела мне без спроса. Я тщетно попытался отделаться от этой шлюхи, леденившей мне кровь в жилах своей улыбкой и острыми, как у пилы, зубами. Ее игуанье лицо с розовыми глазами, увенчанное соломенной шевелюрой со взбитыми прядями, покачивалось на хищной шее. Я прилагал все усилия, чтобы не смотреть ей между куцым бюстом и щуплыми ляжками, - на сферический, тугой, отвратительный живот, на брюхо, набитое яйцами, готовыми лопнуть.
Девица накинулась на меня так, будто речь шла о ее жизни. Я постарался высвободиться, но, помимо алчности к деньгам, уже, впрочем, удовлетворенной, это существо упорно хотело меня удержать из чистой зловредности: прожорливая игуана опустилась на колени у моих ног, намереваясь возбудить во мне невозможное желание. Это было уж слишком. Я резко встал и оттолкнул девицу, которая соскользнула на ковер, покрытый неописуемыми цветами. С тех пор я уже забыл, какими ругательствами и проклятиями я ее осыпал, попутно приводя себя в порядок, но они, без сомнения, произвели на нее сильное впечатление - она отшатнулась, присев на пятки, рыча и задыхаясь.
Несколько лет спустя, уже осознав, кто я такой - или что я такое, - я обратился к услугам зрелых и красивых девиц, работающих на самих себя в квартирках-студиях Отей[17]. Их арсенал - ремни и веревки - мог иной раз меня взволновать, но то, как они им пользовались, выдавало грубость их душ и скудость воображения.
Как-то раз, во время пребывания в Германии, я попросил одного друга, о чьих вкусах был осведомлен, выказать ко мне суровость.
Он посмотрел на меня с невыразимой холодностью:
- Nein!.. - Без всяких объяснений и отговорок. Я почувствовал, что краснею до корней волос. Прежде чем покинуть комнату, я еще раз взглянул на злобно-торжествующее лицо приятеля, чтобы получше его запомнить. В убытке, впрочем, остался он сам, так как радость, которую я испытал, выпрашивая у него милость и терпя в ответ оскорбление, без сомнения, намного превзошла ту, которую ощутил он, унизив меня.
Дополнительное уточнение. В прошлом Дени несколько раз имел любовниц, от которых всегда отделывался довольно быстро, даже не заботясь о предлоге, чтобы оправдать свою скуку. Его попытки связей с юношами были вызваны лишь любопытством - так он полагал. На сорок четвертом году жизни все это начало уже отступать для него в туман прошлого - он не спешил пускаться в новые приключения, вероятно, из-за невысказанного но упрямого страха перед венерическими болезнями, и потому соблюдал целомудрие, как соблюдают трезвость, в силу рассудительности и природной склонности, до тех пор, пока в нем не укоренилось прочное отвращение к сексуальности. Иногда ему казалось, что весь город истекает спермой, смешанной с женской слизью. Он не смел более ни к чему прикасаться, избегал защелок и перил: одетый в перчатки, замурованный в одежду, испытывающий смертельное омерзение. Он удивлялся, видя вокруг себя мужчин и женщин, подчеркнуто носивших свой пол как лучшее достояние. А может, в них и правда не было ничего лучше...
О своих прошлых связях он, хоть весьма редко, но вспоминал, а вот о той, что оставила на нем самый сильный отпечаток, решительно забыл. Синда - так звали английскую лесбиянку с очень широко расставленными желтыми глазами; у нее были рыжие волосы, тонкий рот, широкая и короткая челюсть, очерченная резким углом, и неповторимая манера поворачивать голову на оси шеи: медленно, одним величественным движением. Дени не пытался добиться от нее того, в чем бы она, вероятно, ему отказала: хоть она и занимала его воображение с утра до вечера, он не видел здесь для себя ни возможности, ни смысла, удивляясь лишь тому, что столько людей провозглашают неотделимость любви от любви. Если бы его спросили, чего он ждет от Синды, он, вероятно, пришел бы в замешательство или, по крайней мере, был бы застигнут врасплох. Затем пришел день, когда она покинула его навсегда. Дени стер тот образ из памяти. Образ простой и сложный. Они стояли друг против друга на мосту Ватерлоо, и отблеск, падавший то ли от уличного фонаря, то ли неизвестно откуда, резко освещал лицо Синды, однако лоб ее, желтые глаза и плоский нос оставались в тени струящегося водой зонта. Был виден лишь короткий подбородок да длинные тонкие губы, которые шевелились, иногда открывая взгляду быстрый, влажный блеск зубов. И вот они все шевелились - эти гибкие, агрессивные губы. Дени не слушал, что она говорила, - без сомнения, какие-то жестокие слова - но это и не имело значения. Ничто не имело значения - лишь этот рот перед его глазами, самодовлеющий среди небытия, появившийся из тьмы, автономный, божественный, выносящий ему безапелляционный приговор, прежде чем сожрать.
Бланш не лгала, говоря, что у нее есть облатка, которую она мне как нибудь покажет. О подлинности святотатства говорил блеск ее глаз цвета абсента, скупо подчеркнутых сиреневым, бледность лица и крепко сжатые большие губы с опущенными уголками. И мне казалось, что я уже вижу облатку сквозь металл коробочки - серую, покоробившуюся, противную.
Много лет спустя одно лицо напомнило мне о Бланш. Это было в Берлине, в U-Bahn[18]. Поздний вечер. Пара рабочих слегка навеселе, едущая домой с детьми. Удрученные лица девочек под ледяной лаской неона. Самая младшая из них, лет восьми, как раз похожа на Бланш. Шов ее джинсов разошелся между ногами, и в эту дырочку не длиннее двух сантиметров просвечивала белизна не то белья, не то подкладки. Девчушка сидела, растопырив колени, и дурачилась с сестрой. А шов был разорван. Открыт. Распорот. На крошечном отрезке целостность была нарушена неожиданным отверстием, недозволенной дырой. Сходство с Бланш и, одновременно, в противовес ему, простодушная чистота увиденного ненароком белья напомнили мне об облатке.
Факелы, пропитанные кокосовым маслом, бросали отсвет на медные лица охотников-павангов. Когда мужчины умолкали, было слышно лишь, как вода капает с деревьев да потрескивает огонь. Один из охотников закурил кретек и начал:
- Был как-то солончак, к которому приходили все животные джунглей, пока не наступил день, когда это стало слишком опасным, потому что тигр повадился их там подстерегать и каждый день убивал одного на обед. Животные собрались на совет, и кантъил - малый оленек - сказал им: «Братья, я придумал одну хитрость. - Затем он пошел к тигру и сказал тому: - Харимау, зачем тебе каждый день ходить на охоту - хочешь, я буду приносить тебе добычу?» Харимау эта идея понравилась. На следующий день кантьил опять пришел к нему и заявил, что ничего не смог принести с охоты, так как большой тигр с кантъилом на спине преградил ему дорогу.
«Он устрашится одного моего вида», - сказал Харимау и отправился в путь вместе с кантъилом, который пристроился у него на спине. Они подошли к реке, и тут кантьил закричал, показывая на отражение тигра в оде: «Смотри! Смотри же! Вон большой тигр, преграждающий дорогу!..» Тогда тигр бросился в реку, чтобы сразиться со своим отражением, и немедленно утонул.
Служа подмастерьем у гравера, владевшего домом на улице Сент-Ре-дез-Ар, Матье столовался у хозяина и жил один в чердачной комнатушке.
Мартовским утром 1757 года он был оставлен в «вертушке для подкидышей»[19] предместья Сент-Антуан, прожил в приюте до поры ученичества, никогда нигде не бывал и говорил мало. Впрочем, он совершенно не знал, кому поведать о том, что его волновало, и как описать свои чувства. Хотя рассказывать пришлось бы, скорее, об ощущениях. Матье было тридцать лет, но он давно уже чувствовал, что скользит по бесконечной спирали, скользит и скользит, вращаясь в этой головокружительной тюрьме, которой был он сам, скользя, вращаясь и не зная, движется ли он вверх или вниз. Он знал лишь, что эта пытка будет длиться столько, сколько и его существование, но не ведал, продолжится ли оно за смертью и суждено ли ему страдать целую вечность, или же, в конце концов, он обретет мир, подобно воде, что после долгого странствия вытекает в желоб. Он не мог отказаться от надежды на покой, но, вместе с тем, хотел бы иметь возможность насладиться им сознательно, что по сути было вопиющим противоречием. Порой, не слишком понимая зачем, он заходил на рассвете в церкви с сумеречными запахами погреба и ладана и задремывал там ненадолго в сиянии свечей. Но это наводило на него лишь унылое оцепенение, поэтому он перестал туда ходить, как только обнаружилась страсть, заполнившая его мечты.
Однажды Бланш поведала мне, что сохраняла облатку, выплюнув ее в ладони, куда прятала лицо якобы в порыве религиозного рвения.
Она открыла железную коробочку, и я увидел бледный кругляшок, покоробившийся оттого что сначала намок, а потом высох. Бланш принялась колоть его острием булавки. Меня бросило в дрожь. Corpus Domini Nostri[20]!..
- Когда она слишком уж раскрошится, - сказала Бланш, - я выбрасываю ее в уборную и отправляюсь за новой к Престолу.
Слово «Престол» она произносила с вероломным наслаждением, смакуя его и пробуя на язык, будто вкушала Ангельский Хлеб. Она снова уколола облатку, плюнула на нее и добавила:
- Хорошо, что она ни от чего не умирает! Ни от чего!
И по сей день я, как тогда, слышу и вижу Бланш: лет одиннадцати, худую, в мешковатом платье, толстых серых чулках и громоздких сандалиях. Взгляд зеленых глаз пронзает меня насквозь. Именно так запечатлится она в моей памяти навсегда и in saecula caeculorum[21]: на фоне кирпичной стены и спадающего каскадом плюща, под сенью которого – водозабор и ключ. Бланш стоит там, с коробочкой в левой руке и с булавкой в правой - в этом саду, где сумрачным было все, даже сладковато-медовый запах мочи от цветущих кустов бузины.
Грандиозность кощунства и особенно вид плюющей Бланш болезненно отдались в моем желудке. Я всегда был очень брезглив - мне, к примеру, трудно здороваться с людьми за руку и касаться чего бы то ни было после других, - и грязь привлекает меня только в речах.
Бланш еще раз плюнула и вонзила острие в облатку. У меня в глазах все плясало. Плющ и бузинные кусты кружились в одуряющем хороводе. Я оперся рукой о стену и согнулся над крапивой - съеденное вываливалось из меня тяжелыми сгустками, шлепая по листьям. Ослепнув от слез и рвотных спазмов, я в то же время ощущал, как Бланш порхает у меня за спиной, словно большая пяденица. Выпрямившись, я попытался сделать несколько шагов. Я был в полном сознании, хотя колени мои подгибались и отказывались меня держать. Я рухнул на бедро, успев выставить вперед ладони, в которые врезался гравий. Бланш кричала: Дени упал! Дени упал!.. Она пыталась меня поднять, но руки ее наводили на меня странное оцепенение, я ощущал, как сквозь рубашку мне прямо в плоть вонзается булавка, которой она перед тем терзала облатку и которую все еще держала в руке, а железная коробочка в ее кармане жестко давила мне на ребра. Это было невыносимо, и на сей раз я потерял сознание по-настоящему.
Как-то раз, когда Дени проходил мимо магазина Жибера, одна из книг в витрине привлекла его внимание. Называлась она «О любви». Он купил ее не раздумывая и, едва оказавшись дома, принялся читать на кухне, как нечто запретное.
Стендаль озадачивает меня. «Это явление... [кристаллизация]... берет истоки в природе, велящей нам испытывать удовольствие и насыщающей кровью наш мозг, в ощущении того, что удовольствия приумножаются совершенствами любимого объекта, и в мысли «она моя»». Что же до вторичной кристаллизации по стендалевской теории, то мне она кажется таким убожеством!.. Надежда... Счастье... А какой в этом всем смысл?
Почему любовь всегда должна быть мячом, в который человек превращается, ударяясь о стену и от нее отскакивая, а не сверкающим метеором, несущимся в космических безднах, движимым лишь собственной энергией, самодостаточным и не знающим эха?
Amor, qui simper ardes et nunquam extingeris,
Assende me totum igne tuo...[22]
Но тигр, который - подобно сфинксу - прыгает в воду и обращается в ничто, пожирая собственный образ, вряд ли сможет исчезнуть из однородной космогонии, поскольку она не подвержена ни прибавлению, ни усечению. Тигр - или же сфинкс - по примеру феникса, восстающего из пепла, возродится из воды - женской стихии. Если это воскрешение остается несформулированным, то происходит так потому, что оно уже включено по умолчанию в непреложные законы мифа, который, чтобы выполнить свою функцию, неизбежно должен подчиниться особым условностям. Таким образом, подобно Дионису, с которым он связан и в котором поочередно - то есть, на самом деле, одновременно, так как хронологические ритмы получают проекцию в ритмах вечных, - достигают высшей точки всплески жизненных энергий и разрушительных сил, тигр пребывает незыблемым в своей двойственности.
Можно было бы задаться вопросом, где пролегает граница наблюдений Дени за самим собой в глубине зеркал.
Желая отблагодарить Матье за то, что тот помог ему управиться с дровами, суконщик из квартала де л'Аббе пригласил его как-то воскресным днем в свой загородный домик неподалеку от Сен-Сира. Они отправились туда поутру в двуколке. Это было первое путешествие Матье, и суконщик, решив показать ему свет, объявил, что они заедут в Версаль посмотреть, как вкушает пищу король. Он не жалел красок, изображая все то великолепие, которое им предстояло увидеть: замок, гвардейцев, лакеев, ритуал большой трапезы[23], и с большим благоговением поведал Матье о короле, чьей дородностью восхищался, и о королеве, для описания которой не находил слов.
Людовик XVI, охотнее всего набивавший брюхо на публике, остался верен гнусной традиции большой трапезы, неуклонно проводившейся по воскресеньям. Королева, не любившая, чтобы на нее смотрели во время еды, старалась как можно чаще от этого уклоняться, так как всякий, кто имел на голове треуголку и на боку - маленькую шпагу, мог присутствовать при королевском обеде. У дворцовой решетки оборванные замарашки сдавали напрокат бутафорию, разложив на лотках весь свой убогий товар: ощипанные шляпы и несколько жестяных рапир.
Едва попав сюда, Матье был ошеломлен шумом и толчеей. В страхе потерять суконщика, он уцепился за полу его сюртука.
В кромешной давке он очень неудачно оказался позади двух высоких мужчин и, сам будучи низкорослым, мало что увидел из церемонии. До него приглушенно доносились шаги трапезничих, шум передвигаемых блюд и сосудов, и еще он как будто слышал шепот. В просвет между локтями и боками, очень далеко - словно на краю пустыни или некой безлюдной эспланады - он мог разглядеть часть шеи королевы.
Обвитая четырьмя рядами жемчугов, эта шея, казавшаяся длинной и сильной, переходила в обнаженное плечо, не выказывая ни сухожилий, ни мускулов, но производила впечатление не вялости, а прочной, ледяной нежности. Иногда она слегка шевелилась, увлекая в своем движении крупный, напудренный серым, локон, последний завиток которого терялся в пене кружев. Свет озарял его спереди синевато-белым сиянием, окаймляя контур серебристой нитью, а в полутени шевелюры кожу оживлял матово-розовый оттенок, темнеющий к затылку до того пурпурного цвета, которым в октябре пламенеет вереск.
Матье решил приехать сюда опять и занять более удобное место.
Между тяжеловесностью и отражением я не в силах различить исторически реальную Марию-Антуанетту, вышагивающую под крошечной парасолькой с чудовищным сооружением на голове, но я очень хорошо знаю, что, если бы Матье - который сделать этого не может - писал бы, в свою очередь, роман или дневник о человеке, сочиняющем историю другого персонажа, который был бы создателем следующего по счету героя, никакая логика не помешала бы этой цепочке удлиняться вечно, и образ зеркал мог бы тогда множиться до бесконечности. Но есть одно препятствие: тигр.
Двойственная луна, полная и блестящая, хоть и невидимая, - в скалистом пейзаже, где парят полотнища тумана. Слева - листья, словно руки, изборожденные венами, протянутые к самой кромке охряного блика, озаряющего центр картины. Двойственная луна, полная и блестящая, истекает сиянием прямо в заводь лика лежащего тигра, написанного Джорджем Стаббсом. Черты, выражающие добродушное беспокойство, вписаны почти в окружность, а пушистые и неподвижные уши безобидны, как помпоны. Впрочем, в этом лике читается и ожидание: был задан некий вопрос. Поэтому достаточно повернуть картину на 90° вправо, и вот уже тигр уперся лапами в подобие Эдипа - безусловно, превосходя противника размером, но не прибегая к защите; он слегка откинул голову, чтобы лучше его разглядеть, едва заметно касаясь левой задней лапой земли и согнув правую, готовую распрямиться. Коготь близок: мы угадываем его перламутровый, безжалостный кончик, который через мгновение вонзится прямо в нагую плоть. Ибо Эдип не знает ответа.
Меня же тигр вырывает из моей собственной сущности.
Вот уже в течение нескольких лет, каждое воскресенье, в любое время года Матье отправлялся поутру на почтовую станцию на улице д'Анфер и за десять су занимал место в карабасе - длинном экипаже из ивы, курсировавшем между Парижем и Версалем. В зависимости от сезона Матье приезжал туда либо в крапинах дождя, либо белый от пыли.
Во дворце народ теснился, переминался, задирал головы кверху, чтобы получше разглядеть обнаженные фигуры на потолках, и не решался отпускать шуточки, оробев от звучных, как церкви, лестниц, и от вестибюлей в зеркалах и позолоте.
Королевская семья обедала за столом в форме подковы, а в свободном ее пространстве передвигались стольники и виночерпии. Напротив - немая толпа цвета аспида и пепла тупо наблюдала за этим действиями, вдыхая незнакомые ароматы. Выкаченные глаза, утопающие во влаге покрасневшие глаза на потухших лицах, глаза, открытые, как устрицы крошечные глазки-угольки глядели, как король шумно поглощает толстые куски дичи, и, может быть, наивно и тщетно пытались оценить стоимость ваз из вермели и посуды из тонкого фарфора.
Людовик XVI выглядел еще более жирным и обрюзглым, чем на своих изображениях, и ощущалась в нем какая-то смертельная надломленность. Королева - тоже жирная, но с ледяной дородностью статуй - походила лишь на саму себя. Она ела мало и иногда отпивала глоток воды из Виль-д'Аврэ, стараясь не потерять самообладания под этими взглядами.
Матье почти всегда стоял в первом ряду.
Читая историю жреца Цинакана - как тот, будучи приговорен испанцами к казни и ожидая смерти в когтях ягуара, продолжает искать имя, формулу и абсолютную структуру вечности, - Дени наткнулся на фразу:
«А может, формула была начертана на моем собственном лице и целью моих поисков являлся я сам. Тут я вспомнил, что ягуар служил одним из атрибутов Бога...» И Цинакан... «простертый в темноте, позабыв о течении дней, разгадал смысл огненных узоров вселенной на шкуре хищника...»
Дени закрыл сборник Хорхе Луиса Борхеса и, посмотрев на часы, вспомнил, что ему пора выходить. Он зашел в ванную. Столик, охватывающий круглую чашу раковины, был весь заставлен: здесь имелось множество медикаментов для оказания неотложной помощи, масла и мази от всевозможных ожогов, порезов, синяков, увеличивающее зеркало, пинцеты любых размеров, огромный флакон туалетной воды с ароматом липового цвета, а также вата в банке из черного хрусталя. И загадочный талисман - старая розовая ракушка cyprea tigris, прочерченная полосами бистра, истертая морским песком, подобранная на далеком берегу.
Если иррелевантность заданного Эдипу вопроса приговаривала сфинкса к опасному шагу самоуничтожения, то другая загадка, в то же время, вызывала его возрождение и оправдывала непреходящий его характер. Тайны космического принципа женственности сохраняли цельность. Тайны принципа мужественности, впрочем, тоже. Но, обманутый тривиальными аналогиями, человек с самого начала субъективировал понятия тьмы и света, забывая, насколько последний может быть слепящим. Ведя дневной образ жизни и опасаясь мрака, он приписывал тайны природы иллюзорные и относительные значения. Однако этим тайнам он все-таки бросает вызов, пусть даже ценой низведения великих абстрактных принципов до конкретных образов. В непрерывном экзистенциальном поиске, длящемся уже столетия, он пытается раскрыть свою человеческую значимость сквозь муть мифов, разглядывая в оке тигра видящего ночь, ужасное зеркало собственной тьмы.
Моя душа представляется мне толстой бабой, вялой, оплывшей и вонючей. Увлекаемая демонами aпiта теа[24] - с эскортом инфернальных сутенеров и тигровой кошки под зонтиком.
«Donde va тата?» Gоуа fесit[25]...
Они были благоразумны - те, кто в прежние времена отправлялся в дальние странствия, чтобы излечиться от страсти, если только не считать, что всякое путешествие есть лишь предлог приблизиться к ней окольными путями и даже - в значительной степени интуитивно - соединиться с той страстью, чье присутствие мы до тех пор не признавали. Так, подобно личинке в сердечном иле, страсть обитала во мне уже тогда, когда на озере Тоба я слушал, как матрос-батак рассказывает историю о радже Ситуморанге, прозванном Гуру Бабиат, Повелитель Тигра, - чародее с острова Самосир, умевшем вызывать бурю и голыми руками убившего двух напавших на него тигров. Матрос жестами изображал эту легендарную сцену, его длинные руки смыкались в замок на тигрином затылке, длинные кисти выгибались перед мощной грудью, и одновременно он танцевал лицом к лицу с этим врагом, видимым лишь ему одному, - с этим разъяренным тигром, нарисованным в воздухе. Я снова вижу мужчину с трепещущими икрами, - сына каннибала, легковерного друга сказаний - оживляющего и танцующего сказки о Гуру Бабиате, ударяя в палубу ступней и порой издавая отрывистый и хриплый крик в момент усиления схватки.
Но я, уже знакомый с нравами Харимау, не мог поверить в этот рукопашный бой, даже если бы желал тигру победы над чародеем. Я, однако, не хочу сказать, что, если тигр предпочитает бегство, он станет колебаться в плену прутьев и стен, прежде чем броситься на любого, кто поеме войти к нему в клетку...
Матье удивляли все эти источники, скрытые в нем самом, когда, просыпаясь, он обнаруживал порой, что лицо его залито слезами, ляжки перепачканы семенем или даже что всего лишь нить слюны стекает из уголка его рта на соломенный тюфяк. Часто случалось также, что некий толчок резко вырывал его из сна, и он не сразу приходил в себя, леденея в саване испарины. Особенно часто это случалось в те ночи, когда луна выбеливала плитки его комнатушки.
Какая грусть, какое отвращение овладевали мной еще до воцарения тигра в моей душе, когда я узнавал, что негодяи - зачастую в лице махараджей - подстерегали его у источников и ежедневно устраивали облавы на эту легкую добычу, светя прожекторами с бронированных автомобилей или вышек.
Желая все знать о том, кто занимает мои мысли, я не только читаю, но делаю расчеты и заметки, скрупулезно просеиваю все данные о нем, от веса до вероятной продолжительности жизни. Я мог бы также - совсем как художник создает портрет предмета своей любви - описать лишь к собственному удовольствию те способы, которые он употребляет для поисков пищи, его брачные обычаи и долгие дозоры. На это не хватило бы всей моей жизни, которой едва хватает на видения, внушаемые им. Хоть он и нечасто появляется в моих снах, он их населяет, и в ту самую секунду, когда сознание возвращается ко мне, я обнаруживаю его неизменное присутствие. Часы, проведенные в конторе, на улице, в моей библиотеке, за едой и даже среди зыбучих песков сна я проживаю под взглядом его желтого ока.
Только воспоминание о временах года помогает мне установить, насколько хроническими и привычными были ритуалы Бланш. Иногда мне вспоминается ее лицо, обесцвеченное зеленой тенью цветущей бузины, но чаще я вижу ее омытой серым, в холодном свете октября, почти не выросшей, сжимающей двумя пальцами облатку, чей белый цвет тускл и грязен, - портрет-гризайль[26], обрамленный гирляндой осенних цветов, сухие фонарики физалиса, оранжевые розы с закрученными в трубочки лепестками, уже четвертованные насмерть, нечисто-сиреневые толстянки, отцветшие гортензии, мертвенно-бледные астры перед кустами бересклета и рыжий фон потрескавшихся кирпичей, по которому проходит оцинкованная труба, грубо замкнутая чугунным наличником, откуда торчит черный ключ. И эта скованная атмосфера детских дней, не покидавшая нас никогда, даже - и особенно тогда! - когда совершалось святотатство. Вчера я созерцал брюхо вытянувшегося тигра, - этот снег с медовым оттенком, пушистый и теплый, как гнездо, - когда тот вдруг поднял голову. Он посмотрел на меня: неприметный человек стоит перед барьером, ограждающим решетки, сильно сжав металлическую перекладину. Я утонул в тигрином оке. Сначала я наложил свой взгляд на его, я весь прошел в этот взгляд, к этому оку, которое становилось сверкающим пятном, сиянием горящей травы, экраном с бегущими картинками, и затем - лужей, бездонной водяной ямой, куда я упал, погрузился, как камень, всегда, всегда, всегда, всегда...
Бывали моменты, когда Дени, склоняясь над своей странной любовью, чтобы разгадать ее смысл, обнаруживал лишь темное пятно собственного лица. Тогда он винил себя в том, что любит лишь отражение истерзанного Нарцисса, блестящий и искаженный образ самого себя, который он создал. Иногда ему хотелось верить, что его любовь к тигру - всего лишь наваждение, как если бы его опоили приворотным зельем или околдовали и он бы нес ответственность за результат не более чем за какой-нибудь условный рефлекс. Он не знал, как положить конец этим блужданиям души, поскольку, желая избежать излишней строгости, представлявшейся ему неточностью, он в то же время отвергал и терпимость, которую полагал за слабость. Он всегда боялся проявить к себе незаслуженную снисходительность, так и не осознав, что страх этот был запятнан как раз худшим из ее видов: потворством собственной добродетели.
В тот самый момент, когда Матье наклонялся, чтобы подобрать обломок розового мрамора, прожилки которого образовывали вытянутый ромб с чрезвычайно тупыми углами, заключавший в себе полное свое подобие, но меньшего размера, с крошечной царапинкой в основании и торчащим из вершины небольшим, но острым выступом, Шодерло Д Лакло писал в своем Письме 110 от Вальмона к госпоже де Мертей:
«...а я уж не знаю почему - мне теперь нравятся только необычные вещи»[27].
Подбирая камешек, Матье не знал, ни почему он совершал это движение, ни что ему предстояло обнаружить. Он не обнаружил ничего. Вот только узор, образованный минеральными прожилками, показался ему одновременно чуждым и знакомым. Ему казалось, что он знал его всегда, и, хоть он и не ведал почему, узор этот внушал ему одновременно влечение и ужас. Поэтому, не желая ни расстаться с ним, ни увидеть его снова, он спрятал обломок под одной из кровельных пластинок своей комнатушки.
Меня посетила необычная мысль. Узнаёт ли меня тигр? Видит ли он во мне личность? Приятен ли ему мой вид, мой запах?
Рыжий в свете фар линсанг в момент прыжка внезапно отбрасывает всякую индивидуальность - отчетливый и второстепенный, как статист, удаляющийся на поворотном круге сцены. Реальный и пластичный, освещенный a giorno на изумрудном фоне ночных джунглей, он уступает место тигру, который нам так и не показался.
Хоть я и признал эфемерное присутствие линсанга, я вычеркиваю его, изгоняя в небытие тем же жестом, каким извлекаю оттуда тигра. И вот уже не кто иной, как Харимау, пересекает трассу, неожиданно возникнув из-за вмиг выросшей справа скалы, исхлестанной гигантскими папоротниками. От дождя его мех стал коричневым, прилипнув к бокам, как вторая кожа. Он мог бы показаться более поджарым, более угловатым, если бы не ширина его грудной клетки и не внушительный изгиб лба. Одним скачком он уверенно приземляется на все четыре сомкнутые вместе лапы прямо посреди трассы, где каждый камешек, облитый желтым светом, окаймлен твердой маленькой тенью. Визжат тормоза. Фосфорная вспышка мгновенно смывает выражение с горящего яростью ока, пасть распахивается, издавая рычание, подобное клокотанию пара. Судорога пробегает по шкуре, сотрясает жгуты мускулов - и вот уже в долгом и низком движении, с догоняющей его змеей хвоста, Харимау исчезает в громадном всплеске зелени, ныряет, растворяется, смешивается со струящейся листвой лощины, склон которой круто устремляется к ночной реке – его территории охоты и любви.
Иногда Матье спускался к берегам Сены, где местные жители складывали поленницы у стенок набережной. Там, в густой тени дровяных сараев, дававших приют целому народцу красных пауков с липкими нитями, поджидали клиентов шлюхи, различимые поначалу лишь по белизне задранного белья.
Когда ночные девки грубой и опытной рукой прижимали его член к своему влажному животу, чей запах подымался к нему, словно облако тумана, Матье вырывался, в ужасе содрогаясь. Но, слишком захваченный наслаждением, чтобы оставить начатое предприятие, он резко разворачивал ворчавшую для вида потаскуху, и оба они оказывались лицом к сараю с пауками.
Как-то зимним вечером он обнаружил среди девиц Бабетту - переодетого парня, чьи юбки пахли корицей, так как жил он у кондитера. Матье быстро привык к Бабетте, не внушавшей ему никакой тревоги и доставлявшей весьма бурные экстазы. И все же он невольно жалел об отсутствии в ней того, что ужасало его так сильно.
Однажды Бабетта исчезла, и Матье так и не узнал, что с ней сталось. Он погоревал, но подобного опыта не возобновил, несмотря на красивые глаза итальянских детей, приносивших кофе на дом в квартале де Бюси.
В зоопарке, разумеется, много тигров, но тот, о котором я говорю, представляет собой их всех. Он - воплощение тигра.
Его маленький глаз оттенен угольным узором, подчеркнутым странной белой полосой - резкой и, в свою очередь, проборожденной в основании черной, размытой отметиной, расщепляющейся к наклонной линии, которая соединяется с дугой верхнего века. Зрачок сужен, у оранжевой радужки тот же оттенок, что и у лба, и у шершавого бархата носа с горбинкой. И вокруг лика расходятся изогнутые линии, концентрические, словно на воде, словно вокруг лица, проступающего под водой, лица, поглощенного водами, и линии, возникая, дрожат, как вибрации гонга.
В ореоле тумана и комаров, медленными саженками Харимау спускается вниз по течению ночной реки, исчезая в тени прибрежных деревьев и вновь появляясь в белых заводях лунного света. Не знаю, видел ли я его наяву или вообразил в тот момент, когда, выходя из Alas River[28], он отряхивается в облаке алмазных брызг, оставляя на береговом песке отпеча ки лап, похожие на расцветшие пионы.
Уже не раз Дени весьма слепо преисполнялся веры в то, что способен избежать жертвоприношения, мчась вслепую по лабиринту храма, где со всех сторон его подстерегают. Возможно, он смог бы перестать заблуждаться, если бы чуть внимательнее прислушался к этим утробным спазмам, этим волнениям в своем чреве, которые охватывали его, едва он оказывался поблизости от тигра - к симптомам, бывшим лишь предчувствием ужаса.
Королева была причесана «под королеву» по определению Леонара[29], в ее напудренных волосах вилась тесьма с жемчугами, опалами и гематитами и покачивались перья серого страуса. Она была одета в муаровый казакин цвета горлицы, с серебряным сутажом, отделанный тесьмой с опалами. В тот день из украшений она предпочла браслеты и сотуары с жемчугами.
Королева маленькими кусочками ела запеченную рейнскую форель. Время от времени она отпивала глоток воды со льдом.
Тряпье народа, присутствующего на большой трапезе, курилось паром, так как намокло под дождем, лившим за окнами, а в зале было жарко.
Матье смотрел, как ест королева. Он улавливал шум королевских зубов, жесткий механический шум, который, смешиваясь со стуком дождя по стеклам, все нарастал и нарастал, вздымаясь до самых сводов, чтобы наконец заполнить собой Матье подобно вою урагана. Никакой другой звук не мог заглушить эти грозные челюстные ритмы, рокотавшие и скрежетавшие с мощью жерновов, грохотавшие подобно буре. Ему также казалось, что королева стала еще выше ростом, поскольку всякий раз, как он ее видел, она словно бы вырастала в его глазах. И вот она уже касалась прической люстр, а все, кто ее окружал, смотрелись карликами. В такие дни Матье не мог оторвать взгляда от этой пудреной головы, от этих искрящихся минеральных глаз, блеском пронзавших его насквозь, словно копье.
Он с трудом пришел в себя, ощутив, что сосед касается его локтя.
Матье столь же одинок, как и я. Одинок и нелюдим. Если я не испытываю ни малейшего желания, ни малейшей потребности довериться кому бы то ни было, если мне не ведом достойный отклика порыв, причина в том, что мне слишком хорошо знакома та прозрачная, как хрусталь, стена, за которой жестикулируют друзья, и слишком хорошо мне знакомы диалоги глухих. В те редкие разы, когда я предпринимал попытки к общению, я замечал, что меня как будто воспринимают с недоверием и, быть может, даже с отвращением. Никто не нашел нужных слов а я способен на это еще меньше, чем кто-либо другой, поскольку, будучи уязвимым, боюсь дать против себя какое-нибудь грозное оружие.
Поэтому Матье будет похож на меня, отвергнутый, отвергнутый, отвергнутый, как водоросль, выброшенная на берег морем. И значит, вот человек, сведенный к самому себе, абстрагированный от социума, несмотря на то, что делает ему кое-какие видимые уступки. Анахронизм, если таковой имеется. Абсолют анахроничен, вечен.
Возможно, эта манера изображать человека проистекает из недостатка воображения, из своего рода сухости. И, тем не менее, разве всякая вещь во мне не усвоена, не транспонирована, не спроецирована и не идеализирована?
К примеру, как-то ночью, когда я думал о тигре, я вдруг четко увидел, как его силуэт движется по стене моей комнаты: слегка склоненная голова, хребет, переходящий в хвост, тяжелая мягкая поступь. Большая кошка-тень цвета бистра на стене, ясно омытой светом уличного фонаря. Возможно, то был лишь кот, гуляющий по карнизу. А может быть, и нет...
Охранник питал неприязнь к этому упорному посетителю, вперявшему в тигра пристальный взгляд. А случай с обмороком лишь усиливал его подозрительность, утверждая в мысли, что этот человек вынашивает в себе чрезвычайные по силе эмоции и находится во власти чудовищных переживании - без сомнения, запретных. Дени заговорил с ним всего лишь раз и держался при этом несколько уклончиво. Охранник, отвечая на его вопросы, рассказал, что Могулу четыре года, родился он в зоопарке Нью-Дели и в возрасте двадцати месяцев был обменян на две рыси из Китая. Он догадался, что посетитель желал задать ему и другие вопросы, однако удерживал себя от этого. Частота визитов Дени казалась ему поначалу столь подозрительной, что всякий раз он незаметно наблюдал за человеком, неподвижно застывшим у клетки, сжимая перекладину руками. Однако, в конце концов охранник успокоился, убедив себя, что имеет дело с безобидным сумасшедшим. И все же как-то раз, когда глаза их встретились, дьявольский блеск в чужом взоре оживил в его памяти взгляд, брошенный ему некогда соперником юношеских лет. Этот случай оставил в нем неприятный осадок.
Однажды вечером, после того как Бланш во время своего визита ужасно глумилась над облаткой, когда ее богохульства звучали для меня безжалостно до крайности и мне казалось, что ее слова и жесты неминуемо заставят меня взорваться от боли, я обнаружил на своем белье клейкие пятна, приведшие меня в замешательство, поскольку происхождение их было мне неведомо.
Во мне до сих пор живы воспоминания о том зимнем дне, и я вижу Бланш, сидящую на веранде, стекла которой струятся дождем, - напротив меня, по другую сторону плетеного стола, где для нас накрыт полдник. Бланш была одета в коричневое платье с закрытой шеей. Между большим и указательным пальцами левой руки она держала три нанизанные на зубочистку облатки, показывая мне их со смехом. Я никогда не забуду - ее невозможно забыть - жестокость слов, которые она тогда произносила.
Бланш превосходила саму себя по мере того, как росла ее способность к рассуждениям и обогащался словарный запас, и каждая наша новая встреча ранила меня все глубже.
Бледный, потерянный, измученный, я почти не спал и совсем перестал есть. Я предавался умерщвлению плоти и молитвам, для которых был еще мал, но родители, тем не менее, взирали на это с большим одобрением. Я часами размышлял о религиозных орденах, ставивших себе целью искупить нанесенные евхаристии оскорбления, пытался представить, какие добровольные епитимьи были у них в обычае, и все же мне достаточно было увидеть, как входит Бланш, чтобы затрепетать от тайного волнения. Но, в то время как святотатство наполняло меня все более растущим возбуждением, значимость моих искупительных терзаний неуклонно сходила на нет. Как ни тяжки были они для моей плоти, день ото дня они представлялись мне все бесполезнее - да, я приходил к убеждению в их глубокой тщете. Поскольку я был погребен под чудовищным бременем Зла и меня, несомненно, ждало вечное проклятие, единственной моей защитой становилось отвержение этого проклятия. Эта задача была нелегкой ничуть не упростила мои отношения с Бланш.
Между тем, - мне было тогда тринадцать лет - мой отец умер, и мы переехали из Нанта в Париж. Жизнь там для меня была не столь суровой, объяснялось характером моей матери, но воспоминание о Бланш не стало мучить меня даже и после того, как я распрощался с верой.
Он - цвета яри в вечных сумерках леса, с жемчужным отливом на фоне сибирских снегов, оранжевый посреди выжженных трав и раскаленных песков, вплоть до неожиданного оттенка слоновой кости, как у больших тигров с голубыми глазами, населяющих старинный заброшенный дворец Рева. Греза: некий зал, где хлопают двери. Трон обратился в прах, перламутровые розетки украшений осыпаются известковой пылью растения с витыми корнями и широкими листьями проникают в окна вместе с луной. И вдруг - черная тень белого тигра, черная тень на лунной белизне, тень, превращенная в серебро лучом, который теперь озаряет ее анфас, тень, обретающая плотность и объем, снежная в ночи зала, в который она вступила...
Приехав в Версаль, Матье услышал из чьих-то речей, что королева все лето проведет в замке Ля Мюэт и не появится на большой трапезе в течение многих недель. Поначалу, будучи тугодумом, он решил, что недопонял, и вместе с другими направился к залу, где обедал король; но, едва заметив отсутствие королевы на привычном месте, оказался страшно раздосадован, и мысль о том, что он будет лишен ее на протяжении долгой череды воскресений, показалась ему невыносимой. Он почувствовал себя заблудившимся ребенком, собакой, лишившейся хозяина, он не мог постигнуть, что с ним станется без вилки, накалывающей мясо, без руки, - жирной и удлиненной руки, чья прозрачная кожа отливала сиреневым - подносящей вилку ко рту, - унылому пурпурному рту с неизменно выдающейся вперед нижней губой - открывающемуся навстречу мясу, чтобы его съесть. Только это и имело значение в его жалкой жизни, его единственная и неистовая страсть, пусть даже созерцание королевы и будило в нем противоречивые мысли и чувства. Ибо, хоть он и любил смотреть, как ест королева, в то же время он желал, чтобы нечто грандиозное и чудовищное внезапно нарушило церемониал ее трапезы.
В то воскресенье у Матье не было денег на обратный путь, и потому он отправился в Париж пешком. Стоял знойный летний день, и воздух дрожал вокруг пыльных деревьев и раскаленных добела камней. Матье зашагал по дороге безучастно, словно вслепую, тупо ставя одну ногу перед другой и обливаясь потом в толстой шерстяной одежде. Этот переход он совершал не в первый раз, но в тот день ему казалось, что он шага уже целую вечность и будет шагать бесконечно, подобно тому как с незапамятных времен и во веки веков скользил он внутри герметической спирали. В какой-то миг он подумал даже, не является ли его путь под огненной звездой дорогой нового ада, но отбросил эту мысль, так как опыт и рассудок подсказывали ему, что он доберется домой задолго до наступления ночи.
Дойдя до Гренель[30], он сделал остановку в «Золотом Солнце»[31], где вино было недорогим. Зал, пропитанный рыжим туманом и кислым бочковым духом, сплошь заполняли желающие выпить: бродячие торговцы, фигляры с волшебными фонарями, носильщики дров, водоносы, солдаты, нищие и нищенки всех мастей.
Матье сел на край скамьи, сбоку от мужчины, похожего на Геркулеса, с бородой от уха до уха, в женской одежде и с эрекцией под красным платьем. Тот был здесь с группой мясников: колоссов как на подбор, с налитыми кровью глазами, хмельных от шума и вина. Один из них, сидевший напротив Матье, выглядел самым громадным и самым пьяным из всей компании. Рядом с его стаканом покоились кулачищи, огромные, как молоты для забоя скота, а неряшливо распахнутая рубаха открывала бычью грудь в курчавой черной шерсти. Этот мужчина выкрикивал угрозы в адрес королевы и во всеуслышание обвинял ее в любви к женщинам. По временам он загибал пальцы, словно бы для счета, и перечислял имена, которые Матье слышал впервые: Ламбаль, Полиньяк, Виже-Лебрен, Роза Бертен... Его товарищи, и особенно здоровяк в красном платье, одобрительно горланили, заодно с ним изрыгали непристойности и придумывали всевозможные кары.
Жара, голод и гвалт опьяняли Матье сильнее, чем заказанный им кувшинчик вина. Пелена застилала ему глаза. То, что он слышал сейчас, и о чем, так или иначе, давно уже судачил весь народ, представлялось ему чудовищным только из-за кощунственной манеры выражения. Он считал нормальным, что королева обходилась без содействия мужчины, порождая, пожирая и вновь порождая благодаря одной лишь своей божественной воле, или, быть может, даже помимо воли, следуя слепым законам, наподобие тех, что повелевают ритмом приливов.
Этим вечером в инее оконных стекол четко виднелась голова тигра, выгравированная на серебре, оттененная арабесками хрустальных нитей, с инкрустацией из белого перламутра. Его шерстинки впечатались в лед мириадами штрихов, прозрачность пустых полей растекалась из его глаз бесконечными пейзажами, заснеженными далями, где ветвилась легочная филигрань обнаженных серых деревьев. Ультрамариновые тени поднимались из тигриных радужек - краткие вспышки лазури, возникающие нежданно в блеске изумруда, - а на черной чистоте растаявшего геля каким представало стекло, нос вырисовывался с четкостью минерала.
Однако этот лик из заиндевевших трав словно бы трепетал. Диастолы и систолы агонизирующего солнца сообщали ему ритмичность дыхания. Расходящиеся от зрачка к периферии веточки загорались спорадически той быстрой радугой, что вспыхивает на кошачьей шерсти и зеркальных гранях. Но когда я приблизил к окну лицо, весь лик вдруг грозно затрещал, как раскаленное масло, и, мгновенно раздавшись, вырос величиной с небесный свод.
После недолгой сиесты я просыпаюсь исполненный невыразимого счастья, некого избытка, предвосхищающего, похоже, упадок духа. Что-то изменилось. Я не знаю что. Мед зимнего солнца и этот коричневый оттенок - очень твердый серый, бывающий иногда цветом тени - соседствуют в моей комнате в ритме жалюзи: препятствие-свет, препятствие-свет... Стены, мебель и даже потолок перечеркнуты этими мощными полосами. Внезапно я вижу, что они одевают и меня, они меня покрывают, отмечают меня, облекают мое тело, и я понимаю, откуда во мне это блаженство. Fearful symmetry[32]...
Была одна игра, которой Дени часто предавался, развивая в себе умение выходить из того состояния рассеянного оцепенения, что порой охватывало его чувства, а также усиливать сознание собственной подлинности в неповторимом аромате мгновения. Это давалось ему лишь ценой большого усилия, последовательными, но не прогрессирующими напластованиями, ибо каждый новый подъем частично лишь возмещал то, что обесценивалось в предыдущем, а каждый новый рывок - сравнимый с вибрирующим сотрясением гонга после удара - наталкивался на некую загадочную преграду, чтобы затем обратиться вспять.
Это овладение собственной жизнью было чревато как болью, так и опасностью, и все же он усердно им занимался, задерживая внимание на окружающем с единственной целью вернее убедиться в том, что он видит, живет, hic et nunc[33], даже если время ему отмерено скупо. Он старался ухватить ускользавшую от него реальность, поместить понятие вещества в понятие времени - две химеры - и, в особенности, определить свое место по отношению ко вселенной. Он повторял это упражнение, повторял его вновь и вновь, упорный, как проникающий вглубь бурав, как волчок, вихрем крутящийся вокруг своей оси. Наивная и тщетная защита против желания уснуть и глубокой склонности к небытию, в нем живших.
9 августа 1788 года в Версаль прибыли посланцы Типу Саиба, Майсурского Султана, желавшего заручиться содействием Людовика XVI, чтобы оттеснить англичан со своей территории. Проведя ночь в Большом Трианоне, они были торжественно препровождены во дворец, где их принял король. Монархия вспыхнула закатным блеском во время празднеств, данных в их честь.
Среди присланных султаном подарков был исхудавший королевский тигр, сверкавший глазами в глубине слишком узкой клетки.
На вечернем фейерверке у Большого Канала королева предстала в алой бархатной накидке с отделкой из черной синели и в платье-полонез из кремового фая.
Три дня спустя тигра выставили на обозрение в овальном дворе. Зеваки хохотали и строили ему гримасы, будто обезьяне. Матье, весь в ледяной испарине, молча тянулся вверх на цыпочках, чтобы лучше его рассмотреть.
Я неравнодушен к проделкам законов перспективы. Сегодня утром вырезанный из картона человечек, играющий роль Рекламы в витрине торговца красками на улице Сент-Андре-дез-Ар, оказался, по всей очевидности, во власти кота, гигантского тигра. В мое поле зрения попадал сам человечек, ко мне лицом, потрясающий тюбиком какого-то очистителя - смехотворным, несмотря на колоссальный размер оружием, и спина тигра. Человек с глазами-шариками был одет в красно-синий костюм и нелепую шляпу. Он держал свой тюбик в вытянутой руке, и можно было предугадать, что механизм оружия не сработает и огнемет или смертоносный снаряд издаст лишь бурлескное верещание, точно пуская ветры, и брызнет в лучшем случае струйкой воды. Тигр сидя, разглядывал человечка. Он спокойно выжидал, едва заметно пошевеливая кончиком хвоста. Шкура его была светло-коричневой, или скорее, очень темно-бежевой, с легким серым оттенком, как высушенная летним зноем земля. Она была размечена тонкими, не слишком равномерными черными полосками: тут и там внезапно обрываясь, они так и оставались недорисованными. Животное широко расселось на заду и выглядело слегка разжиревшим. Время от времени по его хребту пробегал трепет, и я предполагал, что этот трепет, должно быть, сопровождается весьма красноречивой мимикой, поскольку человечек, как мне казалось, всякий раз вздрагивал.
Погрузившись в созерцание, я не заметил, сколько времени провел перед витриной в ожидании решающей катастрофы, как вдруг продавщица красок, несомненно, заинтригованная моими маневрами, возникла за стеклом, убрала рекламного человечка с его тюбиком, затем с подозрительным видом схватила кота и демонстративно прижала его к груди. Этот собственнический жест она сопроводила полным угрозы взглядом, будто желая показать, что угадала во мне некого опасного похитителя котов, а ее питомец, обернувшись, показал мне наивную белую физиономию с носом в черных пятнах.
Обе грозные старые девы с улицы Добрэ умерли более пятнадцати лет назад, завещав племяннице большой серый дом и скромную сумму денег, которой они располагали. Я узнал, что Бланш так и не вышла замуж. Однажды я написал ей письмо грязного содержания, но она проявила достаточно хитрости и не ответила на него, лишив меня тем самым уверенности, что она его прочла.
Несколько лет спустя, в Париже, одна дальняя родственница, которую я случайно встретил, поделилась со мной новостями. Бланш вела очень уединенную жизнь и не общалась, похоже, ни с кем, кроме ангелов. Ее набожность была чрезвычайной и обращалась более к вершинам внутренней жизни, нежели к делам благотворительности. Почти никогда в них не участвуя, Бланш укрывалась от мира в безмолвии святых часто с видимым рвением подходила к Престолу.
Даже отдалившись от всякой веры - хотя до сих пор я слышу, как Бланш упивается одним лишь словом «престол», - я невольно содрогнулся, узнав эту подробность. В ту пору Бланш на многие месяцы безраздельно завладела моими ночными мыслями. Я представлял ее себе взрослой, одетой, как женщина, или, скорее, как богомолка, но невольно наделял только детским лицом. Я неизменно видел ее бледные щеки с непрозрачной кожей, крупный рот с опущенными уголками, глаза цвета абсента, приподнятые к вискам. Я воображал ее со стиснутой в пальцах булавкой, в комнате с задернутыми шторами, или же слышал, как она дергает цепочку, и смотрел, как вода, закручиваясь воронкой, уносит с собой облатку и экскременты. Именно этот образ, в особенности, производил на меня очень сильное впечатление. Было также и другое видение, без конца посещавшее меня, когда я вступал на хрупкий травяной мостик, связующий явь со сном. В нем уже проступали оттенки сновидения и его безжалостная точность. Облатка цвета грязного тряпья, но объемная и пористая, словно мочалка или сдувшийся мяч, покоилась на глинистой земле, пресыщенной дождем, где тень ее вырисовывалась так же твердо, как и тени, отброшенные некогда в свете фар камешками Лесера. Видя только ее и не замечая ничего из того, что могло ее окружать, я, тем не менее, знал, что ей угрожает чье-то незримое присутствие, знал, что какое-то существо небывалой дикости и мощи сейчас завладеет ею, чтобы растерзать. Эта уверенность причиняла мне колющую, даже невыносимую боль, смешанную, однако, с наслаждением. В конце концов, я задался вопросом, сама ли боль является невыносимой или ее делает таковой наслаждение, но так и не смог найти ответ. Зато я был абсолютно уверен в тождественности, существующей между облаткой - чудовищной и одинокой в жестком свете - и моей собственной персоной. Иногда, мне казалось, я предчувствовал, что в этой тождественности скрыт последний и решающий ключ ко всем одолевавшим меня тревогам.
Матье приснилось, что в нескольких шагах от него стоит Мария-Антуанетта. Она была в чепце торговки и выкрикивала яростные проклятия: он не мог их слышать, но угадывал мерзость слов по безобразным судорогам рта, приоткрывавшего зубы - острее, чем зубья волчьего капкана. С пылающими щеками, напряженной грудью и сверкающими, как серебряные бляхи, глазами, королева осыпала Матье градом неслышных оскорблений, а он стоял перед ней, вызывающе расставив ноги, плотно сжимая руками член, и эякулировал толчками.
Бывали моменты, когда Дени ясно видел все безумие своей страсти. Тогда она представлялась ему абсентом, напитком из живучего и горького растения, но он отбрасывал этот образ - дурного тона, как ему казалось Однако навязчивая идея укоренялась в нем все глубже. Он безотчетно выискивал предметы только оранжевого, белого или черного цветов. Он покупал рисунки, фотографии, плакаты с изображением тигра и развешивал их на стене спальни. Он обнаружил эскиз Делакруа и, хотя тот был ему совсем не по средствам, сразу же его приобрел. Между тем, все эти портреты, в сущности, обманывали его ожидания, так как сходство их не укладывалось в рамки определенной идентичности: тигриной. Тогда Дени принялся сам фотографировать тигра, но даже лучшие его снимки - которые он пристально разглядывал часами - неизменно оставляли в нем гран разочарования. Он не замечал, что его спальня приобретает маниакальный и гротескный вид, и вскоре изображения тигра начали заполнять гостиную.
После того как паванги показали нам тигриную ловушку, я всю ночь не сомкнул глаз. Лежа неподвижно в духоте и мраке, прошитых комариным звоном, я представлял Харимау уже в плену, обезумевшим в тесноте западни. Сегодня ночью меня терзает та же мысль. На улице дождь. В своей клетке зоопарка слышит ли он журчание водостоков? Плеск вдоль крыш воскрешает ли в нем далекий образ вод, воспоминания о зеленой и темной свежести? Аллювии, в которые погружается нога - возникают ли они в его душе, почти забытые, нечеткие, пришедшие черными дорогами атавизма, унаследованные, потерянные, обретенные вновь?.. Одиночество многолико. Одиночество тигра не в его великолепной необщительности, оно - не в возможности повстречать другого тигра, услышать или издать многозначительный рык. В уединении природы он не покинут. Но здесь, в этой камере из бетона и металла, в ночные - жизненные - часы, он один у решетки, и весь его горизонт - плиточный коридор, освещенный синим ночником. Заброшенность. Verlassenheit[34] - вот слово.
Жалость охватывает меня, любовь меня воодушевляет. Быть одному - значит отделиться от самого себя.
Дени хотел бы - невозможное предприятие - спасти тигра от его покинутости. Он страдал, представляя того изгнанником - словно бы на льдине, в обществе одной лишь тени, - но неустанно черпал в этой печали возвышенную любовь.
У одного торговца эстампами с улицы Сент-Андре-дез-Ар Матье увидел изображение, которое долго разглядывал, не в силах разгадать его смысл. То была резцовая гравюра предыдущего века, в стиле амстердамских мастеров, но без имени и названия, так как низ листа был отрезан.
В скалистом пейзаже с кустиками аканта, под тяжелым беспокойным небом, предвещавшим ночь, шла, потрясая факелом, женщина, чье плотное тело было наполовину скрыто разлетами тканей. Необычность обрамления и наклонная светотень чрезвычайно понравились Матье, но особенно заворожила его женщина: короткий нос, мощная челюсть, широкий разрез глаза. Подпав под ее нечеловеческие чары, он не мог отвести взгляда от изображения. Он решился уйти, только заметив, что между двумя висящими эстампами торговец тайком наблюдает за ним из-за окна.
На следующую ночь ему приснился сон. Он видел, как женщина несется по крышам, прыгает между трубами, гонясь за какой-то невидимой добычей. Ее безжалостное лицо казалось опаловым, она вращала глазами жемчужного цвета и размахивала факелом, чей дым наполнял небо сине-черными тучами.
Опаловая прозрачность, ясная непроницаемость когтя, тогда как на самом кончике его объему предстоит истаять из пространства, он уже тает на глазах. Зловещая, вне всякого сомнения, игрушка, смертельная марионетка на конце сухожилия, лезвие цвета перламутра - жидкого, но готового брызнуть искрой, - и насколько же более компактное, более плотское, чем любое известное оружие. И, орошаемый соком палисандров, драцен, розовых и фиалковых деревьев, на задних лапах посреди ламбрекенов из лиан - в геральдической позе, вооруженный и камчатный, словно великолепный герб - Харимау точит его о кору, отдирая ее в размашистом ритме.
Зуб - еще более плотный, менее хрупкий, тяжелый, как окаменелость на дне источника - весьма старинная вещь, будто вышедшая из ила и песков. Зуб подготавливает кровь, что перейдет в другую кровь, он - великий чародей и зачинатель высших метаморфоз.
Вчера вечером, когда я уже скользил в сонные дали, мне явилось некое лицо, едва выступавшее из мрака. Это было женское лицо с большими серебряными глазами, плачущее ртутными слезами, которые катились по щекам из черной бронзы. Это ужасное лицо заговорило на неведомом языке. Речь шла об оракуле, о каком-то послании, смысл которого я не мог уловить. Слезы растеклись во всех направлениях, оставив полосы и бороздки, и вдруг все лицо стало негативом, обратившись в позолоченное серебро, по которому бежали темные кильватерные струи. Рот удлинился и стал тонким, выгнувшись книзу, а нос в это время уплощался в треугольник между двумя дорожками почернее, спускавшимися от слезника и словно бы еще влажным. Приподнятый к виску глаз, зеленый лесной орех, полный грусти и беспокойства, светился ярким огнем. Его зрачок образовывал выпуклое зеркало наподобие тех, в которые, словно в оптическую ловушку, маньеристы эпохи Возрождения любили заключать идеальные комнаты, искусные портреты. И в этом зеркале я видел свой отраженный образ, видел себя самого, себя одного в центре отделанной плиткой комнаты, куда падал косой жесткий свет. Слева начиналось подобие коридора, словно бы вогнутого, где изгибались параллельно друг другу вертикальные линии, а за ними я угадывал смутное оживление второстепенных фигур - может быть, им было любопытно, что готовилось здесь свершиться.
Я двигался вперед, это точно был я, с непокрытой головой, одетый в плащ поверх темного костюма. Мое лицо было очень спокойным, я отчетливо его видел, и внезапно оно показалось мне чистым, словно омытый морем песок. Правую руку я держал в кармане дождевика, сжав ею предмет, который мог быть ключом. Я шагал к своей цели, я видел свое приближение в выпуклом зеркале. Впервые в жизни я ощущал себя поистине легким, поистине счастливым...
Как-то раз, стоя перед Бланш, я задался вопросом, что же может ощущать облатка, чья природа от Бога, но, несомненно, и от человека, попытался вообразить невообразимое, возвысить до апокалиптических вершин девчоночью руку. Костлявая девчоночья рука: каждый сустав морщит, словно губы складочками, гримаска, ногти короткие - вероятно, обгрызенные, - насыщенные тайными субстратами, серым колером таинственной грязи, жесткая горячая ладонь - исчерченная какими будущими дорогами, какими бороздами? - и тыльная сторона, где змеится кровяная сетка, заключенная в лазурную оболочку. Рука Бланш, сплошь отягченная ее жизнью, ее существом, ее волей. И облатка, отданная ей во власть, чувствующая на себе - каким невыразимым посредством, какой божественной интуицией? - эпидермис Бланш. Но это лишь фантазмы, это лишь минувшие фантазмы детских дней...
- Смотри, Дени! Смотри же! - выкрикивала она, пронзая облатку с мясницким хаканьем. И я - с дрожащими коленями, с залитым слезами лицом: - Нет! Нет!., однако весь обращаясь во взгляд, внимая раскатам потока ругательств. Я ждал великого чуда: как если бы облатка вдруг испустила стон или ангел мщения обрушился на нас с небес.
Позже, когда я прочел в «Жюстине» о том, как во время черной мессы монах Амбруаз хватает облатку, едва лишь она становится телом Христовым и in anum filiae immitit[35], или в «Жюльетте» - как в базилике Святого Петра в Риме при подобных обстоятельствах hostia in pene papae posita postea ano filiae inseritur[36], я пожалел, что Бланш, повзрослев, не нашла себе достойных компаньонов.
Во время бритья Дени неожиданно вспомнилась статуэтка, найденная на острове Кипр - изображение бородатой Венеры, с внешностью мужчины, но в женских одеждах. Сам не зная почему, он почувствовал от этой мысли наслаждение, но едва его осознав, упрекнул себя - впрочем, слишком вяло - в том, что некоторые сомнительные утехи ума не встречают с его стороны достаточно сурового контроля.
Я не думаю, что жертва может испытать большее наслаждение, принося себя в дар божеству, чем в ту самую секунду, когда хрустнет шея, Раздробленная слоновой костью клыков, когда, прощаясь с жизнью, приношение познает еще на один краткий миг бархатистое тепло объемлющей его шкуры, вес и эластичность сокрушающих его мускулов, великолепный запах мускуса и красной плоти, лишающий его дыхания. Тогда луна забирает ей принадлежащее, проглатывая добычу, чтобы извергнуть ее - через сколько тысячелетий?
Но несказанный миг жертвоприношения...
Хотя в тот день он почувствовал, что сердце его словно пронзила стрела - и любой другой образ был бы неточным, - в миг, когда его взгляд встретился со взором тигра, Дени, расставаясь с ним, ощутил нечто вроде тайного облегчения. Он вернулся домой по набережным, быстрым шагом, удивляясь внезапной веселости и бездумно радуясь этой ходьбе вдоль залитой солнцем реки. Он, конечно, знал, что не освободился ни от своей страсти, ни от страдания и они возвратятся к нему, безжалостные и неотступные, но говорил себе в то же время, что в конечном счете они неминуемо износятся и обратятся в ничто. Он пытался, не слишком все же в это веря, вообразить будущий покой - неизвестно, далекий ли, близкий, - представляя его ощущением пустоты и легкости, как после жара, спадающего на рассвете.
Но еще до того, как опустилась ночь, он как никогда остро почувствовал себя в ловушке. Тот конец, который он смутно предвидел, сильно отличался от образа, убаюкавшего его днем.
Растворяющее действие взгляда. Я хочу сказать об этом разрушительном явлении, исподволь подтачивающем объект, к которому мы привязываемся, и - от наблюдения к анализу, от размышления к созерцанию - в конце концов его уничтожающем. Перенесенное лучом взгляда, а может быть, даже мыслью, некое таинственное зло истощает и разъедает сущность предмета любви.
О, как я этого не хочу! Но разве не готов у нас вечно какой-нибудь предлог, будь то всего лишь желание познать хотя бы форму и цвет сознательно выбранной мишени, конечной цели - пусть даже временной и относительной? Однако, если забыть обо всех отговорках, эта кощунственная агрессия моего собственного взгляда - жаждущего, внимательного, жадно впивающего обожаемый образ - не оставляет мне никакой отсрочки. Из этого нужно сделать вывод, и потому я ограничу себя и буду ходить смотреть на тигра не чаще, чем один или два раза в неделю - жертва, причиняющая мне боль и наполняющая меня восторгом. Ибо даже божества смертны...
На сей раз в профиль.
Белокурый и плоский - в прохладных тонах, которыми наделил его Такеучи Сейхо. Ах, и чуть ли не бесплотность под мягко спадающими туманными бакенбардами - райскими птицами, юбками. Глаз - остроконечный треугольник, чья нижняя линия следует единым потоком за величественным изгибом носа с горбинкой, как у конской головы, и растушевывается наконец в нежном жаре отвислых губ с пунктиром рябинок от только что дрогнувших усов. И на виске - оттенок словно бы ириса.
Вот изображение, перед которым я чувствую себя более уязвимым и более обнаженным, чем яйцо с хрупкой скорлупой.
Зеваки, пришедшие поглазеть на большую трапезу, рассказывали в тот день, что видели сквозь ограду заснеженного парка королеву - она забавлялась катанием на коньках меньше чем за два часа до торжественного обеда. Какой-то человек, совершенно беззубый и непрерывно сотрясаемый нервной дрожью, в сотый раз описывал, что на ней были широкий плащ и муфта из светлого меха - рысьего, надо полагать - и скользила она по льду «с дьявольской скоростью...».
Она появилась за королевским столом в пышном светло-лазурном платье с фижмами, расшитыми стеклянными цветами из хрустального бисера, и с отделкой из букетиков белладонны по всему полю. Волосы королевы в серебристой пудре были причесаны «под Артемиду» и увенчаны бриллиантовым полумесяцем.
Посмотрев на обед королевы и уже выходя из дворца, Матье сообразил, что до отправления карабаса у него еще много времени. Он углубился в незнакомые ему малолюдные улочки и, вынув из кармана краюху хлеба, принялся есть ее на ходу.
Однако, пока он ел и его слюна смешивалась с хлебом, хлеб становился Матье, а Матье становился хлебом. Он жевал сам себя, свою собственную плоть, свое одиночество, свое отчаявшееся сердце. И все-таки, превратившись в хлеб, он ощущал себя легче, больше, даже необъятным - как серое небо. Бесконечным. Бесконечным, но в то же время ограниченным этим хлебом, который он жевал и будет жевать во веки веков.
Снег под ногами был мягким, воздух - теплым. Матье шагал по пустынной улице, шагал по пустыне. Проходя мимо какого-то павильона, он заметил, что на него смотрят два сфинкса, две фигуры с прической «а l’Enfant»[37], скрючившие когти на пьедестале балюстрады, по обе стороны крыльца. Снег набросил им на круп чепраки, улегся гусеницей на длинных, прижатых к боку хвостах.
Сфинксы пристально глядели на Матье мертвенно-бледными, исполненными суровости глазами, и ему даже казалось, что он видит, как нервно морщится тонкий штрих, которым скульптор обозначил брови.
Внезапно Матье заметил кусок хлеба во рту одного из сфинксов - мраморные зубы сомкнулись на коричневой корке, готовые ее раздробить. Он не ведал, как этот хлеб там оказался, кто положил его в пожирающий рот и для какой жертвы было свершено приготовление.
Я не знаю, к какому исходу приводит Матье его страсть, не знаю, направить ли его, словно пешку, - какими дорогами фатума? - или даровать ему - жестокий каприз - некий шанс на спасение. Потому что можно ведь задаться множеством вопросов относительно длительности и завершения этих абсурдных поприщ, заранее вписанных в ритмы жизни, гротескно прочерченных на схеме невероятных вечностей. Каковы законы вдохновения, выдыхания и еще более неясные законы затаенного дыхания? И почему даже опьянение, охватившее меня и столь долго не отпускавшее, должно продлиться до самого моего конца? Отчего эта любовь, это желание принести дар?.. О, это желание кажется мне чрезвычайно земным, оно напоминает мне об окольных путях, ведущих к либидо, о благородных порывах, чья цель - финальный спазм, обретение покоя в этом следе слизняка. Нет любви без цели, нет цели без возможности достижения, всякая смерть вложена в другую на манер матрешки - скрытое разрушение, приближение вслепую к пропастям небытия. Должно быть, моя склонность к символам сыграла со мной этот фокус, долгое одиночество вывело меня из строя. Не из-за чего было сходить с ума, и все прошло, я полагаю.
Я перевожу дыхание. Я изучаю себя. Если мысль о тигре не доставляет мне больше ни радости, ни боли, я чувствую себя обездоленным, словно у высохшего источника. Волнение, так долго бывшее моим и насыщавшее каждый миг, тает, как облако.
Это новое состояние овладело мной весьма нежданно, когда, во время последнего визита к тигру, я вдруг почувствовал: до сих пор мое воображение столь обильно пожинало все мыслимые ощущения, что других просто не осталось. Совсем никаких. Чего я ждал?.. Ничего в итоге, и даже это было слишком.
Никогда еще жизнь не казалась мне столь тусклой. Кто утверждает что, даже погаснув, звезды продолжают светиться? - Моя пустота чиста и холодна.
Я думаю, Бланш, должно быть, часто оказывалась застигнутой врасплох и подводила самое себя, поскольку ей приходилось беспрерывно и неустанно варьировать и обогащать богохульства, постоянно придумывать новые оскорбления и новые муки для этой высшей жертвы, которая, не способная от нее ускользнуть или однажды перед ней не предстать, все же являла ей лишь ускользающий профиль слишком уж переносного воплощения. В какой-то момент Бланш должна была испытать отчаяние, оттого что под рукой у нее всего лишь этот сероватый кругляшок и невозможно ни встретить взгляд, ни увидеть текущие слезы. Во всем этом была некая монотонность, ограниченность, связанная, с одной стороны, с хрупкостью Святых Даров, а с другой, - с одиночеством Бланш, с человеческой немощью.
Много раз я спрашивал себя, думает ли она обо мне так же часто, как я думаю о ней.
Дени провел все лето и начало осени в спокойствии, больше походившем на оцепенение. Как-то вечером он даже решился снять со стен все изображения тигров и убрал их на чердак - меланхолично, как закрывают ящик с любовными письмами. Он и не думал поздравлять себя с обретением душевного покоя, которого вот уже несколько месяцев так ждал. Сумрачную печаль испытывал он от необходимости положить конец тому, что так долго, так быстротечно было самым средоточием его жизни, от ощущения, что его любовь удаляется от него, как море отступает от берега, оставляя все же после себя горстку диковин. Но были и другие дни, когда он мучился злобой, оттого что его собственная потребность страдать так на нем отразилась.
«В одном первобытном индийском племени, у женщины, жившей среди тигров, были зубы... попытку его соблазнить... поедала, отдавая тиграм остатки тела...»
Не успеваю я прочитать этот текст, взятый из сомнительного источника и обнаруженный мной в неинтересной книге, которую я случайно открыл на набережной[38], как солнце чернеет. Что-то вспыхивает в моей голове.
Я вернулся домой во власти смутной, но невыносимой тревоги. Мне никак не удается распознать причину моего беспокойства.
Опять все начинается сначала. Тщетно я раздумывал, не переменить ли мне жизнь, чтобы отдалить ужасный лик. Я даже вообразил себя живущим в сторожке на каком-нибудь заброшенном сельском кладбище где я разбил бы сад. Я уже представлял себе летние вечера и блуждающие огоньки, пробегающие между стелами, когда луна отбрасывает на белую стену тень от ограды. Тень перекладин, да, будто я все еще там...
У тигра новый охранник - молодой, симпатичный мужчина со спокойными жестами. И все-таки я ненавижу его так, как если бы он был каким-нибудь грубияном, и спрашиваю себя, в силу ли привычки демонстрирует ему тигр свое блаженство и только ли взгляд жидкого янтаря... Я не решаюсь обратиться с расспросами к охраннику, ревность блестит, как ртуть.
И потом, есть еще понятие публики и ее грязных взглядов, проявление гнусности и кощунства, от которых меня тошнит. Я вижу багровые лица воскресных посетителей, их глаза и глотки, разинутые в гротескном церемониале, слышу голоса, неизменно отвратительные и всегда неуместные. Но особую неприязнь вызывает у меня охранник - избранник, подметающий испражнения, приносящий воду и свежую плоть, верный хранитель ключа.
Тигр спал, повернувшись спиной к решетке. Он спал, как спит река или гора, чуть заметно подрагивая, затерянный в глубоких отзвуках своего эха. Мне казалось, я слышу его вдохи и выдохи, дыхание небосвода.
Я долго простоял там, созерцая его сон. Я был один, потому что знаю, в какие дни и часы зоосад бывает пуст.
Матье часто видел в районе Гранз Огюстен[39] торговку печеными грушами - он знал ее много лет, и за это время она ни капли не изменилась. В молодости она присутствовала на казни Дамьена и до сих пор любила рассказывать об этом во всех подробностях.
Это было в конце дня - оставшись один в гравировальной мастерской, Матье управлялся с прессом, как вдруг, подняв глаза, заметил сквозь оконные стекла ковылявшую прочь старуху. Он подумал о ее рассказах, потом, воскресив в памяти собственные поездки в Версаль и тот оборот» который вещи принимали в его сознании, на краткий миг задался вопросом, в какой мере казнь Дамьена могла бы послужить ему ужасным уроком. Вскоре ему предстояло забыть, что он себя об этом спросил. Когда наступило воскресенье, Матье оделся с особой тщательностью и, взяв с собой...
В глубине ящика обнаружился блокнот, а в нем - очень давно записанные мною слова Хуана де ла Круса: «Мой путь - бегство».
Death-wish[40]...
Вчера, на улице Ля Боэси я остановился как вкопанный перед витриной магазина Ревийон. Среди пелерин и накидок из голубого песца лежала громадная тигровая шкура, сплошь закрывавшая собой весь выставочный помост. В этом уменьшенном виде – pars pro toto[41] - тигр дожидался, пока я пройду мимо, - если только не сам я, скитаясь от ожидания к надежде, отыскал ведущий к нему путь.
Никогда не видел я ничего прекраснее этого снежно-золотого меха, никогда еще не казался мне столь значительным узор - ключ ко всем загадкам. Эта шкура была предназначена мне, и, свернувшись среди ее грозных ласк, я должен был раствориться, исчезнуть в слезах и в смерти. Итак, именно здесь, как жрецу Цинакану, мне предстояло найти ответ на все мои вопросы.
Я набрался смелости и толкнул дверь, меня обдало парфюмерной волной, и в ту же секунду девушка с платиновыми волосами, затянутая в крошечное черное платье, спросила меня с механической улыбкой проститутки, что я желаю.
- Ту тигровую шкуру...
- Бенгальского тигра...
- Я хотел бы ее купить...
- О, но она не продается, мсье. Это часть оформления...
Смутившись под взглядом продавщицы, я не нашел в себе мужества настоять на своем. Однако надменность, с которой она воспротивилась моей просьбе, внезапно наполнила меня невыразимым счастьем. Не он должен быть моим, сказал я себе, выходя из магазина, но я должен принадлежать ему. Это знак. Покупка священной шкуры - и только она - стала бы единственным непростительным кощунством чудовищной подменой субъекта объектом. Какой умилостивительной жертвой, каким приношением следовало теперь искупить эту мысль?
Я вернулся домой пешком, смутно угадывая вокруг себя шум машин и сияние огней. Мне казалось, что тигр шагает справа от меня, я словно бы чувствовал, как от него струится ко мне тепло, проникая сквозь одежду. Я едва касался земли.
Сейчас этот экстаз прошел. Я очень спокоен. История Моберти, облачившегося в тигровую шкуру, чтобы растерзать Дзанетти, неожиданно приходит мне на память, причиняя страдание. Нет, пусть ничто ужасное не смущает мои мысли, ибо триумфальное жертвоприношение должно иметь лик простой и чистый, как мох или трава.
Я составил завещание в пользу Бланш.
Дени привел все свои дела в порядок. Целый вечер ушел у него на сжигание писем и написание новых. От бесповоротности, заключенной в этой процедуре, у него сжималось сердце. Между тем, огромная радость и возбуждение, порожденные принятым решением, упорно отвоевывали его у черного страха, который поднимался в нем, как прилив, нещадно затопляя нутро.
Около двух часов ночи, сидя в большом кресле с «ушками», он попытался подвести итог своей жизни, охарактеризовать ее, присвоить ей этикетку, поймать ее - крошечную в его сжатой руке - с жестокостью птицелова, с алчностью скупца. Все было хорошо так, как было, сказал он себе. Моя жизнь стоила труда быть прожитой, какой бы скверный ни выпал опыт. Он думал так без глубокого убеждения, мысли были поверхностными, словно давно знакомый урок, заученный наизусть. В самой глубине его души открывалось окно, за которым он угадывал белую пустынную дорогу, бесформенную равнину - пейзаж его жизни. Теперь весь смысл его существования, его единственное значение, единственная его свобода перенеслись к действию, которое он собирался свершить. К одному искуплению.
На рассвете он выпил немного чая, и это его успокоило. Внезапно в нем осталась одна лишь радость, словно перед отъездом в дальние края, в долгое путешествие. Он почувствовал себя так бодро, что захотел добавить еще несколько строк в дневник, который до сих пор вел.
Утро понедельника, и на улице дождь - значит, в зоопарке никого. Я вижу все наперед, я уже знаю все эпизоды фильма.
Те охранники, которые не заняты поддержанием порядка, как раз отправились на склад за кормом и всем необходимым. Затянутый коричневым брезентом грузовичок, возвращаясь с боен, выруливает в служебный въезд, но я-то знаю, что, по соображениям гигиены, понедельник для крупных хищников назначен днем еженедельного голодания. Омытый дождем, цемент выглядит почти черным. Песок, тихонько потрескивая, впитывает воду. Подходя к корпусу хищников, я замечаю со спины мужчину в синем - он шагает прочь, толкая тележку. Кладовка открыта. Я уже заслышал громкое пробуждение кухни, шум которого наполняет мне уши. Он оглушителен, но пунктуален. Я проверяю время по наручным часам - точным часам пуританина. И правда, семь минут десятого. Предполагаю, что к четверти десятого все закончится. Я протягиваю руку к крюку на перегородке. Ключ в очередной - последний - раз оживляет в моей памяти образ Бланш, стоящей возле кирпичной стены, и оцинкованную трубу водозабора. Да, ключ тот же самый. Я выхожу из чулана, мельком взглянув на старый телефонный аппарат, на трубку, которую человек в синем скоро сорвет, заикаясь от волнения. Скверная для него история. Я вступаю в знакомый плиточный коридор, пахнущий дезинфекцией и мочой. Снедаемые любопытством маленькие гиены, приходящие в возбуждение всякий раз, когда я здесь прохожу, провожают меня глазами. Пантера трется о прутья. Мне вспоминается сон - уже далекий, как моя жизнь:
Тигр сидит ко мне лицом. Тигр во всем Величии. Он был терпелив - с тех самых пор, как завязалась эта связь, объединяющая нас. А я, не зная точно, чего я жду, прожил бы всю свою жизнь, вечно ожидая, что некое потрясающее событие вдруг перевернет ее строй. Теперь я знаю исход этого ожидания, четкую точку, в которой место назначения смыкается с судьбой. Да, все это продлилось, должно быть, очень долго.
Тигр не играет со своей добычей, а одним ударом ломает ей шейные позвонки. Никогда до сих пор я не видел такого выражения в его Желтом глазе - подобие тайной нежности. Отказа не будет, я чувствую это. - Я приближаюсь к клетке. Другого исхода нет. Возвращение к истокам. Поскольку все разыграется именно так, точно, неотвратимо...
Дени закрыл отныне бесполезную тетрадь, когда его наручные часы показывали десять минут девятого. Он положил приготовленные письма на самом виду - в спальне на столе - и вышел.
Когда Дени переходил улицу Кардиналь-Лемуан, направляясь к стоянке такси, его сбил быстро мчавшийся велосипедист. Ехавший сзади большой фургон мясника резко затормозил, но сразу остановиться не смог. К тому времени, как приехала полиция и «скорая помощь», шоферы уже извлекли тело. Они накрыли его брезентом, из-под которого торчала одна кисть - худая, восковая, раскрытая, словно навстречу фрукту. Дождь, потоками ливший на шоссе, размывал кровь и мозг, относил их к ручьям и, через ночь клоак, - к рекам, к черным океанам, где бело светится большое лунное око.
МЫ НЕ СОЗДАНЫ ДЛЯ ДОБРОДЕТЕЛИ (Габриэль Витткоп отвечает на вопросы Ф. Дюбуа)
Фелиция Дюбуа: Вы утверждаете, что не верите в Бога, но в «Страстном пуританине» я вижу впечатляющую анаморфозу христианского Откровения. Ваш текст проясняет тайну воплощения, сообщая картинку-перевертыш пресуществления: Матье ест хлеб, зуб тигра разрывает плоть, и Бланш насыщается облаткой... Нужно быть верующим, чтобы проникнуться вкусом святотатства! А может, вы атеистка-мистик?
Габриэль Витткоп: Вовсе нет. Атеисты-мистики - это, например, марксисты, которых я терпеть не могу. Марксизм - религия без Бога, но все же это религия.
Ф.Д.: Материалистическая.
Г.В.: Извращенный материализм, не забудьте. Материализм, готовый к жертвам: живите плохо, ешьте впроголодь, носите лохмотья, и ваши дети заживут хорошо!
Ф.Д.: Светлое будущее - обещание рая вне этого мира или вне Истории!
Г.В.: Все марксисты, которых я знала, были мещанами и страшными пуританами. Зато анархисты, с которыми мне довелось свести знакомство, принадлежали к радикально противоположным кругам: одни были разнорабочими, другие - выходцами из русского высшего общества. Их всех объединяло одно: громадная щедрость сердца. Благородство сердца, какого нигде больше не найдешь. Подлинный анархизм основан на утопии: человек хорош - так хорош, что не нуждается ни в полиции, ни в армии, ни в чем-либо подобном. Люди, верившие в это судили по себе: они-то были хорошими! Вот вам и ошибка... Ошибка, которую еще Монтень допустил, утверждая, что знает людей, если знает себя самого. Да нет же! Достаточно вспомнить, что Монтень написал это в эпоху религиозных войн, будучи свидетелем чудовищных ужасов, не миновавших и его замка!
Ф.Д.: Внушает ли вам человечество веру?
Г.В.: Нет, абсолютно не внушает. Голая обезьяна пилит сук, на котором сидит. Долго это не продлится. Мне-то наплевать. Но продолжайте плодить детей! У вас есть ребенок?
Ф.Д.: Нет, я на службе у трех котов.
Г.В.: А! Как мило! Обожаю животных. В такой же степени мне противны дети и куклы... Говоря о куклах - когда я была маленькая, я выкалывала им глаза и топтала их. А вот животных прижимала к сердцу. Потому я и не ем мяса. Но вы содрогнетесь, если я вам скажу что я... фетишистка мехов.
Ф.Д.: Но вам известно, каким образом...
Г.В.: О! Я ведь чувствую себя ужасно виноватой! Я жестоко мучаюсь чувством вины, но, что поделать, фетишизм всегда предполагает боль. У меня эта боль от чувства вины.
Ф.Д.: Вы опережаете мое перо, когда пишете: «Я же никогда не был похож на себя. Я хочу сказать: я - инородное тело, в истинном смысле этого слова, в двусмысленном его звучании, в многообразном значений» - Какие эмоции, какие чувства, наконец какие сны вдохновили вас на эти две фразы?
Г.В.: Я всегда ощущала себя отличной от других. И не только от других, но порой и от себя самой. Как сказал Рембо: Я есть другой. Это ключ, не отмыкающий ни одну дверь. За исключением двери смерти. Тогда, возможно, мы что-то узнаем...
Ф.Д.: Любопытное отношение...
Г.В.: Конечно, а как же! Жизнь, лишенная любопытства, была бы невыносимой и даже немыслимой.
Ф.Д.: Вы пишете: «Химера никогда не приходит к нам через врата свобод». Не могли бы вы развить эту мысль?
Г.В.: Химера - это невозможное, фантазм, воображение. Что касается меня, то она рождается из морального или физического запрета.
Ф.Д.: Я цитирую: «Все любови - уходящие, убегающие линии - параллельны, так как встретиться им никогда не дано». Мне страшно это понять... вы не объясните?
Г.В.: Каждое существо испытывает эту ностальгию по любви, разделенной в равной мере, но такого не существует. Или же есть только Бог... Или ничего!
Ф.Д.: Поскольку Матье - это персонаж, придуманный страстным пуританином Дени, вы намечаете последующую рекурсивность: «если бы Матье - который сделать этого не может - писал бы, в свою очередь, Роман или дневник о человеке, сочиняющем историю другого персонажа, который был бы создателем следующего по счету героя, никакая логика не помешала бы этой цепочке удлиняться вечно, и образ зеркал мог бы тогда множиться до бесконечности. Но есть одно препятствие: тигр».
Сразу же возникает мысль о Хорхе Луисе Борхесе: из-за рекурсивной повествовательной перспективы и из-за колдовского воздействия этого плотоядного млекопитающего.
Г.В.: Я об этом не думала. По правде говоря, с творчеством Борхеса я знакома не очень хорошо.
Ф.Д.: Мне известны только два автора, которых настолько завораживает тигр: это вы и Борхес.
Г.В.: Этого я не знала.
Ф.Д.: Добродетель, по-вашему, не что иное, как незаслуженная снисходительность?
Г.В.: Мы не созданы для добродетели.
Ф.Д.: Думаете ли вы, что можно уважительно относиться друг к другу, не будучи добродетельными?
Г.В.: Безусловно! На этом и основано мое поведение. Меня упрекают в эгоизме, потому что я против детей, но я считаю такой эгоизм бесконечно менее опасным, чем эгоизм женщин, уверенных, что они имеют право на все, раз опростались ребенком. Я, конечно, эгоистка, но я всегда отвечаю любезностью на любезность. Я всегда стараюсь закрывать двери бесшумно, не распространять дурных запахов... Есть люди, которых это не заботит.
Ф.Д.: Вы пишете: «Правда - это часть речи, обойденная молчанием».
Г.В.: Эта фраза определила всю мою жизнь и мое товарищество с Юстусом Витткопом.
Ф.Д.: Вы считаете это достойным сожаления?
Г.В.: Нет, это фактическое положение дел.
Ф.Д.: В интервью, которое вы дали Жерому Гарсэну, вы сказали: «Я сорок лет прожила с мужчиной, который предоставлял мне полную свободу и с которым у меня было такое взаимопонимание, что мы могли рассказывать друг другу о своих любовных приключениях. Но он ставил одно условие: мои садистские наклонности должны оставаться тайной, мужественные и декадентские черты моей натуры никак не должны проявляться в нашей общественной жизни...»
Г.В.: Не забудьте: мой муж родился в 1899 году! Он был очень раскрепощенным, но... Давайте закажем еще вина: одного маленького бокала маловато.
Ф.Д.: С удовольствием.
Г.В.: Юстус желал соблюсти известные приличия.
1
Быстро охлажденные в холодной воде капли расплавленного стекла, имеющие продолговатую, заостренную с одного конца форму. При надломе распадаются на мелкие кусочки.
(обратно)2
Мусульманская святыня, хранящаяся в Мекке, в храме Кааба, объект паломничества; считается, что этот камень послан Аллахом.
(обратно)3
«Благословите» (лат.) - католическая молитва, читаемая перед едой.
(обратно)4
«Ярко, как днём» (ит.).
(обратно)5
«Трубный голос дивным звоном/Грозно грянет к погребенным...» (лат.) - отрывок из католической заупокойной молитвы Requiem. Перевод М. Гаспарова.
(обратно)6
Крупные медузоподобные морские животные типа кишечнополостных
(обратно)7
«Тотемический символ животного в атавистическом мировосприятии» (нем.)
(обратно)8
Начало молитвы Святого Бернарда Деве Марии
(обратно)9
Остатки галло-римского цирка I-II вв. на территории Парижа
(обратно)10
«Тьма в зеркале» (нем.)
(обратно)11
Ш. Леконт де Лиль, «Бхагават» (сб. «Античные стихотворения»). Перевод О. Гришиной
(обратно)12
Безвыходность, безысходность (нем.)
(обратно)13
Людоед (англ.)
(обратно)14
Индонезийское название тигра, panthera tigris
(обратно)15
Гора на Суматре, часть национального заповедника Индонезии
(обратно)16
Стихотворение Ш. Бодлера из сборника «Цветы зла».
(обратно)17
Престижный жилой квартал Парижа.
(обратно)18
Метро
(обратно)19
Вращающееся цилиндрическое устройство в стене приюта или монастыря, внутри которого можно было анонимно оставить младенца.
(обратно)20
«Тело Господа Нашего» (лат.)
(обратно)21
«во веки веков» (лат.)
(обратно)22
«О любовь, всегда пылающая и никогда не гаснущая, зажги меня своим огнем» (лат.) - видоизмененная цитата из «Исповеди» Аврелия Августина (X, 29, 40).
(обратно)23
Открытая для народа королевская трапеза, учрежденная Людовиком XIV, на которой присутствовали его супруга, дети и внуки. Малую трапезу король вкушал один.
(обратно)24
«Душа моя» (лат.)
(обратно)25
«Куда направляется маменька?» (исп.) Выполнил Гойя (лат).
(обратно)26
Вид декоративной живописи, выполняемой в разных оттенках какого-либо одного цвета (чаще серого).
(обратно)27
Ш. Де Лакло, «Опасные связи». Перевод Н. Рыковой.
(обратно)28
Река Алас (англ.)
(обратно)29
Леонар Боляр – придворный парикмахер Марии-Антуанетты
(обратно)30
Деревушка рядом с Парижем, в 1830 г. ставшая отдельной коммуной, а в 1860 г. - частью XV округа.
(обратно)31
Таверна «Золотое солнце» на улице Вожирар стала одним из центров подготовки неудавшегося восстания 8 сентября 1796 г. против Директории.
(обратно)32
Отрывок из стихотворения У. Блейка «Тигр»; буквально «ужасная симметрия» (англ.).
(обратно)33
«Здесь и сейчас» (лат.)
(обратно)34
Заброшенность, одиночество, покинутость, (нем.)
(обратно)35
«Засовывает в анус дщери» (лат.)
(обратно)36
«Облатка, положенная на пенис Папы, вводится в анус дщери» (лат.)
(обратно)37
«под ребенка» (фр.) - вид прически, вошедшей в моду в XVII в.
(обратно)38
Имеются в виду лотки букинистов на набережной Сены.
(обратно)39
Набережная и улица в VI округе Парижа.
(обратно)40
Делание смерти (англ.)
(обратно)41
Часть вместо целого (лат.)
(обратно)
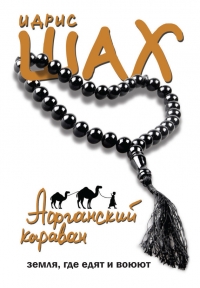



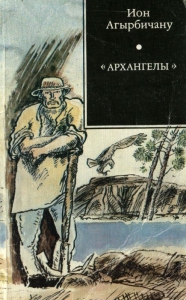






Комментарии к книге «Страстный пуританин», Габриэль Витткоп
Всего 0 комментариев