В первую ночь столетия Пьяцци[1] обнаружил планету Цереру.
А я оценил безупречную красоту сицилийского глаза, исполнившего предсказания Титиуса и Боде[2], чьи математические расчеты указывали на то, что должна существовать планета, орбита которой будет пролегать между орбитами Марса и Юпитера, одним ясным утром в Санкт-Петербурге, за шоколадом с князем Потемкиным-Таврическим.
И кто, как не Джузеппе Пьяцци! Монах, астроном, последователь Караффы, архиепископа Кьети, позднее ставшего четвертым Паоло[3].
— Похоже на страницу Георгик, сказал я, а князь извлек свой монокль, дохнул на него и протер большим красным носовым платком.
— Столько всего подходит к кульминации, столько продвигается вперед. Вот вам христианин — до сих пор вглядывается в свет арабских звезд, как будто улицы Вавилона по-прежнему запружены быками, верблюдами и клетками с ослепленными вьюрками. Однако смотрит он в телескоп, построенный Хершелем[4], и его звездные карты опубликованы академиями. Как у первооткрывателя, у него — привилегия дать имя новой планете. Cerere, говорит он. Церера, мать ячменя древней Сицилии.
— Komilfo[5], ответил князь, прихлебывая шоколад.
— Именно. Однако, есть некий виргилический пафос в том, что присвоил он это древнее имя обломку разбитой планеты. Церера, как я полагаю, — лишь около пятисот километров в диаметре. Когда в последующие три года открыли Палладу, Юнону и Весту, стало ясно, что все они, вместе с Церерой, останки взорвавшейся целой планеты. Добрый Пьяцци, должно быть, чувствовал, что смотрит на естественный символ распада того золотого мира, который религия, исповедуемая им, нерешительно обратила в трагические руины. Блуждающую звезду именовал язык поэта. Грядет день, дорогой моя князь, когда астрономы назовут новую звезду Джексоном или присвоят ей порядковый номер.
— Даже сейчас в Санкт-Петербурге довольно людей, заметил князь, готовых назвать звезду в честь французской актриски или скаковой лошади.
— Мы, я полагаю, вступаем в век огня.
Я произнес эти слова, не подумав. Они слетели с моего языка, и я сам услышал их с тем же самым изумлением, что и князь, по-рыбьи приоткрывший рот.
— Войны? спросил он.
Я кивнул.
— А вы, как я припоминаю, поэт?
— Поэт, ответил я.
Он заметно успокоился. Для любой русской знати в это время все англичане — обществоведы точно так же, как все немцы — математики, а итальянцы — скульпторы. "Американский" же — значит торговец хлопком, методист или сочинитель романов о вьяндоттах[6] и сиу. Тут же американский поэт, рассуждающий о звездах с классическими именами, открытых сицилийскими священниками, и толкующий о свирепых войнах. Я замечал, как он уже отвергает мою воинственную болтовню как плод неосведомленного и кипучего ума.
Все мои детство и юность на Северную Америку падали величественные звездные дожди. Целые ночи напролет фейерверки метеоритов шипели и вздыхали по всему небу, прежде чем я сочинил свое первое стихотворение о нове, вспыхнувшей перед взором Тихо Браге[7], и написал свой первый рассказ о призраке коня, выскочившем из каскада пламени, как только леониды изобильно пролились на землю — люди уже много столетий такого не припоминали. Огонь, падающий огонь. Ночь Св. Лаврентия походила на Четвертое Июля в Вашингтоне, и весь ноябрь серебряные и красные аэролиты, струившиеся из созвездия Льва, градом сыпались наземь. Два часа в виргинском небе я наблюдал ракетный огонь — густой, будто снегопад.
Свой первый рассказ, сказал я. Вернее было бы сказать — свой единственный рассказ. Он произошел из той Германии разума, чьи царственные министры — барон фон Харденберг (он как раз лежал на смертном одре, когда Пьяцци впервые заметил Цереру-скиталицу) и тот двойной человек, кто создал Кота Мурра как Эрнст Теодор Вильгельм Гоффманн[8] (или же сам был создан им), а Ундину сочинил как Эрнст Теодор Амадей Гоффманн. Ах Господи! а нам достался Эндрю Джексон[9]!
Однако стихи свои я заимствовал у мира звезд. Огонь Германии — это свечение дымящихся каровых озер, лунный свет в тумане, двусмысленная духовность их философии. Германский ум обитает в глубинах подобно Ундине и обладает когтями подобно Мурру. Как дома он чувствует себя в ночи, ему снится его жизнь, и живет он в своих сновидениях.
Огонь же арабских звезд холоден и далек, и существует он в бессчетных лабиринтах замыслов, в чудовищах, выхваченных остриями света, в туманностях, в утраченных вселенных мерцающей звездной пыли, в мертвых лунах.
Сказав, что столетие станет веком огня, я, повидимому, думал как о германском пламени духа, ревущем в материи, так и об арабском огне гораздо более тонкого горения, различимом далеко не всеми. Не фон Харденберг ли первым проник в подлинную природу света, когда предпочел переселиться в ночь? Ночь ведь — не только полумрак земной, падающий наружу, в пространство, подобно конусу тени.
Она также устремлена внутрь и вниз земли и человека. Он свою ночь обрел в гротах морских, и богиней его, при всем его благочестии, была русалка. Хладный пламень ее чешуи станет знаком этого столетия.
Неужели я действительно сказал все это князю Потемкину?
В нашей первой беседе по моем прибытии в Санкт-Петербург он говорил об электричестве и локомотивах, о водяном паре и часах. Не сможет ли электричество породить общественную справедливость?
— Ваши рабы в Виргинии, наши крепостные здесь, в Московии, говорил он, разве машины не освободят их от труда?
Мы обнаружили разломанную Цереру в ту минуту, когда начался век. В первые три года столетия мы также нашли разбитую Палладу, загубленную Юнону и ярчайшую из всех четырех потерянных скиталиц — разорванную Весту.
Паллада. Афина, разумная. Она выжила в нас, словно под сенью какой-то ужасной ненасытной птицы — вороны гуннов или обычного ворона готов. А Веста и Юнона, невеста и мать — мы отыскали их знаки. Знаки, знаки.
Что за предзнаменование сулят они нам, хотелось мне сказать князю, но мысли свои я оставил при себе. Церера и Паллада, тело и разум, душа земли и наша душа.
Юнона, душа чистая, благодатная, зрелая. Веста, душа по-прежнему таящаяся, сознающая лишь себя самоё, нетронутая, подобная пружине.
И всю жизнь мою звезды сыпались дождем.
Я улыбаюсь, вспоминая свою миссию в то время. Ибо у нас вызывают улыбку те идеалы, что выходят за пределы нашей юности, которые с возрастом мы признаем великолепными безрассудствами. Я направлялся на ионический остров Занте, покатые пастбища которого весной лиловы от гиацинтов. С шестью своими сестрами лежит он посреди фиолетового моря — Корфу, Санта-Маура, Кефалония, Итака, Кифера, Паксос.
Мне, кому на глаза наворачивались слезы при виде форсайтии в Виргинии, суждено было увидеть лилейные поля Левкадии. Мне, слегавшему от любви к женщинам величественным, будто Юнона, в кринолинах, шотландских шалях и шляпках, предстоит увидеть гречанок, чьи хлебные волосы обернуты турецкими тканями, чьи ноги нагие топтали виноград. Isola d'oro![10]
Не здесь ли облачался он в броню? Ведь именно на Занте восхищенный английский камердинер и исполненные благоговения сержанты сулиотов надевали на Байрона наголенники, нагрудник кирасы, бахромчатые эполеты, zone[11] и шлем с конским хвостом. Никто не произнес вслух Ахиллес, когда привязывали металлическую пластинку к пяте его ременной сандалии, но иной мысли у них в умах и возникнуть не могло.
И ведь на Занте молодого лэрда запечатали в его свинцовый гроб.
Не огонь ли пронизывает всю образность Илиады? Пламя и пшеница, ярость и Церера.
— Mais?[12] выразил свое изумление князь Потемкин. Французское возражение сорвалось с его обрамленных усами губ словно овечье блеянье.
— Вы проделали весь этот путь до нашей русской столицы ради того, чтобы просить военной помощи для несчастных греков, ведущих свою войну за независимость?
Сражаться с турками!
— Сражаться за свободу, ответил я. Elevtheria.
Одиссей Элитис! Маврокордато! Терсица! Фотос Завеллас! Князь осознавал героику той войны, что греки вели в своих горных редутах и на равнинах, чьи названия вызывали в памяти множество страниц классической истории. Россия тоже вступала с турками в битвы невероятной жестокости. Одно имя Потемкина повергало в ужас все турецкое главнокомандование.
Говорил он с почтением и некоторой hauteur[13], поигрывая кружевными складками своей рубашки.
В этой же самой комнате сидел мой соотечественник-виргинец Джон Рэндольф из Роанука[14], потомок Покахонтас, возможно — в кресле Людовика XV, и альпака его черных брюк выглядела странно на фоне красного дерева и муарового шелка. И Джоэль Барлоу[15] бывал здесь. Я мысленно видел его по-американски угловатого, вне всякого сомнения — в малиновом жилете и желтом шейном платке.
Под гравюрой Франклина стояла копия гудоновского бюста Вольтера[16]. Мой взор выхватил Энциклопедию Дидро, который, как уверял меня князь, подчеркивал свою галльское остроумие при московском дворе, шлепая Ее Императорское Величество Екатерину по ляжке; Афоризмы Бэкона; Ricordi Гуиччардини[17]; Лаппонию Шеффера[18]; любопытный труд Линнея Praeludia Sponsalia Plantarum.
Китайская ваза, высокая, с девочку-подростка, притягивала к себе весь лучший голубой русский свет, который щедрые окна князя впускали в комнату, где мы проводили с ним то утро.
Именно избирательное сродство сплетает разрозненные частности нашего мира в ту искусственную ткань, чью сущность мы воспринимаем как красоту. Вот эта высокая китайская ваза — ведь как богата она соответствиями! Г-н Китс подметил справедливое сходство изящной греческой урны с девой в зябкой чистоте своей непорочности. Разве не грудь Паллады, если верить преданию, послужила формой первой аттической вазе?
Впервые состояние всеобщей связанности я осознал с запахом жимолости, когда размышлял над тем, как Сафо ощущала соответствия поразительной красоты девушки с величественной грацией корабля. Разве корабли не убраны грудью парусов, не расписаны теми богатыми, смело распахнутыми глазами, которыми египтяне наделяли Изиду, а эллины — Диану? А помимо этих волшебных очей на носах своих величественных судов греки рисовали изогнутого дугой дельфина, рыбу Аполлона, которого связывали с водяной жизнью чрева.
Сходства, сходства. Слушая, как княгиня Потемкина играет на клавесине арии из Zauberfloеte[19] Вольфганга Моцарта, я слышал, как душа гота может повенчаться с дщерями юга, объединив точный расчет немецкой песни с чистотой итальянской.
Впервые я увидел княгиню Потемкину, когда она выгуливала пару гончих на фоне фриза берез. Она была гибка, как эти белые деревья, и стройна, как ее благородные псы.
Предания и романы пространно рассказывали мне о дамах Испании и Италии, а своими глазами я видел лучезарных англичанок, капризных, томных барышень Виргинии. О русских же княгинях я знал не больше, чем о дочерях Татарии или сумрачных королевах Абиссинии.
Подобно строгой и гордой дочери Байрона, Анна Потемкина была математиком. Она обнаружила странные и необъяснимые узоры среди простых чисел в том возрасте, когда девицы Ричмонда и Балтимора знают едва ли больше нескольких танцевальных па вальса, умеют немного вышивать шерстью и по нашивкам отличают майора от полковника. Одним туманным вечером я узнал, насколько прекрасно она играет на арфе — высокой серебряной арфе, сделанной в Равенне, подле которой она сидела с осанкой Пенелопы у ткацкого станка.
Если на клавесине руки ее плели танец чисел и живо гарцевали сквозь прогрессии точных разрешений, на струнах арфы ее пальцами владел иной дух. Здесь она импровизировала, оставляя какую-то мелодию andante, намекавшую на Аравию, грезить в паузе, уводившей к жаркому arpeggio цыганской чужеродности.
Княгине было угодно признать мое восхищение, осведомившись о моем положении в этом мире. Думаю, едва ли я был для нее джентльменом; да и само понятие "джентльмен" в России неизвестно. Я был никем с неким подобием вежливых манер.
Тем не менее, одна из способностей гения — заставлять малости заходить далеко.
Я мимоходом упомянул маркиза де Лафайетта, и, поразившись, она серьезно кивнула.
— Генерал, знаете ли, — гражданин Соединенных Штатов согласно акту нашего Конгресса. Я имел честь командовать ополчением во время его визита в Виргинию.
Она, похоже, испугалась, не затеяла ли она того, чего не сможет остановить.
Я обмолвился о Томасе Джефферсоне.
— Ах! Джефферсон! Не могли бы вы объяснить на словах, каков он, effectivement[20]?
— Он несколько походил на гудоновского Вольтера, отважился предположить я.
Когда я с ним обедал, он был очень стар. Глаза его были добры и суровы. У него была привычка промакивать уголки глаз большим носовым платком.
— Вы ведь были очень молоды, когда вас представили?
— Это случилось на моем первом году в университете, который он основал. Ему нравилось приглашать студентов к обеду, всегда по нескольку человек, чтобы с нами можно было побеседовать.
Я описал ей свои посещения острова Салливэна около Форта Моултри[21], когда служил в Армии. Это заинтересовало ее больше, нежели государственные мужи.
Рассказал ей о д-ре Равенеле и его страсти к морской зоологии. В альбоме, который она принесла, нарисовал ей песчаные доллары[22], черепах, крабов, множество видов раковин.
Я нарисовал для нее золотого жука[23] Callichroma splendidum.
Изучал ли я в университете математику? Не более, вынужден был признать я, чем по расписанию занятий полагается инженеру. Она говорила о Фурье и Марии Гаэтане Агнези.
В отличие от князя, ее брата, она была горячим приверженцем астрономии. На круглой каменной скамье в саду, с листвой, опадавшей нам на колени, мы говорили о звездах, о солнце и луне, об эксцентричных орбитах планет.
Афина, рассказывала она мне, в самом мощном из телескопов выглядит не более, чем золотая звездочка сноски.
Она читала Вольнея, и мы рассуждали о причудливых соотношениях обломков в безбрежном эфире пространства и руин Персеполиса и Петры, Цереры, разломанной на части в небесах и в пустынях Турции. Я по памяти читал ей Озимандию Шелли и грубо переводил на французский.
Ей казалось диковинным, что американца могут так трогать руины античности, что он может проявлять такой пыл.
— Ваш новый свет, должно быть, напоминает все эти кукольные домики, только что извлеченные из своих рождественских коробок, где каждый кирпичик будто только что из печи, каждый камень бел, как снег.
— Mais non, ma princesse[24], отвечал я. Это ваш Санкт-Петербург нов. Он подобен Венеции в пятнадцатом веке. Ничто здесь не сношено, не обветшало, еще не тронуто зубом времени.
Объясняйте это, как вам угодно, но стара Америка. Вашингтон Ирвинг нисколько не романтизирует, когда описывает Нью-Йорк таким же видавшим виды и выдержанным, как и Амстердам. Видите ли, сама земля эта древня, и первые американцы, подобно московитянам и финнам, строили из дерева. Эти ранние строения — братья ковчега.
Мы не привезли с собой таланта поддерживать непрерывность вещей, поэтому деревенька в Каролинах выглядит на тысячу лет старше французской деревеньки, в действительности построенной во времена Монтеня.
Несведущий наблюдатель составил бы мнение, что Ричмонд старше Эдинбурга.
Однажды, хмурым ноябрьским днем, мне случилось, навещая родной мой Бостон, проехаться в экипаже одного приятеля в местечко под названием Медфорд. Стоял как раз такой день, когда свет, тупой и свинцовый, все же способен тлеть в лихорадочных желтых и меланхоличных красных красках опавшей листвы и превращать верхние окна домов в бронзовые зеркала западных лучей.
В особенности меня поразил один такой дом — массивная старая коробка особняка о трех или четырех этажах, симметричная, как бабочка, сложенная из камня, такого же испещренно-серого, как и утес, обрывающийся к морю. Дом стоял в глубине ильмов, этого благородного дерева Америки, и я бы охотно предположил, что он так же древен, как детство Шекспира, — и в самом деле выстроили его еще в те годы, когда Мильтон был юношей, а Санкт-Петербурга не существовало вовсе.
Он широко известен под названием Ройалл-Хауса — в честь двух Айзеков Ройаллов, отца и сына, занимавших его в прошлом веке, хотя я нахожу больше древности тона в имени, под которым он существовал первоначально, в имени, которым до сих пор пользуется старшее поколение. Его называют Домом Эшеров.
Наше ощущение старины всегда современно. Свету звезд — много сотен лет. Мы живем в чудесное время феникса древности.
Греческий крестьянин, копавшийся у себя в саду, обнаружил на острове Мелос, когда мне было одиннадцать лет, ту статую Афродиты, которую маркиз де Ривьер, посол в Блистательной Порте, и его находчивый секретарь месье де Марселлюс приобрели для Луврского Дворца, и которую знатоки и поклонники зовут Венерой Милосской. Она не столь изысканно нага, как Афродита Киренская, это диво женской красоты, и не столь гибка, как мраморный торс из Книдоса[25].
Как бы стара она ни была, теперь она принадлежит нашему веку, обнаружившему ее, больше, чем своему собственному, который мы не в силах вообразить, а тем паче — поселиться в оном.
— Эти разбитые Венеры — как осыпающиеся кусочки и обломки леди планеты, разметанные по орбите между Марсом и Юпитером.
— А вы — человек сентиментальный, месье Перри, как-то днем сказала мне княгиня, равно как и в немалой степени загадочный, даже принимая во внимание тот факт, что мои иноземные глаза не в состоянии точно истолковать внешние признаки американца. Почем знать, может быть, ваш президент сам ходит за покупками и разгуливает по улице в ковровых шлепанцах.
— Наша Нева — Потомак, ответил я, и могу вас заверить, по утрам можно видеть, как почтенные сенаторы купаются в его водах нагишом.
— Я вполне этому верю, сказала она. Вместе с тем, я имела в виду, что как женщина замечаю обтрепанные манжеты вашего траурного сюртука, блеск на локтях и коленях вашего довольно-таки французского confection[26]. Не сможете вы отрицать и того, что были бы рады обзавестись новой рубашкой. И перчаток у вас нет, а лакей сообщает мне, что вы всегда являетесь без пальто.
— Madame![27] возразил я.
— Дослушайте. Мы с братом обнаружили в вас родственную душу, наши действия тому порукой. Но помимо этого мы считаем вас загадкой.
Она милостиво улыбнулась.
— Вы не желаете рассказать нам, кто вы такой?
— Я, ma chere princess[28], - Эдгар А.Перри из Виргинии. В моей стране, а также в Англии меня считают джентльменом. Я едва ли могу понять, что вы имеете в виду, желая знать, кто я такой.
— Ну что ж, ответила она, уступая мне с улыбкой, мой брат ожидает вас в оранжерее. Мы обсудили это дело и пришли к соглашению, что разгадать тайну должна буду я. Если вы отказали в откровенности мне, как я, впрочем, и предполагала, я должна передать вас своему брату.
Я был потрясен, уязвлен. Я склонился в глубоком, весьма учтивом поклоне. Я ушел.
И все это натворил мой ангел, а он — мастер странностей. Возможно ли, что этот внезапный раскол в наших дружественных отношениях — просто их истощившееся терпение? В свое самое первое посещение дома Потемкиных я наследил на ковре собачьим калом. Они не обратили ни малейшего внимания, хотя я впал в исступленное смятение, когда заметил сам.
На второй превосходной прогулке, предпринятой мною с княгиней и ее псами, я наступил на край ее юбки и порвал ее. Она даже не удостоила этого замечанием и попросила меня не беспокоиться из-за пустяка, когда я начал было, запинаясь, извиняться.
А когда я, по американскому обычаю, прихлебывал свой чай из блюдечка, в их вышколенных взглядах сквозило лишь вежливое любопытство.
С тех самых пор, как меня представили князю, я тонко чувствовал, что он, должно быть, думает: такой явно нуждающийся солдат удачи рано или поздно заговорит о пожертвованиях на Греческое Дело. Я знаю этот взгляд по глазам Аллана и своих однокашников и однополчан.
Вероятно, то, что я у него об этом не спросил, заставило его сидеть как на иголках.
Я направился в оранжерею по величественной вязовой аллее — европейские вязы, в которых нет греческого очарования американских ильмов.
Неужели суждено мне прожить всю жизнь и так до конца и не познать ильм? Каждый листок этого дорийского дерева — контур привлекательного глаза, будь то глаз Каллисто, голоногой и одетой лишь в лосиную шкуру, подпоясанную змеиной кожей в серебряных и бурых ромбах, или же Аполлона со львиными чреслами, носом прямым и точеным, плоскостями томагавка.
Лавры и рододендроны чересчур кельтски, да и дуб слишком напоминает о друидах и варварах для моей лиры. В яблонях и сливах есть некое девчоночье легкомыслие, а вот груша, поистине римское дерево, обладает изяществом знатной дамы и осенью приносит прекрасные виргилиевы желто-коричневые дары.
Но ильм, ильм, это благородное, величавое дерево. Он неизменно стоит ровно, как сосна и кипарис, но не дорастает до их гигантской высоты, умеряя их второзаконную грандиозность спартанским чувством меры и благопристойностью.
Ильм скромен в своем единстве силы и грации. Растет он так же медленно, как кедр, ветвясь с военной, с галльской ясностью замысла, каждый сук точно несколько стрел, сведших свои случайные тропы в одном колчане, однако беспорядок этот — гармония дисциплины, а вовсе не развал небрежения.
Не потому ли князь хотел видеть меня, что не далее, как на прошлой неделе я опустился на колени во влажную гниль осенних листьев и поцеловал княгине руку?
В ее глазах неясность затмила предположение, и ветер задул вокруг нас в этом наполовину варварском русском саду с чужой ему Дианой, почерневшей от снегов и лютых западных ветров, с его английскими клумбами, итальянскими каменными скамьями, не оттаявшими под лучами бледного северного солнца, и в душе моей поднялся этот ветер, холодный и раздраженный, точно зимняя вьюга.
Еще раз такой же ветер шевельнулся во мне, пока я шел к оранжерее. Вспыхни-умри, вспыхни-умри — вот пульс этого мира. Звезда Тихо сверкнула и исчезла.
Urbs antiqua fuit.[29]
В Каразхане, рассказал мне князь, выловили и раздали крестьянам, наверное, самое последнее стадо диких лошадей Европы.
Время — просто как внезапная красота, внесли — и отобрали, краткая, как день мотылька. Но возвращается она именно осенью, per amica silentia lunae[30], когда деревенские церкви тихи, будто корабли, покинутые командами и дрейфующие к полюсам. Чистое пламя светильника вздрагивает и синеет. Зеркала странны от лунного света с лестничного пролета, белеет лаг, и мелководья ветра омывают дом, течения времени.
К крышке своего курьерского саквояжа я приклеил карту Греции с ее изломанными побережьями и хрупкими островами — зелеными и желтыми на гиацинтовом фоне ее морей.
Здесь вечность назад проплывали белогрудые барки, ребристые, осанистые, точно горделивая Елена Спартанская, их длинные кили заложены на верфях Никеи, синеют их курсы, ветер, что подгонял их, цветист ароматом мира, пряным маслом и вином, полями укропа и огуречника, рододендрона и мака.
Агатовый светильник в руке ее!
Колоннада, уводившая от садовой дорожки к оранжерее, мерцала листопадом по всей своей ионической перспективе. Я уже видел, как князь в своей домашней куртке меряет шагами посыпанные гравием дорожки.
— Сэр, уже звучал у меня в ушах его благородный голос, вы записались в "Европе"
как некий Анри де Ренне. Ошибки здесь быть не может. Однако Посланник Соединенных Штатов мистер Генри Миддлетон знает вас еще и под третьим именем. Не будете ли вы столь любезны объяснить эту шараду?
— Я буду в восхищении, Ваше Величество, ответил бы я. Мое имя — Андрэ Мари де Шенье[31]. Меня гильотинировали тридцать шесть лет назад, le septieme d Thermidor, l'an 1[32]. Я — призрак.
Отшатнется он — наверняка ведь, — одна рука — ко лбу, другой — за сердце.
Canaille![33] — вероятнее всего, и сапогом вон за дверь.
Я подошел к высоким воротам из кованого железа, открывавшимся в аллею меж ровно подстриженных живых изгородей, в свою очередь выходившую на Проспект через дверцу в стене.
Могучие колокола в церквах звонили. Пошел снег.
Примечания
1
Джузеппе Пьяцци (1746–1826) — итальянский астроном, открывший в 1801 году первый астроид — Цереру. (Здесь и далее — примечания переводчика.)
(обратно)2
Автор имеет в виду "закон", предложенный в 1766 году немецкими астрономами Йоганном Даниэлем Титиусом и популяризованный в 1722 году Йоганном Элертом Боде, как попытку объяснить различные средние расстояния планет от Солнца. "Закон" этот никогда не был подтвержден физически и выражался эмпирической формулой a = (n+4)/10, где a — вычисленное среднее расстояние планеты от Солнца в астрономических единицах, а n — прогрессия чисел 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 и 384. "Закон" достаточно хорошо дает приблизительные средние расстояния для известных в то время планет (от Меркурия до Сатурна) и довольно точно определяет расстояния до Урана, открытого в 1781 году (и названного так Боде) и некоторых астероидов между Марсом и Юпитером, однако расстояние до Нептуна этим "законом" уже не определяется.
(обратно)3
Джованни Пьетро Караффа, в XVI веке — епископ Кьети, одно время апостольский администратор епархии Бриндизи, стал впоследствии Папой Павлом IV. Один из реформаторов католической церкви, основатель ордена театинцев, исповедовавших образцовые для священнослужителей качества, и его первый генерал-провост.
(обратно)4
Сэр Уильям Хершель (15 ноября 1738 г. — 25 августа 1822 г.) английский астроном, известен как "отец звездной астрономии". Немец по рождению, бежал в Англию в 1757 г., когда Ганновер оккупировали французы. Последующие 25 лет зарабатывал на жизнь профессиональным музицированием, но свой интерес к астрономии удовлетворял с помощью собственноручно построенного отражающего телескопа, крупнейшего в то время. 13 марта 1781 года обнаружил объект, оказавшийся первой планетой, открытой в нашу эпоху и не известной в древние времена, — Уран.
(обратно)5
Как полагается (искаж. фр.)
(обратно)6
Племя североамериканских индейцев, состоящее из групп, рассеянных по Среднему Западу после разгрома конфедерации гуронов в середине XVII века. Здесь — намек на Джеймса Фенимора Купера и его роман 1843 года "Вьяндотт".
(обратно)7
Датский астроном, 14 декабря 1546 г. — 24 октября 1601 г. В 1572 году из своей лаборатории в замке аббатства Херидсвад наблюдал рождение "новой звезды" в созвездии Кассиопея. В своей первой работе "De Nova Stella" (1573) он установил, что его нова — это звезда, лежащая за орбитой Луны.
(обратно)8
Э.Т.В.Гоффманн (24 января 1776 г. — 25 июня 1822 г.), один из самых значительных немецких романтиков, поменял свое последнее имя из любви к музыке и особенно — к Моцарту, но произошло это гораздо раньше, чем он начал писать.
(обратно)9
Боевой генерал, прославившийся военными действиями против индейцев, род. 15 марта 1767 г., ум. 8 июня 1845 г. Седьмой президент Соединенных Штатов (два срока, 1829-37), чье правление было ознаменовано жестокими противоречиями по поводу прав штатов на самоопределение, банковской политики, переселения индейцев и т. д. Человек крепких убеждений, железной воли и вспыльчивого темперамента, Джексон пользовался президентской властью без зазрения совести, и правление его вошло в историю США как "век Джексона".
(обратно)10
Золотой остров (ит.)
(обратно)11
Кушак (фр.)
(обратно)12
Неужели? (фр.)
(обратно)13
Надменностью (фр.)
(обратно)14
Выходец из знатного виргинского семейства Рэндольфов, род. 2 июня 1773 г., ум. 24 мая 1833 г. между 1799 и 1829 гг. был депутатом Палаты Представителей, а в 1825-27 гг. служит в Сенате США. Пламенный оратор, горячий защитник индивидуальной свободы и прав штатов.
(обратно)15
Один из ранних американских поэтов и государственных деятелей, род. 24 марта 1754 г., ум. 24 декабря 1812 г. Член группы "коннектикутских остроумцев". Его поэмы "Надежда на мир" (1778) и "Видение Колумба" (1787) отражали его достаточно консервативные религиозные, политические и литературные взгляды. Позднее разделял гуманистические и демократические воззрения Джефферсона и Пэйна.
(обратно)16
Жан-Антуан Гудон (20 марта 1741 г. — 15 июля 1828 г.) — выдающийся французский скульптор-портретист XVIII века. Самый известный из многих его скульптурных портретов Вольтера изваян в 1778 г.
(обратно)17
Франческо Гуиччардини (6 марта 1483 г. — 22 мая 1540 г.) итальянский государственный деятель, историк и политический мыслитель эпохи Возрождения. "Записи" — его сборник максим о политике и человеческой природе. Наблюдатель более циничный и реалистичный, нежели его старший современник Никколо Макиавелли, Гуиччардини часто подвергался критике за отсутствие идеализма и чересчур пессимистический взгляд на человечество.
(обратно)18
Немецкий просветитель, этнограф и историк конца XVII века. Полное название его труда — "Новое и правдивое описание Лапландии и её обитателей".
(обратно)19
"Волшебная флейта" (нем.)
(обратно)20
На самом деле (фр.)
(обратно)21
Форт Моултри — укрепление на острове Салливэн на входе в гавань Чарльстона, Южная Каролина. Первоначально назывался форт Салливэн, во время Американской Революции 28 июня 1776 г. удерживался американским гарнизоном под командованием полковника Уильяма Моултри (1730–1805) против нападения британской эскадры из 10 кораблей, после чего и был переименован в честь полковника. В 1807-11 гг. был отстроен заново, и в апреле 1861 года укрепление использовалось армией конфедератов для бомбардировок форта Самтер. Сейчас на территории форта располагается могила Оцеолы, вождя племени семинолов, содержавшегося здесь в плену во время Семинольских Войн.
(обратно)22
Плоский морской еж (Echinarachnius parma).
(обратно)23
Жук-листоед (Chrysomelidae).
(обратно)24
Ну что вы, княгиня (фр.)
(обратно)25
Древнегреческий город на южном берегу залива Кос на территории нынешней юго-западной Турции. Основан, вероятно, около 900 г. до н. э. и просуществовал до VII века н. э., здесь была обнаружена знаменитая статуя Афродиты работы Праксителя.
(обратно)26
Готового платья (фр.)
(обратно)27
Мадам! (фр.)
(обратно)28
Дорогая моя княгиня (фр.)
(обратно)29
"Был город древний" (лат.) — Виргилий, "Энеида", I, 12.
(обратно)30
"Дружелюбным молчаньем луны" (лат.) — Виргилий, "Энеида", II, 255.
(обратно)31
Единственный значительный французский поэт XVIII столетия, род. 30 октября 1762 г. в Константинополе, где его отец служил консулом Франции. Убежденный противник экстремистов Великой Французской революции, погиб на гильотине 25 июля 1794 г. при жизни было опубликовано лишь два его стихотворения. Остальные работы ("Идиллии", "Элегии" и "Буколики", многие из которых не были завершены) стали известны лишь четверть века спустя.
(обратно)32
Седьмого термидора 1-го года (фр.)
(обратно)33
Каналья! (фр.)
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

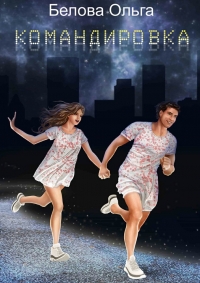







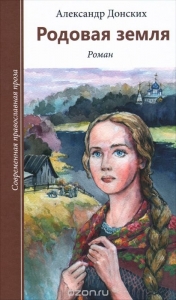
Комментарии к книге «1830», Гай Давенпорт
Всего 0 комментариев