Рейн Евгений Борисович — поэт, эссеист, прозаик, сценарист. Родился 29 декабря 1935 года в Ленинграде. В 1959 году окончил Ленинградский технологический институт, в 1964 году — Высшие сценарные курсы. Лауреат многих литературных премий, в том числе Российской национальной премии «Поэт» (2012).
Царское село
«…Смотри, ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной…»,
И городочек полусонный,
И парк лицейский сторожить,
Песком хрустеть, тревожно стыть
Среди листвы его наклонной,
И у Руины за колонной
Друзей и вспомнить и простить.
И, глядя в календарь бездонный,
Решать здесь: быть или не быть…
2012
* *
*
Н.
Закованный залив заснежен до Кронштадта,
о, слабосильный день!
И только ты одна, одна не виновата…
А в чем? И думать лень.
Зима пуржит с утра, мерцает север дикий,
томит Гиперборей,
не прекословь, не плач, печали не накликай,
не трогай якорей.
Теперь за нас январь на лыжах по торосам —
туда или сюда.
И если мы теперь друг друга не забросим,
тогда — когда?
Полярной этой тьмой покрыты серп и молот,
орел, единорог,
Нас ждут на берегу алхимик и астролог,
безумец и пророк.
Проворное лицо у ангела Господня
с кровинкою стыда,
На почте тарахтит еще
междугородняя
белиберда.
А наша тень идет за нами по пороше
и обгоняет нас.
Побудь еще со мной, ты мне зимы дороже
в смертельный час.
* *
*
Приди ко мне под рыжей тишиной,
В стране, где шерсть предшествует рассудку,
Вернись из отступления домой,
По первому снежку, по первопутку.
Я поцелую отпечатки лап,
Наполню твою мисочку водою,
Здесь, без тебя, я столько мал и слаб,
Ничтожен пред твоею правотою.
Мне не под силу откровенный взмах
Всесильного в потемках поворота,
И как унять усилие и страх,
Где спазм земной, уже не спазм, а рвота.
Лакая справедливые глотки
Под водопадом выверенных капель,
Переплывая реку, где мелки
Нахлесты волн, ушедшие под штабель
Сухих и суковатых пристаней,
Откуда наш багаж возьмут на баржу,
Нам вместе плыть в становище теней,
Мурлыкать вслед таинственному маршу.
2012
В пещере
Дымный закат над заливом и над Кронштадтом,
Что-то я чувствую нынче себя виноватым
Перед заливом и перед Кронштадтом…
Что же, цепная реакция — здравствуй, атом.
Зря, что ли, спешил Македонец в пернатом шлеме,
Маятник в тяжком брегете отстукивал время,
Байрон халтурил в восточной поэме,
Почему для меня все это — легкое бремя?
Дальше и выше — неужели туда не пробиться,
К тому истоку, где боги-самоубийцы
Мир разделили, как будто кубисты,
На фигуры и клетки заигравшегося шахматиста.
Глубже и выше, через эндшпиль к дебюту,
И еще дальше — от роллс-ройса к верблюду,
Что позабыл, что вспомнил — а с вами не буду,
Я отступаю обратно к пещерному люду.
В этой пещере заката, где мамонт на голой стенке,
Где дымят табачком янки или эвенки,
Где хорошо бы дождаться пьянки и пересменки,
Слизывая с чубука горькие пенки.
Все пока впереди. Вместо совести психоанализ,
За миллионы лет довольно мы намахались,
Во всей истории этой предпочитаю хаос,
Хочу повиниться, но в чем покаюсь?
Бедный дикарь-питекантроп, не знающий гороскопа,
Каменная моя ничуть не согрелась жопа,
Мне не дотянуть ни до рассвета, ни до потопа,
Вот моя правда — основателя и остолопа.
Что пропустил, что предвидел — не знаю,
Сон над золой, словно мать родная,
Убаюкивает, что песенка горловая,
Там у начала, у самого края.
А во сне все едино — физики и динозавры,
Напевы радио и лепет арфы,
Как же растолковать мне карты,
Лишь бы не просыпаться для жизни-лярвы.
Главное — не пропустить всю эту выдумку Божью,
Не гнать телегу по бездорожью,
Не осквернить себя ни истиной, ни ложью,
Просто курить под закатом и жить водяною вошью.
2011
«Кировская»
Серый мрамор «Кировского» метро,
Магазин Перлова с китайской вазой,
Глаз небесный, подмигивающий хитро
И пленяющий правдой голубоглазой.
Поверну на Сретенку, по пути
Раскурю «Дукат» свой на перекрестке,
Никуда отсюда мне не уйти,
Потому что слушаю отголоски —
Отголоски лет, отголоски слов,
Отголоски комнаты на Мясницкой,
Отголоски пламенных вечеров,
Отголоски снов на постели низкой,
Отголоски жизни, ушедшей вниз
И поднявшей голову напоследок,
Из-под ног уходит, скользит карниз,
Точно прыгнувший из окошка предок.
ГУМ
Беспощадное время ушло, я вернулся сюда,
Ничего-ничего, все осталось, блестит, как слюда,
Жирной кожей и смальтой, углеродом, тяжелой казной,
В переходах стоит необузданный зной.
Черезмерные полки, матерьяльный, невидимый склад,
Габардин, крепдешин, на котором не виден и скальд,
Написал: ты измерен и взвешен, конец…
В оружейном отделе новый «магнум» и меч-кладенец.
Рассыпался фонтан, упадая на лица слезой,
В похоронном бюро пахло прахом, водою лесной,
Стоверстовая очередь из отдела вела в мавзолей,
Чтобы было стоять безнадежней, верней, веселей,
По отчаянным дням здесь пехота несла караул,
Счетревенный портрет состоял из прикладов и дул,
Выдавали брикеты крем-брюле, эскимо,
На постельном белье пробегало живое кино,
В новогоднюю ночь торговал слюдяной Дед Мороз,
На румянце щеки шевелилась гирлянда волос.
И товары на линиях били притоп и прихлоп,
И в единые руки поступали, что пиво, взахлеб.
Ты меня не узнал, как не знают подпольную мышь,
Ты затих, отшумел, проспиртованной песни камыш,
Под алмазной нарезкой, под амброй и лайкой, буржуй,
Я целую твой венчик, прощальный прими поцелуй.
Никогда и всегда ты предстанешь на фоне Кремля,
Чеком с пеной нолей, как надменный отлив, шевеля,
Вспоминаю в бессоннице бедность подвалов и душ,
Как стоит над могилой Дездемоной задушенный муж.
2012
Дом архитекторов
Памяти отца
Где Штакеншнейдер выстроил дворец,
На Герцена (теперь опять Морская),
Меня туда водил еще отец
В год довоенный, за собой таская.
В сорок шестом я сам туда ходил,
В кружок, где развлекались акварелью,
Но никого вокруг не восхитил,
И посейчас я чувствую похмелье.
«Эклектика», — сказал искусствовед,
Когда спросил я через много лет,
А он махнул рукою безнадежно.
Эклектика… Ну как это возможно?
Ведь мой отец погиб в сорок втором,
А я мешал здесь охру и краплаки,
И это был не просто детский дом,
А способ жизни на сырой бумаге.
Отец и сам неплохо рисовал,
И на меня надеялся, быть может,
Но если я войду в тот самый зал,
То догадаюсь, что меня тревожит,
Ведь я не сделал то, что он велел,
Что завещал, — искусство для искусства.
Мой бедный дар обрушился в раздел,
Где все так своевольно и не густо.
Теперь здесь ресторан, голландский клуб,
И только по краям — архитектура,
Но, расспросив, меня пускают вглубь,
Быть может, узнают, но как-то хмуро.
Эклектика! Но не согласен я,
Досада быть эклектикой не может,
Печаль отца, потемки осеня,
Карает сына, узнает и гложет.
* *
*
Пасмурно. Серый цвет.
Вянущий лист.
Садик переодет
В желтое, как артист.
День или два. Потом
Голых веток позор,
Под широким зонтом
Входит сам режиссер.
Здравствуй. А вот и я.
Кончено, не скули,
А в лоскутах шматья
Спрятаны все рубли.
Переоденься. Ложись
Вместе со мной на дно.
Смерть — это тоже жизнь.
Вобщем, всё заодно.
2012
Полуостров
Виктору Гофману
Полуостров, похожий на череп,
На расколотый грецкий орех,
Виночерпий в овечьем меху,
Ублажающий всех,
Ботанический короб на лаве,
Остывший вулкан,
Сохранивший в раскопах
Костяк, великан.
Шлем, источенный ржою,
Веницейский узорный доспех,
Под живою паршою
Вседоступный, открытый для всех,
Перерытая галька,
Кровяной сердолик,
Может, скифский рельеф,
Набегающий из Чертомлык,
И курортная прозелень,
Балюстрада, над морем балкон,
Перекошенный раструб,
Пластиночка на граммофон,
Голубая шашлычная
С бараниной и коньяком,
И раскачка привычная,
Бьющая в нос прямиком,
Полуночная музыка,
Растворившая синус волны,
Лукоморье, вместившее
Амфоры и стаканы,
Баттерфляй для дельфина,
Жалкой юности южный загар,
Упреждающий ястреба,
Припограничный радар.
Архилох, археолог,
Я, пишущий на черепах,
Черепки собирающий, ситом
Просеявший прах,
Добирающий горстку,
По макушку ушедший в раскоп,
Отыскавший могилу вождя,
Карадаг, Перекоп.
Виньковецкий
Как геофизик, он прошел земную глубь,
Как живописец, он входил в подпольный клуб,
Где выставлялся вопреки начальству.
Его таскали трижды в КГБ,
Уволили, он выжил кое-где,
Так, вопреки паскудству и канальству.
И все-таки не вынесла душа,
И он с семьей уехал в США,
Нефтеразведкой промышлял у «ЭССО»,
Сто двадцать тысяч был его оклад,
Но раздавал его он всем подряд,
К богатству не имея интереса.
Но вот и здесь возник судейский спор
Из-за патента, и какой позор —
опять он был низвергнут и уволен.
И как-то раз жена ушла в кино,
И он скрутил тугое полотно…
Врачи постановили: был он болен.
Я помню, как на даче Раи Берг
Однажды, после дождика в четверг,
Мы с Бродским мыли грязную посуду,
Вдруг дымом все вокруг заволокло,
И Бродский крикнул: «Боже! Западло,
Там Яшка нас поджег, ну, сукой буду!»
И это было точно так. Ведь он
Жег нитролак, исканьями пленен,
И добивался пущего эффекта,
Разбрасывал он краски, как артист,
Или абстрактный экспрессионист,
А впрочем, как никто, а может, некто.
И вот теперь, когда прошли года,
Как поздно мне подумать: никогда
Такой дымок меня уж не объемлет.
До встречи, Яков! Я тебя любил,
И в той земле, где ты прохожим был,
Иная память нам до срока внемлет.
2012
На чердаке
На чердаке, на Офицерской, на
Крыше, где балтийская страна
Видна до Швеции, а может быть, и дальше,
Мы собирались восемь человек
И пили водку, ели чебурек,
Там век свой доживали генеральши.
Их, верно, беспокоил этот гам,
Когда шумели мы по вечерам,
И кто-то пел «Лили Марлен» и даже
Подхватывали хором под хмельком,
Тут в нашу дверь стучали кулаком,
И мы стихали, испугавшись лажи.
На крышу выходили. Ленинград
Раскидывался вроде тех шарад,
Что по слогам сбегались из кварталов,
Еще мы не умели разгадать,
Как время нас сумеет разыграть
На склонах непролазных перевалов.
А после расходились кто куда,
Я шел к себе до Площади Труда,
«Когда качаются фонарики ночные»,
Припоминал, что слышал в этот раз,
Мы были все единый перефраз
Того, что не сказали остальные.
А через день опять сходились мы,
Стихи читали после кутерьмы,
И вдаль глядели с этой крыши плоской,
И нам опять стучали кулаком,
Еще мы были вместе, целиком,
Агеев, я, и Кушнер, и Горбовский.
Сэнди Конрад
Десять и девять, бегун стометровый
и лейтенант белгородской милиции,
Саша Кондратов — живой и здоровый,
как мне твои перечислить отличия.
Выученик формалистов и Проппа,
мистик числа и наследник Введенского,
что ты подскажешь мне нынче из гроба,
гений, разведчик разброда вселенского?
Ты, почитавший и острова Пасхи
идолов, йогов конфигурации,
красивший крыши дворцов без опаски,
в сумке носивший свои декларации,
cдавший в запасник бурятского Будду,
Конрадом Сэнди себя называвший,
все пропущу, а тебя не забуду,
ты, пентаграммой себя повязавший.
Книжки строчивший для «Гидроиздата»,
трубки куритель, любитель пельменей,
нету таинственнее адресата —
азбука Морзе и ток переменный.
Ты, не закончивший дела-романа,
«Здравствуй, мой ад!» и дошедший до края,
живший в лазури на дне котлована,
смыслом погибели буйно играя.
Место нашедший в Казанском соборе,
после работы на Мойке и Невском,
ты, заявлявший в ночном разговоре:
«Буду я к Вечности вечным довеском».
Все это сбудется, Саша Кондратов,
о, Сэнди Конрад, из дали, из праха,
из новолунья, из черных квадратов,
лучший из лучших, бегун-растеряха.
2011
Красильников
«Хиромант и некрещеный человек М. К. посулил
мне безбедное существование до 55 лет»
( из письма Иосифа Бродского к Евгению Рейну )
Красивый дылда с бледной рожей,
На Маяковского похожий,
Во сне является ко мне,
За пазухой — бутылка водки,
В запасе — правильные сводки,
Он в прошлом греется огне.
Он — футурист, он — будетлянин,
Бурлюк им нынче прикарманен,
Он Хлебникова зачитал,
Он чист, как вымысел ребенка,
И чуток, точно перепонка,
Что облепила наш развал.
Зачем-то Кедрин им обруган,
Он нетерпим к своим подругам,
Одну он выгнал на мороз,
Он отсидел четыре года,
Пьян от заката до восхода,
До Аполл и нера дорос.
Он говорил, а мы внимали,
Он звал нас в сумрачные дали,
Где слово распадется в прах,
Где Джойс и Кафка — лишь начало,
Где на колу висит мочало,
Туда, туда на всех парах.
Работал в «Интуристе» в Риге,
Влачил не тяжкие вериги,
И сбросил их, и — утонул,
В истериках, скандалах, водке,
Посередине топкой тропки,
Смешав величье и разгул.
2011
Уфлянд
Ты искал в пиджаке монету
нищим дать и — нашел , конечно…
Надо готовиться к новому лету,
Надо прожить это лето беспечно.
Надо пройти до конца по Фурштатской,
Сбить каблуки и отбросить подметки,
Время подмазать расхожею краской
И запасти для закуски шамовки.
Что не закончил ты в пятидесятых,
Скажется нынче, где правят поминки.
Флагов трехцветных и тех — полосатых,
Хватит с избытком, летящих в обнимку.
Ты — своеволец, простец и умелец,
Чудный солдатик — всегда в самоволке,
Давнего времени красноармеец,
Переложивший слова и обмолвки,
Все, что сказали мы, будто для шутки,
Станет рассадой, взойдет и созреет,
Пусть же останется жизнь в промежутке,
Пусть ее дождик весенний развеет.
2012
Закат
Нине Королевой
Закат над заливом —
Атлантики больше,
На крышах и шпилях
Багровые клочья.
Вставайте из праха,
Кто жить расположен,
Последнее слово
Последнею ночью.
Мы жили когда-то в несносной остуде
Платя пятаками прозревшей глазнице,
Варили баланду в солдатской посуде
На Вечном огне у имперской границы.
У бедных ларьков над разбавленным пивом
Нас тень покрывала подземного моря,
Волна Афродиты толчком торопливым
И нас обнимала осадком в растворе.
И мы не заметили, как мы втянулись
В рутину погибели, хлада и тленья,
Мы ели с ладоней бесчувственных улиц,
Любили без повода и утоленья.
В пустой тишине, где гремели трамваи,
В подвалах, таивших чугунные топки,
Сложили мы жребии и караваи,
Связали свои — к отступленью — котомки.
Вставайте из праха единым порывом,
Разбитым полком, отступающим в воздух,
Сейчас над Сенатской, над Финским заливом,
Над урной, где души в объятьях бескостных.
2012
Карнавал
Пойдем по набережной мимо
мостов, буксиров, кораблей,
глотая завитушки дыма,
нам с дымом будем веселей.
Свернем налево, где похожий
канал на школьный мой пенал,
и пронесем под чуткой кожей
событий этих карнавал.
Дом, в разрисованной бауте,
и колокольня в «домино»
нам попадутся на маршруте,
но по порядку. Сведено
не только в плещущие хлопья
разброда масок и гульбы,
где перепрятаны в лохмотья
фасады, улицы, столбы.
Теснится город под присмотром
всей клоунады заводной,
он летним облаком размотан
над Петроградской стороной.
Он убегает, как служанка,
сто глупостей наобещав,
и оставляет, что не жалко —
свистульку, пуговицу, шарф.
Призыв
А что если Бог — это высший художник,
Создавший икону, простой подорожник,
И ямб, и хорей, и анапест,
Придумавший кисти, и краски, и слово,
И все, что для нашего дела готово,
Сложивший все это крест на крест.
В такой мастерской подрастаем мы вечно,
Старание наше да будет сердечно,
А плата — по лучшим расценкам.
Заказов — довольно, не только монархи,
И те, кто штампует почтовые марки,
И небо рисует на стенке.
Мужайтесь же, братья,
Причастья и платья
У нашего Господа хватит,
А если он отбыл по срочному делу,
К иному пространству, к иному пределу,
То Время труды нам оплатит.
ПОВЕСТЬ И ЖИТИЕ ДАНИЛЫ ТЕРЕНТЬЕВИЧА ЗАЙЦЕВА
Автор «Повести и жития» — старообрядец Данила Терентьевич Зайцев, родившийся в 1959 году в Китае и выросший в Аргентине. Рукопись, состоящая из семи тетрадей, представляет собой объемное (около 27 авторских листов) сочинение об истории переселения старообрядцев («синьцзянцев» и «харбинцев») из России в Китай и далее в Латинскую Америку и их жизни в южноамериканских странах. Автор начал писать книгу в ноябре 2009 года, по возвращении в Аргентину после неудачной попытки обустроиться с семьей в России; последняя тетрадь завершена весной 2012 года. Текст написан от руки гражданской азбукой, фонетическим письмом, отражающим живое произношение.
Рукопись подготовлена к публикации О. Г. Ровновой — лингвистом-диалектологом, исследователем языка старообрядцев Южной Америки. Текст переведен ею в нормативную литературную орфографию с сохранением наиболее ярких особенностей диалектной речи автора; знаки препинания поставлены в соответствии с современными пунктуационными правилами; значения диалектных слов разъясняются в постраничных сносках.
Новая надежда
Cередина ноября — в Аргентине поздняя весна, жарко, болит нога — местная колючка пропорола подошву. Колючки тут везде. Мы вышли из машины. Я бреду, прихрамывая, по высокому берегу озера, вверх, едва поспевая за Данилой.
— Увидишь сам, где деревня будет стоять. Красота!
И вот перед нами раскрывается огромное рукотворное озеро. В прошлом году мы ловили тут рыбу, Данилин старший сын Андриан ставил тогда три сетки — наловили три картофельных мешка.
— Вот она — Нуэва Эсперанса! — Данила стоит, как ветхозаветный Моисей, воздев руки. Он взволнован, смотрит вниз на бурую, слежавшуюся землю, поросшую колючим кустарником. — Здесь, на террасе, построим большую деревню. Всем земли хватит, многие собираются приехать.
Нуэва Эсперанса означает Новая Надежда. Он шел к ней всю свою непростую, кочевую жизнь. Вечером у костра Марфа, его жена, скажет: «Я тут посчитала, мы с Данилой пятьдесят один раз кочевали». Скажет просто, но не сдержится, улыбнется, спрячет за улыбкой смущение.
Гонимые властями русские староверы постоянно «кочевали». Уходили все дальше от центра, от его неправедной жизни, пьянства и табака, от притесняющих властей. Забирались в алтайские горы, в удэгейские сопки Приморья, в глухую тайгу. Бежали и дальше — кто смог и успел — от нечестивой советской власти в китайскую Маньчжурию в 1930-х, потом, когда Мао стал загонять в колхозы, потянулись в Гонконг на пересылку, оттуда поплыли на край света в Латинскую Америку. Из Латинской Америки многие позднее уехали в Северную Америку — в штат Орегон, Аляску, в Австралию и Канаду. И вот теперь, в начале XXI века, небольшая часть староверов (две семьи — 80 человек) вернулась в Приморье.
Был среди возвращенцев и Данила Зайцев. Не прижился, вернулся назад в Аргентину, и вот теперь, в 2012-м, кажется, наконец сел крепко. Получил землю и собирается строить Новую Надежду. Круг замкнулся? Одиссея закончена?
Не знаю, но очень надеюсь.
Пятьдесят три года жизни. «Одиннадцать детей, пятнадцать внучат», как напишет он о себе в одном официальном документе — не без кокетства, но и с гордостью, напоказ выставляя свое истинное и пока единственное богатство. Пятьдесят одно кочевье. И твердое понимание, что нужно сделать, чтобы сохранить привычный с детства уклад, родной язык и, главное, завещанную отцами веру, чтобы все это богатство не растворилось, не потерялось, не сгинуло в других землях, на другом континенте.
Сколько раз он корчевал лес? Вырубал и жег кустарники? Ровнял бугристую землю? Сажал и собирал урожай? Столько, сколько было надо. «Работали тяжело» — постоянный рефрен этой удивительной повести, что следует за кратким предисловием.
Тяжелый труд сродни молитве — долгой и вдохновенной, как научили. Неспешной. Глубокой. Но почему-то всю жизнь зацепиться за свою землю, осесть крепко не случалось. И шли дальше. И ссорились с женой, не уживались с соседями, прощали обманы, уходили. Как уходили их предки.
И всегда теплилась мечта — заводить поутру свой трактор и отправляться на свою пашню…
Староверы Латинской Америки, как и любые переселенцы, начинали с нуля. Это сегодня в бразильских и уругвайских деревнях стоят на дворах огромные зеленые комбайны «Джон Дир», ценой с хороший «кадиллак» или «порше». Третье поколение староверов обрабатывает уже по сотне, и зачастую не одной, гектаров земли. И в разговорах вспоминают первый простенький трактор — вспоминают как счастье: начинали-то на лошадях. Богатство у староверов приветствуется. «Будь богат, но будь милостив!» Вторая половина формулы куда как важнее. Они работают весь световой день, без дневного пересыпа в самую жару — без сиесты, как тут принято, и копят: иначе не выжить группе людей, крепко держащихся за религиозные устои — главное, ради чего и стоит жить. Все знают: на земле они — странники, трудятся ради той, иной жизни. Но живут этой, обычной.
«Повесть и житие» — книга не обычная. Она стара, как христианский мир, потому как опирается на древнюю, средневековую литературную традицию. Она на удивление горяча: традиция оказалась живой — и это ли не чудо?
Рассказ начнется с перечисления предков — с того, что свято для всякого старовера: без знания многочисленной родни ни женить сына, ни выдать дочь замуж, родство до семи колен — барьер, сохраняющий кровь в чистоте. Родословная — та же история, одно тянет другое — и вот восстают из небытия образы мучеников, страдавших за веру совсем недавно, в окаянном двадцатом веке. И здесь рассказчик следует канону подобных писаний: свидетельство — закон для христианина. «Повесть и житие» — емкое, точное название и одновременно определение жанра, отсыл к первоисточникам. Книга вскоре вырулит на сегодняшнюю тропу, чтобы в постоянных отступлениях возвращаться назад. Время едино для древлеправославных христиан — нового народа, каким они осознают себя по сравнению с ветхими иудеями. Муки первых византийских и малоазийских страдальцев за веру, о которых читают в Прологах по воскресеньям, они воспринимают так же остро и свежо, как незабвенные муки пострадавших от рук большевиков дедов и прадедов. Эти временные сдвиги, сбивки обогащают дыхание прозы Данилы Терентьевича, создают особый узор, что сродни староверческой вышивке, вобравшей в себя умения всех времен и стран, что пришлось им пройти на своем пути.
Всякий, кто прочтет эти первые две Тетради (а всего их семь), кто окунется в покаянный рассказ Данилы Терентьевича, не сможет не почувствовать силу его слова, слога. Порой кажется, что тяготы, выпавшие Даниле Зайцеву, не под силу человеку. Но в книге легко уживаются вещи страшные и веселые, смех и юмор соседствуют с неподдельным страданием и страстями, низкое идет об руку с высоким, а Божественное спутешествует с богохульством. Голос рассказчика прям, он тянет, как локомотив, и этот разговорный ритм не оставляет и поражает и заражает особой силой и красотой нелитературной, диалектной русской речи, узаконенной на страницах повести силой писательского дара. Как ни наивны кажутся порой слова, как ни смешат ошибки правописания в рукописи, за которые в школе поставили б жирную двойку, — за этой простотой предельная, покаянная честность и традиция назидательно писать о прожитом, сверяясь с собственным музыкальным слухом. Ведь этот рассказ создан не только для нас, но и непосредственно для одиннадцати детей и пятнадцати внуков.
Эта дорога-жизнь, а точнее — путь, как воспринимает свое бытие христианин, усеян колючками, будто аргентинская пампа, и кажется, никогда не осилить слежавшуюся, засушливую землю, никогда не расти на ней ничему, кроме сорняка, но проходит год, другой — и руки делают то, чего глаза боятся, и земля оказывается выровненной, вода подведенной. Стеной стоит кукуруза, ветер играет широкими листьями, поле шепчет, разговаривает на своем, особом наречии, впитывая жаркую энергию солнца. Над зеленым морем носятся огромные ватаги диких голубей-вредителей, но их нельзя стрелять: голубь — символ Духа Святого. Рядами тянется фасоль-фижон, жирные линии сои-бобов уходят за горизонт, в мохнатых плетях горят оранжевые, желто-красные пятна тыковок, висят кровавые грозди помидоров, зреют арбузы и сладкие дыньки, непричесанной шевелюрой торчат во все стороны перья лука. Нет конца работе, она как колесо жизни, как молитва, и в ней, в ежедневном труде на пашне — вся философия жизни земледельца, которую могут осилить только упорные и сильные духом.
Упорство бредущего сибирскими дорогами Аввакума, несгибаемая воля его духовных чад, стремящихся к личной свободе, прорастают в этой повести, как зерна, брошенные в землю, неуклонно и мощно сквозь гущу сюжетных перипетий; повторы, скороговоркой перечисленные имена создают объем, ощущение живой, пульсирующей жизни. Бесконечные голоса безвестных нам людей с упоительными, забытыми, почти греческими, еврейскими, взятыми из святцев, именами, поселяются в читающем книгу и долго не оставляют, звучат, как поминальная молитва. Эти голоса переданы диалектным языком синьцзянца — писателя, проборматывающего текст перед тем, как подарить его бумаге. Они звучат мудро, сварливо, злобно, кичливо, радостно, простодушно, честно, истерично, грозно, твердо, благочестиво и рождают мощный хор — незнакомый нам доселе мир русского крестьянства, забытого, забитого, растоптанного неумолимым и недальновидным ходом истории здесь, в России; голоса особого племени, откочевавшего в дальние пределы и «дёржущегося в вере» на краю света. Там, где «работая тяжело», еще сохраняют то, ради чего и идут они по этой земле, ради Высшей Правды, без которой жизнь земная — пустой звук, поросшая колючками, необработанная пампа.
Петр Алешковский
sub ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ /sub
sub 1 /sub
Предки моего отца. Прадед Сергей Зайцев из Томска, прозвища кержаки. Хто и в како время выехали из Керженса [1] , не знаю. Дед Мануйла Сергеявич родился в Томске в 1898 году, в 1906 году переехали в Горный Алтай, а в 1918 году переехали в деревню Надон.
Предки моего отца с материной стороны. Прадед Агап Пантелеяв из Алтая, Бухтармы. Баба Федора Агаповна родилась в 1903 году, в 1919 году переехали в деревню Надон, и в тем же году вышла замуж за деда Мануйла. В 1921 году родилась Елена, 10 апреля 1922 года родился тятя Терентий Мануйлович. Баба Федора родила шестнадцать детей, но в живых остались семеро: Елена, Терентий, Капитолина, Григорий, Харитинья, Александра и Прокопий.
Семья Зайцевы были умеренно религивозны. Весёлы, голосисты, музыканты, в доме водилась гармонь, балалайка. Вели жизнь спокойну, жили в достатках, имели скота, сеяли зерно, были хороши рыбаки и охотники, жили умирённо, не захватывали и не завидовали, к религии относились благожелательно, но не аскетами, хотя деда Мануйла брат Егор был наставником. Жили очень дружно и весело, в деревне имели дружбу со всеми, и за ето их любили, часто их дом был забит гостями, играла гармонь и балалайка, и пели песни.
Предки моей матери.Прадед Корнилий Захарьев, по прозвищу кержаки. В како время выехали из Керженса — неизвестно, как попали в Алтай — не знам. Мой деда Мартивьян Корнилович родился в 1902 году в деревне Чинкур.
Предки моей материной стороны. Прапрадеда Иларивон Шутов с Урала, потом стали называть Шутовскя заимка, а впоследствии переименовали в Шутовские заводы. Был очень богат и очень религиозный, соблюдал все заповеди Господни, был добр и милостив. Но смерть его страшна и чудна. Когда пришли красны к власти, раскулачили и нашего прапрадеда. Казнили как могли, вырезали ремни, жгли, били, топили, издевались, томили в тюрме. Бог знат что только ни делали, и в консы консах [2] повели их на расстрел. Поставили их к стене, дали команду «огонь». После выстрела все пали, а наш прапрадеда Иларивон как стоял, так и стоит. Подошли, в упор ишо выстрелили — он всё стоит. Подбежал старшина, хотел сашкой зарубить. Сашка переломилась — он всё стоит. Все обезумели. Он попросил пить. Подали ему напиться, он пивнул трижды, вообразил на себе крестное знамя, ляг и скончался. Ето всем было ужасно.
Прадед Савелий Иларивонович скитался со своей семьёй и как-то попал в Алтай, деревню Чинкур. Наша баба Евдокея Савельевна родилась в 1905 году, в Чинкур попала девкой, от 1924 по 1926 год. Попали зимой — голодны, холодны, оборваны, настрадавшись, обратились к прадеду Корнилию Захарьеву за помощью. Захарьевы жили по-богатому. Прадед был очень религивозной аскет, но не милостив, за любую провинку детей избивал до полусмерти. Деда Мартивьян был старший, от все етих побояв получился травмирован, стал полудикой и боялся всего. Даже когда приходили из моленной, прадед спрашивал, какоя сегодня было поучения, у детей поочерёдно. Увы, ежлив подробно не расскажет!
Вот прадед Савелий Иларивонович когда обратился к прадеду Корнилу, тот посмотрел на семью и сказал: «Отдашь Кенкю за Мартьянку — помогу, нет — как хошь». Родители погоревали, потужили. Что делать? Холодно, голодно, дочь жалко, жених пугливый — потужили да и отдали. Баба Евдокея его не любила, но что поделашь: родители просют, да и ситуация заставляет, а пойти против родителей — ето Бога оскорбить.
Сколь прожили и когда женились — не знаю, но мать моя Настасья Мартивьяновна родилась 29 ноября 1933 года.
sub 2 /sub
1933 год — начин войны, дунганы с Китаям. У дунганов план был завоевать у китайцев провинцию Синьцзян, особенно Горный Алтай. Стали наступать на город Шарасума, по пути к городу каки деревни попадали китайски, вырезали всех, женчин и детей. Ето грозило и русским. Начальник города дутун знал, что китайцам с дунганами не справиться, так как оне невоисты. Обратился к нашим старообрядцам отстоять свой город, так как оне хорошие охотники, только оне могут помогчи. Послал отряд к русским старообрядцам с просьбой подать руку в беде. Наши боялись ввязываться в такие конфликты. Етот отряд китайцев, который шёл к нашим, — в пути их перехватили дунганы и всех перебили. Один раненый коя-как добрался до нас и сообчил, что дунганы за своим следом ничего не оставляют.
— Дутун с просьбой к вам: помогите прогнать дунган. Ежлив оне нас победят, всему населению будет беда и вам, русским, ета же судьба.
Тогда наши задумались и решили послать отряд в сорок человек хороших охотников. В пути сорвали один пост, взяли три пленника и указали: «Проводите нас в город Шарасуму, и мы вас убивать не будем, а нет — тут и положим, а в дороге все равно найдём провожатого». Пленники знали, что ето не пустые слова и разговор идет с честными людьми, повинились и ночами провели в город, наши их не тронули и отпустили.
Дутун с радостью принял наших бородачей, и всему городу была большая радость: знали, что к ним пришли славные охотники, которы их кормили мясом.
Тут наши организовались и пошли в наступление. Дунганы почувствовали силу русских, пошли на отступление. Русски сняли осаду с города и погнались за ними вместе с китайцами, прогнали и вернулись в город. Их встретили с великой радостью. Дутун просил наших остаться в полку, но наши не захотели и уехали домой.
После етого время стало неспокойно. Банды дунганов набегали на деревни и грабили, жгли, казнили и так далее, появлялись советские шпионы и разжигали дунганов. У дунганов было хорошее оружие, откуда оно — конечно, советское, а у наших самоделашно, вот и отбивайся как хошь.
sub 3 /sub
Однажды советские пригласили наших старообрядцев на охоту, в ету группу попали троя наших. Наш деда Мартивьян и ишо два мужика ушли и больше никогда не вернулись, и советские также — вот и догадывайся, что с ними получилось. Маме было шесть месяцав, осталась сироткой. Бабе Евдокее пришлось пахать и сеять, но она была сильна и здорова, кротка, богобоязна, добрая, её все любили и всегда называли Савельевной. Как-то раз в праздник на речке шутили и здумали бабу Евдокею сбросить в речкю, но не смогли. Было их трое, баба всех сбросала в воду; свёклу одной рукой сжимала. Многи сватали вдовуху, но она ни за кого не выходила.
Так прошло десять лет. Тут появился Демид Шарыпов и давай сватать прилежно — баба Евдокея никак не выходила. Тут посторонние стали сватать: дескать, ты одна, тебе трудно, жених богатой. Но все знали: Демид Шарыпов злой, первая жена ушла в могилу лично от его рук, оставила ему дочь Наталью. Баба Евдокея погоревала да и вышла замуж за него. Ето вышло за то, что в ето время жила с мамой ни кола ни двора.
Почему так получилось. Было ето в 1934 году, маме был год, дунганы начали мстить русским, за то что русски освободили китайцев. И вот набегают дунганы на деревню Чинкур. Баба Евдокея высаживала хлеб в печь, увидела сдалека пыль и догадалась, что ето дунганы, схватила коня, маму под мышку и убегать, за ней ишо один дед. А остальных в деревне всех заказнили, больших и маленьких, и всё сожгли. Русские за ето обиделись и давай их выслеживать и бить. Обчим [3] , спокойно не жили: хлеб сеяли, а винтовки всегда под боком были.
Баба Евдокея родила Демиду сына Степана и дочь Марью, маме было уже двенадцать лет. Демид Шарыпов правды очутился очень злой. Когда едет с работы, вороты должны быть открыты и на столе пища подана не горяча, не холодна. Не дай Бог что не так — всем будет беда. Маме доставалось всех больше, так как она ему была чужая, за ето он её ненавидел и издевался как мог, бил как хотел.
У бабе Евдокеи окромя отца было двоя дядяв и одна тётка — Анатолий и Егор и Парасковья. Дядя Анатолий и тётка Парасковья остались в России, но судьба их неизвестна, а дядя Егор был в Китае. У бабе было два брата — Михаил и Ефим. Отца Савелия и брата Михаила убили на войне, а Ефим служил до последу.
Как толькя затихла с дунганами война, народ стал обживаться. Ета тишина стояла всего четыре года. Тут появился вождь Кабий — мусульман, но пошёл на китайцев и собирал войско, хто попадёт. Зашёл и к русским, хотел и русских забрать, но русски отказали: мол, оружие у нас нету и с китайцами не хочем враждовать. Кабий сказал: «Хорошо, мы у вас возьмём двух и заложников и поишем оружие. Ежлив найдём, то всех вас перережем». Вот тут-то было переживания. Но слава Богу, не нашли, спрятано было очень хорошо, тогда заложников отпустили, и кабиевцы пошли на китайцев одне. Китайцы их поджидали город Канас, у них стоял 10-й полк. Как толькя кабиевцы подошли, китайцы ударили с миномётов, кабиевцы стали отступать, а китайцы за ними. Ета война продолжалась не больше трех месяцев, и опять стала тишина два года с половиной.
Тут появился новый вождь, Оспан Батур, каргызин [4] , и собирал войско — всех, хто попадал под руки. Хто не шёл, того казнил, так что и русским пришлось пойти служить Оспану. Опять же политика была советская, советские дали Оспану оружие и дали флаг красный со звездой и полумесяцем. Ето было от 1940 года по 1950 год. Советская политика была такая: китайцев с мусульманами сразить, а русских вернуть в Россию, Оспану внушали: «Завоюешь провинцию Синьцзян — будет ваша».
На ету войну попали дядя Ефим Шутов, деда Мануйла Сергеевич Зайцев, хотя оне и были на дунганской войне. Тяте было восемнадцать лет, он тоже попал на службу, прослужил один год и пошёл на войну. Ета война была нечестна, Оспан был не главнокомандующим, а как бандит, грабил, казнил, насиловал, сжигал, вёл всяки несправедливости, в полку имел шпионов советских. Ето притесняло наших старообрядцев, но некуда было податься.
Советские открыли експедицию в Китай, и добровольсов принимали хорошо и платили хорошо. Тятю в 1946 году ранили, и он попал в больницу, пролежал в больнице три месяца. За ето время оне списывались с отсом, и дед Мануйла внушал тяте: не вёртывайся в отряды, потому что нет справедливости, убили того-другого-третьяго. Тогда тятя ушёл на експедицию и работал у советских, и много русских так же поступили, Оспан из рук советских не мог никого забрать. А в деревнях появились советские консула и стали агитировать, чтобы вернулись на родину, сулили горы: «Ничто вам не будет, нарежут вам земли, и будете жить спокойно, в России свободно». Но мало хто им верил. Слухи были противоположны: в России народ голодовал и жили нищими.
Однажды к Оспану подъезжает с отрядом вышняго рангу чиновник и друг Оспану — Жёлбарс и стал при всем войске внушать Оспану:
— Друг, брось оружие, ето кончится нехорошим. Советские стравляют вас с китайцами и весь Китай объединяют, всех нас ждёт одно уништожение, и ето кончится нехорошим.
Оспан отвечает другу:
— Ха, я здесь хозяин, всё ето моё. Никого не допушшу, всех вырежу, но землю не отдам.
Тогда Жёлбарс другу:
— Но, друг, как хошь, — и громким голосом крикнул: — Хто за мной?
Тишина, и двадцать пять солдат вышли вперёд, все русски. В етим отряде был наш дед Мануйла. Жёлбарс сказал:
— Хорошо, на таким-то месте буду ждать двадцать четыре часа, подумайте хорошень.
Тут наши старообрядцы задумались и решили все уйти с Жёлбарсом. Но советский шпион Осип предупредил Оспана не пускать русских солдат к Жёлбарсу: «А то обессилешь». Утром, когда русские были готовы выехать, Оспан приказал всех обезоружить, а хто побежит, того казнить. Тогда русские потихонькю стали уходить на експедицию к советским.
В деревнях получились две партии: красные и белые. У красных была власть, и оне творили что хотели, грабили, били, издевались — над своими же. Мужики были на войне, жёны одне дома, и красны что хотели, то и творили. Много таких было, но лично нам запомнился — фамилия Шарыповы. Сам отец, Василий Васильевич Шарыпов, был поморского согласия наставником, а сынок Яков Васильевич — красный атеист, изъедуга [5] , кровопивец. Ниже узнам о етой фамилии. Все ети красны имели советские паспорта.
На одной из деревень жила и баба Евдокея и рассказывала, как красные поступали с местным населением: садили на лёд, вымогали золото, грабили, уводили коров, забирали всё — продукт, посуду, оставляли голых. И слова не скажи — сразу казнить. Пошёл голод. Хто посмелея, побежали на юг в Илийский округ за 1000 вёрст, в город Кульджу: там было тихо.
Баба Евдокея жила за Демидом Шарыповым — однофамильсами, но не родственниками с теми Шарыповыми. Были александровского прихода часовенного согласия, жили в достатках, у Демида всё было клеймёно, он был мастер на все руки. У бабе всё расташили: баню, городьбу [6] , дословно всё.
У Оспана было два русских офицера: Никифор Студенко и Лаврен Рыжков. Лаврен был идивот, трус и так далее, Никифор был герой, любимый солдатами и так далее. Впоследствии Лаврен Рыжков очутился в Бразилии и Никифор Студенко очутился в Парагвае. А ето получилось вот так. Всё предвиделось, что с Оспаном всё кончится плохо, ночью собрались триста русских солдат и ушли от Оспана; в етой группе был и Демид Шарыпов.
1949 год. Тятя и все мужики вернулись с експедиции с документами и взялись за красных — вёртывать всё. Тут и баба Евдокея всё своё вернула, так как у них было всё клеймёно. Тут был большой позор красным изменникам, и советские не вмешивались: знали, что изменники поступали неправильно.
Тятя в 1949 году посватал маму. Маме было семнадцать лет, а тяте двадцать семь лет. Баба не отдавала, говорила: парень разбалованный, семья слаба. Тут сватали молодыя ребята и религиозны, но маме тятя понравился: красивый, весёлой, сапоги хромовы. Не послушала бабу: пойду да пойду. Но баба со слезами отдала и говорила: «Настькя, будешь слёзы лить».
Расскажем маленькя об Ивановых. Фёдор Иванов с России попал до революции, в каки годы — неизвестно. Когда наши бежали с России после революции, то Ивановы уже жили очень богаты. На речке Сандырык копали золото, то Ивановы его скупали. Фёдор Иванов был грамотный и умный, все его любили, и все к нему шли на работу охотно, потому что он платил очень хорошо, за хорошу работу всегда переплачивал и был милостив, часто ставил обеды бедным; хто приходил с просьбой, всегда шёл навстречу, никогда не отказывал. Популярность его всегда росла, и выбрали его губернатором. Служил он честно, все его любили. Был у него один сын Сидор Фёдорович, а у Сидора пять сыновей и три дочери. Живут в Бразилии.
1950 год. Комиссия властей — китайцев и советских — приехали проверить, что же войско Оспана, и решили, что ето просто банда, и решили заплатить хорошу цену, хто выдаст Оспана. Тут нашлись свои же каргызы и, связанного, отдали его китайцам, а остальным власти китайски объявили сдаться. Русски сразу сдались, их посадили на слабым режиме — кого как, по-разному.
Про деда Мануйла никаких новостей, но знали, что он ушёл с Жёлбарсом. Но ето был очень умный человек. Он прождал двадцать четыре часа; так как нихто к нему больше не пришёл, он отправился со своим отрядом мирным путём, никого не обижал, с нём шёл американский консул. Оне через Монголию и Тибет попали в Индию, там оружие сдали, им дали свободу. Наши русски, двадцать пять человек, через американскоя консульство попали в Америку, в Нью-Йорк. А те триста человек, в которым дед Демид Шарыпов, отступали, шли пакостили, громили, местное население обижали. Их окружили, всех пословили, кого казнили, кого расстреляли, так что баба Евдокея опять осталась вдовой.
Тут появился советский какой-то Лескин. Но ета политика уже была — русских вернуть в Россию, а китайцев усилить во всем регионе. У каргызов на флагу убрали полумесяц, и стал китайский красный флаг со звездой. Русских старообрядцев стали притеснять, чтобы вернулись на родину. Хто сумел заполнить анкеты — запрос в ООН, тот сумел спастись, а хто не сделал запрос, те все вернулись — но не на родину, а на целину: в Киргизстан и Казахстан. На границе их обобрали и оставили без ничего. Вот тебе и земли и свобода!
У тяти с мамой в 1951 году родился сын Симеон, прожил шесть месяцев и помер, в 1953 году родилась дочь Евдокея, в 1955 году родился сын Степан. В 1956 году переехали в Илийский округ, город Кульджа, деревня Кинса, тут в 1957 году родился сын Григорий, в 1959 году родился сын Данила, в 1961 году родилась дочь Степанида.
Тятя принадлежал собору слабому, звали его общиной старообрядцев. Употребляли всё с базару, обряд тоже не соблюдался, одевались по-городски, за музыку ничто не говорили, имели балалайки, гармони, пели песни, танцевали и т. д. Тятя на службе и на експедиции нахватался вредных привычек: пить напитки, курить, ходить по девкам, материться. Но жениться не хотел на развратнице, искал порядошну и религиозну девушку. А мама как раз была такая: вырашена в строгим религиозным режиме, с базару ничего не брали, обряд строго соблюдался, и музыки были под запретом. У тяти с мамой сразу же после свадьбе пошло коса на камень: с одной стороны всё можно, с другой — всё грех и нельзя.
А тут пришёл со службы дядя Ефим Савельич Шутов, бабин брат. Всю свою жизнь провоявал и нахватался всего нехорошего — обчим, вернулся полным развратником, и схлестнулись оне с тятяй, и стали жить на все четыре стороны. Баба брата ругала, мама с тятей схватывалась, тятина мать не ввязывалась, так как сами жили по-слабому, дед в Америке, семья большая и было не до них. Тятя с дядяй Ефимом занимались охотой, были хороши охотники, били маралов во время пантов и сдавали китайцам, оне хорошо платили, а так ходили на козулю [7] и на свиньей и сдавали мясом.
Когда тятино родство [8] собралось в Россию, тятя тоже засобирался. Мама категорически отказалась: «Хошь — езжай, но я не поеду и детей не дам».
Баба Евдокея в третяй раз выходит взамуж — за Тимофея Корниловича Пяткова, вдовца, семеро детей, но очень добрый, порядошный и религиозный. Баба Евдокея до самой кончины хвалилась етим мужем, да и маме досталось много добра от него.
Дядя Ефим Шутов женился не знаю когда, но взял вдову, Марью Епифановну Ефимову, с двумя дочерями. Но почему-то ети дочери оказались в России, а оне родили шесть дочерей и одного сына. Сын помер, а остались у них дочки: Вера, Фрося, Марьяна, Паруня, Пана и Глива. Ниже опишем о судьбе етих девок.
Всё мамино родство собралось в Илинский округ, и тяте некуда было деваться, пришлось ехать с семьёй, а тятино родство уехали в Россию.
В Илинским округе старообрядцев было много. Климат мягкий, природа красива, земля плодородна, и войны не видали. Все жалели и говорили: «Где были раньше? Снег гребли, да и посевы делали на косогорах, а здесь какая благодать: паши да и сей сколь хошь».
Старообрядцы в 1950-х годах засобирались в южные страны. Говорили, что там калачи висят на кустах, не надо сеять хлеб, а жизнь как в сказках, всё доступно. Через ООН заполнили анкеты на переселение, но ето длилось долго. За ето начиншики-главари сяли [9] в тюрьму, за то что агитировают переселиться в демократические страны. Через долгое время ввязывается в ето дело Международный Красный Крест и стал решать судьбу старообрядцев. И вот по разрешению Красного Креста старообрядцы поехали в Гонконг. Но всё ето было медленно, всё рассматривалось: каки семьи, сколь детей, бездетны, старики, рассматривали болезни, и каки страны принимают. Но стран оказалось мало принимающих, ето были Австралия, Нова Зеландия, Бразилия, Аргентина, Парагвай, Чили.
Тятя всё тянул, обижался на маму, за то что не поехала в Россию. А люди всё ехали. В 1960 году решил заполнить анкеты и указал, что родитель находится в Нью-Йорке, США. Все ждали годами, а тятя через два месяца получил разрешение, потому что родитель в США.
В 1961 году выезжаем в Гонконг. Дорогой рождается сестра Степанида, мне было уже два года. Приезжаем в Гонконг. Матушки мои, сколь старообрядцев! Все гостиницы забиты. Тут наши родители узнали, что многи из старообрядцев приехали из Маньчжурии, город Харбин. Вот здесь и родилось прозвище «синзянсы» и «харбинсы».
Забыл описать. В 1958 году в Синьцзяне у старообрядцев забрали всё имущество и погнали в колхоз, но Красный Крест отстоял.
sub 4 /sub
Переселение с Приморья в Маньчжурию. Ето было с Бикину, Кокшаровка, Каменка [10] и так далее.
Тимофей Иванович Ревтов занимался посевами и охотой, жил богато, очень религиозной, порядошный и требовательный. У него было три сына: Анисим, Федос, Карп — и две дочери: Евдокея и Степанида. Речь идёт о Федосе Тимофеявиче.
Федос родился в 1905 году. Рос порядошным парнишкой, смышлёным, находчивым, весёлым — где Федоска, там всегда весело. Однажды бабушки остановили Федоску и спрашивают у него:
— Федоска, скажи, как спастись?
Федоска быстренько отвечает:
— Не смотрите в окно да не судите.
Рос он красавцем стройным: черноволосой, белолицый, голубоглазый, вежливый, ласковый, девки за нём ухаживали и любили. Когда вырос, стал хорошим охотником и добрым хозяином, а женился он на Главдее Степановной — некрасивой, большеносой, больной. Почему так получилось, неизвестно. И она шшиталась недостойна Федоса Тимофеевича, но за ето старалась во всём угодить ему, ходила за нём как за ребёнком, за ето он её сполюбил и дорожил всю жизнь. Но Господь не дал им детей, потому что она была больна.
Федос и женатым был ко всем вежливым и добрым, был речист и шутником. Как-то раз женчины стряпали на свадьбу пельмени, заходит Федос, говорит женчинам:
— Пятьсот пельменяв я один съем.
Женчины в спор, сделали залог, наварили пельменяв, поставили на стол. Федос помолился, сял за стол, благословился, ознаменовался крестным знамением, съел один пельмень, вылез из-за стола, помолился, поблагодарил хозяевов с хлебом-солью и сказал:
— Да, вы наварили пятьсот пельменяв, но я говорил: я один съем. Так что пришлось остаться голодным.
Все в смех:
— Но Федоска!
После революции советски стали и в Приморье законы утверждать, раскулачивать, в тюрмы садить. Старообрядцы стали уходить дальше в леса, а хто за границу, в Китай. С советской властью валюту сменили, и у многих деньги пропали. У Тимофея Ивановича Ревтова денег было сэлый мешок, он их принёс, высыпал и сказал: «Копил, копил и сатану купил». Он был очень скупой, и всё добро здря пропало.
Вот оне пошли дальше в лес, а советская власть за ними. В 1931 году оне решили уйти в Китай, а надёжда вся была на Федоса Тимофеевича, так как Федос Тимофеевич был опытной охотник, все леса знал и границу знал. Бежали своими кланами, избегали предательства. Вот зимой 1931 года Федос Тимофеевич собрал своё родство — 24 семьи, 24 подводы, — и ушли в Китай через реку Иман.
В Китае прятались от фунфузов [11] . Ето были банды китайски, оне грабили и казнили, немало заказнили и старообрядцев. Перву деревню Федос Тимофеевич основал, назвали её Красный Яр. Но прожили там всего один год и переехали на Удан, там прожили три года. Везде стречались свои старообрядцы, земляки с России.
С России клан Килиных, с Урала, пермяки. Александр Килин был богатый, религиозной, милостив, добрый, всем помогал, его в окружности все любили. Когда советские пришли, Килиных арестовали и на допрос. Стали спрашивать у местного населения про Килиных, и все в один голос сказали: «Ето очень добрые люди, мы от них видели только добро». Тогда советские им сказали: «Идите хоть куда, не оставайтесь здесь, а то будет плохо». И оне своим кланом поехали в Приморье и там видят, что старообрядцы уходят в Китай.
У Александра Килина было три сына: Яков, Савелий и Александр — и брат Яков, проживали оне в Приморье в разных деревнях. И решили послать в разведку в Китай Якова-брата, но он не вернулся. Килины затужили и послали сына Савелия, проводили до реки Уссури и отправили на лодке. Он долго плыл и всё смотрел, как мать махала платком, сердце чувствовало, что больше не увидятся. Так и получилось: их арестовали.
А Савелий попал на китайску сторону, давай разыскивать дядю Якова. Как-то удалось, нашёл ту деревню. Ето была деревня Удан, где жили Ревтовы. Как-то угадал к Тимофею Ивановичу Ревтову в ограду, давай стукаться, выбежала девка, прихрамывает: она напорола ногу на покосе, поетому была дома. Ето была Степанида Тимофеевна, младшая сестра Федоса Тимофеевича. Она вбежала домой и говорит:
— Мама, какой-то дядюшка стукается незнакомый.
Мать вышла и спрашивает:
— Вы хто, кого ишете?
Он отвечает:
— Я Савелий Александрович Килин, ишшу дядю Якова Килина.
Ему отвечают:
— Он долго хворал и как месяц помер.
У Савелия слёзы градом: остался один, без родных. Ему говорят:
— Заходи, поди голодный.
Все мужики на пашне. Он зашёл, но какой-то вид у него был жалкий и угрюмый. Вечером вернулись мужики с пашни, узнали, что у них гость, стали расспрашивать, погоревали и пригласили его жить вместе.
Парень угодил на все руки, непосидиха, бойкой. Федос сразу его сполюбил и давай ходить с нём на охоту, вскоре оне сдружились и были неразлучимы. Савелий Александрович за мало время завёл коня, корову и всё, что надо для дому, был хороший поскребок [12] . Но втайне любил Степаниду Тимофеевну, и она поглядывала на него с любовью. Савелий решил посватать её, она не отказала, согласилась, тогда он решил идти к родителям сватать невесту. Родители не отказали, а сказали:
— Ежлив вы обои согласны, нам толькя остаётся пожелать вам добра.
Оне его сполюбили и выдали за него дочь Степаниду. Федос Тимофеевич был очень рад, что любиму сестру выдали за друга. Федос Тимофеевич из братьяв и сестёр любил брата Карпа и сестру Степаниду, а брата Анисима и сестру Евдокею не любил, потому что они были суровы и конфликтивны, оне были в отца Тимофея, а Федос, Карп и Степанида в мать Татьяну — добры и ласковы.
Через три года выехали в Медяны, там прожили пять лет, там родились дочь Липистинья в 1935 году, Василий в 1937 году, Фёдор в 1939 году. Тут оне переехали в Топигу, там прожили пять лет, там родились Фетинья в 1941 году, Арина в 1943 году, Марк в 1945 году.
При Второй мировой войне японсы захватили Маньчжурию и заставили русских старообрядцев служить японсам. Служба подготовительна называлась «васано», а потом перешли в тиокай — в военную службу. Многи старообрядцы старались избежать службу, бежали дальше в леса.
Один случай, получилось так. Всех брили, а один старообрядец, Иван Кузьмин — борода была у него руса, густа, красива, и он сказал главнокомандующему:
— Бороду грех брить.
Главнокомандующий посмотрел на него, улыбнулся и сказал:
— Хорошо, посмотрим.
Иван догадался и бороду берёг, промывал, расчёсывал — так его и не обрили.
В 1945 году, когда советские пришли освободить Китай от японсов, Китай освободили, некоторы деревни старообрядчески прошли и мужиков забрали. Думали, что мужиков уведут, а семьи сами придут за ними, но семьи не пришли, а мужиков в России сковали и увезли в лагерь ГУЛАГ и дали им по десять лет каторги. В деревнях которых забрали мужиков: Романовка, Медяны, Селинхе, Колумбэ. А хто служил в тиокае, некоторых расстреляли. Мужиков, которых забрали в лагерь, попали из Медянов Савелий Килин, Фёдор Черемнов, Сазон Бодунов, и просидели оне до 1954 году девять лет в ГУЛАГе, но с семьями больше не встретились. Толькя Килины разыскали отца в 1980 году в Хабаровским краю, в деревне Тавлинка, и увезли в 1990 году в Бразилию, и там он помер возле детей и внучат и правнучат, но жены живой не захватил. Савелий Килин остался после лагеря до самой смерти травмирован, ночами соскакивал с постели, то полз, то убегал от советских — до самой смерти советские преследовали его.
Мужики, которы уходили на охоту, все уцелели и потом прятались, покамесь советские не ушли из Китая, вот так и Федос Тимофеевич уцелел. Было много слёз. Старша сестра Евдокея потеряла мужа Фёдора Черемнова, а младша Степанида уже известно кого, у обоих малые детки, особенно у Степаниде. Федос Тимофеевич приютил их и помогал им, покамесь не вырастил всех детей, и чужим также помогал. Вот отсуда родилось ему прозвище Всемирный дядя Федос.
После того как мужиков забрали, вскоре дядя Федос перевёз всех в Сэтахэза, завёл хорошу пасеку, ухаживал за пчелами и охотничал, и етим кормил вдовух и детей и обучал всех детей.
Однажды поинтересовался пошутить над детьми, оне часто приходили к дяде Федосу полакомиться мёдом. Дядя Федос налил большую чашку мёду, посадил за стол, принёс свежего мягкого хлеба и давай угошать детей. Видит, дети уже наелись, а мёду ишо много. Взял нож, подошёл и говорит:
— Вот не съедите мёд — зарежу!
Дети запереглядывались да как заорут в один голос! Дядя Федос не рад, что и подшутил.
Почему старообрядцы часто кочевали, особенно сильны в вере? Потому что сохранить етот принцип, оставить потомству веру, культуру и всё само наилучшая, бежали от всех развратов. Как толькя между них селились неверны, сразу собирали сходку и решали: мужики, надо уходить. Также и гулянки, как толькя начинали выпивать в деревнях, так же получалось: уходили от них.
Старообрядцы в Китае были прославлены охотниками, ловили тигрят, били зубрей во время пантов, били козуль, свиньей, медведей, и то всё сдавали китайцам. Особенно славились тигрятники. Ета охота была опасная, так как надо было ловить тигрят в живых и сдавать невредимых. Подвергались к разным опасностям, бывали и несчастные случаи, но охотники рисковали, потому что выгода была большая: за каждого тигрёнка три-четыре семьи проживали три года обеспеченно во всём, за кажды панты три семьи проживали один год, на мясе и пушнине тоже зарабатывали хорошо. Когда старообрядцы поехали в южные страны, китайцы очень жалели и уговаривали, чтобы остались и не ездили никуда, продолжали бы снабжать мясом и пушниной, пантами и тигрятами. Но на самом деле, когда коммуна усилилась, охота запретилась и имущество забрали, так что пришлось уезжать.
Консула тоже ездили по деревням и убеждали, чтобы вернулись на родину, тоже сулили горы в России. Одна группа молодожёнов собралась на родину, поверили консулу, поехали в Россию. В етой группе был друг Фёдора Савельича Килина, Иван Калугин. Ух какой заядлый советский! Никого не слушал и поехал в Россию с етой группой. Когда приехали в Россию, их обобрали и пустили: «Иди куда хошь, вы на свободе». Да, на свободе, но пожрать-то хочется. Куда ни придут проситься на работу, их не принимают. Вот оне побегали! И не знают, что делать. Им подсказали: пока не возьмёте партийный билет, вам работы не будет. Потужили да и пошли в контору, где берут партийный билет. В той конторе вычитали все законы, заставили отрекчись от Бога, от Пресвятой Троицы, от Богородицы и от всех святых. Вот тебе и Россия, и свобода, и мягкие горы — превратились в сталь и колючки. Иван Калугин жил три дня на вокзале, собирался умирать, но смерть не пришла, и пришлось идти в контору, и отказаться от Бога, и получить партийный билет. Тогда пожалуйста, приняли на работу, и он устроился водителям на автобусе. Ету повесть он рассказывал в 1980-х годах Василию Савельевичу Килину со слезами. И сколь раз хотел сам себя уништожить, но не смог, а превратился в пьяницу.
Старики, которы позаботились выручить своих и обратились в ООН, за ето просидели до пяти лет в плену у китайцев на каторге, но, когда вмешался Красный Крест, их отпустили. В етой группе был Иларивон Мартюшев, представитель старообрядцев, он уехал в Австралию.
Мартюшевы, Селетковы как приехали с России, не знаю. Иван Мартюшев охотник, а брат Тимофей — белый офицер, по прозвищу Тимофей Кузнецов. Советские его боялись, потому что немало он им насолил и был неуловим, но перед смертью сам известил о себе советским, уже в Китае, перед смертью. Но советски не тронули его, [когда] увидели умирающего: почитали за героизм. Немало чудесов он натворил.
Брат Иван Мартюшев был женат на Александре Селетковой, было у них два сына, Феоктист и Тимофей. Старший Феоктист — чудак и добрый, младший Тимофей — гордыня. И было у них четыре дочери — Агафья, Агрипена, Евдокея и Татьяна. В Китае жили оне в деревне Мерген, а потом переехали в Тимбаху. Отец Иван вскоре помер и оставил детей сиротами, мать Александра стала выпивать и превратилась в пьяницу, но вскоре умерла, оставила детей круглыми сиротами. Феоктист был уже женат, Агафья и Агрипена были взамужем, оставались Тимофей, Евдокея и Татьяна. Так как оне были красивы, их сразу разобрали. Татьяна родилась в 1944 году, десятилетня она осталась круглой сиротой, была красавица, но прокудница [13] , часто пакостила, и никакого надзору не было, ни к чему не приучёна, толькя в огороде ухаживать научилась.
sub 5 /sub
С 1955 года харбинсы поехали в Гонконг, там и встретились с нашими.
У харбинсов насчёт обряду было строго. Оне куплену одёжу не носили, толькя свою, у наших синьцзянсов было по-разному, хто носил, а хто нет. У синьцзянсов в Китае в деревнях были и неверующи, и разного согласия, и друг другу не мешали и жили дружно. У харбинсов наоборот — толькя одно согласия часовенно, и с неверными никогда не жили; дистиплина церковная была строгой, пение по крюкам и деменьством соблюдалось строго, был большой порядок. У синьцзянсов всё было слабже, пение было по напевке, крюков не знали. У синьцзянсов чин в моленных мужчины и женчины читали и пели, у харбинсов толькя мужчины читали и пели, женчинов не допускали, ради [14] соблазнов.
Харбинсы с 1957 года уже поехали в Бразилию и Австралию, синьцзянсы первы поехали в 1961 году в Австралию, в Аргентину и в Бразилию. Харбинсов было под четыреста семей, а синьцзянсов триста семей. На первым судне в 1961 году боле сотни семей отправились в Южну Америку, в Бразилию и Чили. В пути известили, что в Чили, куда везли русских, землетрясение, ето было в Девятым регионе, в Темуко. Тогда Красный Крест обратилось в государство Аргентинско, и Аргентина для пробы разрешила принять четыре семьи.
Первы переселенсы в Аргентину — ето были Можаевы, Зенюхины, Шарыповы и мы, Зайцевы. По океяну мы плыли два месяца. В Буэнос-Айресе нас устроили в никониянской церкви. Интересно, что в Буэнос-Айресе очутилось очень много русских белых — военных и светских разных чинов. В Буэнос-Айресе мы прожили три месяца, и нас переселили за 1100 километров от Буэнос-Айреса в Патагонию, на Чёрную реку, под названием Синяя долина, провинция Рио-Негро.
Дали нам по два гектара земли и матерьялу на дома и кормили нас три года. Но ето было не сладко: язык незнаком, ближний город сорок километров, и то через реку, все надо перевозить на пароме, а ето всё деньги, а их нету; климат, природа не по души.
Оказалось переселенсов четыре семьи и три согласия: Шарыповы — поморсы, Зенюхины и Можаевы — егоровски часовенного согласия, мы — александровски часовенного согласия. Шарыповы с Зенюхиными вечно что-то делили и всё ходили к нам жалобились, но тятя ни с кем не связывался, жил себе и горевал да маме доказывал [15] , за то что сманила ехать в ети страны, стал пить, курить да маму бить. Интересно, почему его ничего не интересовало и ничего ему было не надо?
Работали на местного помешшика, под именем Ревежя, садили картошку и помидоры, но расчёту никогда не видали, он что хотел, то и делал с нами. А чтобы выжить нам, мама ростила индюков, вывозили их в город и продавали, вот етим и жили, а вырашивала она их по триста-четыреста, индюки велись очень хорошо.
В 1966 году государство разрешило принять ишо сто семей: уверились, что переселенцы не конфликтивны, не политически, а чистыя трудяги. А привезли их сто километров ниже по етой же реке, под названием Важе Медьё, «Средняя долина», в посёлок Луис Бельтран. Неподалеку от етого посёлка, за пять километров, устроили две деревни, от етого посёлка в разны стороны: одна деревня под названием Чакра-20, вторая Коста Гута. Хто нас устраивал: Красный Крест всё ето в Толстовый фонд [16] передал, и помощь была немалая. А хто распределял: ето был Мариан и Юрий, фамилий не знаю, оне участвовали в Бразилии и в Аргентине, Красный Крест. На кажду семью давали по 50 гектар земли, один трактор с инструментом, матерьял для домов и зарплату на кажду семью, по величеству [17] детей.
Но Мариан и Юрий выдали на кажду семью по пять гектар земли, а вдовым и бездетным по два с половиной гектара земли, по одному трактору на кажду деревню, кирпичей на дома и кормили три года, а остальноя всё прикарманили. Старообрядцы на всё ето махнули рукой: за всё ето надо молиться, и всё ето чужоя.
Мы, четыре семьи, проживали на Синей долине, и нам было нелегко. Бывало так. Мама на Пасху Христову посылала нас к Шарыповым помолиться, а сама оставалась варить и стряпать на Пасху. Мы с радостью бежим молиться, нас в дверях стречает бабушка Аксинья, жена наставника, и говорит:
— Зайчаты, уматывайте!
Приташились мы домой, мама спрашивает:
— Вы что вернулись?
— Баба Аксинья выгнала.
Мама в слёзы и посылает нас к Зенюхиным: нас там не гнали.
Антошка Яковлевич Шарыпов, внук наставника Василия Васильевича, был боле проше из семьи, он часто говорил:
— Вы не из хорошей породе, а мы из хорошей.
Мама говорила:
— Ты посмотри, что внушают детям.
Ето те саменьки, которы получились красны и казнили своих, когда советские сказали им, что «вы красны, дак покажите пример, езжайте первые на родину». Нет, они улизнули и разбежались. Здесь им прозвища было «красножопики».
Как-то раз приезжает Юрий и спрашивает:
— Вы довольны? Вам, поди, ишо земли добавить?
Тятя и Можаевы отвечают:
— Нет, перевезите нас к своим, в те деревни.
Юрий отвечат:
— Хорошо, перевезём. — Потом обращается к Шарыповым и Зенюхиным и также спрашивает: — Вам земли добавить? — Оне с радостью согласились. — Им отвечает: — Землю Зайцеву и Можаеву возьмите, а их перевезём в Луис Бельтран.
К етому оне уже породнились: Василия Васильевича младший сын Евлампий, парень уже тридцатилетний, взял Татьяну Афанасьевну Зенюхину, сестру Макара Афанасьевича. Девка порядошна и красива, религиозна, а Евлаша Васильевич — развратник, табакур, пьяница и бабник.
sub 6 /sub
Нас переселили в деревню Коста Гута и дали нам по пять гектар земли и кирпичей на дом. В етой деревне было тридцать семей, ето были кланы Матвеевы, Снегиревы, Усольцевы, Овчинниковы, Пятковы, Самойловы, Антиповы, Масалыгины, Скороходовы, Можаевы и Зайцевы. Проживали, слава Богу, дружно, занимались фруктой и садили помидоры на рынок и на фабрику: в Луис Бельтране было две фабрики, производили помидорну пасту.
Мы садили каждый год по три гектара помидор и брали во кругову по семьдесят тонн с гектара, тридцать процентов шло на рынок, а остальное на фабрику. Одного трактора не деревню не хватало, приходилось работать на конях, но заработки были очень хороши, и народ стал покупать новые трактора. Брат Степан стал надоедать тяте:
— Купи трактор.
Тятя не хотел, говорил:
— Кони хороши.
Степан приставал:
— Все люди на новых тракторах, а мы чё, всех хуже, что ли? Деньги есть, купи трактор!
Тятя за ето ему вложил, но Степан не отступал, и мама туда же с Евдокеяй, и сусед Самойла Андреич Матвеев:
— Терентий Мануйлоч, Степашка прав: бери трактор, не прогадашь.
И вот тятя послушал суседа совет, он его любил: был очень хороший старик, порядошный, хозяйственный и религиозный. Тятя купил подёржанный, но в хорошим состоянии трактор.
Росли мы, как все дети растут, но запомнилось мне две вещи. Брат Григорий, когда его брали на руки, он вился как червяк и радовался, а меня когда брали на руки, я орал, не любил, чтобы меня брали на руки, любил играть сам себе; где играю, там и засну. Все говорили: «Какой-то нелюдимый». Когда пошёл в школу, у меня всё пошло хорошо, я старался, меня учительница любила, и школьники тоже, особенно девчонки, потому что я не давал их обижать и всегда заступался за обиженных.
Так как в России было коммунизм, за ето нам приходилось несладко. Нас аргентинсы не любили и называли нас коммунистами, а прозвища нам было «русо де мьерда» — русские говно.
Как-то раз весной идём в школу, нас было двенадцать ребятёшек [18] и девчонок, мне было девять лет. Идём нимо [19] садика, смотрим: шелковица спелая, подбежали, стали есть, хто в пакетики собирать. Смотрим, подъезжает полиция. Всех нас проводили в полицию, офицер угодил злюшшой, да как взялся нас бить резиновой колотушкой, заставлял нас падать, скакать, танцевать, петь, издевался как мог, все пакетики с шелковицей столкал нам в рот. С етого время я остался заикой. Стали рассказывать родителям, но оне знали, что ничто не выходишь. Полиция имела большой авторитет, да и русских ненавидела: коммунисты, да и всё. Бывало даже так: аргентинсы напакостют, а русским попадало. Мне досталось три раз от полиции ни за что, и у меня осталась травма, я возненавидел полицию.
Родители нас не проверяли, как мы учились, и ето большая ошибка. Я дошёл до четвёртого класса, и мня больше не пустили в школу, сказали: надо работать. Евдокея одна прошла семикласску, Степан до пятого, Степанида до пятого, а Григорий три года просидел во вторым классе, и в консы консов выгнали его из школе, потому что дрался, не учился и пакостил. На самом деле ему грамота не шла никакая, и дома он старался делать всё на вред, никого не слушался и пакостил, тятя за ето его избивал и нервы ему испортил, он остался навсегда травмирован — от полиции да от отца, и всегда говорил: «Никогда не покорюсь!» Бывало, тятя выгонял его из дому и он скитался: где в сене спал, где в кустах в чашше, и всегда мама его разыскивала и уговаривала. У его и с друзьями не шло, и тогда праздновал [20] с нами. Тут мне доставалось от него. Почему: дома я всегда старался угодить, тятя куда бы ни послал, я всегда бегом — коня поймать запрягчи, воды поднести, в кузнице, на лодке за веслами. Данькя туда, Данькя сюда — Данькя везде. За ето меня любили, с братьями и сёстрами я старался быть в дружбе, и с друзьями дружно, и в моленне старики любили. Читать не знал, а гласы все знал на память. Бывало, старики загуляют, приходют к нам:
— Данькя, спой на вот такой глас.
Мне стыдно, тятя крикнет:
— Ну, спой!
Приходилось петь.
Тятя маму спрашивал:
— Настасья, где ты такого цыганёнка выдрала?
Мама отвечала:
— У тебя надо спросить.
Люди, которы знали наше племя, говорили:
— Етот не в Зайцевых, а в Шутовых.
Я не знал, что ето обозначает. Вот за ето за всё мне попадало от Григория, он злился и мстил мне, а я всегда думал: «Женюсь, не буду так делать, как тятя, а буду всех любить равно».
У нас тятя как загулят, так всех нас разгонят, и маме попадало. Мама терпела и мучилась, но дошло до того, мама решила разойтись, почувствовала, что дети подросли и уже работают, предъявила:
— Давай разойдёмся. Живёшь не по закону, пьянствуешь, дерёшься, мне всё ето надоело.
«Да, — он задумался, — да, она права», и сказал:
— Я буду жить по закону, ежлив будешь мне во всем угожать.
— Да, — она сказала, — я буду во всем угожать, толькя иди в моленну и просись в собор и живи по закону.
Тут произошло следующе. Шарыповы с Зенюхиными не ужились вместе, дошло у них до винтовок. Евлаша Васильевич не жил с Татьяной Афанасьевной, а шлялся, и у них получилась вражда. Тогда Макар Афанасьевич Зенюхин приехал к тяте с просьбой и стал просить тятю, чтобы купить земли около деревни. Тятя ему помог, и оне переехали суда, а Шарыповы одне не захотели жить и тоже приехали и купили земли недалёко от деревни.
Тятя обратился в ту деревню и стал проситься в егоровский собор. Ему ответили:
— У нас наставника нету, мы собираемся и молимся без наставника.
Тогда тятя обратился к Шарыповым и стал проситься. Ему ответили:
— Ты жил не по закону. Поживи, приходи молиться, а мы посмотрим, как ты будешь держаться.
Тятя долго ходил и всё просился, но дед Василий Васильевич всё отлагал.
Вскоре мамин брат по матери Степан Демидович Шарыпов давай праздновать с Марьяй Васильевной Шарыповой. Тогда Василий Васильевич стал тяте говорить:
— Скажите Степану, чтобы с Марьяй не праздновал, а то принимать не буду.
Тятя ему говорит:
— Где же он нас послушат!
— А вот как хочете.
Мама стала брату говорить, он захохотал. Вскоре оне убежали в Буэнос-Айрес и нажили там дитя, тогда вернулись и пошли к родителям её, давай кланяться и прощаться [21] . Бабушка Аксинья вышла и сказала своёй дочери: «Ты не кланься, пускай он кланется: он виноват». Но он поклонился и прощался, их простили и приняли. Толькя тогда нас приняли, и бабу Евдокею Савельевну, и Ефима Савельевича Шутова. Вот какая справедливость.
Тятя всегда ходил молиться, дед Василий Васильевич всегда хорошо убеждал и читал хороши поучение, тятя изменился и стал крепким християнином.
Дед Василий Васильевич Шарыпов на самом деле был добрый и кроткий наставник, вся проблема заключалась в бабушке Аксинье, девичья фамилий Огнёва: жестока и злая. У них было три сына: Яков, Давыд, Евлампий — и две дочери: Мария и Лукерья. Все три сына угодили в бабушку, а дочери угодили в деда — кроткие. У Якова Васильевича и Марфе (фамилия девичья Ракова, тоже лукава, хитрая и ехидная) было у них четыре сына, шесть дочерей: Прасковья, Гаврил, Антон, Андрей, Анна, Ульяна, Ольга, Анисья, Ирина и Евгений.
Мы работали дружно, кроме Григория: он не хотел работать. Тятя никогда не нанимал рабочих, надеялся всегда на нас, но мы старались. Евдокея была тихая [22] на поворотах, но старательна, Степан слабый, часто похварывал, а мы со Степанидой крутые [23] , всегда вперёд наперебой.
К русской грамоте и славянской духовной мы мало учились. Евдокея и Степан учились у деда Тимофея Корниловича, а мы у маминой сестре по матери — моя крёстная мать, у неё учились. Я по-русски научился коя-как писать и читать, а по-славянски прошёл толькя азбучкю. Крёстна мало нас поучила, но и то слава Богу.
Наши старообрядцы набрали тракторов, инструменту. Земли стало не хватать, пошли по арендам, брали группами землю неровнену, ровняли и сеяли помидоры, заработки были хороши. Но тятя не захватывал, на ето не смотрел.
В ето время некоторы наши поехали в США на свой счёт. Иван Иванович Овчинников с сыном Германом продали тяте землю два с половиной гектара, и мы продолжались садить на своёй земле.
Слухи прошли, что в США хороши порядки, хороши заработки и власти порядошны, — засобирались в США. А тут в Чили настала коммуна, и в Аргентине стал президент Хуан Доминго Перон в 1973 году. Наши все напугались, и разом все в США. Тятя уже списывался с дедом Мануйлом, он его приглашал, но тятя всё тянул, мама всё молилась Богу и просила: «Ежлив к лучшему, то открой дорогу, а нет — закрой дорогу нам и нашему родству».
Детство я провёл очень весело, ето само незабываемое в жизни. Друзья мои были Усольцев Василий, Терентий, Венедикт, Снегирев Тимофей, Матвеевы Агафон, Фатей, Евтропий, Зенюхины Александр и Михаил. Праздновали очень весело и дружно. Зимой играли в шаровки, в чижик, в лапту, бить-бежать, из кругу мячом, в прятки, ходили рыбачить, весной ходили купаться, на реке ловили утят, гусят, пташат [24] и всё это ростили, летом ходили по фрукты, купались. Степан с Евдокеяй тоже праздновали очень весело. В ихней ровне [25] было очень много ребят и девок, играли оне тоже в те игры, что мы играли, и окроме того в круга — в хороводы, пели песни, плавали на лодках, ходили в кинах.
Евдокея праздновала с Антоном Самойловичем Матвеевым, оне очень друг друга любили, в 1973 году хотели после Пасхе свадьбу сыграть, но Великим постом Антон попал в аварию и его убила машина. После того Евдокею сватали много женихов, но она не пошла больше ни за кого.
Степан праздновал с Палагеяй Ивановной Снегиревой, у их любовь кака-то была необычна. Как чичас помню: работам на пашне, и Степан часто стоит задумается, или улыбается, или грустит. Евдокея всё смеялась и говорила: «Что, Стёпонькя, грустишь?» Степан очухается и смеётся — у их всегда были каки-то тайные советы.
Но судьба распоряжается по-своему.
В 1974 году приезжает с Бразилии Мефодий Лавренович Рыжков — красавец миллионер, и именно стал сватать Палагею Ивановну. У Палагеи отца не было, он погиб в Китае, мать Марья Самойловна стала советоваться со своими: у их како-то родство побочно было с Мефодиям, и вот тебе. Самойла Андреич всегда говорил Степану:
— Степашка, руби тополинку! [26]
А Степан всё отвечал:
— Ишо молодой.
И вот оне решили отдать за Мефодия. Степан ходил сам не свой, плакал, нервничал, злился, и Палагея дала ему знать, что она готова была бежать из-под венца за него. Он был несмелый и проспал свою судьбу. После того мы Степана такого весёлого не видали никогда.
У Степана с друзьями отношение всегда было очень хороше, и с девчонками тоже. У Антона Яковлевича Шарыпова как-то с друзьями не ладилось, и он всё ластился к Степану, поетому оне всегда были вместе. Но вскоре коварная судьба распорядилась по-своему.
sub 7 /sub
Все уехали в США, в штат Орегон, в Аргентине осталось всего девять семей, порядошных всего три семьи, включая тятю. Но праздновать уже было не с кем: хто остался — ето были дети пьяницев и уже пили и любили споить. Нас одолила тоска, не с кем было праздновать. Говорили тяте:
— Тятя, поехали в Америку! — Тятя не хотел.
Суседи говорили:
— Терентий Мануйлоч, не сиди: дети большие, с кем будешь определять детей? Не поедешь — детей потеряшь.
Тятя всё отнековал, мы настаивали:
— Но тогда скупай землю у людей, хто уезжает, деньги есть, бери машинерию [27] , будем работать.
И на ето не соглашался. Он какой-то был странный, никогда с детями не любил советоваться, нам ето не нравилось. Потом как-то нехотя согласился поехать в Америку, стали оформлять документы медленно. Ето было в 1974 году, в 1975 году у США появился какой-то конфликт с Китаям, США закрыла всем китайцам визы, а мы родились в Китае, хоть и не китайцы. В етих странах так: в какой стране родился, такой и национальности. У кого были родители русски, те получили визы, а остальные так и остались до 1979 года.
Пришлось нам праздновать с Вавиловым Ванькяй и Колькяй и с Коноваловым Тришкой. Девчонки были Вавилова Дунькя, Коновалова Лушка, Шутовы Фрося, Панка и Гливка и мы: Евдокея, Степан, я и Степанида. Но ето уже не празднование, а пьянки да гулянки. Как толькя соберёмся, стараются споить, даже бывало, что и схватывало [28] , но понимание было такоя, да запредставлялся [29] .
Нам ето не нравилось, и мы просили тятю, хотя бы увёз нас в Уругвай. Знали, что в Уругвае живут харбинсы, но живут порядошно и сильно в религии. Но тятя не соглашался, мы стали обижаться и на вред стали ему делать. Тут пошли тансы-мансы, научились со Степаном пить, курить, первых женчинов познали, ето были Лушка, а потом Гливка, а потом и аргентинки пошли в ход. Тятя с мамой ето всё узнали, давай нас гонять, но мы отвечали:
— Хто вам виноват, везите нас в добрый народ.
Тятя не хотел, но мама как-то уговорила тятю, и отпустили Евдокею и Степана, и сам тятя поехал в Уругвай. Вернулись с хорошими новостями: земли там недорогие, и мы бы сумели купить 100 гектар земли и необходимую технику. Харбинсы правды очутились воздоржны, религиозны, дистиплина в моленне строга и большой порядок, крюковоя пение, молодёжь вся грамотна. Ето всё нашим понравилось, но удивились, что с базару берут мясо и конфетки. Фёдор Иванович Берестов стал заигрывать с Евдокеяй, а Степан — с Парасковьяй Ивановной Берестовой. Евдокея стала приспрашиваться [30] , почему берут с базару мясо и конфеты, ето донеслось до наставника Ивана Даниловича Берестова, и сразу молва пошла против Евдокеи, а Парасковью стали навеливать [31] Степану. И Степан договорился с Парасковьяй сыграть свадьбу через год.
Но одно им не понравилось. Как-то наших харбинсы шшитали за поганых, считали за третья посёльских в Бразилии [32] . Когда разобрались — ето обозначает поморцы, и Шарыповы поморцы, а мы были в Шарыповым соборе.
Когда наши вернулись с Уругваю, и стали рассуждать, что делать. Климат, земли в Уругвае нашим понравились, и недорого. Но как жить с харбинсами, ежлив ишо не жили вместе, а уже критики? А что будет, ежлив придётся жить вместе? Да ишо Парасковья промолвила: когда она выйдет взамуж за Степана, она переучит его по-своему. Значит, пташку не поймала, а уже оттеребила. Степану стали отговаривать, чтобы подождал. Ето было в 1975 году.
Когда старообрядцы уехали в США, слухи прошли, что у их пошло очень хорошо, хороши заработки, всё дёшево, и оне стали быстро богатеть. Стали заказывать занавески для икон, картины, подушки, покрывала, рубашки-косоворотки — всё вышито, и платили хорошо. За кажду занавеску 250 долларов, картины по-разному, подушки с покрывалом 500 долларов, рубахи 25 долларов, пояски 25 долларов. В Южной Америке многи стали заниматься вышивками и посылать своим родственникам, а те продавали своим и выручали своих в Южной Америке. Как-то раз маме говорю:
— Мама, научи меня ткать пояски, а может, сгодится.
Мама отвечает:
— Куда тебе, ты парнишко, ничего с тебя не будет, всё бросишь.
Но я настаивал на своём:
— Научи, мама, посмотришь, что не брошу, сама же видела: утят, гусят ростил, цветки садил и выхаживал, и ето сумею вынести.
Мама решила научить. Стала показывать, как снуют поясок.
— Мама, всё я понял.
Стала показывать, как ткут.
— Всё понял. — Дошёл до рисунка: — Мама, как? — Мама показала.
Но всё, правды, первый пояс получился не очень ровный, второй лучше, а третяй пошёл в США. Наткал двадцать поясков, и послали к знакомым, так как своёго прямого родства не было в США. Ета продажа шла очень долго, но в консы консах деньги получили и набрали матерьи на рубахи.
Григорий совсем вышел из рук, стал уходить из дому, стал знаться с аргентинсами самого нижняго уровня, стал пакостить, воровать и жить развратно, мама переживала и плакала, а тятя гнал из дому. Мама решила попросить своего брата Степана Шарыпова, чтобы он взял себе Григория, так как у его дети были ишо маленьки, а ему нужны были рабочи. Он Григория взял себе на работу.
Тимофей Корнилович Пятков, когда взял бабу Евдокею, жили оне очень дружно, Бог дал им сына, но он помер маленьким. Покамесь сводные дети были маленькие, всё было хорошо, но, когда дети выросли, пошло коса на камень. Бабины дети Степан и Марья оказались злые и жестоки, в отса Демида, а у Тимофея Корниловича дети нормальны, окромя моего крёстного Иремея Тимофеевича, он тоже был не гладкий. И вот дети их развели, но они прожили в дружбе до самый смерти. Когда баба осталась одна, ей досталось от етих семечек. Степан, бывало, даже наставлял наган бабе в голову ради денег, Марья, бывало, таскала бабу за волосы. Баба со слезами рассказывала маме, что с ней творят дети, и стала болеть сердыцем.
Марья Демидовна — тётка, ето моя крёстна. Когда ребёнка крестют, крёстный и крёстна обещаются: какого приняли, такого и представить престолу Божию. Но я от её ничего доброго не видел, окроме что научила читать и писать по-русски, а худого да больше — дальше увидим. А о крёстным Иремее ничего не могу сказать худого, а толькя хороше: всегда посоветовает чего-нибудь хорошего и приласкает.
Григорий, когда вернулся через год от Степана Шарыпова, стал ишо хуже. Степан не толькя его уговаривал, но, наоборот, разжигал против тяти, а за весь год, что он проработал, получил толькя одну куртку, и всё.
Жизнь продолжалась. Григорий по-прежнему пакостил, тятя был скуп, даже в кино деняг не давал, хоть сколь работай, но копейки не видели.
Как-то раз Григорий сманил курицу украсть, чтобы пойти в кино. Я долго колебался, но со страхом согласился. Украли две курицы у суседа и продали: у его клиенты уже были. Мы сходили в кино — как хорошо всё обошлось, благополучно.
На следующа воскресенье Григорий уже приготовил, где украсть индюка. Ето было подальше, у аргентинсов. Он выследил, когда их не бывало дома. Мы в воскресенье украли етого индюка и унесли в город, продали и пошли в кино. Когда мы шли в город, хозяин етого индюка нас видел, но что мы несли, он не знал. Приехал домой, и, когда он хватился, что племенного индюка не хватает, он догадался, что мы похитили его, и поехал заявил в полицию. Когда мы вышли из кина, нас поджидала полиция, да так нам дала! Григорий не рассказывал и мне наказывал, чтобы не рассказывать, но я рассказал всё, нас отпустили. Когда мы пришли домой, тятя всё уже знал: полиция всё рассказала тяте. Тятя взял ремень да так нас устирохал, что я до сего дня его благодарю. И с тех пор с Григориям больше никогда и нигде не участвовал и всегда старался его избегать, а когда мне надо было деняг, всегда сверх своёй работы прирабатывал на стороне и на ето праздновал.
Григорий часто сулился убить тятю, мы всегда отвечали ему: дурак. Как-то раз он провинился, тятя его избил. Мы стояли дрова кололи, тятя шёл нимо, он взял топор и пустил его в тятю, топор пролетел каки-то шшитаны сантиметры от головы тяти. Мы напугались, все вместе связали его и увезли в полицию и всё рассказали, что получилось. Его забрали, увезли в столичной город [33] , врачи-психиятры признали: испорченная нервная система, оставили в психическим отделении и лечили. Через три месяца отпустили на побывку домой, Григорий вернулся спокойной, весёлой — мы все обрадовались. Толькя надо было продолжать лечить, но родители не позаботились, а Григорий стал с друзьями выпивать — и снова вернулся на ту же точкю.
Я со своими друзьями продолжал баловать. Уже кины не стали интересовать, а интересно было потанцевать. В кажду субботу на тансы, а там девчонки.
sub 8 /sub
В 1976 году мы коя-как выпросились поехать в Уругвай. Тятя пустил, дал на всех деняг Евдокее, и мы втроём: Степан, Евдокея и я — отправились в Уругвай. Степанида плакала просилась, но тятя её не отпустил. С нами поехал Ванькя Вавилов.
Приезжаем на границу — нас не пускают: мы несовершеннолетни, пропускают одну Евдокею. Мы потужили, лодка отходит — мостов ишо не было, — Евдокею проводили, а потом хватились: деньги-то все у Евдокеи, что делать? Как ни говори, до дому добираться 1400 километров. Дело было летом, жарко. Перву ночь ночевали в каким-то саду, комаров ужась сколь было, промучились. Утром решили выйти на дорогу, разделились: мы со Степаном, а Ванькя один. Нас подняла грузовая машина, водитель угодил добрый, довёз нас до Буэнос-Айреса, всю дорогу кормил и напоследок дал нам на автобус доехать в центр Буэнос-Айреса. Мы добрались до Чеботарёвых — ето Вавилов зять, а Ванькя уже там, подработали неделю и поехали домой.
Степан выпросил у тяти разрешение через судью и вернулся в Уругвай. Меня не отпустили: много работы. Помидоры уродили хорошо, днём собирали, а ночью грузили, и я ехал на фабрику ставать на очередь, чтобы сдать помидоры, ето повторялось через день. Я старался, тяте ето нравилось.
Однажды пришёл с танцев усталый, голодный, но знал, что надо везти помидоры на фабрику, тятя поджидал. Прошёл большой дождь, я аккуратно вывез воз на дорогу и поехал в город. В городе мало время назадь копали канавы, проводили газ, ети канавы засыпали, но после такого дождя всё разжижа — мне ето в голову не пришло. Вижу, что несколькя тракторов спешат на фабрику, и мне тоже хочется поскорей сдать помидоры. Я ехал быстро, через канаву зарыту трактор прошёл, я почувствовал, но уже было поздно: телега первым колесом достала канаву и ушла до оси. У нас была привычкя яшшики не привязывать, тятя не давал, чтобы аккуратно возили груз. Но пять тонн помидор — ето в семь яшшиков вышины, вот как хошь, так и вези. На етот раз не повезло. Как толькя у телеги колесо ушло до оси, трактор стал намёртво, я вылетел, но ничего, телегу качнуло в одну сторону — яшшики полетели, качнуло в другу — в другу полетели, со 170 яшшиков на телеге осталось 63. Ето было в 5.30 утра, уже светало, пришлось одному собирать и грузить, подъезжал дядя Степан Шарыпов, даже не помог. Я прогрузился до 14.00 п. м., ето было очень чижало. Как-то на самый верх загрузил яшик, и спина у меня схрустела, ето было очень больно, даже темнело в глазах. С горям пополам догрузил как мог, подъехал на очередь, очередь была большая, мне бы не сдать было в етот день. Я едва слез с трактора и едва дошёл до фабрике, объяснил свою ситуацию. Начальник фабрики пошёл на очередь, объяснил народу, чтобы пропустили меня без очереди. Народ с сожалением пропустил, я заехал на весы, свесили, доехал до платформы, а как сгружать — сам не знаю. Контролёр на платформе был чиленес [34] , имя Серене, очень строгий, но увидел меня — бледного, еле волочусь, и стал спрашивать:
— Что с тобой, русич? Всегда такой весёлый, а чичас еле жив.
Я ему рассказал, что случилось, и он не дал мне разгружать, говорит, сам разгрузит. Всё разгрузил, простых [35] яшиков загрузил и отправил, я заехал на весы свесил и отправился домой уже в 19.00 п. м.
Приезжаю домой, совсем ослаб и сляг в постель. И сэлый месяц пролежал в постели, но нихто не позаботился свозить к врачам, а спина после того время стала болеть до сего дня.
Вскоре подъехали Степан с Евдокеяй, и работа стала идти своим чередом.
Тятя был скуп и деньги любил, деньги у него всегда водились. Но мы всегда ходили почти голы, он брал само дешёвенькя, на Рожество да на Пасху, а там как хошь. На пищу он денег не жалел, продукту всегда было изобильно, был хороший охотник и рыбак, свиньей и рыбы, где мы проживали, было вдоволь. Я с малых лет привык к рыбалке и любил рыбачить.
Мама нас выручала во всех бедах, и мы её любили и тятю всегда уговаривали, где что не так, но одно мне не нравилось: всегда нас делила, етот в тебя, а етот в меня, говорила, Евдокея в Зайцевых, Степан в её, Григорий в Зайцевых, я точный в тятю, Степанида в её. Правды, я тятин портрет, но характер — дальше обо всём выясним.
Однажды тятя напился, избил маму, мама стала замерзать, мы её отогревали в русской печи. Мне было шестнадцать лет, я подошёл к тяте и с такой суровостью сказал:
— Ишо маму заденешь, будешь иметь дело со мной.
— Сопляк, дерзнул сказать таки слова отцу!
Тятя, правды, больше никогда маму не задевал, но со мной после тех слов уже был не такой, какой был раньше, и я всегда жалел те слова. Знал, что в Святым Писании написано: хто почитает своих родителей, тот счастливый и долголетний на земли, а хто злословит родителей, тот несчастный и его дети отомстят в семь раз больше.
В консэ 1976 года Вавиловы, Шутовы и Коноваловы уехали в США, и мы остались без друзей. Хто остался, у всех дети маленьки, и стало совсем не с кем праздновать. В США нас не пускают, в Уругвай тятя не хочет, стали мы настаивать: тогда давайте арендуем больше земли и будем работать по-сурьёзному. Тятя не захотел. Григорий уже ушёл из дому. Я стал говорить:
— Ни уезжать к добрым людям, ни работать. А что делать? Я ухожу из дому.
Тятя отвечает:
— Уматывай!
Я собрался, уехал в город Чёеле-Чёель, за двадцать километров от дому, и устроился в мунисипалитете, там научился работать каменшиком и часто был у начальника на посылушках. Я старался угодить, за ето меня любили. Однажды зимой под мост упала какая-то запчасть, все собрались начальники: что делать? Я, недолго думавши, сказал начальнику:
— Хошь, я достану?
Начальник говорит:
— Да как? Вода холодна.
Я разделся, прыг в воду, с первого разу нашёл, с второго разу достал. Ето было утром, восемь минус, начальник покачал головой и говорит:
— Увезите его домой, пускай отдыхает.
После того где каки опасности, всегда меня вызывали. Проработал я семь месяцев в мунисипалитете, приезжают ко мне сестра Евдокея и брат Степан и стали уговаривать, чтобы я вернулся домой, говорят, что нашли земли десять гектар и тятя даёт трактор. Я с радостью вернулся.
И стали садить помидоры, помидоры уродили хороши, мы заработали хорошо, за аренду заплатили, тяте за трактор тоже заплатили деньги, на год продукту набрали, первый раз удалось мне набрать одёжи какой надо было.
В 1974 году пресидент Хуан Доминго Перон умирает, осталась жена Исабель Естела Мартинес де Перон, министр економии Лопес Рега. В стране пошли непорядки, Лопес Рега обворавывает страну и убегает без вести. Наступает пресидент военный, Хорхе Рафаель Видела, и во всёй Южной Америке настала ера военных и стали преследовать всех, хто понимал жизнь по-сосиялистически. Мы когда ходили на танцы, бывало, забегут полиция на танцы, всю молодёжь несовершеннолетню угонют в полицию и издевались как хотели. Хто возражал, тот терялся [36] . Мне тоже пришлось побывать два раза, но я терпел, знал, что русский, а ето обозначает коммунист, дважды два можно башку потерять.
А танцы неохота было оставлять, так как был хорошой танцор. Один раз вышел по соревнованию вторым, ето было танго, вальс, пасо добле, ранчера, чамаме, кумбья. Мама переживала и заставляла дать клятву перед иконами, чтобы никак не взял аргентинку, — мне приходилось давать клятву. Но я не боялся, знал, что едва ли найдётся девушка, котора бы думала о сурьёзной жизни. Аргентинские девушки весёлые и ласковы, но у их мысли — думают толькя о сёдняшным, о завтрашным дне нихто не думают, и ето мне не подходило. Моя мечта — в жизни должен быть проект, как жить, чем заниматься и какой принцип, и жена тоже должна свою долю вложить в жизнь, а не то что муж по дрова, а жена осталася вдова.
Когда садили помидоры последний год, праздновали мы все вместе: Евдокея, Степан, я и Степанида. Ходили на танцы, и там Степанида стала праздновать с однем чиленсом, с Хосе Луис Гажего. Мы ей наказывали: будь аккуратнее, оне здесь липки, но она не слушала, ей было шестнадцать лет, и она убежала за него.
Открою мою тайну. Да, я любил повеселиться, курил, брился, пил и девушек не оставлял, но сердце у меня ныло, и я всегда слезами уливался и Бога просил: «Господи, за моё беззаконие дай мне болезни перенести и напасти перенести, но спаси мя». Ето прошение было часто, я знал, что каждый человек должен перенести напасти, — етим человек искушается и очищается.
sub 9 /sub
В 1978 году я подхожу к тяте с такой речью:
— Тятя, надумал я жениться, надоела мне вся эта развратна жизнь.
Тятя с мамой напугались:
— Ты что, как, с кем, где?
— Пустите меня в Уругвай, хочу поискать себе невесту.
Они обрадовались, благословили мня на доброя дело. Ето было зимой, в июле. Отправили нас с Евдокеяй, ей всё уже знакомо, и у нас с ней всё всегда шло как по маслу.
Приехали в Уругвай, заехали к дальнему родственнику по Шутовым, Ивону Максимовичу Ефимову. На другой вечер пошли на вечёрки, к Ивану Даниловичу Берестову. Конечно, за время [37] девчонки пригласили. Приходим на вечёрки. Ой как чудно! [38] Полна изба девчонок, парней мало — ну, думаю, повезло же мне! Девчонки занимались вышивкой, моёй ровни было двенадцать, и поменьше было тоже двенадцать, парней моёй ровни было четыре, и поменьше было семь. Етим же вечером пришлось познакомиться с парнями, ето были Фёдор Иванович Берестов и брат его Василий Иванович, Марк Иванович Чупров и Алексей, брат, Иванович. Етот вечер пообчались, и мня насторожило: всех просмеивают, всех копают, мне как-то было неловко. Зачем так поступают? Девчонки песни пели и частушки пели. Ето всё было чудно, мне надпоминалось, когда в Аргентине проживали до США.
Днями помогал Ивону Максимовичу заготовлять дрова, и удавалось знакомиться с деревней. Ето была маленька деревушка, десятисемейна, но многодетна и бедна, именем Офир. Занимались оне — доили коров, разводили пасеки, садили сахарную свёклу, садили огороды, нанимались на стороне, прорубали, пололи, копали свёклу, вечерами ткали и вышивали — ето всё посылали в США на продажу.
Я в свободное время ходил знакомился с деревней и всё и ко всему приспрашивался. У меня с малых лет был интерес к пожилым и старым людям, как-то чувствовалось: уверенность, и доверие, и опыт жизни, что в молодёжи нет. Ето в деревне людям понравилось: такой молодой, всем интересуется, со всеми ласковый, вежливый и обходительный. Ну что сделаешь: такого Господь создал, таким и быть.
Пришла суббота. После русской бани пошли в моленну. Началась служба. Вот тут мне пришлось дрогнуть: как всё чинно и порядошно, пение всё по крюкам, плавно, чтение грамотно, дети восьмилетни — и уже читают. Вот тут я задумался: «А я что — чурка с глазами, мне никогда, думаю, не научиться, грешному».
В воскресенье отмолились, нас пригласили обедать — наставник Иван Данилович Берестов. Мы пришли; стол был накрыт, помолились «Отче наш», сяли за стол, благословились, стали кушать чинно, безмолвно. На столе было всё изобильно: пироги рыбны, шанюжки, пирожки, соусы, суп, лапша, окрошка, рис с подливом [39] и, конечно, три чарки бражки. Накушались, помолились «Достойно есть», «За здравия», поблагодарили и пошли праздновать. Парни пригласили зайцев охотничать — мне не по сердцу: надо к девчонкам, а тут бегать с собаками за зайцами. Виду не показал и пошёл за ними, бродили день, мне было невесело, но что сделаешь?
В будни днями Ивону помогал, а вечерами на вечёрки ходил, етими вечерами боле признакомился к девчонкам и стал с ними заигрывать, со всеми равно, старался никого не обидеть и со всеми вежливым быть.
На неделе случился праздник. По обычаю помолились, на етот раз пригласили Марк и Алексей Чупровы обедать. Пообедали, и наши парни засобирались на кабана, на охоту, я молчу: что будет дальше. Собрались, пошли на охоту — со всех сторон подсмешки, подковырки: ха-ха-хи да ха-ха-ха, я не выдержал и сказал:
— Я не приехал сюда по лесу лазить, я приехал с девчонками играть. — И ушёл от них. Конечно, мне было легко уйти от их: с девчонками находится сестра.
Пришёл к девчонкам, оне играли в хороводы. Было маленькя неловко с моёй стороны, и также с ихной, оне хотели прекратить, но я их уговорил, и стали играть. Ето было так весело, и проиграли сэлый день — в хороводы, во вдовца, из кругу мячом, песни пели — ето был полный фольклор. К вечеру явились наши парни, с надсмешками и подковырками, но нихто на них внимание не брал. А нам было так весело, такоя не забывается никогда. Я провёл себя со всеми вежливо и аккуратно, девчонкам ето понравилось, слухи прошли. Так-то чё и не праздновать: со всеми вежливый, ласковый, обходительной, не то что наши эгоисты, всё им не так.
Выяснилось, что наши парни старались увести меня подальше от девок, потому что ревновали одну девку, именем Графира Филатовна Зыкова — красавица, дочь Филата Зыкова, врача-травника, терапевта. Етим парням толькя Зыкова фамилия [40] была не родство, поетому оне и ревновали, боялись потерять свою красавицу. Да, она была очень красавица, но была и очень гордая, а я гордых вобче не любил. Постепенно наши парни успокоились, поняли, что ихна красавица в безопасности.
Праздности продолжались весело, я к девчонкам вошёл в доверие, и оне забегали за мной, и родители заприглашали и поклоны запередавали. Мы жили у Ивона Максимовича, а жена у его Агафья Садофовна Ануфриева — двоюродна сестра Марине, жене Ивана Даниловича Берестова, — и брат Сергей Садофович, оне мне внушали: бери ту да другу, та такая, а друга такая, но боле внушали, чтобы взял у Ивана Даниловича Вассу, что [41] рабоча [42] , хозяйственна, порядошна. «Да, — я отвечал, — та хороша, и друга, и третья», а на уме думаю: «Сам разберусь».
За месяц празднования как-то мне пала на душу Марфа Фёдоровна Килина — красива, бойкя, шустра, весёла, песельница, да и слух про её хороший: сама старша, вся работа на ней стоит, да и можно сказать, она и подняла всю семью на ноги. Везде успевала: на пашне, дома, да и сама быстрая вышивальница, вышивками обгородила всю отсовскую землю — три гектара, завела коров — обчим, самые хорошие успехи в дому — ето Марфа.
Первоя приглашение нас как гостей пообедать — ето было в праздник Успение Богородицы. Обед был прекрасный, но Марфа вела себя очень скромно и стыдилась меня, мне было очень неловко, да ишо при родителей. Родители — ето те самы, которыс Китаю: Фёдор Савельевич Килин и Татьяна Ивановна Мартюшева. Поженились оне в Бразилии, штат Парана, город Понта Гросса, деревня Санта Крус, приехали оне в Уругвай в 1966 году. Все поехали в США — двадцать семей поехали в Уругвай: не поехали за долларами, но поехали духовность сохранять. Даже был спор, что «вы поедете нищету ловить», но оне не слушали. Один пример был такой. Два брата, Потап и Павел Фёдоровичи Черемновы, двоюродны братьи Фёдору Савельевичу Килину, заспорили между собой. Старший брат Потап Фёдорович говорит младшему брату Павлу Фёдоровичу:
— Едете в Уругвай — ето нищета, последни штанишки отдай.
Павел отвечает:
— В США — души отдай.
Дядя Федос Тимофеевич Ревтов в Бразилии был представителям и руководителям и в Уругвае был первым проводником. Когда мне было пять лет, Федос Тимофеевич и Гаврила Кузнецов приезжали в Аргентину, где мы проживали четыре семьи, на разведку. И чудно, дядя Федос Тимофеевич ишо с России был знаком с дедом Фёдором Можаевым, и вот пришлось встретиться через столь много лет в Аргентине. Когда дядя Федос Тимофеевич с Гаврилом Кузнецовым приезжали, я чуть-чуть их помню, а Можаевы потом ездили к нему в гости. Вот и мне пришлось встретиться с нём в Уругвае и даже породниться: как ни говори, он Фёдору Савельевичу Килину родной дядя.
После того обеду у Марфе как-то при каждой встрече с Марфой я чувствовал себя неловко, сердце билось и что-то мне не хватало, не мог дождаться праздников, чтобы попраздновать вместе с ней, и она так же: как увидит меня, потупится и покраснеет. Но мы виду не показывали, но где ты скроешь! Все догадывались. Бывало, в праздники вечером играли во вдовца — ето так стоит круг девок и ребят, один всегда лишный, он или она, бегает вокруг, кого заденет — должен догнать и поймать. И вот часто приходилось: стоишь, девчонка бежит, заденет и убегает, и вот и догоняешь. Но интересно то: девка-то бежит дальше в лес, чтобы повеселиться наедине, да и чтобы посватал, но у мня уже сердце занято. Все красивы, все хороши, но у меня одна сама дика козулькя и сама стеснительна, она с ума не сходила.
Дома Ивон с Агафьяй уговаривали меня, чтобы взял Вассу. Поняли, что у меня к Марфе отношение особое появилось, давай лить на Фёдора Савельевича: что он лентяй, жулик, исплотирывает [43] девчонок, что Марфа хорошая девчонка, но изнадсажёна, а мать Татьяна пьяница, засранка, сплетня — как будто хуже их нету. Мне приходилось отвечать: «Да-да», но на уме думал: «Мне с ними не жить, а другой невесты мне не надо». Но оне влияли боле на Евдокею, и Евдокея говорила мне:
— На самом деле, Данила, подумай, все ету семью хают, возьми лучше Графиру Филатовну.
Но Евдокее я говорил прямо:
— Мне никаку другую не надо, я выбрал по душе и всё, меня больше нихто не убедит, каку девку сватать.
Один Сергей Садофович всегда говорил:
— Данила, никого не слушай, девчонка хороша, бери — не ошибёшься.
Мы с нём часто бывали вместе то на рыбалку, то по дрова, то ишо куда-нибудь.
sub 10 /sub
И вот мы с Марфой стали за ручкю ходить, веселиться, друг об друге тосковать. Наш срок в Уругвай подходил к консу, а мне было неохота вёртываться, и я решил офисияльно посватать. Ето было на вечёрках, после вечёрок я проводил Марфу домой, у ворот остановил и давай сватать. Она выслушала мою речь и ответила:
— Да, я пойду за тебя взамуж, мне окроме тебя больше никого не надо, приходи сватай.
Я её крепко поцеловал, и она, бедняжка, чуть не упала: за всю свою молодую жизнь первый раз её поцеловали.
Пришло воскресенье, пошли праздновать, я Марфу за ручкю, отстали, давай разны речи вести, она мне говорит:
— Мне неудобно, посватал не посватал, а я уже согласилась.
— Марфа, ето само правильно, должно быть за всяко-просто. Да и у мня срок кончается, надо уезжать, а я не хочу.
Она:
— Но ладно, хорошо.
Етот день мы провели с ней, не чаяли души от радости. Вечером я попросил деда Садофа, чтобы он поговорил с Фёдором Савельевичем Килиным, что мы хочем идти сватать Марфу, дочь ихну. Он сказал:
— Дайте нам посоветоваться с дядяй Федосом Тимофеевичем на неделе, а в то воскресенье приходите.
Дядя Федос жил пять километров от деревни. Когда Фёдор Савельевич пришёл к дяде Федосу за советом, тот выслушал и сказал:
— Парень молодой, молодого всегда можно приучить к добру. Отса его я знаю: спокойный мужик, хотя и выпивает. Но у вас семеро девчонок, и, за кого будешь отдавать, постарайся, чтобы парень остался в Уругвае, и отдавай. Слухи идут, что парень старательный, а ето хороший знак.
На следующая воскресенье вечером я попросил добрых людей: Ивону Максимовича, Агафью Садофовну, деда Садофа, Сергея Садофовича, Мавру Анисимовну и Евдокею-сестру, — пошли сватать. Пришли к Килиным, постукали в двери, сотворили молитву, нам ответили «аминь», мы зашли, помолились-поздоровались. Нас посадили как дорогих гостей, дядя Садоф завёл речь о женихе и невесте, Фёдор Савельевич объяснил, что был у дяди Федоса и что он посоветовал.
— Мы не против, но вопрос такой: Данила Терентьевич, где ты собираешься жить?
Я отвечаю:
— Здесь, в Уругвае, как Господь повелит.
— Хорошо. Ты Марфу воляй берёшь?
— Да, воляй.
— Марфа, иди суда.
Тишина.
— Марфа, иди суда.
Тишина. Я иду в комнату, беру Марфу за ручкю, вывожу на круг.
Отец спрашивает:
— Марфа, ты воляй идёшь?
Еле слышно:
— Воляй.
— Говори громше.
— Воляй.
— Но раз пара собирается воляй, мы против ничего не имеем.
Мать в слёзы, послали за наставником. Я сбегал к наставнику к Ивану Даниловичу, поклонился в землю, попросил:
— Ради Бога, мы высватали невесту, помоги заручиться, благослови.
Он пошёл, когда стали начал ложить [44] . Сестра Евдокея возразила:
— Данила, зачем торопишься, перво [45] надо бы дождать родителей, тогда и начинать браться за свадьбу. Где ты деняг возьмёшь начинать свадьбу играть?
Я отвечаю:
— Евдокея, срок миграсионной карты кончается, нам необходимо сыграть свадьбу до сроку, я надеюсь на Бога и на добрых людей. А завтра же утром буду писать тяте письмо с просьбой, чтобы приехали и помогли свадьбу сыграть.
Добры люди поддоржали мою идею, а будущай тесть подсказал, что дядя Федос сказал, что «каку помощь надо парню, пускай приходит, я помогу». Я почувствовал силу и стал настаивать, стали решать, когда играть свадьбу, будущай тесть говорит:
— Невеста не готова, так как женихов не было, мы приданых не готовили. И она у нас, как старшая дочь, она работала как за сына и за дочь, вся работа стояла на ней, и даже ей не было время готовить для себя вышивков, а что готовила, ето всё посылала в США и опять же помогала в дом.
Я возразил:
— Мне ейных приданых не надо, мне её надо.
Будущай тесть возражает:
— Но всё-таки надо готовить.
И решили за месяц приготовить. Значит, четыре недели девишник, и тогда свадьба.
У нас девишник обозначает: все девчонки помогают невесте вышивать, кроить, шить, ткать, плести. Что готовют: постель, подушки, одеяльи, покрывалы, иконные занавески, полотенсы, картины, половики, сарафаньи, рубахи, пояски и т. д. Невеста, как толькя заручится, выбирает себе подружку, и проживают до самой свадьбы неразлучимо, и невеста без жениха уже не празднует.
Начал положили, нас благословили, заручили, обменялись подарками: я ей подарил колечко, а она мне поясок. Нам наказали: теперь вы жених и невеста, после заручения с другими девчонками не играть, также невесте с другими парнями не играть, и до свадьбе жить чисто и непорочно, Богу молиться и правила нести. Чтобы всё прошло благополучно, выпили по три чарки бражки, я поклонился всем до земли, поблагодарил, и разошлись все по домам.
Приходим домой, Евдокея говорит:
— Что ты настроил, Данила! Тятя не приедет, так как ты жил беззаконно, тятя сказал: «Как хочет, пускай женится, я ему помогать не буду».
Я не знал, и ето меня обожгло.
— Но Евдокея, сама же слыхала: добры люди во всём помогут. Ну что, придётся отрабатывать. Евдокея, посмотришь, что тятя приедет.
Она отвечает:
— Я не думаю, сам знашь, какой строгий он у нас.
Я ничего не ответил, и утром рано сял письмо писать. Я знал, что тятя не так уж и строгий, как уж кажется. Когда я рос, он меня любил боле всех, потому что угождал даже в минимах деталях, и сердце чувствовало: он меня не покинет в таким сурьёзным намерении, он знает, что он обязан так поступить. И вот сажусь письмо писать.
Тятя, мама, здорово живёте!
Пишет вам ваш многогрешный сын Данила. Простите мня, многогрешнаго, сами знаете: жил не по закону, обижал вас, причинил вам боль в сердыце. Знаю, что не спали, переживали обо мне. Что сказать, нет никакого оправдание мне, во всем признаюсь, толькя я виноват. Простите меня, Бога ради, недостойнаго, и помогите, ради Бога, обвенчаться с выбранной невесткой, Марфой Фёдоровной Килиной. Девушка порядошна и религиозна, я об ней души не чаю.
Вчера начал положили и заручились, свадьба доложна быть 2 октября старого стиля. Тятя, мама, всё зависит от вас, ради Бога не откажите, приезжайте обои и благословите. Надеюсь, что обрадываете и приедете. Передавайте земной поклон бабе Евдокее С., знаю, что больная, и сердыце предчувствовает, что больше не свидимся, и сердцу больно, как мне её жалко. Тятя, мама, обещаюсь жить по закону и вам не приносить боли, а только радости и веселье, и желаю вам долгой жизни, увидеть внучат и правнучат.
Тятя, мама, ишо раз прошу, приезжайте, не оставьте без внимание.
Простите мня, Бога ради, и благословите, многогрешнаго, а вас Бог простит и благословит.
Писал аз многогрешный, дорожащей вас и любящей вас Данила Зайцев.
На самом деле, когда я собрался с Аргентине ехать в Уругвай, баба Евдокея Савельевна жила у нас, она мне наказывала:
— Данила, я больная, не знаю, Господь приведёт, свидимся или нет, едешь в чужие и незнакомые люди, слухи всякие идут, но знай одно: ежлив верят во Святую Троицу, символ веры, крестят во Святую Троицу в три погружение, соблюдают четыре поста, бракосочетание, покаяние, смотри догматы церьковные, — ежлив всё правильно, переходи к ним, доржись и молись с ними.
Мы с ней простились, она меня благословила со слезами и сказала:
— Сынок, доржись.
Ето расставание для меня было очень трогательно, я бабу очень любил. Так и получилось: после нашей свадьбы, через два месяца, баба умерла, оставила толькя добрую память.
Евдокея меня упрекала: что поторопился; родители не приедут; будуща тёща проблематична: люди говорят, она много фокусов настроила в деревне; что я ошибаюсь в своим выбором и ишо не поздно, можно отказаться и взять другую.
— Евдокея, во-первых, родители приедут; невесту я выбрал не для того, чтобы отказываться, я её люблю; будуща тёща така-сяка — мне с ней не жить.
sub 11 /sub
Девишник шёл как по маслу. Каждый вечер, как приходил на девишник, невеста встречала, кланялась мне в землю и целовала трижды — такой обычай был. Я приносил девчонкам шоколадок, конфет, пряников, семечек, оне мне пели девишны песни, я им платил и невесту целовал. Было весело. В воскресенье и в праздники ходили в лес, играли в хороводы. Девишник прошёл благополучно.
На третьяй неделе в пятницу получил от тяти телеграмму, сообчает: немедленно явиться в Буэнос-Айрес. Я обрадовался:
— Ну что, Евдокея, хто прав?
Она смеётся:
— Но, Данилка, настойчивой же ты!
— А как ты хошь, под лежащай камень вода не подтечёт.
В понедельник отправляюсь в Буэнос-Айрес, стречаемся с тятей у Беликовых [46] . Какая была радость! Тятя ласковый, вежливый.
— Но, Дашка, молодец! — и заплакал. И я заплакал. — Ну, что покупать на свадьбу? Давай пойдём.
Пошли по магазинам и давай покупать что надо, всё набрали за два дня, тятя мне и невесте купил по дорогим часам, а я невесте купил бисеры и сапожки.
Приезжаем в пятницу вечером, после ужина идём на девишник, невеста нас стречает по обычаю, будущему свёкру кланяется в ноги, целует. Идём знакомиться с будущими сватовьями — встреча-радость, разны вопросы-ответы, улыбки-смешки. У нас на свадьбу всё готово, у невесте тоже всё готово. В субботу в 3 ч. п. м. несу невесте веник, чтобы подружки невесту попарили в баньке, девчонкам подарки, сажу девчонок за стол, угошаю и благодарю, что невесте помогли справиться с приданым.
Вечером после вечерни попросил наставника, чтобы нас свенчал завтра. Наставник сказал:
— Будьте готовы к 8 часам а. м., после службы будем венчать. У вас всё готово?
— Да.
— Ну и хорошо.
В тысячки [47] попросил Ивону Максимовича, а в дружки [48] Сергея Садофовича, свахой с нашей стороны поставили Агафью Садофовну, а с невестиной стороны Вассу Филатовну.
Утром в 3 часа а. м. добры люди идут молиться, мы готовимся на свадьбу, в 5 а. м. идём выкупать невесту у девчонок — тысячкя, дружка, сваха и жених. Подходим к воротам — ворота заломлены [49] , парни не пускают, тысячкя с дружкой торгуются с ними. Вырядили с нас восемь литров бражки, десять килограмм мяса на шашлык и семь килограмм пельменяв — пропустили нас к девчонкам, те тоже рядились и вырядили за 100 долларов. Ето всё игра, для потехи. Потом привели невесту — разнаряжену в стеклянной [50] сарафан, стеклянная шаль, белыя туфли, всё перельяноя [51] да красиво. К восьми часам пошли в моленну. Тятя и тесть подготовили свидетеляв, мы зашли в моленну, помолились начал. Когда отмолились, мы вышли, поклонились наставнику и братии и попросили, чтобы нас свенчали. Наставник затеплил свечи, разжёг кадило, помолились начал, наставник повернулся лицом к нам, спросил:
— Свидетели все здесь?
Ответ:
— Все здесь.
— Жених, невеста, отвечайте громше. Данила Терентьевич, Марфу Фёдоровну берёшь воляй?
— Да, воляй.
— Марфа Фёдоровна, идёшь за Данила Терентьевича воляй?
— Да, воляй.
Вопрос был трижды.
— Свидетели, слыхали?
— Да, слыхали.
Наставник разогрел кадило, наложил фимиану, покадил наши кольцы и женский чин, что называется шашмура [52] . Невеста благословилась, взяла чин, свахи увели невесту, расплели ей косу, заплели ей две косы, надели шашмуру, сверху платок, привели ко мне. Невеста поклонилась до земли жениху, поцеловала трижды и стала рядом. Наставник раздал кольцы и сказал:
— Говорите вслух следующа. Жених: «Аз ти посягаю жену мою Марфу Фёдоровну». Невеста: «Аз в тя посягаю мужа моего Данила Терентьевича».
Ето повторяется трижды. Потом родители жениха берут икону крестообразно [53] , котору хотят благословить сыну, и говорят:
— Благословляю вас, чадо мое, ликом Господним на честный брак, телу на здравия, душам на спасение.
Ето повторяется трижды, на последним благословении добавляет:
— И буди моё благословение отныне и до века.
Так же и с невестиной стороны: берут невестину икону её родители и так же благословляют трижды.
Тогда наставник замолитоват, читают Большой начал, поют «Бог Господь», потом «Елице» и Евангелие, потом Апостол, потом «Поучение новобрачным» и «Достойно есть», отпуст, потом молются за здравия, и начал. Новобрачны кланяются наставнику и братии и благодарят всех и приглашают на духовный стол.
А там уже всё готово, поджидают с моленны и ставют на стол. Приходит наставник, новобрачны, тысячкя, свахи и гости, родители приглашают за стол. Наставник замолитоват, все отвечают «Аминь!», читают «Отче наш», садимся за стол. Наставник благословляет, все кушают. Начинает подача бражки.
Наставник благословляет и проздравляет новобрачных:
— Данила Терентьевич, Марфа Фёдоровна, проздравляю вас с законным браком.
И там идут наилучшие пожелания и вопрос:
— А за что мы здесь трёмся, объясните!
— Данила Терентьевич женится, берёт Марфу Фёдоровну, за ето пьём и гулям и вас на свадьбу приглашам!
— На одно ухо слышно!
Невеста так же говорит, как и жених, проздравляют все по очереди. Подают по три чарки бражки, не боле. Накушались, наставник даёт молитву, все благодарят. Выходим из-за столов, молимся «Достойно есть», жених с невестой благодарят гостей и снова приглашают на свадьбу: начинают с наставника, потом родителей, ближнея родство, а тогда всех остальных.
Тут привозют с невестиной стороны все её приданы, свахи снаряжают свадьбу [54] , мы передеёмся [55] . Ставют на столы на обед, садимся обедать. Идёт угошение, все проздравляют, кричат:
— Горькя! Приходится подслашивать!
После обеду начинаются поклоны. Ето обозначает: садют гостей на почётное место, тысячкя, молодыя и свахи стоят напротив, тысячкя говорит гостям:
— Резвы ноженьки с подходом, молодыя наши с поклоном.
Мы кланяемся, тысячкя:
— По стакашку примите, добрым словом научите, тарелочкю позолотите и на поклоны молодым нашим надарите или посулите.
Начинают приглашать на поклоны. Перво наставника с супругой. Оне садятся на поклоны, проздравляют с законным браком, наказывают, как жить, чего остерегаться, с кого пример брать, в моленну ходить. Но мне запомнились слова: «Где любовь — там и Бог, где совет — там и свет, без совету, без любви — там и стены-то пусты». Наставник подарили нас, мы поклонились, и оне вышли. Потом пригласили тятю с Евдокеяй. Тятя у нас был не речистой, наказал как мог, подарили вместе с Евдокеяй и вышли. Приглашают тестя с тёщай, садятся на поклоны — радуются, особенно тёща, проздравляют. Тесть говорит:
— Да, Марфа Фёдоровна, теперь ты взамужем. Вся работа стояла на тебе, и ты во всём нам помогла, без тебя было бы нам трудно, сама знашь, — и заплакали. — Отдаём вам корову, что сама завела, бурёнку, и отдаём тёлку-красулькю, полгектара земли, одного петуха и десять кур.
Наказали, как жить, мня попросили, чтобы я их называл «тятенькя» и «мамонькя», пожелали наилучшея нам и вышли.
Когда родители с обоих сторон и родство выходют с поклонов, обязательно их подкидывают.
Потом пригласили дядю Федоса с тёткой Главдеяй. Вот и дядя Федос стал родственником, такой легендарный стал дядяй. Сяли на поклоны, проздравили. И вот что интересно: как-то он пал мягко на душу, какая у него душа — не рассказать, старается вести себя низко и быть незаметным, каждоя слово, что скажет, — ети слова ласковы, вежливы и приветливы. Когда стали выходить из-за поклонов, сказал:
— Деньги, что я помог на свадьбу, ето будет вам подарок, и когда кака нужда, без сумненье приходите, ваш дядя всегда поможет. И не забывайте: я потомок донских казаков.
Вышел с поклонов, притопнул по-казацки, и все: ура, ура, ура!
Сэлый день провели поклоны, к вечеру кончили, передали нам кассу. Весь день гости гуляли, вечером поставили ужин, поужинали, гости стали расходиться по домам. Родители с обоих сторон и мы, жених с невестой, помолились начал, родители благословили нас на ночлег и ушли. Тысячкя и свахи приготовили постель, тысячкя вывел меня в сторону, наказал закону Божию — что можно, что нельзя. Свахи также невесту увели, наказали, переодели в спальну одёжу и привели. И оставили нас в покое.
Как провели ночь — не расскажу, толькя одно: Марфа стыдилась, а я старался ублажить. Когда мы уснули, не помню.
Но разбудили нас тысячкя со свахами, мы искупались, оделись, свахи постель убрали. И мы пошли гостей приглашать, уже без тысячки и без свах, на похмельные столы, всех обошли, всех пригласили. А там дружка с поварами наготовили всего. Пришли гости, сяли за стол, стали угощать. Свахи доложили родителям, что невеста досталась жениху чиста и непорочна. Ето тестю и тёще большая честь со стороны сватовьёв, что сохранили дочь в чистоте.
После обеду тесть пригласил в гости жениха с невестой и всех гостей и стал угощать. Потом пригласил наставник, также всех, и угостил, также по очереди все приглашали и угощали. Так провели сэлый день. На третяй день нас послали снова приглашать, мы всех обошли, пригласили, но на третяй день пришли толькя половина да сватовья. Етот день тоже провели благополучно.
Вот вся и свадьба.
sub 12 /sub
После свадьбе мы с Марфой устроились временно жить. Возле моленны была избушка пустая наставника, и он нам занял, чтобы мы в ней пожили. Мы избушку подчистили, выбелили и стали начинать жить. Обещались друг другу любить, не изменять, угождать, посторонних не слушать — обчим, наобещали друг другу, только знай исполняй.
Первы дни мы с Марфой помогали тестю убирать сахарну свёклу. Свёкла угодила хороша, бывало, даже некотора до семи килограмм. Ето надо её брать и кидать на борт грузовой машине, и получается ето очень чижало. Вечером приходим домой, спрашиваю свою милую:
— Ну как, Машенька, устала?
— Да, устала.
— И с каких лет бросаешь свёклу на борт?
Она мне говорит:
— С десяти лет.
— Ог-го-го! А надсаду чувствуешь?
Она:
— Да, чувствую, поетому никакого аппетиту нету.
— В больницу ездила на проверку?
— Какой там, не на чё, сам видишь, как живём.
Да, правды, живут бедно, семь сестёр, один брат и мать беременная, тесть слабый, весь изнадсажённый.
— Ну и как, Машенькя, думаешь, всю жизнь будем коробку [56] гнуть за восемь-десять долларов в день?
— Тебе видне, как поступить.
— Слушай, ты вышивать любишь?
— Да, люблю.
— Ну вот слухи идут, ты самая быстрая в деревне.
— Да, не буду хвастать, ето правды.
— Дак вот послушай. Мне пришлось в жизни научиться ткать пояски. Хотя это работа женская, но сама знашь: пока у нас лучше выбора нету, а всё-таки сбыт на наш труд будет в США.
Она говорит:
— Да, мамино родство все в США, и оне нам хорошо продают. Ето мои двоюродны сёстры, в Орегоне сестра Агрипена, в Аляске сестра Евфимья, в Канаде сестра Агафья.
— Давай напишем письмо, будут ли нам продавать?
— Ну, давай напишем.
Написали письмо и в пятницу поехали в город вместе. В пятницу все старообрядцы с деревни выезжают в город — везут масло, сметану, творог, сыр, яички и всё, что производют дома. Выезжать до автобуса пять километров, а город 45 километров Пайсанду, в которым население 70 000.
— Машенькя, мы с тобой на поклонов получили 600 долларов. Письмо письмом, а давай наберём продукту в дом хотя бы на два месяца, а на остальные деньги наберём материи, ниток и гарусу на пояски.
— Ладно, хорошо.
Тятя с Евдокеяй собрались домой, поехали вместе в город, мы их там проводили. Набрали продукту, матерьялу на вышивки и пояски, вечером вернулись домой.
На другой день Марфа нарисовала себе вышивку, я сделал себе станок, в понедельник основал себе поясок и сял ткать, Марфа вышивать. Перво время терпление не хватало, но потом привык и каждый день по пояску вытыкал. Но ето надо очень ударно проработать, а то вобче надо два дня, а Марфа как машинка, за две недели — и занавеска готова. Каждый месяц мы посылали посылку то в Орегон, то в Аляску или в Канаду, и каждый месяц получали чек на 1100, на 1200 долларов. Доллар был в цене, нам хватало, на 200 долларов мы набирали на месяц всего, что нам надо было. Дело пошло хорошо, мы трудились да песенки пели. В деревне мужики смеялись: «Данила бабой стал, взялся за бабью работу». Я молчал и улыбался: пускай смеются, вы на солнце жарьтесь, а я в прохладным месте денежки зарабатываю. Правды, утром стаём, Марфа управлятся, я корову подою, сепаратор пропушу, вместе обед сварим и вместе за работу садимся. Жить было весело.
После свадьбе через две недели приходит тесть вечером к нам, разговорились, и он спрашивает:
— Данила, ты сколь-то по-славянски учился?
Я:
— Сколь там, толькя коя-как азбучкю прошёл.
Он:
— Ты уже грамотный. А гражданску учился?
— Всего четыре класса прошёл.
— Ну вот у нас дело пойдёт. Давай я тебе покажу, что твердить, и будешь читать в моленне.
— Где там! Ничего с меня не будет.
— А давай попробуем.
Открывает Часослов и говорит:
— Вот Павечерниса, она коротка, давай вытверди. Как вытвердишь, заставлю читать. Знаю, у тебя получится, я чувствую.
И я взялся твердить каждый вечер. Где был в сумленье, бежал к тестю и спрашивал:
— Тятенькя, ето как, а ето как?
Ему ето нравилось, и он старался приласкать и объяснить и всегда чего-нибудь добро научить.
Читать я любил с малых лет, читал русские сказки, испанские. Бывало, полиёшь помидоры и читашь сказки, тятя с прутом подойдёт да как урежет по спине:
— Дашка, опять залил помидоры!
За три недели вытвердил Павечерницу и сообчил тестю. В субботу вечером он меня заставил читать. Когда я читал, весь трёсся: боялся ошибиться, да и стыдно было, что так плохо читаю. Когда отмолились, тесть заходит к нам, и перво, что я слышу:
— Ну, молодес! Моё чувство не подвело мне, вижу, что далёко пойдёшь. Давай теперь тверди первый час.
Я почувствовал такой дух! Да неужели я научусь читать так, как наш наставник? Он правды читал отлично. Тесть сумел мня убедить и поднять такой дух во мне, что я взялся и взаправды учиться. За неделю первый час вытвердил, потом взялся за третяй, шестой, девятый часы, и ето прошёл. Потом тесть говорит:
— Ну вот отлично, теперь берись за воскресные каноны. Вообче-то перво учутся Пцалтырь, но Пцалтырь есть кому читать, а каноны некому. Тверди каноны, а Пцалтырь постепенно научишься.
Подходит Великий пост. Тесть собрал молодёжь и говорит:
— Ребятёшки, у нас подходют праздники, и надо подучиться петь. Давайте приходите вечерами, и будем петь.
Начали вечерами собираться у него и стали учиться к пению, самогласному и крюковому. К самогласному шло всё хорошо, но к крюковому шло медленно, но получалось. Тесть оказался хорошим учителем, хороша выдоржка, терпление, внимание, объяснение. Он не толькя учил, но и писал Октай, Обиход, ирмосы. Мы за Великий пост выучили пение Благовещению, Светоносию, в Великую субботу и Пасхе. Мне пришлось и выучить воскресные каноны.
Тесть часто нас приглашал в гости кушать пельмени, у них часто их стряпали. У старообрядцев под пельмени укради, да угости бражкой. Тесть хороший рассказшик, умел хорошо рассказывать истории — про Ермака, Александра Невского, Димитрия Донского, Евпатия Коловрата, Чингиз-хана, Бату-хана, Мамая-хана, Рюрика, Владимира крестившу Русь, Ольгу, русских князей и царей. У тестя была хороша память, рассказывал медленно, но красиво.
sub 12 /sub
Деревня Офир — ето была маленька деревушка, всего 45 гектар, возле речушки Бежяко, что обозначает «дикая». Действительно ето так. Как толькя проходют заливные дожди, ета речушка выходит из берегов и становится дикой. Наши старообрядцы приехали с Бразилии в 1966 году, боле двадцати семей, но, так как в стране трудно было подняться, страна бедна, боле половина вернулись обратно в Бразилию. А остались те, которы не думали о богатстве, но о духовном, — ето Берестовы, Килины, Ануфриевы, Черемновы, Ефимовы, Зыковы, Ревтовы и Чупровы. Жили в большим труде, в бедноте и в духовным режиме, в труде. Самы выдающиеся — ето были Берестовы, Ревтовы, Ануфриевы, Зыковы, Чупровы.
Черемновы — ето Павел Фёдорович, человек набожный, справедливый, скромный, дружелюбный и вообче примерный; жена Павла Григорьевна Мартюшева — ета женчина вообче кака-то непонятна, вечно у ней проблемы с кем-нибудь, то спорит, то враждует, занималась сплетнями, и вечно у ней вражда, с однеми простится [57] , с другими враждует. Бедный Павел читает Святое Писание, убеждает-уговаривает:
— Павла, не делай так!
Она:
— Прости, больше не буду, — и снова за свои дела.
Суседи часто приходили к Павлу и жаловались на жену.
Но Павла постигла несчастная смерть. Он часто ездил на рыбалку и там утонул. Долго его искали, и на седьмой день его нашли: верёвка на шее и на голове удар. Когда лодку привезли и покойника, мать Евдокея увидела лодку и заплакала. На лодке выступила кровь — ето все видели. И от покойника где в избе капала кровь, не могли ничем вытереть, и мыли и скоблили, но кровь выступала снова, на лодке также. Ето все видели. Продолжалось ето сорок дней, потом не стало. Ето обозначает: невинный пострадал.
Слухи были, что ето управился один хохол, звали его Бондаренко, он занимался контрабандой. Так как река Уругвай стоит на границе Аргентине, и всю контрабанду везли с Аргентине.
У Павла остались с женой три сына: Максим, Саватей, Иона, — четыре дочери: Ульяна, Фетинья, Соломея и Евдокея. Без мужа Павла мало прожила в Уругвае, так как у ней были вечные конфликты, развраждовалась со всеми и уехала в Бразилию.
Чупровы, Иван Семёнович. Отец с России хохол, перешёл в старообрядчество, когда женился на Харитинье. Она была выпиваха. Отец умер, когда дети были на возрасте. Мать Харитинья вырастила их полными пьяницами. Обо всех писать не будем, а опишем об Иване. Он был хозяйственным и порядошным, но как загуляет, то етого хватало на месяц, а то и больше. Из дому всё ташил, жену избивал и собору не покорялся, и считался — всегда он прав и ни в чём не виноват. Жена у него была Васса Фёдоровна Черемнова, сестра Павла-покойника. У них было пять сыновей: Марк, Алексей, Антон, Тихон, Денис — и семь дочерей: Александра, Лизавета, Анна, Наталья, Елена, Харитинья, Минодора. Все дети очень рабочи, семья бедна.
Ануфриевы, Садоф и Анна. Порядошный старик, очень набожный, жена Анна — бывшая в Белокрынический иерархии. Имели одного сына Сергея и две дочери — Агафья и Елена. Садоф был предка [58] донских казаков, но очень горячай, и справедливый, но скупой. Сергея ростил очень строго, за любую провинку избивал до крови, етим оставил его травмированным. Но под старость старик исправился и очень много молился, и перед смертью за два года уехал в Россию в монастырь на Дубчес и там помер.
Сын Сергей Садофович и жена Мавра Анисимовна Ревтова, у них пять сыновей: Елисей, Георгий, Иосиф, Елизар, Иоаким — и одна дочь Варвара. Ростил он их в строгости, так же, как и отец доржал его самого. Сергей очень набожный и рабочий, но несчастный: что бы ни взялся, всё у него не так, хотя и имел трактор «Беларусь».
Ефимовы Иона Максимович и жена Агафья Садофовна, набожны, но ленивы, имеют три сына: Василий, Петро, Андрей, — три дочери: Екатерина, Лида и Анисья.
Берестовы Иван Данилович и жена его Марина. Ето семья очень рабочи и порядливы, в семье очень дружны, не дай Бог хто-нибудь их заденет — ошшетинются сразу. У них три сына: Фёдор, Василий, Поликарп, — пять дочерей: Лукерья, Парасковья, Васса, Евфросинья и Соломонида. Жили оне боле в достатках, имели боле земли, трактор, боле десятка дойного скота, две лошади, посевной инвентарь.
Зыковы, Филат (не знаю, как величать [59] ), жена Анна Якунина. Филат — врач-терапевт травник, научился в Китае. Врачи местные уругвайски на него враждовали и даже садили в тюрьму, за то что он лечил без диплому и за приём не брал, а брал толькя за лекарства. И народ к нему шёл валом со всёй стране, поетому врачи ради зависти враждовали на него. Он многих спас от раку, и, когда он вылечил сына пресидента страны, Грегориё Альварес, пресидент приказал выдать ему диплом. Жена Анна — ето, можно сказать, скнипа [60] , а не человек, всё ей не так. Филат с ней не жил, а мучился. Не помню, чтобы когда-то она обошлась с людьми по-простому, всё старается укорить, подсмеять, обозвать. И у их в жизни не шло, он всегда говорил: «Приезжаю домой ради детей, а с ней уже не знаю, как и поступать, всё ей не так». У них четыре сына: Арсений, Никита, Иван, Петро, — шесть дочерей: Фаина, Графира, Марина, Домна, Агапея, Евфросина.
В деревне дети в гражданской школе не учились, окроме Зыковых и Шмаиловых. Шмаилов Михаил — хохол, за него убежала Васса Анисимовна Ревтова. Ихни дети учились, ето три дочери. В деревне учились самоучкям по-русски и духовно-славянски, поетому в деревне по-испански нихто не говорил, а говорили — то плохо. Праздновали весело и дружно, молодёжь в город не ездила, да и не пускали.
Харбинсы люди дошлые на всё, в духовности большой порядок, взаимнопомощны и уважительны. Но мне одно не нравилось: наглы и скалозубы, укорить, подсмеять, на вред сделать — ето для них как вроде самый находчивый.
Мы жили одне в Аргентине и харбинсов не знали, но оне синьцзянсов знали, потому что жили вместе в Гонконге и в Бразилии. И просмеивали нас как могли: что мы нерусски, чалдоны и всё говорим неправильно. У них «печь» — у нас «пещь», у них «протвень» — у нас «лист», у них «запон» — у нас «фартук», у них «спички» — у нас «спищки», у них «котелок» — у нас «котселок». Разница в говоре была, и оне считались боле русскими, а нас считали азиятами. Наши друг друга всегда величали [61] , и была привычкя, и приучали, обхождение, обойтись ласково, вежливо, не обидеть, угодить и т. д. Тятя нас приучал: пошлёт к суседу, накажет строго, как обойтись с суседом, и переспросит, как понял, расскажешь — тогда посылал. Приходишь к суседу:
— Здорово живёте!
Ответ:
— Милости просим.
— Деда Самойла Андреич, тятя послал к вам с просьбой. Можете тяте занять молоток?
— Да, сынок, возьми.
— Спаси Господи.
Приходишь домой:
— Вот, тятя.
— Ну, как сказал суседу?
Всё подробно расскажешь, и что он сказал.
— Ну молодец.
У харбинсов не величают, а просто на имя называют, и когда что просют, просто просют и как будто вы обязаны дать.
Харбинсы в Бразилии синьцзянсов прозвали траирами. Траир — ето рыба, спокойна, до семи килограмм, как полешки, и любит погреться на солнушке. Один раз на свадьбе несколькя мужиков-синьцзянсов, крепко подвыпивши, лягли под куст и уснули. Харбинсы увидели, говорят: «Посмотрите, лежат, как траиры». И то пошло дальше, так и прозвали нас траирами. А наши прозвали их макаками, почему — потому что всё им нужно, везде оне лезут и везде оне наглы.
Мне в Уругвае без родства сладко не пришлось, везде хи-хи-ха да ха-ха-ха, за всё приходилось терпеть, постепенно привык, но мне ето не нравилось.
За неделю до нашей свадьбе в Бразилии была свадьба, женился Арсений Филатович Зыков. Почему-то родители на его свадьбу не поехали. После нашей свадьбе через две недели Арсений со своей супругой Валентиной Леонтьевной Маметьевой прибыли в деревню. Арсений Филатович характером уродился в мать, так что понятно, хто он. У них вскоре не пошло. Конечно, в етим добрые люди позаботились — помогчи ихнему разводу.
В деревне моего тестя с тёщай все, окромя дядя Федоса, ненавидели. Мне казалось — почему? Тесть такой порядочный, тихой, богобоязневый — и его ненавидят. Но уж ладно, тёща — есть за чё, она неспокойна, везде лезет, всё ей нужно, про всех знат, и каки сказки — всё она сплетёт. Моя Марфа её недолюбливала. Ни к чему их не приучала, толькя на их кричала, издевалась, ничего не работала, а знала каждый Божий день бегала по деревне, новости узнавала да в каждый разговор соли подсыпала. Семья большая, один одного меньше, а ей ничего не нужно. Марфе ето не нравилось, и она с ней часто схватывалась, и спорила, и за отца заступалась (отца оне все любили). За ето тёща Марфу возненавидела, проклинала, выгоняла из дому и сулила наихудшего мужа, пьяницу и чтобы бил всегда её. Тёща часто выпивала, при любым случае старалась напиться, и тайно выпивала. Тестю и детям ето не нравилось, за ето у них возникали конфликты. Когда Марфа вышла взамуж, тёща всеми силами старалась мне угодить, через лишку, ето меня настораживало, и Марфа тоже боялась, и к Марфе тоже изменилась, стала чрезвычайно любезна. Мы ничего не подозревали, но толькя удивлялись, кака она к нам любезна, но люди мне говорили часто, особенно Сергей Садофович: «Данила, опасайся, не доверяй». Я никому не верил: как ни говори, всё равно родственница.
sub 14 /sub
У нас шло всё хорошо. Тёща каждый Божняй день у нас в гостях, не надо радиё, ни газет — всё известно в деревне. Мы с Марфой по-прежнему трудились, деньги копили и начали матерьял покупать — строить дом. Народ на ето внимание взял, и смотрим: наши мужики строют станки [62] и садятся ткать пояски — сам дед Садоф, Иона Максимович, Сергей Садофович, Василий Берестов.
Мои пояски в США брали хорошо, потому что мужески руки посильнея женских, и пояски получаются как ремешки, и цена их росла: с 20 доллар ушли на 25 доллар. Мне везло.
Тут произошло следующа. Фёдор Иванович и Марк Иванович соперничали из-за Графиры Филатовны. Графира боле заигрывала с Фёдором, но тянула, Фёдор нервничал и даже пострашал её:
— Ежлив за меня не выйдешь, я тебя изнасилую.
Ей этих слов хватило, чтобы он ей опротивел, и она вышла за Марка Ивановича. Сыграли свадьбу. Он её любил, она уважала его. Вскоре приехала Валентинина сестра, Главдея Леонтьевна, Фёдор за ней стал бегать, но она как-то бочкём от него. И тут Алексей Иванович Чупров стал с ней праздновать, у их сошлось, и оне поженились, и у их пошло как по маслу.
Приезжает ко мне в гости брат Степан: двадцать четыре года, праздновает и помалкивает. Говорю брату:
— Ну что, братуха, пора жениться, хватит быть бобылём.
Он смеётся, начинает праздновать с Парасковьяй Ивановной. Шло всё хорошо, он взял для испытку да поиграл с Александрой Ивановной. Парасковья как надулась, бросилась домой, не стала играть, он к ней — она отталкиват:
— Иди к Сашке!
Степан посмотрел и сказал:
— Ишо не вышла, а уже ревнуешь. Что будет, когда выйдешь? И до етого сулилась взять в руки — да пошла ты подальше!
И собрался уезжать домой. Я стал убеждать: «Клином свет стал, что ли? Девок много, можно и выбрать». Он притих, стал праздновать с Александрой Ивановной. Вскоре он её высватал, и пошли сватать. Иван Чупров был пьян, Степана отстрамил, обозвал всяко-разно: «Синьцзянсы таки-сяки, кого берёшь, сам скоро состаришься, а девчонке всего пятнадцать лет!» Степан разобиделся и собрался совсем уезжать домой, тесть всю ночь уговаривал его, наутро Степан согласился ещё посватать. Пошли сватать, высватали. Но весь девишник Берестовы надоедали Степану: «Кого берёшь, она така-сяка, неумеха, ленива, больная, бери лучше Парасковью». Но Степан молчал до последу. Сыграли свадьбу. Степан стал жить в домике у покойницы Евдокеи Черемновой.
Вскоре поехали из США гости в наши страны — навестить своих родственников. Ето были Карп Ревтов с женой, брат дядя Федоса; Евфимия Феоктистовна Мартюшева, племянница тёщина, с мужем Иваном Карповичем, племянником дядя Федоса. Оне купили дяде Федосу возле деревни 45 гектар земли, и дядя Федос переехали и стали жить вряд с деревняй.
Вскоре приехал с Бразилии Максим Павлович Черемнов в гости, и прожил три месяца. Парень весёлой и простой, мы с нём крепко подружили, очень приглашал в гости. Мы строили дом, достроили, перешли.
Павла, Максимова мать, продавала свою землю три гектара, Берестовы её торговали, но она им не продала, так как враждовала на них, но продала нам. Мы купили, обгородили и купили ишо две коровы дойных. Народ запоговаривал: «Как он так умет, всё у его так быстро получается!» Мы молчали и всё трудились.
Тёща со мной так любезна и хороша, но на Марфу стала лить всякия небылицы: «Ты, Данила, зятёк, не распускай вожжи, она у тебя засранка, вредна, непокорна», и т. д. и т. д. Я всё молчал.
После свадьбе через два месяца Марфа забеременела, и пошли у ней проблемы, пошли рвоты, аппетит пропал, вся осунулась, посинела, но работу не оставляла.
— Маша, тебя свозить к врачам?
— Зачем? Не надо, всё пройдёт. Сам знашь, к врачам грех ходить.
— Маша, но так хворать! Я не согласен видать тебя такую.
— Всё будет хорошо.
Но действительность-то другая! Она, бедняжка, досталась мне вся изнадсажёна. Как толькя поимела половоя сношение, сразу зачахла, и день ото дня всё хуже и хуже. Как толькя сходит к повитухе Марине, поправится — так лучше, но чуть маленькя — опять хуже. С каждым днём становилась всё боле раздражительна, но виду не показывала.
Тёща видит, что успеху от меня никакого и что я Марфу жалею, начала Марфу разражать против меня. Сначала Марфа не поддавалась, но постепенно стала сдавать и всё от меня таить. Я думаю: «Что случилось? Марфа стала изменяться. Где наш договор? Посмотрю, что будет дальше».
26 августа 1979 года рождается наш первый сын. У Марфе пошли переёмы [63] , я сбегал за тёщай, та послала за повитухой Мариной. Марина пришла, заставила согреть воды, приготовить полотенсы. Переёмы пошли сильнея, Марина с тёщай ничего не смогли сделать, позвали меня, пришлось участвовать в родах. Вот тут мне запомнилось на всю жизнь, что такоя женчина, и стал их всегда жалеть и соболезновать. Бедные женчины, как вам чижало приходится, за такоя малоя удовольствия подверьгаетесь таким опасностям!
Родился прекрасный сын, на восьмой день окрестили и назвали его Андриян. Я от радости души не чаял в нём. У тёщи три месяца назадь тоже родился сын, назвали его Тимофеям, так что дядя и племянник росли вместе. Несмотря на Марфино поведение, я виду не показывал, но старался быть хладнокровный. Работа продолжалась, теперь мы не одне — нас троя.
Праздновать стало веселея, молодых мужиков добавилось: Марк, Алексей, брат Степан. Дядя Федос стал суседом, мы часто к нему ходили, он был весёлой, бражка у него всегда была, дядя угошал и всякия были, истории, рассказы и анекдоты рассказывал, был речист, и любо было его послушать. Раз слышим, он говорит:
— Первый рассказчик — все падают хохочут, но он не улыбнётся; второй рассказчик — сам хохочет, и все хохочут; третьяй рассказчик — сам залиётся [64] от смеху, но никто не улыбнётся.
Как-то раз он рассказывает нам анекдот, что он запомнился навсегда.
Едет царь Пётр Великий с дружиной на охоту по лесу, видят: стоит монастырь. Подъезжают к воротам, стучат во врата. Привратник смотрит в шелку [65] , и что он видит! Ох, батюшка-царь! И бежит без памяти к игумену, кланяется в ноги и говорит:
— Отче, отче, батюшка-царь у врат стоит с дружиною!
— А ты врата отворил?
— Нет, отче!
— Что ты натворил!
И бегом ко вратам, отворяют врата. А батюшка-царь на лошадях топчутся и нервничают.
— Вы что царю врата не отворяете?
— Прости, батюшка, виноваты.
— Вы что здесь делаете, лентяи?
— Молимся, батюшка.
— Молитесь? Посмотрим, как молитесь. Вот вам приказ: сосчитайте на небеси все звёзды, смерьте толшину земли и оцените вашего императора. Даю вам сроку две недели, не ответите — сожгу ваш монастырь! — Повернул коня и уехал.
Игумен в слёзы, рассказал братии, все уныли, наложили на себя правила, взяли на себя пост. А тут к ним всегда приходил Иван поживиться: тут накормют, напоят, каку-то копейкю дадут. Он часто выпивал, его прозвали пьяницай. Приходит он в монастырь. Что такоя? Все унылы, не разговаривают с нём, всегда были приветливы, а тут как вымерли. И стал приспрашиваться:
— Что с вами?
— Да отойди, не мешайся!
— Да вы что, что случилось с вами? Может, помогчи в чём-нибудь?
— Да отойди ты, не мешайся, не до тебя нам здесь.
Он пуше пристрел [66] :
— Да вы что, обалдели? Да расскажите, что случилось, молчать — дак что, лучше, что ли, будет?
Оне рассказали, что батюшка-царь приказал. Иван выслушал: ого, дело совсем простоя. И говорит:
— Дайте мне два целкова, я вам всё налажу.
Оне к игумену:
— Отче, Иван-пьяница просит два целкова и говорит, всё наладит.
— Дайте ему пять целковых да отвяжитесь от него, и без него горя хватат.
Дали ему пять целковых. Иван ушёл, приходит в город, заходит в магазин, покупает самый большой лист бумаги, приходит домой, свёртывает лист в небольшой кубик, берёт шило и весь кубик изрешетил. Дождался сроку, приходит к царьским вратам и стучит. Стража отворяет:
— Что надо?
— Иду с такого монастыря, ответ доржать батюшке-царю.
Стража доложили батюшке-царю:
— С такого-то монастыря пришёл монах ответ доржать.
Батюшка-царь:
— Немедленно пропустить!
Ивана пропустили. Иван кланяется в ноги:
— Ваше превосходительство, батюшка-царь!
— Ну что, сосчитали звёзды на небеси?
— Да, батюшка-царь, сосчитали. — Развёртывает лист бумаги, подаёт батюшке-царю: — Вот, батюшка-царь. Не поверите — посчитайте сами.
— Да, правильно. А смерили толшину земли?
— Да, батюшка-царь. Наши родители ушли мерить. Когда мы к ним придём, оне нам точно скажут.
— Да, правильно. А оценили вашего императора?
— Да, батюшка-царь. Небесный царь — тридесять сребреников, но вы как земной, то двадцать девять хватит.
— Да, правильно. А что я чичас думаю?
— Да, батюшка-царь. Сколь мне дать казни за мои дерзкие слова.
— Ну хорошо, идите и молитесь.
Выходит Иван, на остальные деньги гуляет, приходит в монастырь подвыпивши, смотрит: все дряхлы, испостились. Увидели Ивана, окружили, спрашивают:
— Ну что?
— Да молитесь себе спокойно.
Брату Степану не повезло в Уругвае. Чупровы оказались жёстки, Степана оне за человека не шшитали, всегда подсмеивали: то «Стёпонькя», то «Зайчик», то «траир». Он всё терпел. У них была одна корова, он раз загнал в ихний выпуск [67] , оне его отругали и корову выгнали. Он приходит со слезами и рассказывает, мы ему посоветовали: «Не переживай, а корову загони в наш выпуск». Вскоре приезжает в гости сестра Евдокея, и увидела, как братуха проживает: брат Степан с Александрой ходют на заработки, нанимаются свёклу прорубают да полют. И видела, как обращаются Чупровы с братом, стала говорить: «Что тебе, Степан, белый свет клином стал? Да пошли оне все подальше! Поехали в Аргентину, и будешь жить как человек».
Степан первое время тянул, Александра не хотела, и у их ета история продолжалась сэлый год, в консы консах Степан не вытерпел, и уехали в Аргентину. У них уже была дочь Хиония.
Арсений Филатович с Валентиной Леонтьевной с каждым днём спорили больше, она на пашне работать не хотела, да и вообче в Бразилии женчины на пашнях не работают. Так как там занимаются зерновыми посевами, то женчины толькя управляются дома. Да и Арсений ей сулил горы, а на самом деле обманул. Анна, мать, разжигала Арсения, а моя тёща — Валентину, и до тех пор к ним лезла, что оне разошлись. Арсений уехал без вести, Валентина осталась одна, постепенно на Валентину стали роптать, что на неё посматривают мужики, и тёща изменила позицию и стала против него. Бедняжка, она здесь в Уругвае толькя страдала, и дошло до того, что моя тёща достала из уборне ведро говна и вылила к ней в сундук. Валентина со слезами всё бросила и уехала в Бразилию.
У нас с Марфой с каждым днём в жизни обострялося хуже и хуже, Марфа стала показывать свой природный характер, стала за каждые пустяки огрызаться, за каждоя слово ответит десять. Жить стало невозможно. Я старался всяко убедить её, и ругал, и спрашивал:
— Где наше обещание? Мы друг другу обещались во всём угождать и посторонних не слушать, а ты связалась с матерью, и лезете в каждое дело.
Вся деревня уже заговорила: Марфа пошла материной дорогой, и говорили мне всё чаше: «Данила, гони ты тёщу и Марфе гайкю подкрути, а то будет поздно». Я Марфе всё ето говорил. «Не изменишься — возьму всё брошу и уеду, тогда хватишься!» Но ето не помогало.
Тёща до тех пообнаглела — что хотела, то и творила, в моим дому командовала, каструли проверяла, но вот чудно: Марфу превратила во врага, а со мной по-прежнему лучше её не найти. Но у меня на сердце камень рос боле и боле.
sub 15 /sub
В один прекрасный день говорю Марфе:
— Марфа, поехали хотя на сезон в Аргентину, освежимся, помидор посеем, осенью вернёмся. Моё родство увидишь, познакомишься.
Она перво возразила, но потом постепенно убедилась, и мы весной уехали в Аргентину. Наше родство встретило нас очень хорошо. Сестра Степанида уже бросила своего чиленса, но у ней уже была дочь Федосья. Чиленес угодил ленивый и выпиваха, поетому она его бросила.
Мы со Степаном арендовали земли по два гектара и посадили помидор. Помидоры уродили очень хороши, пришло время сбор, стали собирать, было радостно, перспектива была хороша. Но одиножды собрали помидоры, поехали сдавать. Сдавали помидоры, и тут народ заговорил: гроза идёт. Мы ету тучу видели, но не обратили внимание. И вот всё стемняло и пошёл дождь с градом, да такой град выпал, сэлую косую четверть [68] , у машин стёклы повыбило, на пашнях зайцев побило. Мы с братухой едем домой и горюем: а что с нашими помидорами? Приезжаем домой, спрашиваем, много ли граду было, нам отвечают: «Да, много». Утром приходим на помидоры, и что видим? Одне палочки все изломаны, и помидоры все побиты. Сердце сжалось, всё опротивело.
Марфа нашему родству не понравилась за её злоязычество. Она со мной огрызалась как могла, и мои родители всё ето слыхали и мне говорили и советовали, но я никого не слушал. Я её выбрал — мне и страдать, и дети невинны, оне не должны мучиться. Особенно Евдокея обиделась, она желала мне добра, но я ей отказал: мол, не лезь в нашу жизнь, мы сами разберёмся. Она упрекала меня:
— Говорила тебе, что не торопись, — нет, не послушал. Народ не здря говорил, кака ето семья.
Я отвечал:
— Не лезь.
У нас с Евдокеяй дружба распалась раз навсегда, хотя и на сердце была тоска.
Марфа ходила беременна вторым ребёнком — опять рвоты, всякия болезни, истерика, да, как назло, крёстна Марфе рассказала, как я жил, когда был холостой. У нас в семье ухудшилось отношение, Марфа стала делать всё на вред.
Мы вернулись в Уругвай. Тёща по-прежнему влияла на Марфу, Марфа перестала варить, стирать, коров доить, управляться. Что я мог, то и делал, но ето уже была не жизнь, а мука.
Вскоре приезжает с Аляске Прохор Григорьевич Мартюшев, Павлин брат. Он Черемновым в Бразилии купил земли и устроил хорошо. Старик весёлой, но сразу видать, что проходимес, он в Уругвае купил туристическу виллу и хотел ето сделать для курорта. При нём часто гуляли, и он показал себя бабником. Когда поехал домой, оставил за начальника тестя. Когда каки хлопоты с документами, тесть меня просил в переводшики, и, когда покупали землю, дядя Федоса также.
Когда Прохор уехал, тесть придумал каки-то бумаги сделать, чтобы я ему подмог, за ето получить с Прохора 4000 долларов. Я ему говорю:
— Тятенькя, ето грех, я не буду таки дела делать.
Он устыдился, и больше об етим не было разговору.
Приезжает в гости Саватей Павлович Черемнов с женой Мариной. Прожили месяц. Парень весёлой, разговорчивый, но какой-то непонятный, как-то любит осудить, про всех знат, и всё ему нужно. Он ко мне прилип, потому что я весёлый и стаканчик не пролей.
Тут тестю приходит письмо от брата Марка Савельевича. В письме он просит тестя, чтобы пустил меня к нему в гости: «Слухи прошли, что он у тебя на все руки и весёлой. Пускай приезжает, поможет мне с посевом, я ему билеты оплачу, здесь познакомимся». Саватей узнал, настаивал:
— Поехали вместе, я дорогу знаю, и вы с нами проедете хорошо.
— Но как ехать? Я лицо без гражданства, получить заграньпаспорт — ето для нас очень сложно.
— Да не переживай, граница слаба, я вас провезу.
sub 16 /sub
Ну, мы рыскнули. Приезжаем на границу, город Ривера, в центре двойна улица, втора улица — ето уже Бразилия, Санта Ана до Ливраменто. Перешли на бразильску сторону, приходим на автовокзал. Саватей берут себе билеты в Порто Алегре, а мы ждём. Саватей сходил узнал, какой водитель, дал ему взятку, перед тем как автобусу подъехать на автовокзал. Нас вызвали, посадили в туалет и замкнули. Пассажиры все сяли, полиция проверила у всех документы. Туалет закрытой, Андриян спал. Проехали пограничный пост, туалет открыли, нас выпустили, и мы благополучно доехали до первых деревень. Ето штат Парана, город Понта Гросса, деревня Санта Крус, проживают харбинсы. Мы прожили три дня. Я хотел съездить к деревню к синьцзянсам, в Пао Фурадо, но нас отговорили, и мы поехали дальше. Ехали троя суток, в штат Мато Гроссо, город Куяба, посто [69] Примавера до Лесте. Там всё жунгли, дороги плохие.
Приезжаем в деревню Масапе. Народ толькя что построился и корчуют лес и сеют рис. Приезжаем к дядя Марке. Заезжаем, оне сидят на улице — три пары, я подхожу, спрашиваю:
— Хто из вас дядя Марка?
Он отвечает:
— А вот разберись!
— Ну ты и есть дядя Марка, — кланяемся в ноги, искренно встречаемся.
И вот стали пашню чистить и рис сеять. В праздники наперебой все приглашают в гости: узнали, что я весёлой, и каждый праздник гули-погули, то к одному, то к другому. С Марфой каждый раз сапались, я её приглашал, но она кричала и не хотела, а толькя делала всё на вред. Дядя Марка всё ето видел и сожалел: «Да, пошла она в мать».
Когда мы приехали в Масапе, мне понравилось: много стариков, деревня большая, грамотных людей много, хороший порядок. Мне затеялось выучить португальский язык, говорю:
— Дядя Марка, у вас есть есть бразильски книжки?
— Да сколь хошь, вон у Карпуньки.
Взялся я читать. За три месяца — сидим с рабочими, анекдоты рассказываем, один рабочий говорит:
— Интересно, когда ты приехал, умел говорить «бом дня» и «муйту обригадо» [70] , а чичас сидишь анекдоты рассказываешь.
Мне самому чудно показалось.
Собрались мы домой, дядя Марка заплатил нам за билеты и за работу, и мы отправились. Заехали перво в штат Мато Гроссо до Сул, в город Маракажу, в деревню. Там жили тестева сестра, тётка Фетинья, женчина очень скромная, чем-то напоминает дядя Федоса, она мне очень понравилась. Но жили бедно, муж её Бодунов Димитрий — выпиваха.
Тут нас пригласили на свадьбу, на границе Парагвая: тёщина сестра Агафья женит сына Гаврила. С тёткой Фетиньяй вместе поехали на свадьбу, приезжаем в пятницу, вечером пошли на девишник. Етот вечер я почудил, повеселил девчонок и пошёл домой. Дорогой догнали — одна девчонка и повешалась мне на шею, я стал отталкивать — она лезет, я бросил и ушёл, а сам себе думаю: «Не хочу никакого кровосмешения в старообрядцев». И ето соблюдал всегда.
Тёщина сестра ведёт себя скромно, потому что муж Ефрем Анфилофьев строгий, как что — ей попадало. Жили оне хутором, на границе с Парагваям, — Понта ПораПедро Хуан Каважеро. Всего четыре семьи: Ефрем Анфилофьев с семьёй, Петро Кузнецов и Лука Бодунов. Лука — ето тот, который сидели три пары у дядя Марки, а третья пара — ето Константин Артёмович Ануфриев, двоюродный брат Сергею Садофовичу в Уругвае. Лука Сазонович Бодунов — хороший охотник и китайский тигрятник, хороший рассказчик и выпиваха.
sub 17 /sub
После свадьбе вернулись домой. Марфа последня время ходила беременна. И приезжают ко мне в гости сестра Евдокея, сестра Степанида и брат Григорий. Маленькя пожили, за Степанидой забегал Василий Иванович Берестов, стал сватать. Родители пошли против, что у ей дочь и она убегала из дому. Но Василий был косоглазый, и нихто за него не шёл, поетому он её посватал. Но она знала, что родители против, и говорила: «Ежлив родители против, я так не могу», он ей говорил: «Я на родителяв не посмотрю», но она не захотела.
Евдокея стала мне говорить:
— Данила, как ты думаешь дальше жить? Совсем обалдел: дом весь разбросанный, везде вонета [71] , сам коров доишь, варишь, пелёнки стираешь, а она от матери не вылазит, весь народ хохочут над тобой: «Данила баба!»
Григорий спрашивает:
— Рыба-то есть в Уругвае?
— Конечно, много.
— А что молчишь? Поехали!
Ну, собрались, поехали, поставили сети, утром поймали всякой-разной рыбы, Григорий ликовал. Ну, и рыбалка заманчива, мы тремя сетками поймали боле сто килограмм.
Приезжаем домой, Марфа с тёщай поднялись на меня и срамили как могли: лентяй, бродяга и всяко-разно. Григорий, Евдокея, Степанида ахнули, моя чаша переполнилась, и я решил уйти из дому. Я не любил конфликты и не люблю. Григорий, Евдокея, Степанида давали разные советы, но я никого не слушал. Вечером я собрался уходить и сказал Марфе:
— Я ухожу из дому.
— Ха-ха, уматывай, кому ты нужон!
Ну ладно, собираю свой чумодан, сердце разрывается, деток жалко, но надо решать, хватит так жить. Деняг не было, пошёл к дядя Федосу, занял сто долларов. Пришёл домой, говорю Григорию:
— Я уезжаю в Бразилию.
— А мне что здесь делать без тебя? И я поеду с тобой.
— Ну, смотри сам.
Утро рано стаю и говорю Марфе:
— Ну, Марфа, прости за всё.
Она остолбенела и не верит своим глазам, что действительно ето правды.
— А дети?
— Надо было думать об етим раньше, а теперь уже поздно. — Подошёл со слезами к сыну, поцеловал и ушёл. Как ето было трудно сделать, но надо было так поступить.
Приезжаем в город, переходим границу на аргентинскую сторону и берём билеты до парагвайской границы, город Посадас, с Посадас переходим границу в город Енкарнасьон, с Енкарнасьёна в Асунсьон, столица Парагвая, и снова на границу до Бразилии Понта Пора. Приезжаем к дядя Ефрему Анфилофьеву и тётке Агафье, ничего им не рассказываем. Побыли у них два дня и тронулись дальше. Приезжаем в Маракажу, заезжаем к тётке Фетинье Бодуновой.
Я ей всё рассказал со слезами, и она подтвердила:
— Да, с твоёй тёщай едва ли хто уживётся, знам мы её отлично. А тесть что?
— Тесть то ли не знат, то ли всё заодно.
— Я не думаю, всего боле не знат. И что думаешь делать?
— Сам не знаю. Обидно, детей жалко, и саму её не могу понять, что она хочет выгадать — так жить.
На другой день сходил к Анисиму Кузьмину просить работы. Он уже в ето время сеял до 1000 гектар рису и бобы соявы и славился как добрый. У него жена Фетинья Фёдоровна, один сын Симеон. Попросил работы, он не отказал. Мы с нём уже были знакомы, и он предложил работу в Мато Гроссо, от деревни Масапе 1000 километров, на реке Кулуене, что стекает в Амазонку: там у него 4000 гектар земли, всё жунгля, и надо её валить и жечь. Зарплату дал ничего, хорошу, 30 000 крузейров в месяц. Поразмыслил, вообче искал уединение, чтобы поразмыслить, как поступить с Марфой, согласился, и через три дня отправились в путь. Григорий не захотел отставать, и поехали вместе.
В дороге были двоя суток, в последним населённым пункте Гарапу заправились, снабдились и тронулись вовнутрь жунгли. Всё лес, дорога плохая, 80 километров едва за шесть часов добрались. Там жили две семьи старообрядцев — Панфил Пятков и Сидор Баянов, оне работали Ивановым, Сидору Фёдоровичу, нашим старым знакомым с Китаю. Оне купили 12 000 гектар земли; той всёй земли 20 000 гектар, 4000 гектар купил Поликарп Ревтов.
Устроились на хорошой речушке, от Панфила за четыре километра, построили себе балагушку и стали пилить лес. Речушка угодила светла и рыбна, мы прикормили рыбу и, когда надо, ловили. Интересно, каки попугаи, разносветны арары, пирикиты, туканы, всяки-разны макаки, дики свиньи и онсы — леопарды. Хорошо, что Симеон Анисимович оставил нам винтовку, а то, бывало, возле самого табора как заорёт! Было страшно, но потом привыкли и ходили на охоту. В праздники ездили на реку Кулуене, рыбачить и купаться, с Панфилом или с Баяновыми. Интересно рыбачить: любую наживу толькя брось, пиранья тут как тут, за час — полтора мешка; под вечер клёв меняется, пиранья уходит, подходит крупная рыба — пинтаду, суруби, фильёте, жау, пирипутанга, пирарара, корвина, пиява, куримба, много крокодилов. Вечером трудно поймать рыбу, большинство берётся крупная, с рук срывает леску и утаскивает, а нет — оторвёт. Всяко пробовали. Бывало, привяжешь к лесине, и толькя сошшалкат [72] и порвёт, но всё-таки доумились. Выберешь хорошу яму, берёшь леску один миллиметр, удочкю пятнадцать сантиметров и грузило полкилограмма, снабжаешь сэлую рыбу один килограмм, спускаешь в яму, привязываешь к лесинке за верхушку, чтобы пружинило, и оставляешь на ночь. Ну, бросишь таких наживов шесть-семь, утром одна или ни одна, но уже ето на удивление. Бывало, ловили первый раз: жау на 81 килограмм 600, потом жау на 67 100, потом фильёте на 106, потом суруби на 53 300, потом суруби на 40 900. Ета рыба очень вкусна, но жирна, как только перебачишь [73] , так понос — не раз приходилось бегать по лесу, удобрять землю рыбой. Что мы с ней не делали! Солили, сушили, коптили, мариновали.
Наша работа подавалась медленно, ето как капля в море — сколь ни пилишь, кажется, всё на месте. Становилось скучно, и семья на уме.
Одиножды приезжает дядя Сидор Фёдорович Иванов к Панфилу, с нём сын Иван Сидорович, зять Кирил Иванович Ревтов и Иванов рабочий Евгений Иванович Кузьмин; познакомились. Слыхали от родителей про Фёдора Иванова, а ето их сын Сидор. Он спросил, хто мы, мы рассказали. Он:
— О, старыя приятели, с вашей мамой мы вместе росли, и с тятяй знакомы. Ну как хорошо, что Бог привёл стретиться с детками.
Он мне очень понравился: мягкий, вежливый, ласковый, худого слова не услышишь. Оне привезли своёго топографа-бразильянина и попросили нас, чтобы мы помогли топографу пробить границу ихней земли. И мы вчетверым: мы с братом, Евгений Иванович Кузьмин и топограф — за месяц пробили просеку пограничну. Когда пробили просеку, Панфил собчил Ивану Сидоровичу, он приезжает за рабочими, приглашает нас на рыбалку, лучить на лодке с рефлектором ночью. Ой, заманчива рыбалка! Приезжаем на реку, вечером на берегу поужинали, по несколькя рюмок кашасы [74] выпили и отправились лучить острогами.
С Евгением Ивановичем за месяц сдружились, и он знал мою историю семейну и видел, что я всегда угрюм. Тайно попросил у Ивана Сидоровича бутылку кашасы, сяли на лодку, меня посадили за руль и дали мне рефлектор. Впереде Иван Сидорович с Панфилом, позади брат Григорий, возле меня Евгений Иванович. Рыбу лучили на мелким месте на песках, её ятно [75] видно, выбирай, каку надо и какой сорт хошь. Правды, шибко крупных не было, но до пяти килограмм попадались. Незаметно часы шли, все в удовольствии, а Евгений незаметно налиёт кашасы да угошает меня. Я, бывало, возразишь, а он пальцем знак: молчи. Сам себе поменьше, а мне побольше. Ето всё шло хорошо, но меня стало одолевать, и я стал ошибаться: где недосветишь, где пересветишь; впереде стали кричать. Евгений взял у меня рефлектор и стал светить. Потом я стал ошибаться и за рулём: мне скажут вправо — я влево, а скажут влево — я вправо.
— Что такоя, что с тобой?
Когда разобрались — я пьяным-пьянёхонькяй, на меня брат налетел драться, Панфил разматерился, Евгений говорит:
— Ей, друзья, он не виноват, виноват я, я его напоил, я вижу его проблемы, и мне его жалко.
Иван Сидорович узнал и расхохотался:
— Ну, ребята, что вы, судьбы всякия бывают, и надо к ним применяться.
Доехали до табора, меня увели в машину, и я больше ничего не помню. Утром все смеются, Иван Сидорович:
— Что, Данила, налить кашасы?
И все га-га-га, а тут даже духу не надо.
На второй день мы их проводили. Евгений — ето сын того солдата, который служил у японсов в тиокай и ходил с бородой. А Евгения Ивановича прозвище было Дед Мороз, потому что у него борода густа, руса, пошти бела; прозвали его харбинсы.
Остались мы одне с братом продолжать пилить лес. Вскоре приехал хозяин Анисим Кузьмин. Мы уже прожили четыре месяца, за ето время всё передумал и решил забирать семью и уезжать из Уругвая. А Марфа не поедет, то пусть даёт разводну и детей; второму дитю должно быть три месяца.
sub 18 /sub
Григорий уехал в Аргентину, я вернулся домой. Марфа встретила со слезами. У нас родился сын 20 июля 1981 года, назвали его Ильёй, ему был уже три месяца. Узнали о моём приезде тесть с тёщай, тесть надулся, а тёща забесилась и давай Марфе внушать, чтобы Марфа выгнала меня, что таскун, бродяга, и т. д. и т. д. Марфа не слушала, я Марфе заявил:
— Ежлив жить вместе, то со дня [76] надо уезжать отсуда, потому что тёща не даст нам жить спокойно.
Марфа колебалась, но я был твёрд, помянул всю нашу жизнь, наше обещание и сказал:
— Никакого послабления не будет. Ежлив жить вместе, то собирайся, будем всё продавать и уезжать в Бразилию, а нет — давай разводну и детей. Но знай, что останешься — сладко тебе не будет, тёща и до тебя доберётся.
Она плакала, боялась меня потерять и боялась мать, тогда я решил собрать собор. На соборе вся братия заступились за нас: оне всё видели, как мы жили. Я возмутился и всё тёще высказал, и тестю досталось:
— Как так, ты родитель и всё помалкиваешь, как будто тебе не нужно! Твоя жена везде лезет, всё ей нужно, тебя запрягла-обуздала и едет, как на ишаке, а ты везёшь. Или у вас всё заодно?
Тесть на все упрёки отвечал:
— Я ничего не знал, почему мне не сообчил?
Но тут братия вмешалась:
— Как так? Вся деревня знала, а ты не знал? Ето лукавство.
Но тесть стоял на своём. Подошло к тому, что мы свободны, но за то, что я кушал с миром, заставили сходить на покаяние, а то принимать в братию не будут. Я без возражение согласился, а тесть сказал:
— Проститься мы простимся дома, ето дело семейно, приходите вечером, и там простимся.
Мы обрадовались: ну, слава Богу. Вечером приходим к ним, я почувствовал что-то не то. И как тёща взялась кричать, и тесть туда же:
— Как ты посмел при всех людей так обличать!
— Да уже было невозможно.
И тут тёща подлетает со скалкой и кричит:
— Я тебе чичас покажу мартюшевску породу!
Я напрягся и говорю:
— Ну, задень, и я покажу свою породу.
Чуть-чуть не схватились, тесть видит, что дело кончится собором, а ето для них невыгодно, крикнул на тёщу:
— Прекрати!
Всё, затихла. Ишо маленькя пошумели, но пошло ко смирению. Тесть с тёщай не пускали нас уезжать, но я стоял на своём:
— Об етим думать надо было раньше.
После того тестя не видел больше откровенным со мной.
У Марки Чупрова случается несчастья: жена Графира Филатовна при родах умирает. Стала рождать, позвали Марину Берестову, но она не шла, потому что Графиру отбил Марка у Фёдора Ивановича и оне за ето злились, поетому она не шла. Когда подошло сурьёзное время, она пришла, но уже было поздно. Ребёнок задохнулся и помер, а Графира Филатовна с крови сошла [77] и умерла. Ой как Марка слезами уливался! Было жалко.
А Марина Марке отомстила за всё. У них был сын Поликарп, было ему четырнадцать лет. По рассказам, очень хороший парень, деловой, оне его любили. Однажды друзья пошли на охоту, все подростки: Чупровы, Берестовы, Черемновы. Марка Иванович заряжал дробовик, и нечайно получился выстрел, попало Поликарпу прямо в живот. Он с крови сошёл и помер. В полиции всё обошлось хорошо, потому что нихто не заявлял, и старообрядцы славились порядошными людьми. Через некоторо время Марка взял у Берестовых дочь Вассу Ивановну.
Приезжает с Аляске тёща Зыкова Филата. Мы в ето время продавали землю и дом, знали, что землю окроме Зыковых нихто не купит. И вот приходют Анна с матерью покупать землю и дом, так как в деревне нихто не купют, окроме своих, да и не допустют не своих. Пришлось всё продавать за бесценок: мы просили за 37 гектар и дом 6000 долларов, но нам дали 4000, порядились — никакой добавки, пришлось отдать. Но странно, когда продавали дом и землю, Аннина мать спросила: «Дом продаёте навсегда?» Я думаю: «Что же за вопрос, конечно навсегда!» Но вопрос поступил трижды, и трижды был ответ: навсегда. Что бы ето значило?
Мы продали всё и с 5000 долларами отправились в Бразилию.
sub 19 /sub
В Паране в деревне стретились с дядя Маркой Килиным, он приезжал на своёй машине грузовой четырёхтонке. Посовещались с ним, он нам посоветовал: «Здесь всё дешевле, и я еду простой [78] ». Мы взяли ледник [79] и разный мебель, загрузили на машину, а сами отправились на автобусе.
Приезжаем в Мато Гроссо, в деревню Масапе. Возле Николая Чупрова стоял моего друга Максима Поликарповича (он уехал в Боливию) дом пустой, заведовал ём дядя Василий Килин, мы его попросили пожить, он разрешил, и мы устроились в нём жить. Суседи нам стали справа Мурачев Селивёрст Степанович, слева — Николай Семёнович Чупров. Поискал и работу. Все хозяева договор делают с рабочими после урожаю.
Не пришлось рыться [80] , а устроились у Берестова Николая Даниловича, у него посеяно 300 гектар бобов, пять рабочих-бразильян, зарплата не очень — 25 000 крузейров, и инфляция. Нам тут пришлось трудно, с куска на кусок перебивались, но жили. Работа чижёла, денег никуда не хватат, но добры люди помогали: хто молочкя, хто зерна, хто мяса. Марфа давай корить, что уехали с Уругваю, я не слушал, старался работать, а в свободно время учился грамоте духовной. Старики мня поддорживали, за мало время научился читать паремии, Апостол, Евангелие, Поучение, екса-псалмы, Псалтырь, к пению тоже подтянулся, стал хорошо петь и читать. Дед Данила Берестов всегда разъяснял, как читать, кака прогласица, открытым ртом, громко, чтобы все слыхали, развязно по точкям и запятым — всегда следил и подсказывал.
В Масапе народ выпивал лишновато, особенно молодые мужики, как праздник — так пьяны. Я при гулянке всегда был весёлый и чудаком, за ето молодёжь мня уважали и всегда приезжали за мной и везли меня на веселье. Марфа злилась и не хотела ехать со мной, я на неё не обращал внимание и уезжал, но внутри мне было её жалко. Часто хворала, надсада донимала, ей было невесело, больницы недоступны, своими средствами как могли, так и обходились.
Вскоре приехал в Масапе Кузьмин Евгений Иванович, старый приятель с Кулуене, устроился жить в деревне.
Сусед Селивёрст Степанович угодил богатый, весёлый, но наглый идивот и развратник, часто устраивал пиры и спаивал молодёжь. Хто с нём связывался, тот превращался в пьяницу, и немало превратил браки в хаос.
Мурачевы — ето Ирон Степанович, жена Басаргина с России, с Приморья, у них два сына — Степан и Ефрем. Дед Ирон Степанович часто говорил старикам: «Взял ету Басаржиху, перепортила мою породу». Правды, старуха была маленькая, но вредная, и сынки угодили в неё. Степан вообче непонятный: ни в соборе, ни с суседьями, ни в компании, ни в гулянках — не везло нигде ему. Ефрем: в Китае на охоте медведь сломал ему ногу, и он из-за ето выучился грамоте духовной, хороша память, хороший полемист, но завидливый, вредный, строгий и порядливый. Он не терпел в соборе, вмешивался в каждоя дело и немало принёс вреда старообрядцам, потому что не справедлив, а лицемер.
У Ефрема жена Степанида, восемь сыновей, четыре дочери. Детей всех выучил грамоте духовной, жена очень добрая, дети, которы угодили в мать, очень хороши, а которы угодили в отца, такие, как и отец. Дети Фаддей, Ульян, Терентий, Елисей, Ефим, Иван, Николай, Арсений, дочери Варвара, Татьяна, Хиония.
У Степана Ироновича два сына: Селивёрст и Андрей — и три дочери: Федосья, Арина, Татьяна, а жена Фетинья Калугина — под вид моёй тёщи.
У Селивёрста Степановича жена Домна Валихова, умница и добрая, дети у них — три сына, три дочери. Селивёрсту прозвище Селькя. Рос он оторви башкой; уже женатым на тракторе убил брата — задавил по неосторожности; через сколь-то время в аварии убил три бразильянина и убежал в Уругвай, там проскитался три года, ето произошло в 1970-х годах. С Селькяй в машину лучше не садись: летает как бешеный.
Ефрем Поликарпович Ревтов с Селькяй вырос и шшитались друзьями, но ето человек благородный, добрый, милостливый, богатый. Судьба у него сложилась нескладна. Он праздновал и любил Марью Даниловну Берестову, но почему-то Поликарп не разрешил взять её, но заставил взять Парасковью Назаровну Ерофееву. Назар был добрый, но мать чижёла. Ефрем сошлись не по любви, и Парасковья старалась везде вред причинить Ефрему. У них шесть детей, но всех на имя не знаю, опишу, с которыми судьба свела и кого знаю.
На Ефрема в моленне была надёжда: грамотный, красивый голос, хорошо пел, красиво читал, как станет читать Поучение, многие плачут. Но у его получилось три несчастья. Перво: в моленне был уставшик, Ефрем ради зависти выжил его из сана; второ: дружил с Селькяй, Селькя превратил его в пьяницу; третья: разошёлся с женой.
Ну вот. В работе я старался, грамоте тоже учиться старался, и гулянки не оставлял, всегда в присутствии Сельки. В Бразилии мужики с базару пиво и водку пили тайно от стариков, но шило в мешке не утаишь. Старики за ето убеждали и ставили на правило [81] , выводили на собор и заставляли прошшаться. Чем чаше человек провиняется, тем боле старики жёстче становются, но не издевались, хотя и некоторы хотели бы поиздеваться, но старики не давали. Мужики научились пить водку в Китае на охоте, некоторы даже брали с собой китаянок на развлечение.
В Бразилии мужики часто ездили в город, потому что все связаны с банком, вот и в городе и шла баловня. Мне приходилось ездить редко в город, потому что рабочий, а ездил — ето оформлял документы бразильски на временное проживание, и вот здесь с мужиками участвовал на гулянках.
Приезжаем домой — старики уже знают и в моленне выговаривают, все отпираются: нихто не пил. Мне ето казалось жутко. Рассказать — будешь враг всем мужикам. Как-то раз отмолились, идём домой, дед Данила говорит:
— Тёза [82] , заходи ко мне, хочу с тобой поговорить.
Захожу. Он завёл к себе в комнату, посадил и говорит:
— Данила, мне тебя жалко, живёшь безродный, один, некому подучить, защитить. Послушай, вижу, хорошо работаешь, хорошо учишься, у тебя всё получается, старики тебя уважают. Брось гулянки, брось Селькю, он тебя к добру не приведёт, брось на базаре пить водку.
— Деда Данила, спаси Господи за вашу заботу. Но сам же сказал — безродный. А куды мне деваться? Я точно знаю: по вашему совету — сразу буду всем мужикам враг. А кому ето охота?
— Данила, послушай, — открывает книгу и читает мне: «До полцеркви таящихся еретиков ништоже вредит церкви, и ежлив сколь в моленне осквернил, за всех должен правило нести». Ну вот, подумай и пошшитай, за каждего на шесть недель, по сто поклонов земных, а в моленне боле сотни, и сумеешь ты за всех отмолиться? Давай, парень, подумай.
Да, я задумался.
— Ну хорошо, придётся выпить — вместе молиться не буду, но выдавать никого тоже не буду.
— Но ты становишься соучастник.
— Выходу нету, соучастник — грех, но ни за кого отвечать не буду.
— Ну смотри, подумай, ошибку не сделай.
Я поблагодарил и ушёл, и с тех пор, как где водки выпили, дома говорю: «Я не вместе» [83] . Дома проблема, но перед Богом не в ответе за людей. Интересно, как люди теряют страх Божий. Выпиваем, кушаем все вместе, приходим в моленну, все молются вместе, а я опять поганый. Старики стали меня гонять, презирать и называть пьяницай, но я знаю, что перед Богом я не лицемер и не двоедушный. Мужики вызнали, что я не предатель, и всегда со мной по-хорошему были.
Молодёжь тоже бразгалась [84] , их наказывали, а оне снова повторяли.
Черемнова Ульяна ишо с Уругвая заигрывала с одним хохлом, Бочкарёвым Антоном, и с Бразилии с нём списывались. Он обратился к Зыкову Филату, показал Ульянины письмы, тот поговорил со стариками в Бразилию в Масапе, дал ему наставленье, полный адрес и отправил в Бразилию. Бедняга на стареньким мотсыклете поехал за 4000 километров к Ульяне. Приезжает туда, приходит к Ульяне, она взадпятки — заотказывала ему. Он обратился к Ефрему Мурачеву, дал ему все письмы, тот прочитал и взялся за Ульяну. Вскоре Антона окрестили и свенчали с Ульяной. Антону было под сорок лет, а Ульяне под тридцать лет.
Черемнов Ивона Павлович младше меня на два года. В Масапе в ребятах всегда хотел быть лидером, за ето получил прозвище Префейто — глава. Старикам он не покорялся и всегда с ними спорил. Как-то раз деда Данила вынудил, и он ему сказал: «Недаром тебя и прозвали Префейтом». Старики раз пробирали его и стали ему говорить:
— Иона, зачем пьёшь пиво?
— Доктур приписал, и люди посоветовали.
Все в смех.
Как-то раз вышел на соборе и кланяется, и просит:
— Братия, помогите ради Бога долг заплатить.
Ну, хто сколь рису, сколь бобов, хто пять, хто десять мешков. Попросил Ефрема Поликарповича, чтобы на его машине загрузить и увезти в город, нас попросил, чтобы помогли загрузить зерно. Объехали, загрузили где-то под двести мешков, подъезжаем к дядя Василию Килину, Иона просит зерна, Василий отвечает:
— Иона, тебе хоть сколь — как бездонная кадочкя. Когда научишься жить, тогда приходи, а чичас нет.
Про Иону слухи таки. Все люди готовют конбайны к жнитву, а Иона ишо смазывает сеялку, хочет — спит, и никогда урожай не брал. Вскоре женится, берёт Федосью Анфимовну Ефимову, синьцзянку.
Чупров Николай Семёнович, сусед, выпиваха, как все Чупровы, ленивый и легкомысленной, но со всеми по-хорошему. Жена Наталья Даниловна Берестова, женчина умная и проворна, добрая, дети — один сын Власий и три дочери. Власий работал со мной, хороший парнишко. Но отец интересный. Оне уезжали в США, прожили там пять лет, Наталье там не понравилось, и оне вернулись. Однажды Николай поехал в город Рондонополис, куда все старообрядцы ездили. Вечером в гостинице дядя Марка с мужиками в присутствии Николая Семёновича говорит:
— А сегодня хорошую фильму пропускают [85] . Николай, пойдёшь?
— Нет, у меня глаза болят.
Отвечают:
— Как жалко, а фильма хороша.
— Говорят, глаза болят.
Но таились, потому что старики за кино ругали. Но мужики знали, что Николай не вытерьпит, пораньше ушли спать, а сами наблюдают, когда Николай выйдет. Смотрют, Николай завыглядывал, видит, что никого нету, шмыг тайком и поскорея в кино. Дядя Марка с мужиками за нём сзади, заходют в кино, видят, где Николай сидит, сяли посзади его. Когда фильма стала кончаться, оне поскорея ушли и лягли спать. Наутро собрались, дядя Марка говорит:
— Ну что, Николай, хороша была фильма?
— Я там не был. Говорил вам, глаза болят.
— Да Николай, фильма была такая: вот так, вот так, ты сидел в таким-то ряду, а мы посзади. А говоришь, что глаза болят!
— А я не глядел, толькя слушал.
— А чё, рази ты понимаешь на английским языке?
— Как на родным!
Все в смех.
Дядя Марка жил, нимо нас проезжал, мы всегда с нём заказывали продукту или меняли баллоны, но никогда не заедет, всегда нимо нас проедет, но не остановится. Идёшь к нему с тачкяй, плотишь за провоз и везёшь домой продукт. Ефрем Поликарпович жил совсем в другу сторону. Бывало, закажешь, он привезёт, завезёт и ничего на провоз не возьмёт. Бывало, купит рыбы, сколь себе оставит, остальную всю по бедным развезёт, и мы не раз пользовались. Как-то дядя Марка хотел похвастоваться в присутствии Евгения Ивановича Кузьмина, что он любит бедным помогать. Я не вытерпел и возразил:
— Дядя, ты не любишь помогать.
— Нет, люблю.
— Стой, стой. Ты живёшь нимо нас. Когда бы тебе ни заказал что-нибудь, всегда провезёшь нимо и никогда не остановишься, да ишо за провоз берёшь. Вон Ефрем Поликарпович, чужой, живёт совсем в стороне, но завезёт и никогда за провоз не возьмёт, а ты зато дядя.
Он говорит:
— Давай разговор сменим. — И после тех пор долго дулся.
В семидесятых годов все соборы подошли в одно, и стал один собор. И бразильския поморсы тоже подошли к одному собору, но Ефрем Мурачев копал и копал перед ними яму, так разразил их, что оне махнули на всё и ушли. Таки богаты, а он голопузой, часто их выручал от бедноты свояк Анисим Кузьмин. А ушли — ето Ивановы, Рыжковы, Макаровы. Но уже дети всех связали браками, и началися проблемы, а хто виноват — Ефрем.
Я часто садился за книги духовныя, мня увлекало боле и боле Святое Писание, старики поговаривали о последним времени и поминали о какой-то книге — «Протоколы сивонских мудрецов», что там написано много о последним времени. Я приспрашивался:
— А где можно её добыть?
Мне отвечали:
— Ты ишо молодой таки книги читать.
Мне часто приходилось думать: молимся, постимся, правило несём, то грех, друго грех — всё грех. А за что мы трудимся? А есть ли Бог? И стал просить: «Господи Всемилостивый, ежлив правды ты существуешь, дай знак, да чтобы не сумлевался». Ето началось в 1981 году.
sub 20 /sub
Урожай подходил к консу. У хозяина с отцом не шло, Николай стал проявлять отцу явно своё безбожество, за что отец хотел наказать сына, забрать землю и технику. Николай мне сказал, что сеять не будет и «ишши работу». А Селькя тут как тут. Николай сказал Сельке: «Рабочий хороший», Селькя давай уговаривать меня, горы сулить. Я боялся, слухи шли, что он не любит расшитываться с рабочими, но Николай мне сказал:
— С Селькяй надо уметь. Ежлив сумеешь, будешь как кот в масле кататься, а нет — всё будет худо.
Понадеялся на ети слова и пошёл к Сельке. Он начал угошать, и везде «Зайкя» до «Зайкя», везде на посылушках. Домна старается во всём ему угодить, но не может, всё ему худо. Я почувствовал: ого, куда я забрался! Народ заговорил:
— Данила, куда ты нанялся, будешь слёзы лить.
Ну, думаю, попробую. Селькя заставляет нас разбирать трактора, главный ремонт делать. Мы с рабочими все три трактора разбросали, перемыли, а он уехал в город. Приезжает с городу, мы сидим ждём.
— Вы что сидите, не работаете, лентяи! Ты, Зайкя, какой ты главный?
— Слушай, что нам наказано, мы всё сделали.
На следующу неделю прихожу в понедельник утром рано, приношу записку — закупить продукт на месяц, спрашиваю, что на етой неделе будем работать.
— Мне нековды, я тороплюсь, спрашивайте у Домне. — Сял в машину, хлопнул и уехал.
Прихожу к Домне:
— Домна, что будем работать на етой неделе?
— А я почём знаю, я в мужицкие дела не вмешиваюсь.
Прихожу к рабочим, спрашиваю:
— И что, всегда так?
Оне хохочут и говорят:
— Да, всегда так.
— А как работаете?
— Вот так. За всю неделю подобрали в бараке, что видели в непорядке, поправили.
Приезжает и ну опять материть: таки-сяки; продукт не привёз. На третью неделю прихожу, несу ему просты [86] баллоны:
— Селивёрст, нет ни продукту, ни газу, и что работать?
— Пересыпайте бобы из рваных мешков в целы.
Мы за три дня всё сделали, а три дня опять просидели. Я стал нервничать. Приезжает в субботу — ни продукту, ни баллонов, и опять матерки. Говорю ему:
— Ежлив ето будет повторяться, я ухожу.
— Ха-ха, Зайкя, куда уйдёшь?
В понедельник прихожу:
— Селивёрст, мы уже голодуем.
— Га-га-га!
— Дай нам работу на всю неделю, пожалуйста.
Он показал, где хороши бобы, и сказал:
— Провейте и ссыпьте в мешки, ето будет семя.
Мы за четыре дня всё сделали и два дня опять сидели. В субботу приезжает, привозит весь продукт и баллоны, но нам опять попадает от него. В воскресенье приглашает гостей, и нас с Марфой, Марфа по обычаю опять не пошла, а я всегда с сыном Андрияном, он нигде не отставал от меня. Приходим к Сельке, там уже гости, Селькя угошал, и Домна успевала ставить на стол. Селькя при всех гостей начал издеваться, подсмеивать и корить меня. «Синьцзянсы», «траиры», «лентяи» — как мог, так и обозвал. Я терпел-терпел, стал на ноги и сказал:
— Худой — ишши хороших, — повернулся и вышел, взял сына.
Селькя вслед мене:
— Ха-ха-ха, шутки не принимает.
Я отвечаю:
— А яйцы-то в желудке.
Прихожу домой. Ну слава Богу, что развязался с нём. Продукт получил приблизительно на всю зарплату.
В понедельник не иду на работу, вечером прибегает Селькя:
— Зайкя, ты что не идёшь на работу?
— А я вчера дал тебе понять: ишши хороших.
— Да я с тобой пошутил.
— Таки шутки мы не принимаем, и больше не заговаривай, к тебе работать не пойду, там один бардак.
— Но ладно, Зайкя, давай будем хоть друзьями.
— Ну хорошо, давай. — Пожали руки, и как будто никогда ничего не бывало у нас с нём. Но после того стал его опасаться.
На другой день иду к Ефрему Поликарповичу просить работу. Ефрем Поликарпович выслушал и говорит:
— Да у меня здесь рабочих хватает, но ежлив пожелаешь, у меня в Боливии 2000 гектар земли, и там тоже начинаем сеять. Ты хорошо говоришь по-испански, а ето мне необходимо нужно. Даю тебе 25 000 крузейров в месяц и шесть процентов с урожаю, сеять будем 600 гектар земли, помоги нам поправить трактора, и тронемся в путь.
Ето было в самый разгар переселение в Боливию. Почему старообрядцы поехали в Боливию — потому что в Боливии земли лучше, не надо никакоя удобрения, растёт как на опаре, и земли дешёвы, некорчёванны жунгли по 10-15 долларов гектар, а ето очень выгодно. Наши наперебой полезли, и даже из США.
Мы справили всю машинерию и стали возить на границу. Но мне жалко было хозяина и друга. На границу везём машинерию, оформляем у боливийского консула, всё хорошо, но, когда в обратну путь едем простые, мой Ефрем Поликарпович загуляет, 800 километров за троя суток коя-как добирались до дому. Мне приходилось уговаривать его:
— Друже, что с тобой, что неладно, в чём помогчи?
Он толькя руками отмахивается:
— Данила, оставь в покое.
— Но надо же кочевать! [87] В чём дело?
— В чём дело? Не хочу жить. Свели нас не по любви, ни в чём не могу угодить, тиранничат как может, всё старается делать на вред.
— Но етим ты не поможешь, твой компромисс [88] немалый: дети, хозяйство, моленна.
— Да, всё понимаю, ну что поделаешь…
Вот так добирались до дому, загружались — и снова. Но на самом деле дома у него непорядки, жена его Парасковья Назаровна — ето букушка, толькя бурчать, нигде не услышишь доброго слова, а всё укоризни да издёвки. Второй сын у них, Васькя, — ето материн шпион, всегда старался выслушать, выглядеть и бежал к матери ябедничал.
Ну вот, тронулись мы на границу, Ефрем как водитель, Максим Поликарпович приехал из Боливии — как водитель, ну и мне тоже как водителю, но я с семьёй. До границы мы доехали благополучно, но дальше пришлось трудно. Ефрем Поликарпович на грузовике «мерседес-бенс», Максиму дали трактор марки «Массей Фергусон» с загруженной телегой на семь тонн грузу, а мне достался трактор СБТ чижёлой бразильский, без тормозов, и телега на семь тонн грузу. Ефрем поручил мне ету опасность, знал, что впереди много опасностей, и наказал строго: под косогоры спускаться толькя на скоростях. Трактора с грузом по очереди, перво один спустится и подымется, тогда второй, и наказал соблюдать порядок. Ну вот мы тронулись: Максим первый, я второй, Ефрем третьяй. Дороги худые земляные, где лывы [89] , где грязь, ямы, калий, горы, косогоры, лес, долины. В каждой деревушке или городке стоит пост «Полиция», палка через дорогу, документам не верют, ходют вокруг груза и шёпчутся, не пропускают. Ефрем знал, в чём дело:
— Данила, рядись, за сколь пропустют.
Ну вот и рядишься, где за двадцать долларов, где за тридцать, пятьдесят, сто, двести, так и ехали. Но доллара знают хорошо, и смотреть приходилось за ними тоже хорошо: то и смотри, что-нибудь стянут.
В однем месте пошли горы, стало опасно. Я выехал вперёд, Максим сзади. Я заехал на гору, стал спускаться, и уже спустился боле половина. Ето надо медленно, чтобы грузом не столкнуло вниз, и ето опасно. Максим не дождался и решил поехать за мной, хотел переставить скорость, но у него не получилось, трактор на холостой стал разбегаться быстрей и быстрей, Максим даёт сигнал: дай дорогу. Дорога узка, я сколь мог посторонился, и он нимо меня, передней осёй у трактора врезался в лесину, и его телегой чуть-чуть задел мою телегу, а Максима выбросило как пробку на шесть метров. Ушибся, но ничего не повредило. Но у трактора весь передок развалило, два дня всё ето сваривали, хорошо, что были запасные запчасти. Ефрем качал головой:
— Ну, Максим, Максим! Железа-то хрен с ней, но что бы я сказал твоёй Ксении, ежлив ты бы убился? Ведь я же вам наказывал: соблюдайте порядок! Вот не послушал, вот и авария.
Ну, справили, поехали дальше. Марфа у меня распсиховалась: то ей не то, друго не то. Ефрем ето видел, вечером говорит:
— Данила, иди ублаготвори жену.
Ну, правды, пришлось ублаготворить, на другой день Марфа утихла, и поехали дальше. Приезжаем в город Консепсьон, там стоял военный гарнизон, проверили документы, завели нас в контору, полковник угодил добрый, всё расспросил, куда и зачем:
— Хорошо, молодцы, страна нуждается сельским хозяйством, ну, езжайте, доброго вам пути.
Тут дороги стали лучше, но посты полиции продолжались, и везде взятки так же. Проехали нимо Санта Круса де ла Сьерра, через Окинагуа — японская деревня. Появился асфальт, за все 600 километров толькя 50 километров асфальту. Проезжам Монтеро, Минеро, Чане, и опять в жунглю, дороги опять худые. Через двадцать километров приезжаем в деревню, Рио Гранде, к нашим, там уже семей пятнадцать, корчуют и сеют. Натянули палатки на три семьи: наша, Максимова и Ефремова брата Петра Поликарповича, он уже там жил и раскорчевал 600 гектар земли с Максимом. Всё разгрузили, сложили по местам, инструмент собрали, скрутили, приготовили работать. На днях сделали договор, составили акт и подписали, но на словах Ефрем Поликарпович сказал:
— Вдруг что, неустойка, рашшитаюсь помесячно по 30 000 крузейров.
Но в Боливии были пезы, и обмен был выгодный, всё дешевле. Стали готовить землю, работали день и ночь, отдыху почти не было. Вскоре приехал Саватей Павлович Черемнов, тоже Ефремов рабочий. Мы готовили землю и сеяли рис и бобы, Саватей ленился. Ефрем уехал, мы с Максимом не слазили с тракторов. Когда уже досеивали, Максим на мотсыклете сломал себе ногу. Саватей уехал в Бразилию за грузом, остался я один. Ну, слава Богу, досеял. Пошли дожди, всходы были хороши, мы начали оформлять документы.
В 1982 году в Боливию старообрядцы поехали с США, из Бразилии. В соборе постановили: хто приедет с США, принимать под правило, так как в США народ живёт слабже, чем в Южной Америке. Наставником выбрали Ефрема Мурачева. Было выбрать кого боле прошше, но у Ефрема сторона была сильна. Поперво всё было хорошо, поехали много туристов из США смотреть Боливию. Игнатий Павлов был из США и был помощником в Боливии наставника, он всех знал, хто приезжал с США. Народу было много.
В октябре пошли дожди, и сильны, мы успели построить себе домик, но крыша была пальмова, прохладна, но от сырости всяка насекома лезет в ету крышу, лягуши, мураши, яшшерки, мыши, змеи и т. д. Усадьба нам досталась на самом краю. У кого рот большой и принадлежит кучке наставника — тому досталась усадьба в сэнтре, а хто безответный и безродный — тому на краях да с жунгляй.
Всего за три-четыре месяца спокойствия пошла вражда, потому что как хто приедет из США свой, родственник или знакомый, тот молится вместе, а как чужой и не из ихнего кружка, так под правило. Пошёл ропот, злоба: но почему?
Пришлось мне ехать в город Санта Крус. В гостинице «Санта Барбара» оказалось забито нашими. Мужики увидели, что я в городе, вечером приглашают погулять. Отвечаю:
— Деняг нету.
Ответ:
— Замолчи, на вот пачкю деняг, и поехали.
— Мне не надо долгов.
— У тебя никто их не справлят, поехали!
— А куда?
— Замолчи!
В те времена всё было дёшево, разменяешь сто долларов — ето казалось много деняг. Садимся в такси и едем в центр, подымаемся на седьмой этаж и заходим в японский ресторан. И что же я там вижу? Полный ресторан старообрядцев! В деревне старики, женчины да дети, а остальные все здесь. Мне показалось жутко, и тут понял, почему вражда: значит, кто-то должен молиться вместе, а хто-то нет, а тут все вместе! Теперь понятно: лицемеры.
После ресторана повезли меня на тансы, подпили, что танцевать, — долго не танцевал. Мужики увидели, что хорошо танцую, — ну, везде ура. Дальше и табак пошёл в ход. Думаю, испытаю, чем занимаются наши мужички, на етот раз всё. Тут часто приходилось ездить в город: оформление, то переселенсы просют переводшика, то груз везти — всё каждый день новости. Мужички насмелились сводить меня к девушкам. Ну что, всё хорошо.
Я запереживал: а что будет дальше? Марфа стала похварывать, младший сын Илья слабенькяй, продукту не хватат, хозяин нервничат, Ефрем в Бразилии загулял, деняг не посылает, рис, бобы травой зарастают, Марфа забеременела, ослабла. Петро Поликарпович видит, что урожай теряет, сделался злым эгоистом, Максим и Саватей ушли, остался я один, и он высыпался — всё на мне. Наш договор толькя посев, но мне приходилось всё работать: дрова рубить, в ограде полоть, в огороде полоть, чуть не самого Петра перешпиливать [90] . Что скажет, то и делаешь, знал, что возражу — и продукту лишит, и так уже голодовали. Ну, я успевал. Как дождь, берёшь удочки, и бегом на реку Рио Гранде пять километров. Дорогой наловишь кобылок [91] , всяких разных скакучек, наживляешь и в воду, полтора-два часа, и едва несёшь домой; бывало, излишки несёшь, кому трудно было.
Наталья Коньшина, вдова, приехала из США с дочерью Ириной и два внука. Дочь была замужем за американсом. Приехали оне к Петру, он их принял, так как родственники дальние. Ета Ирина когда-то была красоткой, в США работала в авиякомпании стюардессой. Как она развратилась, неизвестно, но вышла за порядошного американса, и нажили двое детей: Давыд четырнадцать лет, Маркел семь лет. Их в соборе не принимали, приписывали Наталье, как будто она в Китае работала советским и предавала своих и что она знаткая, чародейкя. На самом деле Бог знат. Она меня просила, чтобы помог в таможне с грузом и с документами, посулила 1000 долларов. Выпросился у Петра, он пустил, но рот скривил. За две недели всё справил, она заплатила. Внук Давыд просился в соборе часто, мне его было жалко, хороший парнишко, он обещался жить по закону, но Ефрем Мурачев не принимал. Когда возили груз, дороги были разбиты вконес, где плавали по поясу, трактора ныряли и вылазили, бывало, и вязли, но ето было мучение. И вот когда везли им последний груз, Давыд как-то оплошал и упал с грузовика, разбил голову и умер. Нихто не стал хоронить: все святые, а он грешный. Пришлось мне обмывать, снаряжать и хоронить. Сколь было слёз! Вот такие справедливости.
Приезжают гости — Василий Басаргин, Фадей Васильевич Басаргин и Павел Кузьмин, племянник Басаргиным, родственники Ефрему Мурачеву. Ох каки высоки: толькя оне люди, на всех свысока поглядывают. Мы узнали, что с Боливии едут в Уругвай. Марфа беременна ходит последнея время, пошёл к ним и стал просить, чтобы оне Марфу взяли с собой, говорю:
— Марфа знат дорогу.
Оне мне в ответ:
— Да мы ишо будем заезжать в деревни в Бразилии, куда нам с ней возиться, ишо возьмёт да дорогой принесёт.
Я с обидой ушёл. Тут други туристы ишшут вышиты занавески, у Марфе было две, мы им продали за 400 долларов.
На днях попал в город, хозяин послал за продуктами. Приезжаю, мужички: «Ух, Зайкя!» Вечером опять по танцам, по девушкам, напитки, табак, дале боле. Смотрю, вытаскивают кокаин. Я в шоке. Дак вот каки у вас конбайны, вот как нанимаетесь жать боливьянсам! [92] Что делать? Ето уже всё, подходют к сурьёзному делу. Как быть? Виду не показываю, как будто все заодно, оне принимают, и я вид показываю, что принимаю, но не дай Бог. Всё прошло незаметно, я веселюсь всех больше, оне приглашают:
— Зайкя, переходи к нам, будешь жить как человек.
— Да, — говорю, — интересно, но дайте мне с хозяевами расшитаться.
— Ну хорошо.
Приезжаю домой, говорю Марфе:
— Марфа, тут нам нечего делать. Ежлив останемся жить в Боливии, ты потеряшь мужика.
— Из-за чё?
— А вот. Собирайся, я сам отвезу тебя, а потом приеду за грузом.
Мы за два дня собрались и поехали. Басаргины были в городе, узнали, что я сам повёз Марфу в Уругвай, и давай проситься с нами. Я вид показал, что оне нам не нужны, но оне настаивали, спросили, когда выезжаем, мы ответили: завтра утром. Оне купили тоже билеты на етот же поезд, и утром вместе выехали в разных вагонах.
Приезжаем на границу Бразилии, у их с визами не в порядках, стали просить меня, чтобы помог с визами. Я ответил:
— Как я могу таку жену бросить?
Взяли такси, переходим границу и на автовокзал. Берём автобус и дальше поехали. Марфа спрашивает:
— Почему так поступил?
Она знала, что я так никогда не поступал. Я ей рассказал, как оне поступили со мной в деревне, — так пускай получают. Раз богаты, значит, надо дискриминировать людей?
sub 21 /sub
Доехали благополучно в Уругвай, оставил Марфу с детками и поехал в Аргентину к родителям. Приехал — кака радость, кака встреча! Тятя купил старенькяй грузовик 61 года «мерседес-бенс» и возил овощи и фрукты за 500 километров по плохим дорогам к аборигенам, а оттуда привозил овцев и коз на продажу, етим и жили. Ну ничего. Брат Степан занимался помидорами, Евдокея дома, Григорий взял чиленку [93] Сандру Лира, Степанида где-то в Бразилии вышла за Николая Русакова.
Тятя с мамой обои:
— Давай хватит тебе скитаться по разным странам, приезжай да живи здесь.
Ну, я съездил с тятяй, куда он возит овощи и фрукты. Да, у его клиенты везде ждут, он с клиентами очень вежливо обходится, и его любят. Мне стало интересно: в семье был всегда суровый и строгий, а тут словно другой человек.
Вернулись домой, я попросил деняг груз привезти, он мне дал, и я отправился в Боливию.
Приезжаю в Боливию, смотрю, у нас в дому пусто. Стал узнавать, где что, мне сказали: «Петро всё забрал». Прихожу к Петру:
— Почему забрал у нас всё?
— Ты нам должен, — и раскричался.
Я пошёл к Ефрему Мурачеву как к наставнику, попросил как свидетеля, сходил попросил помощника Игнатия Павлова. Собрались у Петра.
— Ну, Петро, давай разбираться. Я у вас проработал восемь месяцев, всю землю чистили, корни вытаскивали, приготовляли, сеяли, ухаживали. И в чём я тебе не угодил?
— Да во всём ты угодил. Но зачем уехал?
— Петро, мы не виноваты, Ефрем загулял, всё заросло. Знам, что ничего не заработали, семья голодует, вся ослабла, и что ишо ждать? Я помню хорошо, что Ефрем говорил: ежлив что не совпадётся, расшитается помесячно. Ну вот я и пошитал, что вам не должен, а, наоборот, вы мне должны.
Он:
— Это в контракте не указано.
— Но ты же слыхал, разбирайся с Ефремом.
— А груз как?
— А груз я не отдам.
— Ну, братия, разберитесь, правильно ли ето.
Оне обои плечами пошевелили и сказали:
— Разбирайтесь сами.
— Ну что, Петро, восемь месяцав по 30 000 выходит 240 000, а мы вам должны 73 000 крузейров.
— Сказал, не отдам — и не отдам.
— Ну, тогда подавись! — И ушёл.
Наутро прибегает Петров сынишка и говорит:
— Мама послала, говорит, возьми сундуки.
Прихожу к Петру, его нету, жена говорит:
— Возьми сундуки, не ходить же детям голым.
Беру сундуки, прошу Луку Поздеева, чтобы вывезли в город, он с удовольствием взялся за ето дело. Но уже мало везли на тракторе, пришлось плавить на лодках: всё затопило. Добры люди во всём помогли и соболезновали: кака несправедливость. Конечно, понятно: что я составляю — бедный, сял да уехал, а Петро богатый и будет жить вместе. Вот мои свидетели, где им выгодно? А Бог что, Бог всё простит.
Приезжаем в город, беру билеты на границу и отправляюсь на поезде. На границе на машине привозим груз в таможню, показываю документы аргентински, у мня спрашивают:
— Где справка, что выезжаешь из страны?
— Кака справка? Ничего я не знаю. Как заехал, так и выезжаю.
— Но а груз?
— Груз — ето наши личные вещи.
— Ну подожди.
Через час приходит в костюме толстый человек, увидел:
— О, ето агрикульторы. Что с вами, что получилось?
Я рассказал, он мне говорит:
— Почему у консула аргентинского не взял справку за груз?
Говорю:
— Не знал.
— Может, напакостил и убегаешь со страны?
— Можете свериться.
— Да, придётся свериться.
Груз оставили в таможне, мня посадили в машину и повезли не знаю куда. Привозют, стены высоки, заезжаем. О-го-го-го, собаки, военны, всё решётки и тюремшики, заводют в контору, всё выспрашивают, всё рассказываю, мне отвечают:
— Что говоришь — ежлив всё правды, всё будет хорошо, но узнам, что врёшь, изобьём и будешь за решёткой.
Устроили меня в казарме, где спят солдаты. Ну, жду день, второй, третьяй, все молчат. Ночами солдаты в карты играют да коку нажавывают с хлебной содой.
— Эй, русо, жуй коку!
— Никогда не жевал и не буду.
— Врёшь, в Боливии нету, чтобы не жевали.
— Ну, как хочете, я не жевал и жевать не собираюсь.
Здесь тюремшики сидят двадцать, тридцать лет, и женчины тоже есть. На четвёртый день утром в 10.00 а. м. заезжает машина, тюремшики мне говорят:
— Торопись, ето полковник, он хороший. Расскажи ему свою ситуацию, а то тебя не выпустют, ждут с тебя взятку.
Я бегом к полковнику:
— Извините, полковник, я к вам с просьбой.
Он остановился:
— В чём дело?
— Уже нахожусь четвёртый день и не знаю за что, моя жена вот-вот принесёт в Уругвае, а я вот здесь.
— Как тебя звать?
— Даниель Зайцев.
— Хорошо, чичас разберусь.
— Большоя спасибо вам, полковник.
Вот нету и нету, в 14.00 п. м. вызывают, захожу в контору, мне говорят:
— Свободный, ничего за тобой нету, можешь идти.
— Но я без справки не могу отсуда уйти.
— Но мы не можем отсуда никаки справки давать.
— А я без справки не могу отсуда уйти, потому что в таможне сказали: без справки не приходи.
Чиновник пожал плечами и говорит секретарше:
— Пиши справку. На, — подаёт.
— Пожалуйста, ваш штамп и вашу подпись. — Ставит, подписывает, подаёт. — Большоя вам спасибо, извините, что надоедал вам.
— Ничего, счастливого пути.
— Ишо раз спасибо.
Прихожу в таможню, подаю справку.
— Ну, забирай груз и можешь идти.
Нанимаю боливьянсов, перевозим груз в аргентинскую таможню. Проверяют всё, спрашивают:
— Куда едешь?
— На юг, там у меня родители.
— Хорошо.
Ставют штамп, беру груз, нанимаю визу, на железнодорожной вокзал, сдаю груз в Буэнос-Айрес. Мне говорят: «Через неделю будет». Беру автобус — и в Уругвай за семьёй.
(Окончание следует.)
[1] Керженец — один из ранних старообрядческих центров в глухих лесах по левому притоку Волги реке Керженец и ее притоку речке Бельбаш (Нижегородская губерния). Массовое переселение старообрядцев-кержаков на Урал и в Сибирь началось в результате разгрома керженского центра в 1710 — 1729 годах.
[2] В конце концов.
[3] В общем.
[4] Киргиз.
[5] Неуживчивый, сварливый человек.
[6] Ограду.
[7] Козуля — дикая коза.
[8] Родня.
[9] Сели.
[10] Бикин — река в Приморском и Хабаровском краях, правый приток реки Уссури. Кокшаровка, Каменка — села в современном Чугуевском районе Приморского края.
[11] От хунхузов.
[12] Хозяйственный человек.
[13] Озорница.
[14] Из-за, предлог .
[15] Укорял.
[16] Толстовский фонд — фонд помощи русским эмигрантам, организованный в 1939 г. в США Александрой Львовной Толстой и имеющий отделения в странах Южной Америки.
[17] По количеству.
[18] Мальчишек.
[19] Мимо, предлог .
[20] Проводил свободное время в воскресенья и праздники, гулял.
[21] Просить прощения.
[22] Медленная.
[23] Быстрые.
[24] Птенцов.
[25] Ровня — зд . группа подростков одного возраста.
[26] Сватай Палагею. Игра слов: Полинка-тополинка.
[27] Сельскохозяйственную технику.
[28] Тошнило, рвало.
[29] Стал воображать из себя.
[30] Осторожно спрашивать.
[31] Настойчиво предлагать, навязывать.
[32] Считали людьми «третьего сорта» старообрядцев-«синьцзянцев» из поселков в Бразилии.
[33] В местный административный центр.
[34] Чиленец — чилиец.
[35] Пустых.
[36] Исчезал бесследно.
[37] Заранее.
[38] Необычно, удивительно.
[39] С жарким из мяса.
[40] Семья.
[41] Потому что.
[42] Работящая.
[43] Эксплуатирует.
[44] Читать начальные молитвы обряда.
[45] Сначала.
[46] Беликовы, Владимир Дмитриевич и Светлана Ивановна, живущие в Буэнос-Айресе русские эмигранты, дружили со старообрядцами и поддерживают их до сих пор.
[47] Тысячка — главный распорядитель на свадьбе.
[48] Дружка — товарищ жениха, сопровождающий его во время свадьбы.
[49] Закрыты.
[50] Блестящий.
[51] Переливное.
[52] Головной убор замужней женщины.
[53] Правой рукой за левый нижний угол иконы, левой рукой — за правый.
[54] Украшают дом вышивками и пр. из приданого невесты.
[55] Переодеваемся.
[56] Тело, туловище.
[57] Попросит прощения.
[58] Имеется в виду, конечно, потомок.
[59] Как называть по отчеству.
[60] Тяжелый, неприятный, сварливый человек, которому невозможно угодить.
[61] Называли по имени-отчеству.
[62] Ткацкие станы.
[63] Родовые схватки.
[64] Заливается.
[65] В щёлку.
[66] Пристал.
[67] Огороженное место для выпаса скота.
[68] Косая четверть — расстояние между большим и безымянным пальцами руки.
[69] Бензозаправка.
[70] bom dıa (порт . ) — добрый день, muito obrigado — большое спасибо.
[71] Вонь.
[72] Щёлкнет.
[73] Переешь.
[74] Кашаса — национальный бразильский спиртной напиток из сахарного тростника крепостью 39-40 градусов.
[75] Ясно, отчетливо.
[76] Как можно скорее, со дня на день.
[77] Потерять много крови.
[78] Без груза.
[79] Холодильник.
[80] Придирчиво выбирать.
[81] Назначали наказание.
[82] Тезка.
[83] Не буду молиться вместе со всеми в моленной.
[84] Баловала, нарушала закон.
[85] Показывают.
[86] Пустые.
[87] Ехать.
[88] Здесь : обязанности.
[89] Лужи.
[90] Перепеленывать, ср.: в говоре синьцзянцев зашпилить — запеленать ребенка.
[91] Кузнечиков.
[92] Боливийцам.
[93] Чилийку.
Глядя в небо
Салимон Владимир Иванович родился в Москве в 1952 году. Автор более пятнадцати поэтических книг. Лауреат «Новой Пушкинской премии» (2012). Постоянный автор «Нового мира». Живет в Москве.
* *
*
Скоро распогодилось, и мы
собрались в обратную дорогу.
Снег, покрывший здешние холмы,
на припеке таял понемногу.
Бурая земля была видна
ясно так, что становилось страшно.
Под влияньем пива и вина
выть хотелось громко и протяжно.
Словно кровь Христова запеклась,
забурела, сделалась густая.
Прежде про нее я думал — грязь,
а она не грязь — земля родная.
* *
*
Кто не дает покоя нам
с утра пораньше?
Может, дворник,
добывший с горем пополам
русско-таджикский разговорник?
Пичужки шебутной в кустах
я не заметил никогда бы,
не знай я, будучи в годах,
сколь громогласны наши бабы.
Их не смолкают голоса.
Поскольку поезд пассажирский
стоит здесь только полчаса,
Бог дал им голос богатырский.
* *
*
Все то, что было в нас хорошего,
в момент исчезло без следа,
как будто ледяное крошево,
как будто бы кусочки льда.
По саду нравится расхаживать
мне с наступлением весны
и в бочки ржавые заглядывать,
что талою водой полны.
На дне творится нечто странное,
а на поверхности — вот-вот
синицы тело бездыханное
воскреснет к жизни, оживет.
* *
*
Того, кто физики и химии
легко законы нарушал,
едва ли вспомнить мог по имени,
но я в лицо его узнал.
Жестикулируя решительно,
мы, словно два глухонемых,
все ж поздоровались почтительно,
попридержав коней стальных.
* *
*
Неодушевленные предметы
слишком много места занимают,
будто бы журналы и газеты,
что на летнем солнце выгорают.
Старый дом завален всяким хламом.
В комнатах просторных нынче тесно.
Тут нам горевать о главном самом
как-то скучно и неинтересно.
О свободе, равенстве и братстве
как тут предаваться размышленьям,
о духовном говорить богатстве,
если пахнет тленом и гниеньем.
* *
*
На древних греков спящие похожи.
Они, как лучники и дискоболы,
как статуи в музее белокожи,
обнажены совсем иль полуголы.
Тела их молодые в свете лунном
особенно мне кажутся прекрасны,
они звучат подобно медным струнам,
с гармонией небесных сфер согласны.
Как бриз морской колышет занавески,
так веет утром из лесу прохладой,
и слышно, как в ближайшем перелеске
густой кустарник топчет зверь рогатый.
* *
*
Как будто музыка со дна
глубокой ямы оркестровой,
гроза за окнами слышна
теперь в аранжировке новой.
Она звучит на этот раз
торжественно и величаво,
так, словно на глазах у нас
вновь обретает мощь держава.
Страна с колен приподнялась
и распрямить сумела плечи,
но, как ни билась, ни рвалась,
а к связной не вернулась речи.
* *
*
Гнутые монетки со следами
биток оловянных и свинцовых
канули в предания с годами,
как и большинство друзей дворовых.
Это все достойно сожаленья,
но, по счастью, в глиняной копилке
вышедший давно из обращенья
рубль бумажный — как письмо в бутылке.
* *
*
Все бы закончиться могло
в конечном счете мордобоем,
из-под контроля вышло зло
с битьем посуды, бабьим воем.
Тот, кто лежал в земле сырой,
остался бы доволен нами.
Мы выпили за упокой,
как принято, под образами.
Я сел за стол, где до того
лежал в полковничьем мундире
покойник.
Около него.
Как страж ворот в загробном мире.
* *
*
Дождь обязательно найдет
прореху в пологе лесном,
а мы войдем в бетонный дот,
с войны торчащий за селом.
Он стал прибежищем давно
в ненастный день для нимф лесных,
как грот, где девы пьют вино,
сойдясь, из кубков золотых.
* *
*
Солнце раскалилось до красна.
У работниц метрополитена
шапочки из алого сукна
были столь красны обыкновенно.
Я об этом вспомнил просто так,
без на то особенной причины,
за окном когда клубился мрак
и туман ложился на равнины.
* *
*
Плотвичка щиплет нам ладони.
На мелководье всякий раз
мальки, спасаясь от погони,
защиты ищут подле нас.
Они даются людям в руки.
Специалисты говорят,
что даже маленькие щуки
беспомощней слепых котят.
* *
*
В моей душе его печали
не вызовут переполох.
Его в густой траве едва ли
услышу я глубокий вздох.
Кузнечик лапками цепляет
травинку ту, что ввысь зовет.
Он до земли ее склоняет.
Она сломается вот-вот.
Но нескончаема дорога.
Травинку хрупкую согнуть
никто не в силах, кроме Бога,
что на Голгофу держит путь.
* *
*
Мы из вида очень скоро
самолетик потеряли,
слышать рев его мотора
в поднебесье перестали.
Он исчез в мгновенье ока,
так же, как и появился,
иль взобрался так высоко,
что с пути-дороги сбился.
Поздним вечером за чаем,
взявши в руки чашки-ложки,
в темном небе замечаем
мы горящие окошки.
* *
*
Сон повторяться может многократно,
и поутру, забывшись сладким сном,
мы можем в нашем прошлом оказаться,
откуда нам не выбраться потом.
Узнать друг друга будет нам не просто
в тени прохладной около ручья
в тех существах, чье тело, как короста,
сплошная покрывает чешуя.
У ящерок, рожденных в полумраке
среди камней, — на теле ни следа
от ран глубоких, что, как на собаке,
зажить успели раз и навсегда.
* *
*
Шире стала светлая полоска.
Вытянувши руки, на спине
мы лежим, как будто два подростка,
оказавшихся наедине.
Мы лежим, боясь пошевелиться,
чтобы ненароком не спугнуть
чувство, что до времени таится,
прячется до срока где-нибудь.
Сердце всякий раз уходит в пятки,
словно кто-то страшный и большой
с нами, малышней, играет в прятки,
помыкая телом и душой.
* *
*
Все существо мое в комочек сжалось,
как будто укололся я иглою.
А чувство страха на века осталось,
навечно, до скончанья лет со мною.
Когда из магазина мать вернется,
чтоб за уши меня не оттаскала,
мне больше ничего не остается,
как с головой залезть под одеяло.
* *
*
Нет препятствий непреодолимых,
только незначительные трудности
в пониманьи горячо любимых
по причине нашей беспробудности.
Мы сидим с тобою на крылечке,
глядя в небо.
На ветру колышутся
листья, словно в Божьем храме свечки.
И стихи по воле Божьей пишутся.
* *
*
В дымах фабрично-заводских
и в золоте пурпурном небо,
и русский не забыт язык,
и аромат ржаного хлеба.
Последняя возможность нам
дана на деле убедиться,
что здесь, подобно небесам,
у Бога на земле — столица.
Жабья лавица
Давыдов Георгий Андреевич родился в 1968 году. Прозаик. Преподает в Институте журналистики и литературного творчества. Автор циклов радиопередач, посвященных Москве, живописи, архитектуре, религиозной философии. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя». Живет в Москве.
1
Он научил тебя простому способу — только не говори никому, не говори, — чтобы увидеть рай. Прикрой глаза, прищурь, — всего лишь? — и тогда сквозь плывущий воздух ты изумишься, как хари станут ликами ангельскими. Вот ведь какой оптический эффект.
А уши? Как уберечь уши? «...Великая задача создания образа социалистического города великой эпохи требует руководствоваться великими указаниями великого...» Ну? Ты смотришь нетерпеливо, ты не летаешь с ангелами, ты не видишь, как на весеннем шаловливом подоконнике подтанцовывает докладчику флиртующий сизарь, — а еще говорили, что псковичи в войну съели всех голубей. Врут.
«...Какие перспективы открываются перед нами? (Докладчик полуоборачивает голову к гипсовому идолищу на сцене, сизарь крутится перед голубкой „курлы!”) Создание города великих завоеваний. Что выражает эти великие завоевания? Что, так сказать, жизнеутверждает их? (Сизарь — „курлы”, сизарь — „курлы”.) Величавые проспекты, торжественные площади, монументальные скульптурные группы („бям-бям-бям-бям!” — голубку прямо-таки прижимают к стеклу), вызывающие законную гордость народных масс. А искренняя радость детворы? („Бям-бям-бям-бям!”) Которая сможет резвиться на спортивных площадках там, где прежде теснились трущобы и тем более кладбища (сизарь делает крыльями фр-ры, голубка скромничает). Как творится заря завтрашнего утра? Как светится зарница будущего дня? На месте ветхих домишек, где ютилась беднота и томился труженик (сизарь возобновляет танцульки), на месте самодовольных палат купчин и купчишек („кур-лы!” — голубка блокирована в углу), на месте допотопных церквушек и затхлых монастырей („кур-лы!” — сизарь идет в последнюю атаку) — раскинутся скверы, сады, парки, зеленые легкие города, напоенные („курлы-рлы-лы!”) чистейшим кислородом...»
«Фи-фи-фи-фи-фи!..» (это голубка).
2
«Ангел стал нашим шафером», — она позволяла себе такую пошленькую вольность, когда вкруг домашнего стола собирались все, кто был предан Юрочке. Припомни их, братьев сердца, теплым летом 1946-го, припомни, как пыльные курицы гуляли по городу, — а одна торчала лапами из суповарки, потому что Юрочка наставлял: русские разговоры, Люша, всегда должны быть пиром.
Он сам сбил столешницу для стола — прилаживал томную липу столешницы к холостяцким еловым ногам, левкасил, мазал прозеленью, вытемнял, туманил патиной (ох, кабы паутиной!) так, чтобы столу исполнилось для начала хотя бы лет сто, лучше триста. «От новых вещей, — пошучивал Юрочка, — у меня сердечная недостаточность».
И люди за столом поэтому у него рассаживались не новые. Реставратор Николай Семенов (Николашка) — он знаменит был хотя бы тем, что, упав на груду битых кирпичей с четырех метров, появился, похрамывая, через два дня перед испуганными рабочими со словами: «Отлежался, ребятки». Затем — Афиногенов — конечно, книжник, у которого главная радость в жизни — Евангелие с отметой Ивана Федорова («писаря Михейку в баню — завшивел» — в вольном переводе) и главная боль — отсутствие в Псковском книжном фонде фолианта про антихриста 1703 года — а ведь в соседнем Новгороде есть, о трагедия, есть! Архивист, документокопатель Соллертинский («его голубые глаза такого же цвета, как Пскова в вешнем разливе»), доцент Православлев (уцелеть с такой фамилией — все равно что отменить закон тяготения, — вот почему Юрочка рекомендовал присмотреться к ботинкам Александра Александровича — когда он идет, они выше на полтора сантиметра от тротуара, — не так ли?), ее однокашница Еленочка Блау («Больше Люша не ревнует меня к твоим ржаным косам?» «Ну конечно, Юрочка, я теперь старая»), еще какой-нибудь трясущийся от счастья аспирант — сырая штукатурка, которой только предстоит впитать краски...
Их лица, их лица — они теперь плывут в воздухе, даже когда не прикрываешь ресниц. И Юрочкино лицо с ними.
Почему же ты, дура, не отвезла его в Москву показаться врачам?
3
Ангел, ну конечно. Ангел Петропавловки. Юра пригодился в блокадном городе — вдруг вспомнили, что Сокольский — единственный архитектор, лично занимающийся верхолазными работами. Он должен был маскировать шпили, кресты, ангелов — выкрасить все в цвет подслеповатого неба — спрятать в воздухе, не демонтируя. Вот почему он не умер от голода (военный паек). Вот почему они поженились — да, в самом тяжелом, в 42-м. Представь, да, представь кошмар: вдруг годом ранее ты уехала бы с родителями в Ташкент, смогли бы вы тогда встретиться? И даже если он плел, что в таком случае рука судьбы забросила бы его реставрировать Хорезм, а в Ташкенте он очухивался бы от дизентерии, ты все равно пугалась. Разве он мог променять свой Псков на Хорезм? И уж, наверное, не остался бы один. Господи, как воздыхали по нему девочки! Глаза пророка, борода пирата — что им еще? Он не пропал бы. А ты?
Полустудентка (учебу прервали), но тебя уже считали хорошим колористом (подобрать цвет больного неба вы смогли бы?) и к тому же не белоручкой. Ты стала его подмастерьем. Разница в возрасте, как игла Адмиралтейства, — одиннадцать лет. А в росте? Еленочка Блау хихикнула, что Оля Амбарцуни поднимается на пуанты, когда видит Сокольского.
«Если бы мы ходили только по земле, — напевал он ей после, — я не разглядел бы тебя». Да, там, наверху по-другому. Там лицом любуется ветер. И потом — вот уж проза — у нее лопнула горловина свитера аж до смуглого плеча.
Пусть фантазирует. Ты всё увидела как раз на земле. Бывает же такая спинища у знатоков древностей — ты вошла в комнатку, где он сутулился над планами города, прикидывая, какие ориентиры наметят немецкие летчики, — и, не смотря на тебя, не бросая планы, позвал: «Ну, Птаха, где скачешь?»
Ты растерялась, он повернулся. Засмеялся, оправдываясь, — Птахой называл Еленочку, которая уже работала у него две недели и требовала, чтобы Юрий Павлович говорил ей «ты».
«Амбарцуни», — назвала себя.
«Армянская красавица?» — нет, он не флиртовал.
«Да», — сказала совсем не сразу и почти раздраженно.
«Я вас научу не бояться высоты».
Нет, не ответила, что и так не боишься. Почему? Хотелось бы знать...
4
Ты с удивлением обнаружила, что он не петербуржец, — пскович. Причем пскович до безумия. «Когда-нибудь, — пел он ей, покалывая щекой ее щеку, — когда-нибудь...» Папироска (он любил курить по утрам в кровати) преобращалась в инструмент вычерчивания воздушных замков — ты слушала, покоя голову на его голом плече, и сквозь белый дымок видела палаты, из которых вырастали скрипучие галдарейки с железными петушками-кукарекалами наверху, видела окончины, посверкивающие мускавитским стеклом — проще сказать, слюдой, видела бочарни и сами бочки со снедью, видела церкви — он говорил о них, как говорят о дядьях, тетках, — он рассказал, что у каждой, например, свой голос — у Анастасии, которой пятьсот лет, — голосочек молоденький, а у Николы с Усохи — голосина с баском. Он вспомнил, что Спас Нерукотворный у Жабьей лавицы припадает на левую ногу, — неужели он произнес «подагра»? — да, каменная подпора колокольни заваливается и ползет, ползет. А Никола Явленный будто шляхтич в модном кафтане. А принявший обет молчания храм с Труворова городища? А разговорчивые старики — колокола псково-печерские? А прабабка Гремячая башня? Потом ты встретишь у старых каменщиков, с которыми Сокольский вычинял ее кладку, кличку — «бабкин внучек» — про него.
Уж они-то знали: Юрочка вырос на спуске к Пскове, напротив Гремячей башни, напротив палат в Волчьих ямах — в богатом доме своей бабушки Распеченко (из малороссийской дворянской фамилии, давно прижившейся в этих местах). Любовь к изразцовым печкам? Ну конечно: в доме Распеченков крякала печь с легкомысленными васильками на изразцах. Любовь к сундукам? Сундучишка-подголовник из шестнадцатисундучной семьи был единственным, который путешествовал вслед за Юрой. Прочие — разбили, раскрали, спалили. Ах, гривастые кони на сундуках! Ах, спелогрудыи русалищи! Где вы теперь, шептуны детства?
И любовь говорить особенно — так, что, слушая его, сердце за словами скользит, скользит. Ты потом догадалась: так умела говорить бабушка. И любовь к безделицам — сколько брошей он тебе выточил? Ты должна была закалывать ими шаль или — вопреки правилам — носить, как бантик, на шляпке. В блокаду он сделал тебе первую — деревянный круглячок, изукрашенный под цвет стылого неба с парящим ангелом. У ангела — несколько удивленное лицо, но ты смеялась над пяточкой — ее и не заметишь сразу, а ведь она — голая, детская — торчит из проношенного валенка.
А брошь с Золотым петушком, вертящимся на одной ноге под сырым ветром? С единорогом — чудесным зверем, дающим бессмертие? Пардусом — хранителем его родного города? Разве ты не помнишь, как жилка дергалась у Юры на лице, когда ты разжимала ладонь с именинным подарком — с пардусом-барсом? А с птицей Гамаюн, про которую он сказал, что люди — почти птицы? С Егорием Храбрым, которого он тебе приколол за месяц до той статейки? Юра, наверное, не обратил внимания на совпадение. Да и ты поняла только тогда, когда вы ехали в грустном поезде в Питер — отсидимся годочек, ну два — говорил он; а вышло — все двадцать.
Ну-ка, прикрой глаза — что ты увидишь? — серый перрон вокзала, серые лица друзей — надо ведь быть бесстрашными, чтобы в 1949-м прийти провожать изгоняемого из города. Вот — Николашка Семенов (пенсне на веревочке, плащ монархического покроя), вот — Еленочка (с глазами, всю ночь рыдавшими), с ней — Соллертинский (они поженятся через месяц и обвенчаются в Печорах, наверное, поэтому на печальном перроне Мишка Соллертинский единственный похож на счастливого котофея), Афиногенов (губы поджаты, а ус не добрит), два аспиранта (смельчаги!), опоздавший Православлев (свистит тебе в ухо — «с мо... ей фа... мили... ей в пер... вых ря... дах») — «Ты что-нибудь понял в его ахинее?» — спросишь Юру, разумеется, уже в вагоне, пока похоронные друзья будут идти за гробом-поездом и прощаться, прощаться.
Вдруг Юрочка расхохочется, подталкивая тебя к стеклу — смотри, воробьина, смотри! — Александр Александрович так преданно печатал шаг, что ударил в лужу — и облитый, в белых штанах, по-прежнему стоял там, — при общем веселье. Сначала грозил им, потом и сам загоготал, загоготал.
5
Нет, Юрочка ангелом не был. «Я не знаю, — говорил он вдруг (и ты с тревогой догадывалась, что это о Хорошилове — о том, кто изгнал его из родного города), — я не знаю, почему у него всегда руки потные. Православлев мне шепнул — от столовских котлет по кремлевскому рецепту. Желудок прочистит, а руки, черт возьми, потные».
Юрочка всегда обращал внимание на руки. Руки каменщика Глебки — и в девяносто лет обкалывал плитняк с одного удара; руки Семена-дурачка — штукатурку-обмазку клал так, как пеленают первенца, — крепко и чисто (москвичи-реставраторы приходили перенимать, а Семен, перепугавшись, отсиживался на хорах); руки Афиногенова-книгожора — так ласкают невесту в первую ночь, как он — книгу («даже томик Маркса», — хохотнул Юра); руки Православлева — совсем безрукий, все роняет, все бьет, — но ведь с первого раза выхватит с полки просимую книгу, раскрывая на просимой цитате. «Это не руки, это все-таки голова хорошая», — корректировала ты. А другие: начальственные руки — Юра уверял тебя, что их обучают рукопожатию на закрытых курсах. «Там стоит манекен-болван с единственной ручищей — нужно подбежать к нему и выжать на пятерку». Вот откуда столько оттенков в простом начальственном пожатии. Пожатие мужественное, пожатие бодрящее, пожатие отеческое (с легким геморроидальным полутоном — надорвались-де на службе народу), пожатие с большими возможностями (например, так пожимают лидерам маленьких стран и всех женщин), пожатие — ну конечно! — с коммунистическим приветом, с юношеским задором, с дымком у студенческого костра, пожатие (а как без него?) ветеранское, пожатие рубахи-парня (думаете, оторвались от земли? и ошиблись), пожатие с верой в исторический оптимизм, в наше будущее, в зарю, в рассвет...
Нет, такие шуточки не делали Юру веселым. Сколько раз должен был пожимать руку Хорошилову — руку, вздувшуюся от безделья... Клякать подписи — вряд ли трудное дело? Подпись: чтобы приехал кирпич. Подпись: чтобы приехал раствор. Поначалу подписи получались с поощрительной завитушкой — дерзай, м о лодец! — а начальственные м-да, м-да на объяснения Сокольского звучали подбадривающе. Неужели Юрочка верил: что-нибудь да переменится? Что город, разбирая разбитые войной здания, неприметно скинет с себя гадкое платье тридцатых . Например, стоит ли воздвигать статую Ленина-карлика, которая лопнула с кваком, когда немецкая бомба разорвалась в полкилометре? Или латать чрево гостиницы, построенной в тридцать седьмом? — псковичи из суеверия ее обходили — пахла тюрьмой, пахла арестами командированных простофиль под утро... А рапортовать в безглазую Москву о возросшей по сравнению с 1913 годом этажности Пскова — стоит ли? И отзывать реставраторов из главного собора только потому, что он стал снова действующим? И возмущаться, что он, Сокольский, набросал план восстановления храма, приспособленного для венерической больницы? Благо, вторые стены больницы строили спешно в 1920-е из какого-то дрянца, и они просели, как переносье сифилитика, припоздавшего с излеченьем. Там, где пели пять куполов, где ангелы в снежных хитонах спускались со стен, где от кадильниц танцевал аромат аравийский, где венчались родители Юрочки в 1908-м, теперь кололи в седалища, гнуся: «Расслабьте, товарищ, попу. Ну!»
6
Что бы ты вспомнила из путей-дорог, какими вы ездили, какими ходили? Он показывал тебе город, как семейный сундук. Он показывал псковские земли, псковские дали.
Ты помнишь, как спали в ничейной лодке в Старом Мтеже? Утром он отнес тебя на руках в белую воду Чудского озера. Ты кричала, ты фыркала. Он голосил экспромты про воронье крыло твоих волос, пока ты высушивала их над кашляющим кострищем. Да, бывает счастье во всеми покинутых далях. Валяться на желтой траве, например. Следить за пыхтеньем, например, буксира. Чавкать из котелка. Считать оводов.
Он придумал тебе платье из рыболовных сетей с бубенцами-сигнальцами. Ну конечно, ты будешь дуться за такую фривольность. А смотреть в теплое небо? Этому — надо учиться? Или просто голову смело закинуть?
Помнишь, он крикнул: «Прыгай, Люша! Лети!» — когда вы стояли на краю Труворова городища, а внизу гукали ямы, овраги. Помнишь, как перемазались грязью у Гологляг? Как взбирались, помнишь, на варяжский курган у Хрячовой Горы и ливень был ветхозаветный? Он потом смеялся, что у тебя физиономия в холодных каплях, — вы стояли, обнявшись как цуцики, под гнилым навесом, и Юра играл с тобой в догадайку — ты в ту пору еще плохо знала терминологию средневекового строительного дела. Щеки? Да! — прыгало твое сердце — он любит тебя. Нет, щеки — это внутренние стенки по сторонам крепостных зубцов-бойниц. Кулаки? Да — кулаки у Юры были что надо — он в 1920-е успел побыть штукатуром и каменщиком в вольных нэповских артелях. Нет, кулаки — это штыри петель для ставень. Козуля? Ты, пожалуй, с обидой решишь отмолчаться. Ну конечно: козуля — скамья из колоды на четырех ногах-сучьях. Перси? Как будто не знаешь — грудь города, оборонные стены Пскова, контрфорсы, если тебе угодно. Нет, милая, нет. Перси — чтоб целовать тебя в перси. Разве перед такой мокрой курицей устоишь?
Но можно не отправляться в дали. Когда глаза его щурились, когда карандаш чертежника ехал, позабытый за ухом, на улицу, знала — он покажет тебе то, что не видела. Да, в городе, которым объешься за два дня (фразочка столичных жеманниц из Архитектурного института), в котором исхожены закоулки, исползаны чердаки, подвалы, прожиты годы, он поведет тебя туда, где не бывала. Помнишь, шли вечером мимо Петровской башни-толстухи, мимо длинных поленниц, мимо сколоченных на скорую руку курятников, кланяясь под веселое мокрое белье на ветру, потом в дверь кряхтящего дома, потом — на задохнувшийся чердак, с вяленой рыбой на желтых веревках, сундуками в оковке, вонью от кошек, — к оконцу скворешни, открыл — и! — купол Николы, обычно в черно-ржавом железе, — влетал в темный чердак — огромный и золотой, и алый.
Ну конечно, Юрочка просто подгадал, что будет закат, но ты поняла — вот она, дверь на небо, да, дверь, да, в тот самый рай.
А другой розыгрыш? Я познакомлю — сказал он вдруг — тебя с отцом — как будто ты не знала, что отец был убит во время Брусиловского прорыва в июле 1916-го (это для того, говорил потом Юрочка, что Он подарил отцу русскую победу навсегда, навсегда). Итак, что значит познакомит? Юрочка тянул тебя по черному городу 46-го — битый мертвый кирпич, ямины с желтой водой, деревья, на которых в апреле так и не появились листья, тормозили знакомцы — он говорил с ними быстро, сжимая косточку тебе на запястье — сейчас, Люша, сейчас полетим, полетим дальше... Хорошо ведь лететь по его родному городу с ним? Вот и дом с ленивыми пеликанами, рассевшимися на фасаде, — ты проходила мимо них, пожалуй, каждый день — но не видела, не знала, что если прижаться к стене щекой, то тогда различишь под лапами верхнего пеликана клеймо с пичугой в прочном гипсе и простые слова — «Лепщикъ П. Сокольскiй». Да, отец.
Пеликаны, павлины, совы, вороны, летучие мыши, мокрые жабы, петухи-горлодёры, даже фламинго — обитатели райских кущей пополам с пришлецами из похмельных кошмаров — чем псковские денежные тузы хуже московских? питерских? парижских? чикагских? Заказы сыпались на отца, как спелая вишня. Все лепила артель Сокольского. Юрочка помнил, как отец, не сняв жилета и лаковых туфель (а как вы хотите вести переговоры с главой банковского дома «Шалопайко и Ко»?), валился на пол, на медвежью шкуру, и копировал, копировал себе в тетрадку из парижских и венских журналов, не забывая, конечно, гипсовых красоток и торсы атлантов — персидских невольников...
Ну конечно, псковитянки, смотрящие с бывших банковских контор, меблированных комнат, гостиничек, домин хвастунов-провинциалов — все они отцовой работы. У них чуть взбитые кудряшки (в Питере был бы нонсенс!), чуть выпяченная нижняя губка (в Париже был бы нонсенс!), иногда — шейный платок и, разумеется, нос en trompette [1] .
Юра проделает на улице фокус — вытащит фотографию матери поры замужества и попросит сличить с ней гипсовых псковитянок. Неужели портрет? Лишь намеки? Нет, те же лучики глаз, то же лукавство. Неудивительно: с кого-то ведь надо лепить.
Как вообще они познакомились — Натали, дворянская барышня с вздернутым носиком и учебниками женских курсов, и насмешливый художник без громкого диплома и без влиятельных родственников? Они ели знаменитый раковый суп на пристаньке? Пили шампанское в Кутузовском саду под тру-ля-ля духового оркестра? Играли в характеры? Знаете, что за игра? Нужно, чинно пыля по общественному саду, пытаться угадать характер прохожих, основываясь на внешности, на одежде. Ну, например, у того господина платок багряного цвета и еще свиные усики — значит, законченный скандалист. У этой дамочки — нос несколько более длинный, чем следует, — разумеется, дамочка сует нос в чужие дела. У институтки — горящие щеки — ха-ха, она думает об учителе-французе и его шоколадных глазах. А этот — герой войны русско-японской или интендант с подтухшей совестью?
Но хорошо. Молодость, шампанское. Почему бы не подурачиться? Почему бы не разглядеть звезды в глазах незнакомки? Но Сокольский-старший вовсе не был прожженным шармёром: в его привычки не входило забавы ради кружить головы доверчивым барышням. К тому же находящимся под присмотром сонно-злой тетушки, как, например, та, у которой Натали гостила.
Если хотел бы блистать, рассказал бы о родстве с Распеченками (все-таки псковские домовладельцы) или о первых заказах (хотя бы оформление витрин в булочной Белюхина), но никак не про дьячка из церкви у Жабьей лавицы! — который при царе-горохе торговал пиявками, отваром из лопухов, мазью для лысины, почечуйным корнем; знал много — лягушку бросить в молоко, чтоб не скисало, хвост выхухоли вложить в сундук, чтоб не жевала меха моль, петушиная лапка — приворожить жениха, персидский порошок — от клопов, от блох, настойка из сушеных тараканов великолепна от водянки, гофманские капли — от обмирания, ревень для прослабления (тетушка Натали светски покашливала при этом), тинктура — от расстройства нервов, и от колотей, и от стеснения в груди, клевер с четырьмя лепестками — к счастью, да?
Натали слушала его и кивала, кивала (придерживая белую шляпу с вуалеткой) — он ей уже нравился. А еще говорят, что провинциалы не умеют ухаживать. Что в провинции — скука.
Нет, это не было святое семейство. Когда отца убили, мать не осталась вдовой. Она вышла второй раз замуж, за врача с толстыми пальцами и жирной улыбкой.
7
Сколько Юре исполнилось, четыре? Помнил отца? Помнил, — сказал тебе, — в золотом сиянии. Нет, — говорил грустно, — никакой мистики. Просто день, уцелевший в памяти, надо полагать, летний. И всего-то осталось: Юрочка сидел на полу, бодаясь с медведем-ковром, вдруг раскрываются двери, а с ними — солнце, входит отец, он хохочет (какой контракт он тогда заключил? Декор театра Гермейера? биржи?), хватает сына, потом натягивает шкуру — медведь зашевелился, зарычал...
А как испортил отцовские эскизы, неосмотрительно оставленные на столе? Нет, не помнил. Только со слов матери (спасибо, что рассказала). Юрочка, подставив пуф, вполз на столешницу и, сев по-турецки, перемазал чернилами все, что там было. Мать рассердилась, отец же обнял его, засмеялся, подбрасывая к потолку: «Будет художник! будет художник!»
А прогулки с рыбаками? Помнится, помнится выход суденышек из узкой и тесной речонки Псковы в реку Великую — они выплывали, чуть подкачивая смолеными бортами, хлопая парусиной, — лодки, дощаники, расшивы, тихвинки, мокшаны — с резными коньками навесцев, с выпиленными на бортах кругами, крестами, звездами — пахнет водой и рыбой — порожние бочки сушит ветер, позванивая грузилами бредня, морщит воду, дергает флажки, крутит махавки, бросает капли родной воды на лица — отец ведет тебя вперед, ставит на комель мачты — ты видишь белые крылья? — это беляны, как птицы, плывут там далеко.
Юрочка мог рассказать про рыбацкий лов вдруг, за столом с братчиками, как называл он принятых в доме, между печеной тыквой и безе (разве курицы перестали любиться в 1949-м?). Кто-то прибавит: «А гусянки?» Нет, гусянки не плавали у нас. Они плавали по Оке, Каме, кажется, Цне, по Москве-реке, на веслах, реже — под парусами. А может, потому говорил, что видел накануне пятна мазута на озере? И вместо толстухи-шняки, в трюме которой в лучшие времена умещались сорок бочек, — плоскодонки теперь — хилые, жалкие... Как животы послевоенных мальчишек.
Ты видишь лица друзей (какая разница, сколько прошло лет): Семенов — хорошо быть близоруким и дышать, долго дышать на стекла пенсне, потирая платком, — Афиногенов — сластокниголюбец — что ему? — он знал противоядие — даже когда всё сотрут с лица земли родной, всё вытопчут, можно укрыться в норе библиотеки и миловаться с буквицами какого-нибудь тысяча пятьсот теплого года, — Соллертинский (зачем он отпустил усы?) — нет, что ни говорите, а весело, когда рядом — хохотушка с щечками, моя Еленочка , — тебе жалко Православлева — полноватые люди чересчур впечатлительны — будет ворочаться, будет не спать в эту ночь.
Между прочим, ты долго не открывала Юре черную тайну: во всем виновато безе. Разве ты не помнишь лицо корреспондента, которого отрядила газета взять у Сокольского интервью? Ты великодушно потчевала его — шея тонкусенькая! — пока Юрочка что-то дочерчивал в кабинете, — и никак не могла понять, почему с каждым разжеванным бело-желтым кружочком лицо корреспондента делается печальнее, печальнее. Ты еще подумала — не пригорело? Наконец Юрочка бамкнул дверью счастливый, громкий — чуть не за плечи взял гостя дорогого — у него было правило: ликовать, когда в дом к нему приходили. Ты (признайся, признайся) иной раз тяготилась: ну, Юрчик, не хватит ли на сегодня?
Но молодой человек из газеты (представился: «Моя фамилия Спасибенок» — у Юры, ты заметила, клоуны скакнули в глазах) — гость особенный — наконец-то расскажут городу и стране, какие люди готовят зарю завтрашнего утра. Как вы, Юрий Павлович, начерчиваете план коммунистического города Пскова? Иногда тебе кажется, что всему виною Юрочкина бравада. Мог иной раз так гмыкнуть, что хватило бы на пятьсотстраничное «дело». Или собеседник был вглядчивый? Заметил, что Сокольского дергает будто зубная боль? Чуть морщится? Тень на лице? «Прежде всего (ты всегда наслаждалась Юрочкиным баритоном) мы не должны забывать, что Псков — древний город, много старше Москвы и — ха-ха-хах — Петрограда...» Ты всегда наслаждалась и смехом — боже мой, — когда он смеялся на улице — все тихо-пришибленные пялились на него, — но зачем, но зачем он сказал «Петрограда»? По привычке?..
Скри-поскри-скри-поскри — зацарапало перо Спасибенка, нет, ты не говорила Юрочке, что два года ты не могла спать, только прикрывая глаза, ты слышала, ты слышала скри-поскри...
Он просил тебя показаться светилам — знал, что плохо со сном, а ты спорила, ты говорила, что, наоборот, ему надо ехать — и только в Москву, — потому что бывало так, ты видела, он сидел за письменным столом, с белыми губами, с лицом нехорошим. Ты думала сначала, что он просто расстроен, — нет, это игла, которой шевелили в сердце.
Почему ты его не привезла, почему ты не привезла в Москву?
8
Только пусть не болтают, что он замирился. Его вычеркнули из своего города на двадцать лет? Ну так двадцать лет — срок ничтожный. Реставратор шагает веками — он говорил, и любимые клоуны скакали в глазах — и потому ты смеялась, но не могла догадаться, на что намек. Ты думала: Юрочка постарается если не забыть, то отвлечься — разве не удивительно было работать в Ораниенбауме? А спасать Петергоф? Снова, как в пору их медового месяца (хотя и не медовой жизни), полезть на шпиль Петропавловки? Только он тебя («ну куда ты, толстушка?» — почти обидишься) не позовет. А твоих робких слов коллеги его — «у Юрия Павловича, кажется, сердце» — не услышат. Или просто слоняться по Эрмитажу — он не отказывал себе и другам своим в царском праве — перед Сокольским раскрывались двери в Эрмитаж даже и в понедельник, когда посетителей туда не пускают.
Юрочка угощал роскошней «Астории», роскошней Елисеевского лучшей поры — пустые залы, которые вдруг заговорили, потому что были свободны от лишних говорунов, и разве самим не удивительно зажечь тысячи капель хрустальных светил? — и выглянуть из-за портьеры на торопящийся город, который не подозревает, что здесь, в мертвый день, — «оргия»! Кстати, Юрочка выхохотал такое словцо.
Перед какой Мадонной плакала Еленочка? (Она тебе много позже признается про выкидыш.) Как — ну вспомни — перед натюрмортами Снейдерса с дичиной, окороками, кровяными колбасами, рыбищами, еще топырящими жабры, острил про жратву Православлев? А Юрочка, встав на колени, чтобы показать вам тридцать пород паркетного дерева в георгиевском зале? Как Мишка Соллертинский признался, что у него в первое посещение Эрмитажа в 1939-м стибрили кошелек из заднего кармана брюк, а после войны он сдуру оставил очки на каком-то эрмитажном подоконнике. Семенов? Нет, Николая Николаевича уже похоронили, годом ранее. Ты изумилась, когда Юрочка, приехав в Псков, — прямо с вокзала — на кладбище (Николай Николаевич лег на Мироносицком, рядом с матерью), — но больше Юрочка никуда не пошел — только посмотрел быстрым взглядом на Николу с Усохи — и сказал тебе черство — мы едем сегодня же. Ты переспросила. А он — кажется впервые — закричал на тебя.
Нет, в Эрмитаже они не уставали. Пусть Православлев подволакивает ногу (после инсульта), подхрамывает (нога начнет года через два гнить в диабете), но ведь смеется, когда Афиногенов подкалывает Юрочку: скажи, ты ночевал в Эрмитаже? В саркофаг к мумии ты ложился? А Браиловскую (эрмитажная бухгалтерша центнеровая, со слоновой болезнью и помазком татарских усов над верхней губой) ты целовал? Исключительно — я признаюсь вам — исключительно — сколько тогда было лет Юрочке? — пятьдесят девять? пятьдесят семь? — исключительно в щечку.
В наши дни многие жалуются: его душили. Плюньте. Разве представляют опасность пожиматели рук? Снашиватели костюмов? Трибунные заики? Потребители кипяченой воды из графинов? Пережевыватели слов и обедов?
Не дали придумать город. Разве можно теперь передать эти виденья? Город, который сбрасывает шкуру уродца, который оживает, как Лазарь, — а ведь были уже на Лазаре пятна гнили, и разве на Пскове их меньше? Хорошо, — говорят оптимисты, — но остались картоны: двести сорок четыре эскиза с видами Пскова, исполненных реставратором Сокольским в зимние месяцы 42-го, самого страшного года питерской осады. После того, как он маскировал город, приходил — и нет, не лежал, как другие, чтобы хотя бы меньше хотелось есть, не перебирал в больной памяти, что надо было бы успеть запасти, когда еще, например, в августе в магазинах было полно рыбных консервов, — нет, у него был военный паек, было одиннадцать бутылей с рыбьим жиром (догадался схватить в аптеке на Лиговке), была самодельная коптилка, были карандаши, была ты.
Сейчас говорят: Сокольский — выдумщик — да, обаятельный и к тому же умелый — но его реставрация не вполне, кх-хк, научна. Ему, говорят, город приснился, но почему, даже если это красивые сны, они должны стать руководством, так сказать, к действию? К тому же следует возводить дома, например, культуры...
Ты одна теперь, и ты думаешь, как бы Юрочка ответил им? Разумеется, он, прежде всего, был человеком улыбчивым. Такой — на всех фотографиях. Только не по прихоти фотографов — поэтому и улыбку его заметишь не сразу. К тому же — и борода. Но что-то есть в улыбке почти скорбное. А ведь Юрочка не жаловался, не унывал никогда. Не дали придумать город? Не хотели увидеть сны? Ну, так он мазнул по ним краской: «Сами глупые...»
Если бы глупые, Юрочка, но ведь еще злые. Но почему, скажи, почему, ты не вытащила его к врачам?
Только ты успокаивалась, когда видела снова его спину и веселые руки, и напевчик — взялся в квартире вашей сложить муравленую печь! Не дали город — ну, так придумаем печь. Ты не знала, что у него псковский чемодан не с вещами, а с изразцами, увернутыми в вещи, а еще ящичек с инструментами — стукальце-киянка, молоток, прав и ло, чертилка, весок, кельма — черенки у них потемневшие еще от отцовских рук. Ты была счастлива, слушая стукальце — кляки-дзин, кляки-дзин, — он повеселит тебя за работой — «от Маркса, Люшенька, случается заворот кишок не в пузе, а в голове» — он расскажет, что теперь новая мода — таскать по старинным русским городам приболваненных посланцев свободолюбивых народов — им весело, да и нашим не скучно. «Сами глупые... — и всегда прибавит: — Ладно, пройдет...»
Смешные истории присылал Юрочке в последний свой год Семенов — живой почтой — ученицами. Пили чай с безе (ну конечно!) и болтали, болтали. Реставрушки — так их все называли? Беззаботные реставрушки, беззаботное время... Вот и сценка начала 1960-х: в реставрируемый храм залезает делегация прогрессивных негров и с ними дура в обгрызенных диоптриях — взвизгивает, обращаясь к прилепившемуся высоко на лесах каменщику: «Вот вы скаж и те нашим гостям из солнечной Мурумбы, как вы, современный человек в современном обществе, воспринимаете преданья старины глубокой? Дела давно минувших дней? Ведь многие считают справедливым, что отвлекать средства и силы от строительства объектов народного хозяйства на реставрацию культовых сооружений, мягко скажем, не...» Каменщик смотрел, смотрел на нее, а когда она, наконец, исполнила знак вопроса, вскинув руками в сторону негров, повернулся к стене и стал выглаживать цемянку.
Разве не глупые? Ладно, если пройдет. Да... вот со всеми бы так. Отвернуться и делать свое дело. Цемянку, печь, паникадило с петухами, пританцовывающими на шпорцах (выточил и расписал Юрочка), родной город. Но ведь — почти крикнет он — лезут под ноги! Может, потому такая печальная, терпеливая улыбка? Вы, например, видели, какое пламя должно быть в правильно сложенной печке? — соломенного цвета.
А псковские базары (видели? жаль — улыбнется — что не видели) — предвоенной поры — последнее эхо прежней крестьянской жизни — расшитые синими цветищами попоны, рукавицы с перунчиками, ленты для девичьих кос, туески, в которых ягоды — где теперь такие ягоды? — будут нежно-холодными даже после многих верст, которые прошагал по жаре.
Но многое он вряд ли бы рассказал чужим. Только тебе известно, как он в пятнадцать лет забрался на разоренную церковь. Вот они — мертвые пятна невоскресшего Лазаря. Пустая, в поднявшейся у стен крапиве, с битой штукатуркой — как будто пьяный громила хлестал ее по лицу, с содранным золотом купола и успевшей проржаветь крышей — влаги так много в воздухе здесь.
Думаешь, ловко тогда он лазил по чердакам, по деревьям? Нет — спортсмен и пират Сокольский сделал признание, весело щурясь, — побаивался. Наверное, мешали шпаненки, у которых всё всегда выходило ловчей. Но около церкви той никого не было. Почему не попробовать? По заваленным мусором лестницам вверх, по стропилам с желтой крошкой жучка под купол, там — сохлое дерево рамы — окошко, невидное снизу, чтобы служка вылезал сгребать снег, еще выше — руки стали белые — не от снега, конечно, — от голубиного помета, так что даже пощипывало их, а сами голуби гулили и мешали — совсем не боялись, потом полз, цепляясь за выступы каркаса, по подкуполью, по каким-то вбитым в шею церкви штырям, к шпилю, где под ветром скрипел ржавым железом — зжа-зжа — крест, рыжий и ржавый. И тогда Юра подумал, что поднялся выше всех — какое шпаненки! — выше птиц! — и разве страшно? Так высоко — что небо плескалось над головой...
9
Ну, давай посчитаем теперь счастливые дни. Когда ехали по подсохшей после дождя дороге — и увидели аистов — с ними еще аистенка. Ведь это первый раз ты ехала в Юрочкин Псков? Он сказал, сжимая тебе плечо, что аисты ходили по псковским полям и пятьсот, и тысячу лет назад. И придумал еще для тебя, что если увидели аистов — значит, всё сбудется. Не поняла тогда, что Юрочка мило разыгрывает: ему ли не знать, что аисты на здешних полях, как кошки — в подъездах питерских. Но ты поверила, тебе понравилось. И после ему говорила, что глупенький аистенок понимает в старых камнях больше, чем отцы-стервецы города, который всё равно воскреснет — как бы ни пакостили — воскреснет когда-нибудь. Пусть не в 1949-м, и пусть не через двадцать лет, когда Юрочка вернулся триумфатором — и в день возвращения ты первая заметила аистов, закричала «смотри!» — а он улыбался устало, ты хотела еще сказать, что Хорошилов и Спасибенок и другие исчезли, как лужи — в солнечную погоду, но подумала — зачем о них? — с нами пусть будет только счастье.
Еще не потеряй денечек, когда вас двоих монахи водили по дальним пещерам в Печорах, — уж они-то знали, кто же такой Сокольский. И разве не ему обязаны снежные стены монастыря? Их объело гадкое время 1930-х, но когда Юрочка поднялся на треснувшую Святую башню, то сказал игумену что-то — что-то про стены — ты была в стороне и не слышала, переспрашивать не стала, только видела, как игуменское лицо удивляется, удивляется. Юрочка сделал тогда же наброски, а уезжали вы, держа в ногах гонорар — бочонок засоленных огурцов. Нет, два бочонка.
Конечно, счастливый день тот, почти первый, когда он осматривал твою верхолазную амуницию — деловито, почти строго — на груди, на спине — крючки, петли, страховочные карабины — Еленочка на изготовке рядом — «Юрий Павлович, вам принести то-то» — «Юрий Павлович, я подготовлю вам то-то» — и вдруг, ты даже до сих пор не понимаешь, как вышло, — ведь ты стояла к Сокольскому спиной, — но услышала узнаваемый клац, еще клац — и вы спинами прижаты друг к другу! — страховочные карабины зацепились, сработали.
Сокольский был очень сердит. На себя, разумеется. Такая нелепость. Пожалуй, если бы не Еленочка, которая скакала вокруг, чтобы вас расцепить, ему было бы легче. Но главное, что эти карабины — ваши кольца обручальные.
А как курил в постели? Как ты в рань бегала ему за папиросами? Вот ведь и прожженный глазок в наволочке — знак твоего счастья. Ты помнишь его лицо, когда он проснулся — с вечера выкурил всё — а ты дала ему пачку? Но ты помнишь еще его лицо, когда он сначала отвернулся к окошку (чтобы не пускать в тебя дым), повернулся и увидел, что ты снова под одеялом? Разве не весело ему растолковать, что ходить за покупками в ночной рубашке по Питеру в семь утра — самое милое, самое то. Но, само собой, сверху плащик, высоконравственный плащик. Да, Юрочка?
И еще не забудь прогулки у Жабьей лавицы — его отец так любил это место — отец, правда, путал, может, лавка жуликоватого дьячка и была здесь, но вообще-то лавицами в старом Пскове именовали мостки. Топкое место, болото, жабы. Ты смотрела на Юрочкины ботинки — они были очень грязные, мокрые, но лицо — с счастьем — и ты засмеялась, потому что ты поняла тогда — что он — юродивый — (вот почему у Хорошилова-хана, когда он тряс Юрочке руку, в глазах сидел даже не страх, а страшок) — ты засмеялась так громко, что грачи, которые до того перекаркивались на старых яблонях и лениво чистили клювы, взлетели все, взлетели. Ты день этот потом вспомнила, когда в его тетрадке с набросками, обмерами, цитатами непонятно кого, почему-то тратами на гранатовой сок (ну — как забыла! — он боялся за твое малокровие!) нашла строчку: «...что такое Россия? — Жабья лавица — проклятое место — наважденье, мир кикимор, или Жабья лавица — дверь в рай?» Почему он никогда не говорил тебе этого? Или нет, всегда говорил, всегда думал — разве иначе ты вспомнила бы веселых клоунов в его глазах: «Девочка, ты, конечно, знаешь ответ?»
Только одного ты долго не знала: почему же, когда Юрочка одолел их, вовсе не прикладывая усилий, когда через двадцать лет перед ним вдруг стали стелиться, почтительно трогать за локоть, подсовывать газетные вырезки с хвалами ему — кудеснику реставрации, певцу земли родной, воплощенному мужеству, вечному труженику («я не знал, Люша, — он задыхался от гогота, — что люблю читать надписи на заборах!» — но ты складывала газеты в папку — пригодятся), когда латунный орденочек ввинтили в пиджак по случаю какого-то-летия Союза архитекторов, когда вернулся в город (последний день августа, воскресенье, формально еще в отпуске, 1968-го), когда отцы (вероятно, не стервецы) города боярским жестом распахивали двери парадного, квартиры, столовой, кабинета — «Дорогой Юрий Павлович, надеемся...», когда подписали приказ на должность главного реставратора, даже подчистили цифирь в жалованье, чтоб пожирнее, — почему тогда ему оставалось три только месяца?
И ведь сердце не напоминало. Вот почему ты не отвезла его к московским врачам. Из Пскова, куда он примчался! Разве можно уехать, если ждал двадцать лет?
Мы, в самом деле, все — и ты тоже — глупые. И не скажешь — ладно — не скажешь — пройдет. Но когда лет через восемь ты сидела (а что — отказаться? умасливать надо — боролась за музей Юрочки) на глуполетии архитекторов (прицепила его брошь с русалкой — потому что знала, так упросил бы Юрочка), между выступлением Тефякина (заслуженный, автор заводища, который харкает дымом над Псковом) и Маечки Дроговоз (при жизни Сокольского она громко спрашивала — «Не пойму, на чем держится его репутация?» — а теперь скандировала с трибуны — «Наши наставники... Учителя... Наши сохранители... Мы должны школьников воспитывать на примере Юрия Павловича...») — ты услышала его голос. Нет, какое — показалось! Услышала ясно, только фразу, теплый шепот — «...ты что, птаха, думаешь, что пятьсот лет жить мне надо? А тут работы на тысячу...»
Ты потом научилась ходить по городу снова так, как с ним. Башня-толстуха, щеки бойниц, перси-груди стены (стала тихо смеяться, когда подумала, что было бы, если бы идущие рядом пятнадцатилетки угадали, старушенция, твои мысли), Жабья лавица, церковь Николы с Усохи, пеликаны отца...
Так ведь, Люша, собьешься со счета в счастливых днях.
[1] Курносый (букв. трубой) (фр.) .
Стихи с эпиграфами
Пурин Алексей Арнольдович родился в 1955 году. Выпускник Ленинградского технологического института. Поэт, эссеист, переводчик. Автор нескольких лирических сборников. Заведующий отделом поэзии журнала «Звезда». Живет в Санкт-Петербурге.
* *
*
Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы…
Батюшков
Ты пробуждаешься, о Байя, — Бог
с тобою, Байя!
Не всякий бог восстать из гроба смог —
и Байя не любая.
Тайфун, землетрясение, волкан
(Неаполя, к примеру) —
а ничего! Лишь пасмурный сафьян,
дурманящий триеру.
Иль это яхта русских богачей?..
Пусть Бог не выдал,
но не смущает взор уже ничей
твой утлый идол.
И честные патриции, увы,
не понаедут к маю
из Рима, не сносивши головы,
в целительную Байю…
Дремотное баюканье олив,
благоуханье рая…
Но Время, и богов испепелив,
течет, играя.
Субстанции властительнее нет,
неумолимей, неу-
ловимей! Твоему, поэт,
Оно сродни напеву.
* *
*
Такая драма случилась с Анненским-поэтом. Дай бог, чтобы его судьба как человека была иная. Но драма, развернутая в его поэзии, останавливается на ужасе — перед бессмысленным кривлянием жизни и бессмысленным смрадом смерти. Это — ужас двух зеркал, отражающих пустоту друг друга.
Владислав Ходасевич
Допустим, как поэт я не умру,
Зато как человек я умираю.
Георгий Иванов
Друг друга отражают зеркала —
житейский чад и мерзость разложенья.
И остается разве что зола
стихов в конце земного униженья.
А музыка потом спалит других.
Мы для нее, играющей, — поленья.
Иван Ильич, достигший просветленья,
мне дорог меньше строчек дорогих.
И ты, беглец парижский, на чердак
заброшенный и в зеркало глядящий
в предощущенье смерти предстоящей,
не думай: в Царском было точно так.
Живи пока. Но свой язык змеиный
умерь, а лучше спрячь его навек.
Не, как поэт, умри — как человек…
Грядет закат, закат холодно-дынный .
Альпы
Ессе Г. Гессе
1
Великие немецкие могилы —
в немом снегу: у мелоса нет силы
вдыхать небес остуженный азот.
От Монтаньолы до престола Бога
безропотна кремнистая дорога,
ведущая пургу через Мюзот.
Гельвеция! Игра стеклянных бус!
Здесь заключен мучительный союз
глубоководных Муз с сынами века —
заложниками сна. И холодна
почти бескислородная страна,
построенная не для человека.
Но изумлюсь: простак Иоахим
в Давосе жил и воздухом сухим
дышал упруго — яблоко из плоти, —
столь ощутим, что нет тоски сильней —
с ним встретиться... пусть — в сонмище теней,
в голубизне, в ослепшей позолоте...
Х вала тебе, Волшебная гора
Е вропы, где прохлада и жара
С оединились! Разума и чувства
С оюз ненарушим среди высот
Е динственно возможного искусства.
М ы пишем не для женщин и красот,
А для пространства внутримирового,
Н о не дано трехкоренное Слово
Н ам, вне себя, понять: Weltinnenraum.
Р едеет речь живыми небесами
И ных времен. Альпийскими лесами —
Ль няным плащем — покрыт всемирный храм,
К рупчатой солью гибельных морозов.
Е жевой рукавицей стоеросов
он — и повернут внутрь, к Иным Мирам.
2
Элизийский роман о Швейцарии горной,
ледяной безвоздушный Давос,
мы проходим тропой синтаксически-торной,
словно впавшие в анабиоз.
Нас ведет восхитительный старец — с сигарой,
улыбающийся, как дитя, —
добрый бюргер, ганзейский союз с Ниагарой
Темноты заключивший шутя...
В царстве мертвого мы слюдяного ландшафта.
И хитрец молодой среди нас.
Группа праздных гуляк. Сеттембрини и Нафта —
правда в профиль и правда анфас.
А еще — простоватый румяный вояка,
странно схожий с другим молодцом,
прогремевшим в бродячей России двояко-
сексуальным форельным свинцом. —
Или из дубоватых баталий Толстого
красной девицей выглянул он —
белокурый варьянт Николая Ростова,
верноподданный ветхих корон?..
Зачитаюсь... В саду нашем — хмуро и сыро,
Австро-Венгрия пышногниющая астр...
Но, увы: ни чумы, ни Платонова пира —
дверь не хлопнет, графита никто не подаст.
3
Гляди: пирамидальные шинели
самодовольно-генеральских елей
в широкое построены каре.
Какая утешительная проза
написана узорами мороза
на их красно-коричневой коре!
Всё это мне напоминает Гёте —
хрустальным звоном, блеском позолоты
и стужей безразличья. Говоря
по правде, я люблю его надменность,
его придворность и несовременность,
его стихи в мундире декабря.
Искусство, скажут, зеркало души.
А я скажу: ломай карандаши
и жги бумаги, ежели — и правда!..
Притворная муз ы ка Аонид
мне душу не целит, а леденит —
как исповедь... Поэзия — неправда.
4
В итоге плаванья сырого
берем в порту пивной редут.
Так-так... Бавария, здорово! —
и ты, коричневая, тут —
муз ы ки дойная корова...
Но профиль Людвига Второго
уже в таверне не дадут —
на сдачу с кайзерской банкноты
расцветки северных зевот.
(Все венценосцы — идиоты,
но Людвиг — славный идиот!)
Что помню? — Леверкюна ноты,
полет валькирии... Вот-вот
сопьюсь, испытывая зависть
к народной жизни площадной...
Хочу раздолий швабских завязь
сравнить с блакитной стороной! —
Но доведет ли, заплетаясь,
до Мюнхена язык хмельной?
* *
*
[Николай Полевой] кончаясь, повторял…
своей без пяти минут вдове и старшим сыновьям:
— В халате и с небритой бородой.
Самуил Лурье
Костюм — из Италии… В нем, думаю, и похоронят…
Из разговора
Решай же, смертный, как тебе —
в халате ль, скажем, и небритым,
в наряде ль юнкерском расшитом,
иль пусть сыграют на трубе?
Мундир парадный? Фрак простой?
Или, изволь, — в одной рогоже
и без креста (как Лев Толстой;
но это богохульство, Боже!)?
В супрематическом ларе?
В венке и в греческой рубахе?
Как Виттельсбахи — в серебре
(но мы, увы, не Виттельсбахи!)?
Купи в Италии костюм
(там лучше шьют, и шерсть овечья)…
Есть масса способов: «Дум-дум»,
Фаюм, культуры Междуречья…
Желаешь — в хлопок? Или — в лён?
Поверь, товарищ: нет проблемы!
И упокойся, окрылен
многообразьем этой темы.
* *
*
...Мучиться мыслями о каких-то людях,
Умерших очень молодыми...
Борис Смоленский (1921 — 1941)
«За лесом пик и копий
куда как смерть красна.
В расколотой Европе —
прекрасная весна.
Мечтательный германец,
фуражка набекрень —
о, как его дурманит
французская сирень!
Он видит с Монпарнаса
коросту рыжих крыш,
лиловую террасу
и розовый Париж.
Как неуместны эти
цветущие тона,
когда на белом свете
огромная война —
и будущее ими
оплачено уже —
такими молодыми,
что холодно душе», —
так я писал когда-то,
в смешные двадцать лет...
Но канул без возврата
и этот вешний цвет.
За нумизматикой
Ирине Евсе
1
Деметрия Сотера и Деметрия
Никатора эпоха, Антиоха
VII Эвергета... Планиметрия
резни, чертополох переполоха...
Играть бы этим мальчикам в солдатики —
двум сыновьям несчастного Сотера!
Но государства не терпели статики
и не была у них в фаворе мера...
Все умерли довольно молодыми
(тут эвфемизм: растерзаны, убиты).
Зачем мой ум отягощаем ими?
Что мне до этой канувшей элиты?
Кто дал им эти титулы — «Спаситель»
и «Победитель»?.. Драмы или срама
здесь торжество?.. В недоуменье зритель...
И всё же верит в ценности упрямо...
2
...знавшие вас нагими
сами стали катуллом, статуями, трояном...
Бродский. «Римские элегии»
Царь Митридат, лежа на плоском камне,
видит во сне неизбежное: голое тело, грудь, колечки ворса.
То же самое видит всё остальное войско...
Бродский. «Каппадокия»
Ариобарз а на Филоромея
монета серебряная... Немея
вечно от страха, закрыв глаза,
правил страной этот царь сутулый,
меж Митридатом VI и Суллой
тесно зажат: что ни день — гроза...
О, Каппадокия! Ты воспета
лучшим поэтом: ты — просто Лета,
а не долины, луга, холмы;
в сотах беспамятства всё уснуло —
Филоромейос, Евпатор, Сулла,
всадники, кони... Уснем и мы.
И не смешные колечки ворса
спящим приснятся, не формы торса,
не повторенья для жадных глаз —
зенок какого-то там катулла;
тьма неживая, она же — сулла,
как митридата, обступит нас.
На миллиарды веков, навеки
стылою Летою станут реки.
Над пустотой опустеет мост.
Как навсегда замолчавший кратер,
будет незрим в черноте евпатор.
В этой ночи — ни луны, ни звезд...
Так. Но осколком былого света
в теплой ладони блеснет монета.
Первым из праха воспрянет конь.
Каппадокиец восстанет следом —
на языке, что ему не ведом.
Ихтиос — «рыба», а тар — «огонь»...
Вне системы
Дурненков Михаил Евгеньевич родился в 1978 году в г. Тында (Амурская обл.). Окончил Тольяттинский политехнический институт в 2000 году и ВГИК им. Герасимова в 2010 году по специальности «кинодраматургия» (мастерская Ю. Арабова). Драматург, сценарист, автор более пятнадцати пьес и киносценариев. Лауреат премии «Евразия» (2008), победитель конкурсов «Действующие лица» (2010) и «Новая Пьеса» (2011). В «Новом мире» публикуется впервые. Живет в Москве.
Пьеса написана по заказу Московского художественного театра к 150-летию со дня рождения К. С. Станиславского.
1 АКТ
В МОСКВЕ
К р э г. Теперь же я в России и нахожусь в оживленной столице — Москве. Меня чествуют здесь актеры первого театра — великолепнейшие люди в свете. Мало того что они радушнейшие хозяева, они также и отличные актеры. Директор театра — Константин Станиславский, совершил невозможное. Он мало-помалу создал некоммерческий театр. Он верит в реализм как средство, при помощи которого актер может раскрыть психологию драматурга. Я в это не верю.
С т а н и с л а в с к и й. Недавно, на днях, я видел своими собственными глазами, как один известный в Москве барчонок в минуту раздражения выплеснул стакан с вином в лицо половому, который не вовремя доложил ему что-то. И половой конфузливо улыбался.
К р э г ( продолжает ). В Европе распространено убеждение, будто русским меньше, чем кому бы то ни было, свойственно интересоваться искусством. В этом отношении у русских такая же репутация, как у нас, англичан. Кроме того, бытует ходячее мнение, будто русские — народ малокультурный, но их Художественный театр наглядно демонстрирует, что это мнение в корне неправильно.
С т а н и с л а в с к и й. Неделю назад я видел такую сцену: разряженная и расфуфыренная дама из Сибири выла в фойе театра так, что ее пришлось отвести в отдаленные комнаты. Она выла именно как самая настоящая кухарка. Она выла потому, что опоздала на 1-й акт и ее заставили ждать в фойе.
К р э г. И все, что происходит здесь, вертится вокруг фигуры их директора Константина Станиславского, не только основателя всего этого мероприятия, но и актера, равных которому, пожалуй, я не видел. Что может быть выше и прекраснее, чем та простота, с которой он играет в современных пьесах?
С т а н и с л а в с к и й. Я вам рассказывал о дочке городского головы провинциального города? Она декольте и в розовом атласном платье в тридцатиградусную жару выходила к приходу парохода, чтоб встречать негритянского короля из Негрии. Все это происходит в ХХ веке, что же было во времена Гоголя?
К р э г. Если и возможны претензии к его делу и ему самому, то ни в коем случае не от меня и не сейчас, когда я так очарован этим человеком. С наилучшими пожеланиями, Эдвард Гордон Крэг.
С у л е р ж и ц к и й. Тем не менее Крэг еще не отчитывал. Он в ужасно бедственном положении. Занял у меня вчера 20 франков, так как нет ни гроша. Куда он девал все эти деньги? Если бы я получил столько, я уже жил бы у себя на даче и работал бы в театре как меценат. Однако денег у него нет, и он просил меня телеграфировать вам, чтобы ему хоть что-нибудь выслали из театра. А тем временем и в самом театре не все просто.
ТЕАТР, КОТОРЫЙ УМЕР
— Говорят, Константин Сергеевич очень интересуется американскими песенками, фокстротами и тому подобными музыкальными произведениями с наиболее капризными и необычными ритмами. Он думает, что этот род музыки еще совершенно неизвестен в России и мог бы представить большой интерес для изучения ритма.
И з г а з е т н о й с т а т ь и. Юбилей же Художественного театра тем замечателен, что самого-то юбиляра — тю-тю, давно в природе не существует! Художественный театр умер естественной смертью — в ту самую ночь, когда получил смертельный удар тот класс, лучшие соки которого он сконденсировал в своем великолепном явлении. Театр этот до конца дней своих с честью и высоко держал знамя российского буржуазного театра. Дух творчества давно уже отлетел от МХАТа, и сам театр не видит перед собой никакого будущего. Разве это работа? Да за такую скудную и идеологически и художественно плохую продукцию любой завод был бы закрыт в два счета!
М. П. А р к а д ь е в — И. В. С т а л и н у. То, что театр очутился сейчас в таком тяжелом положении, является не случайным. Это закономерное завершение внутренней борьбы, дрязг и интриг, которыми жил театр во время всей своей истории.
С у л е р ж и ц к и й. Я мечтал о таком театре, где все искусство, полное всяких правд, грело бы людей любовью ко всему человеческому, чтобы театр этот поддерживал веру в человека в наше страшное, жестокое время, чтобы самая эта труппа, состоящая из людей, живущих тепло, дружно, в труде и полной свободе, возбуждала бы в людях восхищение своей жизнью и искусством.
М. П. А р к а д ь е в — И. В. С т а л и н у. Около 40 лет идет непримиримая борьба двух основателей и руководителей — Станиславского и Немировича-Данченко. Эта борьба, не столько принципиальная, сколько персональная, привела театр к творческому тупику. Оба руководителя отличаются нетерпимостью к настоящим талантливым режиссерам, появлявшимся время от времени в театре, и под тем или другим предлогом таких режиссеров из основного театра удаляли. Так в свое время был удален из театра очень способный и талантливый режиссер, впоследствии сбившийся с пути, В. Э. Мейерхольд, за ним последовал не менее талантливый Сулержицкий и, наконец, по-видимому, почти гениальный Вахтангов.
С у л е р ж и ц к и й. Не слушайте никого! Вы делаете большое дело, делаете его превосходно — и потому вперед! Бейте, бейте и бейте по сердцам... А то иногда чувствуется, что вы не то что робеете, а не доверяете себе.
Н е м и р о в и ч. Два года тому назад он мне сказал: «Между нами стоит мой (то есть его) дурной характер. Что ж с этим поделаешь!» Я развел руками. Действительно, что с этим поделаешь!
В а х т а н г о в. Бытовой театр должен умереть. «Характерные» актеры больше не нужны. У Станиславского нет лица. Все постановки Станиславского банальны. Думаю о Мейерхольде. Какой гениальный режиссер. Я знаю, что история поставит Мейерхольда выше Станиславского, ибо Станиславский дал театр на два десятка лет буржуазии и интеллигенции, Мейерхольд дал корни театрам будущего.
М е й е х о л ь д. Артистов эксплуатируют и материально и морально. Первое — плата, рабочие часы, второе — подавление личности как художника, то есть отсутствие самостоятельного творчества. Как с этим бороться?
Прежде всего, сами артисты должны отстаивать свои интересы. Первое необходимое условие для борьбы, конечно, единодушие, солидарность среди артистов. Мыслима ли она, эта солидарность? Нет. Почему?
Н е м и р о в и ч. Три года назад он сказал крепко: «Мы с вами слишком разные художники, чтоб столковаться».
М е й е р х о л ь д. Общедоступного театра нет. Целесообразно ли терпеть эксплуатацию?
В а х т а н г о в. Личность Константина Сергеевича, его беззаветное увлечение и чистота создают к нему безграничное уважение. Я не знаю ни одного человека, который относился бы к нему без почтения. Но почему он один? Почему работать с ним никому, кроме совсем, совсем молодых, неинтересно и неувлекательно?
Н е м и р о в и ч. Когда он говорит: «Планов не надо, потому что они все равно разрушаются», — то я готов кричать! Да оттого и нарушаются, что с ними не считаются!
М е й е р х о л ь д. История возникновения корпорации. Алексеев корпорацию задушил, как только почувствовал в ней силу.
Н е м и р о в и ч. Все, что он говорил, я прекрасно помню, по 100 раз передумывал, и если бы меньше ценил его, мне было бы легче управлять делом: я просто считался бы не со всем, что слышу от него. А когда считаешься со всем, и когда он сам не замечает вопиющих противоречий в своих высказываемых намерениях, тогда опускаются крылья и становишься вялым, как вобла.
М е й е р х о л ь д. Я плакал... И мне так хотелось убежать отсюда. Ведь здесь говорят только о форме. Красота, красота, красота! Об идее здесь молчат, а когда говорят, то так, что делается за нее обидно. Господи! Да разве могут эти сытые люди, эти капиталисты, собравшиеся в храм Мельпомены для самоуслаждания, понять в этом хоть что-нибудь? Может быть, и могут, да только, к сожалению, не захотят никогда, никогда!
В а х т а н г о в. Станиславский до сих пор почувствовал только одну пьесу — «Чайку», — и в ее плане разрешал все другие пьесы Чехова, и Тургенева, и (Боже мой!) Гоголя, и (еще раз Боже мой!) Островского, и Грибоедова. Больше ничего Станиславский не знает . Больше ничему у Станиславского научиться нельзя.
М е й е р х о л ь д. Режим Алексеева портит актеров. Это не школа. Я чувствую по себе. Все, что я играю под его режиссерством, я играю без настроения.
Н е м и р о в и ч. Я просил! Я говорил, что самое лучшее — не передавать мне всего того... плохого, что он обо мне думает. Это меня слишком оскорбляет. Мне всегда кажется, что кто-то плюет мне в душу, в самую мою душу плюет! Но велика, должно быть, моя любовь к тому, что нас когда-то связало, как черт веревочкой! Я сбросил с себя обиду. Неужели у него нет средства, силы воли побороть в себе это? Он говорил не раз, что у него дурной характер. Нет, он слишком снисходителен к себе. (Внезапно кричит. ) Он — чудовище, а не «дурной характер»! (С трудом успокаивается.) И как только с ним уживаются люди?! Я, например?! Где-то и когда-то много он за нас ответит. Выскажу ему все это как вопль наболевшего сердца, определенно выскажу…
С у л е р ж и ц к и й. Питайтесь пищей богов. Я не юродствую, я совершенно серьезно — проходит жизнь. И сколько всякой моли и гнили расплодилось — надо чистить, возвышать человека, блюсти его. И кто может — должен. Надо в искусстве быть рыцарем, нужен романтизм, возвышенность и смирение. Мир погибает, задыхается в собственном смраде. Свою жизнь надо спеть во славу Божию и так и унестись в недосягаемую высоту. И люди это почувствуют…
П и с ь м о к р е с т ь я н. Вашу тонкую, глубокую игру мы, крестьяне, чувствовали, понимали. Вы нас очищали от грязи, будней, мы становились с каждым посещением вашего театра лучше, одухотвореннее. Большое мужицкое спасибо вам, дорогой Константин Сергеевич, за то хорошее, прекрасное, что дарили, сеяли. Ваши искания не напрасны.
С у л е р ж и ц к и й ( вдохновляясь ). Безграничная земля, дающая всем место. Я готов, как мужик, выстрогать деревянный крест со Спасителем и поднять его над золотящейся нивой, бегущей за горизонт. Что может быть величественнее и полнее?
Пауза.
М е й е р х о л ь д. Немирович — кулак. В то же время — писатель. Это социальное положение его заставляет считаться с культурными начинаниями.
Н е м и р о в и ч ( в ответ ). Мейерхольд, которого я знаю с первого курса, никогда не проявлял гениальности, а теперь мне кажется просто одним из тех поэтов нового искусства, которые обнаружили полное бессилие сделать что-нибудь заметное в старом. Я имею на Станиславского громадное влияние — но только когда я беспрерывно около него. Но стоило мне отойти от него, как он весь отдался глупостям, внушенным ему Мейерхольдом... И меня он возненавидел. Да, возненавидел.
В а х т а н г о в. Немирович-Данченко — он никогда и не был режиссером. Он не владел ни формой, ни красками. У него нет чувства ритма и пластичности. Он жил за счет фантазии Станиславского. Он — недоразумение как режиссер. Значение его в русском театре — поставщик литературы.
Н е м и р о в и ч. Я взял на себя самую неблагодарную роль — бухгалтера, кассира, экспедитора. И, очевидно, она пришлась мне очень к лицу, что все, кто были близки к Константину Сергеевичу, совершенно забыли, что такое Владимир Иванович, а помнили только, что им нужно для шествия по пути роз и что надо от меня требовать.
Пауза.
С т а н и с л а в с к и й. Господа, объявление! Нельзя ли написать всем без исключения артистам труппы, и особенно молодежи, чтобы не проверять каждого в отдельности, следующее содержание: «Одна из самых дурных, безвкусных, антихудожественных и неприличных привычек дурного театра — в том, что актеры, надевающие трико или чулки, не снимают ни носков, ни кальсон. Отсюда складки, шероховатости и некрасивая форма ноги. Надо особенно заботиться о красоте ног и икр, когда-то худая икра или нескладная нога считались неприличием. Сотрудники почти всегда позволяют себе это художественное неприличие. Но и артисты, и даже самые маститые, грешат тем же. Надо, чтоб это считалось впредь таким же неприличием, как надевать костюм, оставляя свои брюки». Спасибо за внимание.
Пауза.
М е й е р х о л ь д. Наконец-то бесповоротно решил оставить службу свою в Художественном театре. Причины те же, что заставили не одного меня бросить этот театр. Поводом к окончательному разрыву послужили крупные неприятности с дирекцией.
С у л е р ж и ц к и й. Приходится сознаться — осуществить своей мечты я не смог. Вот предел. Меня совершенно не интересует внешний успех моей работы — успех спектаклей, сборы — бог с ними, — не это меня может волновать и окрылять, а труппа-братия, театр-молитва, актер-священнослужитель. Не хватило меня на это — я должен уйти. Если этого я сделать не мог — это горько. Я пал духом, очень пал. Не держите меня. Поймите теперь меня, Константин Сергеевич, что я не могу быть заведующим студией. Отпустите меня; когда я найду, как смогу служить своей вере, — буду работать.
Н е м и р о в и ч. Когда-то я рассчитывал на ваше широкое доверие, но вы на него, очевидно, совсем не способны. Стало быть, нам надо договориться до дна. Я этого не боюсь. Я готов к самым радикальным решениям, а именно — совсем оставить театр.
В а х т а н г о в. Театр Станиславского уже умер и никогда больше не возродится. Я радуюсь этому.
ФОТОГРАФИЯ
Г о р ь к и й. Не чувствуют счастья жить и работать в этой стране только те люди, нищие духом, которые видят одни трудности ее роста и которые готовы продать душу свою за чечевичную похлебку мещанского, смиренного благополучия.
С т а н и с л а в с к и й. Я сконфужен и польщен тем, что таганрогская библиотека желает иметь мою карточку. Не сочтите это за наивничанье, но я вовсе не знаю, как поступить в данном случае. Допустим, я вышлю простую кабинетную карточку, без рамки. Скажут: «Ишь, жадный, не мог разориться на рамку и большой портрет!» Вышлешь большую карточку в рамке... Скажут: «Обрадовался, что в музей попал!» Как быть?..
Г о л л и д э й. Прихожу я в театр, казалось бы, обычный день…
— Что вы наделали? Вас по всему театру ищет Станиславский. Идите сейчас же к нему!
От одной фразы мне уже стало нехорошо. Константина Сергеевича я нашла на сцене. Он был явно расстроен: «Ага, явилась! У меня двухчасовая репетиция. Ждите меня в театре и никуда не смейте уходить!» Два часа я пробыла в большой тревоге. Когда окончилась репетиция, Станиславский позвал меня к себе в артистическую уборную и озадачил вопросом:
— Вы кто?!
— Я не понимаю вопроса, Константин Сергеевич…
— Нет, я вас спрашиваю: вы кто? Вы — Книппер?
— Нет... Я — Голлидэй, Константин Сергеевич…
— Нет, вы... вы — зазнавшаяся девчонка! Мы с Владимиром Ивановичем отдали жизнь для того, чтобы создать Художественный театр, и вот является какая-то Голлидэй и разрушает дело нашей жизни!
Я начинаю реветь от страха и полного непонимания своей вины.
— Нечего плакать! Идемте за мной!
Слезы текли у меня ручьем.
Мы вышли из театра. Константин Сергеевич, подойдя к извозчику, сказал: «На Сретенку!» Извозчик запросил двадцать копеек. Константин Сергеевич ответил: «Пятнадцать!» И мы поехали….
Я вжалась в угол извозчичьей пролетки. Станиславский сел рядом, и мы поехали на Сретенку. Подъехав к какой-то дешевой лавке, я к ужасу своему увидела, что в центральном окне стоит моя увеличенная фотография с подписью: «Артистка Художественного театра Голлидэй». Станиславский подвел меня к окну и указал на фотографию: «Вот как вы позорите Художественный театр!»
Затем мы вошли в фотографию, и Станиславский, поторговавшись с хозяином, купил мой портрет.
Все мои попытки оправдаться тем, что я не давала никакого права увеличивать мою фотографию и тем более подписывать ее, не были приняты во внимание Станиславским. Он сел в пролетку, положил к ногам мой портрет в раме. Я сидела зареванная. Станиславский всю дорогу молчал, только один раз сказал:
— Черт знает что! Какая-то девчонка заставляет меня ездить по Москве и скупать ее портреты! Куда я его дену? Может быть, Марии Петровне подарю?..
ЦЕНА ЖИЗНИ
Н е м и р о в и ч. Я вам наговорил так много неприятного! Пусть! Я хочу быть чист перед вами — какой бы ценой ни пришлось расплачиваться за это. Я договорился до настроения почти сентиментального. Я чувствую, что не только дорожу вашим доверием, но и просто-напросто сильно люблю вас. А коли люблю, так гнусно было бы с моей стороны таить что-то... За сим остаюсь ваш, Немирович-Данченко.
— Постскриптум.
Н е м и р о в и ч. Мне кажется, что я не весь высказался. Ах, какая это беда, что мы мало говорим друг с другом! Вы сказали как-то и повторили еще раз: «Надо нам, Владимир Иванович, возвратиться к первоначальному разделению работ: у вас литературное veto, у меня — художественное».
Увы, должен, не обольщая себя, сознаться, что такой порядок всегда приносил наилучшие результаты. И стало быть, я как самостоятельный режиссер должен поставить на себе крест.
— Постскриптум.
Н е м и р о в и ч. Но что же такое, скрытое, тайное от меня, чего вы не решаетесь сказать мне, сидит в вашей душе, что заставляет вас остановить мой режиссерский пыл?
— Ревность?
Н е м и р о в и ч. Не может быть! Не может быть! Не может быть!!! Не должно быть!!! Я готов испещрить страницу восклицательными знаками для того, чтобы установить, что ревность в вас ко мне смешна, и что ее нет, и что у вас не может быть мысли ни на одну минуту, будто я предполагаю в вас такую ревность. Вы, Станиславский, ревнующий меня как режиссера, — это так дико, что нельзя об этом долго говорить.
— Ревность?
Н е м и р о в и ч. Когда один раз в этом сезоне один актер сказал мне это, то я развел руками и проговорил: «Это было бы так нелепо, что у меня даже слов нет». И неужели я так самонадеянно-бездарен, что не понимаю, как шла бы пьеса, мною поставленная, если бы вы в ней не принимали никакого участия? Какого же маленького мнения надо быть обо мне, если думать, что я самообольщаюсь насчет режиссерского равенства с вами! Конечно, найдутся лица, которые не только сравнят меня с вами, но, пожалуй, поставят и выше. Но я слишком умен и слишком самолюбив, чтоб хоть на минуту поверить им и стать смешным в глазах истинных ценителей.
— А вот «Цена жизни…»
Н е м и р о в и ч. Были ведь и такие, которые говорили, что «Цена жизни» и «В мечтах» несоизмеримо выше чеховских пьес. Да что! Представлены были одновременно на конкурс «Цена жизни» и «Чайка». И «Цена жизни» получила премию, а «Чайка» — нет. Что же? Думал я хоть один час, что «Цена жизни» выше «Чайки»? Я постарался скорее забыть о премии. За сим окончательно прощаюсь с вами. Ваш Владимир Иванович Немирович-Данченко.
— Последний постскриптум.
Н е м и р о в и ч. Да, и кстати. Давеча в «Крокодиле» вышла карикатура на нашу американскую гастроль.
На ней изображены вы, раскланивающийся перед американскими банкирами, со словами «Леди и джентльмены! Как я счастлив, что не вижу перед собой этой советской черни».
P. S.
Не знаю, как вы, Константин Сергеевич, но от такого вида юмора у меня по коже ледяные мурашки.
За сим, Немирович-Данченко.
2 АКТ
ЗА ГРАНИЦЕЙ
С т а н и с л а в с к и й. Был в синематографе, где помещается 6000 человек. Хороший оркестр, скрипачи, певица басит, и очень скучная картина, во время которой — я спал.
После, очумев совершенно, я на вопрос portier в гостинице долго не мог вспомнить, как меня зовут, на вопрос же, кто я такой, поляк или русский, ответил, что поляк, так и слыл за поляка.
Обедал в особого рода ресторане, без прислуги. Сам берешь, что хочешь, сам берешь и вилки, нож. Дешево, но неудобно.
Л и л и н а. Как он там? Без меня. Без моей заботы, на чужбине?.. Писал мне про свой распорядок жизни там.
С т а н и с л а в с к и й. День складывается так. В 10 часов по телефону меня будит Гзовская. Я говорю ей, что мне подать, она звонит в контору гостиницы, приходит милый и глупый негр, приносит разрезанный огромный апельсин с сахаром… не знаю, как он здесь называется… Это необыкновенный фрукт! Из-за него стоит жить в Америке. Стоит съесть натощак, и желудок — становится хронометром. Потом подают кофе с ветчиной.
Л и л и н а. Бедный… А эти автомобили?.. Его катают там на этой гадости, а он глаза закрывает, когда становится совсем невыносимо. Хотя сам утверждает, что ему это не страшно, а скорее просто неприятно.
С т а н и с л а в с к и й. Во-первых, он воняет бензином так, что голова болит, во-вторых, он пылит. В-третьих, он так шипит, трещит и стучит, что кажется, будто под сиденьем пыхтят какие-то львы и леопарды или работает целая фабрика. Наконец, он так трясет мелкой тряской, что становится щекотно в желудке или кажется, что началась лихорадка.
Л и л и н а. Узнал, что богач Рейнгард хочет подарить ему автомобиль, пришел в полнейшую панику.
С т а н и с л а в с к и й. Рейнгардт купил за 30 000 марок чудесный автомобиль и будет подносить его мне в подарок. Вот такая штука!? Не на что штаны починить и вдруг — шофер?! Я буду принужден принять автомобиль, так как не могу от него отказаться, не объяснив причины отказа. А дальше — что и как? И куда я его поставлю? И, главное, как довезти до Москвы? А пошлина? Ведь это же огромный расход?! Но повторяю, отказаться невозможно. Не могу же я ему признаться, что у меня нет средств везти его в Москву. Чего доброго — он сам заплатит за все, так как иного выхода у него не будет.
М. Ч е х о в. Дело было так! Вечер закончился, и один из директоров Рейнгардтовских берлинских театров проводил Станиславского вниз. Увидев «свой» автомобиль, Станиславский растерялся: он не был уверен, знает ли он уже или еще нет о сюрпризе. Шофер распахнул дверцу, и директор, сняв шляпу, преподнес Станиславскому автомобиль от имени Рейнгардта. Станиславский развел руками, отступил от автомобиля и стал играть…
Сначала изумление…
(фотография Станиславского)
Потом радость…
( фотография Станиславского )
Потом благодарность…
(фотография Станиславского)
Надо сказать, актер он великолепнейший. Когда церемония кончилась, утомленный и несчастный Станиславский сел в автомобиль. Он попросил меня доехать с ним до гостиницы. С тоской и испугом он сказал: «Боже мой, боже мой, что же мне делать с этим... мотором?»
С т а н и с л а в с к и й. Все это очень хорошо и трогательно, но куда же я его дену? Везти с собой невозможно. Оставить тут тоже... как-то... не знаю. Ужас, ужас! И зачем он сделал это!
М. Ч е х о в. Я сделал все, чтобы не смеяться в тот момент, иначе меня бы окончательно и бесповоротно записали в комики. Однажды он уже упрекнул меня этим.
С т а н и с л а в с к и й. Вы, Миша, не трагик. Трагик плюнет — и все дрожит, а вы плюнете — и ничего не будет.
М. Ч е х о в. Тем не менее самое интересное событие последних дней моей жизни — это встреча моя с Константином Сергеевичем. Я зашел к нему на десять минут, а просидел пять часов. Когда я вошел, он сидел в хорошо известном нам состоянии: «Я — Станиславский, а вы ктэ такой». Он сказал: «Меня здесь замучали, я приехал отдохнуть, а меня постоянно заставляют сниматься, интервью, постоянные посещения, черт их знает, садитесь, Миша, сейчас еще один мерзавец придет, садитесь...» Я дико заржал, а он так и не понял, почему я смеюсь. «Вот сейчас придет какой-то граф, черт его знает, граф он или фамилия у него Граф — не знаю». Мало-помалу разговор зашел об эшкушштве и был, надо сознаться, очень и очень интересен. Мы сравнивали наши системы, нашли много общего, но и много несовпадений. Различия, по-моему, существенные, но я не очень напирал на них, так как неудобно было критиковать труд и смысл всей жизни такого гиганта.
С т а н и с л а в с к и й. Я знаю, Миша, вы занимаетесь философией, но все равно кафедры не получите. Ваше дело — театр.
М. Ч е х о в. Замечательно, что если бы Костя мог согласиться на некоторые изменения в своей системе, то мы могли бы работать с ним душа в душу и, наверное, сделали бы вместе больше, чем порознь. Как это, в сущности, обидно. Между прочим, моя система проще и удобнее для актера.
С т а н и с л а в с к и й. Кроме того, при переезде случился такой инцидент. Кто-то из болванов и негодяев студийцев в своем личном багаже вшил под подкладки отрезы материи, чулки и пр. При осмотре багажа скрытые вещи были обнаружены. Подумайте только, какой позор и конфуз для бедного старика Художественного театра. Его никто не щадит и не понимает, что всякая личная гадость какого-то мерзавца ложится пятном на наше доброе имя. Такой позор и стыд получился — не могу и передать...
БОГИНИ
Д у н к а н. Любовь. Думы, благодарность, нежность, любовь…
С т а н и с л а в с к и й. Благодарю за мгновения артистического экстаза, который пробудил во мне ваш гений. Я никогда не забуду этих дней, потому что слишком люблю ваш талант и ваше искусство, потому что слишком восхищаюсь вами как артисткой и люблю вас как друг. Вы, может быть, на некоторое время меня забудете, я не сержусь на вас за это. У вас слишком много знакомых и мимолетных встреч во время ваших постоянных путешествий. Но... в минуты слабости, разочарования или экстаза вы вспомните обо мне. Моя жена, которая вами очень восхищается, шлет вам лучшие пожелания.
Л и л и н а. Как жаль, если Дункан — американская аферистка. Твой Кокося.
Д у н к а н. С женой мы не видались все лето, не видимся и теперь: она в Любимовке, я — в Москве. Она очень пополнела. Скорее похожа на каплуна, чем на чайку. Константин.
Л и л и н а. Фуфинька! Папаня поручил мне поцеловать тебя от него, но вспомнив, что по этикету целоваться рано, просил поцеловать руку. Как ты думаешь, целовать ли руку или в губки бантиком... (по-моему, у тебя губки бантиком). Кажется, я этого не говорил ни разу! Твой Кокося…
Д у н к а н. Я с нетерпением ждал вашего письма и плясал, получив и прочитав его. Теперь вы танцуете лунный танец, я же танцую свой танец, еще не имеющий названия. Целую ваши руки, Константин.
Л и л и н а. Распахни мне свою душонку и согрей меня, одинокого. Тронулся поезд. Едва различал я твое личико с начавшими уже распухать глазами. Потом безжалостная толпа заслонила тебя. Виднелась только синяя шляпа да худенькая белая рученька, но и та скоро исчезла. Я почувствовал полное одиночество. Слезы ждали этого момента, чтобы облегчить мое тяжелое состояние, — и я разревелся… Твой Кокося.
Д у н к а н. Божественная нимфа, спустившаяся с Олимпа, чтобы сделать меня счастливым. …Ваш К. С.
Л и л и н а. Голубончик! Голубоничка!.. Кокося.
Д у н к а н. Как странна жизнь! Как она порой прекрасна. Нет! Вы добрая, вы чистая, вы благородная, и в том большом восторженном чувстве и артистическом восхищении, которые я испытывал к вам до сих пор, я ощущаю рождение глубокой и настоящей дружеской любви. Искренне ваш, Константин Сергеевич Станиславский.
Л и л и н а. Котунчик! Милунчик! Светик мой, соловушка моя, белая лебедушка, курочка, наседочка моя чудесная! Пойми, что такие парочки, как мы с тобой, встречаются очень и очень редко. Счастье у нас в руках и зависит от самых пустяков. Твой… Котунчик…
Д у н к а н. Тысячи раз целую ваши классические руки. Без подписи.
С т а н и с л а в с к и й. Когда кончились танцы, она повела меня показывать свои комнаты — крошечные конурки. Тут я испугался. Это комнаты не греческой богини, а французской кокотки. Показывая спальню, она ткнула пальцем в кружева, которыми покрыты кокоточно-красные обои.
Д у н к а н. Это господин Зингер велел сделать…
С т а н и с л а в с к и й. И она… сконфузилась. Затем сказала, что дома завтра не будет, а что Зингер везет ее в ресторан, и просила сопровождать ее.
Сели в автомобиль, очень роскошный, и поехали.
Дорогой говорили ужасные глупости и пошлости. Он одет с иголочки, я в дорожном костюме и в грязной шляпе-панаме. Приехали в какой-то ресторан в лесу, переполненный хлыщами и кокотками. Сели. Я чувствовал себя в роли приживальщика.
Наконец все кончилось…
Любезно простились. Я вылез, и когда автомобиль тронулся, Дункан как-то конфузливо и робко послала в мою сторону поцелуй. Мне стало так обидно, что я прослезился. Греческая богиня в золотой клетке у фабриканта. Венера Милосская попала среди богатых безделушек на письменный стол богача вместо пресс-папье. Измучился и завтра постараюсь бежать из этого развратного Парижа.
ЗАПИСКА:
1. Бегите вон из Парижа.
2. Больше всего дорожите свободой.
3. Откажитесь от школы, если она оплачивается такой дорогой ценой.
4. Чтобы ни случилось с вами — я все пойму и от всего сердца сочувствую вам.
Л и л и н а. Письмо из Парижа. «Увидел танцующих на сцене детей, видел ее класс. Увы, из этого ничего не выйдет. Она никакая преподавательница».
С т а н и с л а в с к и й. В Париже ходил в театры по вечерам. К сожалению, репертуар самый неинтересный. Кроме Comedie никуда не стоит ходить. Все пьесы в жанре коршевских. Вчера, например, я видел, как один мужик раздевался на сцене, то есть снимал панталоны, рубашку. Ложился в постель. К нему пришла дама и сделала то же. Занавес опустили на самом интересном месте. И все это происходило перед лучшей, то есть фрачной, публикой Парижа.
Л и л и н а. Письмо из Парижа. «Оказывается, я попал как раз в день 14 июля, на национальный праздник. Они стараются выразить патриотизм — ничего не выходит. Идут прескверным маршем войска на парад. Человек сорок подходят ко мне с неприличными картинками. Жара, духота. Опять этот отвратительный канкан, который танцуют ужасные рожи. Говорят, что французы любят женщину. Нет. Они хладнокровно смотрят на нее. Им не хочется, чтобы им прямо поднимали юбку. Вспомнил я тогда Волгу... тебя, моя красотулечка, моя кокоточка, моя женщина, мой божок, моя все... все на свете. Лег на мягкую постель, очень неудобную и короткую, и грустный заснул. Чем я живу теперь — это поэзией верности».
С т а н и с л а в с к и й. А ведь я наклеветал на Зингера. Мне стыдно, и потому я каюсь. Вчера у Дункан был приемный день. Толпа народу. Директор Французской комедии, известные писатели, художники, политический деятели. Зингер изображал хозяина. Он был трогателен и напомнил мне Морозова в лучшие его минуты. Он, как нянька, ухаживает за школьными детьми, расстилает ковры, суетится, бегает, занимает общество, а она…
Д у н к а н. Она, очень ловко позируя в большую знаменитость, сидит в белом костюме среди поклонников и слушает комплименты.
С т а н и с л а в с к и й. На этот раз барометр моих симпатий совершенно перевернулся, и я подружился с ним и помогал ему расстилать ковры и причесывать детей. Зингер перестал меня ревновать и поручает мне отвозить Дункан в автомобиле, а когда мы садимся, она начинает целоваться, а я начинаю убеждать ее в том, что Зингер очарователен.
Д у н к а н. Думы, благодарность, нежность, любовь.
Л и л и н а. Котунчик, фуфенька, милончик, милунчик…
Д у н к а н. Думы… благодарность… нежность…
Л и л и н а. Любовь…
3 АКТ
ЭНЕРГИЯ
Долгая пауза.
М е й е р х о л ь д. Помню, Станиславский однажды два часа, молча, ходил перед нами в плаще.
Слышно щелканье метронома.
— Поворачивался, садился…
— Поворачивался, садился, ложился.
— Ходил. Садился. Поворачивался.
— Поворачивался. Садился. Ходил.
— Ходил, ходил, ходил.
— Поворачивался, ложился.
— Ходил.
— Садился.
— Ложился.
— Поворачивался.
М е й е р х о л ь д. Я потом не мог заснуть всю ночь. Я потом не мог заснуть всю ночь. Я потом не мог заснуть всю ночь! (Пауза.) И это нужно любить в театре.
КОНЦЕРТ ДЛЯ ИЗВОЗЧИКОВ
З у е в а. Это было в последних числах ноября 1917 года. Я, Соня Голлидэй и Маша Александрова занимались у Константина Сергеевича на квартире. Вдруг раздался звонок.
И з в о з ч и к ( слегка заикаясь ). Тут у нас тут такое вот как… собрание, да? И легковых и тут тех самых… ломовых в ну… вот тама на углу… Я тут как… такой самый… делегат.
З у е в а. Выяснилось, что это собрание легковых и ломовых извозчиков в чайной на Таганской площади.
И з в о з ч и к. И тут мы же тут все знаем, что вы вроде как… тот наибольший актер, что из тех самых… И как того… наибольшего… мы вас хотели опять же… ангажировать…
З у е в а. В общем, он просил Константина Сергеевича выступить после собрания на концерте. Хотя было сравнительно поздно, Константин Сергеевич все же согласился ехать, объяснив, что приедет вместе с нами, чтобы концерт был полнее. По дороге Константин Сергеевич сильно волновался, говорил, что к нам пришел сам народ, что это великая честь для нас.
И з в о з ч и к. Так и для нас оно как вроде… того! Рады!
З у е в а. В пролетке Константин Сергеевич, беспомощно разводя руками, недоумевал, что бы ему прочесть перед такой необычной аудиторией. В чайной было душно и сильно накурено. Площадка для выступления была буквально «пятачком». И вот так мы все держали программу.
И з в о з ч и к ( представляя ). Ребятушки! Тут у нас актеры, и средь них наибольший, так сказать, актер — Константин Аркадьевич Станиславский!
Яростно аплодирует.
Дальнейшее выступление производится очень быстро с высоким темпом, по сути — это крик.
— Как и на какие деньги добраться от Лондона до Москвы, довезти благополучно, на собственные средства, 60 человек и восемь вагонов имущества. Куда девать это имущество?
— Пришлось вместо недели прожить в дорогой стране, где упал доллар и повысилась цена на жизнь, более полутора месяцев.
— Где взять деньги, чтобы заготовить новый репертуар? Если этого нельзя будет добиться, я лично предпочту временное или окончательное закрытие группы МХТ.
— А содержание 60 человек вместо дешевой Германии в дорогом Париже!!
— В связи с заботами о долларах и на расходование у меня лично связано все будущее, а может быть, и самая жизнь больного Игоря.
— Я должен здесь обеспечить моему сыну жизнь, быть может, на несколько лет, так как он болен серьезно, и вернуть его сейчас в Москву равносильно смертному приговору.
— Если я не приехал домой в этом году, то только из-за больного Игоря.
— Разве можно поставить мне в вину погоню за долларом?
— А переезды по железным дорогам с повышенными ценами в тысячи раз?!
— А отмененные в Берлине гастроли, которые должны были служить нам генеральной репетицией?!!
— Про Германию и говорить нечего. Гитлер всех разогнал. Театра нет никакого. Рейнгардт в эмиграции, Бассерману пришлось уехать, потому что у него жена еврейка. Позор!
— Я вернулся домой таким же нищим, каким и уехал. Молю Бога только о том, чтобы мне нажить проклятых долларов для обеспечения жизни детей.
— Театром не наживешь, об этом надо раз и навсегда забыть. Приходится искать других путей, то есть писать книгу.
— Старое старится, а молодое почти не растет.
— Что делать?!
Извозчики неловко расходятся в разные стороны.
С т а н и с л а в с к и й. Относительно того, что люди стали дрянь. Так ведь это не новость. По всей России происходит то же. Но все-таки и с этими людьми можно что-то делать, так как их с какого-то бока еще подпирает прежняя традиция. В других местах и этого нет. Что они бездарны? Так что же делать. Таланта им не прибавишь, а других — более даровитых — Бог не посылает. Что же касается того, что я на вас сердит, то по этому вопросу обратитесь к доктору. Очевидно, это от печени или от других причин у вас воображение неправильно работает…
Пауза.
З у е в а. После выступления перед извозчиками Константин Сергеевич совсем пал духом… «Надо над собой еще работать, работать и работать, чтобы народ меня понимал, — уныло повторял он. — Высшая награда для актера — это когда он сможет захватить своими переживаниями любую аудиторию, а для этого нужна… необычайная правдивость… и искренность… передачи».
С т а н и с л а в с к и й. Если в чайной меня не поняли, то виноват только я. Я не сумел перекинуть духовный мостик между ними и мною.
УПЛОТНЕНИЕ
С т а н и с л а в с к и й. И теперь прошу оградить от все учащающихся случаев вторжения в квартиру, выдав какой-нибудь охранный лист, гарантирующий спокойствие для работы.
На сцену выходят контролеры — несколько человек с одним и тем же лицом. Отвечают вразнобой и в то же время организованно, как чайки, оккупировавшие пляж.
— Вы, простите, кто?
— Мы?
— Мы — контролер жилищного отдела.
— Мы — Мирский Михаил Павлович.
— А вы все кто здесь такие?
— По бумаге тут только одна семья проживает.
— Мы — контролер.
— Уже половина десятого вечера, и к тому же у нас репетиции, вы нам мешаете.
— В теятре у себя репетийствуйте, а тут только проживать положено.
— Что это еще за репетиция в такое время?
— Репетируют оне, видите ли.
— В такое время ни-ни.
— Прошу вас, прежде всего, снять головные уборы, вы в помещении.
— Это чего я тут буду шапку ломать?
— Нешто у вас здесь иконы?
— Из-за каждого шапку сымать….
— Мы — контролер.
— Так извольте не хамить. Вы мальчишка, а перед вами уже человек в возрасте. Снимайте шляпу, обувь и объясняйте, что вам нужно, от порога.
— Теперь все равны.
— В возрасте он….
— И туфли снимать я не собираюсь!
— Что ж мне, по-магометански туфли снимать, как в храме?
— Да! Как в храме! Именно что как в храме! И может, вы объясните цель вашего визита, наконец?
— Проверка жилищного хозяйства.
— Впрочем, теперь мне все ясно.
— Да уж куда яснее-то…
— Пойдите вон!
— Я завтра еще приду.
— Завтра придем.
— Мы еще придем.
С т а н и с л а в с к и й. Если состоится предполагаемое выселение из занимаемого мною помещения, то нарушится работа всех коллективов, порученных мне, и мне неизбежно придется отказаться от дальнейшего руководства ими. Нельзя отнимать у художника его мастерскую, как у скрипача нельзя отнимать его скрипку, а у рабочего — орудие его производства и необходимую ему мастерскую.
С е л ь с к а я у ч и т е л ь н и ц а. Может, вам выслать муки? Так я вышлю даром! Я слышала, что в Москве умирают с голоду. Конечно, вы не умираете, но, может, нуждаетесь. Извините… Господи, как вас назвать?.. милый Константин Сергеевич, извините за это письмо. Я вами живу, а поэтому вы простите мне это нахальство. Я бы и масла выслала, да нет такой посуды.
С т а н и с л а в с к и й. Сестра Анна Сергеевна с семьей — голодают. Сама она совсем больная, почти лежит. На руках у нее больной туберкулезом сын, дочь, которая нужна по дому, и мальчик. Другие дети: один призывается, другие служат за гроши. А в результате — голод и холод. Пока еще — не полный.
С е л ь с к а я у ч и т е л ь н и ц а. Если бы артисты знали, сколько они дают нам, в захолустье, жизни, отрадных воспоминаний о них, то они бы порадовались за себя. Но чем помочь вам?..
С т а н и с л а в с к и й. Дрова мне приказано немедленно перенести в дом, что сделать не мог за отсутствием рабочих рук. Теперь лишен дровяного сарая, погреба, столь необходимого в летнее жаркое время, и не имею возможности выносить из квартиры помои, которые испускают зловоние. Таким образом, я, без всякой вины, — наполовину подвергнут домашнему аресту.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
С т а н и с л а в с к и й. И в то же время я страшно начинаю бояться рутины: не свила ли уж она во мне гнезда? Как это определить, ведь я сам не знаю верно, что такое называется рутиной? Где она начинается, где зарождается и где способы, чтобы не дать ей пустить свои губительные корни? Должно быть, рутиной называют театральность, то есть манеру ходить и говорить как-то особенно на театральных подмостках.
— Объявление! Опять кто-то из гостей съел конфетку Верочки, и опять Ждановой пришлось сосать деревяшку. Прошу старосту воздействовать на лакомок, и хотя вспоминаю слова Владимира Ивановича Немирович-Данченко: «И яблоко надо пропустить через искусство», — но сосать крашеную деревяшку противно.
— Объявление! Мною замечено, что Ливанов во время сцены «Собора» вел себя неприлично и смеялся в драматические моменты. Кроме того, грим его был непозволительным — мертвецки-бледный. Объявляю ему выговор за некультурное, оскорбительное и небрежное отношение к своему искусству и за неуважение к Театру.
— Подгорный заявил, что чай, который подают в 3-м акте, невозможно пить — грязен и чем-то пахнет. Вполне с ним согласен и потому прошу заведующего реквизитом каждый спектакль перед началом 3-го акта чай показывать мне. По заявлению заведующего реквизитом чай берется в буфете.
— Для последней картины не было кота (живого). Его бутафоры ловили и искали с утра и не могли поймать. Так как во время I и II недели поста «Синяя птица» не идет, необходимо починить призраки, голубя, часы, которые были разбиты после I действия.
— Парики грязны до того, что страшно надевать их на голову. Говорят, теперь много бензина в Советской России. Нельзя ли добыть и почистить парик? Пожалейте бедных актеров.
С т а н и с л а в с к и й. Последнее объявление на сегодня. Когда я умру, передайте, пожалуйста, всем, что я желал бы, чтоб меня сожгли, а пепел положили в урну и передали бы сюда в музей. Я это говорю при всех! А вы тогда мне отведите маленькую комнатку для этой урны. И вот когда молодой артист какой-нибудь нагрешит — конечно, в художественном смысле, — то вы затворите его в этой комнате денька на два — вот тогда мы с ним и побеседуем об искусстве!
ПОСТАВЩИК ЛИТЕРАТУРЫ
Л и л и н а. Сегодня было заседание Правления по поводу репертуара будущего года: одна грусть — пьес никаких... Вся надежда: Чехов напишет и Горький напишет.
Г о р ь к и й. Затеял еще пьесу. Босяцкую. Действующих лиц — человек 20. Очень любопытно, что выйдет.
С т а н и с л а в с к и й. Горький читал новую пьесу. Конечно, он был с Андреевой и окружен своей свитой, к которой добавился еще какой-то пришитый к нему студент. Сам он в косоворотке и — о, ужас! — действительно с бриллиантовым кольцом на пальце. Все, что буду говорить дальше, — это под большим секретом…
Н е м и р о в и ч. И вот еще что я подумал о вас в роли Астрова, Константин Сергеевич: я не хочу этого платка от комаров на голове, я не в силах полюбить эту мелочь. Я убежденно говорю, что это не может понравиться Чехову, вкус и творчество которого хорошо знаю.
А. Ч е х о в. Мне не везет в театре, ужасно не везет, роковым образом, и если бы я женился на актрисе, то у нас, наверное, родился бы орангутанг — так мне везет…
Н е м и р о в и ч. Дальше. Вам, Константин Сергеевич, необходимо очень твердовыучить текст. Правда, вам трудно это. Текст вам не дается вообще. Но вы приложите все старания, не правда ли? Прежде всего, это важно с чисто дисциплинарной точки зрения.
А. Ч е х о в. «Чайку» видел без декораций; судить о пьесе не могу хладнокровно, потому что сама Чайка играла отвратительно, все время рыдала навзрыд, а Тригорин ходил по сцене и говорил как паралитик; у него «нет своей воли». Исполнитель понял это так, что мне было тошно смотреть.
Г о р ь к и й. Вы, дорогой Константин Сергеевич, удивительно много сделали и еще немало сделаете в своей области для счастья нашего народа, для роста его духовной красоты и силы. Хочется видеть вас, великий мятежник, говорить с вами, хочется передать вам кое-какие мысли — подложить горючего материальца в пылающее ваше сердце.
Н е м и р о в и ч. Любезный Алексей Максимович, «Дачники» — это не пьеса, это лишь материал для пьесы. Хочется, чтобы вы точно разобрали суждения, заслуживающие ваших симпатий, от тех, которые возбуждают ваше негодование, и очень хочется, чтобы очистили пьесу от банальностей, которым сами не можете верить.
Г о р ь к и й. Несмотря на симпатию мою к вам, Константин Сергеевич, поведение Немировича по отношению ко мне вынуждает меня отказать театру в постановке «Дружков» и вообще отказаться от каких-либо сношений с Художественным театром.
С т а н и с л а в с к и й. Горький изломал всю постановку, задуманную нами, и теперь пьеса идет так, как режиссируют в Царевококшайске — по банальности. На репетиции мы катались по полу от хохота, когда врывались на сцену черносотенцы и дворник колотил толпу по головам картонной доской. На премьере ожидали провала всей пьесы. Но... произошла паника — штук 30 обмороков. Кавалеры выхватили револьверы и были готовы стрелять на сцену. Публика с кулаками лезла на сцену. Оказывается, она приняла толпу за настоящих черносотенцев и думала, что они ворвались на сцену. Это ужас!.. Увы, именно это и имеет успех у публики.
Г о р ь к и й. Будьте же здоровы! Обычно пишу: будьте добры, верьте в жизнь и творческие силы человека, а вам этого писать не надобно, и — это так хорошо, так радует! Крепко жму руку вашу, весело улыбаясь аж до ушей!
Г о р ь к и й. Константин Сергеевич, вы достаточно ярки, чтобы, вставая с места и по пути к другому месту, отбросить несколько стульев. Чем меньше вы будете толкать и передвигать мебели, чем реже вы будете хлопать по столу ладонью, это уж теперь все наши актеры делают, тем восхитительнее и привлекательнее выступят ваши качества.
А. Ч е х о в. Так это чудесно, что у вас интеллигентные люди, что у вас нет актеров и нет шуршащих юбок. Малый театр побледнел, а что касается mise an scene и постановки, то даже мейнингенцам далеко до нового Художественного театра!
Н е м и р о в и ч. Первым номером, на голову дальше всех, пошел Алексеев, превосходно играющий Астрова. В этом — моя гордость, так как он проходил роль со мной буквально, как ученик школы. Подводя итоги спектаклю, я нахожу несколько мелочей, которые засоряют спектакль. Должен признать, что большинство этих соринок принадлежит не актерам, а Алексееву как режиссеру. Я все сделал, чтобы вымести из этой пьесы его любовь к подчеркиваниям, крикливости, внешним эффектам. Но кое-что осталось. Это досадно. Однако со второго представления уйдет и это.
Пауза.
С т а н и с л а в с к и й. Немирович, вероятно, прав. Да, он прав! Лишь в одном не могу согласиться с ним. Меч нужен мне не только для театрального эффекта, не только, чтоб показать, что Шуйский «муж военный». Мне седьмой десяток пошел! В сцене у царицы Ирины меч необходим для упора, чтоб легче встать с колен, так как подняться самому, не опираясь на что-то, мне трудно.
А н д р е е в а. Был как-то печальный случай личной ссоры между двумя артистами, не имевший никакого отношения к театру, но очень мешавший ходу работы. И тут впервые мне пришлось видеть, как плакал Константин Сергеевич.
Он всхлипывал, как ребенок, сидя на пустыре перед сараем, на пне большой срубленной сосны, сжимал в кулаке носовой платок и забывал вытирать слезы, градом катившиеся по лицу. Из-за своих личных дел! Из-за своих мелких, личных бабьих дел губить настоящее, общее, хорошее дело, все портить!..
Видели его слезы немногие, но, очевидно, они крепко подействовали: кому следовало — стыдно стало, и личная ссора немедленно прекратилась.
Пауза.
Н е м и р о в и ч. А ведь нашей с вами связи пошел 41-й год. И историк, этакий театральный Нестор, не лишенный юмора, скажет: «Вот поди ж ты! Уж как эти люди — и сами они, и окружающие их — рвали эту связь, сколько старались над этим, а история все же считает ее неразрывною».
Конечно, прежде всего люди«запутали» наши добрые отношения. Одни потому, что им это было выгодно, другие — из ревности. Но и мы устраивали для них благодарную почву. Сначала — рознью наших художественных приемов, а потом — не умея преодолеть в себе характерные черты. Вероятно, в одинаковой степени виновны и я, и вы. И вот наросла их целая гора, такая наросла гора розней и виноватостей, что нам уже невыносимо сложно увидеть за нею друг друга…
М. Ч е х о в. А вот еще какой анекдот! Однажды председатель Совнаркома Рыков забыл галоши в ложе театра, и они затерялись. — Галоши должны быть найдены! — волновался Станиславский. — Вы знаете, кто такой Рыков? Это председатель почти что всей России! Ищите! Ищите немедленно!
ПОРОГИ
Г а з е т а. Сегодня ночью по постановлению МЧК были арестованы К. С. Станиславский и И. М. Москвин. Аресты вызваны с раскрытием новой кадетской организации, арестовано всего по Москве более шестидесяти человек.
С м ы ш л я е в. Я сегодня все утро и день бегал по разным лицам и учреждениям, желая как можно скорее освободить старика, главным образом. На квартире Вл. И. Немировича-Данченко — засада; его нет в Москве, он живет на даче. Все эти сведения я узнал в тех учреждениях, где мне сегодня пришлось побывать из-за старика. Был я первый раз и в МЧК, еле-еле добился коменданта, несмотря на свое пролеткультовское удостоверение и партийный билет. Дисциплина сотрудников там железная. Комендант мне показывал приказ Дзержинского: «За невыполнение в точности сего приказа каждый сотрудник подлежит немедленному аресту!»
С м ы ш л я е в. Был у Каменевой — она повертела хвостом. Вряд ли чего она сделает. Поехал к Дзержинскому. Вообще нажал все пружины, которые возможно. Жаль, нет в Москве Луначарского, а то, я уверен, что старик уже и сейчас был бы на свободе. В театре все перетрусили. Да, старика зря забрали, он ни в чем, я уверен, не виноват... Ведь в политике — он ребенок.
С т а н и с л а в с к и й. Я обращаюсь с просьбой…
— Милый, добрый Авель Софронович!
— Глубокоуважаемый Генрих Григорьевич!
С т а н и с л а в с к и й. Я только что отблагодарил вас за вашу ласку и заботы обо мне, и снова мне приходится обратиться к вам с большой, тяжелой просьбой. Облегчите, если можете, ужасный гнет моей души. Он давит и не дает жить. Я не знаю, за что они арестованы, как велика их вина и представляется ли возможность оставить их в Москве. Но я знаю их, как себя самого; я знаю наверное, что они не могут быть виновными в преступлении.
К л я т в а: Мы, нижеподписавшиеся члены МХТ, на случай отъезда кого-либо из нас персонально или группой из Москвы, даем персонально за себя, а также и за всю группу нижеследующее клятвенное, ничем не нарушимое обещание перед всеми остающимися в Москве: по истечении установленного по взаимному соглашению всеми нами срока мы обязуемся вернуться без всякой отсрочки в Москву на место службы…
С т а н и с л а в с к и й. В их судьбу вкралось трагическое недоразумение. Если б я не был в этом так уверен, я бы не посмел писать вам эти строки.
К л я т в а: Понимая, что при сложившихся политических условиях каждый наш бестактный поступок за границей или неосторожно сказанное слово грозят опасностью для всех остающихся в Москве наших товарищей, мы даем торжественное клятвенное обещание держать себя совершенно в стороне от всякой политики и быть лояльными по отношению к русским властям.
С т а н и с л а в с к и й. Мой племянник, Михаил Владимирович и его жена Александра Павловна Алексеева до сих пор сидят в заключении. Прошу вас, глубокоуважаемый Генрих Григорьевич, смягчить их участь сколько возможно и не разлучать мужа с женой. Спасите их, детей, всю семью больного, исстрадавшегося брата. Ведь арестованный Михаил Владимирович страдает такой же тяжелой болезнью сердца, как и я сам. У него грудная жаба. Может быть, мне окажут доверие и выдадут их обоих — на поруки. Не сердитесь на меня за этот вопль. Он вырвался от глубокого горя, в которое мы все погружены после момента ареста близких людей.
Медленно проявляются фотографии Ягоды и Енукидзе.
— Глубокоуважаемый Генрих Григорьевич…
— Милый, добрый Авель Софронович!
С т а н и с л а в с к и й. И если все же они будут высланы… Есть ли возможность позволить им ехать за мой счет до места назначения?
ОТВЕТ НА ЗАПРОС К. С. СТАНИСЛАВСКОГО ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ ПОСЛЕДНЕГО С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА ОБ ИСКУССТВЕ:
«К сожалению, не можем удовлетворить ваш запрос в полном объеме. Ленин очень редко высказывался об искусстве. Пока еще не проделана основательная работа, в которой были бы собраны крупицы мысли на эту тему, разбросанные в его сочинениях».
P. S.
«11 мая 1935 года. В тюремном госпитале скончался М. В. Алексеев. Тело его со следами побоев было передано родным».
4 АКТ
ДОЛГАЯ НОЧЬ
Н е м и р о в и ч. Все протесты мои или особенно возмущающихся членов театра встречают единый отпор: «Ни о чем нельзя докладывать Константину Сергеевичу, ибо это может отразиться на его здоровье». И что делать?
— Константин Сергеевич находится в состоянии сердечного шока. Пульс частит, был малого наполнения и аритмичен. Еле-еле выслушиваются сердечные тоны. Константин Сергеевич борется со смертью.
— Константин Сергеевич болен, и сильно. Был почти при смерти. Не пришлось бы выпускать «Бориса» без него... Может все затрещать и рухнуть.
С т а н и с л а в с к и й. А потом Зина кончила скучать, и мы все пошли качаться на сетке… Покачавшись немного, мы ушли на гимнастику, где вырезали бумажных солдатов и наклеивали их на картон. Но нам это скоро надоело, и мы пошли в комнаты, где я в первый раз аккомпанировал Володе, который играл на дудочке. А потом пришло время купаться… По твоему приказанию, маменька, мы сидели в воде ровно пять минут и ни разу не окунулись с головой.
Н е м и р о в и ч. Три дня назад какая-то очень тревожная телеграмма — очевидно, был лизис (а не кризис). Бред и так далее… А вот два дня температура нормальная, пульс лучше, легкие чисты и так далее. И все-таки все говорят, что до января Станиславский не будет работать.
Б и р ж е в ы е н о в о с т и. По полученным Художественным театром сведениям состояние здоровья Станиславского значительно ухудшилось. Наблюдается сильное повышение температуры, доходящей до 40 градусов.
П и с ь м о С т а л и н у. Вот почему я люблю мою родину. Вот почему я горд за мою родину, за ту страну, где изучают подлинное театральное искусство не только большие режиссеры и актеры, но и рабочие, колхозники, школьники, просящие моих советов.
С у л е р ж и ц к и й. Очень стал худ, оброс щетиной седых волос, тело кажется еще больше благодаря худобе. Ведет он себя совершенно как ребенок и все время режиссирует. Тут перекладывал его с кровати на кровать, и он вдруг озабоченно начинает распределять, кто возьмет его за ноги, кто под мышки и по какой команде, и все дирижировал пальцем.
П и с ь м о С т а л и н у. Только враги или слепые могут не видеть и не ценить того, что сделано у нас за 20 лет. При таком правительстве, как наше, — правительстве, избранном всем народом, состоящем из даровитейших и преданнейших интересам трудящихся людей, руководимом великой коммунистической партией и вами, дорогой Иосиф Виссарионович, можно быть спокойным за свою родину.
С у л е р ж и ц к и й. Вчера я должен был выскочить из комнаты, чтобы там отсмеяться. Вдруг потребовал, чтобы доктор нарисовал ему план заднего прохода: «А то ставят клизму, а мне совершенно неясно, в чем дело, на каком боку лежать, и вообще я могу заблудиться».
С т а н и с л а в с к и й. «Бронепоезд» наполовину запрещен! Жаль, что не совсем! «Турбины» и «Дядя Ваня» — тоже запрещены! Предлагают вместо «Дяди Вани» поставить «Вишневый сад». Ох!
П и с ь м о С т а л и н у. Ваша заботливость о человеке всегда вызывает во мне чувство восхищения.
Б о к ш а н с к а я. У него совсем переменилось лицо — может быть, оттого, что он остриг волосы. Какой-то получился незнакомый до сих пор облик, да притом от остриженных волос как-то стала выделяться вверх надлобная часть черепа, получился какой-то микроцефальский череп. И руки его поразили: прежде они были такие мощные, а теперь дряблые, беспомощные. И совсем побелевшие уши…
С т а л и н. Спектакль по пьесе А. С. Пушкина «Борис Годунов» не годится из-за хорошего изображения Пушкиным поляков и Лжедмитрия и невыгодного изображения русских: приняли Лжедмитрия!
Г а з е т а «И з в е с т и я». После приступа сердечной слабости и катарального воспаления легких Константин Сергеевич находится на пути к выздоровлению, температура утром 37,1, вечером — 36,8, пульс правильный — 66 в минуту. Самочувствие хорошее. Больному необходим покой впредь по полного восстановления сил.
П и с ь м о С т а л и н у. Вот почему мои мысли бывают так часто с вами. И теперь, после высокой оценки моей общественной деятельности в связи с исполнившимся 75-летием моей жизни, я благодарю вас за то особое внимание, которое оказано мне.
Н е м и р о в и ч. Тиф… Это известие сегодня ошеломит, конечно, весь театр. Это ведь значит, что не только до открытия Театра надо отказаться от работы Константина Сергеевича, но, пожалуй, и по открытии долго он не в силах будет режиссировать, а чего доброго, и играть.
И з д о к л а д н о й з а п и с к и о п о л о ж е н и и в М Х А Те. Отдел культурно-просветительной работы считает необходимым принять срочные меры к оздоровлению МХАТ и, ликвидировав двоевластие, назначить туда директора — члена ВКП(б), имеющего необходимый опыт и авторитет среди художественной интеллигенции. В театре для директора нужна твердая и определенная линия. Эта линия должна быть обсуждена и дана, так как какой бы мягкой она ни была, она неизбежно ударит по некоторым вредным для театра теориям Станиславского.
П и с ь м о С т а л и н у. Примите мой низкий поклон и большое спасибо за все, что вы сделали для нашего искусства, для театров и, в частности, лично для меня. Для всех нас…
КНИГА
С т а н и с л а в с к и й. Я долго жил. Много видел. Был богат. Потом обеднел. Видел свет. Имел хорошую семью, детей. Жизнь раскидала всех по миру. Искал славы. Нашел. Видел почести, был молод. Состарился. Скоро надо умирать.
У л ь я н о в. Я пробую писать его портрет. Ни освещение, ни поза, ни настроение Станиславского не благоприятствуют моему намерению. Я понимаю, что слишком поздно. Ничего не осталось от прежнего Станиславского, он весь поглощен своей рукописью. Я рассказываю ему о репетициях в студии, об Оперном театре его имени, о знакомых нам обоим режиссерах и актерах, но его ничто не может отвлечь. Я упоминаю имя Айседоры Дункан. «Авантюристка», — он произносит это слово бескровными губами, устремив глаза в тетрадь.
С т а н и с л а в с к и й. Теперь спросите меня: в чем счастье на земле? Познавая искусство в себе, познаешь природу, жизнь мира, смысл жизни, познаешь душу — талант! Выше этого счастья нет.
М и х о э л с. Как-то он спросил меня: «Как вы думаете, с чего начинается полет птицы?» Я ответил, что птица сначала расправляет крылья. «Ничего подобного, птице для полета, прежде всего, необходимо свободное дыхание, птица набирает воздух в грудную клетку, становится гордой и начинает лететь». В последние дни Станиславскому было трудно дышать, он жил с затрудненным дыханием…
С т а н и с л а в с к и й. Двадцать лет в театре… В течение почти четверти века изо дня в день приносить искусству беспрерывные большие и малые жертвы. Добровольно приносить себя в жертву, скрывать себя, делать невозможное, принять постриг, подчинить себя военной дисциплине, отдать весь талант и знания.
Д у х о в с к а я. В нем была жажда жизни: дожить до завершения своей работы, достигнуть цели своей жизни. Ему казалось чудом, что, не будучи ученым, он создает учение об искусстве. И эта жажда завершить свое дело заставляла его мучительно бояться, что он не успеет сделать этого. Поражали упорство и настойчивость, с какими он, больной и слабый, жадно ловил проблески вспыхивающей мысли и спешил скорей занести ее в тетрадь. Но все чаще и чаще мысль обрывалась, он беспомощно опускал руку, в которой держал тетрадь, и погружался в полузабытье…
ПРОЩАНИЕ СО СТАНИСЛАВСКИМ
С у ф л е р. Комната Совета и Правления не приготовлена: то есть трубы отопления открыты, жара несусветная, и недостаточно освещена. Воздух тяжелый. Это обычное явление на заседаниях — никогда и никем комната не готовится. Кто этим заведует и кто отвечает? В комнате Совета: витрины для трофеев — проведите рукой сверху — пылища. Не вытиралась давно. Лестница верхнего яруса: очень пыльно в пазах и в выступах. С лестницы верхнего яруса дверь на малую сцену отворена. Я вошел. Висят костюмы, бери что хочешь. Я обошел всю комнату и хотел уже уходить, но на всякий случай кликнул сторожа. Он тотчас явился и объяснил, что дверь отпирает для репетиции «Младости». Не знаю, назначена ли и была ли сегодняшняя репетиция, но думаю, что раз разрешено отворять дверь, — она будет всегда отворена и костюмы рискуют быть украденными. Предлагаю дверь запирать всегда и у входа с лестницы сделать звонок: первый, кто приходит на репетицию, звонит, а после последнего уходящего дверь запирается. Отнюдь нельзя решать вопроса по-бюрократически — запереть, мол, дверь, а актеры пусть ходят кругом.
С у л е р ж и ц к и й. Вы сделали то, что делает машинист, открывая регулятор и впуская пар котла в цилиндры. Пар и в котле — сила, но вся машина оживает и работает только тогда, когда сила эта переведена из котла в цилиндры.
Сильный только тот, кто сумел быть одиноким, и нужно быть одиноким, это правда, и тяжело это, — но покуда будут такие люди, как вы, никто не будет одинок.
ТИТР: Леопольд Сулержицкий.
С т а н и с л а в с к и й. Сулер принес с собой в театр огромный багаж свежего, живого духовного материала, прямо от земли. Он собирал его по всей России, которую он исходил вдоль и поперек, с котомкой за плечами; по всем морям, которые он переплыл не раз, по всем странам, которые он посетил во время своих кругосветных и иных путешествий. Только двух человек я могу назвать своими учениками — гениального Сулержицкого и Вахтангова.
С у ф л е р. На малой сцене — относительно прилично, но внутри шкафов сотрудников очень пыльно. Надо вытирать мокрой тряпкой, а уж потом и тряпкой с дезинфекцией. Костюмы на новой сцене висят не покрытые полотном. Пылятся и выгорают. Шкафчик с электрическими аппаратами, там тряпки, пыль, сор. Опасно для пожара. Сторож на месте. В гладильной — как Бог нас бережет. Утюги включены — штепселями, раскалены до последней степени — на деревянной скамейке лежат кирпичики (меньше, чем размер утюгов). Не откладывая, надо у каменной стены устроить каменную полку специально для утюгов. И кого-нибудь назначить ответственным. В той же комнате — гладильной — стоит рукомойник. Он бездействует, испорчен. Казалось бы, нужно починить его. Нет. Из него сделали помойную яму и бросают всякую гадость. Прошел на колосники. Дверь открыта — ни души. Если что случится — кто предупредит... Не возложить ли надзор на сторожа малой сцены, который тут же — рядом. На лестнице, ведущей на колосники, — подоконник, провел рукой — столб пыли. Очевидно, давно не вытирали. На той же лестнице есть чулан драпировщика. Очевидно, там хранится какой-то материал, и довольно по нынешнему времени дорогой. Но оказывается, что загородка вся трясется, наверху огромная щель, через которую палкой легко вытаскивать все, что там лежит. У кого ключ? Сцена пуста. Никакой работы. Как странно. Все жмутся. В студиях пишут по углам, а на главной сцене — бегают крысы. Крыс, оказывается, никто не отравляет.
А. Ч е х о в. В Любимовке мне очень понравилось. Апрель и май достались мне тогда недешево, и вот мне сразу привалило, точно в награду за прошлое, так много покоя, здоровья, тепла, удовольствия, что я только руками развожу. И погода была хороша, и река была хороша, а дома питались и спали, точно как архиереи.
ТИТР: Антон Чехов.
С т а н и с л а в с к и й. «Сидя теперь за письменным столом, я перебираю все мелочи, интонации, жесты, взгляды милого и дорогого Антона Павловича. Вспоминаю все большие мысли, которые он бросал в разговоре, не напирая, не выставляя их и не придавая им значения. Вспоминаю все произошедшее между нами за время знакомства…»
С у ф л е р. Касса. У самого входа и по стенам Художественного театра нагло торгуют барышники. Нельзя ли отгонять? Касса не в безопасности:
1.Ключ у швейцара. Допустим, что он надежный, но ключ у него в кармане пальто. Что стоит его вытащить? Кто поручится, что он не передаст другому — ненадежному. Главное, зачем у швейцара ключ? Чтоб отворять дверь, стоит крикнуть в окно кассирше. У входа в кассу дверь ненадежна. Во-первых, стеклянная с дверкой, просунь руку и отворяй дверь. Ведь ключ у швейцара теряет свой смысл после этого. Нужно непременно болт. (Мне сказал специалист, что только болт гарантирует от взлома.)
2. Надо сделать вторую дверь внутри кассы (со временем и железную, так точно, как железную дверку и у окна кассы, — она небезопасна в пожарном отношении). Я не очень доверяю и несгораемому шкафу. Кажется, он старого типа. Те горят.
3. Сигнальные звонки, говорят, нередко не звонят, портятся (хотя их и проверяют). Почему так часто портятся?
4. Провода следует скрыть...
5. Весь ли день подле кассы есть мужчины? И сколько их? Не следует жалеть денег, чтоб сторожить деньги. Я бы поставил дежурных билетеров.
В а х т а н г о в. Мы молимся тому богу, молиться которому учит нас Константин Сергеевич, может быть, единственный на земле художник театра, имеющий свое «отче наш» и жизнью своей оправдавший свое право сказать: «Молитесь так...»
ТИТР: Евгений Вахтангов.
С у ф л е р. Двор. В тупике, около бутафорской, снаружи сложены дрова около самой стены театра. Не опасно ли это? Стекла над воротами в сарае за мужскими уборными выбиты — не отсырели бы декорации. Надо вставить. Хорошо ли стерегут дрова на дворе. Там у сараев они уложены... и кажется, что так легко их красть.
М. Ч е х о в. Через некоторое время под влиянием возвратившихся болезненных ощущений я стал заикаться. Придя к Станиславскому, я сказал ему, что играть, по всей вероятности, больше не смогу. Выслушав меня, он встал и сказал: «В тот момент, когда я открою окно, вы перестанете заикаться».
Так оно и случилось. Я продолжал играть.
ТИТР: Михаил Чехов.
С у ф л е р. Декорационный сарай и мастерская. В первой комнате (столярная) при самом входе, налево, штепсель сломан и подпирается доской. Сломан он уже месяц тому назад, во время стрельбы. Говорилось неоднократно, надо ждать беды, чтобы Павел Николаевич наконец услышал мольбу. При соединении этой подпоркой была искра. Неужели ждать пожара? Во второй комнате, где декорационная, тоже давно сломан, и тоже штепсель, и тоже неоднократно говорено, и тоже ждут какого-нибудь случая, чтоб Павел Николаевич, наконец, откликнулся. Пока что штепсель пускают в ход с помощью щипцов металлических. В столярной направо, в углу, где тесно и сушится дерево, там топится плита (для клею). Закрышки (или заслонки) круглые плиты сломаны на несколько частей и теперь прикрываются отдельными кусочками, кирпичами. Остается большая дыра. Плита топится, дрова трещат, и искры могут вылететь из отверстия — и падать на дерево, которого много кругом. По-моему, в мастерской много какой-то завалящейся (и годной хорошей) мебели. По-моему, она там не вся для починки, а многие стулья за ненадобностью присвоили мастера как ветошь. Ее бы в склад, а при случае и в студию. Сторож при мастерской (кажется, Александр) был откомандирован сегодня на сцену в театр. В 5 часов кончилась работа в мастерских, рабочие ушли, и мастерская стояла пустая. Приходи и бери. Хорошо, что сам Алекс догадался и пришел проведать. Уборные. Уборная Лужского, все 6 или 7 ламп, сколько там есть, горят вовсю — сторожа нет. Комната пуста. Уборная сотрудниц (женская). Костюмы висят, не завешенные полотном, и выгорают. Под сценой. Эл. сцена (для всего театра, подъезд и пр.). Все дверцы шкафа отперты, стекло разбито. Половики, для которых сделаны полати, валяются не сложенными по полу (опасно, ведь это — порох). Много лишней мебели в трюмах. По-моему, и такой, которая не нужна для текущего репертуара. Склад — костер. Опасно. Шкафы с платьем («Горя от ума», «Мудреца» и пр.) заперты на замок, но не на шпингалеты, и потому легко их отворить, и щели большие — пыль проходит. В самих шкафах платья не завешены полотнами. Какая это ошибка. Это очень оберегает платье от пыли. А в трюме ее так много.
М е й е р х о л ь д. Когда я узнал в Кисловодске от Ливанова о смерти Станиславского… Мне тогда захотелось убежать одному далеко от всех и плакать, как мальчику, потерявшему отца.
ТИТР: Всеволод Мейерхольд.
С у ф л е р. Склады под зрительским залом открыты настежь. Иди и бери. При спуске в люк сделана железная дверь, чтоб затворять ее. Ведь опасно быть раздавленным при спуске люка. Но калитка сломана. Помните, в этом люке чуть было не произошла катастрофа. Дверь в комнату трансформатора открыта, и ключ в двери. Ход под сцену из раздевален партера открыт, и никто его не охраняет. Электричество жгут много лишнего, и во время действия можно было бы больше тушить (на подъезде, в передней). В уборной артистов тоже мало следят и экономят. В коридоре партера — верх зеркала — пыль. При всей тяжести современного положения, надо придумать что-нибудь с костюмами билетеров. Из стяжавших себе славу аристократических капельдинеров превратились в оборванцев и архаровцев. Ведь оборванец в претенциозном мундире куда хуже просто штатского оборванца. Попробовать бы перевернуть мундиры наизнанку. Я думаю, что если это было сделано раньше, то даже грязная изнанка лучше и приличнее теперешнего лица. Но не только грязь и поношенность мундира делают их неприличными. Как одет мундир, как он содержится. Мятый, не по росту, полузастегнутый. Полюбуйтесь, например, швейцаром. Тот, который у кассы, например, — надел ливрею с чужого плеча, на кривобок застегнул верхние пуговицы, а нижние поленился, и оттуда торчат незастегнутые грязные брюки и свое нечистоплотное платье. Воображение дорисовывает остальное — клопов, остатки кушанья, вшей и прочая и прочая.
С т а н и с л а в с к и й. Вы решили уйти, и вы можете уйти, Владимир Иванович. Но знайте, что если вы уйдете из театра в пять часов, то меня здесь не будет уже в четверть шестого.
ТИТР: Владимир Иванович Немирович-Данченко.
Н е м и р о в и ч. Но куда шла его глубинная мысль за пределами театра и искусства, я не знаю. И однако, на наших глазах начинается настоящее бессмертие. Как искусство переливается за границы театра, широко и далеко, как оно вливается в души всего народа, какими путями и что именно в искусстве проникает и наполняет сердца людей — в этом всем разберется история. А здесь начинается бессмертие.
Из «Новой книги обращений»
Янышев Санджар Фаатович родился в 1972 году в Ташкенте. В 1995 году окончил филфак Ташкентского государственного университета. Автор пяти книг стихов. Составитель двуязычной антологии современной узбекской поэзии “Анор — Гранат” (2009). Лауреат поощрительной премии “Триумф” и премии журнала “Октябрь”. Живет в Москве.
Эти произведения Санджара Янышева трудно поддаются жанровому определению. Если это поэзия, то поэзия в особом агрегатном состоянии, расплавленная до прозы. Если это проза, то еще не ставшая прозой, не забывшая своего поэтического первородства. Это работа на перекрестье.
Шаг назад. Юношей я читал поэта Олега Шестинского (я тогда читал все, что в столбик). Ценил я его блеклые секретарские стихи невысоко. Но однажды я прочел два его рассказа и удивился какому-то сильному свету, идущему сквозь текст. Рассказы были так себе, но свет — подлинный. И я подумал: все-таки поэзия, даже такая убогая — это великая школа. Чему-то она такому учит, что если поэт берется за прозу, может случиться открытие. В 1980 году в “Новом мире” был опубликован рассказ Сергея Наровчатова “Абсолют” о временах Екатерины II. Наровчатов, конечно, поэт, несравнимый с Шестинским, но все равно секретарь. А вот “Абсолют” — великолепен. У шестинских сочинений и настоящей наровчатовской удачи было несомненное сходство: и там и там был подлинный свет.
Я никак не ожидал, что когда-нибудь пойму, почему происходит это преображение. И вдруг увидел. Я смотрел “Историю Государства Российского” Леонида Парфенова, серию про Анну Иоанновну. Парфенов строит Ледяной дом. Дом сложен из тяжеленных ледяных плит. Парфенов берет утюг и проглаживает стену. И белая стена прямо на глазах становится прозрачной. Под действием тепловой волны хаотически ориентированные кристаллики льда по всей глубине выстраиваются в регулярном порядке — и свет проходит насквозь.
Так работает писатель. Все уже вроде бы написано. Все уже вроде бы есть. Но глыба текста непрозрачна, потому что слова поляризованы хаотично. Их нужно “прогладить утюгом”, нужна направленная горячая волна. Нужно чутко и напряженно вслушаться, переставить слова, подобрать синонимы, смириться — и отсечь лишнее. Если хватит упорства и терпения, если хватит тепла, глыбу удастся просветить.
Поэты умеют это делать лучше всех. У них этот навык работы со словом имеет едва ли не тактильную природу: они слово трогают гортанью, связками. Поэт привык работать с материалом, как со льдом тепловая волна: он правильно ориентирует слово. Не всем поэтам дано, так строить прозу. Это редкий дар. У Янышева он есть.
В одном из интервью Янышев сказал: “Повествовательная проза является альтернативой линейному человеческому времени; во всяком случае, она к этому стремится. Поэзия же сталкивает нас не с „параллельным”, а с „вертикальным” временем. Стихотворение разворачивает тебя поперек» [1] .
Что возникает на перекрестье времен — параллельного и вертикального? Проза, выстроенная поэтическим словом. Поэзия, расправленная повествованием. Видно глубоко, видно насквозь. Кажется, слова отсутствуют, но они работают как ледяная линза — они усиливают свет.
Владимир Губайловский
Артур Зынин. Бесцветный человек
Почему корову мы едим охотно, и курицу, и даже кролика, а лошадь как-то… не очень?
Собаку — боже упаси.
Что-то в их мясе содержится… неприятное, чужое нашему организму.
В Перу употребляют в пищу морских свинок, и свинки с рождения живут в вечном экзистенциальном ужасе.
Чтоб как-нибудь смягчить участь этих глупых тварей, их ласково зовут куй-куй.
…Мы звали его Солнышко.
За лысую голову, за просвечивающий сквозь эту лысину альбинизм.
Говорят, во время зачатия альбиносов их матери смотрят на луну.
Вот за это и наказание: вперед не отвлекайся, да-да!
Бесцветный человек, он вечно мозолил мне зрение своим ушастым видом.
Он был крупнее всех в отряде: его купол хлестали ветви деревьев на аллее, когда мы парами шли в столовую.
Солнышко.
Мне не нравилось, как он пахнет: мякоть тыквы вперемешку с ушной серой.
В отряде нас было двое очкариков; видимо, поэтому он решил, что мне нужна его компания.
“Артур, хочешь персик?”
Мне хотелось персик, но не из его мокрого пакета.
Однажды Олег Иванович погладил Солнышко по голове; я бы покраснел от унижения, а этот крутил своей башкой под рукой вожатого, как это делают собаки, подставляя живот для чесания.
Когда нашли огромную дохлую змею, все зажимали нос — только не Солнышко; вот держу пари, он балдел!..
Во время мертвого часа я намазал Солнышко зубной пастой; этот кретин улыбался во сне, словно ехал домой…
Мы сидели с мамой в беседке, он зачем-то ошивался неподалёку; мама спросила: “Твой друг?” — я помотал головой: “Еще чего!”
Уходя, мама насыпала ему горсть конфет из того, что принесла мне.
К нему ни разу никто не пришел.
Вот всё, что я помню про Солнышко.
Нас повезли на экскурсию в Ангрен, автобус сломался возле какого-то магазина, мы ринулись внутрь, в прохладу.
Магазин оказался большим: промтовары; какое-никакое развлечение.
Потом Олег Иванович крикнул: “в автобус!”, мы стали выходить наружу…
Витрина вспыхнула тысячью солнечных бликов — это Солнышко в нее влетел со всей своей дури.
Наверно, думал, что автобус уедет без него.
Он просто не увидел стекла и прошиб его белесой башкой.
Теперь она была красная, как спелый фрукт, утыканная треугольными осколками…
Я не помню черт его лица, не помню, во что он был одет, наверно, в шорты и майку, во что же еще? — но крик до сих пор стоит в моей голове.
Крик зарезанного существа.
Автобус увез Солнышко, мы остались возле лопнувшей витрины…
О чем мы говорили? Возможно, о том, что, если Солнышко не выживет, Олега Ивановича посадят — или это сказал продавец магазина?
Вскоре автобус вернулся за нами; салон был весь испачкан бурыми разводами, на полу туда-сюда перекатывалась лужа.
Если Солнышко умер, то зачем он жил своей бесцветной жизнью?
Через год я поехал в другой лагерь, санаторного типа; там на завтрак давали холосас и кислородную пенку.
Рауль Исфаханов. Начало
“Всё на свете является способом отвлечь нас от того единственного дела, ради которого мы здесь…” — услышал он однажды от мастера-шарлатана, привязывающего себя ежедневно к стулу: венскому, кстати, с круглой спинкой.
(Я пишу это — и мне хочется встать и начать мыть посуду.)
Он ждал холода и тоски, но день подарил ему солнце.
Уже много лет он приучает себя довольствоваться простыми человеческими радостями, которые не потому ли простые, что ни в малейшей степени не человеческие?
Является ли их причиной неожиданный сбой в череде природных явлений? память о рожденном и незабытом парадоксе? растущий и ежедневно целуемый живот жены? бескорыстный взгляд на чужую женщину? поиск красоты на порносайтах? искреннее действие любого порядка?
Необходима основа, необходимо основание — твердое и неотвратимое, как законы природы или смерть.
Он был во всем подобен тому шарлатану; навек приколотое к венскому стулу, его сознание ни на секунду не прекращало производить смыслы.
Оно тоже — как и всё остальное — мешало ему делать то, ради чего.
Когда единственное и главное дело закончено, становится очевидно, что оно вряд ли когда-нибудь начиналось.
Теперь понятно, что все эти годы он готовил себя к прекрасному и упорному, в высшей степени благодарному и действительно плодотворному, ибо требующему ежесекундных обоснований — недеянию.
Эдик Фишман. Уловленный ловец
“Как они устроены, эти, по едкому замечанию философа Ш, узкоплечие и широкобедрые существа!
Я понял, понял: решение в том, что они иные.
Начать с физиологии: всё в их теле служит идее повторения, репетиции.
По попе можно судить о груди, по губам — о рисунке вагины…
Пальцы рук — это их собственные ноги в миниатюре…
Если указательный палец на ноге длиннее большого — значит, женщина властна и не обижена интеллектом.
Торчащий наружу пупок говорит о повышенной истеричности, притопленный — о сексуальной возбудимости.
Близко посаженные глаза — о том, что она предаст тебя первой.
О, тут система, система!”
Женовед Фишман знал о женщинах всё.
Раз они другие, значит, необходимо их изучать — и не будешь застигнутым врасплох.
Однажды он обзавелся толстой тетрадью и принялся вносить туда свои наблюдения.
“Ирэна, 27, лиса (путает следы — часто меняет парфюм), в кафе платит за себя сама…
Катя, 30, между белкой и собакой: хорошо тренируемые рефлексы, инстинкт служения в конфликте с чувством собственничества…
Любовь, 23, недопроявленная лошадь (возможно, впрочем, будет жирафом), расстояние от… до… невероятно увеличено…”
В детстве он шил одежды оставшимся от матери куклам, а игрушечным машинкам и оружию предпочитал конструкторы и головоломки.
Теперь он — 40-летняя кошка, делающая один шаг навстречу мужчине и знающая, что оставшееся расстояние тот преодолеет сам.
Да-да, Эдик Фишман поменял пол — это было бы скучно, но здесь важна подоплека (иначе — стала бы я о нем так долго говорить?)…
Руслан Чустов. Единственный взгляд
“Объектив должен быть субъективным” — не самое экзотическое из его умозаключений.
Смирившись с приматом визуальности над иными способами постижения мира (себя), он взял в руки камеру.
Мы не слышим, не осязаем, не обоняем — мы только смотрим.
Зрение притягивает остальные чувства — таков генеральный знак времени, в которое мы заброшены, словно ведро на длинной и не очень прочной цепи…
Общий план: он на перекрестке, он снимает прохожих, пытаясь скрыть от них направление объектива.
Крупный план: он лжет, он подбирает слова оправдания, некто заставляет его удалить изображение с матрицы фотоаппарата.
Он не любит театр: как можно выдержать трехчасовое действие на одном среднем плане?..
Он придумал фильм; идея лежала на поверхности, однако никто так и не решился до сих пор ее подобрать.
Видимо, она считалась утопией: с технической точки зрения ее воплощение стало возможным не так давно (всё дело тут в методе : Эйзенштейн и Дзига Вертов посрамлены!).
Итак.
Фильм одной-единственной точки зрения.
Героиня в своей квартире; мы видим ровно то, что видит она: не только ее “взглядом”, но — буквально — ее глазами.
На глаза падает чёлка, героиня на неё дует.
Женщины моргают в полтора раза чаще, чем мужчины.
После нескольких минут фильма регулярное смаргивание героини становится для зрителей (возможно — только для женщин; это требует проверки) таким же незаметным, как и для нее самой.
Героиня смотрит в окно, героиня пишет письмо, героиня варит кофе, героиня ждет.
Ее саму мы можем увидеть лишь в зеркале, или в стекле окна, или в передней панели микроволновки — когда ее взгляд туда случайно упадет.
Но не раньше, чем через двадцать минут после начала фильма (зрителей нужно интриговать).
Звонок в дверь: пришел герой; на плече у него болтается фотоаппарат.
Между ними происходит разговор: наконец-то мы слышим ее голос.
Герои ругаются: это их последняя встреча.
Героиня в истерике; моргание учащается, слезы наворачиваются на линзу.
Герой вынимает фотоаппарат из кофра и направляет объектив на героиню.
Она захлопывает дверь у него перед носом.
Она идет к открытому окну.
Мы видим (общий план) вышедшего из подъезда героя; мы слышим оклик героини.
Полёт — падение.
Героиня мертва; камера покидает ее зрение и воспаряет над телом.
Таков примерный сюжет, однако дело не в нем, а (повторимся) в методе.
Ибо он помогает обнаружить то, ради чего однажды родился кинематограф.
Ибо Бог — внутри головы; Он смотрит на мир нашими глазами, а вовсе не наоборот (полагать так было бы чересчур самонадеянно).
Причины
Каждый год — что-то новое.
Невиданный урожай яблок.
Обнаруженное в глубине сада около вечно запертой калитки тутовое дерево.
Новая тропинка между холмами.
Дырка в мочке (пересёк экватор? родил третьего сына?).
Любовь, не ждущая выхода.
Мысль, не требующая завершения.
Поцелуй в колено.
Прикосновение ступни к позвоночнику.
Очередной трофей для фарфорового зверинца.
Покупка роликовых коньков.
Соблазн прозы.
Кусочек сахара от Рез ы Мир-Карим и .
Смерть.
Каждый год — нечто новое.
(“А ты что видишь?”)
[1] Санджар Янышев: «Перекинуть арку от себя к себе другому». Интервью информационному агентству «Фергана.Ру» <; .
Герои, апостолы, женщины и города
Жадан Сергей Викторович родился в 1974 году в г. Старобельске Луганской области, окончил Харьковский государственный педагогический университет им. Г. Сковороды, кандидат филологических наук. Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Печатался в журналах “Новый мир”, “Знамя”, “Сибирские огни”, “Дружба народов” и др. В переводе на русский вышли книги: “История культуры начала столетия” (М., 2003), “Депеш мод” (СПб., 2005), “Аnarchy in the UKR” (СПб., 2008), “Красный Элвис” (СПб., 2009), “Ворошиловград” (М., 2012). Живет в Харькове.
На украинском языке произведение опубликовано в кн.: Жадан С. Вогнепальнi й ножовi (“Клуб сiмейного дозвiлля”, Харьков, 2012).
1
Их часто рисовали на старых иконах — в то время как святые занима-лись пророчествами и чудесами, они занимались экономикой. Рыбаки и каменщики, солдаты и торговцы, пастухи и безработные — библейский пролетариат, чьи фигуры всегда можно разглядеть за деяниями пророков и апостолов. Находясь чуть в стороне, делая свою, необходимую для всех ежедневную работу, они восстанавливают храмы и перегоняют стада, празднуют за длинными столами и разбойничают, идут в торжественной процессии и слушают случайно забредших проповедников. Для них, по большому счету, все эти проповеди и произносятся, ведь не будут же проповедники разговаривать друг с другом. Проповедь — дело публичное, она предполагает присутствие публики, не посвященной в кухню всех этих озарений и просветлений. Именно публика требует ответов и пророчеств, чудесных исцелений и неожиданных воскресений. Именно эти безымянные персонажи, стоящие на групповых новозаветных изображениях за спинами главных действующих лиц, и вызывают особенный интерес своей невовлеченностью и невстроенностью в предписанный порядок вещей, своей отстраненностью и недоверием к происходящему. Вероятно, это особенность всех групповых фотографий — разглядывая их, узнавая знакомых, вспоминая имена и отмечая выражения лиц, так или иначе обращаешь внимание и на неизвестных тебе людей, на тех, кто стоит в стороне, выйдя за круг и сразу став почти невидимым, почти несуществующим. Но в то же время каждый из них, из тех, кто на изображении, кто так или иначе прибился ко всей компании, оказался в нужном месте в нужное время, не может остаться полностью незамеченным, не может совсем избежать упоминания. Ведь героев обязательно надо вспоминать и называть поименно. Даже если они этого и не заслуживают.
Герои прячутся в темноте, исчезают в переулках, закрывают за собой двери подъездов и растворяются во времени. Героев трудно распознать по одежде или по поведению, по лексике или жестикуляции, их не замечаешь на улицах, в офисах, на вокзалах и крытых рынках. Взгляд выхватывает их разве что из криминальной хроники, вот тут-то они и перебираются с периферии картины в самый центр событий, выныривают из ниоткуда, заполнив собой пространство, сломав кулисы, прорвав полотно, на котором изображены небесные маршруты и государственные границы. И ты вдруг замечаешь, что над ними горит воздух, и тени лежат у их ног, как флаги вражеской армии, и заводские трубы у них за спиной выплевывают в растерявшееся небо дым и огонь каждодневной борьбы, и все становится понятным — настоящие герои всегда выходят из сумерек, чтобы разбудить тебя, вытащить из сна и беспамятства. Они взорвут этот мир, уничтожая коммуникации и поджигая вагоны, они будут громить аквариумы в ресторанах, выпуская на волю жителей глубин, они будут переворачивать поливальные машины и разбирать трамвайные пути. Разгоняя твою тоску, они будут наговаривать свои простые истории, возвращая к жизни, из которой ты так упорно сбегаешь.
Потому что истории настоящих героев всегда просты — это истории о рождении и семейном уюте, о материнском и отцовском оружии, о прочном устоявшемся быте, о семейных праздниках и потерях, поминках и колядках, тревожном взрослении и прирастании опыта, о школе и друзьях, крови, железе и черной краске книжных страниц, о темных комнатах реальности, двойных стенах и невидимых дверях, о решетках на окнах твоей свободы, которые ты перепиливаешь на уроках труда, о станках и футбольных мячах, о срезах воздуха, за которыми слышно сердцебиение будущего, о попытках обобрать тебя, залезть тебе в карманы, выпотрошить их, отобрать у тебя твои теплые еще вещи, о золотом оттенке женской кожи, о разбитых сердцах, о жеваных улицах частного сектора, оплавленном солнцем воске пригородов, о холоде пробуждений и влажной механике летних туманов, о дожде, который будит ее ото сна, о воздухе, который нагревается ожиданием, о вербовке и пропаганде, о коллективной радости криминала, об общей вине и личной ответственности, о характере и слезах, о ранах — ножевых и огнестрельных, зашитых и перебинтованных, кровавых и болезненных, о стигматах уличных перестрелок, о следах от распятия на воровских ладонях, о шрамах, порезах и ожогах, о рубцах протеста и непокорности, об осаде и отступлении, о смерти в бою и воскресении в воспоминаниях друзей, о том, что ничего не запоминается таким, каким было на самом деле, что вся память этого мира формируется исключительно нашим желанием обо всем забыть, о других важных вещах — истории настоящих героев касаются вещей важных и печальных, о которых можно и промолчать, но лучше все-таки рассказать.
Настоящих героев объединяют многие вещи, способные собрать их в одном помещении, сделать причастными к той или иной истории. Скажем, привычки. Привычка спать в одежде, с зажженной сигаретой в пальцах, при включенном свете, с собаками под кроватью, с пауками в карманах, пока на кухне газовое пламя выжигает рассветные тени, а в холодильнике лежат замороженные женские сердца, и ласточки кружат себе за окном. Спать и рассматривать во сне священных китов, в чьем чреве печально сидят в ожидании своего часа проглоченные аквалангисты, что так беспечно отнеслись к господним знамениям и технике безопасности. Спать и считать дни, которые им предстоит провести в своих погоревших комнатах, прежде чем отправиться в очередной поход за славой и богатством, прежде чем их выбросят на улицу озверевшие кредиторы, прежде чем за ними придут убийцы в одежде миссионеров и станут бороться за их души, избавляя от тел. Спать и разговаривать во сне с библиотекаршами и охранниками супермаркетов, с массажистками подпольного салона и официантками гостиничных ресторанов, разговаривать с родителями, которые не узнают твоего голоса, с соседями, которые не помнят свой адрес, шептаться с ними, громко выкрикивать их имена, пугая псов под своей кроватью.
Или привычка просыпаться после обеда, пользоваться чужой посудой и взятой на время одеждой, просроченными продуктами и чужими мобильниками, читать случайные книги, найденные в коридоре, и не отвечать на звонки, вваливаться в заведения, откуда их выбросили на улицу вчера ночью, без предупреждения приходить в гости к друзьям, которые вчера просили их исчезнуть навсегда, пытаться договориться о кредите с людьми, которые их ненавидят, заговаривать с настороженными ночными прохожими, цепляться к чужим собакам, к незнакомым женщинам, к недоверчивым патрульным. Привычка до последнего держаться апельсиновых огней ночной торговли, теплого железа киосков, витрин с запасами жизни и энергии, не покидать их, чего бы это ни стоило, платить ту цену, которую просят незримые перекупщики. Возвращаться под утро домой и, прежде чем успокоиться и уснуть, обязательно открыть новую пачку сигарет, обязательно ее почать, не выпадая из сна, не отводя глаз от китов.
Объединяет работа, которая отбирает так много времени. Все, что связано с работой, требует соучастия и понимания, требует компаньонов, которые точно так же рисковали бы своей жизнью. Работа отнимает силы и веру, она объединяет их, словно убийц, скажем — убийц своего времени, поэтому когда они собираются вместе, то не говорят ни о чем, кроме работы. Все они мечтают изменить обстоятельства, спрыгнуть с этого трамвая, что тянется печальными зимними рассветами, избавиться от всех обязанностей, а самое главное — избавиться от руководcтва . Босс вызывает в них бешенство. Когда они собираются вместе, всегда изобретают сто новых способов от него избавиться. Выдумывают причудливые методы отравления и самосожжения, тысячи способов медленной мучительной смерти, невероятные варианты мести его детям, внукам и — обязательно! — жене. О жене босса они ведут особые беседы, поскольку это тоже касается их работы, может, даже больше, чем все остальное.
Кроме работы и любимых привычек их объединяют враги. С врагами они вырастают и живут всю свою долгую жизнь, с ними воюют, враги окружают их дом а и поджигают вагоны метро, в которых они добираются на работу. С врагами ведут переговоры и заключают соглашения, делят сферы влияния и разграничивают территории. Настоящий герой подсвечен своими врагами. В отсутствие врагов герои начинают уничтожать друг друга, а их не так много, чтоб отстреливать себе подобных. Враги делают движения героев осторожными и выверенными, враги вынуждают их обдумывать каждый шаг и предвидеть последствия ошибок. Наличие опытных и коварных врагов пробуждает в нас сочувствие к героям, заставляет с восторгом и тревогой следить за гражданской войной между соседними подъездами, следить, затаив дыхание и поставив на победу одной из сторон все свои сбережения. Враги наполняют жизнь героев решимостью и мудростью, а их жилища — оружием и динамитом, заставляют маневрировать и не успокаиваться, искать новые варианты и держаться старых друзей.
Но сильнее всего объединяют поминки. Там они сидят плечо к плечу с друзьями и врагами. И говорят о любви.
Говорят намеками, не выдавая эмоций, как опытные игроки, не трогая главного, избегая подробностей. Говорят о женских рыданиях и истериках, о ссорах и примирениях, о бегствах и возвращениях, о слезах и радостях — обо всем том, чего не разглядишь на иконах и не вычитаешь в криминальной хронике. Хотя на самом деле все это там есть. Более того — вся криминальная хроника и формируется любовными переживаниями и признаниями, вся она определяется, если уж говорить откровенно, страстью и изменами, каждое убийство инкассатора обусловлено любовной истомой и задумано в постели тихой утренней порой, когда она лежит рядом, обессиленно погрузившись в сон, а он внимательно рассматривает ее родинки и замечает первые морщины под глазами, и хочет только одного — любой ценой оставить ее рядом с собой, не дать исчезнуть, сохранить возможность всегда прикасаться к ее волосам, пахнущим поутру сном и морской водой. И как ты расскажешь об этом друзьям, как ты поделишься этим с врагами? Как можно поделиться этим опытом с прохожими, милиционерами и священниками? Вот они и держат эти истории при себе, делятся ими разве что на поминках и прочих семейных торжествах, где все настолько увлечены рождением и смертью, что можно говорить им что угодно — все равно не поймут. А если и поймут — не поверят.
Порой они говорят о религии. Потому что религия, как и любовь, заполняет их легкие, и — хочешь не хочешь — ты вынужден ее выдыхать. К религии они относятся так же как к своей профессии — ответственно и серьезно. Не слишком ее афишируя, но и ни в коем случае не стыдясь. У настоящих героев всегда есть религиозные убеждения, возможно, эти два состояния для них наиболее привычны и естественны — постоянная влюбленность и твердая вера. Вера заставляет их следовать старым законам. Любовь заставляет эти законы нарушать. Вера ведет их в темноте, любовь делает темноту бесконечной. Вера, как и любовь, становится причиной войн, этнических чисток, демократических революций и экономических чудес. Поэтому большинство их историй касаются в первую очередь веры и любви, как элементов взаимообусловленных и взаимоисключающих. Религия, вообще, основывается на рассказывании историй, истории цементируют любой набор символов и предписаний. Крепкий сюжет с кучей праведников, гневными предостережениями и обязательным справедливым судом в конце способен сплотить даже самые дикие и неуправляемые толпы мирян. Сюжет ведет за собой всех жаждущих и разочарованных — потенциальных героев, воинов и завоевателей. Им нужно знать, чем все кончится, кто выживет и какой будет приговор. Поэтому религия, этот внутренний опиум, всегда так или иначе присутствует в жизни героев, и в момент смерти у них при себе нет ничего, кроме нательных крестиков, молитвенников в карманах шинелей и кукол вуду в кожаных рюкзаках.
Что еще необходимо знать о героях? Настоящие герои, те, чьи истории потом перечитываешь и пересказываешь, не выдуманы. Они существуют в действительности. Порой о них забывают, порой вспоминают. Художники рисуют их на иконах. Писатели делают все возможное, чтобы не рассказать о них правду.
2
Что остается в прошлом? Только то, что ты не осмелился взять с собой, от чего избавился более-менее сознательно и безболезненно. Прошлое окликает голосами и тенями, наблюдает за тем, как ты откликаешься в ответ, не давая этим голосам окончательно исчезнуть, а теням — без остатка раствориться в воздухе. Прошлое похоже на торговый склад, наполненный цветастыми, дорогими и бесполезными вещами. Порой ты возвращаешься туда, чтоб отыскать что-то нужное, о чем давно уже забыл, но тут вдруг что-то произошло, изменились обстоятельства и ты вынужден копаться в сваленных в кучу тканях и коробках, перебирать книги и обувь, рвать бумагу и разматывать бечевки, стараясь найти необходимое тебе свидетельство времени, те детали, без которых прошлое не складывается в гармоничную картину, нарушает покой и расстраивает сон. И все, что можно отыскать среди этого склада, все, что принесено сюда заботливыми руками неведомых тебе грузчиков, все это и заполняет пространство, протянувшееся за тобой — в прошлое. Всем этим заставлены были комнаты, коридоры и балконы, холодильники, багажники и чердаки. И это бесконечное количество предметов и вещей и есть, наверное, самое главное свидетельство твоего тут присутствия, наследство, что остается после тебя.
Большинство историй, стихотворений и баллад заполнены чужими вещами, странными предметами повседневного обихода, о которых часто забываешь, но которые, встретив, неизбежно узнаешь. Поэзия — это и есть большой каталог вещей, без которых жизнь персонажей, быт главных героев кажутся неудобными и неправдоподобными. И твое легкомысленное отношение к этим вещам, твое пренебрежение ими никогда не проходит даром, обязательно потом больно бьет по твоей памяти. Ведь нельзя пренебрегать самой материей времени, полотном света, которое обжигает тебя каждое утро, паутиной реальности, что пролетает за окнами. Эти вещи чувствуют любое твое движение, откликаются на твое дыхание и замирают от твоего крика, складываются в слова и фразы, создают графику строф и типографских страниц. Дело литературы — предметы, с которыми ты сталкиваешься каждый день, особенно те, без которых просто не можешь обойтись, к которым привык настолько, что именно их исчезновение, умирание и уничтожение и есть наиболее точное свидетельство движения времени. Эти вещи определяют тебя и выдают с головой, обременяют и делают жизнь невыносимой, напоминают о прошлых событиях и дают толчок очередной истории. Потом, вспоминая эти сюжеты, вспоминая героев — главных и случайных, негодяев и красавиц, апостолов и перевозчиков, — возвращаясь к их речам и поступкам, лозунгам и жестам, ты натыкаешься на их разбросанные вещи, на потерянные ими перчатки и носовые платки, бритвы, карандаши и очки, разгромленную ими мебель и прорванные ими простыни, почерканые ими тексты и исписанные ими дневники. Натыкаешься и начинаешь перебирать, пытаясь сообразить, насколько важны они были для мужчин и женщин, для подростков и пенсионеров, которые попали в очередную твою историю. Стараешься понять, о чем тут речь. Как начиналась эта история и чем она закончилась. Да, именно эта.
Она всегда возила с собой кроссовки для бега. Ведь большую часть времени проводила в дороге — ездила на бизнес-собрания, с кем-то договаривалась, перед кем-то отчитывалась, что-то подписывала, находясь целые недели в пути. И едва поселившись в очередной гостинице, поднявшись к себе, спланировав день и сделав пару звонков, переодевалась, обувала кроссовки и бежала на улицу.
У человека, который бежит по улицам, особенный взгляд — он замечает вазоны на подоконниках и грустных больных за забором больницы, над его головой вспыхивают крылья птиц, а таксисты, просыпаясь в своих машинах, завороженно смотрят ему вслед, не понимая, откуда он тут взялся и куда так быстро исчез. Правда, это не лучший способ знакомиться с архитектурой — она даже не успевала запомнить названия улиц, по которым только что пробежала, фиксируя лишь большое количество красного и зеленого в этом раннем июльском сиянии — зелень деревьев и красный кирпич стен остались ей на память, их она и будет видеть, возвращаясь мысленно в то лето, в тот удивительный город.
Попадая ночью в ее комнату, ты всегда натыкался на ее одежду, которая лежала везде — на полу, на стульях, на кровати. Она легко обходила ее в темноте, держа тебя за руку, и ты шел за ней почти вслепую, ничего не замечая, кроме этой одежды, которую потом вспоминал в первую очередь. Короткие летние ночи, ее горячее напряженное дыхание, дыхание закаленной бегуньи, дыхание женщины, что пробежала не один десяток километров безлюдными утренними проспектами, дыхание, что постепенно успокаивается, поскольку начинается утро и она приходит в себя и просит тебя отсюда убраться. И ты впопыхах собираешься. Замечая в углу ее кроссовки, проклиная все на свете и благодаря небеса, которые дают путнику возможность остановиться в этом отеле.
Хотя, если припоминать старательнее, всплывет намного больше других, не менее важных и не менее выразительных деталей: ее шариковые ручки, которые она постоянно забывала в барах и на стойке портье, одноразовые вилки и ножи, которые у нее всегда были с собой, поскольку она не доверяла предприятиям общественного питания, визитки разнообразных магазинов и салонов, которые она складывала в паспорт, а поскольку паспорт тоже всегда держала при себе, на случай поселения в новую гостиницу, то и визитки эти постоянно попадались на глаза. Она легко знакомилась с парикмахерами и массажистами, с парковщиками и таксистами и, уезжая из города, оставляла в нем кучу ненадежных приятелей и подозрительных друзей.
Поэтому что могло остаться после нее? Как можно пересказать все, что она говорила, лежа на полу гостиничного номера и смотря новости на английском? Что из всего этого сможет попасть в твою историю, если ты надумаешь сложить ее вместе? Ты никогда не сможешь убедительно рассказать о твердости ее кожи и легкости ее дыхания, о тепле ее свитеров и задымленности комнаты, в которой всю ночь горели сигнальные огни, созывая сбившиеся с маршрута сторожевые дирижабли. Никогда и ни за что не передать интонаций, с которыми она признавалась в любви и рассказывала про свой бизнес, никто и никогда не передаст напевов, доносившихся из ее души. Любая попытка рассказать эту историю логично и последовательно обречена на неудачу, ведь ты и сам никогда не мог понять: где тут логика, в чем тут последовательность, откуда она появилась, куда потом так безнадежно пропала. Все время имеешь дело с этими торговыми складами, с перечнями и каталогами, с богатым содержимым собственной памяти, с ее неисчерпаемостью и непередаваемостью. Прошлое подталкивает к рассказыванию историй, к писанию стихов, с помощью которых ты пытаешься систематизировать позабытое и возобновить непонятое. Поэты похожи на работников канцелярии, они ведут учет всех глобальных катастроф и личных побед, составляют реестры смертей и воскресений, беспечно приближая своей повседневной деятельностью конец света. И апостолы, которые отвечают за все книги, написанные в этой стране, по дороге с ночной смены заходят к поэтам в их конторы, чтоб отметиться и пойти уже по домам, до следующих приключений, до следующей производственной смены.
Поэты способны разве что зафиксировать — ведь чем они могут помочь всему услышанному? Они вылавливают из чужих историй самую важную информацию, восстанавливают по обрывкам и клочкам биографий последовательность событий и причины, которые заставляли жителей этого города строить баррикады и переходить на сторону правительственных войск. Записывая свои строки, выстраивая буквы, поэты стараются хоть как-то прояснить хаос символов и намеков, из которого состоит прошлое, пытаются зацепиться за хоть какое-нибудь свидетельство, чтоб сложить картину того, что предшествовало оттепелям, паводкам и затмениям солнца.
Апостолы и разбойники, которые являются из прошлого, которые выходят из темноты, словно из глубины полуночного парка, дышат одним с тобой воздухом, ориентируются по огням, которые светят тебе из мрака, поэтому нельзя отгонять их от себя, нельзя игнорировать их предостережения и просьбы о помощи. Казненные наемники и военные комиссары, цирковые атлеты и коварные любовницы, подпольщики, изгнанники и серийные убийцы, имена которых вычитываешь из учебников истории, — они никуда не исчезли из обжитого городского пространства, они всегда оставались рядом, как звено одной непрерывной цепи отречений и приобретений, как часть общей полифонии, которую можно расслышать в коридорах университета или подземных переходах железнодорожного вокзала. Они не уходили из этого города, зная, что утрата их биографий может оказаться фатальной. Потому что на чем же тогда учиться, если их не станет, на чьих ошибках, на чьих победах? Нам досталось ценное громоздкое наследство — их головные уборы и оружие, ботинки и мундиры, ранцы, бинокли и бортовые журналы, их аттестаты и партбилеты, золотые украшения и серебряные пули, пожелтевшие газетные вырезки и четкие отпечатки их пальцев на почтовых конвертах. Я бы никогда не отважился говорить о них как о тех, кого нет, они по-прежнему занимают в моей жизни большое место, может быть, они занимают в ней лучшие места, даже и не думая кому-нибудь их уступать. Герои и провокаторы, сумасшедшие и гении, дети, подростки и постаревшие зомби с отвратительным характером, мужчины, которых я уважал, женщины, от которых я сходил с ума, писатели, которые убивали во мне любовь к литературе, и актеры, которые гримировались от старости и со стыда. Нам всем остаются наши чемоданы с любимыми вещами, с неразобранными бумагами и апостольскими посланиями. И мы храним их, эти чемоданы, сумки и дипломаты, где-нибудь на дне одежного шкафа, зная, что пока все находится в наших руках, есть возможность со временем во всем разобраться, привести все в порядок, разложить по своим местам. Ни от чего не отказываясь и никого не предавая.
Это как с обитателями гостиниц: утром они просыпаются в своих номерах, у них все при себе — все вещи и документы. Подходят к окну, наблюдают за движением солнца, за маневрами птиц, замечают женщину, что пробегает внизу, легко и бесшумно, словно бежит от собственной тени.
3
О женщинах он говорил разное, женщины — утверждал — обеспечивают смену времен года. Так оно и есть. Ты думаешь, зима — это когда выпадает снег. Ничего подобного — на самом деле это она просыпается после обеда и, лежа в постели, начинает ныть, мол, конец декабря, а снега нет, птицы в парке сливаются с черной землей, открытой, словно рана. И говорит так, как будто это ты виноват, что нет снега, будто это ты, пока она спит, выходишь на темные улицы и сгребаешь снег, что выпал за ночь, в подвалы, канализационные люки и сумки случайных прохожих. И она наконец-то вылезает из-под одеял, натягивает на себя мужские свитера и долго греет руки под горячей водой, а потом шурует в комнатах, отыскивая все, что вчера так последовательно теряла и разбрасывала, — телефон и записную книжку, ключи, компьютер и визитки, кладет все вещи на свои места так, что они, эти вещи, безнадежно теряются. И уже после делает себе чай и выходит на балкон. Стоит, разглядывает ровную поверхность небес, быстро замерзает, но упорно не желает бросить свою воздушную вахту. И чай в морозном воздухе так отчаянно пахнет Цейлоном, и она так настойчиво обжигает пальцы горячей кружкой, что снег в конце концов не выдерживает и начинает падать. Три месяца подряд.
Летом она, наоборот, спокойная и рассудительная. Летом ее кожа утрачивает это чувство темноты, которая тает, чувство неба, которое плывет. Она перестает реагировать на время, не замечая, как после бесконечного дня постепенно ложатся сумерки и сухой горизонт закрашивают краски и уголь. Летом ее кожа теплая, как песок, и даже ночью не теряет это тепло, ведь летняя ночь слишком коротка, чтобы что-то изменить. А вот летние дни длинные, размеренные, и нет никакого смысла следить за временем, его вдруг становится так много, что следить за ним — все равно, что следить за изменениями темноты, которая тебя окружает: не ясно, кто тут за кем следит. И часы у нее на руке — только украшение, которое поблескивает на солнце, не неся никаких функций. Все функции берет на себя воздух, он толкает ее вперед по горячим переулкам и останавливает в темных душных парадных, куда не доходит свет. Летом она ловит солнце, оно остается на ее одежде и волосах, нагревает ее ладони и икры, ослепляет ее, отражаясь от окон контор и трамваев. Трамваи летом так долго стоят на конечных остановках, что, войдя в них и сев у окна, она через некоторое время выходит и идет пешком, проходя остановку за остановкой, чувствуя, как много у нее остается времени и как много еще остается остановок.
Или вот ее разговоры, то, о чем она рассказывает при встречах. В мужских разговорах такого не встретишь — мужчины всегда сдержаны и молчаливы, если они и начинают о чем-нибудь рассказывать, то сразу же переходят к похвальбе или брани и надежно скрывают нужную тебе информацию, поэтому, поговорив, ты так ничего и не понимаешь. А вот она всегда рассказывает о себе так откровенно, словно ты врач и она боится, что, пропустив что-нибудь, усложнит тебе работу, не даст поставить единственно верный диагноз. Поэтому сообщает обо всем: о мужчинах, которые ей снятся, ходят ночью по ее квартире, тихо пробираются на кухню, вынимают из кастрюль и мисок будильники и телефоны, высыпают из бутылок песок и зерно, открывают форточки, напуская в комнату запах листвы и дыма. Говорит о женщинах, с которыми дружит, которые каждое утро жалуются ей на странные звуки за стеной, на птиц, что заглядывают в окна, на голоса в коридорах и угрозы в литературных журналах. Говорит о приметах, о формулах и кодах, о цифрах, при помощи которых открывают двери и разбивают войска, рассказывает о детях, которые попались ей на улице, пересказывает их разговоры, воспроизводит ссоры дворников и бездомных, вспоминает всех своих знакомых регулировщиков, описывает дома, в которых была, рекламирует крепленые вина, от которых речь ее становится терпкой и медленной и слова сплетаются, как трава после дождя. Но главным образом, говорит обо всех своих случаях любви — приобретенных и утраченных, удавшихся и отвергнутых, украденных и потерянных, откровенных и потаенных, счастливых и обреченных. Которые возникали внезапно и неожиданно, которые она тщательно выстраивала, с привкусом огня и металла, с остатками ночных скандалов и утренней тишины, которые она стремительно проживала и к которым потом все время возвращалась, от которых защищалась и которыми успокаивалась. Говорит, вспоминая и фантазируя, забывая и меняя все местами, защищая друзей и обвиняя подруг, раскрывая кровавые тайны и описывая места преступления. Сообщает адреса, по которым ей было хорошо, рисует дворы, в которых она теряла веру, жалуется на подземку, которая сделала ее одинокой, восстанавливает в памяти автобусные маршруты, которые всегда возвращали ей силы. Повторяет имена своих женихов, говорит, что ей в них нравилось, почему она не могла без них жить и как она от них ото всех, в конце концов, избавилась. Возможно, ей необходимо, чтобы кто-то еще знал эти важные для нее вещи, возможно, наоборот — для нее все это ничего не значит, поэтому она с такой легкостью наговаривает свои истории и притчи, но так или иначе, говорил он, за женщинами надо записывать, и если бы, скажем, Святое Писание записывали за женщинами, оно было бы гораздо больше в объеме. Да и мир был бы другим, добавлял он, если бы Святое Писание записывали за женщинами. В этом мире было бы гораздо больше страсти. И гораздо меньше крестовых походов.
Это так необдуманно с ее стороны, говорил он, рассказывать мне свои истории. Что мне теперь с ними делать? Я знаю о ней больше, чем ее мама. К тому же мама знает о ней гораздо более приличные вещи. Мама даже не подозревает о ее отношениях с алкоголем и руководством. Мама может лишь догадываться о ее отношении к мужчинам. Я уже не говорю об отношении к женщинам. Что ее мама знает о зимнем море, которое сбивает дыхание и обжигает пальцы рук, о вине, которое пьют, чтоб согреться, но которое на самом деле обжигает холодом горло, от чего твой радостный крик наполняется льдом? Разве ее мама видела когда-нибудь эти старые скворечники, в которых нам выпадало останавливаться, с одеялами и пледами, старыми кроватями и расшатанными креслами, без света и тепла, но зато с окнами, которые выходили прямо в ночь, среди которой колыхалось море со всеми своими рыбаками? Разве мама может знать про оттенки ее кожи, про ее песню, что пахла мадерой, про то, как она долго не могла заснуть, как она пряталась от темноты и шума, какой она была выносливой и неутомимой, какой нежной и убедительной? Что мама может знать про ее движения во сне, про монеты и пилюльки, которые высыпались из ее карманов, про ее настороженный с утра голос, когда она просыпается и вспоминает все, что было, после чего все начинается сначала, словно прилив, который никогда не дает надежды на продолжение и никогда не оставляет тебя в покое.
С другой стороны, а о чем же ей еще рассказывать, как не о себе? Все события ее жизни укладываются в короткие нехитрые истории с двойным дном. Ведь за рассказами об учебе и влюбленности, о потере подруг и приобретении опыта, о путешествиях, бегствах и постоянных изменах стоит язык взросления и роста, язык преданности и разочарования, радости, притяжения и отвращения, одним словом — великий язык любви, которым она пользуется в повседневной жизни и на государственной службе. И буквы, которые остаются после нее, которые она пишет помадой в записных книжках, химическим карандашом на обоях в гостиной, маркером на кафеле и пальцем на замерзших окнах, складываются в один простой и понятный ему шрифт, читая который он получает необходимую информацию. Это словно прогнозы погоды, которая никогда не меняется, гороскопы предательства и обмана, телеграммы с рождественскими поздравлениями, которые постоянно теряются на почте, поэтому и читают их только почтальоны. Каждый из нас оставляет после себя эти буквы и знаки, дневниковые записи, бесконечную сумбурную переписку, с помощью которой мы пытаемся объясниться, но чаще ссоримся и навсегда остаемся врагами.
Да, объяснял он, именно переписку. Она хранит все свои письма — старые, в пожелтевших конвертах, написанные круглым детским почерком, на нескольких страницах, с рисунками цветков, мотыльков и самолетов, что падают в горы. Эти письма лежат в отдельной коробке, словно инструкции, которым она следует. Время от времени она говорит, как ей не хватает писем на бумаге, не хватает общения с почтальонами, долгого ожидания письма, выписывания стихотворных строк, переписывания наиболее важных мест, пересылки открыток и фотокарточек, вслушивания в чужой голос, в неведомые интонации, чтения между строк, формулирования самого главного, ухода в молчание, вычеркиваний старых адресов, спешных и нервных поисков новых. Она постоянно и неустанно посылает сообщения со своего телефона, говорил он, я получаю их утром и среди ночи, дома и в дороге, иногда она повторяется, но я понимаю, как это для нее важно — записывание недосказанного, закрепление пройденного, уничтожение того, что сохранилось. Иногда она пишет с ошибками, иногда в рифму, иногда кого-то цитирует, иногда цитирует саму себя. Пишет об увиденном и услышанном, о придуманном и проверенном, о потерянном и украденном у нее, про дома, башни, собак, политику, холод и реки, леса и утопленников, деревья, флаги, лекарства и церковные службы. Просит совета и требует внимания, поучает и ругает, признается и демонстративно игнорирует, забывает на некоторое время, потом неожиданно вспоминает и снова начинает бомбить своими сообщениями, требуя немедленного и исчерпывающего ответа. Иногда, признается он, я отвечаю. Хотя обычно просто отбираю у нее телефон.
Когда пишешь про женщин, про их привычки и страхи, слова и поступки, заранее знаешь, что не напишешь всей правды. Вся правда должна остаться вне стихов, она не помещается в буквах, ломает строчки и выстужает знаки препинания. В отношениях с женщинами есть одна странная вещь, которая не поддается пересказу, нечто наподобие нежности, хотя и не совсем — нежность все же более на слуху, больше заметна в нашей жизни. Есть что-то за нежностью, и именно эта штука, эта механика взаимоуничтожения и взаимозависимости выветривается из стихов, теряется в складках одежды, закатывается под кровать, оседает на дне стакана. Система намеков и прозрений, что-то связанное с верой — именно эту сторону отношений и не описывают поэты, сознательно или подсознательно они молчат об этих вещах, чувствуя, что лучше держать их при себе, лучше не трогать то, что все равно проходит. Поэты, в общем, народ суеверный, иногда свои суеверия они и принимают за законы стихосложения, за принципы рифмовки, поэтому и пишут о женщинах так, чтобы не сказать главного. Пишут о женских волосах и украшениях, об одежде и снах, о сердцах, воспоминаниях и переживаниях, о смехе и предостережениях, о беременности, странствиях и возвращении, о своих сомнениях и убеждениях, о своем наслаждении и недоверии, о своем непонимании и восхищении, о своем плаче и молчании, своей мужественности, преданности, несгибаемости и неудержимости, одним словом, когда они пишут о женщинах, то пишут преимущественно о себе. А некоторые вещи они хотят оставить себе, не могут да и не хотят лишиться их, произнести и потерять. Вот и пытаются заполнить все эти пустоты буквами и восклицательными знаками. И мы принимаем эту увлекательную игру, листаем страницы, находя только нам понятные намеки и метки, только нам видные ловушки и тайные знаки. Изучаем их, расшифровывая и запоминая, словно читаем учебник родной речи для младших классов.
— А что на самом деле может ей сниться? — допытывал он меня.
И вправду, что? В последний раз она рассказывала такой сон: будто бы стихают морозы и устанавливается теплая новогодняя погода. И вечером, когда накрывает темнота, оказывается, что вокруг совсем ничего нет. Только темнота и ничего кроме. И тогда Господь бросает все свои дела и начинает прорисовывать на картах и в атласах линии рек и озер, границы, нейтральные полосы и демаркационные зоны, прорисовывает маршруты птиц в воздухе и рыб в океане, открывает воздушные коридоры и закачивает нефть в недра стран, которые ему особенно нравятся. Нервничает, торопится с этим всем, пока не выпал снег. А она, наоборот, спит спокойно и безмятежно. Потому что знает — снег все равно не выпадет, пока она не проснется.
4
Каждое окно, что зажигается среди июльской листвы, каждая дверь, что ведет из темноты, каждая ночная аптека и закрытый банк, каждый двор, поросший травой и засаженный деревьями, каждый зам о к и почтовый ящик, номер дома на стене и сквозняки на высоких крышах — все было наполнено голосами и шепотом, тихим пением и чьими-то вздохами — обычными звуками ночной жизни, которая шла себе, не обращая особого внимания на твое присутствие. Города, в которые мы попадаем, как правило, редко реагируют на наше появление — у них достаточно собственных дел и забот, чтобы обращать внимание на каждого прибывшего пассажира. И наоборот, ты, впервые сюда попав, стараешься выяснить расположение всех важных маршрутов и главных нервных точек, с которыми придется в дальнейшем иметь дело. Выясняешь, еще даже не слыша голос а тех, кто своими историями наполняет квартиры и коридоры, телефонные будки и трамвайные остановки. Истории эти ты отследишь позже, уже после того, как разберешься с названиями улиц и определишься со стратегическими объектами, которые и обеспечивают непрерывное кровообращение ландшафта, четкую и неутомимую работу его сердечных клапанов. Тем более, что истории в основном были связаны именно с этими объектами.
Ты находил их сам, случайно и бессистемно, натыкался на них в темноте, оказывался рядом с ними среди утренних дождей. Сразу же чувствуя, что где-то тут, на расстоянии прикосновения, в соседней комнате тянутся провода и кабели, по которым передается вся самая важная информация этих кварталов, где-то рядом с тобой идет большая каждодневная работа по организации жизнедеятельности всего этого хозяйства, всех этих нагромождений камня и зелени, и то, что ты подошел на такое близкое расстояние к главному, к тому, что обычно скрывают, — это неслучайно. Надо теперь держаться этих зданий, соблюдать незримые правила, никому ничего не говоря и ни от кого ничего не скрывая.
Конторы, в которых переписывают от руки все предписания этого мира, пивные, где настаивается отрава для врагов, дворцы пионеров и дома быта, подземные туннели и мастерские художников, пункты приема стеклотары, наполненные прокламациями, и спортивные залы, переоборудованные под залы заседаний — город, что открывается всеми своими дверьми, ямами и провалами, заставляет любить и принимать себя со всеми своими загадками и головоломками, заставляет защищать все эти пристанища сумасшедших и отверженных, поддерживать коммуны преступников и посещать курсы снайперов. И ты держишься за потайные коммуникации, за его запутанные фрагменты и трагические биографии, пытаясь любой ценой сберечь весь этот хаос и всю упорядоченность, из которых города, собственно, и состоят. Ведь хаос и упорядоченность тоже имеют обыкновение исчезать, уступая место пустоте и теням.
Иногда мне кажется, что кто-то вынул из этого города самое важное, скажем органы дыхания, и дыхание его от этого останавливается и замирает, и эта аритмия, замирание дыхания свидетельствуют, что все давно и безнадежно изменилось, потеряло свой изначальный вид, приобрело новые, необычные и не всегда привлекательные черты. Каждый из нас держится за свое прошлое, словно за твердую морскую поверхность, стараясь не слишком от нее удаляться. Это вопрос неуверенности и страха — слепое доверие к знакомым лицам и именам, безосновательная уверенность в том, что прошлое останется с нами навсегда, не предаст нас, от него всегда можно будет оттолкнуться, чувствуя его тепло и упорядоченность. Но время вымывает его, это наше прошлое, как прибрежные почвы, взрывая четкие береговые линии, взламывая всю его согласованность и размеренность. И ты вдруг не можешь досчитаться важных вещей, не узнаешь лиц и путаешь имена, а главное — видишь фатальные изменения и потери, которые произошли с городом, чувствуешь сквозняк в пространстве, замечаешь черные дыры в парках и на улицах, в которых навсегда исчезло что-то очень важное, что-то, чего, без сомнения, тебе всегда будет не хватать.
Проще всего было бы увязать это с ностальгией. Ностальгией по временам, когда все мы были вместе, когда всем нам было хорошо в этом городе, когда друзья были моложе и выглядели не так изломано, когда никто еще не сдался, не перешел на сторону врага, и жизнь казалась настолько бесконечной, что начало всех дел и проектов можно было смело откладывать на неопределенный срок. Но дело тут не в ностальгии. Ничего общего с ностальгией нет у твоего желания отстаивать дома, в которых ты прожил все эти годы, с попытками удержаться на этих улицах, защитить теплый кирпич и сухую летнюю зелень. Нет никакого прошлого. Оно находится исключительно в твоих снах, вместе с ними появляясь и вместе с ними исчезая. Но существуют оконные рамы и перекошенные двери, мокрые от тумана тротуары и университетские стадионы, на которых все это прошлое и начиналось. Существуют бесчисленные лица и имена, короткие приветствия, уверенные жесты, тысяча тысяч историй и биографий, из которых и сложена реальность. А после все уже зависит от тебя — какие из этих историй ты способен расслышать, какие из них станут тебе понятны, которые из них ты будешь готов рассказать. Непрерывное многоголосие, присутствие в твоей жизни героев и предателей становится главной темой разговора, задавая рассказу направление и звучание. И говоря о городах, в которые ты никак не можешь пробиться, пути в которые оказываются надежно заблокированными и перекрытыми, ты в первую очередь используешь эти давно услышанные и легко воспроизводимые голоса, истории, которые они пересказывали, их предостережения и наставления, лозунги и манифесты.
Не остается ничего другого, кроме как держаться за город, который в свое время открыл тебе все свои убежища и потайные люки. Ты должен беречь их от исчезновения и деформации. Ты обречен входить, как в воду, в пустые сентябрьские переулки, где листва засыпает автомобили, а из окон выбрасывают старую мебель. Потому что стоит только один раз в них не войти, как рискуешь потерять их навсегда, и тогда у тебя останется только твоя ностальгия — грустное безнадежное желание жить призраками и вымыслами, оправдывая собственную слабость любовью, а неуверенность — нежностью.
Не остается никого, кроме прохожих и посетителей кафе, пассажиров подземки и обитателей гостиниц, которые глядят поутру в небо, пытаясь разглядеть проблески солнца. Сплетни и байки, фантастические сюжеты и свидетельства очевидцев — поэзия начинается там, где слышны голоса, где продолжается разговор, где у тебя есть собеседник, который о чем-то тебя спрашивает, не требуя ответа. Поэтому так важно чувствовать их присутствие, так необходимо узнавать их на улицах и здороваться в магазинах, перебирать в уме их имена и сопоставлять их свидетельства. Пока из черных ниток времени ткется бесконечная и оптимистическая хроника сопротивления и криминала. Пока продолжается твое непосредственное участие в жизни и вырабатывается твоя личная ответственность за каждую смерть. Пока из теплых подъездов каждое утро выходят на улицы герои, апостолы и женщины.
Перевел с украинского А. Пустогаров
Пустогаров Андрей Александрович родился в 1961 году в г. Львове, окончил МФТИ. Член союза “Мастера литературного перевода”, перевел произведения Сергея Жадана, Издрыка, Тараса Прохасько, Юрия Андруховича и др. Живет в Москве.
Земли надежды
Каграманов Юрий Михайлович родился в 1934 году. Публицист, философ, культуролог. Автор книги «Россия и Европа» (1999) и многочисленных публикаций. Постоянный автор «Нового мира». Живет в Москве.
Немногие сыны остаются верными,
но когда нас станет еще меньше,
нашу веру это никак не поколеблет…
Потому что обетования Бога не прейдут,
а слова человека — только ветер, дым.
Поль Клодель [1]
Deus, venerunt gentes! [2]
I
То ли легенда, то ли быль. Апостол Петр покидает «развратный Рим», но на пустынной дороге видит при свете луны идущего навстречу человека, в котором узнает Христа. На свой вопрос «Quo vadis, Dominе?» («Куда идешь, Господи?») слышит в ответ: «Иду в Рим на новое распятие».
Виртуально сцена могла бы повториться и сегодня. Европа охладевает к христианству. Процесс этот начался давно, но особенно интенсивным сделался в последние сорок лет. Веха здесь — 1968 год, культурная революция.
Более всего христианство утрачивает кредит среди различных элит, в первую очередь среди работников культуры, но и в народной толще идет на убыль. Процент регулярно (еженедельно) посещающих храмы очень невелик во всех странах (исключение — Ирландия и Польша, где таковые пока еще составляют большинство). Постепенно отпадает от Церкви крестьянство Южной Европы, считавшееся «последним резервом» католицизма. Приор монастыря в Бари (Италия) Энцо Бьянки пишет, что сорок лет назад итальянская деревня соизмеряла повседневную жизнь с колокольным звоном. В то, кажущееся уже почти средневековым время три человека — священник, учитель и врач — «все объясняли» людям; теперь «все объясняет» телевизор. «Исчезла тишина и с нею прежнее тайное знание жизни» [3] . Редко звучит сельский колокол, и мало кто к нему прислушивается.
Но если считать «победителем» секуляризм, то никакого «торжества победителей» здесь нет. Напротив, секулярная Европа неуклонно движется к упадку. Краем «упавших крыльев» назвал ее еще В. В. Розанов. Скоро будет сто лет, как Освальд Шпенглер и Карл Краус почти одновременно заговорили о «закате Европы». И за все эти годы не произошло ничего такого, что противоречило бы их вердикту.
Для многих наших соотечественников такой вердикт кажется невразумительным; для них Европа — «парадиз», часть планеты, лучше всех других «оборудованная для веселья». Сами европейцы в большинстве своем не утруждают себя печальными думами. Европа, говорит Мишель Уэльбек, «знать не хочет о своем неблагополучии, ему подавай иллюзию беззаботности, сладкий сон, мечту; оно утратило мужество и не может посмотреть правде в глаза» [4] .
В свое время коллега Уэльбека по литературному цеху Виктор Гюго писал о «жеманстве вырождения», имея в виду «упадок, преподнесенный так, что его и не узнать» [5] . Нынешний процесс вырождения «перехитрил» все предыдущие. Если, например, в эпоху упадка Рима, с которой нынешнюю эпоху нередко сравнивают, бросается в глаза деградация материальной культуры — разрушение дорог и акведуков, сокращение торговли т. п. — то сейчас, наоборот, с материальной культурой все в порядке. По-прежнему идут в рост наука (преимущественно прикладная) и технология. Философ Гийом Фэй в статье «Упадок как судьба» предлагает свое объяснение происходящего: «взрывное умножение технологий» создает впечатление, что западная цивилизация «как будто сошла с ума: ее мозговой центр проваливается (implose), тогда как периферия взрывается (explose)… Смысл улетучивается, а формы становятся все более пустыми… Это похоже на пролиферацию раковых клеток» [6] .
В зеркалах, которые ей подставляют Право или Здравоохранение или Бытовая культура, Европа выглядит пристойно (и даже может служить образцом для других стран, включая наше отечество), но в некоторые другие зеркала ей лучше не смотреться.
Убийственный аргумент, железно подтверждающий концепцию «заката», предоставляет демография: Европа вымирает, и это касается всех ее народов без исключения. И ничто не может остановить этот процесс и обратить его вспять. Если только не произойдет какой-то радикальный культурный переворот.
Похоже, что европейская цивилизация не доживет даже до 2200 года, на который указал Шпенглер как на последний год ее существования. Пессимисты считают, что не доживет даже до 2100-го.
Но если европейская цивилизация подвержена общему закону подъема и упадка цивилизаций, то это никоим образом не относится к христианству, которое выше любых цивилизаций (о чем полвека назад почти одновременно писали Арнольд Тойнби и о. Георгий Флоровский), как бы тесно ни было оно с ними связано. Подтверждение тому мы видим уже на переходе от античности к Средневековью. После принятия христианства императором Константином в 313 году оно стало государственной религией Римской империи и, казалось, накрепко связало себя с нею, почти не выходя за ее пределы. Но с вторжением варваров Церкви пришлось заново приобщать к христианству массы населения и строить цивилизацию Средних веков, радикально отличную от античной.
А что мы видим сегодня? Если Европа охладевает к христианству, то в свою очередь и христианство как будто охладевает к Европе. Остается малозамеченным, что в последние годы оно распространяется со скоростью лесного пожара в обширных регионах планеты: в Африке южнее Сахары, в Китае и некоторых других странах Юго-Восточной Азии; сохраняет оно свои позиции в Латинской Америке (только католичество здесь отчасти вытесняется протестантством). Более чем когда-либо распространяясь «вширь», христианство становится по-настоящему мировой религией.
Ну а в самой Европе сохраняется «остаток» верных (несколько процентов регулярно посещающих храмы), которые могли бы сегодня подписаться под каждым словом Клоделя (см. вынесенное в эпиграф).
II
«Землей надежды» папа Бенедикт XVI назвал Африку, имея в виду ее южный лист (картографический термин), иначе говоря, Черную Африку. Удивительное дело: длительное господство колонизаторов на континенте и усилия целой армии миссионеров дали относительно скромные результаты: в начале 1960-х годов (это время ускоренной деколонизации) число христиан составило 30 — 35 миллионов (не считая коптов в Египте и эфиопов — те и другие сохраняли свою веру издревле). Но как раз с тех пор число крещеных быстро пошло в рост и сейчас приближается к полумиллиарду, а может быть уже и превысило его. Только в джунглях в глубине континента и кое-где на западе еще сохраняется первобытный анимизм, но, вероятно, его исчезновение — вопрос времени.
Ислам, давно утвердившийся на севере Африки, в последние десятилетия тоже интенсивно распространяется к югу от Сахары, но все-таки не так успешно, как христианство. По данным, приведенным интернет-журналом «Ouest France» в статье «Равенство христиан и мусульман» (имеется в виду, что равенство выходит, если считать по континенту в целом), число мусульман за период с 1900 по 2010 год выросло в Черной Африке с 11 миллионов до 234, но число христиан за то же время — с 7 миллионов до 470 [7] . «Линия фронта» со смешанным христианским и мусульманским населением проходит от Чада на запад до Сьерра-Леоне, а также в Судане и местами в Юго-Восточной Африке. Кстати, она может превратиться, а кое-где и сейчас уже превращается в реальную линию фронта.
Мы привыкли к выражению «христианская Европа» и не привыкли к «христианской Африке». Между тем христианство распространилось в Африке уже в ранние свои века и не только на средиземноморском побережье, входившем в состав Римской империи, но и много южнее — в Нубии (сейчас это Судан) и Эфиопии. А в IV — V веках Александрия Египетская была, пожалуй, главным интеллектуальным центром христианства. Опираясь на подобные факты, некоторые чернокожие теологи где-нибудь в Лагосе или Киншасе берут на себя смелость утверждать, что подлинной родиной христианства является именно Африка. Такого рода «присвоение» христианства знакомо нам и по другим краям, включая Россию (где даже в составе клира дело доходило иногда до полного отрицания греческого наследства в прошлом; да и сегодня среди простых верующих немало тех, кто считает, что православие — «русская вера»).
Верно то, что вплоть до VII века основным ареалом распространения христианства оставались Ближний Восток и Северная Африка. Надо только помнить, что за исключением Нубии и Эфиопии это был эллинистический мир и все духовенство состояло здесь из греков или этнических не-греков, овладевших греческим языком и культурой (Блаженный Августин, например, был этническим бербером, а в IV и V веках два бербера даже занимали престол римских пап). Но паства состояла в основном из аборигенов, а паства, как известно, способна оказывать влияние на клир и даже направлять его.
Зато монашеское движение своим происхождением целиком обязано африканцам. Его инициаторами стали два копта (с греческими именами), в начале IV века удалившиеся в Фивейскую пустыню, — преподобный Антоний Великий и преподобный Пахомий Великий; первый положил начало одинокому и скитскому отшельничеству, второй — киновийному, общежительному. За ними в пустыню потянулись десятки тысяч. В основном это были simpliciores, «простецы», которые истину Христа «выбирали сердцем». (Впрочем, среди них встречались и умудренные теологи: история сохранила память о блаженном Апу, судя по имени, нубийце, который одержал верх в диспуте с архиепископом Александрийским.) Это был новый в христианстве путь — «юродствующей сотериологии». Потом в пустыню потянулись и греко-римляне — перенимать опыт; хотя для их благородных желудков пища, состоявшая из акрид и колючек, была нелегким испытанием (например, святой Иоанн Златоуст, происходивший из аристократического рода, шесть лет провел в пустыне, где заработал жестокий катар желудка, из-за чего всю оставшуюся жизнь вынужден был питаться одной только жидкой рисовой кашкой).
К сожалению, мусульманское завоевание оставило лишь немногие следы христианства в Северной Африке. Только в Египте сохранилась коптская община (копты — потомки древних египтян), составляющая примерно одну десятую часть населения страны. Нубийцы сопротивлялись завоевателям на протяжении нескольких столетий, но в конце концов тоже приняли ислам. Лишь далеко на юге эфиопы сохранили свою восточнохристианскую веру, хотя бы и монофизитскую [8] . Это о них писал Вячеслав Иванов столетие назад: «Ревнуют внуки смуглые с тройных уступов гор / О древлем благочинии…». (Кстати, эфиопы были и есть смуглые, а вот растворившиеся в других народах нубийцы были чернокожими.)
Нынешняя христианизация Черной Африки представляется неожиданной в свете той информации, которой мы до сих пор о ней располагали. Мы привыкли считать, что Черная Африка безнадежно больна, что это край, где большинство населения прозябает в нищете, где раздолье для преступников, где не прекращаются межплеменные войны, жизнь человеческая ничего не стоит и т. д. Американский социолог Роберт Каплан в книге «Грядущая анархия» (интеллектуальный бестселлер 2001 года) писал, что Черная Африка — «гиблое место», что с нею ничего нельзя сделать и оттуда можно только бежать.
Это продолжение и развитие темы известной повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы» (1902). Но у Конрада тьма, каковую являет на его взгляд Черная Африка, хотя бы локализована географически. А у Каплана она наползает на весь остальной мир. То есть пока еще от нее можно бежать, но рано или поздно она настигнет вас в вашем же доме. Вместо того чтобы следовать путем Запада, на что полвека назад надеялись покидавшие ее европейцы, Черная Африка становится прообразом хаоса, который ожидает весь остальной мир. Пугающие западного человека африканские бидонвили, пишет Каплан, «вселяют в вас зловещее предчувствие того, на что могут стать похожими американские города в будущем» [9] . Такая вот безрадостная картина.
Замечено, что там, где возрастает добро, там в рост ему подтягивается и зло. Но должно быть верно и обратное! Коль скоро Африка превратилась в «гиблое место», позволительно предположить, что в «стратегии Бога» на нее обращено и особое внимание: существует ли более важная задача, нежели просветить «сердце тьмы»?
Конечно, из того факта, что история Христа «вдруг» овладела африканским воображением, еще не следует, что все новообращенные африканцы стали христианами, заслуживающими этого имени. Таковых даже в «старых» христианских странах в лучшие их времена было не так уж и много. Вероятно, к очень большой части новообращенных применимы слова святого Григория Богослова о «младенцах веры», вплетающих в христианство совсем нехристианские представления. Так бывало и встарь: достаточно напомнить о только еще выходивших из состояния варварства германцах, которые послушно отстаивали обедню, а в ночь полной луны уходили в лес приносить жертву Вотану или Тору и даже день святой Вальбурги (Вальпурги) умудрились превратить в нечто наоборотное — языческий праздник «весны священной» («Вальпургиева ночь»). Подобным же образом нынешний африканец может одинаково «уважать» священника (который тоже не всегда оказывается на высоте: наблюдатели говорят о недостаточной вышколенности значительной части африканского клира) и заклинателя змей и опасаться колдуна, в котором видит реинкарнацию крокодила.
И все-таки христианство «работает» с этой, как еще недавно казалось, «неподъемной» в духовном смысле человеческой массой, и «работает» успешно. Вот одно из многих тому свидетельств: корреспондент лондонской «The Times» Мэтью Пэррис, долгие годы живущий в Африке, пишет, что «христианство изменяет сердца африканцев. Оно несет с собою духовное преображение, что очевидно. Обновление реально. Перемена благотворна» [10] . Свидетельство тем более убедительное, что сам автор этих строк заявляет себя твердым атеистом.
В XIX веке известный английский колонизатор Сесиль Родс заметил, что можно вытащить негра из джунглей, но нельзя вытащить джунгли из негра. Родс все-таки ошибался. А сегодня, может быть, как раз европейская душа потерялась в «джунглях» в гораздо большей степени, если сравнивать ее с душою Африки, — я имею в виду, конечно, христианизированную Африку.
Прозелиты, как это часто бывает, исполняются религиозным рвением, в данном случае еще подогретым африканским темпераментом. Среди африканских христиан, особенно среди католиков (составляющих около половины всех крещеных), все настойчивее звучит укоризна в адрес Запада, который «морально разлагается». И — о, чудо! — Африка сегодня шлет к северным «нехристям» своих миссионеров. Еще в силу инерции из Европы и Северной Америки летят и плывут в Африку свои миссионеры, а уже встречный поток набирает силу [11] . Духовные вожди Африки поставили своей целью «реевангелизацию Запада», не забывая, конечно, что и у себя дома дел у них, как говорится, невпроворот.
Иногда на Западе можно услышать, что в Африке водворилось какое-то «другое христианство». На самом деле в африканском христианстве есть нечто от раннего христианства — свежесть религиозного чувства, упор на коммюнотарность; отчетливее звучит мотив «труждающихся и обремененных», приглушенный в западном христианстве. Что здесь действительно непохоже на Европу, так это культурная среда.
И. А. Ильин писал, что вся история христианства есть не что иное, как поиск христианской культуры. И начинается поиск с преображения культурного мира, существующего на момент принятия христианства. В 1930-е годы Леопольд Сенгор, поэт и христианин (позднее «танцующий президент» Республики Сенегал) запустил в оборот понятие негритюд , передающее специфику культурного мира Черной Африки. По мнению Сенгора, для греков, заложивших основы европейской культуры, руководящим началом была мысль, а для африканцев таковым является интуиция. Негр воспринимает окружающий мир сразу всеми своими чувствами. Силой, связывающей воедино его многоразличные жизнеощущения, является ритм: он пронизывает пение, танец, чередование масок, различные игрища и даже трудовой процесс; он врывается даже в сень смертную, вовлекая почивших в общую племенную жизнь (видели вы где-нибудь еще, чтобы покойников провожали на кладбище, приплясывая?).
Что такое африканский ритм, никому не надо сегодня объяснять: он прочно вошел в нашу жизнь. Уже в 1930-е годы наиболее чуткие из европейцев ощутили, что влияние Африки не ограничится танцплощадками, где воцарился джаз, продукт американского посредничества, что другим становится восприятие жизни. В те годы поэт-эмигрант Антонин Ладинский писал: «И мы отлетаем в сиянье / Густых африканских звезд, / Мы покидаем дыханье /Насиженных теплых гнезд» [12] .
Примерно тогда же К. Г. Юнг заметил, что американцы в соседстве с неграми, которых они третируют, незаметно для себя меняются психофизически, все более отдаляясь от своих германских предков. Они становятся как бы «развинченнее», что сказывается на их манере ходить или смеяться, в ребячливой общительности и «почти полном исчезновении интимной жизни». В свою очередь и европейцы начинают подражать американцам.
Сенгор был не вполне точен, положив мысль в основу греческого восприятия жизни. В его время уже было хорошо известно, что греческое сознание раздваивалось между двумя началами, одно из которых принято называть аполлоническим, а другое — дионисийским. Бог виноделия, Дионис символизировал «восторг и исступление» из мира сего, то воспаряя к небу (историю его гибели и воскресения можно рассматривать как отдаленное предвестие Христа), то опускаясь в низины оргийности, где он преображался в смрадного Ночного Козла. Между прочим, у некоторых африканских племен существовали оргийные празднества, в ходе которых женщина совокуплялась с козлом, — ритуал, лишний раз подтверждающий универсальность дионисийства.
Инициированное Ницше «возвращение Диониса» сделало европейское человечество восприимчивым к африканским ритмам, которые прежде оно пропускало мимо ушей, расценивая их как «дикарские». Но тут вдруг проснулась жажда экстатического, конвульсивного времяпровождения, требовавшая все новых музыкальных форм, выстроенных на все более громкозвучных ритмах, провоцирующих резкие телодвижения или как минимум телесные раскачивания, хлопки и т. п.
Если ритмическое громкозвучие неотъемлемо от «гения Африки», то как с этим «гением Африки» справляется Церковь? Пока что это удается католикам, и то лишь отчасти: паства более эмоционально воспринимает свои, африканские песнопения, с участием ударных инструментов (таковые вынужденно допускаются), чем традиционные католические распевы. Иная картина открывается в англиканских храмах. Привожу свидетельства очевидцев: здесь «завывания, смех и ритмические телодвижения» становятся кульминацией богослужения. И совсем чудная картина открывается у пятидесятников (по степени распространенности пятидесятники — на первом месте среди всех протестантских деноминаций): «Им (пастве) особенно нравится пританцовывать и заводить песни, не обращая внимания на проповедника… Случается так, что ему трудно бывает сохранить контроль за богослужением, пока пение не угасает само собой. Тем не менее такое поведение паствы не вызывает осуждения у пастора, ибо успех богослужения зависит от того, в какой мере присутствующими овладел Св. Дух» [13] .
Можно ли передать Благую весть с помощью тамтамов? Леопольд Сенгор считал, что ритмы, в которых живет (а не только поет или танцует) Африка, одновременно имманентны и трансцендентны. В это с трудом верится. Та музыка, которую позволительно назвать трансцендентной — «спущенной» с неба, — это подражание тихому ангельскому пению, впервые прозвучавшему на Земле в ночь Рождества. Тогда как африканская ритмическая музыка — это магическая музыка, питающая воображение «от земли одержимых», как говорили греческие мыслители. Уместно, однако, вспомнить, что в первые века христианства с церковным пением тоже «были проблемы»: ни пеаны в честь Аполлона, ни дифирамбы в адрес Диониса, ни даже античные погребальные песнопения для церковного исполнения явно не годились, а другой, не языческой музыки еще не было. Даже в V — VI веках церковные писатели восстают против «бесчинных воплей», звучащих в церквях, против слишком «страстной» и «безумной» музыки. Должно было пройти время, чтобы были угаданы интонационные основы калофонии (христианского благозвучия). Очевидно, что и Африка должна будет пройти примерно тот же путь. Потому что основы калофонии — внекультурного происхождения. Это «небесная музыка» (католики называют ее cantus firmus), предсуществовавшая человечеству [14] .
Впрочем, может быть, и «тяжелому металлу» найдется место в африканской литургии: он неплохо передает гнев Божий и «скрежет ада».
III
Еще одна «земля надежды» (или «новая земля», каковое выражение тоже употребляют в Ватикане) — Китай. В этой стране у христианства до сих пор не было глубоких корней. В VII веке здесь появились пришедшие с запада несториане [15] , но они со временем растворились среди аборигенов, практически не оставив следов. Начало христианизации Китая было положено в конце XVI века миссионером-иезуитом и выдающимся ученым-синологом Маттео Риччи. Созданная им иезуитская миссия просуществовала в Пекине до начала XX века. В конце XIX развернула свою деятельность православная духовная миссия, но после 1917-го она вынуждена была обратить свои силы на окормление соотечественников, нашедших приют в Китае. В итоге на 1949 год, когда пришли к власти коммунисты, в стране насчитывалось 2 миллиона христиан, едва различимых в общей массе населения.
Сегодня христиан всех конфессий, по разным оценкам, от 80 до 130 миллионов (по некоторым, впрочем недостоверным, оценкам — до 200 миллионов) [16] . Конечно, и 130 миллионов — это лишь десятая часть населения Китая (1,3 миллиарда), но важно, сколь быстро христианство идет в рост. Почти все наблюдатели сходятся во мнении, что между 2040 и 2050 годами (а может быть, и раньше) христиане станут в Китае большинством населения. Подобное происходит и в Южной Корее, близкородственной ему в культурном отношении. Здесь христиане уже стали относительным большинством, составляя 28% всего населения — против 23% буддистов (остальные — в основном неверующие, а также конфуцианцы, шаманисты и пр.) [17] .
В канун последнего (2012 года) Рождества только одно расположенное в Нанкине китайское издательство (с англоязычным названием «Amity Printing Co Ltd») выпустило 100 миллионов (так!) экземпляров Библии на китайском и некоторых других языках, значительная часть которых ушла на экспорт.
Толчок распространению христианства дала, не желая, конечно, того, коммунистическая власть. Многие китайцы именно в христианстве увидели духовную опору, позволившую противостать безбожному режиму, по своей жестокости сравнимому с идольскими царствами, описанными в Библии. В стране народились общины, которые власти назвали «подпольными», а сами себя они назвали «катакомбными», по образцу апостольских времен. В годы маоистской «культурной революции» появились и первые китайские мученики за веру. С прекращением гонений «катакомбные» стали называть себя «домашними». Некоторые из них продолжают собираться для богослужений у кого-то на дому, но у других давно уже есть свои церковные здания, увенчанные крестом. Главное отличие «домашних» от официально зарегистрированных общин (число членов которых на 2006 год составило 23 миллиона, по данным того же номера «South China Morning Post») в том, что «домашние», если они католики, безоговорочно признают авторитет Ватикана, и если они протестанты, так или иначе связаны со своими зарубежными единомышленниками. Американские евангелические деноминации объединяют, в частности, городскую интеллигенцию, которая видит в христианстве средство борьбы за демократию. А вот это (как и подчинение католиков папе) властям не нравится, поэтому они косо смотрят на «домашних», хотя особо и не преследуют их.
Между прочим, «домашность» большинства христиан является причиной того, что феномен христианизации Китая до сих пор остается малозамеченным.
Но противостояние коммунистической власти, теряющей прежнюю идеологическую выдержанность, постепенно лишается актуальности; следует поэтому задуматься, каковы духовные причины того, что прежде равнодушный к христианству китаец ныне «склонил к нему и слух, и взор». Думаю, что главная причина в том, что в христианстве преодолен разрыв между мироутверждением и мироотрицанием, характерный для традиционного Китая. Господствующее в стране конфуцианство отличает исключительно позитивный настрой; ему Китай обязан всеми своими цивилизационными достижениями. Но конфуцианство умалчивало о сверхъестественном, хотя и не отрицало его существование («Я ничего не знаю о духах», — признавался Конфуций). За духов «отвечали» даосы и китаизированные буддисты, но для тех и других жизнь оставалась бессмысленным кружением, за которым открывалась пустота; даос мечтал о том, чтобы, покинув мир сей, стать «вечным другом луны», буддист — раствориться в пустоте. В прежние времена конфуцианство и даосизм-буддизм были искусственно связаны (стиснуты) в замкнутом пространстве Золотой сферы (образ традиционного китайского мироощущения), эстетически благообразной и в чем-то даже утонченной. Но в итоге катаклизмов, потрясших Китай в XX веке, разбилась Золотая сфера и стала очевидной взаимная противоречивость двух ее половинок. А в христианстве органически связаны мироутверждение и мироотрицание; как и вечное движение — с вечным покоем.
Повторяю, я говорю о духовных причинах христианизации Китая. К ним, как и всегда и всюду, примешиваются различные жизненные обстояния. Лет двадцать назад в научных кругах Китая задались вопросом: что позволило Европе (распространяя это понятие на Россию и Соединенные Штаты) достигнуть положения мирового лидера и удерживать его в продолжение нескольких столетий? Преобладающий ответ был: христианство; на которое стали смотреть, как на «религию успеха». Особым вниманием пользуется работа Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Результат: в городах Китая появились общины кальвинистов, которых никогда там раньше не было.
На селе, насколько я могу судить, христианство привлекает, между прочим, и своей коммюнотарностью (как это имеет место и в Африке). Традиционный конфуцианский уклад создавал в крестьянской среде атмосферу взаимной церемонной приветливости, но она как-то уживалась и с душевной сухостью, даже черствостью (чего стоит хотя бы обычай умерщвления «нежелательных» детей). Не говорю уже о том, что конфуцианство на селе полуразрушено; от него остался разве что культ семьи.
Что касается властей, то они заинтересованы в «добродетельном поведении» граждан, на чем бы оно ни строилось. Поэтому они реанимируют конфуцианство, но и поддерживают официально зарегистрированные христианские общины; да и «домашним», как мы уже говорили, особо не препятствуют.
Самый интересный вопрос: как христианство будет укореняться в совершенно новой для него культурной сфере?
В XIX веке американские миссионеры, отправляясь в Африку, прихватывали с собой, помимо экземпляров Библии, еще и партии зубных щеток и штанов (для мужчин — чтобы не ходили голыми). А в Китай миссионеры, кроме Библии, ничего с собой не брали: зубными щетками китайцы научились пользоваться раньше европейцев, а наготы не только стыдились (как и европейцы), но даже считали ее эстетически недостаточно благообразной. И все устройство человеческого тела — несовершенным. Отчего, например, заключали иногда детские головки в своего рода тиски, чтобы с течением времени они принимали «более изысканную» грушевидную форму; в подобные же колодки заключались ножки девочек, чтобы они навсегда оставались миниатюрными. Чем «благороднее» был китаец, тем больше он стыдился своего тела; все усилия костюмеров и косметологов были направлены на то, чтобы за одеждой, прической и средствами косметики скрыть человеческое естество. Нельзя отрицать, что такое отношение к телу, включая даже и упомянутые крайности, — проявления культуры, в ее качестве анти-природы.
Китай — страна древнейшей цивилизации и по-своему высокой культуры. Но по уровню развития философской мысли китайцы далеко отставали от Европы. Теперь же, преодолев когдатошнее свое наивное чванство (древние китайцы говорили, что только у них два глаза, у греков — один, а все остальные народы слепы), они и в этом отношении пошли в ученичество к Западу. Будучи по природе своей, и по контрасту с африканцами, рационалистами (по крайней мере, это видно на конфуцианцах), китайцы, обратившись к христианству, первостепенное внимание уделяют богословию; притом это относится и к широкой массе верующих. Американский публицист Мартин Рот поразился тому, сколь серьезно «простые» китайцы, как и корейцы, обсуждают вопросы веры: «Впечатление такое, что вы очутились в Афинах I века, рядом с (апостолом) Павлом, спорящим о преимуществах различных богов» [18] .
Собственно китайское богословие не может не иметь некоторых специфических особенностей; это связано с тем, что китайцы мыслят иероглифически. Вообще, язык богословия — вещь немаловажная. Заметим, что даже на латинском языке времен поздней античности трудно было передать некоторые тонкости греческих богословских терминов. А иероглифическое мышление — конкретно-образное. Да, китайцы рационалисты, но система мышления у них скорее символическая. Поэтому им гораздо проще перевести новозаветные тексты, нежели, скажем, сочинения Фомы Аквинского.
Впрочем, любые словесные формы выражения христианской мысли всегда несовершенны. Самая глубокая молитва — без слов (так, по крайней мере, считали и считают христианские мистики). И самое глубокое научение — «не устами и не в уши» (о. Павел Флоренский).
Нас, однако, должно интересовать не столько культурное обличие христианства в Китае, сколько другое: какое воздействие окажет оно — повторю это еще раз — на культуру Китая.
В начале XX века Поль Клодель (хорошо знавший Китай, где в продолжение ряда лет он занимал пост французского посланника) писал, что задача китайцев — вырваться из круговорота вещей (Дао) на дорогу, уходящую за горизонт. Если это им удастся, то тогда в мире наступит «желтый час». Похоже, что этот час уже наступает.
Опять-таки трудно избавиться от мысли, что начавшаяся христианизация Китая имеет провиденциальный смысл. Уже в недалеком будущем эта страна обещает стать ведущей державой мира в экономическом, политическом и, может быть, военном отношении. Но там, где растет земная сила, там являет свои возможности и сила духа.
Бросим взгляд на другую сторону Южно-Китайского моря. Еще одна азиатская страна, в которой быстро распространяется христианство, — Индонезия, где до сих пор господствовал ислам. Подсчитано, что ежегодно около 2 миллионов индонезийцев, в основном тех, кто исповедовал ислам, переходят в христианство [19] (насколько я знаю, в других мусульманских странах такие случаи крайне редки, а кое-где даже караются смертью). Если так пойдет и дальше, то уже в обозримом будущем в Индонезии появится христианское большинство.
Латинская Америка для христианства — далеко не «новая земля», католичество давно пустило здесь корни, и, похоже, достаточно прочные. Правда, в последнее время значительная часть паствы отошла от католической церкви и передалась пятидесятникам, но это все-таки раскол в рамках самого христианства. По сути своей пятидесятничество — секта, то есть уже по определению оно представляет собой нечто заведомо ущербное; в частности, это проявляется в том, что религиозная эмоция лишена здесь строя и меры, какие соблюдаются в католичестве. Но с другой стороны, накал религиозного чувства, вызывающий в памяти эпоху ранних протестантов, обычай каждодневного (!) посещения храма, скрупулезное изучение Библии (хотя лютеровское Sola scriptura — не главный их принцип, важнее для них схождение благодати), упор на «добрые дела» — все это говорит о сохраняющейся в Латинской Америке энергии христианства.
IV
В 1453 году (напомню, что это год падения Константинополя) папа Николай II сказал: «Европа — это то, что осталось от христианства». На несколько столетий отождествление христианства и Европы (включая Россию и позднее Соединенные Штаты и другие территории, где расселились европейцы) стало само собой разумеющимся. Но вот наступило время, когда Церковь напомнила, что она — странствующая (paroicoisa по-древнегречески). И к Европе и европеоидам «не привязанная».
Христианство становится «религией Третьего мира»? Раньше других об этом подумали в Риме. Более четверти века назад кардинал Поль Пупар писал: «Однажды, тому с лишком тысяча лет, папы приняли решение попрощаться с римским миром и „обратиться к варварам” (passare ai barbari, что можно перевести и так: „перейти на сторону варваров”). Не следует ли ждать сегодня аналогичного и еще более глубокого движения?» [20] .
С некоторых пор только европейские народы, наследующие друг другу в возглавлении мирового движения, считались «историческими», а все остальные оставались в ранге «неисторических». Но как писал о. Сергий Булгаков, «историческими» делает народы религиозный жар (даже независимо от того, какую веру они исповедуют). Сегодня это народы «трех А» — Азии, Африки и Америки, в первую очередь Латинской [21] .
Пока что в мире происходит грандиозная перемена декораций. Осветители подыскивают нужный свет. Какие пьесы будут разыгрываться на этой сцене, остается только гадать.
[1] Claudel Paul. Cinq grandes odes. Paris, «Gallimard», 1936, р. 170.
[2] Боже, пришли яз ы ки! (лат.) .
[3] Bianchi E. Il pane di ieri. Torino, «Einaudi», 2008, р. 27.
[4] Уэльбек М., Леви Б.-А. Враги общества. М., «Иностранка», 2009, стр. 92 — 93.
[5] Гюго В. Собрание сочинений в 15 томах. М., «Гослитиздат», 1956. Т. 14, стр. 440.
[6] Гийом Фэй. «Упадок как судьба». Цит. по: <; .
[7] «Chretiens et musulmans a egalite». Цит. по: <-france.fr> .
[8] Монофизитство существует в разных вариантах, но суть его всегда одна: равновесие божеского и человеческого начал в нем нарушено в ущерб последнему. То есть Христос выступает как Бог, а человек в Нем исчезающе-призрачен. Одно время монофизитство преобладало в Византийской церкви, но было осуждено на Халкидонском соборе 451 года.
[9] Kaplan R. D. The Coming Anarchy. New York, «Vintage», 2001, р. 5.
[10] Цит. потекстуинтервью: «Atheist Matthew Parris hails the Protestant Christian religion» <-cranmer.blogspot.ru> .
[11] Вот характерное объявление в газете «New York Times» от 12.04.2003: «Пастор Дэниэл Алайи-Адениран пришел по ваши души. Неважно, черный вы или белый, богатый или бедный, говорите ли вы по-английски, по-испански или по-китайски. Он понимает, что вас может оттолкнуть его экзотическое имя — он из Нигерии, что вас может смутить его акцент или манера говорить. Он допускает, что вы не лишены некоторых предрассудков в отношении нигерийцев. Но это его не пугает. Он верит, что Святой Дух глаголет его устами — и споспешествует ему страшная земная сила демографии». Данный конкретный проповедник — пятидесятник.
[12] Ладинский Антонин. Стихи о Европе. — «Современные записки», 1933, № 51.
[13] King R., Kidula J., Krabill J., Oduro T. Music in the Life of the African Church. Vaco (Texas), «Baylor University Press», 2008, р. 3, 96.
[14] Так считают и некоторые современные композиторы: англичанин Джон Тавенер, эстонец Арво Пярт и наш Владимир Мартынов (называю только тех, кого знаю). Кстати, все трое — православного вероисповедания.
[15] Несторианство противоположно монофизитству в том смысле, что нарушает равновесие божеского и человеческого начал в ущерб первому.
[16] По данным гонконгского еженедельника «South China Morning Post», число христиан в Китае уже в 2006 году достигло 130 миллионов. См.: <-nombre-de-chretiens-augmente> . Эту же цифру называют и некоторые другие источники.
[17] По данным «Observatoire pharos» <; .
[18] См.: «Korea’s Dynamic Christianity — Reflections on an Explosive Revival» <; . Сегодня кажется диковинным интерес «простых людей» к сложным богословским вопросам в первые века христианства. Святой Григорий Нисский сам не без удивления рассказывает о том, каким встретил его Константинополь во дни Второго Вселенского собора 381 года: «Одни, вчера или позавчера оторвавшись от черной работы, вдруг стали профессорами богословия. Другие, кажется, прислуги, не раз битые, сбежавшие от рабьей службы, с важностью философствуют о Непостижимом. Все полно этого рода людьми: улицы, рынки, площади, перекрестки. Это — торговцы платьем, денежные менялы, продавцы съестных припасов. Ты спросишь их об оболах (копейках), а они философствуют о Рожденном и Нерожденном. Хочешь узнать цену на хлеб, отвечают: „Отец больше Сына”. Справишься: готова ли баня? Говорят: „Сын произошел из не-сущих”» (цит. по: Карташев А. В. Вселенские соборы. Клин, «Атлас-пресс», «Христианская жизнь», 2004, стр. 158).
[19] См. интернет-издание «Algerie-focus» <-focus.com/blog/2012/07/ 26/indonesie-deux-millions-de-musulmans-deviennent-chretiens-chaque-annee> .
[20] Poupard P. Chiesa e culture. Milano, «Vita e Pensiero», 1985, р. 143. Знаковым представляется избрание в марте 2013 года новым главой Католической церкви аргентинского кардинала Хорхе Бергольо, взявшего себе имя Франциска I. Впервые за двенадцать веков престол св. Петра занял неевропеец. Стоит также заметить, что в числе основных претендентов на конклаве фигурировал и чернокожий кардинал из Ганы.
[21] Религиозная ситуация в США, при всех ее особенностях, в значительной мере отражает мировую: христианство постепенно утрачивает влияние среди белых (исключение составляет так называемый «библейский пояс», включающий некоторые штаты Юга и Среднего Запада) и сохраняет его или даже укрепляет среди негров и латинос.
О насилии
Разрешение на публикацию предоставлено Фондом митрополита Антония Сурожского © Metropolitan Anthony of Sourozh Foundation.
В 1991 году «Новый мир» с предисловием С. С. Аверинцева опубликовал авто-биографический текст митрополита Антония Сурожского «Без записок» [1] , тем самым открыв его имя для широкого читателя. С тех пор по России его книги разошлись более чем миллионом экземпляров. В советское время слово Владыки, возглавлявшего Русскую православную церковь в Великобритании, прорывалось сквозь глушилки в передачах Би-би-си, множество его текстов ходило в самиздате. Его приезды в Москву собирали толпу в храмах, где он проповедовал, и все более многочисленные подпольные группы — в домах друзей, не боявшихся предоставлять ему свои квартиры. Для советского слушателя его слово о вере, достоинстве, человечности, свободе и радости было глотком свежего воздуха. Но не меньший отклик оно находило и в самых разнообразных кругах Англии — страны его служения.
На одной из конференций, посвященных наследию митрополита Антония, участникам вспомнилась шутка, бытовавшая в церковных кругах Европы в 1970 — 1980-х годах: митрополит Антоний — самый популярный человек в Великобритании — после «Битлз».
Чем епископ немногочисленной общины, представитель нетрадиционной для Британских островов Церкви мог привлечь внимание в стране, которая к иностранцам в принципе относится сдержанно? Чем непривычно клерикального вида чужестранец (Владыка никогда не выступал без подрясника и панагии), горячо любивший Россию и отличающийся бескомпромиссной верностью Православию («чрезвычайно консервативен», как характеризуют его в рапорте Архиепископу Кентерберийскому о планах совместного обсуждения вопросов доктрины) [2] , подкупал недоверчивого слушателя? Что было в нем и его слове такого, что он получал приглашения выступить по радио и на телевидении, в богословских, медицинских, естественно-научных колледжах, университетах, средних школах, больницах, хосписах, экономических институтах, военных училищах, школах искусств?
Нам кажется, предлагаемый текст лучше ответит на эти вопросы, чем наши рассуждения и выводы. Назовем только несколько фактов из биографии Владыки, — биографии человека, прожившего почти целый век (годы жизни: 1914 — 2003): родился до русской революции, попал с родителями на Запад, окончил биологический и медицинский факультеты Сорбонны. В годы Второй мировой служил во французской армии хирургом, перед уходом на фронт принял тайное монашество, участвовал в Сопротивлении. Наверное, с этого времени он сохранил уважение к армии: по словам протоиерея Иоанна Ли, его ближайшего помощника, особенно любил митрополит Антоний выступать перед военными. Как-то раз, оглядев аудиторию перед началом выступления, заметил: «Похоже, из присутствующих только я был на войне». После войны полтора года занимался реабилитацией бывших узников концлагерей. В возрасте 35 лет рукоположен в сан священника, направлен в Англию, где служил 54 года. Из крохотной общины, которая в то время представляла РПЦ, создал епархию с 27 приходами и евхаристическими общинами по всей стране и — проповедовал.
Митрополит Антоний почти ничего не писал (если не считать писательским трудом десятки тысяч писем), с царственной щедростью сея устное слово, не стремясь остановить момент, запечатлеть, сохранить, а только служа тому человеку, который перед ним в данный момент, которому н у ж н о получить ответ на вопрос, на боль, на недоумение, на восторг. «Я мало написал книг», — сокрушался Владыка в последние годы жизни. Многочисленные книги, публикуемые в России и по всему миру на множестве языков, самоотверженным трудом составляют из расшифровок сохранившихся аудиозаписей бесед и проповедей люди, стремящиеся поделиться отблеском вечности, который подарил им Владыка.
Беседа «О насилии» проведена Владыкой для слушателей Королевского военно-научного колледжа (Royal Military College of Science, позднее переименован в Defence College of Management and Technology) в Суиндоне 16 апреля 1986 года. Текст воспроизведен по аудиозаписи, которую, вероятно, сделал сам Владыка с помощью своего кассетного диктофона. Качество записи самой беседы высокое, но вопросы из зала практически не сохранились, поэтому их пришлось восстанавливать по ключевым словам. В своих выступлениях митрополит Антоний часто ссылается на высказывания других авторов. Внимательный читатель заметит: Владыка приводит цитаты не дословно, а в собственном переводе, пересказе или интерпретации, заботясь преимущественно о том, чтобы точно передать мысль автора, а не его слова. Переводчики старались следовать этому же принципу и передали цитаты не в соответствии с существующими переводами источников, а так, как они звучали в беседе.
Елена Майданович, Елена Садовникова
О насилии мне известно из собственного физического опыта, потому что родился я незадолго до Первой мировой войны, и мои самые ранние впечатления, пока я был совсем маленьким, складывались из носившихся вокруг слухов о войне. Потом была русская революция, потом годы эмиграции, когда жизнь в самом деле была очень трудной в некоторых ее проявлениях. Я помню себя восьмилетним мальчиком в дешевой школе-интернате, где сверстники могли избить так, что попадешь в больницу. И после мне довелось кое-что узнать о насилии, живя в Париже во время войны и наблюдая происходившее вокруг. Таково мое прошлое, и я о нем упомянул только для того, чтобы показать: я буду говорить, основываясь не на каком-то особенно большом опыте страдания (хотя ребенком чувствовал себя очень несчастным из-за грубости, которая царила вокруг), а на том, что пришлось немало его повидать.
Если поставить перед собой вопрос, что такое насилие, мне думается, важно помнить, что это слово одного корня со словом «сила» или «брать силой». Насилие — это действие или ситуация, в которой намеренно (а порой и непреднамеренно) применяется сила в попытке посягнуть на независимость человека, группы людей или страны, в попытке разрушить цельность человека, принудить его стать не тем, кто он есть, или заставить поступать вопреки велениям совести, вопреки убеждениям, вопреки своей природе. Это — отрицательная сторона насилия, но при всем том в Евангелии есть место, в котором говорится, что «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» [3] . Я бы сказал, что оно плохо переведено на современные языки. Нам нужно внимательнее вчитаться в исходный текст и осмотрительнее отнестись к словам и выражениям, которые можно перевести по-разному. В данном случае текст ясно говорит: если мы хотим войти в Царство Небесное, нам придется принудить себя, совершить насилие над собой, придется всеми силами сразиться ради того, чтобы сломить все преграды: мы должны заставить себя открыться действию Божию, позволить Ему одержать в нас победу. Это совсем не то, что обычно понимается под фразой « Царство Небесное силою берется » , которая приводит в недоумение тех, кто пользуется только одним переводом Евангелия и строит свое богословие на тексте одного переводчика или группы переводчиков.
Мне захотелось сказать об этой стороне насилия, потому что нам чрезвычайно важно сознавать: жизнь — не плавный переход от одного состояния к более высокому, от одной ситуации к другой. Мы живем не просто в тварном мире, но в мире падшем, трагедия которого — обезбоженность. Мы живем в мире, который, утратив Бога, как бы потерял ключ к тайне гармонии, и гармонию в нем так же сложно уловить, как сложно воспроизвести по нотам мелодию, если в начале нотных строк отсутствует музыкальный ключ. Мы живем в мире, который изуродован на всех уровнях, и это естественным образом порождает в нас конфликт, — конфликт между естественной, богоданной тоской по полноте, по избытку жизни, и всем тем, от чего жизнь мельчает, всем тем, что препятствует нашему исполнению. Мы все время несем в себе конфликт. Апостол Павел ясно это сознает, когда говорит, что в нем борются два закона: закон жизни и закон омертвелости; что добро, которое хочет, он не делает, а делает зло, которое внутренне отрицает [4] . Мы все в плену, наша задача — разорвать цепи, сбросить оковы, вырваться на свободу, но для этого одних благих намерений недостаточно: не обойтись без борьбы, не обойтись без конфликта. Свободу можно обрести, лишь совершив над собой насилие, то есть обратив все силы, всю свою позитивную энергию против того ложного, дурного, ущербного, что в нас есть, против всего, что мешает вырасти в полноту, которая составляет наше человеческое призвание.
Поэтому, говоря о насилии, неверно было бы безоговорочно отождествлять его со злом, причиняемым другим людям, или с проявлениями грубости, жестокости и подобными вещами в окружающем мире. Война, которую нам приходится вести, — внутри нас, и главнокомандующие в ней — Господь Иисус Христос и Дух Святой, дарованный нам. Им предстоит одержать в нас победу, а мы оказываемся либо союзниками, либо противниками Божьими в этой борьбе Бога за овладение всем нашим существом, что одновременно есть наше исполнение. Нам необходимо осознать, что в нас действует закон войны, и поэтому нам нужно учиться, как выбирать себе союзников и распознавать врагов и как сражаться с тем, что в нас неладного.
Об этой войне духовные наставники сказали бы: чтобы одержать победу в нашем внутреннем «я» и во всей нашей жизни, Богу нужна наша помощь. Когда я говорю «помощь», я имею в виду слова апостола Павла о том, что мы все — соработники Божии. Мы — не пассивные предметы в руках Божиих, которыми Он распоряжается, над которыми вершит Свою волю. Бог предлагает нам Свою силу, но мы должны решиться воспользоваться ею. Он предлагает нам всего Себя, но нам решать, принять этот дар или отказаться, отвергнуть его. И в этом смысле мы столь же активны, как Бог активен, потому что наше «нет» имеет такое же решающее значение, как Его «да». Это чрезвычайно важно сознавать.
Один из древних писателей, кажется V или VI века, сказал, что миром правят три силы. Одна — воля Всемогущего Бога, Который положил предел Своему могуществу, предоставив свободу Своим творениям принимать или отвергать Его. Святой Максим Исповедник говорит, что Бог может все сделать, кроме одного: Он не может заставить любить, потому что любовь — высшая и совершенная свобода. Вторая — воля противника, сатаны, сила разрушения, сила уничтожения. Сатана соблазняет обещаниями, Бог бросает нам вызов, призывая к величию. И между этими двумя волями, которые влекут в противоположные стороны, — воля человека, ему принадлежит страшное право сказать «да» или «нет» силе окончательного разрушения и силе совершенного и предельного исполнения. Внутри нас идет борьба, и вовне она налагает печать на наши дела, на встречи, на отношения, потому что наша внутренняя гармония, а вернее сказать, наша внутренняя дисгармония, неминуемо распространяется на все вокруг. Мы все стремимся к полноте, но если, вместо того, чтобы обратиться к Единственному, Кто может нас наполнить, — Богу — мы пытаемся обрести ее в чем-то другом, это стремление превращается в жадность и желание обладать. А жадность и желание обладать означают поглощение всего вокруг: нашего ближнего и того, что ему принадлежит. Вы, вероятно, помните отрывок из «Писем Баламута», где старый бес пишет своему племяннику: «Не пойму, что Враг (Врагом он называет Бога) имеет в виду, когда говорит, будто любит Свои создания. Он это заявляет и оставляет их свободными! Когда я говорю, что люблю тебя, это означает: я хочу захватить тебя, завладеть тобой, проглотить, переварить тебя, чтобы вне меня от тебя ничего не осталось» [5] . Вот как мы обращаемся с жизнью вокруг; быть может, не столь грубо, как старый бес, но с той же жестокостью, хотя и с меньшим пониманием того, что делаем. Если мы ищем источник полноты не в Боге, то им становится наш ближний или все, что может дать земля, и тогда наш поиск оборачивается жадностью, агрессией, собственничеством и в конечном итоге разрушением ближнего или окружающего нас мира.
Я не хочу сейчас обсуждать охрану среды или экологию, потому что и из отношений между людьми совершенно очевидно, как мы порой разрушаем друг друга так называемой «любовью». Как часто те, кого, как нам представляется, мы любим, сказали бы: «Люби меня меньше, но дай мне дышать! Я в плену, твоя любовь разрушительна!». А ведь существует другая любовь, любовь, которая не разрушает, любовь-свобода, свобода того, кто любит, и того, кто любим, а не жертва любви.
Поэтому нам необходимо сознавать: в нас идет борьба, война, мы несем в себе конфликт, который можно преодолеть только так, как это произошло в Воплощении, когда Бог и человек соединились в личности Иисуса Христа, когда две воли сошлись, две природы сошлись и, благодаря взаимной любви, взаимному доверию, взаимной самоотдаче, гармония установилась в совершенной Личности, Которая являет нам Бога, с одной стороны, и величие человека — с другой. Нет иного способа преодолеть внутренний конфликт кроме как уподобившись Христу, приобщившись к Божественной жизни, к Божественной природе путем трудной, беспощадной борьбы с тем, что в нас неладного и ущербного.
Вот что мне хотелось сказать об этой стороне вещей. Я с этого начал, потому что намеревался как бы освободить слова «насилие» и «конфликт» от исключительно негативных ассоциаций, которые очевидны, просты. Если мы осознаем, что конфликт может стать созидательным, когда он коренится в любви, в самоотдаче, в любви крестной, жертвенной, то положение изменится. Если в таком духе подходить к конфликтам, то можно попытаться действовать творчески, и тогда конфликт, ненависть, агрессия потеряют свою разрушительную силу. Я приведу несколько примеров из своего опыта — не то, кем я был или что делал, а примеры людей, которых знал и с которыми встречался.
Не так давно умер один священник, монах примерно моего возраста. Я познакомился с ним лет десять назад, вскоре после его возвращения из концентрационного лагеря, в котором он провел 36 лет. 36 лет для многих из вас — вся жизнь, это очень большой срок. Он сидел на кушетке и, глядя ликующими, сияющими благодарностью глазами, говорил: «Представляете, как Бог был милостив ко мне? Советские власти не допускали священников ни в тюрьмы, ни в лагеря. И Он выбрал меня, неопытного молодого священника, и заключил сперва на несколько лет в тюрьму, затем на оставшийся срок в лагерь, и так в течение 36 лет, чтобы я мог служить людям, которые действительно нуждались в Нем и в Его слове». Вот что такое внутренняя устойчивость и преодоленный конфликт: этот священник примирился с Богом, обнаружил, что воля Божия мудра, что дела Божии — милосердие, сострадание и любовь, что раз он — христианин, его место там, где пребывал бы Господь Иисус Христос, и он принял это с благодарностью.
Второй пример: мой друг, лет на двадцать старше меня. Во время войны он участвовал во французском Сопротивлении, его арестовали, посадили в концентрационный лагерь. Четыре года спустя, после освобождения Парижа и окончания войны во Франции, я встретил его на улице и спросил: «Что вы принесли из лагеря?». Его ответ был: «Тревогу». Я знал его как человека большой силы духа и того, что можно назвать чрезвычайной твердостью характера. Он был жестким, трудным человеком. Я спросил: «Вы потеряли веру в лагере?». Он ответил: «Нет, веру я не потерял. Но видишь ли, пока я был в лагере и подвергался насилию, жестокости, изо дня в день находился под угрозой смерти и пыток, я мог обратиться к Богу и сказать: Господи, прости им, они не знают, что творят! — и я знал: Бог слышит мою молитву, потому что она доносится с самого дна, из глубины агонии, страдания, подлинного страдания (потому что и без пыток и казней концентрационный лагерь — место предельного страдания, морального и физического). А теперь, — продолжал он, — я на свободе, и я не уверен, что люди, которые нас мучили таким ужасным образом, раскаялись, осознали, что они творили, и сожалеют об этом. Но когда я прошу Бога их простить, слышит ли Он меня, живущего в покое и безопасности? Мне нечем доказать подлинность, искренность моей молитвы». Вот пример человека, в котором конфликт расцвел жертвенной любовью; человека, который, оказавшись в сердцевине конфликта, стал средоточием спокойствия и непоколебимой уверенности.
Третий пример: женщина, работавшая с этим моим другом, русская монахиня. Ее тоже арестовали за участие в Сопротивлении и укрывательство евреев и посадили в концентрационный лагерь. Однажды группу узниц этого лагеря вызвали для отправки в газовую камеру, и одна из них, девушка лет 19, стала биться в отчаянии и ужасе. Мать Мария подошла к ней и сказала: «Не бойся, последнее слово не за смертью, а за жизнью. Бояться нечего». И девушка спросила: «Почему я должна вам верить?». И мать Мария ей ответила: «Потому что я пойду с тобой», и вместе с этими женщинами вошла в газовую камеру и умерла с ними. Мне об этом стало известно от другой узницы, которая там присутствовала. Она рассказывала, что больше никогда не видела людей, идущих на смерть так, как идут к победе, и все потому что мать Мария вступила в ситуацию насилия, конфликта, жестокости со своей внутренней устойчивостью.
И если хотите пример из Священного Писания, вспомните рассказ о Христе, как Он идет по водам Генисаретского озера среди бури. Ученики Его видят, волны бьются, Петр тонет, а в самой сердцевине бури, в средоточии бушующей стихии, — Господь Иисус Христос в совершенном покое, с совершенной Своей гармонией. Он в эпицентре бури, потому что Он в той же мере — Владыка бури, в какой Владыка покоя, не в том смысле, что Он хочет бури, а в том, что правит ею; и мы сможем справляться с бурями, если будем с Ним. За пять лет работы хирургом во французской армии и в Сопротивлении я не раз был свидетелем того, как людям это удавалось. Мне на опыте довелось убедиться, каким человек способен стать, если у него имеется не просто выправка, но внутренняя устойчивость и уверенность, которые обретаются в приобщении к Богу и в жертвенной любви.
У насилия есть еще одна сторона, о которой я хочу сказать нечто, не относящееся к тому, о чем только что говорил. Мы всегда думаем о насилии в категориях войны, вооруженных конфликтов, чрезвычайных событий и не отдаем себе отчет в том, сколько насилия, сколько агрессии в повседневной жизни. Поэтому прежде чем рассуждать об ужасах грандиозных конфликтов, таких как война, заказные убийства, терроризм, необходимо осознать, насколько вездесуще насилие в обыденной жизни.
Я уже говорил об агрессивности любви, о сладком, удушающем, убийственном насилии во имя любви, когда человека можно сломать, прикрываясь словами: «Я люблю тебя и лучше знаю, что тебе на пользу. Я знаю, как сделать тебя счастливым, ты еще слишком неопытен, молод, чтобы решать самому. Мне виднее, потому что я мудрее. Я научу тебя быть счастливым». Посмотрите на семьи — свою собственную и своих товарищей, — и вы увидите, как часто такое встречается. Это и есть насилие, то есть посягательство на цельность человека, ситуация, когда взгляды внушаются, когда более опытный, развитый, красноречивый, искусный человек стремится навязать другому свои представления о мире, свою точку зрения и суждения или принудить его действовать или бездействовать тем или иным образом.
Насилие присутствует в разнообразных способах эмоционального шантажа. Задумывались ли вы когда-нибудь, какой ужас для ребенка услышать: «Будешь плохо себя вести — не буду тебя любить»? Это означает, что любовь не бесплатна. На нее нельзя положиться, она — не прочное основание, на которое можно опереться, она условна, ее можно купить, и купить уродливой ценой хорошего поведения. Причем, что хорошо — решают родители, учитель или начальник, а цена страшна и в то же время мелка, потому что означает просто покорность и раболепство.
Другой пример эмоционального шантажа — голодная забастовка. Она нацелена не на что иное, как на эмоции. Шантажом является освещение военных событий при посредстве вызывающих ужас картин: раненых детей и женщин в госпиталях. Существует целый арсенал методов эмоционального шантажа, с помощью которых пресса и телевидение, проповедники и политики или просто люди в семьях играют на нервах и воздействуют на психику. Я не пытаюсь оправдывать войны, убийства или терроризм, но хочу показать, что в том, как их представляют, присутствует элемент эмоционального шантажа, который в некотором смысле хуже шантажа прошлым, потому что с прошлым можно расквитаться. Я знаю одного священника в советской России, который в определенный момент своей жизни повел себя недостойно. Его вызвали в КГБ и сказали: «Ты выступишь против Церкви, сделаешь публичное заявление, что больше не веришь в Бога, что проповедовал ложь, что правда на нашей стороне, а не то мы тебя ославим». В следующее воскресенье он вышел к народу во время службы и сказал: «Меня вызывали в КГБ и поставили перед выбором. Я хочу все сам рассказать: вот как я когда-то поступил. Можете меня или принять, или отвергнуть». И весь приход его единодушно принял. Так что выход есть — в честности и цельности.
Насилие зачастую чинится будто бы во имя ненасилия: христианский или иной фанатизм. Я упомянул христианский фанатизм потому, что это — наш грех, и нам следует заняться бревном в собственном глазу. Взять, к примеру, нашу всегдашнюю готовность кого-то осуждать; кого — найдется, у нас у всех есть излюбленная жертва. Кто-то из нас, быть может, готов примириться с тем или иным направлением христианства или гуманизма, или религии, или атеизма, но на что все вместе мы готовы — это на агрессию и на осуждение.
Если фанатизм основывается не на утверждении, а на отрицании, он тоже превращается в род агрессии. Приведу вам еще пример из нашего православного опыта, чтобы никого из вас не обижать, а говорить только себе в укор. У нас был выдающийся миссионер в Китае. Однажды он прибыл на гору Афон, встретился со старцем по имени Силуан и пожаловался ему: «Знаете, китайцы совершенно безнадежны. Я столько лет потратил, стараясь их обратить, и мне ни разу не удалось уговорить их принять христианство». И старец Силуан его спросил: «А что ты для этого делаешь?» — «Я прихожу в капище, собираю их вокруг себя и говорю: „Посмотрите: вокруг вас идолы, они глухие и слепые. Я буду проповедовать вам Живого Бога, выбросьте идолы, разбейте их на куски и следуйте за мной”». И Силуан его спросил: «И что с тобой бывает, отче?» — «Меня бьют и выбрасывают вон, вместо того, чтобы слушать!». Силуан ему говорит: «Разумеется, так бы каждый поступил». — «Что же мне делать?», — спросил миссионер. «А ты приди и сядь на ступеньках их храма, вызови одного из служителей или кто там окажется, и скажи: „Вы создали цивилизацию, которая так прекрасна, ваши храмы замечательно красивы. Расскажите мне, в чем ваша вера”. И слушай, а когда заметишь нечто созвучное христианству, скажи: „Как прекрасно, как верно то, что вы говорите! Но если к этому нечто добавить, то оно расцветет в совершенство”, — и прибавь нечто из своей веры. И так окажется, что ты помог им подняться над собой, не отвергая самое прекрасное, значительное и святое в их опыте, от чего они не могут отречься, не отрекшись от самих себя». И это чрезвычайно важно, потому что бывает и такая агрессия — «ради Христа».
Помнится, как-то группа пятидесятников мне сказала: «Вы — не христианин, потому что не говорите языками». Да, я не говорю языками и вполне готов признать: христианин я плохой, но вовсе не по той причине, которую они назвали, а это совсем другое дело. Совершенно искренне признаю: мне, вероятно, еще далеко до того, чтобы стать христианином, но не потому, что не приобрел дара языков. Очень многое должно совершиться, прежде чем нечто подобное произойдет с человеком, поэтому нам лучше сосредоточить внимание на простых и повседневных вещах.
Мне вспоминается, как яростно на меня однажды напал молодой человек, который был пацифистом, за то, что я таковым не являюсь. Он разорвал бы меня на куски, он убил бы меня: как я смею! Вот как это было: я проводил говение для оксфордских студентов где-то за городом. После первой беседы ко мне подошел молодой человек и сказал: «Владыка, я покидаю ваше говение, потому что вы — не христианин». Я сказал: «Пожалуйста, уйти — ваше право, но у вас есть передо мной обязательство. Если я не христианин, вы должны меня наставить на путь истинный». Он говорит: «Хорошо. Вы — не пацифист и поэтому не христианин». — «А вы — пацифист?» — «Да». — «И не прибегнете ни к какой форме насилия, никогда, ни в какой ситуации?» — «Нет». Я сказал: «Представьте, что вы входите в эту комнату и видите, как хулиган собирается изнасиловать вашу невесту. Как вы поступите?» — «Я к нему обращусь и постараюсь убедить этого не делать». — «Предположим, он не станет слушать; что вы сделаете?» — «Я опущусь на колени и буду молить Бога вступиться», — он не уточнил, каким образом: пошлет ли Бог ангелов или кого-то еще, кто не пацифист. Тогда я говорю: «Предположим, пока вы речь держите и молитесь, он насилует вашу невесту, встает и довольный уходит. Какие ваши действия?» — «Я попрошу Бога, Который из тьмы сотворил свет, обратить зло в добро». Увы, мой ответ был (и вам уже известно, что я плохой христианин или вовсе не христианин): «В таком случае, если бы я был вашей невестой, я поискал бы себе другого жениха».
Знаете, легко отрицать насилие вообще, но приходит момент, когда мы вынуждены поставить перед собой вопрос: то, что я собираюсь сделать, — насилие или отпор? Вправе ли я дать отпор насильнику ценой риска или правильнее позволить насилию безудержно распространяться? Допустимо ли предоставлять все права преступнику и отказывать в них жертве? Недостаточно решить для себя: «В своих действиях я дойду до такого-то предела и на этом остановлюсь», потому что заранее нельзя рассчитать, как далеко придется зайти… Еще одна позорная для меня история, и я закончу свою беседу.
Помнится, как-то около часа ночи я услышал на улице крики. Я вскочил с постели, выглянул в окно и увидел, как какой-то юнец выхватывает у девушки сумочку и кидается прочь, пока она зовет на помощь. Вы уже знаете, что я — поборник военных действий, поэтому я выбежал из комнаты, схватил палку и бросился за вором с твердым намерением вернуть сумочку. Но вор оказался проворнее меня и быстро удирал. Вдруг из-за угла появилась рослая, крепкая дама, моментально сообразила, что происходит, влепила вору пощечину, отобрала сумочку и направилась к девушке, пока вор с воем уносил ноги. В этой ситуации противоречат ли мое намерение помочь девушке и насилие, учиненное рослой дамой, моральной цельности или нет?
Поэтому я уверен, что в каждом случае нам необходимо разобраться, что стоит за нашими действиями. Недостаточно просто сказать: насилие — зло, агрессия — зло. Это верно, но, столкнувшись с насилием лицом к лицу, сказать, что агрессия — зло, все равно, что решить для себя: «Я — созерцатель, я — сторонний наблюдатель, я вмешиваться не собираюсь».
Нам все время приходится принимать решения, именно это делает жизнь такой трудной, и каждое решение, каждый выбор, в некотором смысле, вовлекает нас в сердцевину конфликта, другого не дано. Если мы сами — объект насилия, все просто: мы можем согласиться на то, что нас уничтожат. В Сибири жило племя, которое восприняло буддизм целостно, и в течение 50 лет они полностью были стерты с лица земли, потому что избрали непротивление насилию, и соседи не только стали их притеснять, но совершенно уничтожили. Подобный выбор можно сделать для себя, но вправе ли мы принудить кого-то стать жертвой насилия, несправедливости, жестокости, будь то ребенок или взрослый или группа людей, просто потому, что не готовы взять на себя ответственность за уродство создавшегося положения?
Я закончу свою беседу еще одной русской историей. Святитель Николай пользуется у русских особенной любовью, и одна из причин, почему его любят: он не похож на бесплотный дух, с которым не чувствуешь ничего общего, а некто вполне реальный. Я расскажу, как в России объясняют, что его день празднуют дважды в год, тогда как день преподобного Иоанна Кассиана — раз в четыре года, 29 февраля.
Святитель Николай и преподобный Иоанн Кассиан посетили землю. По причинам, известным только им самим, временем своего посещения они выбрали осень, а местом — Россию, когда вся страна утопает в грязи. Но, будучи святыми, они парили над землей и не запачкали даже подошв. Вдруг они увидели крестьянина с повозкой и лошадьми, глубоко завязшего в канаве. Святитель Николай обратился к Кассиану: «Слушай, давай поможем ему». Преподобный Кассиан оглядел себя и сказал: «А как же наши белые небесные одеяния? Они испачкаются». Николай пожал плечами, нырнул в грязь, подтолкнул; лошадь, повозка, крестьянин выбрались и двинулись восвояси, а святые вернулись в рай. Когда они прибыли, Господь посмотрел на них и спросил: «Николай, ты где был?» — «На земле, с Кассианом». — «Но почему ты такой грязный?» — Николай рассказал: «Знаешь, вот как было дело». «А ты, Кассиан, как случилось, что ты такой чистый?» — Преподобный Кассиан ответил: «О, я думал только о небесном». «Вот как! — сказал Господь. — Хорошо, в таком случае, пусть Николая вспоминают дважды в год, а твой день будет приходиться на 29 февраля».
sub Ответы на вопросы /sub
Одно из крайних проявлений насилия в глобальном масштабе — терроризм. Как, по Вашему мнению, можно ли справиться с проблемой международного терроризма? Не кажется ли Вам, что меры, предпринимаемые международным сообществом (ООН), заводят в тупик?
Против международного терроризма серьезных мер не предпринималось, и он постепенно, шаг за шагом, приобрел чрезвычайно агрессивный, жестокий и практически всеобщий характер. Мне думается, одна из причин, почему меры не принимались и не принимаются до сих пор: тех, кого одни называют террористами, другие считают борцами за свободу, поэтому то с одной, то с другой стороны постоянно раздаются протесты против любых действий, способных остановить терроризм. Я, может быть, обнаружу свою ограниченность и дикость, но если бы вместо того, чтобы рассуждать о терроризме политическом или еще каком-то, говорить об убийствах , не задаваясь вопросом о мотивах, и карать убийство смертной казнью или пожизненным заключением, невзирая на лица, то есть не выясняя, кто ты, что отстаиваешь, каковы твои убеждения: ты убил, вот и все, — терроризм в мире пошел бы на убыль, потому что очень немногие готовы на пожизненное лишение свободы или на смертную казнь ради своих убеждений. Большинство идут на риск потому, что надеются избежать ответственности, как писал французский писатель Рабле: «Я готов стоять за свои убеждения вплоть до повешения — исключительно» [6] , иначе говоря, до того момента, как повешение станет реальной угрозой.
Какой выход из теперешней ситуации? [7]
Знаете, 51 статью [8] спрягают все кому не лень, и одна из претензий, которую предъявляют Америке, состоит в том, что ответный удар может быть только незамедлительным и пропорциональным по силе. Но если применить этот принцип к терроризму, то он будет означать «око за око, зуб за зуб» и выльется в акты индивидуального террора на территории страны — рассадника терроризма или в отношении граждан этой страны, что не является решением проблемы. Поэтому, когда речь идет о державах, вовлеченных в подготовку террористов и террористических актов, я вполне понимаю позицию Рейгана, который говорит: «Мы не готовы отвечать убийством на убийство, но готовы действовать на уровне межгосударственных отношений». Но это — моя личная реакция на создавшееся положение: я бы полностью поддержал действия Рейгана и полностью поддержал бы линию Маргарет Тэтчер [9] .
Не кажется ли Вам, что для решения проблемы терроризма необходимы выработка совместных решений и скоординированные действия на уровне международных организаций? Если каждая отдельная пострадавшая от терроризма держава будет наносить ответные удары, то это приведет только к дальнейшей дестабилизации обстановки в мире.
Да, я бы предпочел (хотя это абсолютно нереалистично), чтобы ООН, Европейский Совет и все подобные международные организации нашли в себе мужество действовать, вместо того, чтобы рассуждать и колебаться. Но раз они этого не делают, я не вижу другого выхода, как брать инициативу в свои руки. Взять, к примеру, войну между Израилем и Ливаном [10] : между ними разместили миротворческий контингент. Предполагалось, что сражаться он не будет ни на чьей стороне, а просто расположится между враждующими странами и не позволит нарушать границу. И что произошло? Израиль и Ливан стали перестреливаться через его голову из своих орудий! Это — насмешка, а не наведение порядка в мире. Если международные организации, назначение которых — активно защищать мир, бездействуют, что можно предпринять? Отвечать ударом на удар — плохой выход, но в противном случае придется признать за преступниками право на произвол, а остальным согласиться на роль жертв или пассивных наблюдателей.
Нельзя забывать, что террористические атаки, как и все негативные явления, имеют свою подоплеку и призваны привлечь внимание к тем причинам, которые лежат в их основе. Не кажется ли Вам, что шаги, предпринимаемые Америкой, только нагнетают обстановку в мире?
Да, я согласен, что все неладное имеет свои причины. В определенном смысле стоило бы призвать к ответу Адама и Еву и сказать им: «Это ваша вина». Но если не заходить так далеко, тот факт, что у всякой вещи есть своя предыстория, не делает их законными. То же самое относится к уголовному праву: тот факт, что кто-то затаил личную обиду, или принадлежит к определенной группе людей, или имеет плохую наследственность, не дает нам права, взвесив обстоятельства, сказать: «Ладно, раз так, ты свободен. Нам понятно, почему ты убил своего ребенка или лишил жизни такого-то человека, совершил поджог, изнасиловал девушку и т. д.». Тот факт, что причина известна, я уверен, не позволяет просто проигнорировать преступление или поступок. Решат ли шаги, предпринятые Америкой, проблему или нет, будет ли нарастать напряженность или нет, я не знаю, но уверен, что нельзя просто сказать: «Мы ничего предпринимать не будем, потому что неизвестно, к чему приведут наши действия».
Военные действия, предпринимаемые против стран, ответственных за подготовку террористов и террористических атак, приводят к гибели мирного населения. Их можно сравнить с вооруженной атакой на многоквартирный дом, в котором живет убийца. Можно ли такими мерами достичь снижения террористической опасности? Вряд ли можно что-то достичь такими мерами.
Разумеется, я не могу предсказать, будет ли что-то достигнуто или нет, но я не согласен с вашим сравнением террориста с убийцей, живущим в многоквартирном доме. Если многоквартирный дом как сообщество принял убийство за норму поведения, мое мнение: ответственность лежит на всех жильцах.
Избежать того, что чудовищным образом зовется «сопутствующим ущербом» бомбардировок, невозможно. Тут ничего не попишешь. Вопрос в том, чтобы найти баланс между тем, что делать необходимо, и тем, чего делать нельзя. Знаете, я был хирургом в течение пяти лет на войне, да и не только на войне, — и в мирное время в хирургии приходится совершать немыслимые действия: отрезать ноги, перекраивать безнадежно обезображенные лица и делать массу другого, на что без крайней необходимости никто бы не согласился. Никому не придет в голову отнимать руку или ногу у здорового человека, но бывают ситуации, в которых это — единственный выход.
Во многих случаях сложно различить, где мы даем отпор агрессору, а где сами совершаем насилие под видом восстановления справедливости. Взять, к примеру, ситуацию в Никарагуа: поддержка США контрас, которые с их точки зрения выступают в роли оппозиции насилию, в реальности только приводит к противостоянию двух лагерей, с помощью того же насилия отстаивающих свои собственные интересы [11] .
Признаюсь, для меня это тоже проблема. Мне думается, выработать единое правило невозможно. Ситуацию необходимо сначала оценить, и только потом можно сказать: это — насилие, а это — нет. Это относится к положению в Никарагуа, но еще в большей степени к тому, что сейчас представляет собой Восточная Европа, где не просто два противоборствующих лагеря отстаивают свои интересы насильственным путем [12] . Там ситуация гораздо сложнее, потому что принцип насилия утверждается сразу на нескольких уровнях. Можно приказать людям: «Найдите способ сосуществовать мирно», но что делать, если они откажутся? Поэтому, я думаю, в любой ситуации, в любой части света, при любом режиме мы упускаем из виду, что необходимо больше обращать внимание на агрессора, а не только на жертву. К примеру, что мы видим в Центральной Америке (я предупреждал, что ничего не смыслю в политике, поэтому говорю из глубины своего незнания): те же священники, у которых не хватило духа отлучить от Церкви угнетателей, за то, что они угнетают, нашли в себе решимость примкнуть к вооруженным повстанцам! Мне кажется (я говорю не от имени Церкви, а просто высказываю личное мнение), если бы Папа сделал заявление, что всякий, кто виновен в убийствах и терроризме, отлучается от Церкви, убийств стало бы меньше, но он такого заявления не делает. И мы поступаем так же, потому что в Англии ни вы, ни я не готовы сказать богатым: «Вы воры, потому что имеете больше, чем вам нужно, в то время как другие лишены необходимого». Мы предпочитаем оказывать помощь неимущим, потому что помогать неимущим легче, чем выступать против притеснителей.
Помнится, Ф. Бухман, основатель Оксфордского движения [13] , которое позже преобразовалось в Движение морального перевооружения, в ранние годы говорил, что обращается к богатым потому, что перед ними тоже стоит вопрос о спасении. Мне кажется, нам, христианам, — не важно, духовенству или мирянам, — необходимо обратиться к тем, чье вмешательство способно спасти положение, и сказать им: «Вы — преступники. С точки зрения Церкви вас надо отлучить. Вы права не имеете причащаться и называться учениками Христовыми, пока допускаете, чтобы кто-то умирал с голоду». Такой подход мог бы коренным образом изменить ситуацию, но, увы, редко срабатывает. Пример: в одном греческом приходе в Англии молодой священник разнес в громоподобной проповеди своих богатых прихожан, назвав их ворами на том основании, что киприоты бедствуют, пока те купаются в роскоши. Так вот: через пару недель или месяц его сняли с прихода и отослали в греческий приход на Кипр. Он вернулся епископом и приобрел неприкосновенность, но факт остается фактом.
Как сбалансировано подойти к проблеме воздаяния за преступления?
На это я скажу две вещи: первая — цитата не из Ветхого или Нового Завета, а из романа французского писателя Виктора Гюго: «Судья одновременно больше и меньше, чем человек. Он больше, чем человек, потому что обладает правом судить, которое принадлежит одному только Богу; и меньше, чем человек, потому что не имеет права поддаваться естественному чувству сострадания» [14] . Я думаю, речь должна идти не об ответных мерах, в том виде, в каком они понимаются сейчас, а об органе ООН или о другой международной организации, которая сможет взять на себя функции суда и действовать так же, как действует судья, приговаривая убийцу к пожизненному заключению или, в ряде стран, к смертной казни. Это первое.
Второе: тот, кто решился стать террористом или объявить войну властям, должен приготовиться безропотно заплатить за свое решение. Помню, когда я вступил во французское Сопротивление, у нас с мамой был разговор, и мы поклялись в двух вещах: во-первых, если одного из нас поймают и будут пытать в присутствии другого, ни тот ни другой не выдаст никого и ничего. И второе, в чем мы поклялись: что бы ни сделали с одним из нас, никогда не ненавидеть тех, кто это сделал. И мне кажется, подобный подход в сочетании с формированием законного органа, который был бы наделен правом судить и выносить приговоры (о чем я говорил выше), стали бы залогом сбалансированной ситуации. Сейчас о балансе говорить не приходится из-за робости, трусости, подозрительности всего североевропейского общества по отношению к решительным и целенаправленным действиям. Причин для такого настроения множество: коммерческие интересы, прошлые обязательства, старые связи и т. д., но факт остается фактом.
Христианство делает акцент на ценности страдания. Тяжелые испытания способствуют созреванию личности и нации, обретению внутренней устойчивости и способности принимать мудрые решения.
Я не считаю, что страдание — готовое средство для обретения внутреннего покоя. Страдание может сломать человека, а может закалить, но это не происходит как бы механически. На самом примитивном уровне, из того, что мне пришлось пережить в восьмилетнем возрасте, я вынес убеждение, что каждый встречный — потенциальная опасность и враг, человеческое общество, начиная с мальчиков и кончая взрослыми, — джунгли, закон выживания — стать полностью бесчувственным и непреклонным. Вот с чего я начал. Вы вправе сказать: чего стоят твои детские переживания в сравнении с настоящим страданием? Все, что я могу ответить: большего я бы не вынес. И только когда я встретил Бога в пятнадцатилетнем возрасте, положение радикально изменилось, потому что мне открылся совершенно иной подход. Помню, как это произошло. Я читал Евангелие, за которое принялся, чтобы убедиться, что это — чепуха, и в нем нет ничего путного, и набрел на отрывок, в котором говорится, что Бог изливает Свой свет на добрых и на злых. Я откинулся на стуле и подумал: «Значит Бог любит Свои создания, и люди, которые ненавидят и мучают меня, Ему д о роги. Если я хочу быть с Ним, я должен принять их и полюбить». И помню, как вышел из дома, сел в поезд, чтобы доехать из нашего пригорода до школы, и, глядя на окружающих меня людей, подумал: «И они не знают, что Бог их любит! Что бы они теперь со мной ни делали, я не смогу их возненавидеть». Это стало для меня поворотным моментом, а не страдание как таковое.
С другой стороны, внутренняя устойчивость, то есть состояние, в котором мы обретаем подлинное равновесие, — зависит от того, в каких отношениях мы находимся с Богом или, если нам непривычно называть Его этим именем, в каких мы отношениях с людьми, насколько способны к отзывчивости и самоотдаче. Среди неверующих, то есть тех, кто воображает, что не верит в Бога, есть люди, которые верят в человека с такой отзывчивостью, с такой чуткостью и с такой готовностью жертвовать собой! С этого все начинается, а не со страдания, потому что страдание порой ожесточает, порой порождает желание отплатить, отомстить. Мне это известно из собственного детства, это позорно, но это так.
Одна из самых больших проблем — учет интересов всех сторон… Мне представляется крайне сложным увидеть проблему с точки зрения жертвы агрессии, поэтому наши действия так часто не только не способствуют разрешению ситуации, но усугубляют ее. В большой мере это касается отношений между людьми: люди разучились понимать друг друга.
Попробую ответить на ваш вопрос. Первое, что мне приходит на ум, — история, которую рассказала бабушка, когда мне было лет шесть. Темной ночью с поля боя доносится крик: «Лейтенант, лейтенант, я пленного взял». Лейтенант отзывается: «Веди его сюда». «Не могу, — отвечает солдат, — он меня слишком крепко держит». Знаете, в тот момент, как мы хватаем кого-то и пытаемся удержать, мы сами оказываемся в плену, и нас начинает одолевать чувство отвергнутости, потому что тот, кого мы держим, старается от нас избавиться. Как только человек, которого мы, сколько можем искренне, любим, начинает ощущать, что он в западне, его или ее реакция — вырваться.
И второй пример: одна наша прихожанка, которую я знаю лет 30, как-то пожаловалась: «Я так одинока, я не умею общаться с людьми. Когда я пытаюсь сойтись с ними, они от меня бегут. Как мне быть?». Я ей сказал: «Давай вместе попробуем. Мы пойдем к моим друзьям, и вот что ты сделаешь: сядешь рядом со мной на диван и не будешь пытаться ни с кем заговорить. Расположись поудобнее, смотри, стараясь в каждого вглядеться, слушай, стремясь каждого услышать, и ничего не говори». Она так и сделала: села, смотрела, слушала, вглядывалась, вникала, что представляют из себя эти люди, кто они; и люди постепенно стали с ней сближаться, потому что почувствовали, что она не опасна, она — не хищник, затаившийся и готовый напасть, а человек, который как бы их созерцал.
К этому прибавлю, что есть одна вещь, которой всем нам необходимо научиться, потому что она не дается легко и естественно: смотреть, с тем чтобы видеть, и слушать, с тем чтобы слышать. Нам это не удается, особенно духовенству. Если с нами кто-нибудь говорит, мы не слушаем, а готовим ответ, если нам кто-то встречается, мы едва бросаем на него оценивающий взгляд: «О, это Иван, а это Мария, отлично», — и проходим мимо. Могу привести вам пример. Как-то (я никого не обижу, потому что это было много лет назад) меня пригласили с докладом в университетскую часовню в Оксфорде. Я говорил о том, что такое встреча, и в частности, о проблеме не-видения и не-слышания. И настоятель или капеллан мне сказал: «Как, вы полагаете, я могу запомнить все лица? Студентов слишком много!». Я его спросил: «А несколько вы смогли бы запомнить?» — «Думаю, да». — «Вы женаты?» — «Да». — «Закройте глаза». Он закрыл. «Какого цвета глаза у вашей жены?». Он помолчал и ответил: «Не помню». Я сказал: «Вот именно. Пока вы были влюблены, вы, вероятно, сидели напротив и смотрели, смотрели, смотрели и ничего, кроме нее, не видели. Но потом вы поженились, и смотреть уже не было надобности: вы пошли по жизни вместе с ней, плечом к плечу, глядя вперед, и забыли, как она выглядит!». Мы должны научиться видеть , — и видеть, не сводя все к себе. Знаете, в зоологическом саду мы любуемся на пантеру или тигра и говорим: «Какие красавцы!», потому что между нами решетка и мы ощущаем себя в безопасности. Если бы те же звери встретились нам на улице, мы забрались бы на фонарный столб. Нам нужно научиться смотреть на людей без боязни, но и не примеряясь, как бы ими поживиться.
Не знаю, читаете ли вы Чарльза Уильямса [15] , но в одной книжке он пишет о девушке, Лестер, которая погибла в авиакатастрофе, когда самолет упал на мост Ватерлоо. Ее душа, покинув тело, бродит по городу и делает разные открытия. Вот она подходит к Темзе. Пока у нее было тело, она смотрела на Темзу с отвращением и видела в ней только грязную, мутную воду, городские отбросы, смываемые в море. И ее телесная реакция была: «О, только бы не погрузиться, не окунуться в эту реку! О, ни за что не стала бы пить эту отвратительную воду». Но теперь тела у нее нет, она смотрит на реку и видит ее такой, какова она на самом деле, — большая река, которая течет через большой город и несет все его отбросы. Лестер еще вглядывается и видит мощный слой грязной, отравленной воды, под ним слои все чище и чище, и в самой глубине — воды, которые создал Господь, а в их сердцевине — сверкающую, искрящуюся струю воды, которую Христос дал самарянке [16] .
И урок из этого такой: вступая в отношения, мы должны вглядываться в человека, воспринимать его и одновременно сознавать, что он существует не только по отношению к нам, для нас или нам вопреки; он — реальное лицо, если хотите, — образ Божий (но это — слишком сложный момент), он — личность, сама по себе являющаяся красотой, которую мы можем созерцать, и относиться так, как относятся к красоте. Когда мы смотрим на красивый пейзаж, мы не думаем о том, чтобы его присвоить, когда перед нами красивая картина, мы не пытаемся ее поглотить, а просто вглядываемся и воспринимаем. В тот момент, когда человек обнаруживает, что на него смотрят без всякой корысти, без жадности, без желания обладать, он открывается. Это то, в чем мне пришлось убедиться за многие годы из собственного опыта. Пятнадцать лет врачебной практики и 36 лет священства меня кое-чему научили.
Перевод с английского и примечания Е. Ю. Садовниковой под ред. Е. Л. Майданович. Переводчики благодарят А. С. Клебанову за критическое прочтение перевода.
[1] Антоний, митрополит Сурожский. Без записок. Примечания и подготовка текста Е. Майданович. Предисловие С. Аверинцева. — «Новый мир», 1991, № 1.
[2] Рапорт Архиепископу Кентерберийскому от 27 июня 1966 года о переговорах по поводу взаимоотношений с Православной церковью. Папка ненумерованных документов, относящихся к отношениям с Православной церковью OC file 235/1-4. Архив библиотеки Ламбетского Дворца (Lambeth Palace Library).
[3] Мф. 11 : 12.
[4] Ср. Рим. 7 : 19.
[5] Ср.: Льюис К. С. Письма Баламута. Расторжение брака. М., «Fazenda „Дом Надежды”», 2005, cтр. 105.
[6] Ср.: Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль». М., «Фирма Арт», 1993, стр. 262.
[7] 5 апреля 1986 года ливийские террористы взорвали бомбу в кафе «La Belle» в Западном Берлине. 15 апреля 1986 года США осуществили массированную бомбардировку столицы Ливии Триполи.
[8] Статья 51 Устава ООН (1945): «Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности. Меры, принятые Членами Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности».
[9] Владыка, вероятно, имеет в виду политическую линию Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер в ливано-израильском конфликте 1986 года.
[10] Масштабный ливано-израильский конфликт, начавшийся в 1982 году, привел к образованию «зоны безопасности» на границе двух стран, но спорадические вооруженные столкновения между Израилем и Ливаном не прекращались в течение многих лет.
[11] В 1980-е годы в Никарагуа шла гражданская война между правящими сандинистами, пришедшими к власти в результате свержения режима Сомосы и поддерживаемыми СССР и Кубой, и контрреволюционными силами контрас, получавшими помощь от США.
[12] Речь, вероятно, идет о противостоянии социалистического и капиталистического блоков и политике «мирного сосуществования».
[13] Бухман Фрэнк (1878 — 1961) — американский лютеранский священник, в проповеднической деятельности делал упор на призыв к моральному очищению. В 1921 году Бухман создал в Оксфордском университете студенческое «Братство первого века», выросшее к 1938 году в международную организацию и переименованное в «Движение морального перевооружения».
[14] Ср.: «Закон ясен. Судья больше и в то же время меньше, чем человек: он меньше, чем человек, ибо у него не должно быть сердца; и он больше, чем человек, ибо в руке его меч» (Гюго В. Собр. соч. в 15-ти томах. Девяносто третий год. М., «Государственное издательство художественной литературы», 1956, т. 11, стр. 370).
[15] Уильямс Чарльз (1886 — 1945), английский писатель, поэт, литературный критик, богослов. Был одним из членов кружка «инклингов», в который входили К. С. Льюис, Дж. Р. Р. Толкин и др. Речь идет о книге «Канун Дня Всех Святых» (Уильямс Ч. Канун Дня Всех Святых. М., АСТ, 2002).
[16] Ин. 4: 6 — 26.
Лидия Гинзбург: прорыв блокадного круга
Кобрин Кирилл Рафаилович родился в 1964 году в Горьком, окончил исторический факультет Горьковского государственного университета. Редактор журнала «Неприкосновенный запас» (Москва). Автор (и соавтор) 14 книг прозы и эссеистики. Активно публикуется в журнальной и сетевой периодике. Лауреат премии «Нового мира». Живет в Лондоне.
«Любопытно — к чему бы привело применение в современной русской
литературе системы, комбинирующей методы Толстого, Пруста и Шкловского...»
Лидия Гинзбург [1]
Своего рода увертюра [2]
Следует предупредить, что нижеследующий текст не посвящен собственно истории блокады Ленинграда. Автор, хотя и историк по образованию и склонностям, постарался исключить традиционную историческую сторону вопроса; исключены, в основном, и историко-литературная, и филологическая стороны. Речь пойдет об анализе — анализе текстов Лидии Гинзбург, посвященных блокаде и опубликованных при ее жизни [3] , — об анализе сознания, стоявшего за этими текстами. Особенность такого анализа заключается в том, что его объектом станет не только «сознание блокадного человека Лидии Гинзбург», но и анализ этого сознания, сделанный самой Гинзбург. Таким образом, «блокадное сознание» рассматривается как нечто отдельное и особое, ставшее объектом как внешней рефлексии, так и авторефлексии, которая совершалась во время блокады и долгие годы после нее. Только в этом смысле мы можем здесь говорить об «истории» — как об «истории сознания». Не следует забывать, что сам тип сознания Лидии Гинзбург жестко детерминирован исторически и поколенчески; это тип сознания «человека 20-х годов» в его, быть может, самом окончательном, логически доведенном до конца и максимально отрефлексированном проявлении [4] .
В центре внимания нижеследующего текста — еще одна (помимо «истории сознания») история: история создания, развития и кризиса ежедневных приватных ритуалов «блокадного человека». Эти ритуалы призваны были поддерживать биологическую жизнь блокадника, но по сути своей эти ритуалы — социальны. Для психики и сознания «блокадного человека» они сыграли не меньшую роль, нежели для физического выживания. Скажем точнее: ритуалы, превращавшиеся в рутину блокадной жизни, в социальный и бытовой автоматизм, «снимали» индивидуальное, «свое» физическое страдание (остроту этого страдания); «социальное», «культурное» (в широком смысле) вытесняло, заменяло «биологическое» в жизни человека, происходило, как пишет (по другому поводу) сама Гинзбург, «переключение физиологических ценностей в социальные» [5] . И здесь Лидия Гинзбург выступает во всем могуществе своего аналитического ума, ведь такого рода «вытеснение», «замена» и есть то, что с таким вниманием изучала она в своей эссеистике [6] .
«Блокадные тексты» Лидии Гинзбург будут здесь прочитаны сквозь призму «Войны и мира» Толстого. В этом нет ничего удивительного — «Записки блокадного человека» открываются фразой: «В годы войны люди жадно читали „Войну и мир”, — чтобы проверить себя (не Толстого, в чьей адекватности жизни никто не сомневался). И читающий говорил себе: так, значит, это я чувствую правильно. Значит, так оно и есть. Кто был в силах читать, жадно читал „Войну и мир” в блокадном Ленинграде». Что же это за «правильное» толстовское чувствование, которому старался соответствовать «блокадный человек»? Предположим, что речь прежде всего идет о чувстве границы страданий, чувстве бесконечного отодвигания этой границы, том самом, о котором размышляет Пьер Безухов во французском плену: «...он узнал еще новую утешительную истину — он узнал, что на свете нет ничего страшного. Он узнал, что так как нет положения, в котором бы человек был счастлив и вполне свободен, так и нет положения, в котором бы он был бы несчастлив и несвободен» [7] . «Блокадный человек» находится в положении экстремального несчастья и несвободы, но тем не менее он не считает, что это положение является окончательным, крайним; он инстинктивно отодвигает эту границу ценой неимоверных физических и — главное — моральных усилий, создавая систему повторяющихся действий, которая выводит его из-под действия «биологии», «физиологии» в сферу «социального». Выводит и тем самым спасает, ибо смерть имеет прямое отношение именно к биологии и физиологии. При этом, конечно, не следует забывать, что область «социального» не является областью «свободы»; «блокадный человек» реализует свою свободу только в одном — в том, что он выживает, а не умирает. Результат же этого усилия — выживание — тут же апроприируется «социальным»: если блокадник выживал, он тем самым делал вклад в победу над Гитлером. И это другая важнейшая толстовская тема «блокадной прозы» Лидии Гинзбург.
Тему эту можно обозначить примерно таким образом. У Толстого «народная война», «патриотический подъем» редуцируются к огромному количеству отдельных поведенческих феноменов, так или иначе вписанных в разного рода сословные, профессиональные, гендерные модели, представляющие собой налаженную систему социальных ритуалов. Именно на таком фоне поведение Пьера Безухова выглядит особенным, странным, невиданным доселе. Пьер ведет войну с Наполеоном один на один, в отличие, например, от Николая Ростова, который, даже отправившись за лошадями в мирную провинцию и развлекаясь там на балу, все-таки тем самым участвует в общем изгнании французов. Ростов не рефлексирует по этому поводу, он — знает , что это так. Толстой настаивает на этом: «Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью» [8] . Именно последнюю фразу Толстого и пытается опровергнуть своими «Записками» Лидия Гинзбург — и здесь толстовскую проблематику сменяет прустовская.
У Толстого все предопределено. Есть множество мелких причин, породивших, с его точки зрения, общее и неизбежное следствие — изгнание Наполеона из России. Механизм работы этой причинно-следственной связи у Толстого не совсем ясен; более того, в нем видится даже что-то буддийское: мир, состоящий из огромного, неисчислимого количества дхарм (говоря языком буддологии, «обусловленных» и «необусловленных»), существующих в одно и то же мгновение; дхарм, в которых только сознание созерцателя ретроспективно увидит «кармический эффект». Причинно-следственная концепция Толстого отдаленно напоминает то, как ряд буддийских школ понимают карму. У Толстого получается так, что следствие предшествует причинам, является их условием; точнее — условием того, что мы определяем некие события (ретроспективно определяем, как определяется и карма) в качестве «причин».
Лидия Гинзбург расходится с Толстым именно в этом пункте. Она тоже редуцирует «народную войну», «подвиг блокадников» к совокупности поступков отдельных людей, занятых выживанием. Привод, который заставляет эти колесики вертеться так, как надо для функционирования военно-государственной машины, — «социальный ритуал». Создавая (порой, воссоздавая в измененном виде довоенный) этот и другие ритуалы, выполняя их, доводя свое участие в них до автоматизма — вытесняя тем самым «биологическое», — блокадники побеждают Гитлера. В этой картине не хватает рефлексирующего субъекта, который, объективировав, анализирует себя, свое поведение в качестве «социального типа». Повествователь, говоря о себе в третьем лице, повествует лишь пока жив его герой; то есть он сам. Умрет герой-повествователь — умрет и повествование. Пока повествователь жив, он пишет, анализирует. Пока существую — анализирую. Но это уже следующий уровень свободы «блокадного человека», доступный лишь единицам. Наличие этих рефлексирующих «единиц» и составляет огромную разницу между подходами Толстого и Гинзбург и, быть может, огромную разницу между XIX веком и XX.
Другая, скрытая, кажется, даже намеренно спрятанная тема «Записок блокадного человека» — «остранение» [9] . «Остранение», по Виктору Шкловскому, выводит вещь из привычного ряда, чтобы пережить ее «делание», пережить ее саму как нечто новое. Переживание чего-либо как «нового» для «блокадного человека» — самое страшное, ибо оно губит его яркостью и свежестью страдания. Война, блокада вывели практически все вещи из привычных рядов, и они вышли из повиновения сознанию человека. «Блокадный человек» вынужден переживать каждую некогда привычную вещь. Этот апогей остранения приводит к гибели — и тела (из-за бесконечных лишних усилий, приводящих к истощению и без того истощенного дистрофией тела), и сознания (которое неспособно контролировать мир, состоящий из по-новому переживаемых старых вещей). Чтобы избежать гибели, «блокадный человек» максимально «ритуализирует», а потом (и тем самым) — «рутинизирует» [10] всю свою жизнь. Вещи либо возвращаются в свои привычные ряды, либо из них создаются новые; «блокадный человек» может выжить, лишь одолев остранение. И тут мы на мгновение возвращаемся к теме «истории» — истории культуры, истории литературы. «Записки блокадного человека» через Толстого — который в «Войне и мире» дал главный литературный материал для «теории остранения» — есть еще и жест внутреннего диалога и полемики со Шкловским. Диалога и полемики, которую Лидия Гинзбург не прекращала с начала тридцатых годов. Но история этого вопроса останется за рамками наших рассуждений [11] .
«Общее дело» vs. «персональная война»
В самом начале «Записок блокадного человека» Лидия Яковлевна Гинзбург пишет: «Толстой раз навсегда сказал о мужестве, о человеке, делающем общее дело народной войны. Он сказал и о том, что захваченные этим общим делом продолжают его даже непроизвольно, когда они, казалось бы, заняты решением своих собственных жизненных задач. Люди осажденного Ленинграда работали (пока могли) и спасали, если могли, от голодной гибели себя и своих близких». При декларируемой опоре «Записок» на «Войну и мир» Гинзбург интерпретирует толстовскую концепцию «народной войны» так, как ей это нужно для разворачивания собственного повествования о блокаде. Строго говоря, Толстой не писал о том, что люди «захваченные этим общим делом продолжают его даже непроизвольно, когда они, казалось бы, заняты решением своих собственных жизненных задач». Гинзбург приписывает здесь Толстому собственное гегельянство. У Толстого «общее дело», его направление и течение образуется из совокупности некоего «общего направления», которое принимает совокупный результат мириад частных действий. Каждое из этих действий представляет собой выполнение некоего набора социальных, бытовых ритуалов. Толстой как раз занимается скрупулезным изучением и анализом механизма превращения мириад частных ритуализированных действий в «общее дело». Оттого важным инструментом этого анализа становится в «Войне и мире» остранение — оно «вскрывает», «разритуализирует» ритуал, иначе анализ невозможен. «Записки блокадного человека» решают этот вопрос по-другому. Прежде всего, Гинзбург ставит себе совершенно иную задачу; «Записки» — принципиальное «кое-что» [12] , и уже этим они противопоставляются книге, которая хочет объять «все», книге, которая называется «Война и мир». «Записки блокадного человека» описывают только ритуалы частной (и далеко не всегда социальной) жизни блокадника, благодаря которым он (конкретный «он», «Эн») остался в живых. Связь с «общим делом» здесь проста — враг хочет убить всех ленинградцев, в том числе и его. Он не умирает, значит — вносит вклад в победу над врагом: «И в конечном счете это тоже нужно было делу войны, потому что наперекор врагу жил город, который враг хотел убить».
Такой подход вполне соответствует изменившемуся в XX веке характеру самой войны и отношению человека этого столетия к войне. Толстой не пишет, что главной целью Наполеона и его армии в 1812 году было «убить русских», или даже «убить всех русских». Точно так же идея «народной войны», замысел Кутузова был не «убить всех неприятелей», а «выгнать», «изгнать» их. Об истреблении французов говорит только Андрей Болконский: «Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть... я не брал бы пленных <...> Не брать пленных... это одно изменило бы всю войну... Не брать пленных, а убивать и идти на смерть!» [13] . Здесь Толстой предвидит «тотальные войны» XX столетия и реакцию на них интеллигента; реакцию, образец которой дал Эренбург с «Убей его!». Становясь тотальной, захватывая в свой ход всех и вся, война прошлого столетия меняет и отношение человека к себе. Это отношение редуцируется от религиозных или политических мотивов, от высот стратегии и «военного искусства» к простому «убить и не быть убитому самому». «Тотальная война», так же как тоталитарный режим, атомизирует человека, безжалостно разрушает привычные социальные связи и конвенции и требует от каждого участника самого простого — убить врага и как можно дольше самому избежать гибели. Несмотря на гигантские военные, политические, социальные и экономические конструкции, в которые вовлечен участник «тотальной войны», он, по сути дела, изолирован, отчужден от хода Большой Войны. В той точке, где находится он, нет ни стратегии, ни политики; есть только смерть, от которой следует защищаться, насылая ее на врага. Лидия Гинзбург войну воспринимает однозначно — как попытку убить ее лично и ее близких. Оставаясь в живых, ее герой выигрывает войну: «Портниха ламентирует, заказчица занята построением собственного образа, обе с вожделением говорят о дамах в ротондах, которым не нужны были руки. А все же нет у них несогласия с происходящим. Они лично могут жаловаться и уклоняться, но их критерии и оценки исторически правильны. Они знают, что надо так, потому что нельзя иначе. Их критерий: Гитлер — мерзавец, немец — враг и его надо уничтожить». Это рассуждение в том или ином виде, повторяется и в тексте «Вокруг „записок блокадного человека”»: «Конкретные носители величайшего зла, взявшие на себя его теоретическое обоснование, — стоят у ворот. Мы все хотим их убить; мы хотим убивать как можно больше, отнюдь не вдаваясь в подробности их человеческого существования». «Тотальная война» рождает «персональную войну», войну, так сказать, «один на один». Именно так хотел воевать с Наполеоном Пьер Безухов, но в начале XIX века это выглядело нелепостью, даже безумием — как, впрочем, и рассуждения Андрея Болконского. Интересно, что в XX веке этот крайний индивидуализм появляется в разгар двух самых страшных европейских коллективистских проектов — коммунизма и нацизма. Не исключено, что он есть не только порождение этих проектов, он — реакция на них.
Приватные механизмы и Большая Война
«Записки блокадного человека» начинаются фактически с описания того, как война, известие о войне вторгается в мирную жизнь и мгновенно обессмысливает все ее ритуалы и автоматизм. Трамваи продолжают ходить, гонорары — выплачиваться; однако в новой перспективе, в новой телеологии это уже не имеет значения. И здесь тоже — расхождение с Толстым. В «Войне и мире» война не мешает обычной жизни — до тех пор, пока люди не сталкиваются с ней непосредственно. Толстой посвящает этому целый пассаж: «В числе бесчисленных подразделений, которые можно сделать в явлениях жизни, можно подразделить их все на такие, в которых преобладает содержание, другие — в которых преобладает форма. К числу таковых, в противоположность деревенской, земской, губернской, даже московской жизни, можно отнести жизнь петербургскую, в особенности салонную. Эта жизнь неизменна» [14] . Петербургская, салонная жизнь не затронута войной, впрочем, точно так же не затронута ей и московская жизнь — до тех пор, пока неприятель не подходит слишком близко. Более того, Толстой противоречит себе сам, описывая позже жизнь провинции, в которую окунается Николай Ростов, приехавший в Воронеж в командировку: «Губернская жизнь в 1812 году была точно такая же, как и всегда, только с тою разницею, что в городе было оживленнее по случаю прибытия многих богатых семей из Москвы» [15] . Одним из инструментов тотального проникновения войны и разрушения мирного уклада жизни даже в тех местах, которые отделены от фронта сотнями километров, становится современная техника. Еще до того, как немецкие самолеты начали бомбить Ленинград, война пришла к ленинградцам (равно как и к горьковчанам, свердловчанам и владивостокцам) через репродуктор радиоприемника: «Образовалась новая действительность, небывалая, но и похожая на прежнюю в большей мере, чем это казалось возможным». Трамваи еще ходят, гонорары — выдают, а действительность — новая. И эта действительность — действительность сознания , которая уже потом, с началом бомбежек и голода, становится физической действительностью непосредственной близости смерти. Война, придя из репродуктора, обессмысливает ритуалы мирной жизни, а затем — вторично придя уже бомбами и физическими муками недоедания — легко разрушает их. «Враждебный мир смерти» приближается вплотную, и «блокадный человек», став таковым, ведет борьбу с этим миром на площадке своей частной жизни. Гинзбург посвящает свою книгу анализу механизмов этой борьбы и приводов, связывающих эти приватные механизмы с миром Большой Войны.
Прежде всего Лидия Гинзбург набрасывает очерк механизма «социальной поруки», которая связывала отдельных людей и общее дело войны, а затем — подробно рассматривает, как этот механизм работает в рамках семьи, в быту. Именно семья, быт стали площадкой столкновения человека с «враждебным миром», с хаосом, с биологическим уровнем жизни, чреватым смертью; впрочем, этот враг проникает и дальше: «Враждебный мир, наступая, выдвигает аванпосты. Ближайшим его аванпостом оказалось вдруг собственное тело». Фокус наводится здесь до одной точки, и точкой этой становится тело «блокадного человека». Но прежде чем начать анализировать, что происходит с телом, которое становится аванпостом «враждебного мира», попытаемся установить, кто же является тем самым главным врагом, с которым ведет тяжкую битву «блокадный человек».
Формально враг — немцы, но «блокадный человек» не видит их в лицо, он только сталкивается с последствиями их деятельности. Враг не персонифицирован; более того, враг, блокируя Ленинград, создает враждебный мир, аванпостом которого становится собственное тело блокадника. И вот уже на этом уровне все выглядит по-иному: враг — это смерть, являющаяся то в виде прилетевшей бомбы или снаряда, то — и это ужаснее — в виде отсутствия и исчезновения привычных сил, вещей и людей. Враг — истощение : собственного тела и всей окружающей жизни. Именно в ситуации истощения, исчезновения, дефицита возникает система новых защитных ритуалов, направленных, с одной стороны, на экономию и рационализацию того, что еще есть , а с другой — на заполнение той пустоты, которая возникает от этого истощения, оскудевания жизни, от ее редукции к простейшим функциям. Отсюда двойственность этих ритуалов: они усложняют , ибо не должны допустить фатального упрощения, редукции жизни к биологическому уровню (а значит, к смерти), с другой стороны — они способствуют экономии средств поддержания жизни и сил. Ничего лишнего. Это усложнение с помощью бритвы Оккама. В этом смысле очень показателен пассаж в «Записках» о том, как Эн, увидев после страшной зимы 1942 года, что в городе пустили трамваи, никак не мог решиться на них ездить: «окостеневшее бытие выталкивало новый элемент». Но сделав над собой усилие, он тут же превратился в горячего приверженца передвижения на трамваях: «В его рационализаторских размышлениях о быте это определялось как наименьшая затрата физических сил. На самом деле важнее было другое — так противно представить себе пространство, отделяющее от цели и которое шаг за шагом, терзаясь торопливостью, придется одолевать своим телом. Легче было ждать. <...> Поездка в трамвае — один из лучших, подъемных моментов дня. Это человек перехитрил враждебный хаос».
Конечно, враждебный хаос перехитрил не просто «человек», а его разум. Точно так же в первые, самые чудовищные месяцы блокады чаще выживали не опытные домохозяйки, которые, казалось бы, профессионально знали устройство быта, а интеллигенты, пытавшиеся тотально рационализировать стремительно оскудевавшую жизнь: «Особенно те самые интеллигенты, которые всю жизнь боялись притронуться к венику или кастрюле, считая, что это поставит под сомнение их мужские качества». «В период наибольшего истощения все стало ясно: сознание на себе тащит тело». И вот здесь начинается разговор о том, с чем именно сталкивается это героическое сознание «блокадного человека».
Главным оружием «истощения» является исчезновение автоматизма, то есть ритуализированных движений, ощущений, мыслей: «Автоматизм движения, его рефлекторность, его исконная корреляция с психическим импульсом — всего этого больше не было». Блокадный человек оказывался в ситуации остранения — и крайнее истощение было результатом страшной реализации теории Шкловского в жизни. Соответственно, «выжить» значило вернуть автоматизм; и сделать это можно лишь посредством ритуализации. Конечно, остранение страшно не как художественный прием — страшно остранение в жизни. Социальные механизмы, ритуалы, рутина отвлекают человека от смерти во всех ее проявлениях. Следуя отчасти за Паскалем с его идеей «отвлечения», Лидия Гинзбург еще в «Мысли, описавшей круг» писала о погребальном ритуале как о способе справиться не только с «невозможной идеей небытия», а и с «еще продолжающимся вещественным бытием мертвого тела». Для «блокадного человека» вещественное бытие своего еще живого, истощенного тела было значительно острее, чем идея небытия, которая из «невозможной» превратилась практически в неизбежную.
Главное остранение, которое происходит в жизни «блокадного человека», — остранение, отчуждение собственного тела: «В отчужденном теле совершается ряд гнусных процессов — перерождения, усыхания, распухания, непохожих на старую добрую болезнь, потому что совершающихся как бы над мертвой материей». Тело — «мертвая материя», ибо оно отчуждено от сознания и предоставлено самому себе. Предоставленное самому себе, оно страшно удивляет, поражает, шокирует человека, сведенного к одному сознанию. Сознание видит его «как впервые» и совершенно не понимает происходящих с телом метаморфоз: «Люди долго не знали, пухнут ли они, или поправляются». Невыносимый вид отчужденного, незнакомого, непонятного собственного тела порождает у «блокадного человека» панику: «Вдруг человек начинает понимать, что у него опухают десны. Он с ужасом трогает их языком, ощупывает пальцем. Особенно ночью он подолгу не может от них оторваться. Лежит и сосредоточенно чувствует что-то одеревенелое и осклизлое, особенно страшное своей безболезненностью: слой неживой материи у себя во рту». Именно здесь, на этом уровне начинается разрушение психики, ведущее к разрушению сознания. Распад автоматизма, являющийся следствием ситуации истощения, приводит к остранению тела от сознания, интенсивному переживанию сознанием тела с катастрофическими последствиями для них обоих.
Тело «исчезает» из вида сознания, чтобы, внезапно вернувшись, заявить о своей катастрофе. Метафорой этого процесса в «Записках» становится зимнее спанье «блокадного человека» в одежде: «Месяцами люди <...> спали не раздеваясь. Они потеряли из виду свое тело. Оно ушло в глубину, замурованное одеждой, и там, в глубине, изменялось, перерождалось. Человек знал, что оно становится страшным. <...> Самые жизнеспособные иногда мылись, меняли белье. Тогда уже нельзя было избежать встречи с телом. Человек присматривался к нему со злобным любопытством, одолевающим желание не знать. Оно было незнакомое, всякий раз с новыми провалами и углами, пятнистое и шершавое». Так перед «блокадным человеком» являлся аванпост враждебного мира, хаоса, в виде его собственного тела.
Конец автоматизма. Истощение
Точно так же, как и тело, от сознания остранились и вещи прошлой, мирной жизни. Они выпали как из социального ритуала, так и из бытового автоматизма и полностью потеряли всякий смысл: «Зимой в распоясавшемся хаосе казалось, что ваза и даже книжные полки — нечто вроде Поганкиных палат или развалин Колизея, что они уже никогда не будут иметь практического значения (вот почему не жалко было ломать и рубить)». И это неудивительно: смысл вещей — в их включенности в жизнь, упорядоченную сознанием, то есть в ту, частью которой сознание является. Социальный ритуал и порожденный им автоматизм, рутина — единственный в человеческом обществе социокультурный инструмент упорядочивания жизни, состоящей из бесконечного количества разнообразных феноменов (или, как сказал бы буддийский философ, «дхарм»). Он отличается от условных и безусловных рефлексов у животных тем, что порожден сознанием , которое как бы «запускает» его механизм, чтобы освободить себя от бесконечного (и изнурительного) узнавания новых и новых вещей и действий. Сознание присутствует даже в максимально автоматизированной, рутинизированной деятельности — в качестве контролера. Именно туда поступает сигнал в том случае, если что-то происходит не так, если происходит остранение и некая вещь выбивается из назначенного ей ряда. Отпадение, остранение вещей и тела от сознания в результате распада ритуала, рутины, автоматизма приводит к тому, что человек редуцируется до животного, биологического уровня; до уровня тела, функционирующего как бы «само по себе», «естественно». Сознание меж тем гибнет, чувствуя себя окруженным новыми для него, неожиданными, страшными вещами и процессами. Сознание «не узнает» то, с чем соседствовало и чем управляло раньше. Поэтому истощение «блокадного человека» не имеет ничего общего с практикой «умерщвления плоти» в некоторых религиях. В последнем случае не происходит распада механизма, объединяющего тело и сознание, наоборот — истощение тела происходит под полным контролем сознания; более того, само по себе «умерщвление плоти» представляет собой ритуал, превращающий истощенное тело в знак чего-то большего, нежели само это тело и само это сознание. В случае «блокадного человека» никаких новых смыслов, конечно, не возникает.
Вследствие исчезновения автоматизма и распада связи сознания и тела у «блокадного человека» невероятно возрастает роль мускульного усилия . Чем меньше автоматизма, тем больше усилий, чем больше усилий, тем сильнее истощение: «Покоя той зимой не было никогда. Даже ночью. Казалось бы, ночью тело должно было успокоиться. Но, в сущности, даже во сне продолжалась борьба за тепло. Не то, чтобы людям непременно было холодно — для этого они наваливали на себя слишком много вещей. Но именно поэтому тело продолжало бороться. Наваленные вещи тяжко давили, и — хуже того — они скользили и расползались. Чтобы удержать эту кучу, нужны были какие-то малозаметные, но в конечном счете утомительные мускульные усилия». Постоянное усилие ведет к исчезновению покоя, тело и сознание постоянно «включены»: «То есть, тело и нервы полностью никогда не отдыхали». Блокада была пыткой еще и потому, что вечное напряжение тела, сознания и отсутствие отдыха приводили к еще большему истощению и упадку сил, чем мог вызвать обычный голод (пусть даже очень сильный). «Блокадный человек» тратил больше сил, нежели человек в обычной жизни, который, благодаря включенности в автоматизм бытовой рутины и социальные ритуалы, эти силы берег (и, конечно же, отдыхал).
Возвращение ритуалов
Мир блокады — мир распадающихся и распавшихся связей. Чтобы остановить этот чудовищный процесс распада, уничтожения сознания и редукции тела к биологическому, «блокадный человек» создает (частично воссоздает) свои собственные ритуалы, возвращая остраненное тело и остраненные вещи под свой контроль: «…автоматический жест, которым Эн заводил на ночь часы и осторожно клал их на стул около дивана (зимой часы эти не шли — замерз механизм), был совсем из той жизни. <...> Обязательно, встав с постели, подойди к окну. Многолетний, неизменный жест утреннего возобновления связи с миром. <...> В час утреннего возобновления отношений мир явственно представал в своей двойной функции — враждебной и защитной».
«Мир отношений», мир социального ритуала, закономерности, автоматизма — мир нормальной человеческой жизни. Утренний взгляд в открытое окно, возвращение ритуала мирной жизни, произошло весной 1942 года, после пережитой зимы (самой страшной зимы ленинградской блокады). Но зиму удалось пережить лишь тем, кто в самых нечеловеческих условиях смог создать новые ритуалы. Этих ритуалов множество, их можно разделить на важные и неважные, но они, в своей совокупности, спасали жизнь «блокадному человеку». Любое обстоятельство блокадной жизни, самое ужасное и отвратительное, становилось местом возникновения ритуала, например спуск в бомбоубежище при воздушной тревоге: «В ритуальной повторяемости процедуры было уже нечто успокоительное. В последовательность ее элементов входило нервное тиканье репродуктора, поиски калош в темноте, дремотная сырость подвала, самокрутка, выкуренная у выхода, медленное возвращение домой (чем медленнее — тем лучше, на случай повторения сигнала)». Были ритуалы и совсем уже невыносимые, об этом Лидия Гинзбург говорит в другом тексте, написанном в годы блокады, — в «Рассказе о жалости и жестокости» [16] .
Очень важный ритуал, восстанавливающий не только связь сознания с телом и вещей — с человеком, но и социальную связь человека с другими людьми, с государством, с общим делом войны — выход на работу, например предъявление пропуска при входе на службу: «Выход из дома на работу имеет свою прелесть. Несмотря на маленькие победы и достижения, дом — это все же хаос и изоляция. И с утра, пока усталость не одолела, хочется вырваться в мир. <...> Здесь, с пропуска, начинается переживание своей социальной ответственности». Социальная ответственность не только встраивает «блокадного человека» в некую априорно существующую систему связей (с которой не может ничего поделать даже блокада, даже смерть), она еще и заменяет многие другие распавшиеся связи, служит им своего рода заменителем, протезом.
Но все-таки главными ритуалами «блокадного человека», пораженного дистрофией, были ритуалы, связанные с едой. Железная блокадная система распределения продуктов питания и возникающие вокруг нее ритуалы воспринимаются героем «Записок блокадного человека» крайней положительно — и не только потому, что благодаря этой системе он поддерживает свое физическое существование. Эта система функционирует , она сродни механизму, она работает безлично, автоматически, значит, на нее можно положиться. Она существует объективно , помимо наших представлений о ней. Ведь ад блокады — это еще и ад субъективности, выматывающий ад бесконечных, бесконтрольных открытий знакомых прежде вещей, тихий бунт этих вещей против порядка, частью которого они еще недавно были. Именно поэтому Гинзбург пишет: «Все же люди с нетерпением ждали — даже не утра, потому что утро (свет) наступало гораздо позже, — они ждали повода встать, приближаясь к началу нового дня, то есть к шести часам, когда открываются магазины и булочные. Это не значит, что человек к шести часам уже всегда отправлялся в булочную. Напротив того, многие старались оттянуть (сколько хватало сил) момент получения хлеба. Но шесть часов — это успокоительный рубеж, приносивший сознание новых возможностей». «Успокоительный» — не только потому, что «новые возможности», но и потому, что «рубеж».
Ледяной хаос восставших вещей
Лидия Гинзбург подробно описывает типичный зимний день «блокадного человека», с его механикой ежедневного выживания. Это — описание нового (по сравнение с довоенной жизнью) механизма с его новыми ритуалами. День открывается рубкой дров и походом в подвал за водой: «Типический блокадный день начинался с того, что человек выходил на кухню или на темную лестницу, чтобы наколоть дневной запас щепок или мелких дров для времянки. <...> Потом еще нужно принести воду из замерзшего подвала». Это мучительные процедуры — не только физически, но и психологически: «Сопротивление каждой вещи нужно было одолевать собственной волей и телом, без промежуточных технических приспособлений». Здесь опять вспоминаются формалисты с их «сопротивлением материала». Именно они утверждали, что художественная форма произведения возникает как следствие преодоления сопротивления материала; здесь, в условиях блокады, форма жизни (социальная форма, в том числе) разрушается от этого сопротивления: люди на карачках спускаются в подвал за водой: «Ледяной настил покрыл ступеньки домовой прачечной, и по этому скату люди спускались, приседая на корточки. И поднимались обратно, обеими руками переставляя перед собой полное ведро, отыскивая для ведра выбоины». Гинзбург демонстрирует, что искусство противоположно жизни и устроено по совершенно иным законам. Совершенно неожиданно, из внутренней полемики с формализмом, в «Записках блокадного человека» находит подтверждение формалистская идея об «имманентности литературы».
Сопротивление вещей иссушает, истощает и порождает тоску: «С пустыми ведрами человек спускался по лестнице, и в разбитом окне перед ним лежало суживающееся пространство двора, которое предстоит одолеть с полными ведрами. Внезапная ощутимость пространства, его физическая реальность возбуждала тоску». Это тоска по предыдущему миру, миру порядка, по потерянному раю «блокадного человека», где бесперебойно работали механизмы и машины, где вещи были связаны в систему: «Водопровод — человеческая мысль, связь вещей, победившая хаос, священная организация, централизация». Этого мира больше нет, вещи ушли из-под контроля разума, связь уничтожена, и их приходится переживать заново. Человек со страхом «открывает» привычные некогда вещи [17] — это страх остранения: «Закинув голову, человек мерит предстоящую ему высоту. В далекой глубине потолок с какой-то алебастровой нашлепкой. <...> Оказывается, лестницы действительно висят в воздухе (если вглядеться — очень страшно), удерживаемые невидимой внутренней связью с домом». Самое главное в этом пассаже находится в скобках: «если вглядеться, очень страшно». Вглядываясь, вычленяешь, вырываешь вещь из привычных связей, «не узнаешь» ее; каждая вещь, самая незначительная, таит в себе ужас. То, чего, по мнению Шкловского, можно достичь в литературе «остранением», в блокадной жизни достигалось разрушением — не только разрушением связей, но и просто физическим разрушением — тела, домов, города: «Каждодневные маршруты проходят мимо домов, разбомбленных по-разному. Есть разрезы домов, назойливо напоминающие мейерхольдовскую конструкцию. <...> Разрезы домов демонстрируют систему этажей, тонкие прослойки пола и потолка. Человек с удивлением начинает понимать, что, сидя у себя в комнате, он висит в воздухе, что у него над головой, у него под ногами так же висят другие люди. <...> Невнимательные люди увидели вдруг, из чего состоит их город».
«Блокадного человека» окружает хаос отдельных вещей, мир феноменов, дхарм. Буддийский созерцатель, йог может путем медитации увидеть их иллюзорность, пустоту. Человек западной рационалистической традиции пытается связать эти вещи системой, заклясть этот хаос новым порядком, ритуалами, автоматизмом. У Лидии Гинзбург автоматизм предстает как вершина рациональных способностей западного человека: «...практически речь идет о том, чтобы рационализировать домашние дела. Вместо судорожных движений найти автоматику движения. Автоматика — правильно решенная задача, и точность решения переживается мускульно и интеллектуально» [18] . И следующая ступень — уже социальная. Это социальная связь вещей и людей. Так происходит весной 1942 года, после самой, как потом оказалось, страшной блокадной зимы: «Хорошо, правильно, что город гордится подметенной улицей, когда по сторонам ее стоят разбомбленные дома; это продолжается и возвращается социальная связь вещей».
Блокадное время и блокадная кулинария
Создание новых ритуалов происходит в координатах времени и пространства «блокадного человека», которые принципиально отличаются от мирного времени. Прежде всего, тем, что «пространство», судя по всему, почти полностью заменяет у него время. Между походом за водой в замерзший подвал, походом в булочную за пайком, походом в столовую — не время, а пространство, которое с трудом преодолевает «блокадный человек»: «В течение дня предстоит еще много разных пространств. Основное — то, которое отделяет от обеда. <...> Самый обед — это тоже преодоление пространств; малых пространств, мучительно сгущенных очередями». А время, кажется, исчезает; в блокированном, отрезанном от Большой Земли городе оно будто выкачано, ленинградцы испытывают временной вакуум [19] . Даже там, где, казалось бы, уж точно есть время — в очереди за хлебом — оно тоже превращается в пространство. Время перемещает человека в пространственных координатах очереди, превращаясь в само это пространство: «Но тут же он думал, что даже если этому предстоит продолжаться еще пять, шесть или семь часов, то все-таки время всегда идет и непременно пройдут эти пять или шесть часов — какой бы мучительной неподвижностью они не наполнялись для отдельного человека, — что, значит, время само донесет его до цели». Персональное время человека превращается в общее время очереди, которое исчисляется не часами, а метрами до прилавка, где выдают хлеб. В результате время, исчисляемое пространственными мерами, становится «пустым» и человек, двигаясь в очереди, выталкивает эту пустоту, как поршень в цилиндре. Именно так возникает еще один вакуум «блокадного человека» (помимо временного вакуума) — психологический. Из-за него, например, невозможно читать в очереди: «В психологии очереди заложено нервозное, томящее стремление к концу, к внутреннему проталкиванию пустующего времени; томление вытесняет все, что могло бы его разрядить. Психическое состояние человека, стоящего в долгой очереди, обычно непригодно для других занятий». Единственное занятие, на которое у «блокадного человека» остаются силы, чтобы заполнить этот вакуум, — разговор: «Человек не выносит вакуума. Немедленное заполнение вакуума — одно из основных назначений слова». И вот разговор в очереди становится еще одним — полностью социальным — ритуалом «блокадного человека». Именно здесь реализуются не только его экзистенциальные, психологические и социальные потребности (прежде всего, самоутверждение), но и происходит процесс «всплывания» довоенного социального опыта, привычек и связей. Лидия Гинзбург подробно анализирует разговоры в очереди, отделяя в них «блокадное» от «довоенного», прослеживая, как переплетаются эти два уровня. Но следует помнить одно очень важное обстоятельство — такой разговор отличается от прочих ритуалов «блокадного человека» тем, что он является вдвойне вынужденным (сознательно и бессознательно), так как возникает «сам собой» во временном и психологическом вакууме очереди за хлебом.
Если графически представить себе день «блокадного человека», то неровные, вялые линии преодоления им пространства ведут к краткому мигу «включения времени» во время обеда или ужина. Ведь именно голод является главным инструментом, «отключившим» время для «блокадного человека»: «...голод перманентен, невыключаем. Он присутствовал неотступно и сказывался всегда (не обязательно желанием есть); мучительнее, тоскливее всего во время еды, когда еда с ужасающей быстротой приближалась к концу, не принося насыщения». Важен именно момент еды (издевательски короткий), за который «блокадный человек», собственно, и ведет битву. Этот момент он пытается растянуть всеми возможными ухищрениями, прежде всего — превращением торопливого поглощения пищи в ритуал. Ведь главной особенностью ритуала является то, что он «создает» собственное время . Любой ритуал в человеческом обществе — от религиозного до бытового — погружает своих участников в «другое время», иначе это не ритуал. Дальнейшие фазы автоматизации ритуала и превращения его в рутину трансформируют это его особое время, и оно постепенно улетучивается из него. Автоматизм призван «убить» время, предназначенное на какое-либо дело, вывести это дело из поля сознания, а значит, и времени. Остранение, по Шкловскому, выводит вещь из ее автоматически воспринимающегося ряда, затормаживает внимание на ней и тем самым возвращает в «мир времени». Единственная в мире «блокадного человека» вещь, на которой стоит тормозить внимание, растягивать время его совершения — это приготовление и поглощение пищи. Истощающему пустому пространству блокады он противопоставляет время создаваемых им кулинарных ритуалов — отсюда, отчасти, та одержимость «блокадной кулинарией», которой посвящены многие страницы «Записок».
Самые эмоциональные места этой аналитической книги — именно о манипуляциях с едой [20] . Обедая, «блокадный человек» как бы «включает время» и питает им себя — точно так же, как и мизерной своей порцией. Он пытается отгрызть свое время , время убогого и изощренного гастрономического ритуала у перманентности и без-временности голода: «...съесть просто так — это слишком просто, слишком бесследно. Блокадная кулинария — подобно искусству — сообщала вещам ощутимость». Именно здесь Лидия Гинзбург вновь сходится со Шкловским: в жизни, в блокадной жизни остранение губительно (в отличие от искусства), но это не значит, что искусство (вместе с остранением) полностью исключено из нее. Существует момент, когда включаются все главные возможности искусства и оно выступает в «Записках» в виде искусства блокадной кулинарии. Блокадная кулинария призвана сделать то, что делает любое другое искусство (по Шкловскому), — остановить момент восприятия, затормозить его, сделать вещь — вещью, остановить мгновение: «Элементарные материалы претворялись в блюдо. Мотивировались кулинарные затеи тем, что так сытнее или вкуснее. А дело было не в этом, но в наслаждении от возни, в обогащении, в торможении и растягивании процесса...». Смысл блокадной кулинарии — «продукт должен был перестать быть собой», что же до кулинарной изобретательности «блокадного человека», то она неистощима: тюлька, пропущенная через машинку «с маслицем», щи из лебеды и крапивы, каша из хлеба, хлеб из каши, лепешки и каша из зелени, котлеты из селедки, тушеные листья салата и так далее и тому подобное.
Чем больше усилий вкладывает «блокадный человек» в приготовление пищи, тем сильнее его разочарование: остановить мгновение не удается, гастрономические манипуляции с эрзацами оказываются лишь эрзацем искусства: «После всего, что Эн с минуты пробуждения делал для этого завтрака, после того как с некоторой торжественностью он садился за стол, предварительно обтерев его тряпкой, он съедал все рассеянно и быстро, хотя знал, что теперь еда должна быть осознанной и ощутимой. Он хотел и не мог сказать мгновению: „Verweiledoch! Dubistsoschon!”». Но то, что не получалось день за днем в роли искусства, в качестве ритуала способствовало главной победе Эн — он выжил.
Прорвать круг
Разочарование, которое постигает Эн, когда он торопливо и невнимательно съедает тщательно приготовленную им еду, ставит следующий вопрос — о целях «блокадного человека», о непрерывности этих целей, о телеологии. И вот здесь мы снова возвращаемся к толстовской проблематике, к тому, как из совокупности разнообразных действий и поступков возникает некое единое движение — в случае «Записок блокадного человека» даже не движение «народа», а отдельного человека. Как совокупность бесчисленных побуждений и действий вычерчивает общий вектор и как определяется направление этого вектора? И — если в случае «блокадного человека» действительно можно говорить о целеполагании — как происходит движение от одной точки к другой, от одной цели к следующей?
В тридцатые годы Лидия Гинзбург писала о проблеме «непрерывности научных интересов» [21] , теперь же речь идет о проблеме непрерывности интереса к поддержанию жизни, непрерывности перехода от одного тяжкого усилия к другому. Интересно, что промежутки между этими усилиями можно было бы назвать «пустотами» (термин, кстати говоря, пространственный), однако, как мы помним, Гинзбург говорит именно о «непрерывности этих усилий», об «отсутствии покоя даже во сне». Сама жизнь «блокадного человека» определяется ей как «возобновляемое достижение вечно разрушающихся целей» [22] . Разрушенный механизм жизни заменяется суммой последовательных изолированных усилий. Точно так же, как «блокадный человек» потерял связь с миром вещей, его действия мало связаны между собой. Но, как это ни странно для истощенного человека, сами усилия по возобновлению действий не так уж велики. Прежде всего, каждое из них, сколь бы оно ни было тяжким, «вытесняет страдание»: «Это вытеснение страдания страданием, это безумная целеустремленность несчастных, которая объясняет <...> почему люди могут жить в одиночке, на каторге, на последних ступенях нищеты, унижения, тогда как их сочеловеки в удобных коттеджах пускают себе пулю в лоб без видимых причин». Тут важно, что вытесняемое страдание — физическое, биологическое, а вытесняющие (усилие, работа воли, поход за водой, очередь в столовой и так далее) носят максимально ритуализированный и социализированный характер. И вот здесь, в этой точке возвращения старых (видоизмененных) ритуалов и создания новых, блокадных, происходит формирование нового, социально обусловленного механизма жизни, вытесняющего хаос биологического, формирование механизма, защищающего от зла [23] и в конечном счете способствующего выживанию «блокадного человека» и Победе: «Цели, интересы, импульсы страдания порождают ряды закрепившихся действий, все возобновляемых и уже не обременительных для воли. Но воля бессильна разорвать этот ряд, чтобы ввести в него новый, не закрепленный страданием жест». Ограниченность этой системы (назовем ее вслед за Лидией Гинзбург «режимом») коренится в источнике ее происхождения (и, соответственно, в источнике ее силы): она отвергает все лишнее, любые элементы, не обусловленные страданием. Собственно говоря, ритуал «блокадного человека» превращается в рутину, в автоматизм, для того чтобы по возможности исключить волю из процесса поддержания жизни.
«Так сложился круг блокадного зимнего дня. И среди передышки это движение, вращательное и нерасторжимое, еще продолжается, постепенно затухая. Люди несут в себе это движение как травму». Гинзбург называет этот блокадный режим — «кругом»; скорее даже наоборот — «бег по кругу» «блокадного человека» она называет «режимом»: «Бег по кругу приобретает отчасти характер режима». Обусловленность страданием, необходимость вытеснить биологическое, физическое страдание повторяющимся ритуалом (а затем и автоматизмом), установить новый тип связей между собой и вещами (и между самим вещами) — вот что создает «режим», о котором так безнадежно мечтал герой «Записок» в мирное время [24] . И вот на этой стадии рассуждения термин «режим» приобретает отчетливые больничные коннотации. Можно было бы даже попытаться рассмотреть блокаду как страшную болезнь, поразившую Ленинград и его жителей, а «режим» — как набор мер, призванный справиться с ней, выздороветь [25] . Однако тут есть важное отличие. Обычному больному врачи предписывают готовый режим , а блокадный человек во многом создает его себе сам . Создание режима и следование его правилам утомительно для истощенного человека — как утомительно для него любое действие, — и он уже начинает мечтать об освобождении, о настоящей, «нормальной», «доблокадной» болезни. И эта мечта — тоже симптом той болезни, во власти которой находится герой, симптом блокады: «Я был болен особой, блокадной болезнью воли. И единственно вожделенным, разрешающим выходом мечтался выход из нее в обыкновенную, прежнюю человеческую болезнь».
«Режим» позволял «блокадному человеку» выжить и тем самым приобщиться к делу Победы. Вновь и вновь Гинзбург обнажает работу проанализированного Толстым механизма сочетания общей цели и частной жизни. Но постепенно толстовская проблематика начинает заменяться прустовской; высшим оправданием «режима» и выживания становится задача свидетельствовать, отрефлексировать, описать : «Режим существует для чего-то. Эн не чужд дистрофической идее восстановления сил, мотивировавшей всякую всячину, и в особенности тотальное подчинение времени трем этапам еды. Но он уже спрашивает: для чего восстанавливать силы?.. Тяжким усилием воли, привыкшей к однообразной серии жестов, нужно где-то, в каком-то месте раздвинуть круг и втиснуть в него поступок . Если человек умеет писать, то не должен ли он написать об этом и о предшествовавшем. Где-то, скажем, после домашних дел час-полтора <...> чтобы писать. Тогда оживут и потянутся к этому часу все другие частицы дня, располагаясь вокруг него иерархически». Телеология предстает здесь как оправдание низшего высшим, что является одним из самых важных принципов философии Лидии Гинзбург. И это при том, что созданный «блокадным человеком» механизм жизни, противостоящий хаосу, смерти, распаду, был, в силу непосредственной близости этого самого хаоса и смерти, обнажен: «Теперь же причинно-следственная связь импульсов и поступков была грубо обнажена и завинчена» [26] . Прием обнажен, вновь как у Шкловского, как у формалистов, но и в этом случае есть существенная разница: «обнажение приема» не тормозит повествование, не остраняет вещь, чтобы заново пережить ее делание (а то и пересоздать ее), а позволяет не рефлексировать , не переживать автоматизм выполнения ритуалов поддержания жизни. Рефлексия предназначена для другого — для поступка.
Рефлексия (как и фиксация происходящего) в условиях блокадного «режима» уже есть поступок, который тяжело поместить в железную последовательность обусловленных страданием ежедневных действий, так как он хотя и обусловлен, но обусловлен по-иному и иным. Именно поэтому он задает новую иерархию блокадного дня, подтверждает существование общих связей, восстанавливает связь с внеличностным, и тем самым — что вполне в русле мысли Лидии Гинзбург — дарует свободу «блокадному человеку»: «Круг — блокадная символика замкнутого в себе сознания. <...> Пишущие, хочешь не хочешь, вступают в разговор с внеличным. Потому что написавшие умирают, а написанное, не спросясь их, остается <...> написавшие умирают, а написанное остается. Написать о круге — прорвать круг. Как-никак поступок. В бездне потерянного времени — найденное». Первая часть «Записок блокадного человека», начинаясь с Толстого, заканчиваются Прустом. «Блокадный человек» сделал то, что от него требовало общее дело войны, — он выжил, создав и автоматически выполняя ритуалы ежедневной жизни, вытеснив физическое страдание, хаос биологического, смерть. Он создал «режим» с его жесточайшей дисциплиной, причинно-следственной обусловленностью, с его целеполаганием и постоянно возобновляющимися усилиями воли, он создал круг. И — испытав разочарование в факте «выживания» [27] — он прорвал это круг новым усилием воли и мысли. «Блокадный человек» отрефлексировал свой страшный опыт. Он победил.
[1] Из неопубликованной записной книжки Л. Я. Гинзбург 1927 — 1928 годов. Цит. по: Савицкий С. Спор с учителем: Начало литературного/исследовательского проекта Л. Гинзбург. — «Новое литературное обозрение», 2006, № 82, стр. 139.
[2] Нижеследующий текст — переработанная русская версия моей статьи «To Create a Circle and to Break It („Blockade Person’s” World of Rituals)» в сборнике «Lydia Ginzburg’s Alternative Literary Identities. A Collection of Articles and New Translations». Emily Van Buskirk and Andrei Zorin (eds). Oxford, «Peter Lang», 2012. Я благодарю издательство и редакторов книги за разрешение печатать русский вариант текста.
[3] Я только отчасти использую прекрасное издание: Гинзбург Л. Проходящие характеры. Проза военных лет. Записки блокадного человека. Сост., подг. текста, примечания и статьи Эмили Ван Баскирк и Андрея Зорина. М., «Новое издательство», 2011. В мою задачу входит анализ именно того, что сама Гинзбург пропустила сквозь фильтр необходимого и возможного для советской (пусть даже позднесоветской) печати; как известно, она высоко ценила проверку на нужность, которой с ее точки зрения была официальная публикация. Вынужденная почти всю жизнь «писать в стол», Гинзбург с подозрением (и даже нелюбовью) относилась к этому занятию, когда же появилась возможность напечатать блокадные тексты, ее железный тест прошло лишь то, что было напечатано. Соотношение оставшегося «в столе» и опубликованного из блокадных записок Лидии Гинзбург — тема для особого рассмотрения.
[4] Об этом см.: Кобрин К. «Человек 20-х годов». Случай Лидии Гинзбург (к постановке проблемы). — «Новое литературное обозрение», 2006, № 78, стр. 60 — 83.
[5] Все ссылки на «Записки блокадного человека» и «Вокруг „Записок блокадного человека”» даются в тексте по изданию: Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., «Искусство-СПб», 2002.
[6] См.: Кобрин К. «Человек 20-х годов».
[7] Толстой Л. Н. Война и мир. Т. 3 — 4. М., «Детская литература», 1964, стр. 491.
[8] Толстой Л. Н. Указ. соч., стр. 367.
[9] Которое Эмили Ван Баскирк трактует как прием «самоостранения»: Ван БаскиркЭ. «Самоостранение» как этический и эстетический принцип в прозе Л. Я. Гинзбург. — «Новое литературное обозрение», 2006, № 81, стр. 261 — 282.
[10] «Ритуализация» здесь есть главный способ «рутинизации».
[11] См. содержательные статьи Дениса Устинова и Станислава Савицкого: Устинов Д. Формализм и младоформалисты. Статья первая: постановка проблемы. — «Новое литературное обозрение», 2001, № 50, стр. 296 — 312; Савицкий С. Спор с учителем: Начало литературного/исследовательского проекта Л. Гинзбург...
[12] «Об этом кое-что здесь рассказано».
[13] Толстой Л. Н. Указ. соч., стр. 187 — 188.
[14] Толстой Л. Н. Указ. соч., стр. 114.
[15] Толстой Л. Н. Указ. соч., стр. 369.
[16] Впервые опубликован в кн.: Гинзбург Л. Проходящие характеры. Проза военных лет. Записки блокадного человека. Сост., подг. текста, примечания и статьи Эмили Ван Баскирк и Андрея Зорина. М., «Новое издательство», 2011.
[17] С подобным страхом «блокадный человек» открывает для себя и то, что привычные метафоры вдруг материализуются: «Что знали об одиночестве и заброшенности люди, повторявшие пустую формулу: живу как в пустыне. Что они знали о жизни без телефона, с пространствами города, чудовищно раздвинутыми тридцатипятиградусными морозами и отсутствием трамваев» («Рассказ о жалости и жестокости»). Гинзбург Л. Проходящие характеры, стр. 17.
[18] Борясь с хаосом биологического, хаосом смерти, «блокадный человек» пытался наложить на него рациональную систему. Когда эта система — через механизмы ритуалов — выводила человека из ситуации остранения вещей и собственного тела, человек побеждал. Он выздоравливал к социальной жизни. Но следует различать рациональную систему, базирующуюся на системе ритуалов, переходящих в рутину и автоматизм, и просто попытки максимально рационально обустроить блокадный быт. Во втором случае человек не мог подчинить себе вещи, так как он напряженно рефлексировал над каждой из них, пытаясь загнать ее в наиболее рациональную связь с другими. Это напряжение — само по себе забиравшее множество сил — нередко приводило к паранойе, к дистрофической мании: «Рационализацией особенно увлекались интеллектуалы, заполнявшие новым материалом пустующий умственный аппарат. Т., чистокровный ученый, принципиально не умевший налить себе стакан чаю, теперь часами сидел, погруженный в расчет и распределение талонов. <...> Блокадная мания кулинарии овладела самыми неподходящими людьми. <...> Чем скуднее был материал, тем больше это походило на манию».
[19] Именно поэтому «выздоровление» «блокадного человека» прямо связано с возвращением времени в его жизнь: «Чувство потерянного времени — начало выздоровления. Начало выздоровления — это когда в первый раз покажется: слишком долго стоять в очереди сорок минут за кофейной бурдой с сахарином».
[20] Речь здесь идет, конечно же, о домашних манипуляциях с приготовлением пищи, начиная с растопки огня во времянке. Этот ритуал, включающий разогревание принесенной из столовой пищи, приготовление новых блюд и так далее, — оттягивал и сам момент поглощения еды; причем если в столовой человека отделяло от еды пространство очереди, которое нужно было преодолевать, то дома отодвигание обеда или ужина было растягиванием именно времени .
[21] Например, запись 1931 года: «Дикая свобода — бесспорный симптом прекращения той непрерывности интересов, которая составляет основу сознания человека, имеющего отношение к науке».
[22] Что очень точно иллюстрируется разочарованием от несостоявшейся кульминации блокадного кулинарного ритуала.
[23] В начале войны он вытеснял ожидание: «Среди неустоявшейся тоски этих первых дней, когда новые формы жизни еще не определились, это механическое занятие (наклейки бумажных полос на окна. — К. К. ) успокаивало, отвлекало от пустоты ожидания».
[24] «Для многих режим, рабочий порядок всегда был недостижимой мечтой. Не давалось усилие, расчищающее жизнь. Теперь жизнь расчистило от всяческой болтовни, от разных заменителей и мистификаций, от любовных неувязок или требований вторых или третьих профессий, от томящего тщеславия. <...> Мы, потерявшие столько времени, — вдруг получили время, пустое, но не свободное».
[25] Отсюда и неожиданное, казалось бы, сравнение магазина, где выдают хлебный паек, с амбулаторией: «...это как-то похоже на жестокую прибранность амбулаторий; охраняя человека, они возбуждают в нем злобу и страх неумолимостью своего механизма».
[26] Из этой обнаженной, наглядной системы импульсов и следствий были исключены многие вещи. Например, «воображение»; ведь чтобы бояться смерти надо ее (недоступную опыту вещь) вообразить: «Чтобы конкретно мыслить мгновенный переход от комнаты и человека к хаосу кирпича, железа и мяса, а главное, к несуществованию, — нужна работа воображения, превышающая возможности многих». И здесь социальный механизм работает на вытеснение биологического, эмоционального страха смерти: «Легче иногда, идя на смертельную опасность, не думать о смертельной опасности, нежели идти на службу и не думать о полученном выговоре в приказе» (там же).
[27] «Круг должен замкнуться... Ход вещей определяет усталость, исчерпанность ритуальных жестов дня... Круг печально стремится к своему несуществующему концу».
«Н» и «Б» сидели на трубе
Кружков Григорий Михайлович родился в 1945 году в Москве. По образованию — физик. Поэт, переводчик, эссеист, многолетний исследователь зарубежной поэзии. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе Государственной премии РФ (2003). Постоянный автор «Нового мира». Живет в Москве.
Об одном «отверженном» стихотворении Одена
(Бродский, Оден и Йейтс)
I. Любителям поэзии вообще и поэзии Иосифа Бродского в частности, памятно его эссе о стихотворении Уистена Хью Одена «1 сентября 1939 года». По сути, перед нами обработанная запись университетской лекции, блестящий пример close reading — «медленного (или пристального) чтения». Статья не короткая: около трех авторских листов. Своей подробностью и, я бы сказал, въедливостью этот разбор не уступает написанным в том же примерно ключе эссе о «Новогоднем» М. Цветаевой и «Орфее и Эвридике» Рильке.
Тем не менее с автором статьи, на мой взгляд, можно поспорить. Причем спор касается не каких-то частных моментов и отдельных неточностей, а главной загадки стихотворения: почему Оден не перепечатывал его с 1945 года [1] и не включил в свое итоговое «Полное собрание стихотворений и поэм».
Бродский называет две причины. Первая — это завершающая строка предпоследней строфы: «We must love one another or die». «Согласно разным источникам, — пишет Бродский, — он счел эту строчку претенциозной и неверной. Он пытался ее изменить, но единственное, что у него получилось, это: „We must love one another and die”» [2] .
Прав ли был Оден, забраковав свое стихотворение за одну только строку? С точки зрения Бродского, и да и нет. Хотя неточность в ней действительно присутствует (умереть мы должны в любом случае), но в то время, накануне мировой войны, она читалась однозначно: «Мы должны любить друг друга, или нам вскоре придется друг друга убивать». То есть исторически и ситуационно она оправдана.
И тут Бродский выдвигает еще одну, фактически вторую, версию: голос Одена не был услышан, «и дальше последовало именно то, что он предсказывал: взаимное истребление». Он решил больше не публиковать этого стихотворения, ибо «чувствовал себя ответственным за то, что не сумел предотвратить случившегося, поскольку целью написания этих стихов было повлиять на общественное мнение» [3] .
Увы, эта вторая версия вряд ли может рассматриваться всерьез. Не сам ли Оден в том же самом 1939 году сформулировал свое поэтическое кредо в знаменитой строке: «Поэзия ничего не меняет» ( Poetry makes nothing happen )? Мог ли он ставить целью своего стихотворения предотвратить войну в Европе? Да еще «наказывать» его за невыполнение заведомо невыполнимой задачи?
Итак, приходится вернуться к версии номер один и искать корень зла в строке: «Мы должны любить друг друга или умереть». Версия эта восходит к самому Уистену Хью Одену. В предисловии к библиографии своих работ, составленной Б. К. Блумфилдом (1964), он писал: «Перечитывая стихотворение „1 сентября 1939 года” уже после того, как оно было опубликовано, я дошел до строки „We must love one another or die” и сказал себе: „Что за чушь! Умереть мы должны в любом случае”. Так что в следующем издании я исправил это на „We must love one another and die”. Но и так тоже было плохо. Я попробовал совсем вычеркнуть эту строфу. Опять никуда не годится! Вот тут-то я и понял, что все стихотворение заражено неизлечимой фальшью и должно быть выброшено на помойку» [4] .
Таково объяснение самого Одена — оно существенно отличается от того, что говорит Бродский. Дело не в одной только строке, а во всем стихотворении целиком. Но что же эта была за фальшь, так нестерпимо резавшая слух Одена в 1945 году? Мы вряд ли ошибемся, если предположим, что речь идет о политической фразеологии и вульгарно-классовом подходе, вылезающем наружу, начиная с четвертой строфы: виноватые во всем «харя империализма и международного зла» (imperialism’s face and the international wrong), «лживая власть со своими небоскребами» (the lie of the Authority, whose buildings grope the sky), а также консервативные обыватели и «беспомощные правители», навязывающие им свою игру (compulsory game), — в шестой строфе, которая заканчивается серией лозунгов:
Who can release them now,
Who can reach the dead,
Who can speak for the dumb?
Кто их освободит?
Кто разбудит глухих?
Кто скажет за этих немых? [5]
В общем — «улица корчится безъязыкая, ей нечем кричать и разговаривать». В этот момент Оден может показаться таким революционным поэтом, вроде Маяковского, обладателем голоса, который способен «разоблачить газетную ложь» (to undo the folded lie) . Нечего и говорить, насколько такие претензии далеки от образа послевоенного Одена, от сформировавшегося в это время его мировоззрения, основанного на христианских и экзистенциальных началах. Такого рода мотивы есть и в «1 сентября...», они-то как раз и ответственны за самые сильные места стихотворения — например, за незабываемые строки о себе и своих современниках как о «заплутавших в заколдованном лесу, боящихся темноты детях, которые никогда не были счастливыми или послушными»:
Lost in a haunted wood,
Children afraid of the night
Who have never been happy or good.
К сожалению, эти строки плохо сочетаются со следующими далее политическими клише и лишь подчеркивают фальшивость последних. «Поэта далеко заводит речь» — в этом стихотворении, похоже, она завела Одена в такую мешанину марксистских, христианских и индивидуалистических идей, из которой ему так и не удалось выбраться. То, что поэт заметил это, несомненная его заслуга. Может быть, самое интересное в этом стихотворении — как раз то, что оно отражают момент перехода Одена в новую фазу развития, и акт его отвержения автором символизирует окончательность этого перехода. Бабочка вылетела, шелуха кокона отброшена.
II. Такова первая, явная причина исключения «1 сентября 1939 года» из оденовского канона. Но, возможно, есть и вторая, скрытая причина, признаваться в которой автор не стал бы ни в каком случае. Дело в том, что все начало года прошло у Одена под знаком Йейтса. Смерть ирландского поэта 28 января 1939 года, по-видимому, произвела на Одена глубокое впечатление. Он пишет трехчастную элегию «На смерть У. Б. Йейтса», одно из своих лучших стихотворений, заключительная часть которого — похоронный марш — написана по канве и в ритме йейтсовского стихотворного завещания «В тени Бен-Балбена».
Сразу после этого он садится писать статью о Йейтсе, в которой он пытается разобраться в своем отношении к его поэзии. Эта статья под заголовком «Общество против покойного мистера Уильяма Батлера Йейтса», пародирующая судебный процесс с обвинителем и защитником, публикуется в весеннем номере «Партизан ревью». В следующем году Одену предстоит написать еще одну статью — «Мастер красноречия» (а в дальнейшем — еще три рецензии на книги Йейтса). Но уже в этой первой статье, изложив в обвинительной части старые претензии Йейтсу, бывшие в ходу у его сверстников — поэтов «прогрессивного направления», он во второй части статьи, в речи защитника, заявляет, что Время оправдает поэта — за поэтическое мастерство, за мощный и внятный стиль его стихов (то же самое, что он пишет в посвященной Йейтсу элегии). Оден утверждает, что «поэтический талант — это способность передать свой личный эмоциональный настрой другим людям», и по этому критерию, способности волновать и заражать своими чувствами других, Йейтс — подлинный поэт.
Сейчас я постараюсь показать, что Йейтсу удалось заразить своими чувствами и самого Одена, — причем в такой степени, что начало его стихотворения «1 сентября 1939 года» насквозь пронизано йейтсовскими аллюзиями и образами.
Начнем с первых трех строк: «Я сижу в одном из ресторанчиков / на Пятьдесят второй улице, / в нерешительности и страхе…»:
I sit in one of the dives
On Fifty-second Street
Uncertain and afraid
Вот начало пятого стихотворения из цикла У. Йейтса «Нерешительность», Vacillation:
My fiftieth year had come and gone,
I sat, a solitary man,
In a crowded London shop...
То есть: «Мой пятидесятый год настал и прошел, / я сидел, одинокий человек, / в переполненном лондонском кафе…».
Тут позаимствовано самое важное — интонация, ситуация личного кризиса, когда поэт не знает, как жить дальше, и публичное одиночество, столик в кафе или ресторанчике — исходная точка его не определившегося пути. Уже первый эмоциональный эпитет Одена «uncertain» («нерешительный») отражает название йейтсовского цикла — «Vacillation». А «пятидесятый год», не исключено, превратился в «Пятьдесят вторую улицу».
Следующие строки Одена (4 — 5) говорят о развеянных надеждах тех, кто верил в человеческий разум и добро: «…в то время, когда надежды умников исчезают перед действительностью низкого и бесчестного десятилетия».
As the clever hopes expire
Of a low dishonest decade:
Этот горький упрек пришел, я думаю, из цикла Йейтса «Тысяча девятьсот девятнадцатый» (Nineteen Hundred and Nineteen) (обратите внимание на календарное название — того же типа, что у Одена!), вызванного горьким разочарованием поэта перед лицом жестокой гражданской войны, последовавшей за долгожданным освобождением Ирландии. Сравните:
O what fine thought we had because we thought
That the worst rogues and rascals had died out.
То есть: «О какие прекрасные мысли лелеяли мы, думая, что худшие мошенники и негодяи давно исчезли».
Следующие строки (6 — 9) стихотворения Одена: «Волны страха и гнева / кружатся над светлой / и темной частью Земли, / угнетая (или преследуя) наши личные жизни…»
Waves of anger and fear
Circulate over the bright
And darkened lands of the earth,
Obsessing our private lives;
Сравните со строками знаменитого стихотворения Йейтса «Второе пришествие» (The Second Coming):
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned.
То есть: «Анархия завладела миром, / поток, окрашенный кровью, нахлынул, / затопляя уклад жизни ни в чем не повинных людей». Мы видим, что «волны страха и гнева» Одена соответствуют «потоку, окрашенному кровью» у Йейтса, и одинаковым образом эти волны угнетают / преследуют / топят жизни обычных людей.
Последние строки первой строфы (10 — 11) также имеют сильную параллель у Йейтса. Оден заканчивает свою строфу «запахом крови, отравляющим покой сентябрьской ночи»:
The unmentionable odour of death
Offends the September night.
Сравните у Йейтса в первой части «Тысяча девятьсот девятнадцатого» — там, где он пишет об убитой женщине, плавающей в собственной крови возле двери своего дома, — образ «ночи, вспотевшей от страха»:
The night can sweat with terror as before...
Кстати, Йейтс заканчивает эту строфу так: «…Вот до чего мы / Дофилософствовались, вот каков / Наш мир: клубок дерущихся хорьков».
И Оден — подобным же образом — от крови переходит сразу к философии, начиная следующую строфу с иронического: «Accurate scholarship can…» и т. д., то есть: «Ученые могут внимательно проследить все ошибки, от Лютера до наших дней, и найти, как этот мир сошел с ума…».
Здесь можно остановиться. Вот сводная таблица параллельных мест, наглядно итожащая наши сопоставления:
I.
1. I sit in one of the dives
2. On Fifty-second Street
3. Uncertain and afraid
My fiftieth year had come and gone,
I sat, a solitary man,
In a crowded London shop...
(A Vacillation, V)
4. As the clever hopes expire
5. Of a low dishonest decade:
O what fine thought we had because we thought
That the worst rogues and rascals had died out.
(Nineteen Hundred and Nineteen, I)
6. Waves of anger and fear
7. Circulate over the bright
8. And darkened lands of the earth,
9. Obsessing our private lives;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
(The Second Coming)
10. The unmentionable odour of death
11. Offends the September night.
The night can sweat with terror as before...
(Nineteen Hundred and Nineteen, I)
II.
1. Accurate scholarship can
2. Unearth the whole offence
3. From Luther until now
4. That has driven a culture mad,
…We pieced our thought into philosophy,
And planned to bring the world under a rule
Who are but weasels fighting in a hole.
(Nineteen Hundred and Nineteen, I)
5. Find what occurred at Linz,
6. What huge imago made
7. A psychopathic god…
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?
(The Second Coming)
Последнюю параллель я тоже считаю вероятной. Оба поэта, задумываясь о причинах всемирной катастрофы, пытаются добраться до корня зла, проследить рождение современного Антихриста; только Оден «пророчествует назад», рассуждая, «what huge imago made a psychopathic god», а Йейтс из своего 1922 года — пророчествует вперед — о том же самом: «What rough beast… slouches towards Bethlehem to be born».
Вновь тьма нисходит; но теперь я знаю,
Каким кошмарным скрипом колыбели
Разбужен мертвый сон тысячелетий
И что за чудище, дождавшись часа,
Ползет, чтоб вновь родиться в Вифлееме [6] .
III . Джон Китс бросил свою грандиозную поэму «Гиперион» на третьей песне, потому что (по его словам) в ней было «слишком много мильтоновских инверсий». Оден мог забраковать свое стихотворение о наступающей мировой войне потому, что в нем слишком много йейтсовских аллюзий. Точнее говоря, причин могло быть примерно три: слишком много йейтсовских аллюзий, слишком много марксистских клише и главная причина — первое совершенно не сочеталось со вторым.
Разумеется, это лишь наше предположение, настоящих мыслей Одена мы знать не можем. Необязательно он должен был ясно осознавать то же самое, это могло происходить на уровне ощущений; но если бы даже Оден четко видел причину, вряд ли он стал бы так открыто, как Китс, ее формулировать: эпоха другая, далекая для романтического простодушия. «Все насквозь заражено фальшью и лечению не поддается», — так полувнятно он предпочел вынести свой вердикт.
Естественно возникает вопрос — не вполне академический, но напрашивающийся. Ощущал ли Бродский, что с анализируемым им стихотворением, начиная с четвертой строфы, что-то не в порядке? Кажется, что ощущал. Недаром на первые три строфы из девяти он потратил вдвое больше места, чем на последующие шесть. (То есть подробность рассмотрения с этого момента уменьшается в четыре раза.) Конечно, это можно объяснить «усталостью металла», желанием сократить непомерно разросшееся эссе, но это могло отражать и понижение качества текста в соответствующее количество раз, понуждающее ускорить движение линзы.
С этого момента историософский комментарий начинает вытеснять анализ поэзии; время от времени Бродскому приходится «выгораживать» Одена, расширяя и трансформируя его смыслы. Так, дойдя до «империализма и международного зла», он признает, что тут действительно «отголоски марксистско-оксфордского периода поэта» [7] . И тут же находит оправдание: в зеркале, откуда глядит «харя империализма», можно различить и себя самого: значит, тут намек на то, что виноваты не только «они», но, возможно, и мы сами. Это меняет смысл на 180 градусов; но в собственных строках Одена такого поворота нет, он умело «вчитан» сюда Бродским.
Комментарий к восьмой строфе Бродский вынужден начать с замечания, что «это, возможно, наименее интересная строфа стихотворения». О неожиданной патетической концовке, в которой Оден хочет вспыхнуть «огнем утверждения» (the affirming flame), став одной из праведных душ (the Just), перемигивающихся в мировой ночи, Бродский пишет: «Вы, конечно, можете счесть, что финал стихотворения звучит слишком самодовольно и спросить, кто такие это the Just — легендарные тридцать шесть праведников или кто-то еще — и как выглядит этот affirming flame ». И тут же «отшивает» усомнившихся: «Но вы ведь не вскрываете птицу, чтобы выяснить происхождение ее песни; вскрывать следовало бы ваше ухо» [8] .
Между тем финал действительно патетический; он подходил бы Гюго или Бодлеру (вспоминаются «Маяки» последнего), но в устах иронического Одена, поставившего целью поэзии — разоблачать всякие иллюзии, звучит странно. В сущности, так же странно, как мажорный финал стихов «На смерть Йейтса»:
Пой, поэт, с тобой, поэт
В бездну ночи сходит свет…
Как это сочетается с высказанным раньше утверждением: «Поэзия ничего не меняет»? Ничего себе, не меняет: свет сходит в бездну ночи! Так можно договориться до того, что и Создатель наш ничего не изменил в мире! Здесь неустранимое противоречие, а исток его в том, что Оден в этом своем февральском стихотворении — как и позднее в сентябрьском — пошел за Йейтсом, за его утверждающей патетикой и мощным ритмом. Любопытно, что не только в третьей части погребальной элегии ритм заимствован у Йейтса, но и в «1 сентября 1939 года». И надо отдать должное Бродскому — он это заметил.
«Поэт не выбирает размер, как раз наоборот, ибо размеры существовали раньше любого поэта. Они начинают гудеть в его голове — отчасти потому, что их использовал кто-то другой, только что им прочитанный…» И далее: «Возможно, в данном случае перо Одена привела в движение „Пасха 1916 года” У. Б. Йейтса, особенно из-за сходства тем» [9] .
Все так: действительно Оден начитался Йейтса, и действительно размер (трехударный дольник) — тот же самый. Привожу его по-русски и по-английски: в первом случае — по-русски, потому что переводчик точно схватил оригинальный ритм, во втором — только по-английски, так как в переводе, к сожалению, ритм «плывет»…
Я видел на склоне дня
Напряженный и яркий взор
У шагающих на меня
Из банков, школ и контор.
(У. Б. Йейтс, «Пасха 1916 года»)
Перевод А . Сергеева
I sit in one of the dives
On Fifty-second Street
Uncertain and afraid
As the clever hopes expire
Of a low dishonest decade…
(W. H. Auden «September 1, 1939»)
Не точно лишь утверждение о сходстве тем. Жанр схож, это верно — медитация на тему политического события: там — Пасхального восстания в Дублине, здесь — вторжения Гитлера в Польшу. Но если у Одена — глубокое разочарование в современной цивилизации и, главное, в людях, которые попустительствуют злу, то у Йейтса — героизация участников восстания, которые на наших глазах из обычных людей — суетных и грешных — превращаются в фигуры легендарного масштаба:
И я наношу на лист:
Мак Доннах и Мак Брайд,
Коннолли и Пирс
Преобразили край,
Чтущий зеленый цвет,
И память о них чиста:
Уже родилась на свет
Грозная красота.
Верно угадав происхождение ритма («Пасха 1916 года» в переводе Андрея Сергеева была у него на слуху), Бродский не заметил, однако, что тематически стихотворение Одена связано отнюдь не с «Пасхой», а с другими стихами Йейтса — написанными, в основном, в двадцатых годах, — прежде всего, с «Тысяча девятьсот девятнадцатым» и «Вторым пришествием». Стихами, полными горечи и беспощадных упреков тем «великим, мудрым и добропорядочным» современникам, в том числе и себе самому, которые не могли ни предугадать, ни отвратить грозящей миру опасности. Посмеемся над этими мудрецами и добряками, пишет Йейтс, а напоследок — посмеемся и над самими насмешниками (mock mockers), которые пальцем не ударили, чтобы помочь мудрым и великим поставить заслон этой свирепой буре, «ибо наш товар — шутовство» (for we traffic in mockery):
Высмеем гордецов,
Строивших башню из грез,
Чтобы на веки веков
В мире воздвигся Колосс,—
Шквал его сгреб и унес.
Высмеем мудрецов,
Портивших зрение за
Чтеньем громоздких томов:
Если б не эта гроза,
Кто б из них поднял глаза?
Высмеем добряков,
Тех, кто восславить дерзнул
Братство и звал земляков
К радости. Ветер подул,
Где они все? — Караул!
Высмеем, так уж и быть,
Вечных насмешников зуд —
Тех, кто вольны рассмешить,
Но никого не спасут;
Каждый из нас — только шут.
(У. Б. Йейтс, «Тысяча девятьсот девятнадцатый», V)
IV. По-видимому, в 1983 году поэзия Йейтса еще осталась для Бродского плохо исследованным континентом. Тут, может быть, сказалось усвоенное в молодости предубеждение: для А. Сергеева, который был тогда его главным советчиком в английской литературе, Элиот стоял намного выше Йейтса. И хотя на протяжении последующих лет разочарование Бродского в Элиоте росло и одновременно прояснялось значение Йейтса, но до серьезного изучения его поэзии дело, по-видимому, не дошло. К такому выводу невольно приходишь, прочитав у Бродского такой комментарий к стихам Одена «Памяти У. Б. Йейтса»: «…вскоре я понял, что даже его структура была задумана, чтобы отдать дань умершему поэту, подражая в обратном порядке собственным стадиям стилистического развития великого ирландца вплоть до самых ранних: тетраметры третьей — последней — части стихотворения» [10] .
Это, увы, совершенно неверно. Тетраметры финальной части подражают не самым ранним стихам Йейтса, а как раз наоборот — одному из последних его стихотворений «В тени Бен-Балбена» ( Under Ben Bulben , 1938). Оно было напечатано посмертно как стихотворное завещание поэта сразу в трех газетах: «Айриш таймз», «Айриш индепендент» и «Айриш пресс» 3 февраля 1939 года и, несомненно, вдохновило перо Одена (чья элегия памяти Йейтса, заметим, была опубликована уже 8 марта в еженедельнике «Нью рипаблик»).
Более того, первые две части стихотворения Одена, написанные верлибром, не имеют никаких параллелей ни у позднего Йейтса, ни у раннего; он вообще никогда не писал свободным стихом, не терпел его бесформенности и аморфности. Чтобы убедиться в этом, не нужно даже читать Йейтса — достаточно полистать том его стихов и убедиться в этом, так сказать, визуально.
У Шеймаса Хини, беседовавшего с Бродским на эту тему, также создалось впечатление, что здесь у него «некий пробел», что он «недостаточно вдумчиво читал Йейтса» [11] . Как свидетельствует Томас Венцлова, «Бродский отвергает много книг и авторов с самого начала и, пожалуй, не стремится <…> к литературоведческой „широте горизонта”. Зато он постоянно вчитывается в любимых авторов — то в Баратынского, то в Цветаеву, то во Фроста, то в Томаса Гарди, то в Монтале» [12] . По-видимому, Йейтс был отвергнут «с самого начала». Причина, как я уже говорил выше, могла быть случайной. Возможно, он просто наслушался слухов и анекдотов — как от Одена и людей его круга, так, еще раньше, от Сергеева. Бродский был предан друзьям и доверял их мнению.
А ведь положение в литературном мире у Бродского и у Йейтса (в его поздние годы) было во многом схожее. Небольшой круг понимающих друзей, а за ним — море завистников и недоброжелателей, морщащихся при упоминании эксцентричного выскочки с обветшалыми понятиями о поэзии. И Йейтс и Бродский были «староверами», приверженцами классической формы, не принимавшими модернизма и авангарда.
Кроме того, они были близки метафизически . Под этим словом я не имею в виду отношения к потустороннему; хотя и тут было некоторое сходство. Оба не принадлежали к какой-то определенной конфессии. Йейтсу была близка идея метемпсихоза, учения индийских мистиков. Бродский в молодости тоже был сильно впечатлен индийскими священными текстами и даже пришел к выводу, что «метафизический горизонт иудаизма (оставим пока христианство) гораздо у же горизонта индуизма». Впрочем, он выбрал христианство — не как догму, разумеется, а как культурную традицию, наиболее ему близкую.
Оба верили в величие замысла, оба были людьми, верными данной присяге (oath-bound) [13] . Оба стоически относились к смерти и, что особенно примечательно, к старости и физическому распаду, сделав их — может быть, впервые после Джона Донна — высокой поэтической темой. Оба трактовали эту тему в смешанном патетически-комическом ключе: Бродский, как мы помним, сравнивал состояние своих кариесных зубов с «Грецией древней, по меньшей мере», Йейтс писал, что старость привязана к нему, «как банка к собачьему хвосту», называл свое сердце «лавочкой старья». Что касается переселения душ в соответствии с фазами Луны — теория, тщательно разработанной Йейтсом в «Видении», — то она была для него скорее поэтическим конструктом, чем реальностью или даже вероятностью.
«Поэзия — Голос Одинокого Духа», — верил Йейтс, повторяя формулу своего отца-художника. Одиночество в конечном итоге составляет неделимый остаток поэзии Йейтса. Его улетающий лебедь улетает «в пустоту небес» [14] . По-видимому, в ту самую пустоту, которая, по Бродскому, «и вероятнее, и хуже Ада».
Эпиграфом к «Осеннему крику ястреба», одному из самых сильных стихотворений Бродского, можно было бы поставить слова из йейтсовской автоэпитафии: «Хладно взгляни на жизнь и на смерть…»
Cast a cold eye
On life, on death.
Поднимаясь все выше и выше, ястреб Бродского озирает все дальше уходящую от него землю, все шире раздвигающийся горизонт мира, и наконец испускает пронзительный крик, «похожий на визг эриний».
Я хочу обратить внимание на крик, который у Йейтса издает ястреб-оборотень , охраняющий родник бессмертья (в пьесе «Ястребиный источник»). А также — в другой пьесе кухулинского цикла — на птичий крик, который раздается в момент смерти Кухулина, привязавшего себя к скале, чтобы умереть стоя. Убивает героя в этом сюжете придурковатый Слепой, которому обещали за голову Кухулина несколько золотых монет.
К у х у л и н
Уже я вижу
Тот образ, что приму я после смерти:
Пернатый, птичий образ, осенивший
Мое рожденье, — странный для души
Суровой и воинственной.
С л е п о й
…Плечо, —
А вот и горло. Ты готов, Кухулин?
К у х у л и н
Сейчас она и запоет.
Птичий крик у Йейтса — один из сквозных символов его поэзии, перешедший к нему из ирландских мифов и поверий…
Впрочем, здесь не место подробнее говорить о параллелях между Йейтсом и Бродским: это отдельная, почти не разработанная тема. Хочу лишь присоединиться к словам Шеймаса Хини: «Если и существовал поэт, достойный восхищения Иосифа, это был Йейтс» [15] .
V. Первое знакомство Бродского с поэзией Одена, как мы знаем, состоялось в селе Норенском. Присланная ему книга английской поэзии «случайно открылась» на оденовском «Памяти У. Б. Йейтса». Больше всего его поразила третья часть, особенно строки о Времени, которое —
Worships language and forgives
Everyone by whom it lives;
Pardons cowardice, conceit,
Lays its honours at their feet.
То есть Время «боготворит язык и прощает тем, кем язык жив, прощает трусость и тщеславие и слагает почести к их ногам». Ошеломленный этими строками поэт вряд ли сознавал тогда, что ритм, на котором зиждется сила этих строк (помимо их буквального смысла), заражен — заряжен! — энергией вдохновивших их стихов Йейтса:
Irish poets, learn your trade, Sing whatever is well made, Scorn the sort now growing up All out of shape from toe to top, Their unremembering hearts and heads Base-born products of base beds.
Верьте в ваше ремесло,
Барды Эрина, — назло
Этим новым горлохватам,
В подлой похоти зачатым,
С их беспамятным умом,
С языком их — помелом.
Строки, по стилю и по духу, совершенно, если так можно выразиться, «бродскианские». Бродский, как и Йейтс, презирал беспамятность и бесформенность в искусстве. Известно отношение Йейтса к современному авангарду, наилучшим образом выраженное в его двустишии:
I went to a museum,
saw art ad nauseam.
В хлестком, но верном переводе А. Олеара:
Музей с халявной водкой схож:
смотрел ли, пил, одно: блюешь.
Предубеждение Бродского сказывается и в его замечании о размере, общем для «Пасхи 1916» и «Сентября 1939», в котором он отдает предпочтение последнему: «…если Йейтс пользовался этим размером для выражения своих чувств, Оден теми же средствами стремится сдержать их» [16] . С этим трудно согласиться. «Пасха» Йейтса написана с не меньшей мерой сдержанности, чем «Сентябрь» Одена, и ее форма, вопреки мнению Бродского, не нейтральна по отношению к их стилю — сдержанность задана в самом его суховатом, с перебивами, ритме.
Вообще, представление о методе Йейтса как о поэтическом волхвовании и бренчании на струнах характерно для незнакомых с поздней поэзией Йейтса, а это два самых плодотворных его десятилетия.
Если бы тогда, в ссылке, читая элегию Одена на смерть ирландского поэта, Бродский был знаком с поздними стихами Йейтса, он бы не мог не обратить внимания, что строки: «Sing of human unsuccess / In a rapture of distress» («Воспой тщетность человеческих усилий / в упоении горя»), — эта, может быть, высшая точка, которой когда-либо достигал лиризм Одена, — лишь отзвук сквозной темы позднего Йейтса: от песен Безумной Джейн до таинственного голоса, восклицающего «Rejoice!» из пропахшей тленом пещерной глубины («Круги»), от древних зодчих, беспечно строящих на обломках порушенного («Ляпис-лазурь»), до защитников последней цитадели, связанных клятвой не сдаваться («Черная башня»).
VI. Йейтса и Одена называют по привычке поэтами полярными; это повторяет и Бродский в своих разговорах с Соломоном Волковым. Конечно, в тридцатые годы они принадлежали к двум противоположным лагерям. «Оксфордскую антологию современной поэзии» Йейтса, в предисловии к которой он подвергся критике, Оден называл худшей книгой, когда-либо выпущенной издательством «Кларендон пресс». Иронические шпильки в элегии на смерть поэта (что само по себе нонсенс) и долгий спор, который вел с ним Оден в своих пяти статьях о Йейтсе [17] , казалось бы, подтверждают тезис об отталкивании. Но само число этих статей не говорит ли о влечении и зависимости?
Оден и сам косвенно признает это в своей статье «Йейтс как пример». Великим поэтом можно назвать лишь того, пишет он, кто способен плодотворно влиять на других. «Йейтсу удалось ввести такие новшества, которые отныне пригодятся любому поэту» [18] . И хотя Оден подчеркивает, что это касается в первую очередь просодии и раскрепощения английского регулярного стиха, очевидно, что ему «пригодилось» и многое другое, что он позаимствовал у Йейтса. В чем мы могли убедиться выше. И не зря в стихотворении «Благодарность», написанном незадолго до смерти, в числе определивших его путь авторов он назвал Йейтса, а отнюдь не своего первопечатника и покровителя Элиота. Выработанная в зрелые годы поэтика Одена предполагает, что любое стихотворение основано на соперничестве Просперо и Ариэля — разума и чувства, правды и красоты, мудрости и музыки. А кого в английской поэзии можно называть модельным воплощением этой оппозиции? Конечно Йейтса, любимой маской которого был маг Робартис, Йейтса — адепта тайных наук, который всю жизнь только тем и занимался, что общался с духами.
Известно, что скрещиваться и давать потомство могут лишь животные одного вида. Подобно тому и для плодотворного влияния в литературе необходима внутренняя, «генная», близость писателей, они должны быть «одной крови». Суть в том, что Оден и Йейтс, вопреки поверхностным расхождениям, оба принадлежали к романтической традиции. Ведь ирония не враждебна романтизму, а, наоборот, является его характерной чертой. «Сильная идея сообщает часть своей силы тому, кто ее отрицает» (М. Пруст).
Разумеется, каждый поэт — сложный результат органических предпосылок и внешних воздействий. Однако не все они равнозначны. Ричард Эллман, подробно обсуждая этот вопрос в своей книге «Экспроприация», приходит к выводу, что ни один поэт не оказал на Одена такого влияния, как Йейтс [19] . Приводимые в данной статье комментарии к «1 сентября 1939 года» дают, на мой взгляд, дополнительные аргументы в пользу такой точки зрения. Год переезда в Америку был поворотным для Одена, и поэзия Йейтса в тот момент оказалась для него важнейшим ориентиром, точкой скорее притяжения, чем отталкивания.
О том, как Набоков Мандельштама защитил
( Набоков, Мандельштам и Лоуэлл)
I. «Идея буквального перевода представляет хроническое, постоянно исчезающее, изживаемое и постоянно возвращающееся заблужденье», — писал Б. Пастернак в своих «Заметках о переводе» [20] . Здесь Пастернак, конечно, имеет в виду смену эпох и поколений, неизбежную пыль времени, которая ложится на зерцало истины (которую вновь и вновь приходится стирать), а не какого-то отдельного индивидуума, чьи взгляды колеблются, как маятник, с известным интервалом меняясь на противоположные. Потому так интересен случай В. Набокова — редкий пример литератора, чьи переводческие принципы с годами переменились, так сказать, в «антиэволюционную» сторону.
В статье 1941 года «Искусство перевода» Набоков формулирует, какими качествами должен обладать настоящий переводчик, чтобы идеально воссоздать шедевр иностранной литературы. Таких качеств три. «Прежде всего он должен быть столь же талантлив, что и выбранный им автор, либо таланты их должны быть одной природы». «Во-вторых, переводчик должен прекрасно знать оба народа, оба языка, все детали авторского стиля и метода <…>, исторические аллюзии». И наконец, в-третьих, «наряду с одаренностью и образованностью он должен обладать способностью к мимикрии, действовать так, словно он и есть истинный автор, воспроизводя его манеру речи и поведения, нравы и мышление с максимальным правдоподобием» [21] .
Как мы видим, это принципы перифрастического перевода, а не буквального. «Я обнаружил, — пишет Набоков, — что так называемый буквальный перевод, по сути, бессмыслица» [22] . В качестве примера он берет первую строку стихотворения Пушкина «Я помню чудное мгновенье…». «Если посмотреть в словаре эти четыре слова, — пишет Набоков, — то получится глупое, плоское и ничего не выражающее английское предложение: „I remember a wonderful moment”. Как поступить с птицей, которую вы подстрелили и убедились, что она не райская, а всего лишь упорхнувший из клетки попугай, который, трепыхаясь на земле, продолжает выкрикивать глупости? Как ни старайся, английского читателя не убедишь, что „I remember a wonderful moment” совершенное начало совершеннейшего стихотворения» [23] .
Но проходит двадцать лет, и Набоков публикует перевод «Евгения Онегина», основанный на диаметрально противоположных принципах. В предисловии к нему он заявляет: «Единственная обязанность того, кто хочет перевести литературный шедевр на другой язык, это воспроизвести с абсолютной точностью весь текст и ничего, кроме текста» [24] .
В чем причина этой перемены? Мне кажется, психологически она понятна. Несмотря на то что английский язык Набоков знал с детства и прекрасно на нем писал, он все-таки не был его родным языком. Он сам сказал об этом с обычной своей метафорической точностью: «Мой английский, конечно, гораздо беднее русского: разница между ними примерно такая же, как между домом на две семьи (a semi-detached villa) и родовой усадьбой, между скромным комфортом и привычной роскошью» [25] .
Этого английского хватало, чтобы писать великолепные романы и даже собственные стихи. Но для того, чтобы перевести «Евгения Онегина», скромных ресурсов «половины домика в пригороде» было недостаточно, нужна была роскошная родовая усадьба. Эпиграммы, отрывки из «Маленьких трагедий», написанные белым стихом, — другое дело; но там, где нужно сохранить и череду рифм, и точный смысл текста («что математически невозможно», — замечает Набоков в скобках), там он не мог рассчитывать на полный успех, а такому перфекционисту, как Набоков, было все равно — стерпеть полупобеду или одержать поражение .
Он уже успел ощутить оскомину от кислого приема, оказанного выпущенной им ранее книги «Три русских поэта» (Пушкин и немного Лермонтова и Тютчева) и не мог допустить, что станет автором такого переложения «Онегина», которое окажется — в его собственных глазах — опошлением шедевра, вроде ненавидимой им оперы Чайковского. Лучше озадачить читателя и критика неудобочитаемым, но зато как бы научным текстом. Лучше уж абсолютно точный, подстрочный, дословный перевод, в жертву которому переводчик должен принести все — включая «„гладкость” (она от дьявола), идиоматическую ясность, число стоп в строке, рифму и даже в крайних случаях синтаксис» [26] .
Бесполезно спорить с Набоковым. Можно доказывать, что смысл оригинала — пушкинской поэмы — не в сюжете и даже не в деталях сюжета, не в «брусничной воде» и не в особенностях русского быта, а в летучих, прелестных пушкинских стихах, в которые все это легло и навеки застыло, обессмертилось. Это очевидно всякому русскому читателю — от школьника до пушкиноведа. Но к чему — разве Набоков знал это хуже нас? Священный ужас, благоговение перед оригиналом заставило его отступить, а там и подвести теорию под свое отступление, примкнув к «иудейско-эллинской» традиции перевода в духе «семидесяти толковников» [27] .
Мандельштам писал в стихотворении 1933 года: «Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть, / Ведь все равно ты не сумеешь стекло зубами укусить». Думаю, что, несмотря на все proficiency Набокова в английском, он иногда чувствовал стекло между двумя языками… «И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб, / Получишь уксусную губку ты для изменнических губ»… И ощущал на губах этот уксус, и сознавал себя изменником, как в финале гениального стихотворения «An Evening of Russian Poetry», где сам называет себя «отступником»:
How would you say «delightful talk» in Russian?
How would you say «good night?»
Oh, that would be:
Bessonitza, tvoy vzor oonyl I strashen;
lubov’ moya, outstoopnika prostee.
(Insomnia, your stare is dull and ashen,
my love, forgive me this apostasy.)
Обобщая, как я понимаю, опыт переводов русской поэзии на английский (в том числе свой опыт), он сформулировал окончательный вывод: «Скончавшийся под пыткой автор и обманутый читатель — вот неизбежный итог претендующих на художественность переложений. Единственная цель и оправдание перевода — дать наиболее точные из возможных сведения, а для этого годен лишь буквальный перевод, причем с комментарием» [28] . Иными словами — прощай, Жуковский! Здравствуй, профессор Грасхоф из Дюссельдорфа, объясняющий Гомера!
И все-таки он взял реванш за свою обдуманную ретираду в переводе пушкинского романа. Я говорю, конечно, о его комментариях, их неожиданных отлетах и свободном парении в пространстве. К. И. Чуковский в своем, как всегда, остроумном и увлекательном разборе пишет: «Этого еще никогда не бывало, чтобы, взявшись за составление пояснительных примечаний к тому или иному литературному памятнику, какой-нибудь ученый исследователь вдруг начисто забывал о предмете своих толкований и тут же заводил разговор на совершенно посторонние темы. У Набокова это на каждом шагу» [29] .
Да, у исследователей такого не бывало. А у Пушкина в «Онегине» — на каждом шагу. Набоков воспроизводит в своих комментариях стиль увлекающегося автора стихотворного романа, его неожиданные лирические отступления, избыточную щедрость фонтанирующего гения.
II. Остановимся на одном эпизоде, связанном с переводом русских стихов на английский, в котором Набоков выступает не как автор, а как жаждущий крови критик. Речь идет о стихотворении Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков…» в переводе Роберта Лоуэлла, помещенном в сборнике «Поэты на перекрестке», составленном Ольгой Карлайл [30] . Набоков подвергает этот перевод уничтожающей критике, предлагая взамен свой — точный и аккуратный. Он пишет: «Я прекрасно понимаю, что холод яростной верности оригиналу не позволит моему старательному буквальному воспроизведению одного из шедевров русской поэзии стать замечательным английским стихотворением; но я также понимаю, что это настоящий перевод, пусть и лишенный живости и рифм, и что приятный стишок автора адаптации — всего-навсего смесь ошибок и импровизации, уродующая прекрасное стихотворение…» [31] .
Здесь мы снова сталкиваемся с поздней переводческой концепцией Набокова. Он утверждает, что его перевод — «настоящий», ибо равен оригиналу за вычетом «живости и рифм», а между тем он отличается от стихотворения Мандельштама примерно так, как палка отличается от цветущего куста. Он как будто забыл то, что писал в «Искусстве перевода», и попытался снова подстрелить райскую птицу — в данном случае, Мандельштама. Но вряд ли он мог убедить читателя «Нью-йоркского книжного обозрения», что «For the sake of the resonant valor of ages to come» — совершенное начало одного из шедевров русской поэзии. Как я намереваюсь показать дальше, и «точность» его перевода тоже весьма относительна.
Что касается критики Набоковым в адрес Лоуэлла, то по этому поводу имеется интересный документ, опубликованный недавно американскими славистами [32] . Это письмо Н. Мандельштам редактору еженедельника, поместившего статью Набокова:
«Дорогой мистер Силверс, благодарю Вас за присылку мне письма Набокова по поводу одного из стихотворений моего покойного мужа. Мне было интересно познакомиться с этим шедевром Набокова. Говорят, что он великий писатель и поэт. Но, по-моему, его письмо о Роберте Лоуэлле написано не так, как подобает говорить между собой поэтам. Каждое слово в этом письме отзывается собачьим лаем, недостойным писателя. Ему явно не хватает сочувствия и понимания другого. То, что он пишет о переводе Лоуэлле, можно было бы сказать о замечательных стихах Державина „Задумчивость” (Из Петрарки), о Батюшкове, многим обязанным иноязычным поэтам, о Жуковском, чья версия „Лесного царя” Гёте далека от буквальной точности. <…>
Поэтический перевод — всегда вольный, свободный. Это своего рода разговор, общение собратьев, говорящих на разных языках. Стихи настоящего поэта принадлежат всем, и каждая дружеская душа может интерпретировать их, предлагать свою версию и свое понимание. Если кому-то не нравится, он может попробовать сделать по-своему. Это единственный верный метод критики переводов. Брани и облаиванью тут не место.
Лоуэлл кажется мне хорошим человеком и отличным поэтом. Я ощущаю к нему лишь благодарность за его переложение стихов Мандельштама. Это выражение поэтического братства, не имеющего ничего общего с „литературой”.
Хочу добавить еще несколько слов по поводу замечания Набокова, что „образный строй поэта — вещь святая и неприкосновенная”. Лоуэлл тоже поэт. Его образный строй должен уважаться таким же образом, хотя он и основан на стихотворении Мандельштама. <…>
У каждого языка свои образы. Стихотворение можно передать, только посредством образного строя того языка, на который оно переводится. Любой перевод — своего рода адаптация. Каждая в чем-то хороша и в чем-то неудовлетворительна. Будем благодарны за хорошее и не будем набрасываться на поэта-переводчика за то, что нам не нравится. <…>
Простите меня за ошибки в английском. У меня болят глаза и нет возможности каждый раз справляться со словарем.
Искренне Ваша
Надежда Мандельштам
Передайте мой сердечный привет Роберту Лоуэллу и скажите Набокову, что я желаю ему быть добрее. Доброта — лучшее качество в человеке» [33] .
Этот отзыв тем более интересен, что, как известно, Надежда Мандельштам не отличалась голубиным нравом и спуску никому не давала. Но в данном случае она, безусловно, права, даже с чисто логической точки зрения: обращение крупных западных поэтов к стихам Мандельштама содействовало росту его репутации в мире; нереально ожидать, что с первого или второго раза его поэзия будет передана верно и конгениально. Нельзя отбивать у будущих переводчиков охоту пробовать снова и снова.
III. Сравним первую строфу Мандельштама в вольном переводе Лоуэлла [34] и в «буквальном переводе» Набокова.
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей —
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
(О . Мандельштам )
For the sake of the resonant valor of ages to come,
for the sake of a high race of men,
I forfeited a bowl at my fathers’ feast
and merriment, and my honour.
(В . Набоков )
In the name of the higher tribes of the future,
in the name of their foreboding nobility,
I have had to give up my drinking cup at the family feast,
my joy too, my honor.
(Р. Лоуэлл)
Удивительно, но Набоков как будто не замечает, что его «старательное буквальное воспроизведение» не является точным даже на лексическом уровне. «За» (начнем с начала) не эквивалентно for the sake , что по-английски подразумевает только цель (for the sake of money, for the sake of glory — ради денег, ради славы) . В то время как русский предлог «за» включает еще, во-первых, идею защиты («за-щитить», «вступиться за») и, во-вторых, идею заслуги («за-служить благодарность») и даже идею несправедливого осуждения («За что вы меня?»).
Главное отличие поэтической речи от прозаической в том и состоит, что в прозе обычно можно выделить главный смысл каждой речевой единицы (на этом основывается обычный для словарей прием иллюстрации значений слов литературными примерами). В то время как в поэзии ощущаются одновременно все значения слова, все они важны и функциональны. «Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку», — писал Мандельштам в «Разговоре о Данте».
Мы видим, что уже из первого же слова оригинала — предлога «за» — «смысл торчит в разные стороны», а английская замена, выбранная Набоковым, намного беднее и проходит к этим значениям по касательной. И это только начало. Дальше то же самое происходит с каждым словом: берется куст значений, и от него отламываются все веточки, кроме одной. В результате, как было сказано выше, цветущий куст превращается в палку.
Но дело не только в этом. Если бы каким-то невообразимым чудом Набокову удалось сохранить все семантическое, словарное богатство каждого слова, стихотворение все равно бы было разрушено. И не только из-за разрушения его волшебных «звукосмыслов» («за гремучую доблесть грядущих веков»!), но из-за утраты русского поэтического контекста, который расширяет, уточняет, а порой и определяет значение поэтического высказывания. Без контекста не может быть полноценного понимания.
Набоков считает эпитет Мандельштама «гремучий» усилением эпитета «гремящий». Дело вкуса. По словарю оба слова — синонимы, хотя в литературном языке «гремящий» полностью вытеснило «гремучий», которое осталось лишь в народном употреблении, а также в топонимах типа «Гремучий ручей» и в составе таких терминов, как «гремучая змея», «гремучий газ» и «гремучая ртуть». «Гремучая доблесть» звучит необычно и в то же время что-то неуловимо напоминает. Чтобы вспомнить, что именно, заглянем в «Словарь языка А. С. Пушкина». Это тем более естественно, что Пушкин, хотя и редко упоминаемый впрямую в сочинениях Мандельштама, всегда находился в центре его художественного сознания. Ирина Сурат, автор книги о Пушкине и Мандельштаме, свидетельствует: «Пушкинское слово, прочно вошедшее в генетическую память Мандельштама, живет в его стихах, прозе, статьях на всем протяжении творчества» [35] .
Из «Словаря языка А. С. Пушкина» выясняется, что слово «гремучий» Пушкин употреблял по отношению к морю и к буре («гремучий вал», «бурь гремучих»), а также в разговоре о стихах и поэтической славе. В первый раз, в «Евгении Онегине», где он говорит об убитом Ленском:
Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла…
Второй раз — в неопубликованном при жизни стихотворении, предположительно 1828 года:
В прохладе сладостной фонтанов
И стен, обрызганных кругом,
Поэт, бывало, тешил ханов
Стихов гремучим жемчугом.
Сравните: «За гремучую доблесть грядущих веков…» и «Гремучий, непрерывный звон в веках…», который могла бы поднять поэтическая лира Ленского. Так «Евгений Онегин» дает нам ключ к прочтению первой строки Мандельштама, самой по себе отнюдь не очевидной. И. Сурат пишет по поводу этой строки: «...„гремучая доблесть” — (сомнительная характеристика будущего)…» [36] . Но оказывается, Мандельштам говорит здесь не о будущем вообще, а о своей громкой («гремучей») славе в будущих веках. Кстати, почему «доблесть», а не слава? Потому, что призвание поэта сродни воинскому и требует не меньшего мужества. Это постоянный мотив Мандельштама: «Мы умрем, как пехотинцы, / Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи» (из стихов «Полночь в Москве…» 1931 года).
«Мандельштам воспринял от Пушкина тему высшего призвания и жертвенного служения поэта», — говорит критик [37] . Это, безусловно, так. Думаю, не будет преувеличением сказать, что «За грядущую доблесть…» в его творчестве, по сути, занимает место «Памятника». Енисейская сосна, которая «до звезды достает», — его «Александрийский столп». Поэт, который лишился «и веселья, и чести своей», немедленно вызывает ассоциации с Пушкиным в последние месяцы перед дуэлью [38] .
Естественно, что и свои отношения со Сталиным Мандельштам воспринимал сквозь призму отношений Пушкина с царем; отсюда проистекают поиски компромисса, надежды на возможность диалога. Отсюда — «Стансы», отсюда строфа: «И к нему, в его сердцевину / Я без пропуска в Кремль вошел, / Разорвав расстояний холстину, / Головою повинной тяжел...». Последняя строка — явная реминисценция пушкинской аудиенции в Кремле с Николаем I, закончившим ссылку поэта.
Как мы видим, пушкинский подтекст совершенно необходим для понимания стихотворения «За гремучую доблесть…». Как показывают черновики, в процессе работы над ним мучительный раскол сознания поэта, ощущение своего соучастия в творящемся зле («Я и сам ведь такой же, кума») — преодолеваются, уходят в другие, смежные стихи [39] . Стихотворение постепенно перестраивается под пушкинский «Памятник». Оно как бы находит наконец свой жанр, проникается его торжественной интонацией, его повелительным наклонением. Трагические мотивы — век-волкодав, кровавые казни — не мешают этому основному тону. Лишь в какой-то момент прорывается элегическая лермонтовская нота: «Чтоб сияли всю ночь голубые песцы / Мне в своей первобытной красе…» — и подводит к последней мощной строфе:
Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
Где сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
Пушкин в «Памятнике» обращается к Музе и велит ей слушаться Бога и не страшиться обид; у Мандельштама адресат повелительного наклонения не назван по имени. Но пушкинское «И не оспоривай глупца» — звучит так же весомо, как мандельштамовское: «И меня только равный убьет».
IV. Но это не все. Наряду с пушкинским, здесь есть еще и английский подтекст, не менее важный. Выше я сказал, что в творчестве Мандельштама стихотворение «За гремучую доблесть…» играет роль пушкинского «Памятника». Смущает только то, что написано оно совсем в другом размере. Каком же?
Известно, что у каждого размера и каждой стихотворной строфы есть определенный «семантический ореол». Так, ритм «Песни о вещем Олеге» лежит в основе ахматовского стихотворения 1942 года «Мужество» («Мы знаем, что ныне лежит на весах / И что совершается ныне…»), усиливая их торжественное звучание.
Рассматриваемое нами стихотворение Мандельштама написано размером классической английской баллады. Конкретней, баллады В. А. Жуковского «Замок Смальгольм, или Иванов вечер». Выпишем здесь из нее две первые строфы; хотя для выявления ритма достаточно одного, но мы хотим услышать еще кое-что… Позволим также — для наглядности — сделать балладные отступы в строфе Мандельштама.
До рассвета поднявшись, коня оседлал
Знаменитый Смальгольмский барон;
И без отдыха гнал, меж утесов и скал,
Он коня, торопясь в Бротерстон.
Не с могучим Боклю совокупно спешил
На военное дело барон;
Не в кровавом бою переведаться мнил
За Шотландию с Англией он…
(В.Скотт / Жуковский)
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей…
(О. Мандельштам)
Выше мы задавали вопрос: почему «доблесть», а не «слава»? Потому что подкреплено семантическим ореолом рыцарской баллады. «Не в кровавом бою переведаться мнил / За Шотландию с Англией он». (А тремя строфами ниже: «Где за родину бился Дуглас».) В своей балладе Мандельштам тоже решает «переведаться» с кое с кем — за то, что было для него дорого и свято.
Романтический рыцарский фон, привносимый размером баллады, может быть ответствен и за некоторые другие «странные» черты стихотворения Мандельштама. Например, почему — «сибирских степей»? Обычно мы связываем Сибирь с лесами, с тайгой, а не со степями. Но это так, если смотреть из Москвы. А если смотреть с другого края Европы, то все оденется в некую дымку и будет выглядеть приблизительно, не резко. «Steppe» (степь) — одно из русских слов, которое давно вошло в английский язык; в сознании англичанина Siberia и steppe лежат где-то рядом. Потому увиденная из Англии Сибирь вполне может превратиться в «сибирские степи» (the Siberian steppe) . Так же и две строки с «голубыми песцами» как будто переведены с английского («песец» по-английски «Arctic fox» или «polar fox», то есть полярная лисица). Опять-таки имеет место английская контаминация Сибири и Арктики. Роберт Лоуэлл с большим энтузиазмом перевел эти две строки: «I want to run with the shiny blue foxes / moving like dancers in the night» — «Я хочу бежать с мерцающими голубыми (полярными) лисицами, движущимися словно танцоры в (лунной?) ночи». Это напоминает арктическую сцену, которой Уистен Оден заканчивает стихотворение «Падение Рима» («The Fall of Rome»), — стада арктических оленей, бегущих по золотистому мху тундры «бесшумно и очень быстро»:
Altogether elsewhere, vast
Herds of reindeer move across
Miles and miles of golden moss,
Silently and very fast.
Параллель уместна потому, что поэтический жест тот же самый: Мандельштам отворачивается от гнусных сцен советской империи: «Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, / Ни кровавых костей в колесе…», а Оден — от постылого зрелища гниющей Римской империи, всех этих храмовых проституток, боязливых литераторов (у Одена те и другие соседи по строфе), фискальных агентов, преследующих по водосточным трубам неисправных должников, и так далее. Оба хотят перенестись от этой грязи и мерзости туда, где человек еще ничего не испоганил, и таким местом обоим видится — арктическая тундра, берега Ледовитого океана.
«И меня только равный убьет». Существует много разных интерпретаций этой последней строки стихотворения Мандельштама [40] ; но самый общий смысл проясняется, как ни странно, если перевести это предложение на английский язык. По-английски «равный» — пэр ( peer ). Одно из главных прав, данных Великой хартией вольностей, было право баронов быть судимыми только судом пэров, то есть судом равных ( judicium parium ). «Равный» — это вообще понятие феодальное, иерархическое. Для рыцаря есть нечто похуже смерти — бесчестная смерть. Казнь тем и позорна, что это смерть от руки палача — человека подлого сословия. Эдмунд в «Короле Лире», сраженный на поединке воином, скрывшим свое лицо и имя, успокаивается, узнав перед смертью, что сразивший его — человек не менее высокого происхождения (его брат Эдгар).
Мандельштам в финале своего стихотворения заявляет свое право на суд равных.
Но увы, настали совсем другие, подлые времена, и поэты это ощутили одними из первых. В январе 1939 года — меньше чем через месяц после смерти Мандельштама в пересыльном лагере под Владивостоком и за несколько дней до собственной смерти — Уильям Йейтс заканчивает пьесу «Смерть Кухулина», о которой я уже писал в первом эссе. В ней великого ирландского героя Кухулина, израненного в битве и привязавшего себя к скале, чтобы умереть стоя, убивает… мерзкий Слепой, которому обещали за это несколько монет. Держа в руке хлебный нож, обшаривает тело Кухулина и на ощупь находит горло…
«Власть отвратительна, как руки брадобрея…» (О. Мандельштам).
Эту судорогу отвращения от прикосновения чужих подлых рук к своему горлу мы ощущаем и у Мандельштама и у Йейтса. Эту бесчестную смерть и отстраняет от себя Мандельштам — пытается отстранить — торжественным восклицанием:
И меня только равный убьет.
Своего рода пророчество Мерлина. Ведь поэзия — пережиток древней магии. Остаток этой веры в душе поэта неистребим: что сказано, то и сбудется.
V. Мы должны были сделать это литературоведческое отступление, чтобы лишний раз выявить ненадежность буквалистского подхода. Набоковский перевод первой строки Мандельштама мало что объясняет читателю, скорее уводит в сторону. Сомнителен и перевод второй строки; «high race» в наше время ассоциируется скорее с «высшей расой» или с «гонками, скачками и бегами», чем с тем, что имел в виду Мандельштам. Может быть, поэтому Лоуэлл и сказал: «the higher tribes of the men», а не «the high race», как еще можно было написать в начале XX века [41] .
Обратимся снова к началу перевода Лоуэлла:
In the name of the higher tribes of the future,
in the name of their foreboding nobility
Набоков комментирует их следующим образом: «Г-н Лоуэлл передает это выражение как „foreboding nobility” (благородство, предчувствующее несчастье), что бессмысленно и как перевод, и как адаптация…». Почему же бессмысленно? Поэт пишет для будущего, для тех прекрасных и благородных людей, которые тогда будут жить, он хочет им пригодиться, и не просто, а тогда, когда им будут грозить пока еще неведомые беды. «Во имя высоких людей грядущих веков, во имя их благородных сердец, предчувствующих надвигающееся зло…» Так примерно можно перевести обратно на русский строку Лоуэлла, и я не думаю, что она не имеет смысла, хотя и привнесена в стихотворение переводчиком.
Теперь о последней строке перевода Лоуэлла, про которую Набоков говорит, что «перебивает хребет стихотворению Мандельштама». Тут надо напомнить, что единственный опубликованный тогда вариант (неокончательный вариант Мандельштама) звучал так: «И неправдой искривлен мой рот». Лоуэллпереводитконцовкутак:
There the Siberian river is glass,
there the fir tree touches a star,
because I don’t have the hide of a wolf,
or slaver in the wolf trap’s steel jaw.
Последние две строки: «Ибо я не ношу волчью шкуру и не унижаюсь, как раб, в стальных челюстях волчьего капкана» [42] . Набоков заключает, что носить волчью шкуру означает подражать волку, а не быть волком. Не обязательно. По-английски «Я не ношу волчью шкуру» может просто означать «Я не волк». Подобным образом у Шекспира: «Я не вожу телег, не ем овса» означает: «Я не лошадь».
«Slaver» можно перевести по-разному: «раболепствовать, прислуживаться, угодничать, извиваться, льстить» и т. д. Мандельштамовское «И неправдой искривлен мой рот» подразумевает ложь или лесть, вынуждаемые страхом. Образ стального капкана в таком контексте понятен. Но ведь в переводе Лоуэлла все получается наоборот! Я не волк, и, хоть я попал в волчий капкан , я не лгу и не льщу, — говорит у него Мандельштам. В оригинале (в предпоследнем варианте) было не так: я кривлю свои губы ложью (потому что боюсь века-волкодава, его стальных челюстей).
Получается, что Лоуэлл поправил Мандельштама , запретив ему лгать и льстить. Как будто он знал (хотя знать он не мог!), что Мандельштам еще исправит концовку, убрав жалкие слова про искривившую рот неправду, и закончит мужественно и твердо, как подобает великому поэту. Сравните версию Лоуэлла (в обратном переводе) с неизвестным на тот момент окончательным вариантом строфы:
Там сибирская река блестит как стекло,
Там ель достает до звезды, —
Ибо я не ношу волчьей шкуры
Я не льщу, как раб, в стальном зажиме волчьего капкана.
(Лоуэлл)
Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
Где сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей,
И меня только равный убьет.
(Мандельштам, последний вариант)
Значит, права была Надежда Мандельштам, написавшая в письме редактору «Нью-йоркского книжного обозрения»: «Being a poet, he caught the feeling of his brother-poet» . «Будучи поэтом, он понял своего собрата-поэта».
Сказанное выше не означает, что я считаю версию Роберта Лоуэлла адекватным переводом мандельштамовского стихотворения. Конечно нет; для этого они слишком разные по стилю и по стихотворной технике.
Вообще-то, всякий раз, когда я вижу русские классические стихи, переложенные рубленой прозой или ver-libre’ом, мне хочется воскликнуть, как благородной даме за обедом: «Как! Рыбу — ножом?!». Но в данном случае претензий к Лоуэллу у меня нет и быть не может, потому что с самого начала он назвал свой текст не переводом, а подражанием. А подражать никому запретить нельзя. Это — проявление законного интереса и нормальной поэтической общительности. Но в таком случае вся ответственность ложится на подражающего.
Post scriptum
Эти два эссе объединены в «двойчатку» по аналогии с напечатанной в 2010 году парой эссе «Холод и высота» — о стихотворениях Стивенса и Пастернака. В данном случае, по-видимому, тоже надо как-то оправдаться.
Оснований для нынешнего сближения несколько. В первом эссе речь идет о трех поэтах: Бродском, Одене и Йейтсе, во втором — тоже о трех: Набокове, Лоуэлле и Мандельштаме. В первом случае наблюдается перевес англоязычных поэтов, во втором — русских, но в целом паритет соблюден: три на три.
В обоих эссе содержится полемика с выдающимися русскими писателями XX века: в первом случае — с И. Бродским, во втором — с В. Набоковым. Здесь можно сказать — русско-американскими. Такой писатель, по выражению Бродского, «совмещает в себе две мысленных перспективы», он будто сидит на гребне крыши (или, скажем, на трубе ) и видит, что происходит по обеим сторонам его дома — английской и русской.
В статье Бродского, о которой я пишу, он разбирает стихотворение Одена «1 сентября 1939 года», разбирает увлекательно и пристрастно. Однако, на мой взгляд, этот анализ не учитывает в достаточной степени литературного фона момента. Первый год после переезда в США прошел у Одена «под знаком Йейтса», и если прочесть его стихотворение под этим углом, в нем сразу обнаруживается мощный йейтсовский субстрат, — который в конечном счете и объясняет, почему Оден от него отрекся.
В статье Набокова, которой я касаюсь во втором эссе, автор, подвергнув сокрушительной критике вольный поэтический перевод стихотворения Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков…» (Р. Лоуэлла), предлагает вместо него свой прозаический перевод, — по его словам, «настоящий» и точный, «пусть и лишенный живости и рифм». Но его буквальный перевод также оказывается неверным. У стихотворения Мандельштама есть тайные ключи, лежащие вне текста: их надо искать в стихах Пушкина и Жуковского. А за ними маячат Гораций («Памятник») и Вальтер Скотт.
В первом эссе речь идет об анализе стихотворения, во втором — о переводе. Но ведь и перевод является интерпретацией — практическим опытом интерпретации, в отличие от литературоведческого; так что проблемы и ошибки тут схожи. Самой старой и распространенной из них является пренебрежение интертекстуальными связями произведения или недостаточный их учет.
Суть сравнительного подхода, я думаю, заключается в том, чтобы уловить скрытый разговор поэтов, собеседников и сотрапезников «на пире отцов», объяснить стихи стихами, разгадать по аналогии неясное или нарочно зашифрованное (ибо у поэтического мышления есть свои универсальные законы), в конце концов, постичь, как вечное и общее преломляется в неповторимости и отдельности каждой поэтической личности.
Имманентный метод, как его толковал М. Л. Гаспаров и как он описывал его в своей известной статье, кажется мне и внутренне противоречивым, и не очень полезным. Почему внутренне противоречивым? Потому что он, по определению, не должен выходить «за пределы того, о чем прямо сказано в тексте», не должен содержать «сопоставлений с другими текстами» [43] . Но, например, ритм и строфика (которые включаются в имманентный анализ) — октава, сапфическая строфа и т. д. — неявно подразумевают сравнение с чем-то, лежащим «за текстом», и без этого лишены смысла. Вообще, абсолютно изолировать текст невозможно, ведь каждое слово в нем связано с прежним его бытованием в литературе… да хотя бы с Толковым словарем, который тоже — внешний текст.
Но даже если закрыть глаза на это противоречие, что может дать анализ, если взгляд анализирующего ограничен искусственными шорами? Возьмем, например, стихотворение Пушкина «Предчувствие» («Снова тучи надо мною…»), которое Гаспаров разбирает в упомянутой статье. По сути, это жанр валедикции , прощальной элегии:
…Но, предчувствуя разлуку,
Неизбежный, грозный час,
Сжать твою, мой ангел, руку
Я спешу в последний раз.
Вот итог имманентного анализа этого стихотворения: «Никаких особенных открытий мы не сделали (хотя признаюсь, что для меня лично наблюдение, что в этом мире (художественном мире А. С. Пушкина. — Г. К. ) нет природы, быта и интеллекта и что в нем прошедшее время через настоящее и императив плавно приближается к будущему, было ново и интересно)» [44] .
Я не знаю, кому и зачем нужно это наблюдение. Образцово-логический анализ оказывается в конечном счете пустым. Содержательный разговор получился бы, если сравнить «Предчувствие», например, со «Стансами к Августе» Байрона: «Когда время мое миновало / И звезда закатилась моя, / Недочетов лишь ты не искала / И ошибкам моим не судья…». Или со знаменитой немой сценой в передаче Офелии (перевод Б. Пастернака):
Он сжал мне кисть и отступил на шаг,
Руки не разнимая, а другую
Поднес к глазам и стал из-под нее
Рассматривать меня, как рисовальщик.
Он долго изучал меня в упор,
Тряхнул рукою, трижды поклонился
И испустил такой глубокий вздох,
Как будто перенес в него остаток
Последнего дыханья, вслед за чем
Разжал ладонь, освободил мне руку
И удалился, глядя чрез плечо.
Но это был бы уже сравнительный анализ.
[1] В 1945 году оно было напечатано Оденом с выпуском одной проблемной строфы. См. далее.
[2] Бродский И. Об Одене. (С параллельным англ. текстом.) СПб., 2007, стр. 119. В некоторых случаях перевод уточнен по английскому оригиналу.
[3] Там же, стр. 121.
[4] Цит. по: Fuller John. A Reader’s Guide to W. H. Auden. London, 1970, p. 260.
[5] Перевод А. Сергеева.
[6] Переводы Йейтса здесь и далее, за исключением «Пасхи 1916 года», принадлежат автору статьи.
[7] Бродский И. Об Одене, стр. 85.
[8] Там же, стр. 127.
[9] Там же, стр. 57.
[10] Бродский И. Об Одене, стр. 149.
[11] Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников. Книга вторая. СПб., 2006, стр. 374.
[12] Полухина В. Бродский глазами современников. Книгапервая. СПб., 1997, стр. 271.
[13] ИзпоследнегостихотворенияЙейтса «The Black Tower» (1939): «That all are oath-bound men» и «Stand we on guard oath-bound».
[14] Изстихотворения «Nineteen Hundred and Nineteen»: «The swan has leaped into the desolate heaven» («Взлетаетптицавпустотунебес…»).
[15] Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников. Книга вторая, стр. 374.
[16] Бродский И. Об Одене, стр. 57.
[17] Auden W. H.: «The Public v. the Late Mr William Butler Yeats». — «Partisan Review», 1939, spring; «Yeats: Master of Diction». — «The Saturday Review», 1940, 8 June; «Yeats as an Example». — «Kenyon Review», 1948, spring; «I Am of Ireland». — «New Yorker», 1955, 19 March; «The Private Life of a Public Man». — «The Midcentury», 1959, October.
[18] «And Yeats on the other hand has effected changes which are of use to every poet». Auden W. H. «Yeats as an Example». — «Kenyon Review», spring 1948, p. 192.
[19] Ellmann R. Eminent Domain: Yeats among Wilde, Joyce, Pound, Eliot, and Auden. Oxford University Press: New York, 1967.
[20] ЗарубежнаяпоэзиявпереводахБ. Л. Пастернака. М., 1990, стр. 571. Впервые опубликовано в 1966 г.
[21] Набоков В. Лекции по русской литературе. М., 2012, стр. 439.
[22] Там же, стр. 441. Переводуточненпо: Nabokov V. The Art of Translation. — «The New Republic», August 4, 1941. «I discovered that the expression „literal translation” is more or less nonsense».
[23] Тамже, стр. 440.
[24] Translation — History and Practice: A Historical Reader. Ed. Daniel Weissbort and Astradur Eysteinsson. Oxford, 2006, p. 460.
[25] Набоков В. Лекции по русской литературе, стр. 440. Перевод уточнен по оригиналу: Nabokov V. The Art of Translation.
[26] Набоков В. Собр. соч. русского периода в 5-ти томах. СПб., 2003, т. 5, стр. 602.
[27] О разнице между римской (ораторской) и иудейско-греческой (книжной) традициями см.: Кружков Г. М. Луна и дискобол: О поэзии и поэтическом переводе. М., 2012, стр. 11.
[28] Набоков В. Собр. соч. американского периода в 5-ти томах. СПб., 2000, т. 3, стр. 610.
[29] Чуковский К. И. Онегин на чужбине. — В кн.: Чуковский К. И. Высокое искусство. М., 1988, стр. 337.
[30] Carlisle Olga. Poets on Street Corners. Portraits of Fifteen Russian Poets. New York, 1968, p. 142 — 143.
[31] Nabokov V. On Adaptation. — «New York Review of Books», 1969, Dec. 7. Перевод в кн.: «Набоков о Набокове и прочем: Интервью, рецензии и эссе». М., 2002, стр. 584.
[32] Wachtel M., Cravens C.Nadezhda Iakovlevna Mandel’shtam: Letters to and about Robert Lowell. — The Russian Review. 2002, Vol. 61, № 4, p. 529 — 530. См. также: Утгоф Г. М. «Audiatur et altera pars»: К проблеме «Набоков и Лоуэлл». — «Культура русской диаспоры: эмиграция и мифы». Таллин, 2012, стр. 219 — 237.
[33] Перевод автора статьи.
[34] Лоуэлл называл свое переложение не переводом, а «подражанием». Первоначально оно было опубликовано в его книге Imitations (1961), в которую вошли свободные переложения из Бодлера, Рембо, Рильке, Монтале, Пастернака и других поэтов.
[35] Сурат И. Мандельштам и Пушкин. М., 2009, стр. 5.
[36] Там же, стр. 176.
[37] Сурат И. Мандельштам и Пушкин, стр. 9.
[38] Это не единственное стихотворение-завещание Мандельштама. «Сохрани мою речь навсегда…» в том же ряду, хотя пушкинский субстрат в столь явном виде в нем не просматривается. Общее между этими двумя стихотворениями — предлог «за»: «...за привкус несчастья и дыма / За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда…». Слава не как случайность или прихоть времени, но как служение и за-слуга .
[39] Сурат И. Цит. соч., стр. 177.
[40] В этой статье мы не касаемся важнейшего мотива «волка» и «волкодава». Как было показано, он восходит к стихотворению Верлена и связан с темой изгнанничества, Овидия и Рима. См.: Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000, стр. 526 — 534.
[41] Ср. уЙейтсавпьесе «Накоролевскомпороге»: «O silver trumpets, be you lifted up / And cry to the great race that is to come…» — Yeats W. B. The Collected Plays, New York., 1952, p. 94.
[42] Кстати, перевод В. Минушина в книге «Набоков о Набокове и прочем...»: «...или болтун в стальной челюсти волчьего капкана» — неверен. Slaver тут не существительное, а глагол, и означает он не «болтать», а «льстить», «рабски унижаться».
[43] Гаспаров М. Л. «Снова тучи надо мною…» Методика анализа. — В кн.: Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 2. М., «Языки русской культуры», 1997, стр. 9.
[44] Гаспаров М. Л. «Снова тучи надо мною…», стр. 18.
Глыбы пространства и времени
Наталья Горбаневская. Мой Милош. М., «Новое издательство», 2012, 440 стр.
Тумас Транстрёмер. Стихи и проза. Перевод со шведского А. Афиногеновой, А. Прокопьева. М., «ОГИ», 2012, 329 стр.
Объединение таких разных поэтов, как Чеслав Милош и Тумас Транстрёмер, под одним заголовком до какой-то степени оправдано. Оба — лауреаты Нобелевской премии (хотя и с разницей в 32 года), их стихи написаны на не самых распространенных в мире языках и по большей части известны в переводах. И если литературный контекст Милоша русскому читателю относительно известен (в том числе и за счет младших современников поэта — Тадеуша Ружевича или Збигнева Херберта), то шведская поэзия — почти полностью terra incognita. Более того, даже несмотря на то, что Алексей (Алёша) Прокопьев уже многие годы пропагандирует поэзию Тумаса Транстрёмера [1] , до самого недавнего времени она оставалась достоянием узкого круга (в связи с высокой наградой круг расширился, но, думаю, с течением времени неизбежно сузится вновь). Милош, напротив, широко известен: если верить Google , в русском Интернете его имя встречается чаще, чем имя любого другого известного мне польского поэта второй половины ХХ века [2] .
К тому же у обоих поэтов в русской поэзии были влиятельные поклонники: у Милоша — Бродский, а у Транстрёмера — Айги. Бродский и Айги здесь словно бы отвечают за разные направления отечественной поэзии. Первый — за канонизированный постакмеизм, второй — за международный авангард. Это, конечно, очень схематичная интерпретация, но она позволяет говорить не только о Транстрёмере и Милоше, но и о переводчиках, для которых русские связи этих поэтов так или иначе оказываются важны. Наталья Горбаневская как поэт сама принадлежит к одной из ветвей постакмеизма, а Алексей Прокопьев, несмотря на бесспорное отличие его собственной поэтики от поэтики Айги, связан со старшим поэтом множеством нитей (да и как поэт родом из Чувашии может пройти мимо Айги?). Третий переводчик — Александра Афиногенова, в отличие от Горбаневской и Прокопьева, не манифестирует себя как поэт, но ее деятельность на ниве продвижения шведской словесности трудно переоценить (новые переводы Ханса Кристиана Андерсена, прозы Ингмара Бергмана).
Обе эти книги важны для нас прежде всего потому, что и Милош, и Транстрёмер представляют те поэтические традиции, в которых переход к современному типу письма был достаточно плавным и не предполагал характерного для отечественной поэзии чередования догоняющей модернизации и добровольной изоляции. Для русской поэзии такая поэтика — пропущенные страницы: ни «русского Милоша», ни «русского Транстрёмера» не могло возникнуть в условиях Советской России (равно как и в эмиграции) по целому ряду социальных и эстетических причин. Несмотря на то что некоторые неподцензурные поэты решали задачи, вполне актуальные для мировых поэтических практик, способы решения этих задач чаще всего опирались на русский авангард или на понятую через его призму мировую поэзию, доходившую до читателя в переводах, зачастую сглаживающих особенности подлинника [3] . Оптические свойства такой линзы были своеобразны и позволяли отфильтровывать достаточное количество явлений (например, такое мощное направление американской словесности, как объективизм, воспринималось всерьез единицами вроде поэта Михаила Файнермана). Таким образом, попытка укоренить этих поэтов в отечественном контексте важна для самой поэзии: она позволяет читателю (и читателю-поэту) представить себе альтернативное устройство поэтического пространства и времени, в пределах которых опыт ХХ века осмысливается при помощи инструментария, которым русская непереводная поэзия в силу разных причин не пользовалась [4] .
Наталья Горбаневская («Мой Милош») выбирает из обширного наследия польского поэта очень небольшое количество стихотворений и достаточно существенную порцию эссеистики, посвященной двум центральным для поэта темам: осмыслению травматической истории Восточной Европы и классической русской литературе. Тексты самого Милоша дополнены переводными и оригинальными заметками, посвященными поэту. Книга намеренно составлена мозаично и прихотливо, но именно благодаря этому ее можно читать, имея лишь самые общие представления о польской словесности: здесь затрагиваются проблемы, во многом общие для любого восточноевропейского государства — в том числе, и для России (хотя, по иронии судьбы, именно в России они осмыслены менее всего).
По стечению обстоятельств поэтический голос Милоша оказался в некотором смысле голосом всей Восточной Европы, впрочем, к этому склоняла уже общая канва его биографии. Рожденный в Вильно, городе, где говорили по-русски и по-польски, но которому была уготована судьба стать столицей независимой Литвы, Милош особое внимание уделял призракам Великого княжества Литовского, которыми были наполнены его родной город и его поэзия. Слова Мицкевича, еще одного уроженца Литвы и выпускника Виленского университета — «Литва, отчизна моя», — не раз возникают на страницах эссеистики Милоша. Именно поэтому его опыт важен не только для польской словесности: практически вся литература Восточной Европы в той или иной мере считалась с Милошем, вела с ним диалог и отталкивалась от него.
Но в России по целому ряду причин поэзия Милоша не имеет аналогов. Если рассуждать в духе альтернативной истории, нечто подобное этой поэтике могло возникнуть среди младших последователей акмеизма (круг Тарковского, Штейнберга и Липкина), но по каким-то причинам не возникло. Ближе всего к такой поэтике подошел Семен Липкин (например, в поэме «Техник-интендант»), но и у него это осталось разовыми экспериментами.
В докладе «Увы! — Благородство» Милош говорит: «Мое поколение <…> было проникнуто сознанием долга поэта перед обществом и неприязненно относилось ко всему, что можно было заподозрить в „эстетизме”». Здесь нелюбовь к эстетизму, самым ярким выражением которого, по словам поэта, была символистская поэзия Болеслава Лесмьяна, не стоит понимать как верность условному традиционализму, поглотившему официальную советскую поэзию в те же годы. История польской словесности до Второй мировой войны куда более непрерывна, а проблематизация этического и социального в поэзии поколения Милоша не предполагала отказа от выработанных модернизмом художественных инструментов — более того, эти инструменты были развиты и усовершенствованы. Тут уместно вспомнить программное стихотворение раннего Милоша «Campo di Fiori», в котором блестящий мир довоенной Польши буквально оседает во прах на глаза читателя: «Здесь, на Кампо ди Фьори, / Сжигали Джордано Бруно, / Палач в кольце любопытных / Мелко крестил огонь, / Но только угасло пламя — / И снова шумели таверны, / Корзины маслин и лимонов / Покачивались на головах. // Я вспомнил Кампо ди Фьори / В Варшаве, у карусели, / В погожий весенний вечер, / Под звуки польки лихой. / Залпы за стенами гетто / Глушила лихая полька, / И подлетали пары / В весеннюю теплую синь…». Сама собой приходит на ум известная фраза Адорно, однако мне кажется, что уместно будет привести ее в интерпретации американского поэта Лин Хеджинян: «После Освенцима поэзия должна быть варварской; она должна быть чуждой культурам, порождающим зверство» [5] . Именно такой становится поэзия «зрелого» Милоша, который если и обращался к довоенным формам, то только для иронической манифестации нараставшего отчуждения от них, как, например, это происходит в «Поэтическом трактате» — программной поэме, в которой поэт предлагает читателю мартиролог довоенного модернизма, — на ее страницах появляются и Тувим, и Слонимский, и многие другие поэты, с чьими именами оказалась неразрывно связана «старая», довоенная поэзия, получающая у Милоша предельно жесткую оценку: «Надолго ли еще достанет мне / Абсурда польского с поэзией аффектов, / Не полностью вменяемой? Хотел бы / Я не поэзии, но дикции иной. / Одна она даст выраженье новой / Чувствительности, что спасла бы нас / И от закона, что не наш закон, / И от необходимости не нашей, / Хотя б ее мы нашей называли». Эта «иная дикция» призвана была разрешить «главную <…> проблему: зло мира, боль, муки живых существ как аргумент против Бога», как формулирует это Милош в одном из своих эссе.
Наталью Горбаневскую интересуют прежде всего те тексты Милоша, которые предъявляют счет мировой истории («И я знал: говорить я буду речью побежденных, / Что не прочнее реликтов, домашних обычаев, / Елочных игрушек и раз в году забавных коляд»). Почти все эти тексты строятся на том, что сам Милош называет «гегелевским укусом». «Гегелевский укус» — это состояние внезапного озарения, понимания, «что история нашей планеты составляет единство, развивающееся „закономерно” <...> а значит, происшествия в провинциальном российском городе не следует рассматривать как экзотический подход <…> революционные явления на всем земном шаре идут примерно одним и тем же ходом…».
Это особенно наглядно в тех эссе, где Милош обращается к классической русской литературе (прежде всего, к Достоевскому, курс по произведениям которого он читал в Беркли). Здесь присутствует недогматичная, подчеркнуто личная точка зрения на фигуры, присвоенные русским школьным литературоведением, но совершенно иначе воспринимающиеся изнутри польской литературной ситуации. Россия для Милоша — вечный Другой, странный, опасный и жестокий, но в то же время притягательный, так как без него невозможно в полной мере осознать свою, польскую (или вообще восточноевропейскую) идентичность. Милош подчеркивает этический релятивизм Пушкина и Достоевского, видя в нем проявление гегелевского духа русского народа: «…жалость к жертвам насилия незаметно переходит в поклонение абсолютной власти, культ абсолютной власти незаметно переходит в жалость к ее жертвам. Кто знает русских, тот знает, что этот узел они до сих пор не сумели в себе развязать». Такая безжалостная трезвость этических оценок характерна и для поэзии Милоша — например, в масштабном «Богословском трактате», включенном в рецензируемую книгу, он пишет по сходному поводу: «Этот Мицкевич, чего им заниматься, когда он и так удобен. // Превращен в реквизит патриотизма в поучение молодежи. // В консервную банку — откроешь: мигает кадрами мультика про стародавних поляков». Кажется, именно такая этическая трезвость стала значимым фактом современной русской поэзии, и фигура Милоша в этом контексте оказывается особенно важна.
Случай Транстрёмера принципиально иной. Россия не связана со Швецией столь болезненными историческими отношениями, как с Польшей, и чтение Транстрёмера, поэта, сосредоточенного на частной жизни, едва ли предоставит материал для медитаций на историческую тему. Галлюциногенный мир его стихов наполнен безразличной человеку магией, формирующей реальность по своим внутренним и не вполне понятным законам. Такая «непроявленность», «раздвоенность» реальности напоминает поэтику сюрреализма, от которой Транстрёмер, безусловно, отталкивается, оказываясь, впрочем, шире ее рамок, не в последнюю очередь в силу противоположной сюрреализму задачи. Если сюрреализм старался предъявить читателю вытесненное и открыть путь к бессознательному, то шведский поэт, напротив, «запечатывает» этот ящик Пандоры, предпочитая существовать в онейрической реальности. Собственно, подобное переосмысление основных положений «Манифеста сюрреализма» возникло уже внутри собственно сюрреализма — например, у Рене Шара, которого Транстрёмер упоминает в числе наиболее ценимых поэтов. Отзвуки этических коллизий, сотрясавших Европу, ставшие основными темами Милоша, у Транстрёмера растворяются в потоке сновидений, как это происходит в посвященном французской революции стихотворении «Citoyens»: «В раю памфлетов, среди машин добродетели, / Дантон — / или тот, кто носил его маску, — / стоял, словно на ходулях. <…> / И — как всегда во сне — солнца нет. / Но светились стены / в переулках, что искривляясь сбегали / вниз к залу ожидания, искривленному пространству, / залу ожидания, где мы все…».
Вероятно, выйти за пределы «канонического» варианта сюрреализма Транстрёмеру помогла близкая ему с юности классическая латинская поэзия — прежде всего, Гораций с его холодной прозрачностью и в то же время полной ясностью поставленных задач. В этой поэзии с сопутствующим ей замедленным пониманием запутанного синтаксиса и условного воспроизведения метрики он находил «перепады между низкой тривиальностью и напряженной возвышенностью», ставшие затем характерной чертой его собственных стихов. Отсюда, быть может, он и позаимствовал почти неуловимую метрику собственных стихотворений, как ничто другое подходящую для отражения столь же текучей действительности: «И дерево ходит вокруг под дождем, / спешит мимо нас в потоке ненастья. / Ему поручено жизни забрать из дождя, / как это делает черный дрозд во фруктовом саду. // Дождь перестанет — и дерево остановится. / В ясные ночи оно вдруг мелькнет: тихое, / выпрямившееся, как и мы — в ожиданьи мгновенья, / когда в воздухе распустятся снежные хлопья». Классический размер медленно диссоциирует по мере того, как проходит дождь (и, соответственно, прекращается мерный стук капель), чтобы смениться более аморфной текстовой массой, созвучной неупорядоченному падению «снежных хлопьев».
Стихи Транстрёмера вызывают в памяти своеобразную космологию «Орфея» Жана Кокто, где поэзия принимает сигналы непосредственно из мира мертвых, связанного с повседневной реальностью множеством тонких нитей. Практически во всех его стихах за северным пейзажем просвечивает подземный мир, обитатели которого иногда возвращаются на свет, оказываясь своего рода овеществленной памятью, без которой человек не в состоянии осознать себя: «Тучу под вечер насквозь прожигает звезда. / Деревья растут, и растут дома и заборы, / беззвучно катится лавина мрака. / И под звездой проявляется новый, иной, / скрытый пейзаж: на рентгеновском снимке ночи / четкие очерки жизнью отдельной живут». Такая оптика чревата особой историософией, которая на поверку не так уж далека от «гегелевского укуса» Милоша, интерпретированного, однако, в терминах сновидений: существующее положение дел зависит от наших отношений с мертвыми. Именно в тех давно ставших преданием событиях, трагедиях и преступлениях прошлого кроются ответы на вопросы настоящего: «Дух отвернется — и жадно глядят письмена. / Хлопает флаг. Над добычей смыкаются крылья. / Гордо парит альбатрос! Но стареет и он, / тучей становится дряблой в пучине и в зеве // темных Времен. Китобойный поселок — культура. / Ходит приезжий меж белых домов и детей, / мирно играющих, всем существом своим чуя: / где-то он рядом, быть может, за ближним углом, // мертвый гигант, где-то здесь». У польского поэта субъект стихотворения погружен в историю и пропитан ею. У его шведского современника он пребывает в том безразличном безвременьи, где Вайнамёйнен, странствуя по лесам, соприкасается с «болотными людьми» и где история оказывается бесконечным старением, которое можно только принять: «Ветер в сосновом лесу. Он шумит тяжело и легко, / Балтийское море тоже шумит в центре острова, в глубине леса ты в открытом море. / Старая женщина ненавидела шум деревьев. Ее лицо застывало в меланхолии, когда поднимался ветер: / „Нужно думать о тех, кто ушел в плавание”. / Но она слышала и что-то другое в шуме, как и я, мы — родственные души. / (Мы идем вместе. Она умерла тридцать лет назад.)».
По словам исследователей творчества Транстрёмера, «эта поэзия говорит нам, что реальность с ее мучениями, угрозами и угнетением не может быть подлинной реальностью» [6] . И если принять, что задача поэзии Транстрёмера именно такова, в этом нельзя не увидеть сходство с основной задачей Милоша. Но если у Милоша говорит как бы сам «дух истории», то у Транстрёмера мертвые несут живым знания о подлинном устройстве реальности [7] : «Я читал книги из стекла, но видел только другое: / пятна, проступавшие сквозь обои. / Это были живые мертвецы, / они хотели, чтобы нарисовали их портреты!».
Аналог поэзии Транстрёмера так же трудно найти среди отечественных поэтов его поколения: сюрреализм, без которого эта поэзия невозможна, у нас практически не был принят во внимание — даже несмотря на то, что переводы по крайней мере французских и испаноязычных поэтов-сюрреалистов занимали заметное место в массиве советской переводной поэзии (хотя бы в лице Лорки и Элюара). В этом смысле показательны переложения стихотворений Транстрёмера, выполненные Ильей Кутиком, — здесь свободная метрика оригинала передается рифмованным (хотя и неклассическим) стихом. За этой процедурой стояла попытка адаптации этой поэзии к поэтическому мейнстриму рубежа восьмидесятых — девяностых, однако в начале 2010-х годов эти переводы стали восприниматься как архаичные, а их raison d’etre оказался неочевидным, что говорит об известном приближении отечественной ситуации к общемировой. Конечно, сюрреалистическая поэтика до сих пор не получила развития в русской поэзии (несмотря на убедительную попытку ее адаптации, предпринятую Леонидом Швабом и некоторыми другими поэтами), однако «постсюрреалистическая» поэтика, к которой в конечном итоге можно отнести и поэзию Транстрёмера, говорит с современной русской поэзией на одном языке. В этом смысле особенно важно прочитать Транстрёмера (равно как и Милоша) как русского поэта, произведения которого могут обогатить язык отечественной поэзии и показать, как сходные задачи могут решаться в принципиально ином литературном контексте.
Кирилл КОРЧАГИН
Непримиримость и свобода
Всеволод Некрасов. Стихи. 1956 — 1983. Составление, сопроводительный текст М. А. Сухотина, Г. В. Зыковой, Е. Н. Пенской. Вологда, 2012, 592 стр. («Библиотека Московского концептуализма Германа Титова»).
Несмотря на повсеместное распространение в последнее время электронных книг, несмотря на то, что многие давно уже предпочитают хранить свои библиотеки в компьютерах и на съемных дисках, есть все-таки еще люди, признающие библиотеку только в традиционном ее виде — как бесконечные полки с книгами. И вот как раз без книги, о которой пойдет здесь речь, ни одна уважающая себя библиотека обойтись не сможет. Это наиболее полное на данный момент издание первой части (с 1956 по 1983 год) поэтического наследия Всеволода Некрасова — одного из самых значительных русских поэтов второй половины ХХ века. Безусловно, этой книги давно не хватало в нашем литературном процессе. Однако, как известно, прижизненные попытки публикаций собрания сочинений наталкивались на достаточно жесткую позицию Всеволода Некрасова, требовавшего непременного соединения в одной книге и стихов, и бескомпромиссной полемической публицистики. Поэту было важнее не столько опубликовать свои произведения, сколько высказать позицию по ключевым вопросам развития современной литературы и культуры в целом. Именно так выстроена книга «Живу вижу», изданная в 2002 году при поддержке «Крокин галереи». Наряду со стихами в ней опубликована «История / о том / как и мы / попробовали вроде бы / быть людьми / и что из этого вышло / (и как так вышло / что ничего же не вышло / и почему же так быстро / это произошло / все-таки)» [8] . Кстати, на мой взгляд, именно Всеволод Некрасов первым стал писать о том, что несмотря на все перестроечные перемены, на самом деле в литературе и культуре многое осталось по-прежнему. Как раз эта точка зрения в полной мере и представлена в «Истории о том как…». Это очень важное наблюдение, которое многое объясняет в процессах, происходящих сейчас в нашей литературе.
Известный исследователь стиховых структур русского авангарда Юрий Орлицкий считает, что публицистика Некрасова представляет собой род художественной прозы и является логическим продолжением его же поэзии [9] . Собственно, уже само название «История о том как…» фактически оформлено как стихотворение. Несомненно, публикаторы наследия поэта, которые, судя по всему, относятся к своей задаче ответственно и даже в чем-то трепетно, не обойдут своим вниманием также и эту часть произведений Некрасова. Ну а книга, о которой идет речь, является не просто собранием стихов поэта за определенный период, а воспроизведением поэтического свода, созданного самим Некрасовым. Составители — Михаил Сухотин, Галина Зыкова и Елена Пенская — поставили перед собой задачу воспроизвести этот свод как можно ближе к оригиналу. Как рассказывает в своей заметке Михаил Сухотин, в оригинале свод представляет собой собрание стихотворений, перепечатанных Иваном Ахметьевым на четвертушках (1/4 части листа А4) бумаги и помещенных в картонную коробку из-под «Геркулеса». Существуют две редакции этого поэтического свода — ранняя 1981 — 1982 гг. и более поздняя. Составители в основном ориентировались на вторую редакцию. Сам по себе этот свод, отмечает Михаил Сухотин, является самостоятельным художественным произведением. И не только потому, что одно стихотворение у Некрасова — как бы отдельный мотив в общей поэтической симфонии, но и потому, что поэт специально работал над включенными в этот свод циклами. Таким образом, книгу «Стихи. 1956 — 1983» нужно рассматривать именно как единое поэтическое целое.
Стихотворения в книге пронумерованы — от 1 до 884, однако расположены отнюдь не в хронологическом порядке. И хотя, как сообщают в послесловии Елена Пенская и Галина Зыкова, практически все из них удалось датировать во время подготовки к изданию, даны в книге только авторские датировки — то есть подчеркиваются те случаи, когда дата становится полноценной частью стихотворения. Еще одна важная и очень интересная особенность этого поэтического свода — отсутствие окончательного варианта многих стихотворений. Всеволод Некрасов постоянно работал над своими стихами, многие его произведения были не чем-то застывшим, определившимся раз и навсегда, они развивались и видоизменялись. И составители даже предлагают считать каждое такое стихотворение существующим как пучок редакций, как некоторое множество равноправных текстов, однако в процессе подготовки издания книги, которая по необходимости должна иметь начало, конец и четкие принципы публикации, именно составителям приходится брать на себя ответственную задачу выбора одной из существующих редакций. Еще одна трудность связана с формой представления материала. Изначально стихи печатались на машинке, и было практически невозможно, отмечают составители, воспроизвести в книге все особенности этой печати. Дело в том, что у Всеволода Некрасова работает не только сам текст, не только размер и форма шрифта, но и расстояние между строчками, и расположение слов на странице [10] . Большое значение имеет также пустое пространство, которое в аутентичном виде, естественно, воспроизвести было также невозможно [11] . И потому, читая эту книгу, не надо забывать о том, что у нас в руках одна из версий существующего поэтического свода, а не академическое издание Полного собрания сочинений.
Всеволод Некрасов как поэт безусловно признан профессиональным сообществом. Однако у «просто-читателей» часто возникают сомнения в том, что перед ними именно стихи. Отчасти такому непониманию способствуют и сами стихотворения, которые одновременно являются и поразительно простыми, и крайне сложными. И самое главное — ничто в них не напоминает привычные столбики ровных строф, каждая строчка в которых оканчивается рифмой. Хотя на самом деле рифма у Некрасова есть практически в каждом стихотворении:
11.
аморальность
ненормальность
а моральность
не банальность
вообще
все
неверные
обязательно нервные
верные
тоже нервные
но они
по крайней мере верные
Конечно, первая же мысль, возникающая у простодушного читателя после этих стихов: «Я тоже так могу!». Но так ли это на самом деле? Крайняя простота требует наибольшей степени поэтического мастерства. И вовсе не так уж легко, виртуозно сыграв на гласных и сонорных, еще и вложить в это достаточно жесткую нравственную сентенцию. Здесь важны не только словесное чутье и музыкальный слух, но и определенный жизненный опыт, и четко выработанная позиция, то есть предварительно нужно проделать серьезную внутреннюю работу. Просто сесть и написать «такое» стихотворение не получится.
Литературоведческая же точка зрения на творчество Всеволода Некрасова представлена, в частности, в третьем номере научного электронного журнала «Полилог», который полностью посвящен этому поэту [12] . Здесь-то и оказывается, что эти простые с виду стихи дают возможность бесконечного числа интерпретаций. Их можно рассматривать как попытку повторения дела Адама — обновление сущностей путем их наименования (Татьяна Бонч-Осмоловская) или как достаточно жесткое прочерчивание границы между искусством и жизнью (Михаил Павловец), как фонетический и графический эксперимент в поэзии (Дарья Новикова) или как пример перенесенной в область искусства мировоззренческой нетерпимости (Александр Житенев) и т. д. В результате получается, что все важнейшие проблемы эпохи — этические, эстетические, экзистенциальные, аксиологические — в творчестве Всеволода Некрасова так или иначе были затронуты. Именно статьи этого номера журнала в их совокупности показывают и доказывают (в силу крайне традиционного и консервативного восприятия поэзии такое доказательство, к сожалению, нужно), что перед нами действительно один из самых значимых русских поэтов второй половины ХХ века. Ну а для меня наиболее, наверное, важная особенность и стихов, и прозы Некрасова — это наличие у него абсолютно узнаваемой интонации. Для современной литературы это качество не такое уж частое, но вот текст Некрасова можно даже не подписывать — эту фразу, причем как стиховую, так и прозаическую, нельзя больше спутать ни с какой другой.
418.
сотри случайные черты
три четыре
сотри случайные черты
смотри
случайно
не протри только
дырочки
Крайне важна для нашей литературы также поставленная Некрасовым задача обновления языка, «испорченного» тоталитарным дискурсом. Читая эту книгу, не надо забывать о том, что она в первую очередь является фактом неофициальной культуры и полюсом противостояния культуре официальной. Если официоз предпочитал риторические фигуры и цветистые выражения, то здесь все это принципиально изгоняется и предпринимаются специальные усилия для того, чтобы сделать слово равным самому себе. Здесь у Некрасова главная установка — это «как сказать, чтоб не соврать», то есть стремление к абсолютной истине. Если там ловчили и подстраивались, то позиция здесь будет жесткой и непримиримой, и поэт не отступит от нее ни на миллиметр. В общем-то, прав Александр Житенев — нетерпимость у Некрасова становится не просто мировоззренческим принципом, но и элементом его поэтики. Но если бы эта книга была только фактом противостояния двух культур, наверное, этой статьи и многих других статей просто бы не было. На мой взгляд, Всеволоду Некрасову действительно удалось выполнить поставленную задачу — полностью обновить русскую поэзию, удалось не только освободить ее от официального вранья, но и сделать нечто принципиально новое, чего раньше в русской литературе не было. А это необыкновенно важно для русской культуры второй половины ХХ века, которая в основном пыталась (и продолжает пытаться) повторить путь классиков. В завершение хотелось бы выразить надежду на то, что и публикация, и изучение наследия Всеволода Некрасова в полном его объеме будут продолжаться.
Анна ГОЛУБКОВА
КНИЖНАЯ ПОЛКА ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО
Яаакко Хинтикка. О Витгенштейне. Перевод с английского В. В. Целищева, под редакцией В. А. Суровцева. Людвиг Витгенштейн. Из «лекций» и «заметок». Перевод с английского и немецкого В. А. Суровцева и В. А. Ладова. Составление и редакция В. А. Суровцева. М., «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012, 272 стр.
Книга состоит из двух частей: первая — работа знаменитого логика и философа Яаакко Хинтикки «О Витгенштейне», вторая — фрагменты самого Витгенштейна.
Это издание Витгенштейна продолжает работу российских философов по публикации его философского наследия. К этим публикациям относится, безусловно, крайне важная книга: Людвиг Витгенштейн «Дневники 1914 — 1916» (М., 2009), проясняющая подходы философа к «Логико-философскому трактату», до сих пор самой знаменитой его работе. И вот теперь изданы на русском языке избранные части «Желтой книги» — лекций 1933 — 1934 годов — и некоторые другие материалы, в частности «Заметки по основаниям математики» (1937 — 1944).
По мере того как публикуются работы Витгенштейна (и переводятся на русский), становится понятно, что философ вовсе не был так уж безапелляционно краток, что он шел к своим афоризмам путем долгого и трудного размышления. (Работа по публикации наследия Витгенштейна еще далека от завершения.) Это крайне важно, в первую очередь потому, что показывает недопустимость слишком легких интерпретаций и приписывания философу мыслей и положений, которые он вовсе не высказывал. Фантазировать легко, понимать — трудно. И здесь очень важна работа Хинтикки, можно сказать, философского внука Витгенштейна — учителем Хинтикки был Г. Х. фон Вригт, сменивший Витгенштейна на кафедре Кембриджа и проделавший огромную работу по систематизации его рукописей.
Мы приближаемся к столетию опубликования «Логико-философского трактата» (Tractatus Logico-Philosophicus, 1921), но до сих пор он остается одной из самых авторитетных философских работ XX века и одной из самых трудночитаемых. Хинтикка еще в 1960-е годы, в частности, показал, что в «Трактате» имплицитно содержится построенная уже самим Хинтиккой теория дистрибутивных нормальных форм, но чтобы различить эти формы в «Трактате», нужно было сначала их независимо открыть. Хинтикка, видимо, один из немногих философов, о котором можно сказать, что он понимает Витгенштейна достаточно адекватно.
Влияние Витгенштейна на философию XX века и нашего времени огромно, и, кажется, оно не ослабевает, а только растет. Витгенштейна можно сравнить с Аристотелем. Если Аристотель первым показал, что строгое логическое мышление возможно, то Витгенштейн — что оно не пусто. Самый знаменитый его афоризм из «Трактата» — последний: «7. О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Верно, но из «Трактата» следует, что есть то, о чем можно говорить, и такое говорение небессодержательно. Во многом именно Витгенштейн сделал логику реальным инструментом философствования. Но логика — это формальный язык, а с формальным языком лучше всего умеет управляться компьютер. Это, конечно, очень далекая перспектива, но она реальная, и движение в этом направлении возможно.
Пенни Лекутер, Джей Берресон. Пуговицы Наполеона: семнадцать молекул, которые изменили мир. Перевод с английского Т. Мосоловой. М., «Астрель: CORPUS», 2013, 448 cтр.
Книга начинается с объяснения, почему Наполеон потерпел поражение в России. Все просто: пуговицы у солдат великой армии были оловянные, а олово становится на морозе очень хрупким и буквально рассыпается. Ну и солдаты вместо того, чтобы воевать, были вынуждены поддерживать собственные штаны. Впрочем, авторы тут же оговариваются, что это только предположение, и не у всех наполеоновских солдат штаны спадали, но этот зачин вполне убедительно демонстрирует, как ученые-химики будут строить свой рассказ о семнадцати молекулах и как эти молекулы изменили мир.
Это рассказ о том, какую важнейшую роль играет химия в жизни человечества. Авторы берут самые разные сюжеты — Великие географические открытия, история работорговли в XVIII — XIX веках, история вооружений и появление современных наркотических средств, и т. д. и т. д. Коротко пересказав исторический сюжет, ученые показывают, что в центре этого сюжета находится определенное химическое соединение — аскорбиновая кислота, сахароза, пироксилин, морфин и т. д. и т. д.
Авторы совершенно не стесняются приводить иногда довольно сложные химические формулы и описывать реакции, но это почему-то оказывается совершенно нескучно, а, напротив, увлекательно.
Химическое соединение, например целлюлоза (хлопок), объясняет историю работорговли вернее и убедительнее, чем тонны исторических фактов.
Я очень жалею, что подобная книга не попалась мне в руки в юности. Я всегда любил историю и совсем не любил химию. А здесь одно оказалось удивительным образом спаяно с другим. И исторические события получили неожиданное объяснение. Причем авторы приводят читателя в те области, где еще далеко не все понятно. Например, излагают гипотезы, объясняющие, как вкусовые рецепторы ощущают сладкое. Или почему пал Рим: богатые римляне — сенаторы и всадники — хранили воду в свинцовых резервуарах (а бедные не хранили, потому что не было у них резервуаров, ходили по воду с кувшином и тут же эту воду пили). И вода год за годом, столетие за столетием отравлялась свинцом. При отравлении свинцом в малых дозах у человека наступают вялость и апатия. Вот римская аристократия и потравилась свинцом, и впала в апатию, и, когда пришли варвары, противостоять им уже не смогла. Впрочем, на окончательной доказанности этой гипотезы авторы не настаивают.
Джессика Снайдер Сакс. Микробы хорошие и плохие. Перевод с английского Петра Петрова. М., «АCT: CORPUS», 2013, 496 стр.
В организме взрослого человека живет несколько килограммов бактерий. Без них мы не только не прожили бы и недели, но и не родились бы на свет (микробы буквально выстилают путь, по которому двигается рождающийся младенец). Бактерии живут вокруг нас — они в воздухе, в воде, в пище. И не все они помогают нам жить, многие, напротив, могут нас довольно быстро уничтожить.
Современные гигиенические нормы постепенно привели к тому, что мы окружили себя довольно чистой средой, а наш организм за долгую эволюцию приспособился к совершенно другим условиям: мы лишили его естественных врагов. И наша иммунная система сошла с ума: она начала атаковать совершенно безобидные и крайне важные для нас клетки и бактерии. И появились бесчисленные виды аллергии и прочие малоприятные вещи. Мы, конечно, не можем просто взять и прописать себе жить в грязи и пить кишащую болезнетворными бактериями воду. Но нам надо учиться воспитывать собственную иммунную систему, объяснять ей, что хорошо, а что плохо. Это — с одной стороны, а с другой — бактерии и вирусы очень хорошо умеют приспосабливаться к атакующим их лекарствам, и мы вынуждены постоянно изобретать новые, а значит — рисковать.
В общем, трудно мы живем: с одной стороны, нас атакует собственная иммунная система, с другой — устойчивые и непрерывно крепнущие в борьбе с лекарствами бактерии.
Мы всего за одно столетие выбили наш организм из равновесия, в котором он находился сотни тысяч лет. И теперь нам необходимо опять привести в порядок и сам организм, и ту среду, в которой мы живем. Автор книги пишет, что мы должны перестать «мочить» все, что под руку попадется, надо научиться договариваться, попросту надо стать толерантными к бактериям. Тогда у нас есть шанс. А пока мы только наращиваем агрессивность, и дела наши идут в целом довольно скверно.
Уэллс Спенсер. Генетическая одиссея человека. Перевод с английского Светланы Ковальчук. М., «Альпина нон-фикшн», 2013, 276 стр.
150 тысяч лет назад в Восточной Африке жила женщина. Она принадлежала к виду homo sapiens. По-видимому, она ничем особенным не отличалась от других своих современниц. Просто жила, готовила еду, кормила мужа и рожала детей. Это была совершенно конкретная женщина, а не какой-то собирательный образ. Мы ничего про нее знаем, кроме одного: все 7 миллиардов людей, живущих сегодня на Земле, — ее прямые потомки. Конечно, она не могла предположить, что так случится. Да и вообще никто не мог предположить. Меня почему-то это впечатляет. Теперь эту женщину называют митохондриальной Евой.
Около 50 тысяч лет назад ее потомки из Восточной Африки разбрелись по Земле. И в книге довольно подробно рассказана история этого разбредания. Автор отслеживает эту «одиссею» не по митохондриальной ДНК, а по генетическим маркерам на Y-хромосоме, то есть по мужской линии. Удивительного много. Например, как показывают эти самые маркеры — сначала была заселена Австралия, а только потом Европа. Несмотря на то что самый короткий путь в Европу из Африки лежит через Балканы, заселение шло через степи Центральной Азии. Предки коренных американцев пришли в Америку через Берингов пролив, который, вероятно, пересох во время последнего ледникового периода — примерно 15 тысяч лет назад. Их было несколько сот человек. Они шли вдоль Скалистых гор, по тонкой полоске земли — справа поднимались неприступные скалы, а слева лежали бесконечные ледяные поля. Они шли, может быть, не один год. Они умирали. И вдруг перед ними открылась необозримая богатейшая прерия. И те сто человек, которые все-таки дошли, расселились по всему континенту — до самой Огненной земли. А поскольку все они были близкие родственники, теперь у всех коренных жителей Америки одна группа крови.
Маркеры на Y-хромосоме не стираются, а только накапливаются, и поэтому по ним, как по информационному дереву, можно проследить, как расходились генетические ветви разных рас и народов, и, более того, можно сказать, когда такое разделение происходило. Время измеряется любопытным способом. Представьте себе, что генетический код — это строка символов, например БОБР (этот код и в самом деле строка, только она подлиннее — примерно 3 миллиарда пар аминокислот, но это технические детали). Мутация — это замена одной буквы на другую. Мутации происходят спонтанно, и время такой мутации есть величина более-менее постоянная. Чтобы оценить время, которое прошло от формирования одного маркера до другого, ученые принимают «принцип экономии»: преобразование одной строки в другую происходит максимально коротким путем. То есть если сначала был БОБР, а потом стал БАБР, была затрачена ровно одна мутация. На самом деле это ведь ниоткуда не следует. Мутации могли происходить, например, так: БОБР — БОКР — БАКР — БАБР. Но мы принимаем принцип экономии, и более длинные пути заранее отметаем.
Но кончается книга довольно пессимистически. Ученый пишет, что мы и сегодня можем проследить родословную любого человека и сказать, куда его предки пошли из Африки и когда пришли в Европу, но это уже мало о чем говорит. Потомственный австралийский абориген (это мы как раз по маркерам можем установить) мог родиться в Нью-Йорке, родным языком у него вполне мог оказаться английский, и вообще он довольно смутно представляет себе, где находится Австралия, и больше всего любит бейсбол.
Человечество превращается (уже практически превратилось) в гигантский плавильный котел. К чему это приводит? Во-первых, к тому, что, по-видимому, очень скоро (в исторических масштабах времени) этнические культурные различия окончательно сотрутся. Во-вторых, пока они не стерлись, надо спасать, что еще можно спасти — языки и культуры. Хотя и нельзя не отдавать себе отчет, что это спасение может в лучшем случае привести к неким заспиртованным музейным формам, что требование стандартного комфорта — это такой каток, перед которым этническое разнообразие вряд ли устоит.
Иэн Стюарт. Истина и красота. Всемирная история симметрии. Перевод с английского Алексея Семихатова. М., «Астрель: CORPUS», 2010, 461 стр.
Иэн Стюарт — очень известный специалист. Он настоящий математик, внесший свой вклад в теорию катастроф и другие области науки. И он известнейший популяризатор. В частности, Стюарт один из создателей комикса «Тайны катастрофы» (М., «Мир», 1987), в котором на достаточно высоком уровне строгости, но понятно и увлекательно изложена такая сложная тема, как математическая теория катастроф. Этот комикс был и остается одной из моих любимых книг.
Книга Стюарта «Истина и красота» посвящена математической дисциплине, которая исследует симметрию — теории групп. Даже, пожалуй, нельзя сказать «исследует»: теория групп и есть симметрия. Книга охватывает практически всю историю математики, взятую именно в этом ракурсе, — развитие теории симметрии, которая долгое время была связана в первую очередь с решением уравнений в радикалах. А сегодня симметрия во многом определяет подходы к таким физическим теориям, как, например, теория струн.
И все бы хорошо. И книжка хорошая, и перевод качественный, вот только переводчик несколько перестарался.
В предисловии редактора перевода Ю. Л. Ершова к книге Джозефа Шенфилда «Математическая логика и основания математики» (М., «Наука», 1975) есть замечательные слова: «В переводе есть немного примечаний, сделанных редактором и переводчиками. При этом сознательно подавлялось возникающее иногда желание делать замечания, основной целью которых являлась бы демонстрация того, что редактор (переводчик) понимает то, о чем идет речь в книге. Как показывает опыт, чтение книг, снабженных многочисленными такими примечаниями, оказывается довольно мучительным делом».
Очень жать, что переводчик книги Стюарта Алексей Семихатов не последовал этому принципу. Его примечания не просто сделали чтение книги мучительным — в определенном смысле он добился куда большего: он сделал чтение книги, которую сам же перевел, почти бессмысленным.
Как читать книгу с такими, например, примечаниями: «Часть фразы про отрицательные спины лучше всего просто проигнорировать» (стр. 370), «Серьезная путаница» (стр. 364)? В тексте написано: «Симметрии всегда образуют группу», а в примечании: «Наука не стоит на месте. Есть — и используются — также симметрии с более хитрой алгебраической структурой» (стр. 360). Хорошо хоть премудрый переводчик сдержался и не начал рассказывать, какие именно «хитрые алгебраические структуры» используются. Стюарт говорит о том, как Эйлер решал задачу обхода семи мостов в Кенигсберге, а переводчик считает обязательным все эти мосты непременно назвать, причем еще и по-немецки (стр. 349). Или такие примечательные комменты: «Несколько перегруженное высказывание» (стр. 315), «Бессмыслица» (стр. 314), «Ошибка автора» (стр. 305), «„Истинная теория” в данной фразе ничего не значит» (стр. 301). И наверное, апофеоз. В тексте: «Но для уравнений Максвелла это не верно», а в примечании: « Верно ». Примеры можно продолжать. Что мы читаем? Разгромную рецензию или примечания, помогающие понять текст? Натолкнувшись на такие примечания, придется книгу бросить и всерьез разбираться, кто же все-таки прав — автор или его переводчик? И сделать это не всегда просто.
Переводчик страница за страницей поправляет, уточняет, воспитывает автора книги. Если мы будет читать одни только примечания, то придем к выводу, что Стюарт не понимает почти ничего из того, о чем пишет. Зато Семихатов понимает все прекрасно. Но как бы переводчик прекрасно ни понимал, он здесь не для того, чтобы демонстрировать свои познания, а для того, чтобы наиболее выигрышно и адекватно представить чужую книгу. Если переводчик прав и книга Стюарта вся состоит из ошибок, зачем ее вообще переводить?
Я не случайно начал с того, что сказал несколько слов о самом Стюарте. Нет, не следовало его так комментировать. Нет, не следовало хватать его за язык через слово. И ведь автор не может поставить переводчика на место! Он перед своим переводчиком бессилен.
Но что делать, если переводчик видит, что автор ошибся? Пожалуй, я бы отнес такого рода примечания за текст. И никогда бы не стал вести себя с уважаемым автором настолько безапелляционно.
Вилейанур Рамачандран. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. Перевод с английского Елены Чепель. М., «Карьера Пресс», 2012, 422 стр.
В предисловии (да и прямо в заглавии) Рамачандран задается вопросом: «Как мы можем объяснить все те загадочные способности, которые делают человека человеком, такие, как искусство, язык, метафора, творчество, самосознание и даже религиозная восприимчивость?» Я подумал: «Неужели объяснит?». Все обошлось — не объяснил. Особенно сомнительные натяжки как раз с искусством. Здесь все совсем слабо, теория красоты, которую построил ученый, сильно уступает работам Канта или Адорно. Они все-таки в эстетике лучше разбирались, хоть мозг и не сканировали.
Впрочем, с самосознанием тоже не шибко задалось. Но здесь есть много интереснейших наблюдений, которые скорее наталкивают на новые вопросы, чем дают ответы. Главная идея ученого состоит в том, что мозг и нервная деятельность не однородны и не монолитны. Целостность нашего восприятия собственного тела и личности — это результат очень сложного интегрирования множества самых разных процессов, отвечающих за восприятие окружающего мира и работу человеческого организма. «Я» возникает в результате координации этих процессов, на самом-то деле это — фикция, идеальная точка, своего рода центр тяжести. Но эта идеальная координация может быть нарушена — в результате травмы или наследственной болезни. И тогда пациент не чувствует себя чем-то целостным, напротив, он может раздваиваться, у него возникают фантомные «двойники», и человек может даже утратить свою личность.
Хороший пример — природа сексуальности. Рамачандран пишет: «Ученые доказали, что при внутриутробном развитии разные аспекты сексуальности развиваются параллельно: половая морфология (внешняя анатомия), половая идентичность (то, кем мы видим себя), половая ориентация (то, какой пол нас привлекает) и половой образ тела (внутреннее представление нашего мозга о частях тела). В норме эти аспекты согласуются в течение физического и социального развития и находят свою кульминацию в нормальной сексуальности, но они могут рассогласоваться, что приводит к отклонениям, которые сдвигают индивидуума в ту или иную сторону спектра нормального распределения». Если это действительно так, то любые юридические законы, ограничивающие (а тем более осуждающие) гомосексуальность, — это нормальное варварство. Примерно тоже, что осуждать слепорожденных за то, что они такие родились (когда-то осуждали, и даже на смерть).
Мозг хранит карту тела (в частности, половой образ тела), и эта карта может не совпадать с реальным телом. Так после ампутации карта в мозге не меняется, и тело перестает ей соответствовать, и тогда возникают фантомные ощущения. Но бывает наоборот: рука у человека есть, а в карте тела ее нет. Тогда он ощущает собственную руку как чужеродный орган, и часто на самом деле настаивает на ампутации. Или вот самосознание — по мнению ученого, оно связано с рекурсией зеркальных нейронов. Зеркальные нейроны позволяют нам переживать ощущения другого как свои (до известной степени). Но когда зеркальные нейроны отражают наши собственные ощущения как чужие, возникает самосознание.
Мысль о внутренней согласованности/рассогласованности сложной системы наверняка плодотворна, поскольку позволяет ставить правильные эксперименты: в основном это исследования пациентов с различными сбоями в работе мозга. Анализируя сбои, мы можем понять, как возникает норма. Книжка очень интересная, но до ответа на вопрос: «Что делает нас людьми?» — очень далеко.
Клейтон Кристенсен, Джеймс Оллворт, Карен Диллон. Стратегия жизни. Перевод с английского Екатерины Виноградовой. М., «Альпина Паблишер», 2013, 242 стр.
Кристенсен — авторитетный специалист по менеджменту, профессор знаменитой Гарвардской школы экономики. (Его соавторы оттуда же.) Но он неожиданно задался таким вопросом: что важнее всего в жизни человека? И пришел к выводу, что важнее всего — семья, поскольку от того, как устроена семейная жизнь, зависит очень, очень много. А мы занимается чем угодно, только не семьей. Мы почему-то думаем, что семья — это нечто само собой разумеющееся и специально размышлять над ней не надо. Само как-нибудь устроится. Кристенсен говорит: это мнение абсолютно ошибочно — размышлять надо непрерывно, потому что устроить свою семью не проще, а труднее, чем организовать работу крупной корпорации. А поскольку он как раз специалист по организации работы корпораций, то профессор решил применить свои глубокие познания к семье.
Но меня более всего в этой книге порадовала даже не теория, помогающая прояснить положение дел в корпорации «семья», а одно общее рассуждение.
Кристенсен пересказывает свою книгу «Дилемма инноваторов». Идея такая. Существуют огромные сталелитейные заводы. Эти гиганты много всего производят и не чувствуют никакой серьезной конкуренции. «„Подрыв” происходит, когда на рынке появляется конкурент, предлагающий дешевый товар или услугу, которые наиболее авторитетные игроки рассматривают как низкосортные. Однако новый игрок использует технологии и свою бизнес-модель для непрерывного совершенствования своего предложения до того момента, когда оно сможет полностью удовлетворить потребности покупателей… Сталелитейные мини-заводы начали свою атаку с нижнего сегмента рынка — стальной прутковой арматуры <…> — а затем шаг за шагом продвинулись в его верхний сегмент, а именно производство листовой стали, — в конечном счете доведя до банкротства все традиционные сталелитейные заводы, за исключением одного».
Кристенсен рассказывал о своей «дилемме инноваторов» руководству компании «Intel» и Министерству обороны США. И его теория помогла найти решение и тем и другим, хотя, кажется, между деятельностью «Intel» и Пентагона нет абсолютно ничего общего. Ученый пишет: «Если бы я попытался рассказать Энди Гроуву (возглавлявшему в тот период «Intel» — В. Г. ) о том, что ему стоит подумать о производстве микропроцессоров, то он бы в пух и прах разгромил бы мои доводы… Однако вместо того, чтобы говорить ему, что думать, я научил его тому, как это следует делать. Затем он самостоятельно принял смелое решение о дальнейших действиях компании... Хорошая теория универсальна: ее нельзя применять только к одним компаниям или людям. Мы имеем дело с общим утверждением о причинно-следственной связи».
Мне эта схема неожиданно помогла по-новому взглянуть на тыняновскую модель литературной эволюции. Литература прирастает и развивается боковыми и низкими жанрами, они возникают на периферии литературного процесса, как что-то случайное, необязательное, а потом оказываются в самом центре. Почему это происходит? Именно потому, что они как раз изобрели дешевую проволоку, они сделали сдвиг в информационном монолите, они обеспечили инновационный рост. Это и есть главное. Они подвижны, не скованы тяжелыми обязательствами. А то, что они не удостаиваются внимания сегодняшних победителей, им только на руку. У них есть лишняя степень свободы и запас скорости, а качество и надежность продукции они обязательно поднимут. Если гигант хочет у них выиграть, он сам должен не кривиться и отворачиваться, а начать играть на их поле. Иначе завтра он обречен, каким бы диким сегодня ни казалось такое предположение. Но если в бизнесе гиганты умеют быстро реагировать на угрозы, в литературе картина другая: главные жанры сегодняшнего мейнстрима реагируют медленно, поскольку для реакции нужны новые таланты, а их нет — они на краях, они маргиналы.
Действительно, Кристенсен предложил хорошую теорию.
Александр Иличевский. Город заката. Травелог. М., «Астрель», 2012, 350 стр.
Заглавное эссе в этой книге посвящено Иерусалиму, городу, увиденному писателем как солнечное сплетение мира и духа. И этот рассказ открывает (иногда даже вскрывает) город и позволяет его почувствовать. Но мне хочется поговорить не об удаче, а о том, чего мне недоставало, когда я читал этот иерусалимский текст.
Проза Иличевского очень близка поэзии. Это отмечали, кажется, все писавшие о его работе. Но поэзия и проза очень по-разному работают со словом. Слово поэтическое и слово прозаическое — в определенном смысле друг другу противоречат, у них разный вес. Поэтическое слово — тяжелое, самодостаточное, и главная задача поэта — дать слову свободу — разрешить ему катиться под собственной тяжестью по линии наибыстрейшего спуска. Прозаическое слово — легкое. Оно несамостоятельно. Оно подчиняется общему сюжетному движению, которое выстраивает слова, как магнит железные опилки. Если мы дадим слову поэтическую свободу в прозе, оно может на свой лад растянуть и даже разорвать сюжетную ткань. Иличевскому в лучших его вещах удается каким-то образом снять это противоречие и поэтическое слово поставить на службу сюжету. Но и у него в больших вещах слово часто теряет свою поэтичность. Например, замечательное эссе «Урок в моей жизни», оказавшись включенным в ткань романа «Матисс», в нем совершенно потерялось. А хотелось бы, чтобы слово и в прозе звучало поэтически. Мне казалось, что в таком жанре, как травелог, этого можно достичь. Писатель пишет о городе, который он любит и знает. Ну так и вперед — покажи его во всей красоте и силе, и поэтичность высказывания, которая так соприродна твоему таланту, только поможет. И кажется, близко к этому эссе «Attendez!», где есть редкостные описания Сан-Франциско. Все обещало победу, но вот победы не случилось. Может быть, из-за того, что текст до какой-то степени заказной, а может быть, и по другой, более глубокой причине.
Мне не хватало в этом описании Иерусалима — людей, героев. Чтобы они на фоне роскошного задника — этого самого «города заката» — страдали, любили, радовались, умирали. Мне не хватало здесь именно сюжетного напряжения. Кажется, лучше всего у Иличевского слово раскрывает свою поэтичность, когда оно служит сюжету, но это свободное служение, когда линия наибыстрейшего спуска, по которой катится слово под собственной тяжестью, и линия повествования вдруг совпадают. В романе это вряд ли возможно, а вот в рассказе — кажется, да. И может быть, не случайно самые мои любимые вещи у Иличевского именно рассказы — практически весь сборник «Пловец». Здесь свобода поэзии естественно раскрывает сюжет, и сюжет раскрывается естественно, как цветок. А вот в «Городе заката» этого цветения сюжета мне не хватило.
Андрей Волос. Возвращение в Панджруд. Роман. М., «ОГИ», 2013, 640 стр.
Что может сказать русский писатель, живущий в Москве в XXI веке, о поэте, писавшем на фарси и жившем в IX — X веках в Самарканде и Бухаре? Правильный ответ: ничего не может.
Но Андрей Волос, родившийся и выросший в Таджикистане и чутко чувствующий его историю и настоящее, попробовал этот безусловно правильный ответ если и не опровергнуть, то поставить под сомнение: он написал роман о Рудаки, великом персидском поэте, жившем больше тысячи лет назад. Если бы Волос писал о полководцах или эмирах (он о них тоже пишет, но они на втором плане — они даны как бы через восприятие Рудаки), то ему бы ничего не оставалось, как закопаться в груды документов и постепенно, шажок за шажком восстанавливать ткань их жизни и деятельности. И вероятность удачи все равно была бы крайне сомнительной. Исторические романы — это, как правило, сочинения о современных автору людях, одетых в соответствующие костюмы и действующих в условных декорациях. Ничего, кроме описания декораций о том времени, в котором разворачивается действие таких сочинений, мы не узнаем. Анкерсмит сказал как отрезал: «…переживание прошлого является переживанием не там, где оно точь-в-точь соответствует воспоминаниям, ожиданиям и практическим убеждениям историка, но именно там, где оно бросает вызов всем нашим интуициям о мире. Только здесь мы можем встретиться с прошлым как таковым в его бескомпромиссной и радикальной чуждости, то есть в его „возвышенности” <…>. Только здесь мы действительно открываем прошлое и текст, который бросает вызов всем нашим категориям, делающим мир осмысленным. И это может превратить прошлое в чуждый и волшебный мир, каким оно в сущности и является» [13] .
Но Рудаки — поэт. То есть человек, уже изначально принадлежащий «чуждому и волшебному миру», — миру поэзии. А поэзия автономна и противопоставлена окружающему ее бытию. Поэзия в известном смысле — независимый свидетель истории. Поэт стремится запечатлеть вещь такой, какая она есть, сохранить ее в слове и снабдить всем необходимым для путешествия сквозь время и языки, сквозь разницу материальных культур. Поэзия — это инвариант, в том числе инвариант исторического бытия вещей. Поскольку поэт в главном состоит из своей поэзии, он тоже оказывается инвариантом. Это постоянство сохраняется во всех возможных преобразованиях, оно пластично и подвижно. И поэтому, выбирая в качестве образа эпохи, ее свидетеля и очевидца, именно поэта, мы получаем неожиданный шанс не только узнать какую-то неизбежно частичную и неполную информацию о времени, в котором он жил, но буквально это время почувствовать.
Из огромного наследия Рудаки сохранилась лишь небольшая часть, но и это, учитывая временную удаленность и бурные века, разделяющие нас, на удивление много — более тысячи бейтов (двустиший). И большая часть переведена на русский. Так что у читателя есть все шансы составить о Рудаки собственное мнение. Александр Тимофеевский написал стихотворение, в котором сопоставил пушкинскую строчку и строчку Рудаки: «Чуть поодаль друг от дружки, / Ухом вещие чутки — / Буря мглою — слышит Пушкин, / Буи джуи — Рудаки. // Изнывая, мрево злое / Застилает небосклон: / Буря мглою небо кроет, / Буи джуи Мулиён!». «Буи джуи Мулиён» в переводе с фарси «плещет, блещет Мулиён». Ритм и звукопись сталкивают далекие времена и страны, и Рудаки входит в русскую поэзию. Это единственная строчка Рудаки, которую я знаю на языке оригинала. Но я ее знаю, и это немало.
Природа поэтического творчества неизменна, и потому писатель, живущий в XXI веке, может что-то понять в поэте, жившем в X, — понять напрямую, без посредничества документов, исходя из собственного творческого опыта. И Волос попытался это сделать.
Пересказывать захватывающий авантюрный роман, полный приключений и драматических коллизий, вероятно, нет смысла. Но некоторые вещи сказать необходимо.
Пространство языка фарси в X веке — это пространство в первую очередь поэтическое. Современниками Рудаки были, по некоторым сведениям, 20 тысяч поэтов. Это сравнимо разве что с порталом Стихи.ру. И это сравнение оказывается неожиданно правомерным. Волос описывает, как к Рудаки пришла первая слава. В Самарканде, где Рудаки учится в медресе, полно поэтов. И у них есть специальная стена публикаций. Это именно каменная стена — поэты записывают стихи на высушенных капустных листьях и эти листья вывешивают на «Стене поэтов». А потом ходят вдоль этой стены и обсуждают, что кому не удалось и почему это стихотворение плохое, а то еще хуже. Кажется, я с чем-то очень похожим сталкивался вовсе не в Самарканде X века, а прямо сегодня. Рудаки вывешивает на этой стене свои сочинения, и его стихи получают неожиданную для него самого известность, и начинается его восхождение к вершинам власти, но, так сказать, по приставной лестнице — он поэт эмиров.
Эмир Бухары говорит поэту: Аллах не желает, чтобы люди изображали человеческие лица, поэтому единственным для меня способом прославиться в веках является слово. И ты должен мне это обеспечить.
И Рудаки работает в этом направлении. Впрочем, отношения с властью у поэтов редко складываются безоблачно. Эмир ослепил Рудаки. И поэт ушел от властителей в родной Панджруд.
Кажется, эта книга очень важна. Она о пространстве тонкой цветущей культуры. Книга делает возможным размышление о природе ислама без непременной сегодня обоюдоострой агрессии, она смягчает оценки. При этом книга вовсе не затушевывает вполне средневековые зверства и жестокость, которые тоже есть, но не они определяют сущность танцующего суфия.
Михаил Горелик. Байки про Даньку. М. — Бостон, 2011, 258 стр.
Хотя издательство и не указано — это настоящая книга, изданная тиражом 7 экземпляров, в переплете и твердой обложке с картинкой, на которой изображено солнце с разноцветными лучами и море с красными волнами. Эту картинку нарисовал Данька — главный герой этой книжки. Книжку мне дал почитать ее автор — Михаил Горелик. Я книжку прочел не отрываясь, как начал в метро, так и не отложил, пока не закончил. А потом стал перечитывать. Вот и сейчас, когда пишу эти строчки, тоже перечитываю, и глаза у меня открываются все шире и шире, хотя, кажется, шире уже некуда.
Я люблю читать Михаила Горелика. И когда он присылает в «Новый мир» свои эссе, я их открываю с приятным предчувствием: сейчас случится что-нибудь неожиданное. У Горелика есть свой, отчетливо узнаваемый стиль. Он пишет короткими фразами. И любит начинать фразу с нового абзаца. Но если у Шкловского, например, фразы застывают как статуи, у Горелика они набегают друг на друга, перебивают, мешают, путают глагольные времена. Но это не хаос. Короткие фразы образуют ткань, но не гладкую, а шероховатую на ощупь. Ее приятно приложить к щеке. Чувствуешь, как щекочет короткий ворс. Самое удивительное, что сам текст может быть о вещах горьких и страшных, а это впечатление не пропадает.
Я никогда не читал такого длинного текста Горелика. И даже не представлял, как такой текст может выглядеть. Горелик называет «Байки про Даньку» романом.
В этой книге пять главных героев (не считая автора, который тоже в книге присутствует): Данька — мальчик четырех лет, его мама и папа, его бабушка и дедушка. Данька с папой и мамой живет в Бостоне. Бабушка и дедушка живут в Москве, а летом перебираются в деревню Сорокино. Книга состоит из коротких баек. Одни — набранные крупным шрифтом, — про Даньку, про его приключения и похождения, другие — шрифтом помельче, помечены «для взрослых». Не потому что это такие вот байки 18+, а потому что Даньке их читать неинтересно. Они про что-то шибко умное.
И в каждой байке есть гореликовский умный юмор. Поскольку у читателя, по крайней мере в ближайшее время, нет ни единого шанса прочитать эту книгу (мне тоже придется вернуть прочитанный экземпляр, хотя я, конечно, попробую уговорить автора, а вдруг подарит?), хочется продемонстрировать какой-нибудь замечательный образчик. И у меня разбегаются глаза. Ну не переписывать же всю книгу подряд!
Данькин дедушка сочинял стихи — лимерики и хокку. А Данькин папа их переводил, лимерики на английский и идиш, а хокку — на японский. «Когда Данькин папа записывал хокку, он надевал кимоно и опоясывался самурайским мечом». А сам дедушка стихи никогда не записывал.
«Дедушка считал, что поэзия должна быть сиюминутна и мимолетна, как полет бабочки, как лепестки в потоке вод. Вот — есть, и вот — нет. И уже никогда не будет. Эфемерность — главное в красоте. Эстетический восторг, упоение, ускользающее от дискурса „ах!” — моментальны. Фиксации не поддаются. Зафиксировать эфемерное — значит убить воздушную трепетность жизни. Твердил что-то об опредмечивании, ссылаясь на ранние работы Маркса. Ранних работ Маркса никто, кроме дедушки, не читал. По правде сказать, никто не читал и поздних. Вообще плохо представляли себе, что это за Маркс такой: путали с книгоиздателем. Дедушка был сложный человек. Его мало кто понимал, не только про бабочек и про Маркса, но это его нисколько не огорчало».
А меня немного огорчает, что эта книга живет исключительно домашней, приватной жизнью. Но, впрочем, может быть, дедушка прав: эфемерность не поддается фиксации.
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ
Варежки на резинках
В феврале умер Алексей Герман-старший. R.I.P. Меня попросили написать о нем. Я сгоряча согласилась и только потом поняла, что задача эта почти непосильная. Его последний фильм по роману Стругацких «Трудно быть богом», который Герман в муках снимал последние 12 лет, — так и остался незаконченным. Черновой монтаж показывают время от времени, но исключительно избранным. Мне в число избранных попасть пока что не повезло. А про четыре другие картины написано уже столько, что даже как-то и неудобно лишний раз обременять ноосферу. В общем, оказавшись в большом затруднении, я решила написать про варежки на резинках.
Среди бесчисленных деталей в картинах Германа-старшего есть несколько, переходящих из фильма в фильм, обозначающих его мир как единый, глубоко интимный, сделанный «из вещества того же, что и сны». Мир, где художник разбирается со своими демонами или же Даймоном, — как угодно. Иные такие детали сразу бросаются в глаза, как, к примеру, бесчисленные духовые оркестры. Другие спрятаны, как метки на белье, как маркер таинственного, нерасчленимого сгустка детских ощущений/эмоций/воспоминаний, из которого и растет германовская кинематографическая вселенная. Что-то вроде вкуса бисквитного печенья у Пруста. Варежки на веревках, привязанные к поясу или пришитые к рукавам, — тут и защищенность, и вечная, унизительная немного детскость; зависимость от больших (кто-то пришил, позаботился) и рассеянная беспечность (можно не бояться, что потеряешь и будут ругать) — то ощущение единства с собой-маленьким, непридуманным, настоящим, что служит камертоном при настройке всего гигантского фильмического оркестра.
Надеты при этом варежки могут быть на кого угодно.
В «Проверке на дорогах» (1971) они принадлежат мордатому немцу в каске, мотоциклетных очках, с лицом, до очков замотанным шарфом. Чучело какое-то, а не немец! Из детской игры в войнушку. Его большие камуфляжные рукавицы привязаны к поясу и болтаются в кадре не больше секунды, когда этот немец в сцене напряженной дуэли с Лазаревым (Владимир Заманский), думая, что подстрелил противника, неосмотрительно выбирается на дорогу из заснеженного кювета и тут же падает, прошитый автоматной очередью. Потом это чучело, то бишь труп немца, партизаны начиняют взрывчаткой и используют как приманку, дабы подорвать едущий следом немецкий кортеж. «Проверка на дорогах» — партизанский экшн с элементами суровой народной драмы. И еще к тому же — своеобразная советская вариация Притчи о Блудном сыне, где в роли отца — командир партизанского отряда, бывший сельский милиционер Локотков (Ролан Быков), в роли блудного сына — «предатель» Лазарев, попавший в плен, согласившийся служить у немцев, но потом — замученный совестью — добровольно сдавшийся партизанам. А в роли недовольного старшего сына — майор Петушков (Анатолий Солоницын), который требует немедленно пустить Лазарева в расход. Но, несмотря на происки, шантаж и самоуправство Петушкова, Локотков все равно прощает и принимает Лазарева и вместо откормленного теленка и перстня на палец дарит ему пулемет и право умереть геройской смертью за Родину. Финал. Победная медь духового оркестра. Наши танки идут на Берлин. Локотков в застиранной гимнастерке без орденов и медалей, аутсайдер войны, толкает плечом заглохший грузовик и кричит солдатам: «А ну подмогните, сыночки! А ну давай, родненькие!». Настоящий отец! Пусть и полуопальный. Персонаж, сочиненный писателем Германом-папой, на которого сын-режиссер смотрит с восторгом и восхищением.
В «Двадцати днях без войны» (1976) варежки пришиты к телогрейке главного героя — военного корреспондента Лопатина (Юрий Никулин), когда в самом начале фильма он идет по утреннему туманному Феодосийскому пляжу. Длинная панорама. Косо торчащий пляжный грибок. Солдаты, сняв промокшие сапоги, греются у костра. В кадр попадает пожилой усатый солдат, который тащится за Лопатиным и рассуждает, что всем на войне страшно, даже Гитлеру. И еще один — красавец-брюнет, который погибнет через пару минут, во время начавшейся внезапно бомбежки. Рядом друг Лопатина — фотокор Пашка Рубцов (Михаил Кононов), который тоже погибнет, но позже, под Сталинградом… Панорама озвучена закадровым голосом Константина Симонова, по повести которого сделан фильм: «Черт его знает… — мужественно картавит Симонов, — почему вспоминается одно, а не другое. Почему, хотя после этой высадки в Феодосии был потом и Дон, и Сталинград, и два ранения, а в памяти вдруг снова эта зимняя, туманная сырость над морем. И это утро перед обратной дорогой на Большую землю, и этот солдат с его словами про Гитлера…».
Симонов — друг отца, пробивший постановку, очень помогавший Герману после того, как «Проверку на дорогах» положили на полку. Из той же породы, что и отец — сильный, победительный, добрый… И Герман отдает его альтер эго — Лопатину — свои детские варежки, готовый слиться с ним, полностью совпасть с изгибами его памяти, с его мудрым, доброкачественным взглядом на мир. Весь фильм — путешествие с войны на войну. Короткая передышка в тылу, где война — не разрывы бомб и снарядов, а сотни лиц, задетых, раненых, раздавленных, опаленных великой общей бедой. Фабула — пронзительная love story Лопатина и Ники (Людмила Гурченко) — лишь одна из множества человеческих драм, которые вмещает эта картина. И Лопатин тут не столько герой-любовник, сколько чуткий свидетель — чужого горя, надежд, суетности, халтуры, творчества, страхов, усилий… А его реакции — острая боль, сострадание, жалость, брезгливость, восхищение, гнев и даже отнюдь не казенный пафос на митинге на заводе, где он выступает перед истощенными десяти-двенадцатилетними детьми, — эталон человечности (Никулин — актер, который вообще не способен фальшивить). Эти реакции пронизывают мир, охваченный бедой и войной, как прочная нравственная арматура, дающая надежду, что мир этот выстоит, несмотря ни на что. Герман изо всех сил готов в это верить и дает нам увидеть суровую обыденность великой войны глазами идеально-прекрасного человека.
В картине «Мой друг Иван Лапшин» (1984) варежки фигурируют в одной из самых страшных сцен, где из подвала выносят трупы жертв Соловьевской банды. Серый, туманный день. В кадр задним бортом въезжает грузовик. Из подвала, спотыкаясь, выбираются понятые — женщина и мужчина, потом какие-то оперативники в коже с портфелями. Следом выносят два тела. Под серым рядном голые серые ноги, покрытые лишаями. Мертвое серое лицо женщины в одеяле… Трупы грузят в машину. Поодаль стоит пришибленный мужичок, на которого с воплями набрасывается какая-то баба с бидоном: «Разгильдяй! Я же говорила тебе, пробкой затыкай! Весь керосин пролил!», — обычный германовский прием — посторонний, громкий, как выстрел хлопушки над ухом, скандал, отвлекающий от главной трагической темы. Варежки болтаются на рукавах третьестепенного оперативника в пальто с барашковым воротником — одного из тех, кто выносил трупы. Он идет к машине, что-то делает у капота. Мимо него Лапшин (Андрей Болтнев) проходит к своему мотоциклу, садится, газует, говорит спутникам: «Ничего! Вычистим землю, посадим сад и еще сами успеем погулять в том саду!». Это едва ли не ключевая сцена картины, где впервые со страшной, серой обыденной обнаженностью в мир Германа входит абсолютное зло — стихия бессмысленного и беспощадного душегубства, необратимой социальной энтропии. Герои верят, что могут с ней совладать. Автор знает, что все они так или иначе обречены. Сын-режиссер, прежде со всей искренностью стремившийся увидеть мир, уже ставший историей, глазами отцов, теперь как будто бы старше их. Он знает намного больше. Он впустил это страшное знание в свой персональный творческий космос, и его детские варежки уже пахнут трупом.
В картине «Хрусталев, машину!» (1998) пришитые варежки появляются не единожды.
Во-первых, их носит мальчик (Михаил Дементьев) — сын главного героя, блистательного лысого доктора, генерала медицинской службы, начальника клиники, великого нейрохирурга (Юрий Цурило). Варежки фигурируют в сцене, где этот чудный мальчик (на минуточку — альтер эго самого режиссера) вместе с прочими дворовыми пацанами мутузит подростка-еврея (на дворе — борьба с космополитизмом) и заслуженно, но унизительно получает за это от папы по физиономии.
Потом в таких варежках появляется в дымном пристанционном трактире свихнувшийся интеллигент в военной шинели и круглых очках (вылитый Лопатин из «Двадцати дней без войны»). Папиросный дым. Чад. Помятые лица. Тут в «гуще народной» папа-генерал наивно пытается скрыться от неминуемого ареста. Какой-то подонок немедленно хватает генерала за нос. Тот не остается в долгу и прищемляет в ответ нос обидчика. Дуэль двух альфа-самцов: кто кого. А вокруг, посреди всего этого неумолимо сгущающегося глума и бреда, бывший офицер завороженно танцует под гармошку «Танец маленьких лебедей». Ему хорошо, он уже убежал в свое персональное пространство безумия.
А для папы-генерала все только начинается. Взрослый подонок натравливает на него свору жестоких, как гиены, малолеток с кольями и дубинами. Потом папу все-таки арестовывают. Суют в фургончик с надписью «Советское шампанское». «Наливай», — шутит папа и переступает порог фургона. Там пяток уголовников изнасилуют его черенком лопаты в задний проход. И когда генерала выпустят из фургона и он, хрипя, сядет в сугроб, чтобы стереть этот ужас, его шутя притопит конвойный за шутку насчет шампанского: «Не играй с судьбой!». И на все это с тупым безразличием будет смотреть вертухай — в тулупе с пришитыми варежками. Эти самые варежки обнаружатся вдруг у каждого второго урки, включая даже одного из насильников. А потом, когда опущенного генерала отмоют, переоденут в кожаное пальто и, облив одеколоном, повезут на дачу главного Сатаны, на одной из пересадок ему глумливо помашет пришитой варежкой гэбэшник, занимавшийся его возвращением в генеральскую ипостась. Ответственного товарища играет Алексей Жарков — незабвенный Вася Окошкин из «Лапшина». Да, это вроде как он — знает жену генерала: «Она у нас в Унчанске в театре главные роли играла». Жену генерала тут и впрямь играет Нина Русланова, даром, что в «Лапшине» ей не везло ни в любви, ни в театре.
«Хрусталев» полон таких вот намеренных отсылок к предыдущей картине. Но на экране вместо аскетичного быта — валящееся через край «богатство». Вместо стоической порядочности — предательство всех и вся. Вместо мужественных оперативников — клубок гэбэшных опарышей, совершенно неотличимых от соловьевских душегубов, — бессмысленных и беспощадных. А изнасилованный папа-герой, узнав в агонизирующем в куче собственного дерьма старике великого Генералиссимуса, — в шоке, рабски целует его полумертвую руку.
После смерти Сталина папа приходит домой. Сын не знает, что делать: то ли молиться, то ли звонить куда надо. И когда, сообразив, наконец, что все в порядке и стучать на папу не обязательно, сын припадает к коленям отца в позе рембрандтовского Блудного сына, папа, оттолкнув его, просто уходит. Исчезает. Растворяется в бескрайнем российском мареве. В финале мы видим его на открытой платформе поезда, идущего невесть куда. Со стаканом водки на голове, который бывший генерал удерживает на спор. От всего его былого величия остались только дешевые блатные понты.
«Хрусталев» — великая картина. Действительно подвиг. Даймон вдохновил Германа показать на экране мир, в котором случилось самое страшное, — великого, ужасного, прекрасного и всесильного отца опустили. И он вдруг оказался таким же холопом при Пахане, что и все прочие двести миллионов советского населения. Папа-кумир повержен, реальность моментально превращается в ад кромешный, и в напряженном, избыточном, иррациональном потоке образов Герман выплескивает все то, что было душевной изнанкой его благоговения перед отцом: ненависть, зависть, обиду, а главное — детский, отчаянный, постоянный, парализующий страх оказаться вдруг без защиты на этом празднике жизни. В «Хрусталеве» Герман сводит счеты не с отцом, не с советской историей, не с ГБ, не со Сталиным… Он сводит счеты с самим собой, буквально выблевывая в этой картине токсичное содержимое великого советского интеллигентского мифа, будто можно обустраивать зону, сохраняя при этом свободу нравственного выбора и возможность распоряжаться самим собой.
В России — один субъект, — тот, кто наверху вертикали. Все прочие — рабы и холопы. И так будет продолжаться, пока люди не расстанутся с фантазиями, будто кто-то другой — великий, могучий, идеально прекрасный решит за них их собственные проблемы.
Социальная энтропия торжествует. Таков — итог русского ХХ века. Герман находит запредельное мужество показать это в инфернальной картине разложения своего собственного детского, заветного интимного мира, отдав свои варежки на резинках своре босховских персонажей в погонах и без.
Как он дальше поступил с этим знанием, обнаружил ли в этом адском лабиринте какой-то просвет, мы и узнаем, посмотрев когда-нибудь картину по роману «Трудно быть богом».
ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ С ПАВЛОМ КРЮЧКОВЫМ
Фрида и Фридл (ч. 2)
Прежде, работая с малышами, я сердилась на взрослых — ну что они вытворяют с детьми! Теперь, после долгого перерыва, я вернулась к искусствотерапии, но провожу ее с педагогами и воспитателями. На семинарах, которые иногда длятся день, иногда неделю, мы погружаемся в детство, в мир, где можно все, где все может быть всем. Где мы свободны и не боимся быть глупыми или смешными.
«По-моему, я сошла с ума, — прошептала мне на ухо журналистка, пришедшая описать процесс со стороны, но тут же об этом забывшая, — вам не кажется, что я леплю лучше всех?» Другого журналиста я заметила танцующим вокруг собственного рисунка — мы рисовали под музыку.
Елена Макарова, из предисловия к книге «Освободите слона»
Неспешно в сумерках текли
«Фольксвагены» и «мерседесы»,
А я шептал: «Меня сожгли.
Как мне добраться до Одессы?»
Семен Липкин, «Зола»
Роман Елены Макаровой «Фридл» [14] — это, на мой взгляд, уникальная — и удав-шаяся! — попытка с помощью искусства художественной прозы — полнокровно и объемно встретиться, наконец, со своим Главным героем (до того жившим в воображении) — так, чтобы уже больше никогда не расставаться. Просветительство — просветительством [15] , но роман закрепил эту встречу самым надежным, самым неотменяемым образом — человек вернулся из небытия и стал живой книгой, то есть тем, о чем когда-то написал Уитмен в своей поэме «Прощайте»: «Нет, это не книга, Камерадо, / Тронь ее и тронешь человека…».
Конечно, они написали ее вместе: Фридл «шла» к этому тексту из своего невидимого, потустороннего, закрытого мира, непрерывно, на протяжении почти тридцати лет «подавая» Макаровой, которая занялась ее наследием, какие-то особые сигналы. В новой, посмертной, второй жизни она открывалась своему Автору медленно, постепенно, краска за краской, штрих за штрихом, как это бывает с заморским фруктом, который мы упрятываем в темное место, чтобы он «дошел» до кондиции, созрел и стал тем красавцем, каким и должен быть в своей полноте. Мы вынимаем этот плод из шкафчика, достаем с антресоли, и он словно бы кричит нам: вот он я какой! Смотрите, я должен быть именно таким!
Стало ли Макаровой после этого романа, который все-таки не имеет никакого отношения к детям (книга сугубо «взрослая»), — сильно легче? Принято считать, что после выхода книги, которая вынашивалась годами, приходит какое-то высвобождение… Я так не думаю. Но если души могут общаться сквозь грань миров, следует признать: усилиями современного писателя и искусствотерапевта Елены Макаровой воскрешение произошло: из книги вышел живой человек — со своими страстями и сомнениями, со своим упрямым, удивительным, добытым неустанным трудом и Божьим благоволением — даром .
В классическом макаровском исследовании «Вещность и вечность» приводится, может, и не самое яркое, но очень ценное свидетельство одной из терезинских помощниц и учениц Фридл — Эвы Штиховой-Бельдовой. «Ее невозможно было не любить, она была такая приятная и обращалась с детьми как со взрослыми. Фридл плохо давался чешский, и это никому не мешало. Я говорила с ней по-чешски, а она со мной — по-немецки, и мы прекрасно понимали друг друга. Помню, рисовали щетку. Фридл не показывала ее, но описывала ее свойства, фактуру. Когда я собирала рисунки, то заметила, что все щетки вышли разными. Помню ее установку на другом уроке: не думать, просто рисовать, просто вспоминать или мечтать, рисовать, не думая, как и что получится. Много было и свободных уроков, — Фридл просила детей, чтобы они нарисовали что-то „не размышляя”. Она всеми силами пыталась привести детей в норму и об этом часто говорила с педагогами в группах».
Что же это за норма такая? Речь тут о внутренней свободе, а стало быть, и об изживании страхов. Любых, например «природной» зажатости, но в том числе — и тех, что завтра тебя могут банально отправить «на транспорт». А дальше — печь, зола, ветер.
Тем, кто захочет узнать о Ф. Дикер-Брандейс подробнее, я бы посоветовал все-таки начинать не с пронзительного романа-погружения Елены Макаровой, а хотя бы с соответствующей странички о Фридл в «Википедии». Двинуться издалека, хронографическим, так сказать, путем, и, уже узнав о Героине подробнее — выйти на ее художественное осмысление — русской ученицей-писательницей. То есть той, которая родилась в годы, когда на территории Освенцима уже вовсю шло создание музейного комплекса, а в Терезине располагался военный гарнизон.
И вот тогда-то, думаю, и раскроется постепенно эта главная тема: человеческая свобода и цена за ее обретение. Если бы я был поэтом, то написал бы, что роман «Фридл» — это развернутая метафора неустанного человеческого воплощения — через мучительные поиски собственного места в искусстве и в жизни, через страдания, через — долгий, искусством же и подсказанный, путь к детскому сердцу.
Ведь художница Фридл Дикер хорошо знала великого Пауля Клее (об этом немало и в романе), в школе «Баухауз» слушала его лекции о детском творчестве. Там, видимо, и зародилось это самое зернышко будущей работы с детьми. «Клее — неустанный творец, — писала Фридл. — Он обладает безудержной силой, от которой захватывает дыхание (эту безудержную силу и дыхание, как я заметил, Героиня макаровского романа ищет и выделяет в себе, сомневаясь и утверждаясь, на протяжении всей шестисотстраничной книги. — П. К. ), внутренним зрением, позволяющим видеть насквозь и со всех сторон…»
У поэта Ивана Жданова есть поразительное стихотворение «Памяти сестры». Там, ближе к концу текста, героиня этой вещи, бывшая в земной жизни учительницей, что-то пишет мелом на пустой доске: «То ли буквы непонятны, то ли / нестерпим для глаза их размах: / остается красный ветер в поле, / имя розы на его губах». И — ближе к самому концу:
.................................
то ли мел крошится, то ли иней, то ли звезды падают в песок.
Ты из тех пока что незнакомок, для которых я неразличим. У меня в руке другой обломок — мы при встрече их соединим.
В случае с Фридл и Макаровой, повторюсь, встреча давным-давно произошла. Удивительнее всего здесь, конечно, то, что в отличие от ученицы Фридл американки Эдит Крамер [16] (1916 года рождения), живого, так сказать, классика искусствотерапии, — наша Елена Макарова, еще живя в Советском Союзе, годами интуитивно развивала педагогические идеи Пауля Клее и Фридл Дикер, ничего о них не зна я [17] .
От педагога и искусствотерапевта (тогда этого термина, очевидно, еще не было) Фридл Дикер-Брандейс остались две чудом сохранившиеся лекции, пачки фотографий, собственные художественные произведения и рисунки ее учеников. Это наследие становится все более открытым и доступным во многих странах. Оно неустанно «работает». Эдит Крамер, Елена Макарова и некоторые другие последователи и ученики Фридл делают для этого многое. Макарова, думаю, больше других.
Я не знаю, увенчаются ли труды по освоению/воскрешению этого наследия (и личности) Фридл Дикер-Брандейс тем, что имя ее станет таким же знаковым и символичным, как имя Аннелиз Мари Франк, более известной как Анна Франк. Вполне вероятно. Кстати, в случае с Фридл — в отличие от Анны и ее Дневника — никому не придет в голову пытаться доказывать, что лекции Дикер-Брандейс — поздний «педагогический подлог», а картины и рисунки якобы созданы другими людьми в послевоенное время — для формирования «легенды». Это невозможно.
Наследие Фридл обретено в объективном поиске, свидетельства собраны, имя постепенно становится все более героическим. Весной этого года я был на московской лекции-семинаре Елены Макаровой в Еврейском культурном центре (где был показан и интереснейший фильм о ее практических занятиях с молодыми родителями и вообще — с молодежью). В начале вечера, говоря о Фридл, Елена Григорьевна неожиданно рассказала о том, что одна из крупных западных кинокомпаний готовится снимать о Героине макаровского романа… художественный фильм.
Кто бы вы думали, сыграет в нем главную роль? Анджелина Джоли.
Теперь Макаровой предстоит пуститься в долгую «консультационную работу», по мере возможностей наполнять самую высокооплачиваемую голливудскую актрису (и посла доброй воли в ООН по делам беженцев) — своей Героиней. Надеюсь, что — их совместными усилиями — мать шестерых детей сыграет достойно и в созданном ею образе останется немало от настоящей, реальной Фридл.
Что же до писательницы и журналистки Фриды Вигдоровой (1915 — 1965), о чьем документальном материнском романе-хронике «Девочки», опубликованном недавно журналом «Семья и школа», мы рассказывали в прошлом выпуске «Детского чтения», то я думаю сейчас вот о чем.
О том, что у незабвенной Фриды Абрамовны, которую читали и почитали многие, пока, увы, не нашлось своей Елены Макаровой, которая написала бы об этой великой душе хорошую, живую книгу, например в серии «Жизнь замечательных людей».
Но надеюсь, что и автор такой книги все-таки когда-нибудь появится среди нас. Потому что имя и дела Ф. В. тоже нуждаются в воскрешении. И если такая история случится, если книжка о Вигдоровой кем-нибудь да напишется, то в ней, надеюсь, найдется место и рассказу о той невидимой миру драме, которая произошла с Фридой Абрамовной в ее последние годы. К прославившей Вигдорову записи процесса над Бродским это не имеет никакого отношения.
О ней, об этой драме, обмолвилась друг Вигдоровой, писательница Лидия Чуковская в своем большом поминальном очерке «Памяти Фриды» (1966 — 1967). Между прочим, в 1989 году Л. К. записала в своем дневнике: «Если буду жива, окончив 3-й том Ахматовой, — возьмусь за Фридину книгу». Не успела.
Но вот что она писала в очерке, в предпоследней его главе, названной «Так и бывает»:
«В последние годы она уже не спала без снотворного. Дела депутатские утомляли, жестоко ранили ее — и дома ей доводилось отдохнуть далеко не всегда. <…>
И все-таки, по глубокому моему убеждению, не это привело к дисгармонии. Не перегрузка, не бессонница. Ведь перегрузка — это перегрузка, а не противоречие внутри души.
Со всеми делами она постепенно справилась бы, у нее хватило бы, я уверена, душевной закалки и сил.
С Фридой в последние годы случилось другое — счастье или несчастье, не знаю.
Она встретилась со своей писательской зрелостью. А встреча эта для каждого писателя неизмеримо трудна.
Внезапно все написанное прежде теряет цену. Все кажется — иногда совсем несправедливо — никуда не годным, никому не нужным. Уверения друзей, читательские письма — не утешают более. Работать надо по-другому. Писать не о том, о чем раньше. Точнее. Кажется, я наконец-то знаю, о чем и как. И вот беда: столько лет я работала, столько лет училась писать, а писать мне стало не легче, а трудней».
Завершая, могу сказать: с дневниковым «материнским романом» о собственных дочерях, с «Девочками», эти слова Лидии Корнеевны все-таки сопрягать не стоит. Они соотносятся с другими трудами Фриды Абрамовны, в том числе и с ее последней книгой об учителе, над которой всесоюзная заступница Фрида Вигдорова напряженно и урывками работала в свое самое последнее время. Лидия Чуковская написала об этом предельно строго и горько:
«Книга в ней набухала, росла, разрывая ей душу. Новая книга, та, в которую она должна была вложить всю постигнутую ею правду.
Отдаться книге она не могла. Отплывешь на необитаемый остров, начнешь вслушиваться в „один, все победивший звук”, заслушаешься голоса, который диктует тебе слова, а жизнь — сумасшедший с бритвою в руке — возьмет да и прирежет кого-нибудь из самых тебе дорогих.
...Разрушил гармонию Фридин созревший художнический дар, потребовавший погружения в работу на другой — неприкосновенной — глубине. Она-то еще пыталась, могла, но ОН уже не мог, как прежде, примиряться с постоянной, бесперебойной деятельностью спасательной станции».
В следующий раз мы все-таки как следует отметим юбилей Юрия Коваля. Предваряя, отталкиваясь от собственных впечатлений, разговоров с людьми, чтения Интернета и, разумеется, общения с книгами самого писателя и воспоминаниями других о нем, — доложу вам пока что с легкостью: мало кого из литераторов второй половины прошлого века так любили (и так любят) наши читатели, как его. Мало. То есть — почти никого. Человек, соприкоснувшийся с его прозой хотя бы раз, прочитавший с открытым сердцем хотя бы одно из его классических сочинений, навсегда станет — как бы это сказать? — ковалиным человеком. Почему так? Попробуем распознать.
Книги
*
Балканский аккордеон. Современная греческая поэзия в переводах Александра Рытова. М., «Atelier ventura», 2013, 448 стр., 500 экз.
430 стихотворений 55 греческих поэтов ХХ и XXI веков — в таком объеме новогреческая поэзия до сих пор у нас не представлялась; здесь и поэты знаменитые (Константинос Кавафис, Йоргос Сеферис), и поэты, стихи которых впервые переводятся на русский язык. В качестве одного из предисловий к книге переводчик поместил свое стихотворение «Балканский аккордеон»: «Если бы закрылись все филармонии и концертные залы, / концертные холлы, забились в бомбоубежища / все великие оркестры и дирижеры / и остался лишь репертуар / бродячего балканского аккордеониста, зарабатывающего в Салониках, / сидя на канистре, / он играл бы для нас после Армагеддона / мелодии, сохранившиеся в его голове / и корпусе аккордеона, / единственные, оставшиеся на земле…».
Алессандро Барикко. Трижды на заре. Перевод с итальянского Анастасии Миролюбовой. М., «Азбука-Аттикус», 2013, 160 стр., 5000 экз.
Новая книга знаменитого итальянского писателя — «постмодернистская безделка от автора „Шелка” и „City”. Осенью на русском языке вышел роман Барикко „Мистер Гвин”. В нем упоминается некая воображаемая книга „Трижды на заре”, которая в событиях романа „Мистер Гвин” играет не последнюю роль. Барикко подумалось: не сочинить ли такую книгу на самом деле? И, закончив „Мистера Гвина”, он принялся писать „Трижды на заре”, которую можно читать вместе с „Мистером Гвином”, а можно саму по себе. В нее вошли три истории, объединенные, казалось бы, исключительно временем действия, указанным в названии, и местом — гостиницей. Все три крайне минималистичны: минимум ремарок, не более трех, а лучше двое персонажей, почти сплошь диалог... Но Барикко не был бы Барикко, а книга „Трижды на заре” не называлась бы романом, если бы эти три части не были связаны между собой не только временем и местом действия, но и другими приемами: случайностью встречи героев, парадоксальностью развязки, а финал третьей не был бы закольцован с началом первой. В результате получилась отточенной безупречности книжица вроде его же „Без крови”» (Н. Кочеткова, «Time Out») .
Дмитрий Голынко. Что это было и другие обоснования. Предисловие Кевина М. Ф. Платта. М., «Новое литературное обозрение», 2013, 216 стр., 500 экз.
Собрание стихотворений питерского поэта и теоретика современного искусства, куда вошли «сериальные стихотворные циклы», которые автор называет «прикладной социальной поэзией» («…своего рода диагностическая процедура, применяемая к современной социокультурной и политической реальности. Подобно многим медицинским процедурам, она не безболезненна, но благодаря ей можно расслышать внутренние — тревожные и подчас мучительные — голоса эпохи», — из аннотации); — «что это было? залп корабля / затевающий революцию отдается / звоном в похмельном сознании, лязг / отрезвленья, подранная клеенка, / на драном стуле сушится, отходняк / долог до безобразия, драная выдра / к плечу приникла, нечем занять / рассеянное внимание, задрана выя», «на листе ожидания значится — разбогатеть / обзавестись семьей, в санузле протеч- / ку давнюю устранить, выгодно получить / ипотечный кредит на дом у станции Ручьи / иль Торфяники, пройти интенсивный курс / английского, буркнуть, откуда паскуд / понаехало столько, боязно в темноте».
Григорий Горнов. Астарта. М., «Вест-Консалтинг», 2012, 190 стр., 200 экз.
Дебютная книга молодого московского поэта — «В пустой электричке возвращаясь из аэропорта, / Забываю все: губы, ресницы, запах, / Струи волос, разбегающиеся из пробора, / Взгляд, немного косящий всегда на запад. / Мой поезд несется по мглистому беспределью, / Пантографом зарю соскребая с меди, / И, отражаясь в востоке, я говорю с метелью / О недолговечном чуде, о часе смерти. / Подогрев сидения не согревает спину, / Плед принесла проводница, я сижу, закутан. / Но душевный покой наступит не когда я сгину, / Но когда тебя окончательно позабуду». Поэт, на котором, судя по всему, рос и созревал автор, — Иосиф Бродский, и книга стихов Горнова завершается эссеистическим текстом «О Бродском».
Александр Житинский. Плывун. Избранные стихотворения. СПб., Общественное объединение Союз писателей Санкт-Петербурга, 2012, 384 стр., 1000 экз.
Последний роман и собрание избранных стихотворений известного петербургского писателя, поэта, драматурга, издателя, а также одного из «отцов-основателей» русского литературного интернета (ники: МАССА, maccolit) Александра Николаевича Житинского (1941 — 2012).
Алексей Ивин-Конь. Записки сутенера. М., «Зебра Е», 2012, 448 стр., 1000 экз.
Образчик современной зарубежной русской прозы, отчасти сохранившей ориентацию на традиционную для наших эмигрантов 70 — 80-х годов «крутизну» и «шокинг» в лексике, выборе персонажей и ситуаций, с рекомендацией (на обложке) Виктора Ерофеева: «Удивительная книга крайностей, которые и составляют границы человеческой природы. Крайности сношаются между собой: грубость плодит нежность, отчаяние — любовные фантазии, цинизм жаждет власти» — социально-психологическая проза одного из ведущих сегодняшних русских писателей во Франции; роман с классическим для отечественной литературы зачином: «В 1997 году, прожив во Франции двенадцать лет, я попал в тюрьму за повторный угон автомобиля. Сидел в Тулоне, la Mason d’arret Saint Roch», в тюрьме автор знакомится с Филиппом, сидящим за сутенерство, ну а потом «среди нас появился еще один русский. Его звали Вова. Вова был незаметным, как бумажка на тротуаре. На бледном скуластом лице этого человека видны были только глаза, они были стального цвета, как у канадской лайки. От его взгляда я чувствовал себя не по себе, хотелось отойти от Вовы подальше. Две недели спустя, после его появления в тюрьме, Филипп был убит», среди вещей погибшего Филиппа автор обнаруживает рукопись, содержание которой и предлагает далее читателю.
Юрий Нагибин. Чистые пруды. М., «АСТ», 2013, 320 стр., 2000 экз.
Из классики советской литературы — циклы рассказов «Чистые пруды» и «Чужое сердце» (написанных на материале жизни довоенной Москвы — «Подобно своему любимому Марселю Прусту, Нагибин занят поиском утраченного времени, несбывшихся Любовей, несложившихся отношений, бесследно сгинувших друзей», — от издателя).
Олег Павлов. Дело Матюшина. Роман. М., «Время», 2013, 176 стр., 2000 экз.
Издательство «Время» продолжает издание «малого собрания сочинений» Олега Павлова, на этот раз — роман «Дело Матюшина», опубликованный впервые в журнале «Октябрь» (1997, № 1).
Серапионовы братья. 1921. Альманах. Предисловие и комментарии Бена Хеллмана. СПб., «Лимбус Пресс», «Издательство К. Тублина», 2013, 448 стр., 1000 экз.
Альманах, составленный Максимом Горьким в 1921 году, первоначально — для «Издательства З. И. Гржебина», и изданный в конце концов двумя питерскими издательствами в 2013 году; то есть перед нами отнюдь не републикация, а первое издание. Все эти годы рукопись хранилась в архиве города Хельсинки. Причиной невыхода альманаха в 1921 году стали издательские проблемы Гржебина, взявшегося издавать альманах, но потом уступившего право на публикацию финскому издательству «Библион»; однако и «Библион» не рискнул издавать книгу, содержание которой практически лишало ее шансов попасть на советский книжный рынок (Горький определял плод своего сотрудничества с начинающими писателями так: «Если посмотреть поверхностно: контрреволюционный сборник. И это хорошо. Это очень хорошо. Очень сильно, правдиво»). Издание это мыслилось его участниками как литературный дебют их творческого объединения. Содержание альманаха составили стихи Елизаветы Полонской, Владимира Познера, Николая Радищева; проза Всеволода Иванова, Михаила Слонимского, Виктора Шкловского, Михаила Зощенко, Николая Никитина, Вениамина Зильбера (Каверина), Константина Федина и рассказ и пьеса («Вне закона») Льва Лунца. Часть этих текстов публикуется впервые, а также большая часть остальных текстов альманаха, опубликованных авторами уже после 1921 года с учетом требований тогдашней цензуры, печатается в своей первой редакции. Также впервые публикуется предисловие Горького к этому альманаху: «Жить в России — трудно. На эту тему ныне столь много пишут и говорят, что, кажется, совершенно забыли неоспоримую истину: в России всегда было жить трудно. Эту истину глубоко чувствовали А. С. Пушкин, ее знал Чаадаев, знали Лесков, Чехов и все крупные люди оригинальной страны, где — между прочим — в ХХ веке, в эпоху торжества разума и величайших завоеваний его был предан анафеме Лев Толстой…».
*
Павел Басинский. Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой. История одной вражды. М., «АСТ», 2013, 576 стр., 5000 экз.
Новая книга Басинского; о подходе к теме книги автор говорит в своем интервью газете «Свободная пресса»: «„Толстой против кого-то” — это вообще не тема. Вся суть мировоззрения Толстого была в том, что он не был против кого-то. Толстой не боролся с конкретными людьми, он был против всей человеческой цивилизации, как она сложилась к XIX веку и даже гораздо раньше. В своей книге я показываю, что Толстой и против Иоанна Кронштадтского фактически никогда не выступал. В отличие от отца Иоанна, который действительно боролся против Толстого, против его влияния на общество. Против Победоносцева отец Иоанн тоже публично никогда не выступал. В этом удивительная особенность этого священника, который хотя и был несомненным реформатором в церкви, никогда не пытался разрушить что-то в сложившейся ее иерархии. Он не разрушал синодальную церковь, но служил так, как не было принято в синодальной церкви. Поэтому его хотя и не особенно любили и Победоносцев, и митрополит Антоний Вадковский, главенствующий член Святейшего Синода, но они были вынуждены его признавать, потому что отец Иоанн не вносил в церковь „смуты”, как Григорий Распутин, например. А вот его конфликт с Толстым — это очень важная реальность ситуации рубежа веков. Даже более важная, чем „отлучение” Толстого от церкви. Это разлом всей России — одни шли за Толстым, другие — за отцом Иоанном».
Ирена Грудзинская-Гросс. Милош и Бродский: магнитное поле. Перевод с польского М. Алексеевой. М., «Новое литературное обозрение», 2013, 208 стр., 1000 экз.
Из предисловия к книге — Томас Венцлова: «Книга, которую читатель держит в руках, чем-то напоминает мне Плутарха. Это своего рода параллельные биографии двух выдающихся личностей со схожими, но при этом резко контрастными судьбами. По словам автора книги, Чеслав Милош и Иосиф Бродский — покровители всех писателей-эмигрантов второй половины XX столетия. Им удалось практически невозможное или, по крайней мере, маловероятное: они не только не перестали писать стихи в чужой стране (что, вопреки мифам, скорее правило, нежели исключение, — это доказали Словацкий, Норвид, Цветаева, Ходасевич и десятки, если не сотни других), но сумели там стать ключевыми фигурами современной поэзии. При этом ни Милош, ни Бродский не отказались от родного языка, и известность среди любителей поэтического искусства на своей второй родине оба снискали главным, если не единственным, образом благодаря переводам. Они помогли друг другу достичь этой цели, не расточая взаимные похвалы — они были выше этого, — а проверяя себя на примере другого. Милош был для Бродского одним из немногих авторитетов, наравне с Ахматовой и Оденом. Но старший поэт тоже смотрел на младшего с восхищением и надеждой. Поэтому это книга и о дружбе».
Рене Жирар. Критика из подполья. Перевод с французского Н. Мовниной. М., «Новое литературное обозрение», 2012, 256 стр., 1000 экз.
«...Сборник эссе известного французского философа, филолога и антрополога Рене Жирара, уже известного отечественному читателю по книгам „Насилие и священное” и „Козел отпущения”. Герои этих эссе — Федор Достоевский и Альбер Камю, Данте и Виктор Гюго, Жиль Делёз и Марсель Пруст (равно как и персонажи этих авторов) — позволяют Жирару сформулировать одно из центральных понятий его „фундаментальной антропологии”, — понятие „миметического желания”. Эта книга о Другом как о нашем образце, сопернике и двойнике, в драматической конкуренции с которым возникает наше желание, равно как и наше „Я”. Это книга о том, что может оказаться более фундаментальным типом соперничества, нежели отношения, описанные Фрейдом через эдипов комплекс», — от издателя.
Зигмунд Кинси . История борделей с древнейших времен. Перевод с английского А. Назарова. М., «Центрполиграф», 2013, 383 стр., 3000 экз.
История проституции с древнейших времен до XVIII века, написанная на материале исторических, мемуарных и художественных текстов; дома свиданий государств Древнего мира, античного Средиземноморья, средневековой Европы, арабского Востока, Китая, Японии. «Освещаются и другие приватные стороны жизни социума, такие как брак, супружеский секс, законы привлекательности, взаимные измены, фаворитизм при королевском дворе, гарем, жертвы во имя красоты и прочее» (от издателя). Цитата: «Для обитательниц веселых кварталов в японском языке существовало много названий: дзеро („девицы”), кэйсэй („сокрушающие стены”), юдзе („девы веселья”). Гейшами тогда называли артистов (певцов, танцоров, рассказчиков) — и мужчин, и женщин. Будучи непременными участниками увеселений, они жили и в пределах самого квартала Есивара, и за его стенами. В квартале страсти существовала своя иерархия. Выше всех по положению стояли ойран или таю, одновременно в квартале их бывало не более десятка. Подающих надежды девочек владельцы заведений с самого юного возраста обучали и воспитывали в надежде вырастить ойран. С кандидатками занимались лучшие учителя музыки, танца, каллиграфии. При том, что гость платил (и немалые деньги!), окончательное решение — разделить ли с ним ложе — всегда было за ойран».
Андрей Немзер. При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы. М., «Время», 2013, 896 стр., 1000 экз.
История русской литературы и ее устройство в лицах (в творческом пути, этике и эстетике) ведущих ее представителей: Державина, Карамзина, Жуковского, Веневитинова, Баратынского, Пушкина, Языкова, Вяземского, Гоголя, Лермонтова, Пушкина, Соллогуба, Гончарова, Лескова, Толстого и других — до Давида Самойлова и Александра Солженицына. Журнал намерен отрецензировать эту книгу.
Российский джаз. В 2-х томах. Составители К. Мошков, А. Филипьева. СПб., «Лань», «Планета музыки», 2013, 1152 стр., 1000 экз.
Двухтомник составили материалы журнала «Джаз.Ру», представляющие историю отечественного джаза от момента зарождения джазового искусства в нашей стране до сегодняшнего дня; издание содержит «биографические материалы по персоналиям ныне действующих мастеров российского джаза и молодых звезд отечественной джазовой сцены, а также ряд проблемных и дискуссионных аспектов дальнейшего развития искусства джаза в России».
Виктор Савченко. Неофициальная Одесса эпохи нэпа. Март 1921 — сентябрь 1929. М., Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012, 287 стр., 800 экз.
В новой работе Савченко, специализирующегося на истории Украины, «использованы статистика, официальные документы, газетные материалы, литературные и частные мемуары, частная переписка. <…> Главы книги посвящены трем „подпериодам” нэпа: катастрофическому, голодному 1921 — 1923 годов, расцвету в 1923 — 1927-м, фазе свертывания в 1927 — 1929-м; одесскому политическому подполью и борьбе с ним ЧК-ОГПУ; пролетарским протестам; отношению власти к „бывшим” — спецам, интеллигенции, положению и составу студенчества; инспирированному властью процессу украинизации; одесской „новой элите” — коммунистам и нэпманам; отношениям власти и религии; еврейскому вопросу — сионизму, истории еврейских партий и антисемитизму в Одессе; и наконец — разумеется! — легендарной Одессе-маме: преступности и проституции. В итоге получилась полная и выразительная картина социальной жизни в городе, не опосредованная советским газетным, статистическим, историческим официозом» (М. Бутов, «Московский книжный журнал»).
Клэр Томалин. Жизнь Джейн Остин. Биография. Перевод с английского А. Дериглазовой. М., «Азбука-Аттикус»; «КоЛибри», М., 416 стр., 3000 экз.
Жизнеописание Джейн Остин, автор которого делает попытку опровергнуть сложившийся образ писательницы как тихой старой девы, провинциалки и домоседки, жизнь которой не была отмечена какими-либо яркими событиями.
Борис Фрезинский. Об Илье Эренбурге (Книги, люди, страны). Избранные статьи и публикации. М., «Новое литературное обозрение», 2013, 904 стр., 1000 экз.
Собрание разных работ историка, занимающегося советской эпохой, и литературоведа, посвященных жизни и творчеству Ильи Эренбурга, образующее, по сути, цельное монографическое исследование. Дав краткую, на нескольких страницах биографическую справку о детстве и юности Эренбурга, о его участии в революционном движении и начале жизни в Париже, автор переходит к главной теме первой половины своего исследования («Книги»): к истории написания, издания и дальнейшей судьбы книг Эренбурга, начиная от первых стихотворных сборников парижского периода до публикации в «Новом мире» на протяжении нескольких лет мемуаров «Люди, годы, жизнь» (с воссозданием обстоятельств редактуры, цензурных изъятий, сложностей с публикацией последних глав и т. д. — здесь, как и во всей книге Фрезинского, речь не только о литературной биографии Эренбурга, но и об истории русской литературы и литературной печати в СССР, и просто — об относительно недавней нашей истории). Вторую часть книги («Люди») составили очерки о взаимоотношениях Эренбурга с некоторыми своими современниками (с Брюсовым, Мандельштамом, Ахматовой, Замятиным, Борисом Слуцким и другими). Третья часть книги («Страны») посвящена месту в жизни и в творчестве Эренбурга стран, в которых он жил или часто бывал, — Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и др. Можно сказать, что чтение книги Фрезинского во многом может стать полноценным продолжением чтения мемуаров Эренбурга «Люди, годы, жизнь», имевших исключительное значение для двух как минимум позднесоветских поколений; только с уже более проработанным историческим материалом, которым сам Эренбург не имел возможности воспользоваться.
Олег Юрьев. Заполненные зияния. Книга о русской поэзии. М., «Новое литературное обозрение», 2013, 196 стр., 1000 экз.
К подзаголовку этой книги необходимо уточнение: «книга о русской поэзии», создававшейся преимущественно в Ленинграде/Петербурге, — автор заполняет зияющие лакуны в истории русской поэзии представлением творчества Алика Ривина, Геннадия Гора, Павла Зальцмана, Леонида Аронзона, Олега Григорьева, Сергея Вольфа, Елены Шварц и других, ну и, соответственно, разговор об их поэтике вносит свои дополнения в общую картину русской поэзии. Впрочем, речь в книге — не исключительно о питерских поэтах (есть здесь и москвичи, скажем Станислав Красовицкий и Михаил Айзенберг), и не только о поэзии (в книгу вошла статья о прозе Андрея Николева, только-только входящей в наш культурный обиход). И естественно, большое внимание отводится общепризнанным уже классикам: Мандельштаму, Ахматовой, ну и, конечно же — Бродскому, статья о котором называется «Иосиф Бродский: Ум» — «Талант встречается часто, ум — почти никогда. Гений — это не много таланта, и даже не высшая степень таланта, а большой талант и ум в их удавшемся взаимодействии»; «Ум Иосифа Бродского, почти безошибочно действовавший в области больших контекстов, продольных и поперечных временных рядов, сделал его, скорее всего, как побочное следствие <…> непревзойденным гением литературной политики. Литературная политика — это не интриги по поводу публикации, литфондовской дачи или грошевого гранта… это искусство навигации в идеальном фарватере большой иерархии … Именно в этой, а не собственно в литературное области был Бродский учеником и первенцем Анны Ахматовой, как известно, примерно с середины 50-х годов положившей в основание своей жизни борьбу за утверждение „четверичного” мифа, за внесение в будущий воображаемый учебник своего рода „коллективного Пушкина” ХХ века…».
*
Мишенское. Составитель О. М. Михайлова. М., «Олимп-Бизнес», 2013, 40 стр. Тираж не указан.
Небольшой, но великолепно изданный, с замечательным подбором иллюстраций альбом, посвященный бывшей усадьбе в селе Мишенском и городу Белёву, местам, где родился и вырос Василий Андреевич Жуковский. Перед нами одно из множества подобных историко-краеведческих, литературно-исторических иллюстрированных изданий, но, увы, в отличие от альбомов, посвященных Михайловскому, Ясной Поляне, Поленову или Муратову, тема Мишенского возникает в тревожном, если не драматическом контексте сегодняшней русской жизни. Связанное с историей русской культуры, с жизнью и творчеством великого поэта, место это практически обречено на «беспамятство» — на застройку дачными элитными поселками новых русских и местных чиновников. В своем вступлении составитель альбома Ольга Михайлова описывает нынешнее состояние усадьбы: «На холме, где стоял дом, в котором родился поэт, установлен обелиск с табличкой. Рядом большой заброшенный сад», «В глубине сада памятник советским солдатам, погибшим в этих местах при обороне Белёва. Мишенское было разрушено в Великую Отечественную войну. С тех пор усадьбу не восстанавливали». Ну а в сети на небольшом сайте «Мишенское» ( ), находящемся пока в разработке, вывешена справка: «Ранее место рождения Жуковского относилось к памятникам историко-культурного наследия федерального значения, но Указом Президента № 452 от 05 мая 1997 г., Приложение 2, было исключено из списка объектов федерального значения, то есть фактически обречено на уничтожение, продажу и застройку».
В альбоме два раздела — первый посвящен собственно Мишенскому и содержит рассказ о семье Жуковского, фактическим отцом которого был владелец имения Афанасий Иванович Бунин, о детстве, о несчастной многолетней любви Жуковского к сводной сестре Марии Протасовой, жившей в соседнем имении, об отражении в творчестве Жуковского этих мест; текст сопровождается богатым иконографическим материалом, старинными и современными фотографиями окружающего пейзажа и рисунками самого Жуковского.
Вторая часть альбома представляет город Белёв. Один из самых древних русских городов (в летописях упоминается с 1147 года), до сих пор хранящий память о своей истории в сохранившихся зданиях и сооружениях, светских и церковных (Спасо-Преображенский, Белёвский Кресто-Воздвиженский, Анастасов монастыри, Свято-Введенская, Макариевская, Жабыньская Пустынь и другие). Белёв, как и множество старых русских городов, постепенно стал городом районного значения, для обозначения которых сегодня существует жеманное и лицемерное словосочетание «малая родина», то есть всерьез употребляющие это определение, по сути, соглашаются с отношением к ним как чему-то «малому», ущербному, не имеющему права на статус родины полноценной. Таковым Белёв никогда себя не считал — у него, как и у множества других русских городов, была собственная история и свое чувство достоинства, отнюдь не дутое. В Белёве было свое кирпичное, кожевенное текстильное производство; известен был Белёв своим «белёвским кружевом» и «белёвской глиняной игрушкой»; «белёвские ножи», способные перерубать ружейный ствол, были предметом специального интереса и Петра I, и, позднее, пришедших в Россию французов — в 1812 году наполеоновские войска, отступая, угнали семьи, владеющие секретом белёвской стали, в Европу; белёвские купцы торговали не только по России, но на европейских ярмарках, ну а когда-то город вообще имел право на чеканку собственной монеты («деньга белёвская»). Из Белёва и окрестностей вышли мореплаватель и полярный исследователь С. И. Челюскин, Петр и Иван Киреевские, Александр Даргомыжский, Зинаида Гиппиус и многие другие, вплоть до наших современников (того же Геннадия Калашникова). То есть язык не повернется включить Белёв (Малоярославец, Боровск, Козельск, Углич, Вышний Волочек и сотни других русских «районных городков») в культурную и историческую резервацию под названием «малая родина». Это по-прежнему места для полноценной жизни, а не для «выездов на природу» — города со своей исторической и культурной памятью, которые, как показывает наша новейшая история, оказываются самыми беззащитными перед напором «современности». Собственно об этом — альбом «Мишенское». Издан он к 230-летию Василия Жуковского. И в данном случае это не только попытка напомнить соотечественникам об их истории и культуре, но и часть некоего проекта, направленного на возрождение усадьбы Жуковского и исторических мест Белёва. Нынешнее состояние некоторых исторических памятников, представленных на фотографиях, вызывает, скажем так, сложное чувство — видно, что стоят они уже как бы в ожидании сноса, и похоже, очень даже близкого. И потому еще одна цитата о ситуации с усадьбой Жуковского, взятая мною уже с сайта «Мишенское»: «Этот исторический казус можно исправить, восстановив усадьбу и создав в Белёвском районе историко-культурный, природно-ландшафтный и образовательный музей-заповедник. Необходимо отметить, что в России нет ни одного музея Жуковского — поэта, чьи произведения включены в школьную программу и именем которого названы улицы городов».
Составитель Сергей Костырко
Составитель благодарит книжный магазин «Фаланстер» (Малый Гнездниковский переулок, дом 12/27) за предоставленные для этой колонки книги. В магазине «Фаланстер» можно приобрести свежие номера журнала «Новый мир».
sub /sub
Периодика
«АПН», «АРТ-ШУМ», «Афиша», «Гефтер», «Известия», «Коммерсантъ Weekend», «Культура», «Московский книжный журнал/The Moscow Review of Books», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новая реальность», «Новое время/The New Times», «Новые Известия», «Огонек», «Перемены», «Православие и мир», «РИА Новости», «Русская жизнь», «Русский Журнал», «Русский репортер», «Свободная пресса», «Собака.ru», «Топос», «Эксперт», «Colta.ru»
Виктор Аксючиц. «Первородный грех» русского дворянства (XVIII век). — «АПН», 2013, 13 февраля < >.
«То, что русская культура к XIX веку была дворянской, не доказывает, что дворянство было наиболее талантливым и творчески одаренным сословием в России. В нем выразилась общая талантливость русского народа, которая могла только так проявиться, ибо только дворянство имело условия, необходимые для культурного самовыражения и творчества. Высокая дворянская культура не оправдывает социального паразитирования дворянства и разгрома им традиционной национальной культуры».
«Искусственное выделение паразитического культурного слоя не является ни единственно возможным, ни лучшим путем для создания самобытной национальной культуры».
«Подводя итоги, можно сказать, что при Петре I дворянство превращается в завоевателей в своей стране, разрушивших исторический уклад жизни, подчинивших все другие сословия».
Виктор Аксючиц. Экзистенциальная боль русской литературы. — «АПН», 2013, 6 марта.
«Герои русской литературы — это образы не реальных людей и отношений, а отражение проблем, которые мучили образованное общество. Эта литература не натуралистическая и не реалистическая, а экзистенциальная. Если западные писатели изображали по преимуществу то, что видели, то русские описывали то, что чувствовали. Русская литература изображает внутреннюю судьбу автора, историческое положение и статус его сословия, его место в истории и культуре своего народа, а только затем — отношение автора к немым и несмысленным (по характеристике Бердяева) слоям населения. Внутренняя жизнь немых сословий во многом осталась тайной для русской литературы».
Ирина Алексеева. «У переводчика с каждым писателем запутанная история». Беседу вела Елена Калашникова. — «Московский книжный журнал/ The Moscow Review of Books », 2013, 5 февраля <; .
«Вот Елинек — „не мое”. Даже ей самой я при знакомстве сказала, что тексты ее мне не нравятся, что я не хочу их переводить. Большей наглости от такого застенчивого, в общем, человека, как я, нельзя было ожидать. И после этого Вадим Назаров, главный редактор издательства „Амфора”, заплатил мне немалые деньги и добился того, чтобы я перевела ненавистную себе авторшу. <...> Мне хотелось понять, что это за тетка — с таким лицом, таким поведением и с такими текстами. Я по месяцу держала „Михаэля” и „Мы пестрые бабочки, детка!”, прежде чем дать окончательный ответ издательству, изучала, пыталась понять. А теперь понимаю, что я бы многое потеряла, если бы их не перевела».
«Точно так же обстоит дело и с Гессе, тексты которого я не очень люблю. Каждый человек — ценность, особенно писатель, и лучше его оценивать через текст. Поэтому я и взялась за сказки Гессе. <...> Гессе мне не нравится — он манипулятор. Но в чем заключается его манипуляция, можно понять только через перевод».
«Уже давно сформировалась постмодернистская культура примечаний — она является частью текста, и два текста конкурируют между собой. Она повлияла на читателя и переводчиков, поэтому переводы более современных текстов, думаю, нужно снабжать комментариями».
Кирилл Анкудинов. Воля к романтизму. Попытка манифеста. — «Свободная пресса», 2013, 23 февраля <; .
«…Хмурым декабрьским утром я, как обычно, приехал в свой вуз, вновь увидал пустую аудиторию (студенты опять не явились), стал возвращаться домой — и вдруг вообразил-представил, как всю жизнь буду ходить мимо пустого пьедестала, приходить в пустые аудитории, рецензировать пустопорожнее творчество Анатолия Наймана (эта перспектива ужаснула меня более всего), взбивать пустоту, ловить Ничеву, иметь дело с людьми, которые спят наяву, не хотят ничего и — в своем нежелании уже мало что могут (ибо разучились) — тут меня захлестнуло такое бешеное отчаянье, что я побежал куда глаза глядят, споткнулся и грохнулся на асфальт. Хорошо хоть ничего себе не сломал…»
«Лет пять-шесть назад я выражал некоторые надежды на действующую государственную власть; например, я в нескольких публикациях посоветовал государственной власти взять на себя организацию альтернативной литературно-логистической системы (поскольку имеющаяся — заражена антироссийскими бациллами). Я прекрасно понимал, что это утопия, но тогда у меня была хоть малейшая, хоть однопроцентная, но надежда на власть. Надежды больше нет».
Андрей Аствацатуров. «Мне иногда кажется, что у нас лучше дела обстоят с теми, кто создает литературу, чем с теми, кто ее читает…» Беседовал Платон Беседин. — «АРТ-ШУМ», Днепропетровск, 2013, № 1 < >.
«Люди, которые нас окружают (и, разумеется, мы сами), не являются свободными автономными субъектами. Мы ненавидим одиночество, сходим от него с ума и обожаем находиться среди других или наедине, но с чем-нибудь: телевизором, книгой, компьютером. Наши собственные идеи редко бывают нашими собственными идеями — они всегда откуда-то взяты и оказываются продолжением или завершением чьих-то размышлений. Наши чувства — тоже в большинстве своем цитаты».
«А в современном мире, будь то политика или экономика — мы уже давно ни за что не отвечаем. Нами управляют какие-то корпорации, какие-то стратегические планы, о которых мы даже не догадываемся. <...> Потому героев нет и не будет. А если кто-то что-то подобное изобразит — то он всех обманет. Но я бы поприветствовал подобный обман».
Дмитрий Быков. Сизифов блуд. Сто лет русской литературы. 1903-й, Urbi et Orbi Валерия Брюсова. — «Русская жизнь», 2013, 15 февраля <; .
«Брюсову не повезло родиться в Серебряном веке, когда путь в вожди и герои лежал через литературу. <...> Но в 1894 году кратчайший путь к славе, власти и женской любви лежал через символистскую поэзию, и он сунулся туда, как мальчики шестидесятых шли в физику».
«Я иногда думаю, что и Маяковский — во многих отношениях ученик, а в некоторых даже и двойник Брюсова, — совершенно напрасно пошел в поэзию, где обнаружил один, пусть гениальный, прием и с помощью этого риторического хода признавался в любви то к Лиле, то к Ленину; да и прогноз погоды можно так переписать — и все равно будет интересно. Главное же его дарование было другое — художник он был прекрасный, и гибкий, и разнообразный, и культурный (не начитанный, а насмотренный; литературу предшественников он как раз знал клочковато, а современников читал более чем избирательно). Уверен, что, выбери он живопись, — сроду не застрелился бы, а причина всех его неврозов — как раз в том, что он передумавший художник и переученный левша».
Дмитрий Быков. По следам нежного человека. Сто лет русской литературы. 1904-й, «Тихие песни» Иннокентия Анненского. — «Русская жизнь», 2013, 20 февраля.
«Если Брюсов угадал почти все темы русской лирики нового века, то Анненский — почти все интонации».
Алексей Варламов. Висельная дорога Михаила Пришвина. — «Топос», 2013, 6 февраля <; .
«Ахматова назвала „Доктора Живаго” гениальной неудачей. „Осудареву дорогу” при всей ее невезучести гениальной не назовешь ни с какой точки зрения. Скорее наоборот, этот роман оставляет впечатление беспомощности и болезненного провала. Собственно при чтении ее не очень даже и понимаешь, к чему был весь этот многолетний сыр-бор о бедном Евгении и Медном Всаднике, если в романе первого (Евгения) попросту нет, а есть галерея угодивших на строительство канала уголовников и масса неизвестно за что попавших тысяч жителей земли, о которых ничего не говорится <...> а что касается второго (Медного Всадника), то в его роли выступает вовсе не грозный, не величественный, а какой-то ходульный начальник строительства Сутулов, который имеет власть принять и „бросить в лес тысячу человек” или командовать операцией по ликвидации прорыва воды во время весеннего разлива, отправляя эту тысячу на гибель в ледяную воду, но по большому счету, настолько весь выдуман и неестественен, что вызывает недоумение, неловкость и жалость, а между тем Пришвин-то стремился — страшно вымолвить — к тому, что „Сутулов — это Максим Максимыч в форме чекиста”».
«Дело в том, что „Осударева дорога” — один из самых идеологических, идеологизированных романов во всей русской литературе. Психология, пластичность, поступки героев, их конфликты, язык, мысли, чувства — все здесь в ущерб художеству подчинено идеям, носителями которых оказываются персонажи, и эти идеи заботили автора больше всего. Только идей столпилось так много, что роман оказался буквально перегружен ими и утонул под их тяжестью как плавучий остров-ковчег, на котором странствовал по весеннему разливу Зуек с живностью. Пришвин попытался вложить в эти двести пятьдесят страниц все, о чем передумал за без малого восемьдесят лет жизни».
Евгения Вежлян. Формат, или Почему в нашей литературе ничего не происходит. — «Русский Журнал», 2013, 18 февраля <; .
«...Наша литературная сцена на рубеже 2000 — 2010-х превратилась в нечто рутинное. Из пространства, на котором осуществляется движение литературы, „обналичивается” ее ресурс новизны, — в место сплошной циклической репрезентации готовых продуктов. Акцент сместился с литературных встреч в клубном и салонном пространстве, где осуществлялся информационный обмен участников литературного сообщества, на премиальные церемонии, главная цель которых — медийная презентация. Вместо „риторики аргумента” утвердилась „риторика присутствия”: легитимность выбора и мнения подтверждена институционально и репутационно, и то, что смотрится как аргумент, на самом деле имеет смысл „церемониальной речи”, „слова”».
Михаил Визель. Льюис Кэрролл как зеркало русской англомании. В серии ЖЗЛ вышла биография английского писателя, написанная его переводчиком. — «Свободная пресса», 2013, 2 февраля <; .
«Весь мир обожает „Алису” за ее абсурдность (и тщательно выдрессированных, но явно свирепых тараканов в голове Кэрролла), и лишь в СССР она была воплощением английской упорядоченности и размеренности. <...> И неважно, что даже по самой „Алисе...” видно — по части жесткости, сословной розни и предрассудков викторианская Англия могла дать фору николаевской России. Читатели „Алисы...” этого просто не замечают. Как не замечают, что демуровская Соня — это вообще-то не „она”, а „он”, и троица „безумного чаепития” неприязненно встречает Алису не в силу своего безумия, а потому, что она женщина, вторгающаяся на мужскую попойку. Нина Михайловна [Демурова] — блестящий переводчик и знаток литературы. Она не могла этого не заметить. Просто в ее Англии не может быть места ни попойкам, ни мужскому шовинизму».
«И точно так же можно сказать, что русская биография Кэрролла — суть русской англомании. Подробно толкуя происхождение слов student и scholars , объясняя различие Высокой церкви и Широкой церкви, описывая Лондон, Оксфорд и Чешир, Нина Демурова продолжает творить русский миф об идеальной Англии. И можно не сомневаться — миф этот еще долго будет востребован».
Татьяна Воронина. «Социалистический историзм»: образы ленинградской блокады в советской исторической науке. — «Неприкосновенный запас», 2013, № 1 (87) < >.
«Соцреалистический канон, являясь сложной комбинацией идеологического заказа и постепенно сложившейся поэтики литературного текста, воздействовал на советскую историческую науку намного эффективнее, чем официальные директивы, инструкции и цензура вместе взятые».
«Соцреализм сделался элементом гуманитарного и социального академического дискурса. И, хотя современные российские исследования все дальше уходят от советской модели описания блокады, укоренившаяся формальная логика построения по-прежнему оказывает на них значительное влияние, будучи встроенной в фундамент описания советской реальности».
Александр Генис: самое вкусное для меня — хлеб и картошка. Беседу вела Лариса Саенко. — «РИА Новости», 2013, 11 февраля < >.
«Нельзя сказать, что люди, которые не любят есть, это плохие люди. Ну, например, Достоевский. Говорят, ему было все равно, что есть, и я вижу это по его книгам. То, что он мало радости в жизни видел, это точно. Или Петрушевская, например. Ее если почитать, то у нее пирожное за 22 копейки будет как пирожное за 11 копеек. У нее всегда краденая еда, всегда что-то украли, она ищет, где хуже, а не где лучше».
«Довлатов, например, открыл, как в Америке делать пельмени, обертывая в фасованные раскатанные кусочки теста для азиатской кухни. Это был его выдающийся вклад в кулинарию. Хотя он был человеком, который ничего не понимал в еде. Однажды он перевернул кастрюлю щей и сварил другую — из салата. Даже не видел разницы между капустой и салатом».
Анна Голубкова. В своем углу. Библиографическая колонка № 1: Мария Галина, Анна Золотарева, Андрей Чемоданов. — «Новая реальность», 2013, № 46 < >.
«В жизни этот поэт [Мария Галина], на мой взгляд, человек скорее рациональный и довольно-таки собранный и организованный, зато в стихах у нее всегда прорывается что-то стихийное, хаотическое и совершенно непредсказуемое. Причем прорывается, судя по всему, где-то даже помимо воли автора. Тут, наверное, следует сделать лирическое отступление и прямо сознаться, что, в отличие от постмодернистов, я признаю не только существование автора, но и наличие у этого самого автора чего-то вроде авторской воли и даже иногда — изначальной авторской установки. Понимаю, что это смешно и несовременно, но ничего поделать с собой не могу, так что настоятельно рекомендую правоверным постмодернистам дальше этот текст не читать».
«Как там обстоит дело с мужчинами, я не знаю (иногда мне вообще кажется, что никаких мужчин не существует, — смайлик), но как раз книга Анны Золотаревой отчетливо демонстрирует, что женское — это прежде всего боль, обязанность и ответственность вынашивания, рождения, воспитания и выхаживания. Однако при всей проявленности подобного взгляда на мир, стихи эти ни в коем случае нельзя назвать женскими в том смысле, какой обычно вкладывается в это определение. Речь в них идет о сложности и тяжести бытия как такового и особенной сложности и тяжести при попытке внесения в этот хаос какого-то рационального упорядочивающего начала, именно в этом как раз и заключается здесь „женское”».
Лев Данилкин. «Вот эта, кажется, могла бы историю рассказать». Как тележурналист Понизовский написал большой роман на основе рыночных разговоров. — «Афиша», 2013, 26 февраля < >.
«Шишкин, Сорокин, Гиголашвили, Проханов, Водолазкин — и ведь это только самый первый ряд; романы о „тайне русской души” и страдании, как и сто лет назад, производятся в России регулярно; чтобы войти на этот рынок, автору-новичку нужно как следует поработать локтями — и изобрести нечто экстраординарное. В „Обращении в слух” это условие соблюдено».
«Антропологически, по типу, Антон Понизовский на создателя романа о загадке русской души не похож, а похож — на банкира П. Авена».
«В приложенном к роману списке благодарностей значатся — „прошу благословения и молитв” — аж три протоиерея, так что, кажется, с Понизовским можно разговаривать о его православии без лишних экивоков».
«— То есть Евангелие — универсальный код?
— О да, вполне универсальный…»
Журнальный вариант романа Антона Понизовского «Обращение в слух» напечатан в январском и февральском номерах «Нового мира» за этот год; полное отдельное издание — «Лениздат», 2013.
Нина Демурова. «Я хотела защитить Кэрролла». Беседу вела Людмила Жукова. — «Новое время/ The New Times », 2013, № 3, 4 февраля < >.
«Первый анонимный перевод „Алисы” под названием „Соня в царстве дива” вышел в 1879 году, еще при жизни Кэрролла. Переводчик (я думаю, что это была переводчица — тогда детские книги в основном переводили женщины) решила заменить неизвестного русским детям Вильгельма Завоевателя, которого упоминает Алиса, на Наполеона, и в результате Мышь в этом переводе довольно долго рассказывает про „нашу победу при Бородино”. Безумный Шляпник был заменен на Илюшку-лжеца, а „безумное чаепитие” („Шальная беседа” в этом переводе) свелось к бессмысленному разговору. Потом появились другие переводы, но и они были русифицированы».
«Яхнин, скажем, очень грубо перевел: он хотел, чтобы было смешно, вставлял свои шутки, которые очень не походили на Кэрролла: грубым смехачеством тот не занимался, у него все более тонко. У Заходера тоже была своя интонация — такой октябрятско-пионерский задор. Это, по-моему, совершенно не нужно».
Александр Жолковский. Пионер советского структурализма и один из самых влиятельных русских филологов — о возвращении холодной войны, Лимонове, Соколове и моральных качествах литераторов. Беседу вел Лев Данилкин. — «Афиша», 2013, 8 февраля.
«А в целом скажу, что за довольно долгую уже жизнь мне пришлось пережить мировую войну, сталинизм, оттепель, застой, глухую эмиграцию „навсегда”, перестройку, новую открытость России, новый откат в прошлое. Желание увидеть, чем кончится теперешний этап российской истории, — один из основных стимулов не умирать, не умирать ».
«Оппозицию „свое/чужое” любят журналисты. Меня она не очень трогает. Я не думаю, что, разбирая русские тексты — классиков, модернистов, эмигрантов, коллаборационистов, диссидентов и т. д., — я каким-то образом „играю против своих”. А когда я „играю против” ахматовского или хлебниковского культов, то, конечно, мне в этом помогает моя профессиональная, в частности финансовая, независимость от российского истеблишмента, но не более того».
«Гаспаров был, бесспорно, мастером, если не гроссмейстером, одновременной игры на нескольких досках — следования условностям в роли — нише? — нестрашного чудака-книгочея, что позволяло ему маскировать и таким образом отстаивать свою особую идентичность и огромное честолюбие. Я написал на эту тему целую виньетку, „Совершитель Гаспаров”. У меня другие вкусы. Я немного моложе, незатейливее, прямее, мне нравится to tell it as it is , сказать все как есть».
Максим Кантор. «Я прожил 53 года в России и заслужил право говорить так, как считаю нужным». Интервью взяла Наталия Курчатова. — «Собака.ru», Санкт-Петербург, 2013, 27 февраля < >.
«Оттого что мне не нравится капитализм, вовсе не следует, что у меня левые убеждения. <...> Что касается меня, то я христианин, я люблю Платона и Фичино, Ван Гога и Шекспира, Толстого и Данте. Что именно из этого списка представляется вам левыми взглядами, я не знаю. А то, что я не люблю социальную несправедливость и рыночную демократию, нисколько не удивительно и ничем не более лево, нежели взгляды Диккенса, Бальзака или Толстого».
Николай Кононов. «Матрица европейского модернистского романа мне не подходит». Денис Ларионов поговорил с петербургским поэтом и прозаиком о советском наследии, Лидии Гинзбург и современном искусстве. — « Colta.ru », 2013, 25 февраля < >.
«Мы помним ее [Лидии Гинзбург] разрозненные записи, указывающие на то, что она была на подступах к большому тексту романного характера в 30-е годы, она обозначала род этого текста как прустианский, но исследователями, разбиравшими ее архив, такой текст, увы, не смонтировался, может быть — пока. Но, собственно, мне понятен характер ее неудачи, и я позволю себе сказать об этом. Дело в том, что главная проблема ее психоаналитических исследований, рассыпанных в прозаических фрагментах, известных к сегодняшнему дню, — описание и обозначение собственной идентичности в копулярных отношениях между двумя женщинами. Из-за самоцензуры она практически всегда прибегала к письму от первого (измененного) лица. Но специфизм подобных отношений оставался и становился в таком изложении недостоверным, хотя и психологически утонченным и т. д. Я думаю, что именно такой „самоцензурный” подход и не дал ей создать большой текст, обреченный на сугубую жизнь в ящике письменного стола. Кстати, именно такая ее самотрансляция создает этические сложности, как вы отметили. Если подводить черту, то замечу еще раз, что психологический буквализм, ситуативное правдоподобие, „магнитофонная речь” создают буквально документальную драматургию, а подмена пола главного действующего лица — автора/нарратора вносит этическую неразрешимость в саму суть разговора с читателем».
См. также статью Кирилла Кобрина «Лидия Гинзбург: прорыв блокадного круга» в настоящем номере «Нового мира».
Станислав Красовицкий. «Это формула русской поэзии». О 100-летии «Дыр бул щыл» Алексея Крученых. Беседу вела Анна Наринская. — «Коммерсантъ Weekend », 2013, № 5, 15 февраля < >.
«„Дыр бул щыл / убешщур” — это именно то, что „есть”. У этих слов нет значений, и поэтому видна их чистая сущность. Здесь есть только то, что есть. Потому что звук — это данность. Крученых это понимал, причем понимал очень точно, почти математически. Он вообще был очень рационален. И его стихотворные упражнения, они часто были не излияниями поэтической души, а иллюстрациями его теоретических размышлений. Он был теоретик поэзии».
«В юности я занимался биологией — среди прочего мы вываривали в серной кислоте моллюсков. У каждого моллюска есть нерастворимый остаток, известковая решетка — она называется радула. Эта радула всегда оригинальна для каждого вида. У поэзии тоже имеется радула — одна и та же „решетка”, объединяющая поэзию по, скажем так, национальному признаку».
«А ведь если стихи несут вред — то это очень сильный вред. Если в конструкцию стихотворения заложить яд (а это можно сделать)... Например, были древние скандинавские висы, рождающие смерть: прочтет человек — и умрет. <...> Почему я, например, уничтожил большую часть своих стихов? Потому что я видел в них яд. А в его стихах яда нет».
Священник Сергий Круглов. Молитва как осиновый кол? — «Православие и мир», 2013, 5 февраля < >.
«[Стивен] Кинг смутно понимал природу зла — но именно что смутно, в моем некрещеном сознании оставались занозы, невыясненные вопросы после чтения его книг — похоже, Кинг так и не смог принять ее смысл по-настоящему. Он точно и достоверно описывал симптомы зла — но что-то мешало ему ясно обозначить корень, мешало, возможно, не в последнюю очередь, и вот почему (это только мой домысел, простите меня, м-р Кинг): когда ясно понимаешь природу зла — тогда пропадает чарующий интерес ко злу, пропадает драйв мистического страха перед злом, замешанного на вожделении. Когда понимаешь главное отношение к сатане: „ и дуни и плюни на него” — и забудь, не обращай внимание на мокрицу в половице, ни во чтоже вмени, сосредоточься на главном, на Христе — тогда отпадают многие увлекательные „от мира сего” фобии, фантазии, интересы и заделья».
«Так вот, пачку книг Кинга я, приняв крещение в 1996 году, выбросил на помойку. И ни разу не пожалел. Вернул, годы спустя, только две (и то — не на книжную полку, а в электронную читалку, чтобы перечитать) — романы „Необходимые вещи” и „Салимов Удел” (второй, кстати, вернул не в малой степени из-за замечательных лирических пассажей о погоде, об осени, о ветре, с которых начинаются некоторые главы…)».
Юрий Кублановский. Наступление на Пушкина. — «Культура», 2013, 7 февраля < -kultura.ru >.
«Не хочу сказать, что наш Александр Сергеевич является персональной целью новых веяний. Просто все духовное, определяющее связь времен и культур, попадает под пресс этой новой постхристианской цивилизации, которая начинала закипать еще в конце шестидесятых годов прошлого века и получила новый импульс для своего развития со становлением интернета, формированием сетевой культуры».
«<...> маховик, который системно и равнодушно перемалывает все, что дорого нашему сердцу».
Александр Кушнер. «Поэт в жизни должен быть застегнут на все пуговицы. Другое дело — стихи». Беседу вела Ольга Ципенюк. — «Огонек», 2013, № 4, 4 февраля < >.
«Скажу только, что первая юношеская любовь была абсолютно счастливой — наверное, этим объясняется многое в моем отношении к жизни».
«Десять лет проработал в школе, и не жалею. Учительский заработок позволял мне не зависеть от гонораров. В Ленинграде я был далек от московской литературной богемы, от всей этой довольно искусственной светско-советской среды. И тогда, в 60-е, жил не как поэт, а как человек, пишущий стихи, — это разные вещи. Я знаю, как устроена обычная, повседневная жизнь. Одно дело — просыпаться в полдень после очередных посиделок в ЦДЛ, другое — вставать в 7 утра и ехать в замерзшем переполненном трамвае с Петроградской стороны на Охту, „как все”».
«Да, нам определенно повезло. Иногда я с ужасом думаю о том, как бы я жил, что бы писал, родись я лет на 20-30 раньше. Никак не могу за себя поручиться. Вынужденные „сталинские” стихи Пастернака или Мандельштама, огорчающие нас, — лучшее средство от гордыни и самоуверенности. И в 1987 году, осознав это, я написал: „ Сказал один чудак, и я скажу опять, / Смутясь, по-дружески, по-свойски, по-соседски, / Что никогда не надо осуждать / Людей, особенно советских ...”. Эту жалость, это понимание исторических тисков, в которые может угодить человек, прекрасно знал, например, Зощенко».
Игорь Манцов. Без технологий, зато с лозунгами. Вторая беседа Игоря Манцова с Владимиром Бондаренко. — «Перемены», 2013, 25 февраля < >.
Среди прочего Игорь Манцов обращается к Владимиру Бондаренко: «Еще раз повторяю: провинциальный, да и столичный обыватель подсажен на потребительскую иглу, Ваши лозунги ему до лампочки. Поверьте для начала! Гигантские торговые центры, отстроенные, допустим, в Туле за последние годы, — это именно что Храмы Потребления . С куполами, с гигантскими изображениями полуобнаженных, условно говоря, блудниц в белье, словно пародирующими православную иконопись. <...> Вся моя речь построена на том, что я с потребительской позицией не идентифицируюсь. А иначе с чего бы мне затевать эти разговоры, которые, надеюсь, мы не бросим. Вы же бездоказательно предполагаете: потребительство — моя мечта. В то же время я настаиваю: потребительский западный стандарт неизбежен. В лоб его не победит никакой „Сталин”, но Вы с Реальностью считаться не хотите, а это приведет к очередному поражению, к очередному обессмысливанию всего тутошнего».
Первая беседа — 11 февраля.
Борис Межуев. В поисках Борхеса, или Как мы прощались с Касталией. — «Гефтер», 2013, 4 марта < >.
«[Георгий] Кнабе, конечно, видел в „отрицательной диалектике” Жизни и Культуры зловещий симптом грядущего финала европейского общества, по крайней мере, в прежней его форме, но мне кажется, что он подмечал не столько какую-то универсально-европейскую доминанту культуры, сколько старался описать и осмыслить то странное сочетание реабилитации традиции и одновременно стихии жизни, которое характеризовало весь период горбачевской перестройки, когда бурным потоком полилось на экраны, на подмостки театров, на полки книжных магазинов, в толстые журналы сразу все: и эротическое искусство, и религиозная философия, и реабилитированные „комиссары в пыльных шлемах”, и затем почти в ту же секунду разнообразные „господа офицеры”. В какой-то момент этот поток всего возвращенного с полок, легализированного, быстро переведенного, обнаруженного в архивах стал создавать ощущение грубой какофонии: обретенная культурная полнота начинала раздражать своим безразличием к любому ценностному самоопределению. Для Кнабе было столь же важно, что в этой ситуации исчезает определенность знакового содержания: исчезает ответственность человека за выбранную им систему ценностей, а следовательно, никто уже не стремится сохранять верность своему ценностному выбору».
«Проще говоря, в этом мире вполне возможен рок-музыкант, агитирующий за реставрацию монархии, или поклонник Ленина, истово молящийся в церкви. Портреты Джима Моррисона могут, как мы уже говорили, висеть на одной стене с портретами Сталина, и, что было важно конкретно для меня, — ностальгия по старой, погибшей в 1917 году империи — прекрасно уживаться с полным равнодушием к судьбе империи, гибнущей на твоих же собственных глазах. Мы с Георгием Степановичем написали по одному собственному варианту статьи об „отрицательной диалектике”, но не уверен, что кому-либо из нас удалось адекватно выразить то смутное ощущение дискредитации всех некогда значимых культурных принципов, разрушения семиотических кодов как 1960-х, так и 1980-х годов, которое как будто выражало всю специфику того бурного времени».
«Михаил Поздняев был крупнейшим поэтом». Беседу вела Ольга Егошина. — «Новые Известия», 2013, 4 февраля < >.
Говорит Дмитрий Быков: «Миша принадлежал к последнему прекрасному советскому поколению, которое лично я очень люблю. Он родился в год смерти Сталина, формировался в том времени, начинал жизнь там, сделал первые шаги. А потом начался обвал эпохи. И вдруг все, что было „оттуда”, стало ненужным. Он очень болезненно переживал свою невостребованность. Он оставался в журналистике, он много печатался и был авторитетным журналистом… Но исчезла среда, в которой он вырос и жил, к которой он адресовался. Я страшно рад своему знакомству с ним, своей с ним дружбе, поскольку для меня он во многом был этой самой средой. Пока был рядом… И с его смертью действительно уходит „последний хороший советский поэт”, как он себя назвал в стихах…»
Многое и единственное. Вечер Ольги Седаковой. [Записала] Мария Темнова. — «Православие и мир», 2013, 21 февраля < >.
Говорит Ольга Седакова: «Это общее предисловие к тому, что я собираюсь говорить о традициях античной культуры в современности. Она также утрачивает свое единство. Все предыдущие века вся античная, греческая культура была единственным истоком всех европейских культур, начиная с римской. Нас и множество поколений до нас учили, что вся европейская культура стоит на двух китах — на Афинах и Иерусалиме. На греческой классике и на библейской традиции».
«А теперь, в эпоху мультикультурализма, уникальное положение античной культуры уходит. В каком-то смысле политической корректности принято говорить, что все другие мифологии ничем не хуже, чем греческая. Например, якутская мифология обладает таким же значительным интересом, что и традиционная греческая, и исследователь мифологии должен сказать, что, конечно, никакая мифология не лучше другой и все они достойны глубокого изучения, у них только разная судьба, потому что из якутской мифологии не возникло огромной тайны, растянувшейся по всей Европе и дальше пошедшей по всему миру».
«Может, когда выйду на пенсию, закончу перевод ёОдиссеи”». Поэт Максим Амелин — о Солженицыне и поэзии, литературном новаторстве и переводах Гомера. Беседу вела Лиза Новикова. — «Известия», 2013, на сайте газеты — 24 февраля < >.
Говорит Максим Амелин: «Русский язык еще далеко не выработан. Сворачивать новаторскую деятельность по развитию выразительных средств русской поэзии пока рановато. Как бы это ни пытались сейчас делать. Одни занимаются полной консервацией, другие — уменьшением того пятачка, на котором вообще еще можно высказываться. Мне кажется, что оба пути тупиковые. Нужна новая выразительность. Я не говорю, что поэзия обязательно должна откликаться — „утром в газете, вечером в куплете”. Но она не может не реагировать на вызовы современности. Причем не на поверхностном, а на глубинном уровне».
«Карта русской поэзии еще до сих пор неясна, историю стихотворчества нужно переписывать. Например, я нашел верлибр 1738 года, то есть написанный еще до четырехстопного ямба Ломоносова. Явления оказываются сложнее, чем они описаны в учебниках. Конечно, нельзя какие-то вещи совсем разрушать, но нужно трезво на них смотреть. Не все еще открыто. И ХХ век до сих пор непонятен».
«Куда сейчас пойти, чтобы получить грант на перевод „Одиссеи”? Поэтому я пока не знаю, будет ли перевод продолжен. Может, когда выйду на пенсию... <...> Но ни одно издательство не выплатит гонорар за такую работу. На нее, конечно, потребуется не 20 лет, как Гнедичу на „Илиаду”. Но лет пять — вынь да отдай».
Первую песнь «Одиссеи» в переводе Максима Амелина см. в февральском номере «Нового мира» за этот год.
Александр Неклесса. Быть, понимать, решаться. Знание в эпоху кризиса мировидения. — «Независимая газета», 2013, 22 февраля < >.
«Сегодня эпоха, предъявившая миру экспансию городской культуры и адекватные ей социальные форматы, близка к завершению».
«Конвертируя современность в транзит, мы входим в виртуальный ( virtualis ), но именно поэтому подлинный (virtus) мир, где настоящее сожительствует с представляемым, сущее с должным, возможное с запретным, а траектория жизни в заметно большей степени зависит от усилий человека и выбранной позиции».
«Выясняется, к примеру, что, как и в природных процессах, присутствие индивида в социальном космосе, его намерения нестандартным образом влияют на событийный ряд (феномен „неклассического оператора”). Сама субстанция бытия, ее состояния оказываются связаны с субъектом теснее, нежели представлялось; избранный идеал, смысловой регистр универсальным образом настраивают события и, что важнее, определяют стратегический горизонт, а также создают режим наибольшего благоприятствования движению в избранном направлении. <...> Иначе говоря, действовать „правильно” или „неправильно”, причем не только с точки зрения психологии либо морали, но и с позиции, которую можно определить как метафизическая, оказывается помимо прочего серьезной практической, едва ли не прагматичной проблемой».
«Он и не советский, и не антисоветский». Беседу вела Лиза Новикова. — «Известия», 2013, на сайте газеты — 16 февраля.
Говорит Наталья Корниенко: «Собрание сочинений Платонова, который при жизни не имел и двухтомника, отличается тем, что впервые обследуются все рукописи. Для научного собрания сочинений должны быть обследованы все архивы, все источники. Это высшая школа академических собраний сочинений. Из таких проектов по ХХ веку пока завершено собрание сочинений только одного автора, Сергея Есенина. <...> В 2006 году Институт мировой литературы приобрел семейный архив Платонова».
«В этом году мы должны сдать второй том. Пять последних томов из восьмитомника (популярное издание — «Известия» ) я сделала за год, да и то после работы. А это собрание сочинений мы будем делать лет 20. Это медленная работа».
«Сейчас социального заказа государства на подготовку академических собраний сочинений нет».
«В год его столетия мы получили колоссальный материал из архивов ФСБ. Это были материалы „разработки Платонова”».
Захар Прилепин. Мертвые в развес. — «Свободная пресса», 2013, 23 февраля < >.
«Шаламов, при всем его очевидном и неоспоримом антисталинизме, так и остался человеком левых убеждений — это нужно знать. (Равно как и, к примеру, Анатолий Рыбаков, писатель пусть и меньшего масштаба, но тоже препарируемый совершенно однозначным и вульгарным образом.) [Валерий] Есипов заявляет об этом без обиняков: „В сущности, вся поздняя проза Шаламова, его мысли в дневниках и письмах этого периода представляют собой продолжение фронтальной полемики с неприемлемым для него комплексом староконсервативных, антиреволюционных и антисоциалистических идей, связанных не только с Солженицыным, но прежде всего с ним как вождем и эмблемой ‘духовной оппозиции‘”...»
О биографии Варлама Шаламова, написанной Валерием Есиповым, см. также рецензии Андрея Туркова и Ефима Гофмана в журнале «Знамя» (2013, № 3).
Григорий Ревзин. Безысходные данные. — «Огонек», 2013, № 6, 18 февраля.
«Нет, попытка изъятия из наследия России ее советского опыта показывает, что в таком случае она не представляет интереса. Из, скажем, русского авангарда, поэзии, литературы, кино невозможно изъять коммунистический тренд, потому что это страшно обедняет эти культурные феномены. Архитектура конструктивизма, например, превращается в формальный поиск новых решений, осуществленный малообразованными людьми на отсталой технологической базе, а Осип Мандельштам оказывается камерным академическим поэтом начала века, по недоразумению продолжавшим сочинять до конца 1930-х. Точно так же с великим государством, великой историей и т. д. — при всем уважении к ним без советского эксперимента они становятся провинциальным эпизодом, не имеющим особого значения для мировой истории».
Александр Самоваров. Кто больший предатель — Ленин или генерал Власов? — «АПН», 2013, 27 февраля < >.
«Так почему, если советские признают свою страну как ценность, признают тысячелетнюю Россию своей родиной, они не понимают, что Ленин предал эту родину в 1917 году? <...> С Власовым они понимают, что он предатель, с Лениным не понимают. И ведь оправдать Ленина ничем нельзя. Вообще ничем».
«Далее, эти сукины дети имели и имеют совесть обвинять белых в том, что те „служили Антанте”, но Россия была частью Антанты, белые были союзниками стран, которые скоро победят в войне Германию».
Людмила Сараскина. «Все гражданские споры — это такой треск хвороста?» Беседу вела Елена Дьякова. — «Новая газета», 2013, № 18, 18 февраля < >.
«Я сейчас заканчиваю большую книгу „Солженицын и медиа”. И много читаю об истории 1960-х годов. Не прошло и трех месяцев после выхода рассказа „Один день Ивана Денисовича”, как Хрущев выступал на встрече с деятелями литературы и искусства. И кричал: вы думаете, что у вас есть свобода слова? Что мы примем лозунг „Пусть расцветают все цветы”? Никогда мы не откажемся от управления культурой! Партия всегда будет определять ее направление! Лет десять назад я впервые работала с этим материалом. Тогда он мне казался ветхой историей: так уже не могут говорить ни рядовые люди, ни начальники — это стыдно… Сейчас кажется: мы опять возвращаемся в тот контекст».
Максим Соколов. Посмертное существование. — «Эксперт», 2013, № 9, 4 марта < >.
«Бесспорно, сталинская легенда (причем в обоих вариантах — как с положительным, так и с отрицательным знаком) — вещь не новая. Наполеоновская легенда — вещь достаточно известная, петровская — тоже. Причем в случае последней демонизация Петра I, в котором усматривали первопричину всех бед России, существовала и в XIX, и даже в XX веке. Опять же четверть века, прошедшая между первым (1961 г.) и вторым (конец 80-х) решительным публичным отвержением Сталина, была заполнена сильной невнятностью, которую сторонники обоих вариантов сталинской легенды толковали как посмертное (хотя бы даже стыдливое и неполное) возвращение отца народов. Такая невнятность прямо подталкивала мифологическое сознание (у интеллигенции не менее сильное, чем у патриархальных народов) к очередной рецепции „Воздушного корабля”. „Из гроба тогда император, // Очнувшись, является вдруг; // На нем треугольная шляпа // И серый походный сюртук” в переложении Е. А. Евтушенко (1961 г.): „Он что-то задумал. Он лишь отдохнуть прикорнул. // И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою: // Удвоить, утроить у этой стены караул, // Чтоб Сталин не встал и со Сталиным — прошлое”».
«Одними культурными переживаниями все, конечно, не объяснишь. Тридцатилетие было слишком насыщено событиями, по преимуществу самыми кровавыми, так что впору назвать эти годы тридцатилетней войной, и наследие этой войны настолько изменило облик страны, что последствия сталинского правления не могли не сказываться весьма и весьма долго. Но когда и спустя шестьдесят лет мы сталкиваемся с сильнейшей мифологизацией этой фигуры, это не лучшим образом говорит и об апологетах, и о десталинизаторах».
100 книг, по которым россияне отличают своих от чужих. — «Русский репортер», 2013, № 5, 7 февраля < >.
Среди прочего: «— Если вы посмотрите гимназический учебник 1883 года, то никакого Пушкина и Гоголя вы там не обнаружите, — говорит филолог Евгений Добренко, автор исследования о „формовке советского читателя”. — Там будут Тредьяковский, Ломоносов, Сумароков и — как пример прогрессивного современного автора — Карамзин. Это был классический канон времен Александра III. Это сейчас мы привыкли, что Пушкин наше все, а по тем временам Пушкин был кем-то вроде Пелевина.
— Но параллельно был канон левой интеллигенции, „шестидесятников” XIX века, — продолжает он. — Их пантеон складывался вокруг литературных журналов 1840 — 1860-х и формировался критиками Белинским, Добролюбовым, Чернышевским, которые потом вместе с Пушкиным и Лермонтовым войдут в официальный канон».
Составитель Андрей Василевский
«Аргамак», «Бюллетень Библиотеки „Дом А. Ф. Лосева”», «Гипертекст», «Дилетант», «История», «Казань», «Литература», «Наше наследие», «Посев», «РАН. Наука. Общество. Человек», «Фома», «ШО»
Анатолий Берштейн, Дмитрий Карцев. Революция: повторение пройденного? — Научно-методический журнал для учителей истории и обществознания «История» (Издательский дом «Первое сентября»), 2012, № 9(612) <;.
«Отношение к революции, о которой так много говорят в последнее время с разных сторон и в разных аспектах, нередко связано с мистическим ужасом или, наоборот, благоговением; в ней слышат отзвук космического противоборства темных и светлых сил. И надо сказать, что сама история этого слова дает для такого отношения определенные основания, ведь в политический словарь оно пришло из астрологии.
У астрологов речь шла о процессах, происходящих в небесных сферах: само слово „революция” переводится как „оборот” или „переворот”. И почти все повально увлеченные астрологией политики XVII в. стали говорить о революции во вполне земном контексте. Впрочем, современного читателя немало удивит смысл, который еще несколько столетий назад вкладывали в это слово». И далее — о материализации страхов, рождении тоталитаризма, монахах и бесах и проч.
Наталья Богатырева. Немецкое кладбище в Москве. — Научно-методический журнал для учителей истории и обществознания «История» (Издательский дом «Первое сентября»), 2012, № 11 (614).
Тема номера: «Знаменитые немцы России». Здесь об одном из самых загадочных и старинных некрополей столицы. Из вступления: «А уж на Введенском кладбище, больше известном как Немецкое, словно попадаешь в сказку или становишься героем романтической баллады».
В этом выпуске и отчет корреспондентки издания Екатерины Супруненко «Помним, верим, чтим» — о прошлогодней выставке в Музее современной истории России: «Преодоление: Русская церковь и советская власть». «В зале, повествующем о конце сталинской эпохи и новой волне гонений на Церковь во времена хрущевской „оттепели”, обращают на себя внимание экспонаты, связанные с жизнью и церковным служением архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), великого хирурга, духовного пастыря, проповедника, проведшего в ссылке в общей сложности 11 лет. Личные вещи святителя, представленные на выставке, были буквально чудесным образом найдены при разборе чердака ветхого дома в Архангельске, где владыка Лука отбывал свою очередную ссылку». И здесь, и на CD, прилагаемом к журналу, — поразительные фотографии.
Дмитрий Быков. Любимые потроха. — Журнал для учителей словесности «Литература» (Издательский дом «Первое сентября»), 2012, № 10 (738) <; .
С настоящего номера (тема которого «Немцы и русская школьная литература») писатель и школьный учитель Д. Быков ведет рубрику «Читальный зал» (интересно, как Дмитренко его уговорил?) Здесь — о « психоделическом » «Обломове». Как всегда — парадоксально.
«Не будем забывать также, что если в Обломовке начинают что-либо чинить — оно тут же ломается окончательно, а на соплях, на честном слове — может держаться бесконечно долго. Поэтому там и не делают ничего; более того — в России только так и надо. Здесь полезно вспомнить с детьми четверостишие Новеллы Матвеевой — шутки шутками, но есть в нём и прозрение:
На месте площади соборной
И фабрик Штольца — хлам, зола...
Обломовщина плодотворней,
Оказывается, была.
В некотором отношении — конечно, плодотворней, ибо все в России делается не рациональным и тяжелым трудом, а гениальным озарением либо мудрым бездействием». следующее произведение русской литературы, что мы и сделаем в следующем номере».
В следующем номере (тема — «Образ власти в литературе») Быков пишет о «Медном всаднике».
Сирена Витале. Чемодан откровений. Беседовал Алексей Букалов. — «Дилетант», 2013, № 2 (14) <; .
С. В. — автор книги «Пуговица Пушкина» (Калининград, 2001), — нашедшая неизвестные письма Дантеса Геккерну в архиве семьи Дантесов.
«К сожалению, как я могла заметить, многие советские и российские пушкинисты не владеют французским, что затрудняет восприятие всех смысловых тонкостей. Не только в письмах Дантеса, но и во всей той эпохе от Петербурга до Парижа или до Милана, позволю себе метафору, расстояние было меньше, чем от Петербурга до Казани! <…> Меня обвинили в том, что я защищаю Дантеса, что, будучи итальянкой, ничего не понимаю. <…> Меня также заподозрили в том, что я „соблазнила” старого барона Геккерна, потомка посланника, дабы получить вожделенные письма. <…> Единственное, что меня печалит, что книга „Пуговица Пушкина”, опубликованная на основных европейских языках, переведена на русский с английского. Допущенные там ошибки скомпрометировали мою репутацию ученого…»
Дмитрий же Быков, ведущий в «Дилетанте» рубрику «Портретная галерея», публикует большой очерк об Александре Галиче. Коротко говоря, пишет, что до последнего времени он его недооценивал («Перелом в отношении к нему произошел у меня, пожалуй, на „Песне об отчем доме”, которую, я знал, конечно, но как-то не вслушивался. Одно время мне виделась тут капитуляция».
Борис Гучков. Вслед за ветром. — «Аргамак», Татарстан, 2012, № 3 (12).
«О нет, я не против поэта Иосифа Бродского… / Но слушаю речь молодых — там одни междометия. / Из школьной программы убрали стихи Заболоцкого, / Таким вот Макаром поэту отметив столетие. // В учебниках „Тёркин” Твардовского был ещё давеча… / На части дробят монолитное, некогда цельное. / Важнее сегодня „ГУЛАГ” Александра Исаича, / Нужнее сегодня тюремное и запредельное…» Дальше жалобы на ЕГЭ и детей, растущих «бескрылыми, серыми птицами».
В номере альманаха между тем — большая толковая статья Валерия Михайлова о Лермонтове («Один между небом и землей») и любопытный этюд Вячеслава Улитина «Николай Рубцов и дети».
Борис Илизаров. Царь, генсек и историк. — Научно-методический журнал для учителей истории и обществознания «История» (Издательский дом «Первое сентября»), 2012, № 10 (613).
Сталин и образ Ивана Грозного в трудах Роберта Юрьевича Виппера. Автор книги о Грозном находился в Латвии до оккупации ее советскими войсками. С места не двигался, судя по всему, получил гарантии неприкосновенности: из Москвы к историку отправили печально известного Емельяна Ярославского, «одного из самых доверенных лиц Сталина».
«Труды и научные воззрения Виппера на происхождение христианства очень могли пригодиться пустозвонной атеистической пропаганде тех лет. Но я думаю, что главным аргументом, склонившим Виппера к сотрудничеству со Сталиным, было сообщение об искреннем восхищении вождя его книгой об Иване Грозном и посулы щедрых благ историку и его семье. Забегая вперед, отмечу: вождь не обманул престарелого профессора и давнего идейного противника коммунизма, которого публично обругал сам Ленин».
Алёна Каримова. «Через море, небеса, сушу вспять иду, как уходил раньше…» — «Казань», Татарстан, 2013, № 1 <-journal.ru> .
«Я помню, как мы ехали с одного выступления в автобусе по Парижу, — народ в автобусе был разных национальностей — все оживленно болтали, в воздухе висела густая взвесь смешанной речи: русской, немецкой, французской, цыганской, турецкой… И вдруг раздался знакомый мотив: кто-то пел татарскую песню, знакомую мне с детства. Эту песню когда-то любила петь моя бабушка. Я стала прислушиваться и вдруг поняла, что поет Бухараев. Все разговоры смолкли, и минуты две-три, пока длилось это мелодичное пение, автобус плыл, словно волшебный корабль, по нарядным улицам парижского центра… Во мне никогда не было такой смелости».
Памяти Равиля Бухараева, жившего в Лондоне и ушедшего из жизни чуть более года тому назад, здесь выделен специальный раздел.
Священник Сергий Круглов. Это страшное слово «свобода». — «Фома», 2013, № 2 <;.
«Если кто-то думает, что человеку верующему обращаться со свободой проще (дескать, верующий отдал свою свободу Богу и Церкви и может ни о чем не думать, знай только следует заповедям, канонам и предписаниям) — тот глубоко ошибается. Весь смысл нашей веры и нашего бытия в Церкви — вспомним главнейшую заповедь — восстановить связь с Богом и с ближними. А Бог — Отец, мы — Его дети. И, как всякий родитель, Бог не хочет, чтобы мы слушались Его рабски и слепо, чтоб вечно были малыми младенцами».
«Свобода бывает нам страшна, потому что тот, кто захочет свободы, неизбежно столкнется с сопротивлением падшего мира, с трудами и скорбями, сопровождающими свободное действие. В библейской истории Иова — свободен как раз сам Иов, лишившийся всего, изъязвленный с головы до пят, в упрямой свободе своей взобравшийся на самую вершину бытия, на которой и состоялась его встреча с Богом. Друзья Иова заслужили неодобрение Бога не тем, что были благочестивы — но тем, что, призванные к взрослости и свободе, продолжали прятаться в закон, как малое дитя под одеяло…»
Олег Лекманов. Разбор стихотворения Иосифа Бродского «На смерть Жукова». — Журнал для учителей словесности «Литература» (Издательский дом «Первое сентября»), 2012, № 11 (739).
«Третья строфа стихотворения — самая парадоксальная, она выпадает из традиции не только газетного некролога, но и торжественной оды. <…> Продолжается игра с пространством: вопреки иудеохристианской традиции, согласно которой воины, павшие в правом бою, переносятся в рай, маршал и его солдаты оказываются в „адской области” (вновь перелицовывается советский штамп „такая-то область” — „адская область”). Сюда же — многозначное слово ёпровал” — провал в памяти, но и провал-бездна. Строфа выделена и грамматически — до нее большинство глаголов употреблялось в настоящем времени; после нее — в будущем. В финале строфы прорывается звуковая блокада — Жуков подает реплику. И после этой реплики все резко меняется. Оказывается, погружение Жукова в ад в третьей строфе стихотворения предпринималось едва ли не для того, чтобы в четвертой строфе вытянуть маршала из „адской бездны” и вознести чуть ли не в рай. Сигнал этого пространственного перемещения — торжественное „десницы”, с очевидным обыгрыванием двух значений — правая рука и „правое дело”».
Ольга Маловица. Культурная жизнь. — «Гипертекст», Уфа, 2012, № 19 <;.
«Моноспектакль „Наташина мечта” по пьесе Ярославы Пулинович в театре „Перспектива” мне действительно понравился. Анна Бурмистрова держала зал в напряжении. Случайных зрителей почти не было — журналисты, пиарщики, актеры, все так или иначе знакомые между собой люди (выделено мной. — П. К. ). На первой же минуте спектакля звучит фраза „А по— —ать вам не завернуть?”. Впрочем, мат по ходу спектакля был уместен».
Максим Мошков . «Я — читатель, а не библиотекарь». Беседовал Сергей Дмитренко. — Журнал для учителей словесности «Литература» (Издательский дом «Первое сентября»), 2012, № 9 (737).
«— Бумажная книга умрет в любом случае, чтобы ни случилось с электронной частью. Она заваливается самостоятельно. По тиражам. Достаточно ей еще завалиться и начнётся катастрофический обрыв. Сейчас каждый год бумажный рынок опускается на десять процентов. Вопрос только в том, через четыре года это произойдет или через семь.
— Ну а с литературой что произойдет?
— Как только в нашем Интернете разовьется торговля электронными книгами, появится несколько писателей, которые будут жить с этих продаж. Остальные десятки тысяч будут сидеть в моем „Самиздате”».
В журнале, как всегда, публикуются материалы к урокам (в этом — «Тимур Кибиров: тексты и подтексты» Натальи Беляевой ) и лучшие сочинения школьников (в предыдущем номере — отличная работа питерской гимназистки Ксении Онуфрей «Музы русских поэтов»).
Павел Муратов. Статьи и очерки (1927 — 1931). Публикация и комментарии К. М. Муратовой. — «Наше наследие», 2012, 104 <-rus.ru> .
«Есть в буржуазном западном человеке та доля наивности, простодушия, детскости даже, которой так часто нам не хватает. Мы с удивлением видим, как незамысловато и в то же время от всей души веселится западный человек и как он в этом смысле довольствуется малым. Уметь улыбаться, уметь отдыхать, уметь радоваться на какие-то пустяки, совсем уже не так плохо, и, право, никакой особой мудрости нет в том хмуром недоверии, с которым встречал русский интеллигент, познавший будто бы „высшие запросы”, нехитрую праздничность европейской жизни. О, и в Европе, слава Богу, были свои особенные люди, изолированные от неглубокого течения житейской реки! Незамысловатые будни, нехитрые праздники устраивались здесь по нормам среднего человека. К великому несчастью России, у нас решительно никто не хотел быть средним человеком. Не только поэтам, но и купцам, не только мыслителям, но и чиновникам казалось у нас, что они „задыхаются в буржуазной среде”».
«Пусть же в Европе, наконец, этот застеснявшийся русский средний человек перестанет стыдиться себя и своей участи и отдохнет от всегда тяготевшего над ним подозрения в „буржуазности”» («У окна»).
Блок материалов, посвященных Павлу Петровичу Муратову, открывается здесь статьей Дмитрия Сарабьянова «Грани многополярного таланта».
«Мы попросту отдельный мир…» Черновик письма П. А. Вяземского Фарнгагену фон Энзе о революции 1848 года. Публикация, перевод, примечания Анны Юрген. — «Наше наследие», 2012, № 104.
Публикуется в разделе «Новое о П. А. Вяземском».
«Я еще понимаю французов. Эти молодцы все сводят к себе и упиваются сами собой. У французов к тому же рабство в крови и революция в голове. Им потребно, после того как они провели какое-то время на коленях перед властью, монархической ли, законной ли, узурпированной, или анархической, доставить себе удовольствие от нее отречься и прогнать своего правителя, чтобы потом с еще большей радостью подставить шею под другое ярмо. Такова их история последних шестидесяти лет. Но чтобы немцы тоже захотели стереть у себя все до основания, чтобы они поддались духу рабского подражания, вплоть до перевода парижских мятежей, подобно тому, как они ранее переводили плохие романы французской печати, — вот зрелище удивительное и удручающее».
Людмила Оболенская-Флам. Комитет «Книги для России» — «Посев», 2012, № 11 (1622) <;.
«В ранних воспоминаниях Мансветовой Ленин изображается как добрый дядя, заботливо относящийся к детям. Разочарование во власти большевиков, во главе с Лениным, наступит позже, когда от нее придется бежать, спасая свою жизнь. Но тогда, в далекой ссылке (в Минусинске. — П. К. ), девочка Соня не только часто бывала у Ульяновых, но и служила будущему вождю переводчицей, так как бойко болтала по-татарски. Оказывается, Ленин проявлял большой интерес к шаманизму и, по ее словам, серьезно занимался его изучением. Вместе с Соней он присутствовал на шаманских „мистериях”. Однажды он настоял на том, чтобы отправиться с ней в становище Великого Шамана минусинских татар. Ульянову хотелось увидеть его „камланье” и услышать относящиеся к себе пророчества Шамана. К этому сеансу Шаман готовился четыре дня. Мансветова описывает весь запомнившийся ей ритуал: игру музыкантов, странную пляску самого Великого Шамана, его транс и, наконец, возгласы: „О, Великий Господин, зачем ты вызвал меня, зачем послал в Страну Вечности меня, смертного, узнавать о судьбе бессмертных… Я видел много, много народу… там столпились и те, кто ушли в Царство Вечности, и те, кому суждено явиться на свет. Я видел много, много знамен и воинов без конца, на конях и пеших… Мне страшно, я погиб…”. Под конец мистерии разразилась сильнейшая гроза».
Захар Прилепин: «Ни деньги, ни алкоголь, ни женщины — мной не управляют…». Беседовал Платон Беседин. — «ШО», Киев, № 1-2 (87-88) <; .
«Я каждый вечер читаю на ночь одно или два стихотворения: сотни полторы поэтических сборников стоят на полочках прямо возле моей кровати — только руку протяни».
«Я скажу катастрофически пошлую вещь: мне не хватает стихов, которые я мог бы пересказать. „Девушка пела в церковном хоре…” — это можно пересказать. А современные стихи — сплошь и рядом — нельзя. Я говорю даже не о сюжете, а о смысле. Нынешние стихи порой можно только напеть. Это, конечно, не их проблема — это мои личные претензии».
Алексей Савельев. Фундамент ГУЛАГа. — Научно-методический журнал для учителей истории и обществознания «История» (Издательский дом «Первое сентября»), 2012, № 10 (613).
Статья о книге канадской исследовательницы, профессора русской истории Университета Торонто Линн Виолы «Крестьянский ГУЛАГ: мир сталинских спецпоселений» (М., 2010).
«Л. Виола приводит одно из множества свидетельств очевидцев — вологодского врача Лебедева: „Раскулаченных скопилось в Вологде множество… Их высылали далее, на север, в самые глухие необжитые и гибельные места, а временно расселяли в вологодских церквях… Там были построены нары, и людей битком набивали в церковные помещения. И вспыхнул тиф. Началось страшное… Вызывают меня тогда в губернское ГПУ, а начальник говорит мне: ‘Не ликвидируешь тиф — расстреляю‘. Я пошел к одной из церквей вместе с гэпэушниками. Стоит у церкви охрана, а за дверьми — стон и крик. Открыли двери. А там — ад. Больные, здоровые, мертвые… И живые кричат криком и тянут к нам руки: ‘Воды! Воды!‘ Много видел страшного в жизни, а такого не видел. И не выдержал, заплакал”». Особый сюжет в книге — голод 1932 — 1933 гг.
В этом же номере — помимо прочего — замечательный отчет корреспондента издания Ольги Лашковой о путешествии на Русский Север («Соловецкий крест»).
Сергей Уваров. Речь Президента Императорской Академии Наук, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, в торжественном собрании Главного педагогического института. — «Посев», 2013, № 1 (1624).
Знаменитое либеральное слово, произнесенное 22 марта 1818 года.
«Читатель, без сомнения, заметит: уваровские критерии истинного просвещения вопиюще „ неэффективны ”. При прагматичном подходе сегодняшних российских властей были бы свернуты все блестящие образовательные начинания позапрошлого века. При последовательном же применении этого подхода следовало бы просто закрыть основанные Уваровым, составившие гордость нашей науки российские университеты» — из редакционного вступления.
В этом же номере — интересная беседа с сотрудницей журнала «Знамя», ведущей рубрики «Ни дня без книги» Анной Кузнецовой . Любопытное «приподнятие занавеса» над стилем работы редакции. Ближе к концу номера — вопль Иннокентия Хлебникова («Ужас и боль продолжающейся Гражданской войны»), рассказавшего о единственной сохранившейся в России Братской могиле офицеров Белой армии — в Екатеринбурге. Могила в плачевном состоянии. «Посев» опубликовал даже домашний адрес краеведа.
Дмитрий Шеваров. Жизнь как встреча. — «Бюллетень Библиотеки „Дом А. Ф. Лосева”», 2012, выпуск 15.
«Поступив в университет, я на соседнем философском факультете обнаружил шкаф с дореволюционными изданиями и малотиражными философскими сборниками разных лет. Выносить их было нельзя, вот я сидел и читал: Фихте, Шопенгауэр, Фейербах… Конечно, я был сильно разочарован этими мудрецами. Они были какие-то чужие . А я искал родную истину, о существовании которой догадывался белыми июньскими ночами, и на меньшее, чем истина, не был согласен.
Это была, может, и не трагедия, но драма — чувствовать, что самое главное где-то рядом, а хватать пустой воздух. Ах, если бы мне тогда попалась хоть одна книжка Павла Флоренского, Евгения Трубецкого или Семена Франка… Но не попадались, были истреблены или хорошо упрятаны. Но спасибо тому заветному шкафу — однажды я там наткнулся на Лосева. Может, и к лучшему, что это была не „Диалектика мифа” (чтобы я в ней понял?), а более доступная слабому уму „Эстетика Возрождения”».
А. Ф. Лосев был, как мы помним — монахом Андроником.
Дмитрий Шеваров . «Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонения…» — «РАН. Наука. Общество. Человек» (Вестник Уральского отделения РАН), 2012, № 3 (41).
Рецензия на книгу: Флоренский П. В. «…Пребывает вечно»: Письма П. В. Флоренского, Р. Н. Литвинова, Н. Я. Брянцева и А. Ф. Вангенгейма из Соловецкого лагеря особого назначения. Автор-составитель П. В. Флоренский. М., 2012.
«Это кажется чем-то непостижимым: подцензурные письма из концлагеря дышат не унынием, а любовью. Как же много света в этих весточках, написанных на краю света, у последней черты! Читая их, становится стыдно: отчего же мы, живя на воле и в комфорте, часто не способны дать нашим близким и толику того тепла и любви, которые слали Соловецкие узники своим родным?..»
Составитель Павел Крючков

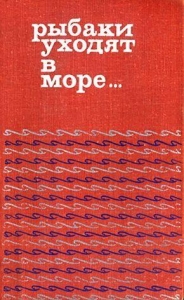




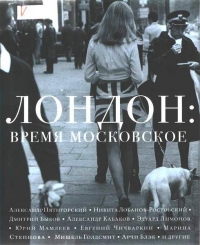
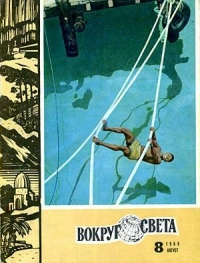


Комментарии к книге «Новый Мир ( № 5 2013)», Журнал «Новый Мир»
Всего 0 комментариев