I
— Вы уходите вечером, Анна?
Подняв голову, Тереза смотрела на служанку. Английский костюм — подарок Терезы — был узок для этой молодой, вполне сформировавшейся девушки. Анна стояла перед хозяйкой.
— Слышите, милая, какой дождь? Куда вы, собственно говоря, собрались?
Терезе не хотелось отпускать девушку; ей приятно было слышать стук переставляемой посуды и мотив какой-то непонятной песенки, которую постоянно напевала эльзаска. В те вечера, когда девушка до десяти часов никуда не уходила, эти звуки, свидетельствовавшие о присутствии в доме молодого, живого существа, действовали на Терезу успокаивающе. Первое время Анна занимала небольшую отдельную комнату в квартире. По ночам до хозяйки долетали вздохи, неясные слова, похожие на сонный детский лепет, иногда звуки, напоминавшие ворчанье животного. Даже когда Анна спала совершенно спокойно, Тереза ясно чувствовала ее присутствие за перегородкой; казалось, она слышала, как течет кровь в жилах молодой девушки. Она была не одна, биение собственного сердца больше ее не пугало.
По субботам служанка уходила вечером, и Тереза лежала с открытыми глазами в темноте, зная, что не уснет до прихода девушки, которая иногда возвращалась только на рассвете. Никто не делал Анне замечаний по поводу ее отлучек. Тем не менее в один прекрасный день она перенесла свои вещи на тот этаж, где помещалась прислуга. «Это, чтобы свободнее было шляться, уж будьте покойны!» — говорила консьержка.
Терезе пришлось теперь довольствоваться короткой передышкой, какую давало ей присутствие Анны до десяти часов вечера. Когда девушка приходила пожелать ей спокойной ночи и получить распоряжения наследующий день, хозяйка старалась затянуть разговор, расспрашивая ее о семейных делах: «Вылили письма от матери?», но чаще всего получала только короткий ответ, как от ребенка, которому надоедают взрослые и который торопится вернуться к своим играм. Никакой враждебности, впрочем; иногда даже порыв нежности… В большинстве же случаев это было просто равнодушие молодости к тому интересу, какой она вызывает в старых людях, которых сама она не может любить. Тереза вращалась в этом замкнутом кругу: крестьянка, прислуга, которую она берегла, как нищий корку хлеба, не имея выбора между этой девушкой и каким-нибудь другим человеческим существом. Обычно она не упорствовала в желании удержать Анну, и когда та говорила: «Спокойной ночи, мадам. Больше вам ничего не понадобится?» — Тереза только съеживалась в томительном ожидании сердечной спазмы, неуклонно появлявшейся у нее при стуке закрываемой двери.
Но сегодня, в субботу, еще не было девяти часов, а Анна, казалось, уже готова была ее покинуть; туфли на высоких каблуках из искусственной крокодиловой кожи стягивали ее довольно толстые ноги.
— Вы не боитесь дождя, моя милая?
— О! До метро совсем недалеко…
— Ваш костюм промокнет.
— На улице не останемся! Мы идем в кино…
— Кто это «мы»?
Анна пробормотала: «Я и мои друзья…» — и была уже у двери, когда Тереза ее окликнула:
— А если бы я вас попросила, Анна, сегодня вечером остаться дома? Я что-то неважно себя чувствую…
Тереза с изумлением прислушалась к звуку собственного голоса. Она ли это говорит?
Служанка недовольно буркнула: «Ну что ж! В таком случае…», но Тереза уже одумалась:
— Нет, собственно говоря, сейчас мне уже лучше. Идите, милая, развлекитесь.
— Может быть, вам молока подогреть?
— Нет, нет! Мне ничего не нужно. Идите.
— Может быть, растопить камин?
Тереза ответила, что сама разведет огонь, если ей станет холодно… Теперь она уже еле сдерживалась, чтобы не вытолкать девушку из комнаты, а стук закрываемой двери не только не вызвал привычной боли, но, наоборот, принес даже некоторое облегчение. Она посмотрела на себя в зеркало и произнесла: «До чего ты дошла, Тереза?» Впрочем, в чем же дело? Разве сегодня вечером она унизила себя больше, чем когда-либо? Она только, как всегда, боясь предстоящего вечером, ночью одиночества, ухватилась за первое попавшееся живое существо. Не быть одинокой, иметь возможность обменяться парой слов, чувствовать возле себя дыхание молодой жизни… Ни о чем больше она не мечтала, но сейчас даже это было невозможно. И, как всегда в таких случаях, волна ненависти поднялась в ее душе: «Ведь эта идиотка погибла бы без меня, кончила бы на тротуаре…»
Терезе стало стыдно своих мыслей, она покачала головой. Можно зажечь камин — не потому, что в этот октябрьский вечер было холодно, а потому, что горящий камин, как говорят, — друг одиноких. Можно почитать… Почему она не подумала заранее достать на сегодняшний вечер какой-нибудь детективный роман? Она не признавала никакого другого чтения, кроме детективных романов. Когда-то, в молодости, она старалась найти в книгах самое себя и подчеркивала карандашом подходящие места. Теперь она ничего уже не ждала от этого сопоставления себя с выдуманными героями романов: все они исчезали, тонули в том ореоле, которым она окружила себя.
Однако сегодня вечером она робко открывает стеклянную дверцу книжного шкафа — шкафа, который когда-то — в те времена, когда на совести ее еще не было преступления, — стоял в ее девичьей комнате, в Аржелузе, который видел ее молодой женщиной, когда из-за болезни мужа она вынуждена была перейти в отдельную комнату… Тереза помнит, как тогда в течение нескольких дней она прятала в нем за томами «Истории консульства и империи» небольшой сверток с лекарствами… Хранитель яда, старый, почтенный шкаф, соучастник, свидетель ее преступления… Как мог он проделать весь этот путь с фермы в Аржелузе до третьего этажа старого дома на улице Бак? Несколько мгновений Тереза раздумывает, берет книгу, кладет ее обратно, закрывает книжный шкаф, подходит к зеркалу.
Она, как мужчина, начинает лысеть; да, у нее оголившийся лоб старика. «Лоб мыслителя…» — говорит она вполголоса. Но это единственный явный признак приближающейся старости: «Когда я в шляпе, я выгляжу такой же, какой была в молодости. Уже двадцать лет назад мне говорили, что мой возраст трудно определить…». Две морщины по бокам небольшого носа почти не углубились.
Пойти куда-нибудь? В кино? Нет, это будет слишком дорого: ведь она не удержится, чтобы потом не побродить по ночным ресторанчикам и не выпить стакан-другой вина… У нее уже появились небольшие долги. В ландах дела идут все хуже и хуже. Впервые имение не дает никакого дохода. Муж пишет ей по этому поводу целых четыре страницы. Нельзя больше продать ни одного стояка для шахт: англичане отказываются их покупать. А ведь лес необходимо расчищать, иначе сосны погибнут. Эта расчистка, которая раньше оправдывала себя с избытком, стоит теперь больших денег. Цены на смолу еще никогда не были так низки… Он пытался продавать лес на сруб, но покупатели делали смехотворные предложения…
Терезе трудно отказаться от старых привычек; стоило ей в Париже пойти куда-либо, как она принималась сорить деньгами, словно они были ей в тягость. Она стремилась чем-нибудь заполнить пустоту, добиться если не удовольствия, то хотя бы успокоения и забвения. К тому же у нее не хватало больше физических сил бродить одной по улицам. Кино в этом отношении ей никогда не помогало: непреодолимая скука овладевала ею в полумраке. Любое живое существо, за которым она могла наблюдать, сидя в кафе, интересовало ее больше, чем образы на экране. Последнее время она не решалась и на это развлечение — шпионить за другими, так как ей нигде не удавалось оставаться незамеченной. Напрасно одевалась она скромно и просто, выбирала укромные уголки: что-то в ее наружности — что именно, она не знала — привлекало внимание. Или, может быть, ей только так казалось? Не тоска ли, исходившая от ее лица, от ее плотно сжатых губ была тому причиной?
В ее манере одеваться, которую она считала вполне корректной, пожалуй, даже слишком скромной, чувствовался тот легкий беспорядок, та незначительная доля эксцентричности, которые свойственны одиноким, стареющим женщинам, не имеющим никого, с кем они могли бы посоветоваться. В детстве Тереза часто смеялась над тетушкой Кларой: старая дева портила все шляпы, которые для нее покупали, переделывая их на свой лад. А теперь у Терезы появилась та же мания, и все, что бы она ни надевала, выглядело на ней как-то своеобразно, хотя сама она об этом и не подозревала. Возможно, что со временем и она будет походить на одну из этих забавных старух в шляпах с перьями, которые, сидя на скамейках скверов и роясь в старом тряпье, бормочут что-то про себя.
Она не сознавала своих странностей, но ясно чувствовала, что утратила способность, столь необходимую одиноким, — способность насекомых принимать окраску окружающей среды. В течение многих лет Тереза, сидя за столиками кафе или ресторанов, следила за живыми существами, которые ее не видели. Что же сделала она с волшебным кольцом, превращавшим ее в невидимку? Теперь она привлекает все взоры, как животное, попавшее в чужое стадо.
Только здесь, в этих четырех стенах, на этом осевшем полу, под этим потолком, до которого она может достать рукой, она чувствует себя в безопасности. Но чтобы отрешиться от внешнего мира, также нужны силы. Сегодня вечером, например, она положительно не в состоянии оставаться в одиночестве. Она настолько в этом уверена, что близка к ужасу: вновь подойдя к камину, она посмотрела на себя в зеркало и одобряюще погладила себя по щекам. В данную минуту в ее жизни не было ничего такого, чего бы не было в ней всегда, а именно: ничего нового… Ничего. Однако она была уверена, что дошла до предела: так чувствует себя странник, когда убеждается, что дорога, по которой он шел, никуда не ведет и теряется в песках. Каждый звук, долетавший с улицы, выделялся из общего шума и получал свое абсолютное значение: автомобильный рожок, смех женщины, скрип тормоза.
Тереза подошла к окну, открыла его. Шел дождь. Витрина аптеки была еще освещена. Зелено-красная афиша блестела при свете уличного фонаря. Тереза наклонилась, взглядом измерила расстояние до тротуара. Никогда не решилась бы она броситься вниз. Быть может, головокружение… Она призывала головокружение и в то же время защищалась от него. Захлопнув окно, она прошептала: «Трусиха!» Ужасно сознавать, что добивался смерти другого, когда сам боишься ее.
Накануне исполнилось пятнадцать лет с того дня, когда Тереза, в сопровождении адвоката, вышла из здания суда; тогда, переходя небольшую пустынную площадь, она шептала: «Отсутствие состава преступления! Отсутствие состава преступления!» «Наконец-то она свободна», — думалось ей… Как будто людям дано право решать, что преступление не было совершено, если в действительности оно все-таки имело место! В тот вечер она не подозревала, что вступает в иную тюрьму, худшую, чем самый тесный склеп: тюрьму собственной совести, откуда выход для нее закрыт навсегда.
«Если бы я презирала не только чужую жизнь, но и собственную…» После единственной попытки самоубийства в Аржелузе, даже в часы отчаяния инстинкт самосохранения ни на минуту не покидал ее. За истекшие пятнадцать лет, во время самых острых душевных переживаний, она старалась соблюдать определенный режим, всегда следила за своим больным сердцем. Она не стала бы умышленно вредить своему здоровью, не могла бы с равнодушием наркомана относиться к собственной гибели, но не из благородных побуждений, а исключительно из страха смерти. Доктору ничего не стоило уговорить ее бросить курить, чтобы поберечь сердце. Теперь в ее квартире нельзя найти ни одной папиросы.
Терезе стало холодно. Она чиркнула спичкой о подошву туфли, и пламя принялось лизать наложенные в камине сырые дрова, которые так дорого стоят в Париже. Их потрескиванье и запах дыма напомнили ей — уроженке ланд — времена, когда на совести ее еще не было преступления: до того, как она сделала это… Она придвинула кресло как можно ближе к огню и с закрытыми глазами, жестом тетушки Клары, который она когда-то подметила у нее, стала поглаживать свои ноги. Сколько разных запахов было в аромате дров, впервые этой осенью зажженных в камине: запах тумана на печальных улицах Бордо и улицах ее родного городка, запахи начала школьного года. Образы возникали на мгновение перед ее мысленным взором, чтобы тотчас же изгладиться: лица тех, кто играл роль в ее жизни когда-то, в то время, когда жребий еще не был брошен. Рубикон не перейден, когда жизнь могла еще стать иной, не похожей на то, чем она оказалась в действительности. А теперь — все кончено: невозможно изменить что-либо в общем итоге ее поступков; судьба предопределена навеки. Вот что значит пережить себя самое: получить уверенность в том, что больше уже ничего не можешь добавить к тому, что есть, не можешь ничего вычеркнуть.
Она услышала, как пробило девять часов. Надо как-то убить еще немного времени: рано еще принимать порошки, которые помогут ей заснуть на несколько часов. Не в привычках этой впавшей в отчаяние благоразумной женщины было прибегать к снотворному, но сегодня вечером она не может себе в этом отказать. Утром всегда бываешь смелее, но во что бы то ни стало надо избегать пробуждения среди ночи. Больше всего Тереза боялась бессонницы, когда, лежа в потемках, чувствуешь себя беззащитной, отданной во власть всех злых демонов своего воображения, всех искушений рассудка. В долгие бессонные ночи, чтобы избавиться от мучительной необходимости сознавать себя такой женщиной, чтобы вырваться из цепких лап безмолвной толпы призраков, среди которых она узнает угрюмое лицо и отвислые щеки Бернара, своего мужа, своей жертвы, и смуглое личико своей дочери Мари, которой теперь уже семнадцать лет, — одним словом, всех тех, кого она преследовала, мучила, наконец, победила и обратила в бегство. Чтобы не задохнуться в этом сонме видений, она останавливала свой выбор на каком-нибудь самом незначительном из этих образов, старалась восстановить в памяти близость его к себе и вновь мысленно пережить кратковременную, мимолетную радость. Ведь только то, что мало значило в ее жизни, только то, что занимало в ее жизни меньше всего места, таило в себе некоторую прелесть: едва намечавшаяся дружба, любовь, не успевшая опошлиться.
Лежа без сна, Тереза мысленно бродила по этому полю битвы, переворачивала трупы в поисках лица, еще не тронутого тлением. Как мало осталось таких лиц, вспоминать которые она может без горечи! Большинство людей, пытавшихся ее полюбить, очень быстро замечали, что она разрушает все, к чему ни прикоснется. Теперь ей могли помочь лишь те, кого она видела мельком, те, кто лишь слегка соприкоснулся с ее существованием. Только от людей, ей неизвестных, случайно встреченных где-нибудь ночью, которых она больше никогда не увидит, могла она ждать утешения… Но чаще всего случалось, что эти быстро сменяющиеся образы даже в воображении ускользали от Терезы; они расплывались; Тереза внезапно замечала, что их уже нет возле нее, и мысли ее уносились далеко. Даже в мечтах эти люди отказывались быть ее друзьями. Они оставляли ее в одиночестве, и тогда на смену им возникали другие. О, как хотела бы она убежать от этих других! Они будили в ней воспоминания об унижении, о позоре. В ее жалких приключениях с ними почти всегда наступал момент, когда она замечала, что ее сообщник преследует свою цель, свои интересы… Да, всегда наступал момент, когда срывалось предательское слово и протягивалась рука за подачкой: эксплуатировать ее пытались всячески, начиная с откровенной просьбы о деньгах и кончая попытками вовлечь ее в «выгодное» предприятие.
В часы полного умиротворения, когда Париж погружается в деревенскую тишину, Тереза принималась за бесконечные подсчеты тех денег, которые она когда-либо одолжила, или тех, которые у нее выманили; вынужденная теперь жить расчетливо, она раздражалась, приходила в отчаяние, мысленно сличала итог своих потерь с итогом своих долгов, всецело оказываясь во власти «страха перед банкротством», страха, которому были подвержены все старики в ее семье…
Нет, сегодня вечером Тереза не станет подвергать себя этой пытке. Можно будет заставить себя заснуть. Надо только потерпеть еще час. Еще один час! Но у нее нет больше сил… Она встала с кресла и подошла к столу, на котором стоял граммофон; при мысли о том, что сейчас могут раздаться какие-то звуки, она вздрогнула, точно музыка, готовая грянуть, будет обладать такой силой, что разрушит стены и похоронит ее под развалинами. И, опустившись в кресло, она снова стала смотреть на огонь.
Как раз в ту минуту, когда она подумала: «Как можно выносить жизнь хотя бы еще одну секунду? Ведь ничего не случится, потому что никогда ничего не случается, и со мной уже больше ничего случиться не может», — как раз в ту минуту она услышала звонок у входной двери. Короткий звонок, показавшийся ей зловещим. Но она сейчас же нашла свое волнение смешным: ведь звонить могла только Анна, почувствовавшая угрызения совести и испугавшаяся, как бы хозяйка действительно не заболела… Нет, даже не Анна: вероятно, консьержка, обещавшая Анне зайти вечером посмотреть, не нужно ли чего-нибудь старухе. Да, конечно, это консьержка… (хотя обычно она звонит не так).
II
Тереза зажгла люстру в передней и минуту прислушивалась: за дверью слышалось чье-то дыхание.
— Кто там?
Молодой голос ответил:
— Это я… Мари!
— Мари? Какая Мари?
— Да это я, мама!
Тереза разглядывала стоящую в дверях высокую девушку, слегка согнувшуюся от тяжести чемодана, который она держала в правой руке. В этой цветущей женщине нельзя было узнать ребенка, которого Тереза видела в последний раз три года тому назад… Однако она узнавала и этот голос, и смех, и эти карие глаза…
— Как тебе идет быть накрашенной, моя девочка!
Это были первые слова Терезы, слова одной женщины другой.
— Вы находите? А у нас в семье думают обратное… Какое счастье! У вас горит камин!
Она бросила на чемодан пальто и вязаный шарфик. Безобразный желтый свитер плотно облегал грудь женщины-ребенка. Руки и полная шея были коричневыми от загара.
— Прежде всего папиросу… Что это, мама? Вы больше не курите? У меня в чемодане где-то еще есть папиросы… После я вам расскажу… Ну и история!
Ни минуты не оставалась она в покое, и в низкой комнате запахло ее духами. Закурив, она присела на корточки у огня.
— Где твой отец?
— В Аржелузе, конечно, охотится на вяхирей. Что ему еще делать одиннадцатого октября, как не охотиться на вяхирей? С тех пор как он стал страдать ревматизмом, он велел отделать в охотничьем домике столовую с паркетным полом и отоплением… и проводит там все время… На все остальное ему наплевать… его интересуют только вяхири.
— А он разрешил тебе поехать ко мне?
— Я сама себе разрешила.
Тереза выпрямилась и глубоко вздохнула. Какая радость! Она заранее знала, что девочка ей сейчас скажет, что она не ладите отцом, не может больше его выносить и приехала к ней искать защиты и убежища. Как Тереза раньше этого не предвидела! В конце концов, ведь это ее дочь. «У нее нет ничего от матери», — упорно твердили все Дескейру. Нет, есть! У нее такие же выдающиеся скулы, тот же голос и смех. Хотя Тереза, со дня рождения Мари, с особой горячностью доказывала, что между ними нет ни малейшего сходства, теперь она сама поражена этим сходством. Как можно было предполагать, что современная девушка уживется с людьми, среди которых Тереза задыхалась еще двадцать лет тому назад!
— Ну, рассказывай, дорогая…
— Дайте мне сперва поесть… Я умираю от голода.
У нее не хватило денег на вагон-ресторан. Последний франк она истратила на чаевые… Она слегка заикалась и не кончала фраз, прерывая их восклицаниями вроде: «Ну и умора! Это потрясающе!» — пускала дым через нос и выплевывала крошки табака.
— Боюсь, что дома у меня ничего не найдется… Придется пойти куда-нибудь.
Тереза представила себе свое появление с дочерью в ресторане, и ей стало неприятно. На всякий случай она пошла посмотреть, не осталось ли чего-нибудь в буфете.
В крохотной чистой кухне, где все блестело, мерно тикал будильник Анны. Разыскав ветчину, яйца, масло, печенье, Тереза вспомнила, что прежде в кухонном леднике у нее всегда стояло несколько бутылок шампанского. Теперь осталась одна, последняя… Она предназначалась для… Тереза решила не открывать ее, но в эту минуту подошла Мари:
— Шампанское! Вот замечательно!
И тут же добавила, что мастерски умеет готовить омлеты.
— Во время охоты на вяхирей это входит в мои обязанности… О! Да у вас нет говяжьего жира! Какой ужас готовить на масле! Ну, ладно, будем есть яйца всмятку.
В маленькой, ярко освещенной кухне она только теперь увидела мать вблизи, до этого она не успела ее разглядеть.
— Бедная мамочка! Вы больны?
Тереза утвердительно кивнула головой: сердце не в порядке… да и постарела…
— В моем возрасте три года много значат!
Мари уже зажгла газ и стояла спиной к матери.
— Надеюсь, ты предупредила отца?
— Нет.
— Но ведь он будет страшно волноваться…
— Вы его не знаете… Впрочем, нет! Вы-то его знаете. Вспомните, разве он способен волноваться о ком-нибудь, кроме самого себя. Думает ли он о ком-либо, кроме себя? Не знаю, существует ли вообще для него кто-нибудь?
По-прежнему стоя спиной к матери, она вдруг сказала серьезно:
— Если бы вы знали, мама, как я вас теперь понимаю!
Тереза молчала. Девушка добавила:
— Как мне стыдно, что столько лет я о вас плохо думала!..
Молчание матери, видимо, смутило ее; она умолкла, сделав вид, что занята варкой яиц. Но вот она заговорила снова:
— Это не моя вина. Как могла я, будучи ребенком, иметь правильное представление о вашей совместной жизни с папой и бабушкой…
Неожиданно обернувшись, она резко сказала:
— Почему вы так упорно молчите? Я понимаю, вы могли быть недовольны мною… Как вы побледнели, мама!
Тереза пробормотала:
— Нет, нет! Пойдем, ты поможешь мне накрыть на стол.
Она позволила Мари подвинуть стол к камину, расставить тарелки. Прислонившись к стене, она неподвижно стояла в темной прихожей. Мари, напевая, ходила из комнаты в комнату; Тереза наблюдала за ней. От ее радости уже ничего не оставалось. Кто была эта женщина, которую Тереза называет Мари? Почему она говорит ей: ты? Вот уже три года, как под разными предлогами Бернар Дескейру лишал ее возможности видеться с дочерью, как обычно, раз в год в течение недели. Тереза не протестовала: «Может быть, у меня вообще нет так называемого материнского чувства?»
В самом деле, задумывалась ли она когда-нибудь о судьбе своего ребенка? Сделавшись матерью в молодые годы, она была настолько поглощена собою, что даже не замечала его. И все-таки это безразличие не было чем-то чудовищным… Разве впоследствии она не отстранилась намеренно? Этого требовал и интересы ребенка… Да, Тереза всегда старалась заглушить в себе то чувство, которое влекло ее к Мари. Сама отказавшись от материнских прав, Тереза решила никогда больше не возвращаться к этому вопросу. Она легко могла бы не посчитаться с мнением и требованиями Бернара Дескейру, но собственный приговор оставался для нее непреложным. И вдруг произошло что-то, совершенно для нее неожиданное: сегодня вечером эта девочка заставила ее усомниться в своей правоте… Девочка, которая не была уже больше девочкой… Испытывая тот же гнет, от которого страдала когда-то и ее мать, она задыхалась в той же клетке… И теперь эта девочка считает себя союзницей женщины, отказавшейся от своей семьи; даже не зная мотивов, какие были у этой женщины, она их разделяет и не только находит ей оправдание, но даже одобряет ее.
Это уже серьезно. Ничего подобного Тереза не хотела. Она всегда успокаивала себя тем, что дочь ничем на нее не похожа, что она подлинная Дескейру. Она уже свыклась с мыслью, что эта маленькая Дескейру будет когда-нибудь ее судить и осудит. Но что могла знать Мари о своей матери? Подробностей, вероятно, никто не сообщал Мари, но нельзя допустить, что ее оставили в полном неведении, она должна была хотя бы смутно подозревать весь ужас того, что произошло в одной из комнат в Аржелузе вскоре после ее рождения. Тереза раз и навсегда примирилась с сознанием, что своим поступком она создала пропасть между собой и Мари… И вот, несмотря ни на что, Мари здесь; чувствуя себя, как всякая молодая девушка в комнате матери, она стоит перед зеркалом и приглаживает свои темные волосы. И это прелестное создание — ее дочь!.. Тереза прошептала: «Моя дочь!..» Эти еле слышные слова нашли отклик в самой глубине ее сердца. Она отошла от стены, возле которой стояла в прихожей, и громко позвала:
— Моя девочка!..
Мари обернулась и улыбнулась ей, не замечая, что на лице матери появилось какое-то особенное выражение: начало таяния льда, внезапное наступление весны. Терезе же это было знакомо! Однако на этот раз это вызывалось не трепетом желания, не волнением в крови, не жаждой наслаждения… Глядя на Мари, которая набросилась на еду с жадностью проголодавшейся школьницы, Тереза глубоко переживала свое счастье… С чем может она сравнить его? С лаской влажного ветерка, с ароматом листвы и травы в ту минуту, когда поезд вырывается из бесконечного туннеля… Но она отворачивается, чтобы не смотреть на Мари, которая старается открыть бутылку шампанского.
— Вот увидите, я сделаю это бесшумно…
Тереза припоминает, что уже видела, как другие, в особенности один памятный ей человек, прибегали к тому же способу и как-то особенно придерживали пробку, чтобы она не хлопнула… Но ведь Мари придется отправить обратно. Все равно нельзя будет долго удерживать ее возле себя, надо только полностью насладиться этими минутами. Тереза подарит себе один вечер, одну ночь, она разрешит себе эту радость и затем вернет девочку отцу. Она взглянула на дочь. Наконец-то и она — Тереза — любит кого-то, кто не является ее жертвой. А девочка все говорит, увлекшись длинной обвинительной речью против отца, против бабушки, путаясь в бесконечном клубке своих воспоминаний!
— Знаете, я, пожалуй, даже в монастырском пансионе лучше себя чувствовала, а они находят, что этот пансион теперь им не по карману. Вы не можете себе представить, в какой они панике с тех пор, как упали цены на смолу… Этот вечный страх перед разорением! За последний год я только один раз была на балу, жалком балу у Курзонов. Мы отвечали отказами на все приглашения под тем предлогом, что я слишком молода, что в пост не танцуют! Но объясняется это гораздо проще: они жалеют денег на новое платье. Да, да! Пожалуйста, не возражайте, мама. Вы знаете их лучше меня. Вы отсюда слышите, как бабушка говорит: «Нельзя принимать приглашений, если сама не в состоянии ответить тем же». Это вас смешит? Правда, ведь я очень удачно ее копирую?
— Но это же твоя бабушка, Мари!
— Нет, мама, не читайте хоть вы мне нравоучений. Я ее не осуждаю… Я просто не выношу ее, поскольку от нее завишу… Около вас я ее забуду, забуду папу. Когда они не будут целыми днями торчать у меня перед глазами, я легко перестану их ненавидеть. А вы, вы меня поймете…
— Нет, Мари, нельзя так говорить. Нельзя, нельзя!
Дочь возвращается к ней, она предпочла ее тем… другим. Какой реванш! Но все ли известно Мари о судебном процессе матери? Что именно она знает? Бернар, вероятно, посвятил ее в это дело достаточно, для того чтобы ее напугать. Прежде, при кратковременных встречах с дочерью, Терезе случалось подмечать у нее какие-то проявления страха… И, несмотря ни на что, сегодня вечером она здесь, у нее…
— Нет, дорогая, у твоего отца были свои недостатки, но скупым он никогда не был.
— Вы не знаете, каким он стал теперь. Если уже пятнадцать лет тому назад вы его не выносили, чтобы вы сказали сейчас? Вы не можете себе представить… Надо только слышать, что они говорят с бабушкой: «Теперь уж ничего не отложишь на черный день… Все сбережения пропадают, а остальное поглощают налоги. Тебе придется работать, девочка… Дойдем и до этого: надо привыкать к этой мысли!» Если бы вы видели их лица, когда я отвечаю: «Ну что же! Подумаешь! Буду работать…» Им хотелось бы, чтобы я ныла вместе с ними. Они не могут понять, что я легко мирюсь с требованиями своего времени.
«Это уже не слова маленькой девочки, — подумала Тереза. — Она повторяет то, что слышала, быть может, от старшей подруги или даже от какого-нибудь юнца!»
— Мари, посмотри мне в глаза.
Девочка поставила свой стакан и улыбнулась.
— Из всего тобою сказанного мне ясно только то, что у тебя могут быть некоторые основания для раздражительности, если хочешь, даже для озлобления. Но всего этого недостаточно, чтобы так восстановить тебя против них, и, во всяком случае, одно это не могло привести тебя ко мне.
Последние слова она произнесла почти шепотом:
— Есть еще что-то… еще что-то, что ты должна мне сказать…
Девочка продолжала смотреть ей в глаза. Лишь по легкой дрожи век и румянцу, неожиданно выступившему на ее щеках, Тереза догадалась, что не ошиблась.
— Мари, ты мне не все сказала…
— Вы меня слишком торопите… Вас, мама, не проведешь. Вы все угадываете.
— Он очень мил?
— Мил? Нет. Совсем напротив. Мил? Это как раз одно из тех словечек, которых он не выносит… Вы знаете, это незаурядный человек!
Облокотившись на стол, она закурила папироску: это была уже женщина, вполне созревшая женщина.
— Девочка, милая, расскажи мне все.
— Вы думаете, я приехала сюда для чего-нибудь другого?
— Конечно, ты приехала только для этого.
— Конечно!
Опять старое, знакомое чувство боли; Тереза надеялась, что на этот раз она наконец добилась той спокойной уверенности в любимом существе, когда оно уже не может больше причинять зла, так как от него ничего больше не ждешь. Но совершенно бескорыстной любви, очевидно, не существует. Мы всегда рассчитываем получить что-то, хотя бы пустяк, взамен того, что даем сами. Тереза думала, что она все предусмотрела заранее, она вооружилась, она приложила все усилия к тому, чтобы оторвать от себя девочку и вернуть ее отцу. И вдруг неожиданно она поняла, что некого отрывать, что девочку с нею ничто не связывает: «Ведь дело не во мне… Я могла бы умереть, не увидев дочери, если бы ей не понадобилась моя помощь… Она вспомнила о моем существовании в тот день, когда ей пришлось защищать себя перед отцом, защищать свою любовь…»
Тереза узнавала это ощущение горечи: даже в своей нежности к дочери она находит своего старого, своего вечного врага — страсть, чувство, которое любимое существо испытывает к другому. К Терезе обращались только поэтому. Она всегда служила только орудием, ее всегда эксплуатировали.
Мари разглядывала ее с беспокойством, мать изменилась в лице. Ничего не подозревающая девушка не догадывалась, что этот сжатый рот и холодные глаза, эта жестокая, хитрая маска являются подлинным лицом Терезы для большинства людей, ее знавших.
Мари смутилась при звуке этого вкрадчивого голоса:
— Зачем ты хочешь впутать меня в свои истории?
— Вы — наша последняя надежда…
— Я могла бы умереть, Мари! Если бы тебе не понадобилась моя помощь…
Она нервно рассмеялась, но смех ее тотчас оборвался. Молодая девушка почувствовала себя оскорбленной и пристально посмотрела на мать.
— Послушайте, мама, ведь не я же вас бросила.
Тереза отвернулась, закрыв глаза рукою. Мари подошла к ней и хотела обнять ее. Но Тереза отшатнулась.
— Знаешь что, лучше убери со стола.
Когда девочка вернулась из кухни, мать стояла, прислонившись к камину. Не глядя на дочь, она сказала:
— Я никого не бросала, Мари. Это я — покинутая, с самого дня своего рождения. Тебе этого не понять.
Да, Мари не понимала. Но, потрясенная этими словами, она вновь попыталась обнять мать, которая опять осторожно отстранилась.
— Я вас люблю, мама, почему вы этому не верите? Я вижу, что вы не верите. Отчего вы не хотите, чтобы я вас поцеловала?
— Ты прекрасно это понимаешь, Мари.
— Понимаю?
Тереза кивнула головой.
— Оставим это… Я слушаю тебя, дорогая. Рассказывай.
Девушка не заставила себя долго просить. Она посвятила мать во все подробности своих безуспешных споров с отцом и бабушкой по поводу Жоржа Фило, которого она любит. Они как будто слышать ничего не хотят об этом браке, считая его унизительным. Терезу поразило, что эти обедневшие, почти разорившиеся люди продолжают проявлять еще столько высокомерия.
Она прекрасно помнила семью Фило, которая в течение целого столетия жила все на одном и том же хуторе, на земле Дескейру. Припоминала она и старика Фило; еще ребенком она видела, как он пас своих овец и при этом вязал чулок. Его сын и внук, сделавшиеся скупщиками имений, нажили громадное состояние во время войны. Но, по словам Мари, часть его они потеряли; одно время Бернар Дескейру готов был пойти на уступки, но потом снова заупрямился, в особенности когда узнал, что и сами Фило настроены решительно против этого брака; Мари полагала, что ими руководит гордость.
— Заметьте, они еще очень богаты. Конечно, кризис и их задел. Огюст Фило (отец Жоржа) задумал чрезвычайно выгодную сделку с двадцатью с лишком тысячами гектаров земли: он рассчитывал с избытком покрыть все издержки, продав лес на сруб, как он всегда это делал; земля досталась бы ему даром… Но расчеты его не оправдались вследствие падения цен… Как бы то ни было, они все еще гораздо богаче нас… Ясно, что мне приходится считаться с семьей Жоржа! Сам же он — человек вполне культурный и большого ума. Он будет слушать курс политических наук.
«Это не ее слова, — подумала Тереза, — она повторяет чужие фразы. Когда я была молодой девушкой, то говорила такие же пустяки. Семья обязательно накладывает на нас известный отпечаток; мы легко поддаемся этому влиянию, и хорошо, если оно не оказывается для нас губительным».
Впрочем, какое ей до этого дело! Теперь она знает, почему молодая девушка села в парижский поезд: Жорж Фило будет слушать курс политических наук, — понятно, Мари заинтересована в том, чтобы быть поблизости от него.
— О! Я нашла бы в себе силы, чтобы перенести разлуку. Уверяю вас, я решилась бы на это… Но видите ли, мама, для этого я должна ему вполне доверять. Он — юноша… Я не знаю, много ли еще таких, как он. Он меня безусловно любит, но только тогда, когда мы вместе. Я признаюсь только вам: он часто говорит ужасные веши. Он говорит, например: «Когда вас нет возле меня, все кончено; я думаю о вещах, которые меня интересуют, о людях, которых вижу…» Я уверена, что он предпочитает меня всякой другой, но, когда меня нет около него, шансы мои невелики; уж таков он… Теперь вам понятно, чем угрожает мне подобная разлука…
— Да, и это привело тебя ко мне? Но ты не учла… моя девочка, не учла (минуту Тереза колебалась), что, приехав ко мне, ты себя компрометируешь.
Мари покраснела и слабо запротестовала:
— Что вы, мама!
— Обо мне уже перестали вспоминать. Время принесло забвение и как бы похоронило меня… Люди уже больше не думали о том, что у тебя есть мать. И вдруг ты меня откапываешь. И не довольствуясь тем, что извлекаешь меня из моего склепа, ты обращаешься ко мне, ищешь у меня покровительства для себя и своей любви. Ищешь покровительства у…
Она назвала свое имя и фамилию так тихо, что Мари с трудом ее расслышала.
— Представь себе, что должны думать люди при одном этом имени…
— Ничего такого, чего мне следовало бы стыдиться.
Девочка совершенно спокойно произнесла эти слова.
— Ты не в своем уме, Мари!
Но девочка молча поднялась с кресла, подошла к матери, нежно обвила ее руками. Тереза оттолкнула ее, повторяя:
— Знаешь, ты положительно не в своем уме…
— Знаю, знаю. Ну, а дальше что?
— Если ты знаешь…
— Знаю… или, если хотите, догадываюсь…
— И все-таки ты меня обнимаешь?
— О мама! Не мне вас судить, а если бы мне и пришлось судить…
Они стояли друг против друга. Тереза протянула руку, как бы желая помешать дочери говорить дальше.
— Ты бы меня простила?
— Вас простить? Но ведь вы ничего не сделали?..
— Я совершила поступок, который бросает тень на тебя, поскольку ты моя дочь…
— Неужели это так серьезно?
— Что может быть серьезнее?
— Но, мама…
Тереза изумленно посмотрела на нее:
— Однако они должны были прожужжать тебе об этом все уши!
— Вероятно, они догадались, что я не стала бы слушать их злобных намеков; должна признать, что они никогда ничего определенного мне не говорили…
— Как? Чтобы объяснить мое отсутствие…
— Они ограничивались одними намеками. Раза два папа говорил при мне о несходстве характеров. В конце концов, что бы там ни произошло, думаю, что он прав и что все сводится именно к этому! Несходство характеров… я уже по горькому опыту знаю, что это такое.
Тереза, сидевшая до этого с опущенной головой, теперь подняла ее и пристально посмотрела на дочь. Неужели можно допустить, что у Мари до сих пор не возникало мысли о преступлении? Терезу удивляло, что ни свекровь, ни муж не проговорились. Следовало почтительно преклониться перед проявлением такого неожиданного милосердия. О! Они пошли на это молчание вовсе не ради Терезы, а охраняя честь семьи и щадя чувства Мари.
Как бы то ни было и какими бы мотивами они ни руководствовались, они не сказали ничего такого, что могло бы унизить Терезу в представлении дочери. В таком случае…
— Почему вы на меня так смотрите, мама?
— Я думаю… я думаю, что следует восхищаться твоим отцом, которому ничего не стоило бы навсегда уронить меня в твоих глазах!
— Уронить вас в моих глазах! Но после такой попытки я бы вас только еще больше полюбила!
Тереза встала и подошла к книжному шкафу. Повернувшись спиной к дочери, она принялась разбирать книги и расставлять их по местам.
— Нельзя допустить, чтобы ты знала… Если ты узнаешь…
— Ну что же! В чем дело? Вы полюбили кого-нибудь? и уехали? Не так ли? Догадаться нетрудно! Почему бы я могла быть на вас за это в обиде?
Так вот что думала девочка, что она подозревала! Следует раскрыть ей глаза. Невозможно признаться во всем до конца: это было бы выше сил Терезы. Да и зачем? Даже того немногого, что она может сказать Мари, будет достаточно, чтобы оттолкнуть ее от себя.
— Пойди сюда. Нет, нет, не садись на ручку моего кресла. Я не хочу, чтобы ты меня целовала. Сядь спокойно вот на это низенькое креслице, что я привезла из Аржелуза; тетя Клара любила греться на нем у камина. Поверь мне, это тактичное молчание — красивый поступок. Очень красивый! Они могли бы тебе рассказать…
— Но, мамочка, то, что вы не выдержали подобной жизни, только возвышает вас в моих глазах.
— Что об этом думают Фило?
Этот вопрос как будто смутил Мари. Действительно, Фило часто намекали на какие-то события, о которых девушка ничего не знала. Они давали понять, что, по их мнению, Дескейру следует быть более сговорчивыми. В конечном счете Мари не интересовало мнение людей из Сен-Клера и Аржелуза.
— Подвинься ко мне, дорогая. Ах, как бы мне хотелось, чтобы при нашем разговоре в комнате было темно. Возвращайся в Аржелуз, девочка! Скорей, скорей… не спрашивай меня ни о чем.
Почти шепотом она добавила: «Я недостойна…» и, так как Мари не расслышала, повторила несколько громче:
— Я недостойна…
— Мать всегда достойна…
— Нет, Мари.
— Знаете ли, что мне неожиданно пришло в голову? Что вы человек с более отсталыми взглядами, чем я думала! Мама, дорогая, вы относитесь к себе так, как отнеслись бы к вам обыватели из Сен-Клера и Аржелуза.
Вы осуждаете себя во имя тех же принципов; вы ставите себе в огромную вину то, что для девушки моих лет вовсе не является достойным порицания. Вы думаете, что любовь — зло.
— Нет, я не думаю, что в твоей любви есть зло.
— Но, мама, любовь — всегда любовь, и оттого только, что вы были замужем, нельзя…
— Разве ты перестала быть религиозной, моя девочка?
Мари тряхнула головой и вызывающе сказала:
— Жорж помог мне пройти эту стадию. Вам это кажется смешным, мама?
Тереза пыталась засмеяться: иногда человек одним словом или тоном, которым произносит его, выдает свою вульгарность. Терезу покоробило оттого, что Мари сказала: «эту стадию». Девочка придвинула свое креслице и коленями касалась коленей матери. Сложив руки и опершись на колени матери, Мари стала всматриваться в ее лицо с вниманием и волнением молодой девушки, поверяющей подруге свои заветные тайны.
— Пойми меня, не вынуждай меня говорить больше того, что я могу сказать. Нет, конечно, любовь — незло… но зло так ужасно, когда его нельзя оправдать хотя бы подобием любви!
Она почти беззвучно произнесла еще несколько слов и, когда Мари спросила: «Что вы сказали?» — проговорила:
— Ничего, ничего…
Они замолчали. Какими большими казались глаза Мари, устремленные на мать! Скрестив руки и выпрямившись, она теперь села несколько поодаль. Тереза взяла каминные щипцы и стала мешать горящие уголья.
— Не пытайся понять. Я не принадлежу к числу порядочных людей. Думай что хочешь!
Когда Тереза повторила еще раз: «Не принадлежу к числу порядочных людей», она услышала звук отодвигаемого кресла. Мари села еще дальше. Тереза поднесла руки к лицу, закрыла ими глаза. Что это с нею? Ведь обычно она никогда не плачет. Девочка не должна этого видеть. Но слезы, более жгучие и обильные, чем в детстве, текли меж пальцев. Плечи ее вздрагивали, как у плачущего ребенка, и низенькое кресло вновь очутилось возле. Нервные пальцы дочери схватили руки Терезы, заставили ее открыть лицо.
Затем носовым платком Мари вытерла щеки матери, обвила ее руками, покрыла поцелуями ее изможденное лицо и редкие волосы. Но Тереза резко вырвалась из ее объятий и, стоя, почти сердито закричала:
— Уходи отсюда!.. Ведь ты должна была уже уехать, я ясно дала тебе это понять, а теперь из-за этих слез придется начинать все сначала… Какая я идиотка!.. Мари, не спрашивай меня больше ни о чем. Поверь мне на слово.
Четко выговаривая каждый слог, она продолжала:
— Ты не можешь оставаться возле такой женщины, как я. Понимаешь ты это?
Мари покачала головой:
— Постойте, в чем дело? Вы прожили бурную жизнь! Ну что же? Что бы вы ни сделали, после Аржелуза все можно оправдать.
Не могла же, однако, Тереза заходить дальше в своих признаниях. Этого никто не мог требовать от нее. Но так как она продолжала упорно повторять: «Нельзя тебе оставаться здесь. Нельзя!» — Мари перебила ее:
— Ах, я понимаю! Вы связаны. Об этом я не подумала. Ваша жизнь сложилась так, что для меня в ней не осталось места. А я-то строила всевозможные догадки относительно вашего прошлого…
— Погоди, как могло прийти тебе в голову, что такая старуха, как я…
Оставить ее с этим предположением! И все же это необходимо. Мари почувствует отвращение… Не лучше ли открыть ей всю правду? Да, конечно, но в таком случае Тереза не должна была бы видеть, как Мари встает, подходит к зеркалу, поправляет волосы, ищет свой берет…
— Нет, нет, Мари! У меня никого нет! Я солгала!
Девушка глубоко вздохнула и, улыбаясь, посмотрела на мать.
— Я так и думала…
— Я одинока. Никогда еще не была я так одинока.
— С этого момента ваше одиночество кончилось.
Тереза напряженно следила за девушкой, которая бросила берет на стул и снова села против нее, стараясь поймать ее взгляд. Почему не хватило у нее решимости? Все уже было так хорошо: она отвезла бы Мари в гостиницу «Д'Орсе». На следующее утро послала бы телеграмму Бернару Дескейру… А теперь надо опять начинать эту мучительную борьбу.
Тереза стала упрашивать Мари быть благоразумной, поверить ей на слово: она очень виновата перед своим мужем, и несмотря ни на что, он проявил великодушие, такое, какого Тереза не могла от него ожидать; он не старался ни унизить Терезу в глазах Мари, ни восстанавливать дочь против матери.
— Если вас удерживает только это…
Одно мгновение Мари колебалась, затем подошла к матери и села на ручку ее кресла:
— Послушайте, лучше я вам все расскажу… Правда, мне ничего не говорили… думаю, что скорее всего из религиозных соображений. Будьте уверены, что доброта здесь совершенно ни при чем. Ведь вне дома они постарались наверстать потерянное… Всякий раз, когда, разговаривая с кем-либо, я решалась произнести ваше имя, и видела, как люди краснеют, избегают смотреть мне в глаза… Впрочем, теперь я уже не пробую подвергать себя подобному риску. Даже Жорж (хотите, чтобы я рассказала вам все без утайки?), Жорж — единственный человек, с которым я говорю совершенно откровенно… Так вот! Мне еще не удалось выяснить его отношение к вам. Я вижу, что он предполагает что-то ужасное! Мне хотелось бы его разубедить, но это не удается. Если я упорствую, он берется за шляпу. О! Конечно, они вас не пощадили, и вам совершенно незачем рассыпаться перед ними в благодарностях. Они, безусловно, «постарались вовсю», иначе Фило, которым наша помолвка должна была только льстить, не стали бы корчить из себя оскорбленных. Как вам нравится подобный взгляд на вещи? За то, что моя мать не согласилась задохнуться в этой милой обстановочке… Мама, послушайте, вы на меня не сердитесь…
Но Тереза, как-то вся насторожившись, оттолкнула ее от себя. И, когда она заговорила, можно было подумать, что она задыхается от быстрой ходьбы. Она говорила:
— Ну вот! Видишь. Я причиняю тебе огорчения… Из-за меня может расстроиться твоя свадьба. Знает ли Жорж Фило, что ты сейчас у меня?
Мари, смутившись, отрицательно покачала головой.
— Ты это от него скрыла?
Мари ответила, что хотела сделать ему сюрприз.
— Я думала, что, узнав о моем приезде в Париж, он так обрадуется, что не обратит внимания на…
— На мое присутствие? Так нет же! Нет! Сию же минуту уезжай отсюда. От этого зависит твое будущее. Не заставляй меня сказать тебе больше.
Она снова наклонилась над горящим камином. На этот раз Мари, видимо, заколебалась. Продолжая смотреть на мать, она отошла от нее на несколько шагов.
— Но, мама, что же это такое в конце концов? Ведь не прокаженная же вы, в самом деле?
Глубоко вздохнув, Тереза прошептала: «Ты даже не подозреваешь, до чего ты близка к истине…» Наконец-то! Она добилась своей цели. Мари оглядывается кругом, собирает свои вещи.
— Я отвезу тебя в такси, устрою тебя в гостинице «Д'Орсе» и завтра утром приеду попрощаться с тобой на вокзал. Поезд отходит без десяти восемь или в десять минут девятого… точно не помню. В отеле нам скажут.
Тереза уже не сдерживала слез. Бесполезно было их скрывать. Все же в ее горе было некоторое утешение: она выполнила свой долг и ей удалось избежать столь тяжелого для нее признания. Но совершенно неожиданно Мари, подойдя вплотную к матери, упрямо объявила, что не уедет, не узнав самого главного, того, что столько лет скрывали от нее.
— Дело не во мне и не в вас, а в Жорже. Мне необходимо знать, что стоит между нами. Если то, чего я не знаю, именно таково, как вы даете мне понять…
Ее угрожающий тон вернул Терезе самообладание. Она решила стойко выдержать нападение.
— Я тебе сказала достаточно. Думай что хочешь. Ты теперь предупреждена, тебе легко будет заставить людей проговориться. Меня удивляет, что в монастырском пансионе ни одна из твоих подруг ни на что тебе не намекнула… Ты никогда не получала анонимных писем? Нет? Значит, иногда люди оказываются лучше, чем о них думаешь. Однако я чувствую, что мои слова вызывают у тебя какие-то воспоминания…
Она пристально посмотрела на дочь: выражение лица Мари было напряженное, взгляд блуждающий… Да, когда Мари была школьницей, ей не раз случалось замечать, как при ее появлении прекращаются разговоры, как взоры всего класса устремляются на нее, словно в словах учительницы скрывается намек на что-то такое, чего только она не в состоянии понять. Но сейчас особенно ярко возник в ее памяти случай, имевший место в прошлом году: к ней приставили в качестве горничной молоденькую хуторянку Анаис, девушку одного с ней возраста. Сперва казалось, что эта девушка страстно привязалась к Мари. Но Мари не отличалась нежностью к людям, которые любили ее и которые не нравились ей. Кроме того, эта смуглянка была ей неприятна, вызывала в ней чувство брезгливости своей неряшливостью и тем, что от нее обычно скверно пахло. Мари не скупилась на выговоры, к которым девушка относилась довольно спокойно до тех пор, пока однажды не узнала, как, впрочем, и вся деревня, что сын Фило «приударяет» за мадемуазель. Позже стало известно, что сама Анаис является первоисточником всех распространявшихся тогда сплетен (это она распустила слух, будто Мари приняла как-то ночью молодого человека у себя в комнате). Девушку немедленно прогнали, и после бурного объяснения ее родители должны были покинуть хутор.
Два-три месяца спустя Мари получила по почте конверт с вырезкой из какой-то парижской газеты. Речь шла об одном судебном процессе, о котором писалось, очевидно, уже в течение нескольких дней; Мари не следила за газетами и не была в курсе дела. Она все же внимательно прочла строчки газеты, вырезанные для нее неизвестной рукой. Насколько она могла судить, то была часть обвинительного акта; не хватало, однако, некоторых подробностей, по которым она могла бы уяснить себе суть дела.
Тщетно искала она в «Птит жиронд» и в «Либерте дю Сюд-Уест» откликов на эту драму. Полученная ею вырезка касалась процесса, о котором упоминалось, несомненно, несколько недель тому назад. Мари легко могла бы процитировать ее от начала до конца, не пропустив и не исказив ни слова: «Господа судьи, сейчас уважаемый защитник станет взывать к вашим родительским чувствам, он попытается вызвать в вас сострадание к судьбе детей обвиняемой. Так вот! Во имя правосудия и в защиту оскорбленных социальных устоев я, в свою очередь, осмеливаюсь напомнить вам об этих невинных. Они — первые жертвы этого бесчеловечного создания. Отныне и навсегда, сколько бы они ни прожили, на них все будут указывать пальцем и они постоянно будут слышать ужасные слова: «Посмотрите на них! Это — дети отравительницы».
На секунду глаза Мари встретились с глазами матери. Девушка первая их опустила. В ее мозгу никогда не возникало ни малейшей связи между таинственным событием в жизни Терезы Дескейру и каким-то уголовным процессом… разве только подсознательно… И все же она воздержалась от того, чтобы показать отцу выдержку из парижской газеты, и сожгла ее, ни словом не обмолвившись о ней никому, — быть может, она поступила так из апатии, какой-то лени ума, полного безразличия, боязни осложнений…
Впрочем, она тотчас же обвинила себя в безумии: ведь никогда в ее семье не было убийств, никогда никто не был под судом; ее мать, сколько Мари себя помнит, всегда была на свободе.
Тереза с каким-то равнодушием, даже суровостью следила за волнением девушки. Сама она больше ничего не чувствовала, она только ожидала приговора. Она даже полагала, что ей вряд ли понадобится еще что-либо говорить: придется ответить на один-два вопроса, и все будет кончено.
«Кто умер в нашей семье? — задавала себе вопрос Мари. Тетя Клара? Она не помнила старой девы. Впрочем, невозможно, чтобы дело касалось этой женщины: мать всегда ее очень любила и до сих пор оплакивает. Несомненно, жертву надо искать вне семьи».
Временами было слышно, как отдельные капли дождя громче других стучат по балкону. Сейчас Мари начнет свой допрос… Тереза решила отвечать только односложными «да» или «нет». Она была наготове. И вдруг услышала:
— Поклянитесь мне, что никто не умер по вашей вине.
— Клянусь, Мари, никто.
Молодая девушка облегченно вздохнула.
— Вы никогда не были под следствием, мама… то есть, я хочу сказать, вас никогда не судили?
— Никогда.
— Вы сами виноваты, что я задаю подобные вопросы: это все из-за ваших недомолвок! Вы можете меня простить?
Тереза наклонила голову.
— Ну, а раз у вас никогда не было недоразумений с правосудием…
— Этого я не говорила, девочка… совсем не говорила! На твой вопрос я только ответила утвердительно, что меня никогда не судили.
— Вы играете словами!
— Да нет же! Понять это очень нетрудно: я имела дело с правосудием, но следствие было быстро прекращено; дело обернулось в мою пользу из-за отсутствия состава преступления. Вот и все. Теперь уходи.
— Но если из-за отсутствия состава преступления дело обернулось в вашу пользу…
Тереза встала, взяла шляпу и пальто дочери и хотела подтолкнуть ее к двери. Но девушка, которая стояла, опершись на выступ книжного шкафа, не тронулась с места.
— Мари, сжалься надо мной.
— Вы сказали, что вы никого не убили…
— Никого.
— Значит, вы были невиновны?
— Нет, не была.
Тереза вновь опустилась в свое низкое кресло и, опершись локтями на колени, вся как-то сжалась.
— Еще один только вопрос, и я вас оставлю: имя вашей жертвы? Клянусь, что я уйду после вашего ответа. Это был кто-нибудь чужой?
Тереза сделала отрицательный жест.
— Кто-нибудь из нашей семьи?
Она наклонила голову.
— Тетя Клара? Нет… папа?
Казалось, она играет в детскую игру, когда по приметам нужно отгадывать знакомых людей. Обвиняемая не подняла глаз, не разжала рук; на лице ее не дрогнул ни один мускул, и все же Мари была убеждена, что угадала. Тереза как бы окаменела, а молодая девушка, не думая задавать новых вопросов, уже застегивала пальто. Нет, она больше ничего не хотела знать, все остальное ее не касалось. Сейчас ей не было дела до других, даже до родной матери. Достаточно того, что она поняла: выйти замуж за Жоржа Фило для нее невозможно. Может быть, ей удастся отдаться ему… Неизвестно, согласится ли он даже на это…
— В моей комнате стоит зонт. Минуту подожди… У меня заболело сердце, это сейчас пройдет. Я хочу проводить тебя до гостиницы.
Мари сказала, что это ни к чему. Она просит только одолжить ей денег, чтобы заплатить за комнату в гостинице и за железнодорожный билет. Она вернет деньги почтой из Сен-Клера.
Очевидно, она не хочет больше быть чем-либо обязанной матери. Но ведь уже за полночь, нельзя отпускать ее одну, думала Тереза. Правда, гостиница «Д'Орсе» в двух шагах. Она повторила:
— Я не могу позволить, чтобы ты одна среди ночи выходила на улицу.
— Куда бы я ни пошла, мне везде будет лучше, чем здесь.
— Подожди хотя бы, чтобы дождь перестал.
— Я жду, чтобы вы дали мне денег.
«Я жду, чтобы вы дали мне денег», — как знакома Терезе эта коротенькая фраза, как привычна она для ее слуха! Она готова была рассмеяться, если бы не боялась вызвать боль в левом плече и в руке. Она сказала:
— Помоги мне подняться.
Но, по-видимому, она произнесла эти слова слишком тихо, так как Мари, казалось, не расслышала их. Тогда, опираясь рукой на камин, Тереза, едва не застонав от боли, с трудом поднялась и прошла в соседнюю комнату. Мари услышала звук ключа, поворачиваемого в замке. Она не думала больше о матери, мысли ее были заняты Жоржем. Уже несколько дней, как он в Париже; неужели придется уехать, не повидавшись с ним? В конце концов, незачем возвращать данное им слово, ведь несомненно ему уже давно известны все обстоятельства драмы… Нет, нет, ничто еще не потеряно! Самым благоразумным будет как можно скорее вернуться в Сен-Клер и постараться, чтобы Жорж ничего не узнал о ее злополучном путешествии. Жорж! Жорж! В эту минуту он один всецело занимал ее мысли. Переживания матери, которая вернулась и снова забилась в свое кресло, не имели для Мари никакого значения. Теперь она, во всяком случае, может сказать своим, что для дочери Терезы Дескейру этот брак с Жоржем является неожиданной удачей… Хотя бы с этой стороны задача ее будет облегчена. Опасность угрожает со стороны семьи Фило. Но, собственно говоря, в чем дело? Если бы они втайне не желали этого брака, они более категорически возражали бы против него. Главное, чтобы Жорж не проявил слабости. Все зависит от Жоржа.
Теперь Мари принялась обдумывать другую сторону вопроса: неоднократно, при всяком удобном случае, Жорж давал ей понять, что он ни в ком не нуждается. Страшно было подумать об этом… Зачем она себя обманывает? Когда они бывают вместе или находятся поблизости один от другого, Мари чувствует себя увереннее. Но какой угрозой является для нее переезд Жоржа в Париж! А теперь к тому же она лишена возможности жить в Париже, возле него… Но, в сущности, зачем, зачем ей поддаваться этому ужасу, охватившему ее в первые минуты? Разве раз и навсегда не было решено, что Мари ежегодно должна проводить несколько дней возле своей матери? Жорж считает это вполне естественным, он согласится на то, чтобы Мари из-за него продлила свое пребывание в Париже.
Да, если хорошенько подумать, — она ужасная идиотка! То, что произошло пятнадцать лет тому назад, нисколько ее не касается. Как будто девушка ее лет может разделять взгляды стареющей истеричной женщины, которая к тому же, вероятно, сильно преувеличивает значение своего поступка… Если ее делу не был дан ход, надо полагать, что вина ее не столь значительна, как она хочет себя убедить. И наконец, виновна ли мать или нет, зачем какой-то забытый эпизод из хроники происшествий должен отражаться на жизни ее дочери? Мари опустилась в кресло против стула матери и осторожно дотронулась до ее руки. Тереза вздрогнула, подняла голову и не поверила своим глазам: Мари улыбалась ей; улыбка ее была, конечно, несколько натянутой, губы ее слегка дрожали. Но ясно было одно: Мари складывала оружие, она сказала:
— Мама, простите меня.
— Ты с ума сошла! Просить прощения… у меня!
— Я совершенно потеряла голову. Поддалась первому впечатлению… Я просто притворилась, что переживаю то, что полагается переживать при подобном открытии… Но это не соответствует тому, что я в действительности чувствую… Вы мне верите?
— Я верю тому, что тебе стало жаль меня, что ты хочешь меня утешить…
— Послушайте, мама, я приведу вам сейчас одно доказательство…
Читала ли она «Пьера и Жана» Мопассана? Мари брала как-то эту книгу по абонементу в «Панбиблион». Жорж находит, что это «мура», все романисты той эпохи кажутся ему поверхностными… Да и нельзя не признать, что «Пьер и Жан»… Весь драматизм этого произведения заключается в том, что некий сын узнает о своем внебрачном происхождении и о страстной незаконной любви своей матери… Ну так что же! Мари кажется абсолютной нелепостью, что дети присваивают себе право судить тех, кто дал им жизнь, что они вдаются в подробности личной жизни своих родителей, возмущаются или приходят в отчаяние от тех открытий, которые им случается делать…
— Ну да, я отлично знаю, что ваш случай несколько иного порядка, но, в конце концов, все это приблизительно одно и то же! Наоборот, теперь я буду легче себя с вами чувствовать. Пока я ничего не знала, казалось естественным, что вы можете придерживаться взглядов нашей семьи и как бы разделять некоторые из них, но после сегодняшнего разговора вам не удастся меня в этом убедить…
Тереза напряженно следила за Мари: так вот к чему клонит девочка; она надеется, что мать, обезоруженная полным признанием, станет ее союзницей и — как знать? — может быть, разрешит ей встречаться с Жоржем…
— Мари, послушай…
Она подыскивает слова… Когда же кончится наконец этот мучительный поединок?
— Мари, послушай, ты права, что не хочешь меня судить; но ведь ты уже осуждаешь меня, думая, что я способна…
— Откуда вы это взяли? Я прошу вас только о том, что любая мать может сделать для своей дочери.
Мари уже не старалась придавать голосу нежные интонации. Она говорила сухо. Тереза ее перебила:
— Теперь ты понимаешь, почему я не имею права давать твоему отцу повод для жалоб?
— Как вы благоразумны, мама! Если бы вас могли сейчас услышать, никто не поверил бы своим ушам.
— Мари…
Внезапно девочкой овладело бешенство.
— Но в конце концов, ведь вы же сами любили; вы знаете, что это такое. Для меня это еще так ново, но кажется, что мне уже нечему больше учиться. Повторяю: я уверена в Жорже при условии, если вижу его ежедневно. Стоит ему уехать, и я его теряю. Это его пребывание в Париже явится страшным испытанием… Решено — я отказываюсь жить вместе с вами, но никому не покажется странным, если я буду приезжать сюда на короткие сроки…
— В этом отношении я буду следовать указаниям твоего отца.
— Каким тоном вы это говорите! Эти проникнутые благоразумием и буржуазной моралью рассуждения в ваших устах…
Тереза резко ее перебила:
— Ну, теперь довольно. Неужели ты не чувствуешь, что у меня больше нет сил? На, возьми ключ. Отбери простыни в шкафу в столовой и постели себе постель в угловой комнате. Завтра, как только откроется почта, я дам телеграмму твоему отцу… Нет! Больше ни слова.
Не глядя на Мари, она протянула ей ключ. Когда она снова подняла голову, девушки уже не было в комнате. Тереза услышала, как в глубине квартиры скрипнул замок бельевого шкафа, затем началась какая-то возня, продолжавшаяся довольно долго. Когда, несколько времени спустя, Тереза прошла в переднюю и прислушалась, она различила ровное дыхание спящей дочери. Наконец-то можно лечь! На сон рассчитывать, конечно, не приходится, но как хорошо будет вытянуться, без движения полежать, будто ты умерла. Однако против всякого ожидания едва она погасила свет и закрыла глаза, как погрузилась в сон. Заснула она так глубоко и крепко, что ничто из происшедшего за истекший вечер не вспомнилось ей во сне; ни одно из сказанных слов не всплыло из глубины ее сознания. Судьба пришла на помощь, ниспослав полный покой измученному созданию. В соседней комнате, в камине, продолжало тлеть полено. Рассветные лучи освещали стоящую в беспорядке мебель, низкое кресло, в котором только что столько пережила Тереза, бутылку шампанского, забытую на круглом столике.
III
Терезу разбудил шум пылесоса. Первой ее мыслью было: «Слишком поздно предупреждать Анну». Вероятно, она уже входила в комнату девочки. Накинув старый ватный халатик, Тереза вышла к служанке, которую застала в самом скверном настроении:
— Вы уже были в комнате?
— Да, изумительный беспорядок!
— Вы разбудили ее?
— Там уже никого не было.
Тереза прошла через столовую, открыла дверь: маленькая комната действительно была пуста, чемодан исчез.
Возможно, что Мари уехала с бордоским поездом, но она могла также отправиться к этому юноше…
— Не принести ли мадам кофе?
Тереза уловила в словах Анны фамильярно-покровительственные нотки. Она пояснила:
— Вчера вечером, после вашего ухода, ко мне неожиданно приехала дочь. Меня удивляет, что она уехала, не простившись со мной. Очевидно, она боялась меня разбудить…
— После этого посещения мадам выздоровела? Мадам больше не больна?
Сделав вид, что не понимает тяжеловесной иронии, Тереза сказала, что еще чувствует некоторую усталость. Тогда Анна взяла с круглого столика забытую бутылку шампанского:
— Вот что, вероятно, очень помогло мадам? (И она бросила насмешливый взгляд на Терезу.) Когда я была в больнице, мне давали шампанское после операции. Это поставило меня на ноги.
Тереза пожала плечами — слишком усталая, слишком равнодушная, чтобы брать на себя труд разубеждать служанку. Одеваясь, она подумала: «Какое мне дело до ее мнения?» Но мысли ее упорно возвращались к этому, так что даже Мари была забыта. Уважение, которое она внушала Анне, эта своеобразная, робкая, подчас даже нежная почтительность была неотъемлемой привилегией Терезы. Немало сплетен должна была слышать служанка, чтобы доверие ее поколебалось так быстро, при первом же подозрении… Милая Анна… Терезе, значит, придется отказываться и от этого последнего преданного ей сердца. Всю жизнь должна она думать об этом; сейчас же нужно сделать самое неотложное: телеграфировать Бернару, снять с себя всякую ответственность. Мари права: все прописные истины, все излюбленные в ее семье словечки пришли Терезе на ум. Снять с себя всякую ответственность.
Выйдя из почтового отделения на улице Гренель, она минуту колебалась: вернуться домой, вновь почувствовать презрение Анны? Нет, это выше ее сил. Но она не распорядилась относительно обеда… Не беда! Анна подождет. В этот ясный и прохладный осенний день улица влечет к себе Терезу. Она может отдохнуть на террасах кафе, заглянуть в кино. Есть скамейки в скверах, где можно посидеть на солнце, есть церкви, где Терезе, укрывшейся в полумраке среди нескольких распростертых фигур, будет казаться, что она вторгается в чью-то тайну, приникает ухом к невидимой двери. Сейчас для нее самое важное не возвращаться на улицу Бак, не чувствовать гнета этих стен, этих потолков, как бы пропитанных ее страданием; о, главное — не видеть этого нового лица Анны, этого дерзкого выражения, не возвращаться мыслью к ужасной сцене минувшего вечера: «Я признала себя виновной, я выдала свою тайну, и, может быть, напрасно, если Мари сейчас у этого юноши… Совершенно зря я потеряла любовь дочери… Нет, — добавила она вполголоса (группа школьников обернулась и проводила ее глазами), — сегодня утром мне все равно. Это не причиняет мне страданий…».
Странное безразличие по отношению к дочери: мнение Анны для нее важнее. «Ну что же! Да! Это так…» Надежда вновь завоевать Мари еще не успела пустить корни в ее сердце; в то время как Анна, уважение, любовь Анны были хлебом насущным для этой отшельницы… Теперь он у нее отнят… У нее ничего больше не осталось… Но сколько она ни твердила: ничего не осталось! ничего не осталось! — на этом тротуаре бульвара Сен-Жермен, в этом тумане, пронизанном солнцем октябрьского утра, тумане, в котором носились запахи асфальта и сухих листьев, она не чувствовала себя страдающей — освобожденная, перенесшая операцию, какую именно, она и сама не знала, — как будто она уже не вертится в заколдованном кругу, как будто она внезапно двинулась вперед, как будто она уже идет к какой-то цели. Разве во время поединка минувшей ночи она произнесла какие-то слова, безотчетно сделала какие-то жесты, разрушившие колдовство? Что же сделала или сказала она, что выходило бы за пределы обычного? Во всяком случае, что-то прояснилось перед ней; она шла в определенном направлении.
Она была бы почти счастлива, не будь этого стеснения в груди, этого удушья, этого ощущения смерти в сердце… Как прекрасно было небо, расстилавшееся над церковью Сен-Жермен-де-Пре! Как нравились ей эти утомленные молодые лица, смеявшиеся при виде ее. Она не хотела умирать! У нее не было ни малейшего желания умирать!
Сидя на террасе кафе «Des deux magots», она через силу пила абсент, стремясь слегка опьянеть. «Покончить с этими угрызениями, которыми питается наше тщеславие, — думала она. — Для тщеславия все средства хороши. Я была разочарована сегодня ночью, оттого что Мари не продолжила своего допроса. Я не поразила ее так сильно, как рассчитывала… В моей жизни было неудавшееся преступление… В жизни каждого из этих людей, которые заполняют сейчас эту площадь, это кафе, есть что-нибудь свое, другое. Если бы люди могли понять, что их преступления, их пороки, их недостатки не представляют собой решительно ничего значительного… как, впрочем, и то, что они называют своими добродетелями… Даже полное самопожертвование — дар ничтожный… Мне отвратительно пошленькое самодовольство, наполняющее меня оттого, что сегодня ночью я как бы пожертвовала собой ради Мари. Свернуть бы голову этому самодовольству… Полное и мудрое презрение к себе самой…» О! Вот к чему, вот в каком направлении надо ей идти и дальше. Неосторожным движением она опрокинула и разбила стакан. Один из молодых людей, сидевших за соседним столиком, поднялся с места, подобрал осколки и, держа шляпу в руке, торжественно протянул их Терезе под одобрительные смешки товарищей. Ни слова не говоря, Тереза пристально посмотрела на него своими светлыми глазами. Явно смутившись, он положил осколки стакана перед ней на столик и серьезно сказал:
— Не сердитесь на нас, сударыня, мы молоды!
Тереза кивнула ему головой и улыбнулась: «Он не знает, что я неспособна что-либо чувствовать…» — подумала она.
Она пошла по улице Ренн, затем по улице ла Гете дошла до авеню дю-Мен, заплуталась в каком-то бедном квартале и должна была на минуту остановиться передохнуть. Прямо перед собой на противоположном тротуаре она увидела мясную лавку — торговля кониной. Беременная женщина неопределенного возраста, в войлочных туфлях на босу ногу зорко следила за мясником, взвешивавшим для нее небольшой кусок лиловатого мяса. Тереза сейчас остановит проезжающее такси, назовет шоферу адрес хорошего ресторана. Люди, имеющие пристанище, не знают, что такое подлинное страдание. Тереза всегда имела пристанище.
«В Куполь!» — сказала она, садясь в автомобиль. Она считала себя разорившейся, но средства, которыми она еще располагала, показались бы баснословными женщине, уносящей с собой кусок лиловатого мяса, завернутого в желтую бумагу. Иметь возможность предаваться размышлениям о своем страдании, делать это не по принуждению, а исключительно по собственному желанию — не значит страдать. Роскошь срослась с нами. Даже страдание для нас — роскошь. Иметь возможность запереться где-нибудь в комнате и плакать… Деньги, в нужную минуту всегда имеющиеся в нашем распоряжении… Так думала Тереза, но это не помешало ей сказать официанту:
— У вас найдется бутылка хорошего шампанского? Так будьте добры… замороженного…
Домой Тереза вернулась поздно. Пока она искала в сумке ключ от двери, она услышала голос Анны:
— Кажется, это мадам… Да! Это она! Мадемуазель с шести часов ждет вас. Она пообедала… но без всякого аппетита.
Первым ощущением Терезы была радость: Анна больше не подозревает ее во лжи, теперь она не может сомневаться в том, что именно Мари провела эту ночь в квартире.
Не снимая ни шляпы, ни своего поношенного пальто, Тереза прошла в гостиную. При ее появлении Мари встала, у нее уже не было прежнего сияющего вида. Лицо ее осунулось, губы казались припухшими. Она подурнела. Прежде всего она сообщила матери, что послала телеграмму в Сен-Клер с извещением о том, что возвращается туда на следующий день.
— Тебе было необходимо повидать меня еще раз?
— Да, во-первых, из-за денег на билет: сегодня мне пришлось потратить часть той суммы, которую вы мне дали вчера…
Она умолкла в ожидании ответа, но Тереза молча смотрела на нее. Тогда девочка решилась:
— Я видела Жоржа, мы вместе позавтракали…
— Ну и что?
Мари не могла ответить. Из глаз ее брызнули слезы. Она вытащила из сумки уже влажный платочек.
— Но, детка, я не вижу, какое новое обстоятельство…
— Новое обстоятельство это то, что я заявила ему, что мне известна правда о вашей… о вашей истории. Это дало ему возможность говорить со мной вполне откровенно. Его родители все больше и больше восстают против нашего брака с тех пор, как они узнали… Да, это не столько из-за самой драмы, как из-за того образа жизни, который вы вели многие годы… Тем хуже, надо, чтобы вы знали! Это по вашей вине! Это из-за вас!
Тереза готова была подумать, что весь последний день был лишь сновидением, что сейчас она пробудилась от долгого сна, очнувшись на том же низеньком кресле, перед тем же беспощадным, озлобленным судьей. Она возразила:
— Но, Мари, этот «образ жизни», который, предположим, я действительно вела, — мне хотелось бы знать, в чем именно меня упрекают! — этот образ жизни был известен Фило, если я правильно тебя поняла, уже в те времена, когда они без всякой враждебности относились к возможности вашего брака.
Мари пустилась в туманные пояснения: в то время старик Фило считал, вероятно, Дескейру достаточно богатыми и мог закрывать глаза на все остальное. В настоящий момент обе семьи почти разорились, Фило нуждаются в деньгах.
— По его словам, отец не перестает ему твердить: «Женись на ком хочешь, только не на землячке из ланд!» Само собой разумеется, поводов мы даем ему больше, чем следует… Жорж, конечно, далек от каких-либо корыстных побуждений, но ведь он еще не завоевал себе положения. Ему необходимо кончить юридический факультет… И, кроме того, есть еще столько вещей, которые занимают его больше, чем я, которые интересуют его больше, чем я!
Она плакала, уткнувшись лицом в обивку кресла. Тереза спросила ее, что же она предполагает делать. Она вернется в Сен-Клер, вновь заживет жизнью, казавшейся ей невыносимой еще в те времена, когда у нее была надежда…
— Теперь же это — смерть.
Закрыв лицо согнутой рукой, Мари пробормотала какую-то фразу, слабо долетевшую до слуха Терезы.
— Что ты сейчас сказала?
Девочка сурово и вызывающе взглянула на мать:
— Я сказала, что в меня по крайней мере вы попадете без промаху.
— Ты тоже, Мари, ты тоже, каждый твой выстрел бьет прямо в цель.
Тереза, потирая руки, ходила из угла в угол. Она припомнила радостное появление Мари в этой же комнате сутки тому назад, припомнила все то, что внезапно расцвело в душе у нее самой, «чтобы вот к чему привести!» — подумала она, бросая взгляд на осунувшееся лицо дочери, подурневшее от бессонницы, отчаяния, ненависти. Да, Тереза заслужила эту ненависть. Она не станет лицемерить и винить судьбу. Если бы она не совершила непоправимого поступка, если бы даже она навсегда осталась мадам Бернар Дескейру, которая с декабря по июль сидела бы в маленькой гостиной у окна, выходящего на главную площадь Сен-Клера, а остальное время года в зале аржелузского дома, — дочь существовала бы для нее не больше, чем теперь; Тереза, в сущности, не была матерью — по непонятным причинам она лишена инстинкта, позволяющего другим женщинам сосредоточить свою жизнь на существах, которых они произвели на свет. Да, Тереза уверена, что, если бы ее жизнь протекала гладко, без всяких потрясений, она все равно в один прекрасный вечер поразилась бы так же сильно, как накануне, увидев вдруг женщину, которая была ее дочерью. Прожив с нею много лет под одной крышей, она неожиданно открыла бы Мари, чужую, незнакомую, со своими симпатиями и антипатиями, со всем тем, что постепенно сформировалось без ведома Терезы, что ее, Терезу, не интересовало, ее не касалось. «От этого ничто не изменилось бы». И все же перед лицом врага, присутствующего здесь, в этот вечер, только для того, чтобы потребовать от нее отчета, Тереза признает себя виновной, не приводит ни одного смягчающего вину обстоятельства. Ее преступление — первое звено в цепи других — заключалось, по-видимому, в том, что она связала свою жизнь с жизнью мужчины, родила ребенка, подчинилась общему закону, тогда как она рождена, чтобы жить вне закона.
Нет! И это еще не то! Если в ней отсутствует материнский инстинкт, то чем же объяснить эту радость вчера вечером, когда Мари переступила порог ее квартиры? Победой над семьей в оплату за прошлое поражение? Возможно… Но откуда же тогда это ощущение ужаса при виде страданий этого ребенка? Откуда это желание загладить вину? Она отдала бы жизнь… Но все было бы слишком просто, если бы достаточно было отдать жизнь… Никому не нужна наша жизнь, ничего нельзя купить ценою своей крови. Или же — кончить самоубийством, в таком случае следовало значительно раньше… и то еще неизвестно! Грех Терезы все равно тяготел бы над судьбой бедной Мари. Кому нужна эта ужасная зависимость? «После своей смерти я буду отравлять твое существование не меньше, чем сейчас… Что же дать тебе? Денег…»
Неожиданно прервав свое хождение из угла в угол, Тереза замерла на месте, устремив взгляд на дочь:
— Мари, мне пришла в голову одна мысль.
Девушка даже не подняла головы. Упершись локтями в колени, она всем телом раскачивалась из стороны в сторону.
— Послушай, у меня явилась одна мысль.
Тереза торопилась, нельзя предаваться раздумью, надо идти дальше, отрезать себе возможность отступления. Она начала:
— Девочка моя, если я тебя правильно поняла…
В сущности, хотя и грустно в этом признаться, все сводилось — как, увы, почти всегда в жизни — к материальному вопросу. С одной стороны, юноша, по-видимому, дорожит Мари, но создавшееся положение не позволяет ему пойти против воли отца. Ведь это так, не правда ли? (Мари слегка кивнула головой, теперь она с напряженным вниманием прислушивалась к словам матери.) А с другой — нуждаясь в значительных средствах, папаша Фило не желает, чтобы его сын женился на девушке из ланд. Мари опять кивнула, соглашаясь с тем, что расстановка сил в этой борьбе именно такова.
— Если бы я отказалась в твою пользу от всего, что мне причитается со стороны Ларок…
Да, конечно, вопрос шел о ландах: без малого о трех тысячах гектаров леса, частично вырубленного ее отцом, — этим и объяснялось то обстоятельство, что в настоящее время доходы Терезы так сильно сократились; но, как бы то ни было, это поместье с хорошими перспективами — питомник пятнадцатилетних отлично принявшихся сосновых саженцев, что, несмотря на кризис, представляет собой капитал в несколько миллионов франков. Если Фило срочно необходимы деньги, ничто не помешает заложить эти земли… Тереза не имеет точных цифр, она ждет их со дня надень, нуждаясь в деньгах на текущие расходы, она поручила своему нотариусу, без ведома мужа, сообщить ей эти цифры. Как бы то ни было, есть основания предполагать, что Фило таким путем могут получить нужные им средства. А при том положении, в каком находятся сейчас дела Фило, никто не поручится, что Жоржу где-нибудь в другом месте удастся подобрать себе башмачок по ноге, «как сказала бы твоя бабушка!»
Последнюю фразу Тереза произнесла почти весело, такое облегчение почувствовала она от одной мысли, что пожертвует всем, лично ей принадлежащим. Но Мари пожала плечами: это невозможно, ее мать не должна себя разорять, ведь ей необходимо что-то сохранить для себя, на что-то жить; она поддалась бессознательному непреодолимому побуждению; стоит ей десять минут подумать, и она откажется от своего намерения.
Тереза возразила, что давно уже об этом думает, что для нее будет несказанным счастьем хотя бы в незначительной мере исправить причиненное ею зло, что лично она удовлетворится ничтожной рентой — достаточной, чтобы вносить за себя плату в какое-нибудь скромное общежитие для престарелых. (Этот выход из положения она придумала только сейчас, в последнюю минуту, твердо решив, впрочем, скорее умереть с голоду в какой-нибудь жалкой конуре, чем жить в одном из таких заведений.) Она добавила, что уже давно во всем себе отказывает, что сердце ее все равно рано или поздно «сдаст» (врач от нее этого не скрывает) и что теперь ей нужен только угол, где она могла бы кончить свои дни.
Мари — теперь уже менее решительно — уверяла, что никогда не примет такой жертвы; к тому же необходимо, чтобы и отец этого захотел и, наконец, чтобы сами Фило соблазнились подобной сделкой. Но у Терезы на все был готов ответ: в ее брачном контракте оговорено условие, по которому она осталась полной собственницей принадлежащего ей имущества. Муж ничем не может помешать ее решению, которое в первую минуту, возможно, его поразит, но возражать против которого у него нет никаких оснований… Что же касается Фило…
— Послушай! Хочешь, чтобы я повидалась с твоим Жоржем? Чтобы я объяснила ему всю эту комбинацию?
— О! Нет! Главное, не появляйтесь… не показывайтесь… Простите, если я причиняю вам боль, но мне кажется…
Тереза покачала головой. Нет, Мари не причиняет ей боли — она больше не в состоянии что-либо чувствовать. Но именно потому, что этот юноша, по-видимому, имеет о ней какое-то превратное представление, неплохо было бы, чтобы он увидел ее такою, какова она в действительности.
— Мне кажется, что я одна способна его убедить, мой план вдвойне выгоден, так как разбивает оба возражения папаши Фило: он получает необходимый ему капитал и освобождается от… (мгновение она колебалась) от Терезы Дескейру. Понимаешь? Я стушевываюсь, я исчезаю, никто и не заметит моей смерти.
— Нет, — запротестовала Мари. — Об этом не может быть и речи! Меня, сознаюсь, отчасти соблазняет… если ваше свидание с Жоржем состоится, то что вы сможете мне сказать, как, по вашему мнению, он ко мне относится… О! Само собой разумеется, он будет крайне осторожен, он себя не выдаст… Но вы человек опытный… Понимаете, что я хочу сказать?.. Но что с вами, мама, вы больны?
Тереза открыла глаза, слабо улыбнулась:
— Пустое… Я весь день была на ногах… Не беспокойся. Мне надо что-нибудь съесть. Анна мне это устроит. Тебе тоже необходимо отдохнуть. Подумай о том, что я тебе сказала.
— Как мило с вашей стороны, Анна, что вы помогли мне раздеться… Приготовили грелку… Как хорошо лечь! Взбейте немного подушки… Вот так. Теперь опустите абажур. Вы остудили бульон?
Анна протянула чашку.
— Как вы находите бульон, мадам?.. Мадемуазель уже легла.
— Тогда, пожалуйста, не шумите в кухне. Сейчас еще только десять часов. Вы уходите сегодня вечером?
Анна отрицательно покачала головой: сегодня вечером она будет шить свое приданое.
— В таком случае, если вы не возражаете… О! Всего на четверть часика!.. Приходите сюда с работой… Мы не будем разговаривать. Но мне так приятно будет ваше присутствие. Я смогу лучше отдохнуть.
— Если это доставит мадам удовольствие…
Лампа отбрасывала на потолок светлый круг, как в детстве Терезы, когда она бывала больна. Тогда, как и в этот вечер, она при свете лампы следила за неловкими движениями грубых рук, подрубавших простой холст.
Тереза знала одну тайну: под толстым слоем наших поступков в нас живет нетронутая, неизменившаяся душа ребенка, эта душа ускользает от власти времени. В сорок пять лет Тереза снова становится той маленькой девочкой, которую при наступлении сумерек ободряет, успокаивает присутствие нянюшки.
— Анна, что вы подумали сегодня утром?
Служанка вздрогнула:
— Сегодня утром?
— Да, когда вы увидели смятую постель, беспорядок, бутылку шампанского?
— Ничего не подумала, мадам.
— Вам наговорили обо мне много скверного? Признайтесь! Консьержка… мясник…
— О! Что касается мясника, то это неверно, мадам! А кроме того, я-то ведь знаю, что это неправда. Я так и говорю: если кто может что-нибудь сказать, так это только я, не так ли?
Тереза ничего не ответила. Она сдерживала дыхание, чувствуя, что ее душат слезы. Анна не должна этого заметить. Но как можно плакать и не задыхаться, не всхлипывать, не захлебываться слезами (ведь плачет в нас всегда ребенок — как он один умеет это делать, — десять ли нам лет или пятьдесят…).
— Ах, мадам! Мадам!
— Ничего, ничего, Анна…
— Это мадемуазель вас так расстроила!
— Все уже хорошо, видите? Сейчас я буду спать. Побудьте со мной еще несколько минут.
Она закрыла глаза и уже через минуту сказала служанке, что та может уходить. Сложив работу, Анна встала:
— Спокойной ночи, мадам.
Тереза ее окликнула:
— Вы не поцелуете меня?
— О! С удовольствием, конечно…
Анна вытерла губы.
IV
— Конечно, моя девочка, я же не так глупа! Никоим образом не придет ему в голову, что я явилась к нему, чтобы оказывать на него какое-то давление; я даже не стану заводить с ним разговор на эту тему… Дело сводится лишь к тому, чтобы он, если ты выйдешь замуж, был в курсе моих намерений… Думаю, что наше свидание продлится всего несколько минут…
— Тем не менее, если он даст вам повод, заставьте его высказаться, попытайтесь узнать…
Мари с изумлением смотрит на мать, которая, стоя перед зеркалом у камина, повязывает на глаза коротенькую вуалетку. Тереза только чуть-чуть подкрасила щеки и губы, и неожиданно стала совсем другой женщиной, словно шаг, на который она сейчас решается, возродил в ней желание вернуться к людям. Она снова нашла для себя какую-то роль, и все забытые жесты — как у женщины, возвращающейся на сцену, — ожили в ее памяти. Мари тоже обрела прежний блеск; глаза на ее лице, посвежевшем после сна, сияли надеждой.
— Может быть, вам не удастся его застать… Хотя нет! Он всегда завтракает у себя в отеле, ведь он платит за полный пансион… Если он еще не вернулся, подождите его…
— Хорошо, хорошо, детка! Не беспокойся.
То же солнце, что и накануне, тот же легкий туман. Тереза пешком дойдет до отеля Жоржа Фило, на бульваре Монпарнас, близ вокзала. О том, что она скажет, она не думает. Сейчас ее уже интересуют и эти люди, работающие в канаве, вырытой на середине мостовой, и этот подросток с тяжело нагруженной повозкой, и даже эта женщина, которая стоит, прислонившись к стене, но не протягивает руки за подаянием. Тереза твердо решила отказаться от своего имущества — она уже переживала радость отречения. Пока еще это доставляет ей удовольствие. Невозможно представить себе, какой будет ее жизнь, когда у нее останется ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Но она не испытывает ни малейшего страха. «Вот увидишь, когда очутишься в таком положении…» — повторяет она, безуспешно стараясь напугать себя. Может быть, она не верит, что в один прекрасный день ей придется выполнить свое обещание. Состоится ли еще эта свадьба! К тому же, даже в том случае, если семья согласится на ее отказ от имущества, Бернар Дескейру, безусловно, позаботится о том, чтобы она нив чем не нуждалась. Но жить ей, конечно, придется гораздо скромнее. Она попыталась представить себе ожидающие ее лишения, но это не омрачило радости, которую она чувствовала при мысли о предстоящем самопожертвовании.
По улице Вожирар Тереза поднялась к бульвару Монпарнас и, пройдя левой стороной, дошла до вокзала. Она разглядывала грязные, старые дома, читала вывески: «Отель де Нант», «Отель дю Шмен де фер де л'Уест» — ведь Мари не знала точного адреса.
За одной из застекленных дверей, около стола, за которым сидела управляющая отелем, стояла группа мужчин. После минутного колебания Тереза сделала несколько шагов по направлению к лестнице. Крайне неопрятный коридорный в грязной рубашке с засученными рукавами, поставив на ступеньку лестницы ящик, наполненный сапожными щетками, повернул к Терезе свою золотушную физиономию: «Месье Фило? На четвертом, комната 83». И в ответ на просьбу Терезы доложить месье Фило, что с ним хочет поговорить дама, добавил:
— Да он, кажется, у себя; идите прямо.
Повторив свою просьбу, она сунула ему в руку монету. Ехидно усмехнувшись, он оглядел ее с ног до головы.
— Значит, имени я ему не говорю? А просто скажу: «одна дама».
Медленно поднималась она вслед за ним по крутой лестнице, на которой становилось все темнее и темнее. Кухонные запахи, встретившие ее внизу, постепенно сменялись затхлой вонью одеколона и уборных. Кто-то крикнул:
— Ну, конечно, пускай идет!
Кто-то нагнулся над перилами. До нее донеслось: «Что это еще за церемонии?» Очевидно, этот высокий молодой человек, стоящий там наверху, на площадке пятого этажа, ожидал увидеть другую женщину… При виде Терезы он остолбенел:
— Да, мадам, меня зовут Жорж Фило.
Открытая в его комнату дверь освещала площадку, но сам он стоял спиной к свету. Она заметила лишь, что он большого роста, сутуловат, что у него низкий лоб, взъерошенные черные волосы, что он без пиджака. На нем был свитер. Ворот голубой рубашки был расстегнут. Тереза поспешила заверить его, что ей надо сказать ему лишь несколько слов, дать одну справку. Не дожидаясь приглашения, она вошла в комнату и, повернувшись лицом к юноше, намеренно оставившему дверь открытой, назвала свое имя.
За долгие годы она успела заметить, как при одном упоминании этого имени на лицах людей из Сен-Клера или Аржелуза неизменно появляется одно и то же: жадное любопытство. Такое же выражение было сейчас и на этом длинном, костлявом, наклоненном к ней лице. Но уловив в нем также какое-то беспокойство и недоверие, Тереза прежде всего решила их рассеять:
— Пожалуйста, не волнуйтесь, я пришла вовсе не для того, чтобы вмешиваться вдела, которые меня совершенно не касаются. Да и зашла я, — поспешно добавила она, — на одну минуту. Но на тот случай, если вы с Мари когда-нибудь придете к определенному решению, я должна вам сообщить…
Вновь обретя полную непринужденность, она говорила совершенно спокойно. И хотя слова ее были вполне вразумительны, у нее создалось впечатление, что они не доходят до сознания юноши; продолжая говорить, она приглядывалась к нему, старалась уяснить себе, отчего он кажется ей таким странным. Она заметила, что у него слегка раскосые глаза; этот недостаток придавал его, в общем, довольно обычной физиономии своеобразное обаяние, а взгляду какое-то мутное, как бы пьяное выражение. Когда Тереза сказала ему, без излишней скромности, но и не подчеркивая его бестактности: «Вы разрешите мне сесть?» — он, неловко извинившись, придвинул к ней кресло, предварительно убрав с него пальто, грязную рубашку и груду граммофонных пластинок, наваленных в беспорядке, затем, несколько раз проведя рукой по щекам и подбородку, он попросил извинения, что небрит. Закрыв окно, он сказал:
— Иначе ничего не слышно.
— Вероятно, ужасно жить так близко от вокзала…
— О! Я не боюсь шума.
Сев на кровать против Терезы, он теперь внимательно ее слушал.
— Вы, конечно, понимаете, что тут речь не идет о нажиме на вас или о чем-либо подобном… Мой муж вообще не сообщал мне о своих намерениях относительно Мари, а я живу слишком далеко от дочери, чтобы иметь какое-либо суждение…
Тереза сама не оставалась равнодушной к определенным интонациям своего голоса, находить которые по желанию она не могла: этот глуховатый тон, слегка хриплый на низких нотах. Она слышала свой голос, когда сказала:
— Дар, который я собираюсь сделать Мари, будет иметь последствием мое немедленное и полное исчезновение.
Движением руки она подчеркнула значение последней фразы, произнесенной ею самым обычным тоном. Она не била на эффект, не изображала из себя жертвы. Жорж Фило принялся уверять ее, «что материальный вопрос для него никакой роли не играет». Развязно и в то же время как-то смущаясь, он добавил:
— Мы уже не похожи на наших родителей, вся жизнь которых вращалась вокруг этих вопросов о приданых, наследствах, завещаниях. С кризисом все это полетело к чертям: нас это больше не интересует.
— Я убеждена в этом. Но ваш отец имеет право знать мои намерения; если вы считаете это необходимым, прошу вас сообщить ему.
Тереза встала. Жорж Фило, казалось, колебался:
— Мари у вас?
Он в раздумье смотрел на Терезу. После того как было закрыто окно, в комнате запахло заношенным платьем, табаком, мылом. И так как в это время спряталось солнце, комната сделалась вдруг отвратительной. Тереза почувствовала, что наступил удобный момент попытать счастье в пользу Мари.
— Она уезжает сегодня вечером. Не хотите ли что-нибудь ей передать?
— Сударыня, мне хотелось бы, чтобы вы поняли…
Тереза тотчас же снова села и стала смотреть на него с тем выражением, какое она умела себе придавать, — выражением, в котором наряду с полным отсутствием каких-либо эгоистических целей можно было прочесть страстное внимание к тому, что поверял ей собеседник. Он сказал, что ему двадцать два года, что брак его пугает. Если бы ему так уж необходимо было жениться, он, конечно, остановил бы свой выбор на Мари…
— Ах, — прервала его Тереза, — вы позволите повторить ей эти слова? Это вас ни к чему не обязывает…
Он утверждает, что это не простая отговорка с его стороны.
Он действительно с нежностью думает о Мари. С нею связаны все его детские и юношеские воспоминания. Без Мари ему нестерпимо было бы проводить каникулы в Сен-Клере.
— Я люблю и ненавижу ланды… А вы?
— Я?
Он покраснел, вспомнив, кто эта женщина и что должно возникать в ее мозгу при одном названии Сен-Клер. Но он никак не мог отождествить Терезу Дескейру с тем существом, чей задумчивый взгляд следил сейчас за ним из-под коротенькой вуалетки.
— Я не хочу сказать, что я никогда не женюсь, — продолжал он после некоторой паузы. — Но в данное время… это невозможно! Прежде всего — учеба, вечные экзамены…
— Это ничего не значило бы, — прервала его Тереза. — Наоборот, женитьба отвлекает от развлечений, от рассеянного образа жизни. Ноя понимаю, что в вашем возрасте вы колеблетесь.
— Не правда ли, сударыня? Ведь мне только двадцать два года.
Она не сводила глаз с этого худого, длинного лица, черты которого, хотя и резко выраженные, казались незаконченными, а карие раскосые глаза ни на чем не могли сосредоточиться, один лишь большой рот на этом лице был четко очерчен.
— Вам скорее следовало бы сказать: мне уже двадцать два года.
Он огорченно спросил:
— Вы находите, что я не так молод?
— О! Знаете ли! Раз путешествие началось, это равносильно тому, что вы уже доехали… Разве вы не находите?
Да, он это отлично понимает.
— Представьте себе, что в тот день, когда мне исполнилось двадцать лет, — вы не поверите! — так вот, я плакал…
— Вам было от чего плакать, — спокойно сказала Тереза.
Он слушал ее: она говорила, что молодость не начало чего-то, а, наоборот, — агония…
— Впрочем, — добавила она, поднося к глазам граммофонную пластинку, чтобы прочесть ее название, — ведь вы любите музыку… только музыка сумела передать это: вот смотрите, Шуман…
— Вполне возможно, что именно это я и ищу в музыке. Как, по-вашему, многим ли в молодости знакомо подобное тяжелое чувство?
И так как Тереза ответила, что ему это должно быть известно лучше, чем ей, он поспешно добавил:
— У меня был друг, который покончил с собой в июле этого года. Нельзя было установить ни одной причины, ни одной из тех причин, которыми обыкновенно объясняют самоубийство. Я хорошо знал его: здесь не было ни любовной драмы, ни какого-либо тайного порока… Может быть, наркотики. Но быть может, — я подумал об этом, слушая вас, — чувство, похожее на то, о чем вы говорили… Он решил приблизить конец чего-то, решил раз навсегда с этим покончить. Подобная мысль никогда раньше не приходила мне в голову…
Тереза встала.
— Мари ждет моего возвращения, да и вас я задерживаю…
Голос ее стал теперь совсем иным, тон почти официальным:
— Значит, решено, в настоящее время вас страшит сам брак. Вы разрешаете мне это ей сказать? Разрешаете добавить, что ваше чувство к ней осталось неизменным?
Он не ответил на ее вопрос.
— Странно, — сказал он. — Я совсем забыл, кто вы. Я не представлял себе… Мари меня не предупредила… Она не умеет характеризовать людей…
Минуту они хранили молчание, чтобы прервать его, Жорж спросил, нельзя ли ему прийти попрощаться с Мари. Очевидно, она уезжает с десятичасовым?
— Почему бы вам не прийти пообедать с нами сегодня вечером? — вдруг, неожиданно для себя самой, спросила Тереза. — Затем вы сможете проводить Мари на вокзал…
Казалось, он не удивился и даже с некоторой горячностью принял ее предложение. Они уговорились, что он придет к шести часам. В эту минуту слуга распахнул дверь, все время остававшуюся приоткрытой.
— Мадам Гарсен пришла… Я сказал ей, что у вас уже кто-то есть. Она ждет внизу.
Обернувшись к Терезе, Жорж Фило сказал с довольным видом:
— Вы знаете, мадам Октав Гарсен… Гарсены из Лабюрт… Вы даже, кажется, дальние родственники? Они живут теперь в Париже…
— Я знала ее свекровь, — сказала Тереза. — Но не заставляйте же ее так долго ждать… Или, быть может, она у вас свой человек?
Он запротестовал не без некоторого самодовольства:
— О нет, сударыня! Вы только, пожалуйста, не подумайте…
В вестибюле отеля Тереза быстрым взглядом окинула высокую молодую женщину. Было уже около часа дня. Тереза шла, с восторгом думая о той радости, которую она сейчас доставит Мари. С каким нетерпением девочка, вероятно, ждет ее! Не следует ее слишком обнадеживать… Однако, увидев, что Мари поджидает ее на лестнице, Тереза не удержалась, чтобы не крикнуть:
— Угадай, кто сегодня обедает у нас?
Не решаясь произнести имя, Мари только улыбалась.
— Он придет к шести часам и проводит тебя на вокзал…
Мари увлекла мать за собой в гостиную и, не давая ей снять шляпу, сжала ее в своих объятиях:
— Какая вы — добрая! И какая я — злая!
Тереза решительно отстранилась:
— Нет, нет, я совсем не добрая.
В сопровождении дочери она прошла в столовую.
— Вы должны мне все подробно рассказать, что вы говорили и что он вам отвечал… и потом ваше впечатление…
— Не горячись! Не горячись!
Радостное чувство от сознания, что она доставила Мари удовольствие, сразу исчезло у Терезы. Не следовало давать Мари слишком много надежды, твердила она себе, не следовало ее разочаровывать.
— Да, он придет сегодня обедать… это решено… Но прежде всего он не хочет брать на себя никаких обязательств… Это надо считать раз навсегда установленным. На последнем он особенно настаивал…
— О!
Устремив глаза на мать, Мари, наливавшая воду в стакан, продолжала лить ее, несмотря на то что стакан был уже полон.
— Ты льешь на скатерть, дорогая… Главное, не мучь себя. Выразился он совершенно точно: его пугает сам брак. Он не решается жениться. В двадцать два года это вполне естественно! Но чувство, которое он питает к тебе, здесь ни при чем.
На минуту они замолчали. Мари вытирала пролитую воду. Вдруг она отодвинула от себя тарелку.
— Нет, я не могу куска проглотить. Значит, он вам сказал, что его чувство ко мне… Он так и сказал «чувство»?
Терезе так кажется. Во всяком случае, он не говорил о «любви». Она уже знала, что предвещает это подергиванье уголков губ у Мари, и поспешила добавить, что «чувство» значит любовь. Мари продолжала настаивать: что же он еще говорил во время этого длительного свидания?
— Да разве я все припомню? Он говорил, что с тобою связаны его воспоминания о летних каникулах, что ты многое значишь в его жизни…
— А еще?
Положив локти на стол и подперев подбородок ладонями, Мари не спускала глаз с матери.
— Да право же, не знаю, девочка.
— Но ведь вы почти полчаса провели вместе…
— Мне помнится, мы говорили о музыке.
Лицо Мари приняло страдальческое выражение. Она прошептала:
— Он без ума от музыки.
— А ты ее ненавидишь… как все Дескейру… Нельзя сказать, чтобы это было удачно.
Мари возразила, что по теперешним временам совершенно излишне уметь играть на рояле.
— Сам Жорж говорит, что, если бы я играла, мое исполнение все равно не смогло бы сравниться с пластинками, которые у него имеются.
Тереза заметила, что об этом все же приходится пожалеть.
— Почему же? — настаивала Мари. — Если он может слушать любую музыку, какую бы ни захотел.
— Это-то так, моя дорогая… Хотя музыканту очень хорошо иметь жену, умеющую читать ноты с листа… Но не в этом дело. Самое важное, если хочешь знать мое мнение, подобное несходство вкусов заключает в себе… то, что разъединяет женщину, которая ненавидит музыку, и мужчину, который не может без нее обойтись.
Тереза говорила тихо, и в голосе ее слышались грусть и беспокойство. Мари с жаром ответила:
— Я уверена, что буду со временем любить все, что он любит. За это я спокойна. Вы не думаете, что это возможно? Достаточно, чтобы он потребовал…
Тереза покачала головой:
— Будь покойна, этого он не потребует… В конце концов, если вам суждено когда-нибудь жить вместе, может случиться наоборот — он будет счастлив, имея эту возможность бегства… Да, тут же возле него окажется страна, куда ты не сможешь последовать за ним. То женщину, то мужчину музыка освобождает одного от другого… И очень хорошо, что это так. Впрочем, если они даже оба музыканты, бывает, что одно и то же восхищение разъединяет их. Музыка способна объединить лишь тех, кто любит друг друга одной и той же любовью — любовью одного и того же свойства, в одно и то же время.
— Но ведь мы же любим друг друга, мама. Он сам говорил вам о своей любви… или, как он выразился, о своем «чувстве»…
Тереза встала и быстрыми шагами направилась в гостиную. Мари пошла за ней, продолжая твердить свое:
— А сколько раз он повторял мне, что я одна для него существую, что я единственная женщина… Отчего вы улыбаетесь?
Тереза сжала губы: «Я не скажу ей об этой Гарсен», — повторила она про себя. Мари она ответила, что вовсе не улыбается, что, напротив, это — болезненная гримаса, неожиданно разыгравшаяся невралгия лица… Она сейчас ляжет, попробует уснуть. Позаботиться об обеде придется Мари, пусть она не забудет о шампанском. Надо заказать мороженое. Вероятно, она знает вкусы Жоржа?
— Это тебя развлечет, моя дорогая.
Лежа в постели, Тереза слышала стук передвигаемой посуды. День был сумрачный: мебель выглядела тускло. Обычная жизнь, с ее автомобилями, грузовиками, скрипом тормозов, шла своим чередом. Пронзительные крики, доносившиеся со школьного двора, свидетельствовали о том, что человечество не перестает воспроизводиться. Звучал рожок плетельщика соломенных стульев. «Не надо, чтобы Мари питала слишком большие надежды… но и разрушать ее счастья я также не должна. Быть может, я хочу разрушить ее счастье? Это было бы хуже того, что я когда-то сделала. Тогда у меня были смягчающие вину обстоятельства. Будучи заживо погребенной, я лишь приподняла камень, под которым задыхалась. Но теперь — на что же такое во мне я постоянно наталкиваюсь? А между тем какие у меня всегда добрые намерения! (И она беззвучно рассмеялась.) Мои признания в тот вечер, когда я хотела заставить Мари уехать обратно к отцу… Я превзошла себя самое, я наслаждалась этой победой над собой, хотя страдания мои были вполне реальны… Но особенно сильную радость испытала я вчера, когда решила отказаться от своего имущества. Я парила на высоте тысячи метров над своим подлинным «я». И всегда так: я подымаюсь все выше, выше, выше… и вдруг соскальзываю и вновь нахожу себя — себя, враждебную и бездушную, себя, подлинную, ту, кем я являюсь, когда не делаю над собой никаких усилий, — вот с чем я сталкиваюсь, когда сталкиваюсь сама с собой».
Она поправила подушку: «Нет, нет… я не так ужасна. Я требую от других, чтобы они смотрели на все открытыми глазами. В Мари меня раздражает то, что она так поддается иллюзиям. Я всегда страдала манией срывать с глаз повязки и не успокаивалась до тех пор, пока у всех вокруг меня не открывались глаза. Надо, чтобы другие приходили в такое же отчаяние, как и я. Мне непонятно, как можно не быть в отчаянии. Разве из чувства злобы хочется мне крикнуть Мари: ведь ты же видишь, что он тебя не любит, что он никогда тебя не полюбит, по крайней мере той любовью, какой любишь его ты? Я хотела бы, чтобы она поняла, какое расстояние отделяет будущую аржелузскую кумушку от столь пытливого, столь неудовлетворенного юноши. Какая смелость претендовать на подчинение себе человека и всей его судьбы! Я скажу ей об этом. Я скажу ей, что даже в том случае, если она когда-нибудь выйдет за него замуж, жизнь этого человека сложится таким образом, что доступ в эту жизнь для нее будет закрыт; если только в конце концов она его не сломит, — тогда он упадет к ее ногам, но мертвый… Нет, — вполголоса добавила она, — этого я ей не скажу».
День был на исходе. Перекликались автомобили на перекрестках улиц. Тереза слышала, как на бульваре Сен-Жермен звенят трамваи; по временам, когда все затихало, чирикала какая-то птичка, затем смолкала. Тереза останется здесь, почти не будет шевелиться, будто малейшее ее движение может причинить боль Мари. Стараться молчать, не говорить ничего, кроме самых обычных слов. Когда Мари вернулась и постучала в дверь ее комнаты, Тереза крикнула, что чувствует себя лучше, что выйдет к обеду, но до того времени хочет отдохнуть.
Вскоре после шести часов она услышала звонок в передней, затем мужской голос, прерываемый нервным смехом Мари. Временами Жорж и Мари говорили вместе, и тогда они неожиданно понижали голос: «Очевидно, они сейчас говорят обо мне…» — думала Тереза. Наступала тишина, и могло показаться, что в гостиной никого нет. О! Между ними уже существует определенное соглашение: сердца разъединенные вызывают в телах жалость, тела переходят через пропасть, разъединяющую эти сердца; тела соединяются над этой пропастью, чтобы замаскировать, чтобы скрыть ее. Вероятно, он положил голову на плечо Мари, и все проблемы получили свое разрешение, и все возникшие вопросы могли с успехом быть отложены.
Они умышленно передвинули кресло, громко произнесли несколько незначительных фраз, кашлянули. Из кухни доносились запахи приготовляемых кушаний. Тереза зажгла свет и, встав с кровати, намазала лицо кремом. Этот юноша видел ее только в шляпе. Тереза умела причесываться так, чтобы волосы закрывали часть лба. Пока нагревались щипцы для завивки, она надела платье из черного марокена с голубой косынкой, прикрывающей шею. Она не хотела, чтобы он увидел ее подлинное лицо, не хотела, чтобы он ее разгадал. Внешность ее будет такой же лживой, как и ее слова. Она будет говорить как можно меньше, она постарается стушеваться. Возможно, что это будет нелегко: есть люди, с которыми говоришь независимо оттого, хочешь ли ты или нет. Сегодня утром их разговор мог длиться бесконечно. Но сегодня вечером с ними будет Мари. Впрочем, тотчас же по окончании обеда дети покинут Терезу. Поезд идет в десять. Посредничество ее будет кончено. Все это крайне занимало ее последние два дня: эта исповедь перед дочерью, предложение пожертвовать своим состоянием, переговоры с юношей. Она красиво сыграла свою роль, она любовалась своими жестами. Сегодня вечером она вернется к действительности, погрузится в привычную для себя пустоту.
V
Войдя в гостиную, Тереза сразу поняла, что своим появлением она помешала разговору, который, видимо, шел о ней. Ей пришлось первой нарушить наступившее молчание. За столом выручили воспоминания, связанные с Аржелузом и Сен-Клером. Тереза называла имена людей, сыновей которых знал Жорж Фило. Все время они говорили о двух разных поколениях: «Да, верно, у нее может быть сын вашего возраста… Нет, Дегилем, о котором я говорю, является, очевидно, дядей того, которого знаете вы…»
— Самое грустное в Аржелузе, — сказал Жорж, — то, что деревья там живут не дольше, чем люди: поколения сосен исчезают так же быстро, как и поколения людей. Пейзаж беспрестанно меняется. Вы не узнали бы Аржелуза времен вашего детства. Самые старые деревья в округе вырублены. Там, где недавно был сплошной лес, теперь совершенно открытая равнина.
— В мое время, — сказала Тереза, — владельцы гордились своими соснами и скорее оставляли их гнить на корню, чем соглашались их рубить… Ноя никогда не вернусь туда, — добавила она.
Мари и Жорж молча смотрели, как она пьет.
— Если бы я туда вернулась, — снова начала Тереза, — я, конечно, узнала бы песок, грубый коричневый песчаник, быстрые ледяные ручьи, запах смолы и болота, топот овечьих стад в ответ на крики пастуха.
— Можно подумать, что вы любили Аржелуз.
— Любила? Нет, но я там столько выстрадала, что одно другого стоит.
Он не знал, что возразить. По мере того как приближалось время отъезда, Мари не спускала с него глаз, жадно в него всматриваясь, — как стала бы пить, предчувствуя жажду и зная, что источник влаги иссякнет. Он попросил разрешения закурить.
— Вы поедете домой на рождественские каникулы? — спросила Тереза. — Меньше чем через три месяца вы снова увидитесь.
— Три месяца! — повторила Мари.
Она наклонилась над столом, и упавшие на лицо волосы обнажили ее некрасивые уши. Не переставая крутить кольцо на пальце левой руки, она улыбалась Жоржу. Тереза нашла, «что его внешность и манеры оставляют желать лучшего». Помада плохо сдерживала вихры непокорных волос, которые топорщились, придавая ему вид галчонка. Несколько раз Тереза перехватывала взгляд его раскосых глаз, который он устремлял на нее и тотчас же отводил. Ел он не спеша, хотя на тарелках обеих женщин уже давно ничего не было. Он ни отчего не отказывался, долго возился с сыром и фруктами и осушал свой бокал шампанского, как только его наполняли.
— Пора, моя дорогая, — сказала Тереза. — Месье Фило снесет вниз твой чемодан.
В момент расставания Мари крепко обняла мать. Тереза с несколько излишней поспешностью освободилась из ее объятий.
— Будьте благоразумны, — сказала она.
И вот опять она осталась одна. Какая-то тревога, какое-то приятное возбуждение еще владели ею. Она взяла книгу, но не могла читать. «Я ничего не разрушила, ничего не испортила, — говорила она себе. — В конечном счете я даже помогла Мари, и если этот брак состоится…» Она подумала о своем отказе от имущества, подумала на этот раз без всякого удовольствия, пожалуй, даже не без некоторого беспокойства. Сделанный ею красивый жест уже не льстил ее самолюбию. Сейчас она ясно видела, как эта жертва отразится на всей ее жизни. Она попыталась успокоить себя: «Они на это не согласятся… или же станут выплачивать мне ренту, вполне достаточную для жизни, и это будет лучше той неуверенности, в какой я живу в настоящее время… Одним словом, это может оказаться для меня даже выгодным…» Она рассмеялась: «Ни один хороший поступок даром не пропадает». Тереза только слегка подрумянилась и потому очень удивилась, увидев в зеркале свое раскрасневшееся лицо. Она выпила немного шампанского: очевидно, этим все и объяснялось. Отчаяние, владеющее нами, ослабляет свои тиски чаще всего по какой-нибудь незначительной причине физического порядка: ночь спокойного сна, стакан вина… Отчаяние притворяется, что оно ушло, в то время как оно только отступило на несколько шагов; мы знаем, что оно вернется, но, как бы то ни было, сейчас оно не с нами; мир — хорош; может быть, нам предстоит жить еще долгие годы? Пока человек жив, никакое его одиночество не может считаться окончательным. Мы не знаем, кого мы можем встретить сегодня вечером или завтра: столько человеческих существ встречается на нашем пути! В любую минуту может зародиться искра и возникнуть ток. И вот сегодня вечером Тереза находится под впечатлением радости — она не чувствует своего больного сердца. «Может быть, я еще не умру, — думает она, — может быть, я еще буду жить».
Открыв окно, она наклонилась над слабо освещенной, но еще шумной улицей. В магазинах с грохотом опускали железные ставни. Черные лимузины скользили по асфальту мостовой и отрывисто лаяли на перекрестках. Скрип автобусного тормоза заглушал все остальные звуки, но не тот, который она скорее угадала, чем услышала, — звук отворяемой наружной двери; затем из передней донеслись голоса Анны и какого-то мужчины. Тереза закрыла окно и увидела Жоржа Фило, стоящего перед ней с непокрытой головой. Пальто он не снял. В это мгновение она почувствовала боль в сердце. При виде ее судорожно сжатых челюстей и сурового выражения лица, вызванного страданием, юноша решил, что она сердится на него за то, что он вернулся.
— Вы что-нибудь забыли?
Он пробормотал, что хочет только сообщить ей о Мари: все обошлось хорошо, место он ей нашел. Тереза села, наклонилась вперед, стараясь успокоить боль, и замерла подобно тем насекомым, которые притворяются мертвыми, когда на них нападают. Задыхающимся голосом она предложила ему сесть. Тогда он понял, что она, может быть, не сердится, что она страдает.
— Простое недомогание… Сейчас мне уже лучше. Прошу вас обождать несколько минут…
Было слышно лишь тиканье стенных часов да звуки радио из соседней квартиры. Он старался не смотреть на это мертвое лицо. Но взоры его беспрестанно возвращались к этому высокому лбу, почти без морщин; он не мог не смотреть на эти опущенные веки, на синие круги под глазами, на этот рот, не только закрытый, а как бы с усилием сжатый. И вдруг он заметил, что она тоже наблюдает за ним из-под опущенных ресниц. Он покраснел и слегка повернул голову. Она выпрямилась:
— Мне уже лучше. Расскажите о Мари. Она уехала довольная?
Да, ему так казалось.
— Что она вам говорила?
Он не решился ответить: «Мы главным образом говорили о вас…» Но не представлялся ли ему сейчас удобный случай получить от нее разъяснение по крайне интересующему его вопросу? Как он говорил Мари, для него ничего не значило, что ее мать в один прекрасный день почувствовала желание во что бы то ни стало стать свободной… Невероятной только казалась ему версия обывателей Сен-Клера. Как представить себе, что женщина, чье страдальческое лицо в эту минуту обращено к нему, могла день за днем подливать яд малыми дозами, могла поддерживать чью-то длительную агонию? Мари тоже не считала это возможным. Правда, снимая с матери часть вины, она действовала в интересах своей любви: только это было для нее важно. Но она не знала, что ответить Жоржу, поразившемуся, отчего она не продолжала дальше своего допроса: «Ваша мать соглашалась отвечать на ваши вопросы, и вы этим не воспользовались! Конечно, это тяжело, но нет ничего хуже сомнений. На вашем месте я не успокоился бы до тех пор…» Она только сказала ему, что он теперь познакомился с Терезой Дескейру и, следовательно, сам может продолжать это дознание. Он запротестовал: «О! Меня все это интересует только из-за вас». Эти слова доставили ей огромную радость, и сейчас в поезде она, вероятно, повторяет их про себя. Мари не знала, что Жорж солгал: тайна Терезы вызывала в нем живейший интерес, Мари же здесь была ни при чем. Не о Мари думал он, когда поднимался по этой лестнице, звонил у дверей этой квартиры. Но когда Тереза стала настаивать: «Вы не хотите сказать, о чем вы с ней разговаривали?» — он уклонился от ответа. «О чем можно разговаривать с молоденькой девушкой?» — повторял он пренебрежительно. Тереза улыбнулась. «Главное, — сказала она, — чтобы девочка уехала довольная». Он высказал опасение, что дал Мари повод к слишком большим надеждам, он так боится, чтобы впоследствии ее не постигло разочарование… Наблюдая за Терезой, он видел, что его слова не раздражали ее.
— Мари не рассчитывает, что этот вопрос решится в ближайшем будущем. Это важно уже потому, что таким образом можно выиграть время. Что бы вы ни решили, вы всегда успеете ее подготовить. Этим летом у нее будет возможность видеться с вами ежедневно. Она может попытать свое счастье.
Его радовало, что Тереза говорит так беспристрастно: по-видимому, она действительно не такая мать, как другие. Она все понимает.
— Впрочем, я уверена, — добавила Тереза, — что шансы Мари не так уж малы.
Не зная, что сказать, он улыбнулся и пожал плечами.
— Как вы проводите лето в Сен-Клере? — продолжала Тереза. — В мое время…
— Теперь нас, молодежь, выручает одно: мельница… Целыми днями мы купаемся, а после воды — солнце!
Тереза воскликнула: «Как? Даже в Сен-Клере?» Решив, что ее встревожили и шокировали его слова, он запротестовал:
— Не беспокойтесь, мы ведем себя вполне прилично!
Тереза хотела было его прервать: «Какое мне, собственно говоря, до этого дело!» — но вдруг вспомнила, что это касается и ее дочери. Глядя на Терезу и наивно улыбаясь, Жорж с предупредительностью продолжал описывать эти купанья, отчасти напоминавшие времяпрепровождение на берегу моря… В ледяной неподвижной воде у плотины явственнее видны тела купальщиков, и когда, выйдя из воды, они ложились на сухую траву или на откос, тень от листьев темными пятнами падала на кожу, делая ее более живой, чем на пляжах, где нет деревьев.
— Мы с Мари отлично чувствуем себя вместе. Мы можем часами, не говоря ни слова, лежать рядом. Затем опять бросаемся в воду, но долго плавать немыслимо — вода слишком холодна и в ней много тины. Тогда мы выходим изводы и ложимся. Сверчки и кузнечики смолкают вокруг нас, но потом снова начинают свою трескотню у самых наших ушей, не обращая на нас никакого внимания, словно мы мертвые. Наши глаза привыкают видеть только верхушки сосен и их обитателей: белок, соек…
— Совершенно верно, на шее и руках Мари до сих пор еще держится загар…
— Мари никогда не бывает так хороша, как в конце летних каникул.
— В сущности, вы ее любите.
Он ответил: «Я не знаю…» Казалось, он был растроган и улыбался своим мыслям. Поднявшись с кресла, он закурил папиросу. В эту минуту Тереза произнесла: «Следовало бы…» — и умолкла; он прислонился к книжному шкафу:
— Что? Что следовало бы?
— Чтобы вся жизнь с человеком, которого ты избрал или который избрал тебя, была длительным отдыхом под солнцем, бесконечным отдыхом, полным животного спокойствия. Да… иметь уверенность, что рядом, совсем близко, так близко, что можешь коснуться его рукою, есть существо, созвучное тебе, преданное и удовлетворенное, существо, которое так же, как и ты, никуда не стремится. Вокруг должно царить такое оцепенение, при котором замирает всякая мысль, и, следовательно, даже в помыслах невозможна измена.
— В том-то и дело, что, как только наступает прохлада, мы думаем уже о другом, нам хочется уйти. Мари внезапно спрашивает меня: «О чем вы думаете?»
— А вы отвечаете: «Ни о чем, дорогая». Потому что слишком сложно было бы вводить ее в тот мир, в который вы уже вошли, но куда женщине доступа нет…
— То же самое мне всегда говорит Монду.
— Кто это Монду? — спросила Тереза. Но она уже заранее знает, кто он, — это изумительный тип, которого всегда встретишь среди знакомых каждого юноши возраста Жоржа, друг, который все читал, который прямо с листа играет любую партитуру и имеет собственное мистическое мировоззрение; это чудо, с которым такой юноша стремится скорее вас познакомить и которое женщина заранее ненавидит. «Вы увидите, он не сразу доверяется людям, но если вы сумеете внушить ему симпатию…» Почти всегда оказывается, что речь идет о личности, замечательной своими пуговицами и кадыком, личности, снедаемой робостью, гордостью и завистью. Влияние таких Монду всегда опасно… «Но мне-то чего беспокоиться? — думает Тереза. — Мари этого Монду бояться нечего».
— Надо будет вас с ним познакомить. Он вас заинтересует. Однако не слишком ли я навязчив? Уже одиннадцать часов…
— О! Сон и я…
Тем не менее, не удерживая его больше ни одним словом, Тереза встала. Жорж спросил, может ли он надеяться в будущем видеться с нею. Мари заверила его, что в этом не будет никакой неделикатности с его стороны. Он с нетерпением ждал согласия Терезы. Ничего не ответив, она вздохнула:
— Бедная Мари!
— Почему бедная Мари?
— Потому что на рождественские каникулы не будет ни купаний, ни этих часов отдыха на мельнице…
— Мы все равно видимся. Правда, к нам Мари не ходит, так же как и я к ним, но она прекрасно ездит верхом, вы этого не знали? Мы совершаем прогулки в любую погоду. Чаще всего мы встречаемся в Силэ на заброшенном хуторе…
— Он был заброшенным еще в дни моей молодости…
В воображении Терезы возник неприличный рисунок, сделанный углем на одной из стен, а также куча хвороста в углу, на которой иногда проводили ночь пастухи.
— Лошадей мы привязываем в загоне для овец. Разводим большой костер…
Минуту они молчали. Первой заговорила Тереза:
— Возможно, что мой муж теперь охотнее станет вас принимать. Это было бы удобнее для вас. Кроме того, вы могли бы заниматься музыкой…
Рассмеявшись, он посмотрел на Терезу:
— Мало вы, видно, знаете Мари! Да ведь она же ненавидит музыку!
Тереза пожала плечами и, будто собираясь сказать: «О чем же это я думаю?» — улыбнулась.
— Впрочем, — заметила она, — теперь, когда существуют граммофоны, это не так важно!
Он ограничился легкой гримасой, очевидно, решив воздержаться от возражений. И вдруг Терезу охватило чувство глубокой радости, чувство, от которого ей стало стыдно.
— Вы напишете Мари? — с необычайной живостью спросила она.
И в ответ на обещание Жоржа в ближайшем же времени сделать это, уже с настойчивостью продолжала:
— Нет, нет, сейчас же! Подумайте только, как тяжелы будут для Мари эти первые дни.
— Ненавижу писать, — признался Жорж. — За исключением, конечно, переписки с Монду. Можете себе представить, я собрал целый ряд выписок из его писем! Сборник делится на три части: политика, философия, религия. Я дам вам его, вы увидите, это — совершенно изумительно… Вы смеетесь? Я кажусь вам смешным?
Она отрицательно покачала головой, подумав: «Какой нелепый возраст! Как опасна глупость в двадцать лет! А Жорж между тем дал обещание писать Мари и попросил разрешения навещать Терезу.
— Собственно говоря, зачем? — спросила она.
Но так как эти слова смутили юношу, она поспешила добавить:
— Чтобы говорить со мной о Мари? Пожалуйста, сколько угодно… Но я почти не бываю дома.
С печальным и озабоченным видом, поблагодарив Терезу, он «на всякий случай» сообщил, что почти ежедневно в полдень встречается с Монду в кафе «Des deux magots». Тереза проводила Жоржа в переднюю. Рука юноши на минуту задержалась на дверной задвижке. Он обернулся.
— Как бы я хотел знать… — начал он неуверенно. — Впрочем, нет, — тотчас же добавил он, — это потом…
Он не сразу закрыл за собой дверь. Тереза еще несколько минут прислушивалась к звуку его удаляющихся шагов, а затем вернулась в гостиную, где среди табачного тумана царил беспорядок, носивший следы жизни. Мягкие кресла, низенький пуф, обычно стоящий у камина, — все было не на своем месте. Эти обломки аржелузского крушения вновь обрели жизнь. Тереза догадывалась, что именно хотел знать юноша, но узнает он лишь то, что она сама пожелает ему сказать. Она неожиданно почувствовала себя хозяйкой своих прежних поступков. «Все дело в том, как их осветить», — подумала она. Подойдя к зеркалу, она испытующе посмотрела на свою, теперь незнакомую ей физиономию, — не на лицо подлинной Терезы, а на то лицо, которое видели глаза этого мальчика. Достаточно было бы одним движением отбросить волосы, приоткрыть лоб, виски, да, в одно мгновение собственными руками могла бы она уничтожить это свое лживое изображение… Но вместо этого она пудрится, проводит красным карандашом по губам. Как бы возражая невидимому противнику, она громко говорит: «Но ведь он же напишет ей! Он обещал мне. Мари будет довольна…» Она не могла не сознавать своей лжи, однако она искала в ней убежища, успокаивала себя этой ложью. Ей хотелось пить, и она прошла в кухню.
— Вы еще до сих пор не ушли к себе, милочка?
В опрятной кухне, где сверкали никогда не употреблявшиеся медные кастрюли, сидела Анна, опершись локтями на стол и опустив голову на руки; жирные, слишком длинные и плохо подстриженные волосы скрывали наполовину ее опухшее от слез лицо. Что случилось? Может быть, ее бросил возлюбленный? или она больна? или беременна? Это был тот удобный момент, о котором еще так недавно мечтала Тереза: страдание пробило бы брешь в стене, отделяющей ее от Анны, дало бы ей возможность заглянуть в эту убогую жизнь… Но сегодня вечером Тереза отворачивается, берет стакан, залпом осушает его, выходит из кухни, не проявляя к Анне ни малейшего сочувствия.
Проходя через столовую, она вынуждена остановиться: сердце, о котором она забыла, внезапно… Очень медленно, опираясь о стулья, о стены, дошла она до гостиной, села, наклонившись грудью вперед. Она забыла об этой страшной руке, сжимающей ее левое плечо, об этой боли, которая, постепенно распространяясь, охватывала всю грудь. В ночном молчании прислушивалась она к собственному прерывистому дыханию. Глаза ее блуждали по стенам ее тюрьмы, куда сегодня вечером вошла жизнь, продолжавшая упорно держаться в беспорядке мебели, в запахе табака. Жизнь вернулась, Терезе не хотелось умирать. Врач уверял ее, что, принимая предосторожности, избегая всего, что может повредить… Ей припомнились слова специалиста во время последней консультации; рентгеновский снимок показался ему неясным, по этому снимку нельзя было сделать определенного заключения. Безусловно, это серьезно, но, в сущности, — добавил он, — «при сердечных заболеваниях никогда нельзя знать…» В конце концов, разве ее жизнь не была наиболее приспособленной для сопротивления? Одно только — начиная с сегодняшнего дня, надо быть крайне осторожной. Боль понемногу стихала. Тереза не ляжет, она просидит всю ночь. Сейчас Мари едет в поезде. Вероятно, она уже проехала Орлеан. Может быть, она считает себя любимой… Ну что же! Тем лучше, если она так считает! Тереза сделает все, чтобы эта мечта претворилась в действительность. Почему она должна жалеть Мари? Ей семнадцать лет, она пышет здоровьем… Семнадцать лет! Вся жизнь впереди, и конца ей не видно… «А я уже у ворот бойни! Уже!»
Часы на башне пробили час. Боль притуплялась, но все еще давала себя знать. Рука только слегка ослабила свою хватку. Тереза больше не думала ни о Мари, ни о Жорже, ни о ком, собрав все силы, она сосредоточила внимание на этом глубоком беспорядке в самом центре своего существа, словно этой внутренней сосредоточенности было достаточно, чтобы удержать в подчинении обезумевшее сердце, усмирить сумасшедшее биение, затормозить беспорядочную скачку, остановить ее над краем пропасти.
VI
Спустя неделю после посещения Жоржа, как-то утром, около одиннадцати часов, Тереза медленно шла по улице, внимательно читая объявления о сдаче квартир. Как ни легок был подъем по лестнице в старом доме, где она жила, он все же требовал затраты усилий, вредно отзывавшихся на ее здоровье. Специалист, к которому она опять обращалась, был того мнения, что ей нельзя больше жить без лифта, если только она не найдет подходящей для себя квартиры в бельэтаже. Какое достижение, что теперь ее уже может интересовать подобное занятие!
Неделю тому назад ей в голову не пришло бы менять квартиру.
Молчание Жоржа нисколько ее не смущало. Если бы ей сказали, что он каждый вечер пишет ей длинные письма, которые рвет на следующее утро при пробуждении, Тереза, безусловно, ответила бы: «Я это знала…»
Поравнявшись с террасой кафе «Des deux magots», она купила газету. Обернувшись, она увидела улыбавшееся ей лицо и заметила, что ей машут рукой, приглашая ее войти. Не надо, чтобы так колотилось сердце, не надо, чтобы она так волновалась от одной только встречи, в особенности если ждала этой встречи; ведь она отлично знала, почему, вместо того чтобы спуститься вниз к Сене, она повернула вправо, в сторону Сен-Жермен-де-Пре. Тереза подошла, пройдя между столиками. Жорж, стоя со своим обычным слегка угрюмым видом, представил ей другого юношу, которого она сначала не заметила. «Монду… Ренэ Монду». Прежде всего она увидела, что этот юноша не тот странный персонаж, каким она его себе представляла: узкие плечи, сутулая спина, но на детском лице до того ясные глаза, что взгляд их трудно выдержать, глаза, за которые их обладателю можно простить и костюм, купленный в магазине готового платья, и грубые ботинки на шнурках со стертыми до меди крючками. Впрочем, Терезе во что бы то ни стало необходимо ему понравиться.
Из набитого книгами портфеля он достал журнал, название которого навело Терезу на размышления, она сразу отнесла этого юношу к разряду тех, кого она обыкновенно называла «прекраснодушными». Ей казалось, что она хорошо знает такого рода людей, ей часто удавалось привлекать их к себе своим видом потерпевшей крушение. Но на все ее попытки Монду отвечал лишь уклончивыми замечаниями, произносимыми тоном грубоватого студента, не желающего спорить с женщиной. Изощряясь в поисках способа обратить на себя внимание, Тереза проявляла крайнюю неловкость и теряла всякую естественность; и в то же время как Жорж всем своим видом выражал ту робкую экзальтацию, какая овладевает нами, когда мы присутствуем при первой встрече двух одинаково нам нравящихся людей, но еще незнаем, насколько удастся их сближение, она вновь произносила напыщенные фразы, которыми когда-то блистала, но которые Монду теперь без внимания пропускал мимо ушей.
Будучи уверенной, что имеет дело с религиозным юношей, Тереза решила затронуть проблемы зла и предопределения, — темы, при помощи которых самая невежественная женщина, если только она обладает ловкостью, способна смутить даже компетентного человека. Она прервала себя, чтобы задать ему вопрос: «Я думаю, мои слова вас не оскорбляют?» — как вдруг какое-то замечание Жоржа дало ей понять, что она заблуждается и убеждения Монду противоположны тому, что она предполагала. Она тотчас же забила отбой и заговорила заискивающим тоном, инстинктивно стараясь задобрить Монду более верными средствами: определенный, внимательный и серьезный взгляд, определенный голос. Так как это, по-видимому, нисколько его не тронуло, она довела до смешного все свои незатейливые приемы и вдруг заметила, что Жорж Фило наблюдает за ней. Тогда буря радости, назревавшая в ней в течение последних трех дней, разразилась.
О чудо! Он страдал. Маска ревности была знакома Терезе, она узнала бы ее с первого взгляда. Сколько лет уже не было в ее распоряжении этого единственного доказательства, что мы любимы: судорожно сжатый рот, глаза, полные тоски и упрека. Мысленно она вернулась к первым месяцам своего пребывания в Париже. Невероятно, чтобы такая радость могла быть дарована ей еще раз! От сделанного ею открытия захватывало дух, эта радость поразила ее в самое сердце. Ее бледное лицо оставалось обращенным к Монду, и нельзя было понять, хочет ли она еще усилить страдания Жоржа или надеется вновь обрести дыхание, сдержать боль, начавшую распространяться в левой стороне груди. Тереза, казалось, к чему-то прислушивалась. Она действительно подстерегала шум шагов, слышала, как этот шум идет из глубины ее существа — ощущение смерти, которой, по существу говоря, нет, тем не менее жило в этом хилом теле, увеличиваясь и укрепляясь от неожиданного, только что возникшего счастья; словно после стольких лет любовь возвращена этой женщине только затем, чтобы ускорить разрушение ее тела. Нет, ее усталое сердце не может выдержать такого упоения, оно разорвется от этой чудовищной радости. Она обернулась к Жоржу:
— Не будете ли вы так добры остановить такси? Я плохо себя чувствую. Нет, не провожайте меня.
— Разрешите сегодня вечером зайти к вам?
— Нет, не сегодня, лучше завтра.
— Я только зайду узнать о вашем здоровье…
Она не соглашалась, ей не хотелось, чтобы он увидел ее униженной физическим страданием… К тому же присутствие Жоржа могло бы только усилить это страдание. Терезе необходимо время, чтобы прийти в себя: эта неожиданность сразила ее. Завтра вечером Тереза уже обретет спокойствие, она сумеет взять себя в руки. В такси она повторяла: «Не умереть…» Но если мальчик оказался способным ревновать, является ли это бесспорным доказательством того, что он ее любит? И если даже это действительно так, то как не опасаться, что это лишь один из тех миражей, которые возникают в страстном воображении молодых людей? Из-за изнуренной, полумертвой женщины долго страдать он не будет. К тому же в эту минуту, стараясь отдышаться, Тереза понимала, какими последствиями грозит ей малейшее усиление сердцебиения…
На мгновение она остановилась на площадке у двери, ища ключ. Жорж мог бы прийти сегодня вечером. Он придет завтра, но будет ли она жива завтра? Теперь уже не в ее власти избавиться от этого постоянно возникающего перед ней лица. Завтра вечером он повесит свое пальто на эту вешалку. На столике в передней лежало письмо. Тереза узнала почерк Мари. Вот уже несколько часов, как она ни разу не подумала о Мари.
Тереза с неприязнью посмотрела на этот глупый почерк. Глупыми были и продолговатая форма, и аметистовый цвет бумаги — все, вплоть до красных чернил; да, все в этом письме свидетельствовало о глупости. Терезе стало стыдно своих мыслей; тем временем Анна, чтобы избавить ее от лишних движений, снимала с нее шляпу и ботинки. Завтракать Тереза не будет; она решила просидеть неподвижно на низеньком пуфе у камина, пока не пройдет припадок. Оставшись одна, она сидела, подавшись грудью вперед, держа конверт в руках. Счастье Мари… Мари, ее дочери… Но какое значение имеют узы крови? Они были двумя женщинами, которые не знали друг друга. Пусть каждая попытает свое счастье. Мари семнадцать лет, она красива. Они купались вместе на мельнице, при треске кузнечиков лежали рядом на выжженном лугу. А она, Тереза, уже полуразвалина… Разве Мари пожалела мать в тот вечер, когда вырвала у нее признание. Самым худшим, быть может, было то, что Мари проявила так мало любопытства, она не интересовалась никакими подробностями, не пыталась выяснить обстоятельств… Жорж был бы настойчивее. Тереза отлично понимала, что обозначал этот прерванный вопрос, который он пытался задать в момент ухода, когда сказал со вздохом: «Как хотел бы я знать…» Он хочет вернуться для того, чтобы узнать… Бог мой! Не превратится ли и его посещение в допрос? Не придется ли Терезе в третий раз предстать перед судом?
Она думала, что страдает в ту ночь, когда Мари вырвала у нее частичное признание; она воображала, что жертвует собой, чтобы вернуть Мари отцу. И эта любовь дочери к ней… в действительности Тереза никогда этой любовью не обладала: «Я отказалась от того, чего не имела, принесла в жертву то, что никогда мне не принадлежало…» Между тем, если завтра вечером ей придется выдержать новую атаку со стороны Жоржа… Ну что же! На этот раз она будет лгать. Впрочем, это не будет ложью: то была другая — не она, какая-то неизвестная Тереза, которая пятнадцать лет тому назад, в течение недель преследуя жуткую цель, каждый день вновь находила в себе силы… Убийство изо дня вдень… Что общего между безумной тех далеких лет, которая намеренно лила без счета капли мышьяка в стакан мужа, и Терезой сегодняшнего вечера? Какое сходство?
О, мука — все ясно представлять себе! Не быть в состоянии обманывать себя самое! Очевидность, уверенность, что все эти дни она только и делала, что покушалась на счастье Мари! И что привести в оправдание на этот раз, на что ссылаться? Что сделал ей этот ребенок, кроме того, что искал у нее убежища и укрылся в ее объятиях?
Птичий гомон в листве садов, крики со школьного двора в четыре часа, во время перерыва, стук копыт лошадей универмага «Бон Марше», гудки и скрип тормозов автомобилей, замедляющих ход, — вся совокупность привычных звуков; умереть — значило бы не слышать всего этого; а жить — значит продолжать сидеть, прислушиваясь к этому монотонному шуму. Одним ударом пожертвовать собой, одним ударом искупить вину, уничтожить себя, раздавить гусеницу… Тереза вскрыла конверт, заранее соглашаясь с любым предложением этого еще неизвестного ей письма. Если в нем содержится требование, она готова его выполнить, каково бы оно ни было.
«Папа и бабушка встретили меня лучше, чем я ожидала, по-видимому, чтобы не раздражать меня, они сговорились не устраивать из моего бегства трагедии. Я тотчас же заговорила с ними о Вас и о том, что Вы предполагаете сделать в случае, если я выйду замуж. И хотя это ни в чем не проявилось, мне показалось, что Ваше предложение встретило наилучший прием. Папа сказал мне: «Ясно, что это очень многое устроит…», а бабушка, которая всегда готова причинить мне неприятность, добавила: «Все-таки обидно с таким приданым выходить замуж за внука фермера».
Я ничего не ответила. У меня были достаточно веские причины, чтобы сдержать себя, почтальон только что принес мне письмо от Жоржа, которого я так скоро не ждала, так как он терпеть не может писать. Впрочем, я отлично поняла, кому я обязана этим письмом. Дорогая мамочка, вот теперь только я подхожу к главному, но не знаю, как выразить то, что собираюсь Вам сказать… Я глупа, и мне даже непонятно, каким образом вы можете иметь такую глупую дочь. Правда, я ведь Дескейру! Ну так вот, мне хотелось бы попросить у Вас прощения, но я боюсь, что мои слова могут показаться притворными или лживыми… Я много думала над всем тем, что за последние дни произошло между нами, и теперь знаю, что Вы добры той добротой, которую я до сих пор никогда не встречала. Мы с Жоржем держимся одного мнения, что все, что произошло когда-то, просто было неправильно истолковано. Во всем этом заключается проблема, элементами которой, как уверяет Жорж, располагаете только Вы одна (это его собственное выражение, он употребил его в своем письме). Могу ли я сомневаться в Вас, видя Ваше отношение ко мне, проявившей к Вам так мало чуткости и жалости? Теперь благодаря Вам я знаю, что значит платить добром за зло.
Но прежде всего — я восхищаюсь Вами. Я восхищалась бы Вами даже в том случае, если бы это восхищение не разделялось Жоржем. Совершенно понятно, Вы произвели на него огромное впечатление, а он разбирается в людях! Мое счастье зависит от Вас, это настолько очевидно, что, читая эти строки, Вы должны заподозрить меня в корыстных побуждениях. А между тем, если бы Вы только знали, как я сейчас искренна! После того как я побыла возле Вас, все здесь — и люди, и вещи — кажется мне еще более пошлым. Воображаю, какой могла бы быть моя жизнь между Вами и Жоржем!
Если наши будут писать вам относительно принимаемого Вами в мою пользу решения, ответьте им, пожалуйста, что это решение будет зависеть от моего брака. Особенно бабушка не прочь состряпать союз по своему вкусу, ведь она соглашалась на Фило, которых презирает, только ввиду нашего стесненного положения, но увеличение моего приданого, несомненно, пробудит ее честолюбие. Необходимо оговорить, что Вы соглашаетесь на эту жертву лишь для того, чтобы я могла выйти замуж за юношу, который мне нравится…»
Тереза вновь увидела Мари такой, какой она предстала перед ней на площадке лестницы, — согнувшейся под тяжестью чемодана. Ее ребенок, ее дочь писала ей это полное нежности письмо, она мечтала о совместной жизни втроем; речь шла не о мираже: это счастье было возможно, именно этого счастья, а не какого-то другого следовало добиваться, — единственного, доступного ей счастья. Какому же темному безумию поддалась она в эти дни! Она всегда думала, что пороки и преступления родятся из этой роковой способности воображать невозможное, создавать химеру, которую затем приходится во что бы то ни стало осуществлять. Но сейчас она войдет «в реальную жизнь». Это выражение Бернара Дескейру. В начале их совместной жизни он часто повторял ей: «Ты живешь вне реальной жизни». Она найдет в себе силы пожертвовать другим? Чем-то совершенно несущественным. Волнению Жоржа в тот момент, когда она притворилась восхищенной Монду, Тереза придала абсолютно нелепое значение. Впрочем, любила ли она его? Она даже не задавала себе этого вопроса: «В действительности я любила чувство, которое он испытывал ко мне…»
Так думала Тереза в эти темные послеполуденные часы, когда, смирившись и больше не чувствуя боли в сердце, она неподвижно сидела на низеньком кресле у камина. Она представила себе Жоржа Фило таким, каким впервые его увидела: небритым, с раскосыми глазами, в свитере сомнительной чистоты; она старалась приучить себя к мысли, что Жорж действительно самый обыкновенный юноша. Стоит ли ради такого существа, подобного тысячам других, рисковать хотя бы одним лишним биением своего больного сердца? То увеличительное стекло, то искажающее стекло, которое так часто возникало между нею и другими людьми, внезапно исчезло, теперь она видела Жоржа таким, каким он был в действительности (а не таким, каким видели его Мари, Монду или мадам Гарсен): высокий худощавый юноша, деревенского склада, небрежно одетый и вдобавок косоглазый. Терезу охватило чувство стыда и раздражения оттого, что она так высоко расценила такую посредственную личность. Она готова была послать ему пневматичку[1], написать, чтобы он не приходил, но ради Мари надо было его принять.
В пять часов Анна закрыла ставни и зажгла камин. И все же Терезу не могло не радовать, что завтра вечером она избежит одиночества. Уверенность, что завтра кто-то придет, отгоняла скуку и наполняла содержанием эти долгие часы спокойного раздумья. Волнение улеглось, успокоилось сердце. Довольно бредить и дрожать из-за какого-то первого встречного! Быть может, ей еще удастся выбраться из своей тюрьмы, умереть не в одиночестве, а на руках Мари.
Так вернула она себе покой, так протекли два дня, и сердце ее не забилось быстрее, когда в назначенный час она услышала, как Анна открывает наружную дверь.
VII
С первого же взгляда, брошенного ею на Жоржа, она почувствовала радость оттого, что он действительно оказался тем обыкновенным юношей, каким со вчерашнего дня она его себе представляла, со смущенным видом, в пальто, которое, как всегда, он забыл оставить в передней, и этой манерой отдуваться и вытирать лоб, как бы для того, чтобы придать себе солидность и показать, каких трудов ему стоило вовремя явиться к ней.
Тереза оставила зажженной только одну лампу на столе, позади себя; Жорж скорее угадывал, чем видел это лицо, на которое он хотел бы не отрываясь смотреть целыми часами. Со слишком большой поспешностью, с какой-то аффектацией Тереза сразу же заговорила с ним о Мари и поблагодарила его за то, что он так скоро написал ей.
— Это потому, что меня об этом просили вы.
Сделав вид, что она не поняла его слов, Тереза протянула Жоржу письмо Мари. И когда он взял письмо и, бросив на него небрежный взгляд, поднял глаза на Терезу, она воскликнула:
— Как она чутка! Как она все понимает! Теперь я могу вам признаться: очень умной я никогда ее не считала. Мы судим о наших детях и выносим им приговор по какому-нибудь наивному или неудачному их замечанию или же по тем фразам, которые в большинстве случаев они повторяют с чужих слов. Но Мари очень, очень умна, — продолжала Тереза, упирая на слово очень.
И по мере того, как она говорила, она убеждалась, что каждое слово ее все больше и больше настраивает юношу против Мари. Сколько раз в течение своей жизни приходилось ей изображать равнодушие для того, чтобы любимое существо поверило, будто она о нем и не думает! Но тогда хитрость эта ей не помогала: те усилия, которые она делала, чтобы скрыть свою любовь, как раз и выдавали эту любовь. Сегодня же Тереза походит на игрока, который с каждым разом удесятеряет ставку. И она прерывает себя на середине фразы (ведь искренность ее не подлежит сомнению):
— Мне крайне симпатичен ваш друг Монду.
Сказав это наудачу, только для того, чтобы переменить тему, Тереза вдруг поняла, что и на этот раз, как всегда, она, сама того не желая, попала прямо в цель.
— Да, я почувствовал, что он вам понравился. Но, — с досадой добавил Жорж, — без взаимности: он вас не понял.
— Ему нечего было понимать… Он сразу увидел то, что во мне есть, или, правильнее, то, чего во мне нет!
— В этом и заключается ваше превосходство над ним: вы сейчас же оценили его по достоинству, в то время как то единственное, что есть в вас, от него ускользнуло.
— То единственное, что есть во мне…
На минуту она запнулась и вдруг заметила, что таким образом дает Жоржу возможность, которой он добивался, возможность начать расспросы о том, что произошло пятнадцать лет тому назад в мрачном аржелузском доме, со всех сторон окруженном соснами. Испугавшись, она попыталась придумать, что бы такое сказать, но ничего не приходило ей в голову; она чувствовала, что ее мысли, в ту минуту ясные, были в то же время как бы парализованы. Склонившись к огню, чтобы не смотреть на Жоржа, она приготовилась услышать неизбежный вопрос. Еще раз должна она будет подвергнуться допросу. Что делать? Рассказать этому юноше о себе ровно столько, чтобы оттолкнуть его от себя и в то же время не дать повода отказаться от Мари…
— Конечно же, — сказал он, — вы единственная, вы ни на кого не походите. И именно поэтому я считаю вас способной…
На этот раз она взглянула на него и почти непринужденно спросила: «Способной на все?» Жорж Фило густо покраснел:
— Вы меня не понимаете: я считаю вас способной на все великое… Вы такая женщина, что не стали бы защищаться от ужасного обвинения, если бы даже его не заслуживали…
Тереза встала и, сделав несколько шагов по комнате, остановилась у самой стены, позади кресла Жоржа, не решавшегося повернуть головы. Она сухо заметила, что он волен думать все, что ему заблагорассудится. С дрожью в голосе он спросил:
— Значит, вам безразлично, что я о вас думаю?
— Наоборот, для меня это очень важно, вы это отлично знаете.
Приподнявшись и встав на колени в кресле, он обратил к Терезе лицо, полное тоски и надежды.
— Прежде всего, — добавила Тереза, — из-за Мари.
У него со вздохом вырвалось: «Это было бы удивительно!» Затем он пробормотал еще несколько слов, которые Тереза скорее угадала, чем услышала: «Очень мне нужна ваша Мари…», несомненно, употребив при этом более грубое выражение. Тогда она взглянула на него, она осмелилась на него взглянуть. Все, чем дорожила она больше всего на свете, все, чем так скупо одарила ее судьба при нескольких случайных встречах во времена ее молодости, все то, что она уже навсегда считает утраченным, эта тоска, успокоить которую дано только ей, это страдание, причиной которого является только она, — все это неожиданно возвращалось ей, все, что читала она во взгляде угрюмых, устремленных на нее глаз. Она чувствовала, что услышит сейчас страшное слово, слово, которого не выдержит ее больное сердце. Ей хотелось его избежать, и, пытаясь улыбнуться, она проговорила:
— Ничего интересного я собой не представляю. Вы ошибаетесь…
Но не успела она еще кончить фразу, как услышала голос Жоржа, показавшийся ей незнакомым:
— Никто в мире меня не интересует, кроме вас.
Слегка согнувшись, как бы для того, чтобы избежать второго удара, Тереза прошептала: «Нет же никаких оснований… почему бы я должна была вас интересовать?» И наконец, была поражена в самое сердце словами, которых она ждала, хотя едва расслышала их.
— Ведь я же люблю вас.
Да, в самое сердце; так что физическая боль в первую минуту поглотила ее целиком, черты ее лица исказила гримаса, которую Жорж принял за выражение ярости.
Между тем Тереза не нашла в себе даже сил, чтобы протянуть руки к этому испуганному лицу. Она не была в состоянии произнести ни звука и протестовать против бессвязных слов унижения, которые лепетал ребенок:
— Вы насмехаетесь надо мной… Я знаю, что внушаю вам отвращение.
Она попыталась сделать отрицательный жест, затем, приподняв правую руку, положила ее на непокорные волосы Жоржа и откинула их, как сделала бы это мать, чтобы обнажить лоб сына для вечернего поцелуя. Он закрыл глаза, все еще продолжая стоять на коленях в кресле, опираясь локтями на спинку. Сердце Терезы билось спокойно, она глубоко вздохнула. Он продолжал:
— Я кажусь вам жалким.
Она не ответила, потому что все еще была без голоса, и это невольное молчание было красноречивее любого протеста. «Сжальтесь надо мной», — повторял ребенок. Все, что она могла сделать, это притянуть эту голову к своему плечу жестом, который показался ему действительно жестом сострадания. Так как Тереза больше не страдала, она, несмотря на неудобную позу, продолжала оставаться неподвижной, вдыхая исходивший от темных волос запах дешевого бриллиантина. Но очень скоро почувствовав боль в руке, она вынуждена была ее освободить. Итак… с этим покончено.
Тоном, не допускающим возражений, она предложила Жоржу сесть на пуф у камина. Сама же опустилась в кресло и, не откидываясь на спинку, сидела в напряженной позе. Она сказала:
— Вы ребенок.
— Я отлично знаю — вы никогда не отнесетесь ко мне серьезно. У меня был выбор лишь между вашим презрением и вашей ненавистью. Не знаю, не предпочел бы я…
Растроганную улыбку Терезы юноша принял за выражение презрения. Она же между тем вспоминала о тех минутах своей жизни, когда уже готовилась услышать роковое «я вас люблю», но в то время, когда ей казалось, что она даже видит, как зарождаются на губах эти слова, ее противнику всегда удавалось в последний момент, благодаря какой-нибудь незначительной хитрости, не произнести этих слов. Ей и самой не раз приходилось сдерживать себя и не допускать, чтобы с губ сорвалось признание, которое принесло бы ей только поражение! Ибо основное в этой игре всегда заключалось в жалкой хитрости, в постоянном страхе, как бы твой партнер не почувствовал в себе уверенности и не охладел к тебе. Этот большой ребенок, что называется, дал волю своему сердцу, разрешил ему заговорить. «Но сейчас он увидит меня, — думала Тереза. — Он внезапно увидит меня такой, какова я в действительности…» Она встала и бросила беглый взгляд на женщину, смотревшую на нее из зеркала над камином. Легкий, естественный румянец играл на ее щеках; глаза блестели; на красивом высоком лбу не было ни одной морщины. Две складки по сторонам рта ничуть ее не старили, они лишь придавали ей величественный и строгий вид. В эту минуту она видела себя преображенной той страстью, предметом которой она являлась. В зеркале она увидела свой идеальный образ, отраженный в покорном взгляде этого безумного ребенка.
Она испытывала удивительное успокоение и с непоколебимой, радостной уверенностью наслаждалась своим триумфом. Тереза готова довериться Жоржу, раскрыть ему свое сердце, готова произнести слова изумления и благодарности, слова, что приходят на ум человеку, которого полюбили, но который помнит о том, что он уже не молод. Она готова сама открыть глаза этому ребенку, разрушить его иллюзии, внезапно показать ему себя старой, растерявшейся, достойной жалости женщиной… Но, приложив к мрамору камина свои пылающие руки, чтобы их охладить, Тереза нечаянно коснулась разбросанных листков бумаги — письмо Мари, — Жорж, пробежав его без внимания, бросил там, даже не дочитав до конца.
Закрыв глаза и стиснув зубы, Тереза склонилась над этими листочками, испещренными глупыми каракулями. Мари? Неужели она не оставит свою мать в покое? Каждый человек живет для себя. Разве не сама Мари навязала ей этого юношу? Она считала Терезу совершенно не опасной, не допускала даже мысли, что ей может что-нибудь угрожать с этой стороны. Как глупа молодость, думающая, что любить можно только ее одну! Ведь любовь ищет в своих избранниках не одно только тело, но и тайну страсти, и опытность, и ловкость, которыми обладают лишь те, кто жил. Быть может, Мари сидит сейчас в самой большой комнате аржелузского дома, вокруг которого все так же неумолчно шумят сосны. Мари бодрствует, и ничто не нарушает ее спокойной уверенности — ведь отныне она вручила Терезе свою любовь, свою жизнь. Это та самая комната, которую когда-то занимала Тереза; она расположена как раз под той, где стонал больной Бернар, и через потолок Тереза прислушивалась к его стонам… Ах! Ей уже не надо обязательно присутствовать самой, чтобы убивать других! Теперь она убивает на расстоянии.
Дрожащими руками взяла она листки, подобрала их по порядку и вложила в конверт. Затем, подняв руки и ладонями закрыв глаза, она стремительно повернулась к Жоржу, съежившемуся в низком кресле, в котором столько мук пережила она сама, и сквозь стиснутые зубы произнесла вполголоса:
— Уходите!
Он встал, бросив на нее взгляд побитой собаки. Губы его шевелились. Очевидно, он просил у нее прощения. Тереза толкнула его по направлению к передней, протянула пальто, открыла дверь. Не сводя глаз с Терезы, Жорж пятился к двери. Лестница была мрачной и зловонной. Электричество не горело. Тереза сказала:
— Держитесь за перила…
Он спускался ощупью и был уже почти совсем внизу, как вдруг услышал свое имя: «Жорж!» Она звала его. Он взбежал наверх. Тереза слышала, как он тяжело дышит, и так как он, видимо, хотел войти в квартиру, она с усилием произнесла:
— Нет, не входите. Я решила вам только сказать… Все правда! (Теперь она быстро шептала.) Да, что бы вам обо мне ни говорили, раз навсегда запомните одно: я человек, оклеветать которого невозможно. Вы не хотите отвечать? Тогда в доказательство того, что вы меня поняли, сделайте мне какой-нибудь знак.
Но Жорж продолжал неподвижно стоять у перил. Понемногу глаза их освоились с темнотой, хотя различить черты или выражение лица собеседника было невозможно. Каждый из них видел только смутные очертания тела другого, слышал прерывистое дыхание; Тереза узнавала запах дешевого бриллиантина, чувствовала тепло этого молодого тела.
— Вот что я должна была вам сказать, — прошептала она. — Теперь вы знаете?
Внизу открылась и с силой вновь захлопнулась наружная дверь. Кто-то назвал консьержке свое имя. На мгновение на нижней площадке показался свет. Беспрестанно зажигая восковые спички и ворча, по лестнице поднимался кто-то из жильцов. Тереза и Жорж поспешили войти в переднюю. Гостиная была еще освещена, и свет резал им глаза. Они моргали и не решались взглянуть друг на друга.
— Вы поняли? — спросила она.
Он покачал головой.
— Я вам не верю. Вы клевещете на себя, чтобы избавиться от меня. И все это из-за Мари… Ну что ж, — продолжал он с неожиданной яростью, — ваша хитрость ни к чему не приведет. Я на ней не женюсь. Слышите? Я никогда на ней не женюсь… Ага! Я вам срываю весь эффект!
Прислонившись к книжному шкафу и полузакрыв глаза, Тереза отвернула голову, боясь выдать охватившую ее жуткую радость, которую она всеми силами старалась заглушить в себе. Он не женится на Мари! Что бы ни случилось, девочка его не получит. Жорж никогда не будет принадлежать ей. Эта радость вызывала в Терезе стыд, граничащий с ужасом. Она хотела бы тут же на месте упасть мертвой, хотела, чтобы тоска, сжимавшая ей грудь, была последней предсмертной тоской, но ничто в мире не могло бы помешать ей насладиться этим чудесным счастьем — быть той, которую он предпочел.
Когда она убедилась, что может придать лицу суровое выражение, что ни одним взглядом не выдаст своих переживаний, она медленно повернула лицо к Жоржу. Опустив голову и бессильно уронив руки, стоял он посреди комнаты, глядя исподлобья с видом злой собаки, готовой укусить.
— Мне очень жаль, — сухо сказала она. — Надеюсь, вы перемените свое решение. Что касается меня, я больше ничего не могу сделать. Я уверена, что хоть в этом я неповинна. Думаю, что больше нам не о чем говорить.
Открыв дверь, она отошла в сторону, чтобы пропустить его. Но, не трогаясь с места и не сводя с Терезы глаз, он наконец произнес:
— Нужно, чтобы вы знали… Нужно, чтобы вы были предупреждены: я не могу больше жить без вас.
— Это только так говорится!
Тон Терезы был нарочито небрежен. Она делала вид, что не придает никакого значения этому «я не могу больше жить без вас». В действительности же она поняла, она успела достаточно повидать на своем веку, чтобы не обмануться и сразу уловить в этих словах определенный оттенок, оттенок безысходного отчаяния. Она не сомневалась, что ей следует понимать их буквально. Этот тип юношей был ей знаком. Тогда, осторожно подойдя к Жоржу, она тем же движением, что и в начале вечера, положила его голову себе на плечо, на которое он оперся всей тяжестью своего тела. Чтобы лучше рассмотреть Жоржа, она нагнула голову и склонилась над ним, как женщина, любующаяся своим младенцем. Он не улыбался. Печальные глаза его были широко открыты. Терезу поразило, что это молодое лицо уже отмечено следами изношенности. И это не только шрамы — последствия шалостей резвого школьника, почти везде видны были мелкие складки кожи, а на лбу уже глубокие морщины. Но когда он закрыл глаза, его гладкие, нежные веки были все же веками ребенка.
Внезапно Тереза оторвалась от этого созерцания и, предложив Жоржу сесть в кресло, придвинула к нему свой пуф. Сделав усилие, она заговорила тоном благоразумия. Она сказала, что она уже старая женщина, которая ничего не может ему дать. Самым лучшим доказательством ее любви будет то, что она заставит его отойти от жалкой развалины, от человека конченого.
Говоря это, Тереза намеренно откинула волосы, закрывавшие ее чрезмерно большой лоб, обнажила уши, проделав все это с небрежностью, стоившей ей, однако, героических усилий. Она удивилась, не заметив немедленных результатов, — так трудно бывает нам понять, что любовь часто не придает никакого значения внешности, что седая прядь волос, которую нам хотелось бы скрыть, не только не производит неблагоприятного впечатления, если ее обнаруживают, а, наоборот, вызывает умиление. Нет, не полуразвалину видят сейчас ненасытные, влюбленные глаза Жоржа, а какое-то незримое существо, выдававшее свое присутствие взглядом, хрипловатым голосом, существо, самому незначительному слову которого Жорж придает громадную важность и значение. Тщетно пыталась Тереза обратить его внимание на свой лысеющий лоб. Он не мог отказаться оттого, что ему было дано: видеть ее вне времени, освобожденной от телесной оболочки. Страсть, если она даже преступна, всегда открывает нам тайну души любимого существа; и целая жизнь, запятнанная преступлениями, не ослабляет того сияния, которым наша любовь окружает это существо.
Терезу удивляло, что по мере того, как она громадным усилием воли лишает себя последних средств защиты, не уменьшается страсть, которую она читает в этих устремленных на нее глазах. Отдает ли он себе отчет в том, каких усилий стоит этой женщине каждое ее слово? Любой ценой хотела бы она скрыть от него пропасть, созданную между ними разницей лет, уверенность, что эта любовь — что бы ни случилось — приговорена к смерти, и к смерти совсем недалекой! А между тем именно на этом стремится она сосредоточить свои собственные мысли, именно на это хочет обратить внимание Жоржа.
— Вам двадцать лет… — повторяла она, — мне же больше сорока. (Назвать точную цифру она все же не решилась.) Чего можете вы ждать от меня? Было бы достаточно одной ночи, чтобы рассеять иллюзию, которую вы создали себе…
Он возразил, что ему уже не двадцать лет:
— Мне двадцать два… Впрочем, разве вы забыли, что вы сказали в тот день, когда вы пришли ко мне? Ведь вы же первая пришли ко мне… Разве я искал вас? Вы сказали мне…
Желая восстановить в памяти точные слова Терезы, он закрыл глаза.
— Вспомните: когда я глупо похвастался, что мне всего двадцать два года, вы ответили: «Вам скорее следовало бы сказать, что вам уже двадцать два года». И вы добавили еще одно ужасное слово — ужасное для меня, так как благодаря ему мне стало ясно то, отчего я безотчетно страдаю со времени моего отрочества: «Раз путешествие началось, это равносильно тому, что вы уже доехали…»
— Какая у вас прекрасная память!
Тереза смеялась. Но она дорого дала бы, чтобы эти слова никогда не были ею произнесены. Между тем Жорж покачал толовой:
— У меня ни на что нет памяти, кроме того, что исходит от вас. Я всегда скучал, теперь же — с тех пор, как я знаю вас, — у меня появилось развлечение: вспоминать и обдумывать каждую, даже самую незначительную фразу, сказанную вами. Я могу без конца думать о любом произнесенном вами слове. Между той минутой, когда сказанное вами мне кажется совершенно новым, и той, когда я уже перестаю понимать его, могут пройти часы, дни… Но среди этих фраз есть одна, которая кажется мне все более и более понятной. Да, начать путешествие — значит уже доехать. Но тогда зачем же нужно противопоставлять ваш возраст моему? Какая разница между нами, вместе отправившимися в путешествие? Молодость… вода, текущая у меня меж пальцев, песок, который мне не дано удержать… Те немногие существа, которые склонны любить меня, привязываются лишь к видимости силы, к моей мнимой свежести… Но я, я… то, что останется от меня через несколько лет… до этого им нет ни малейшего дела. Даже Монду… В глубине души он считает меня глупым. Он говорит: «То, что интересно в тебе, это — животное».
Тереза положила руку на колено юноши. Она искала, что бы такое сказать ему, будто существовали слова — противоядие тем словам, которые он еще может произнести. Она говорила ему все, что приходило в голову: что молодость действительно не представляет никакой ценности, что уяснить себе важно одно: цель жизни. У каждого человека есть такая цель, будь она самой возвышенной или самой низменной. Разве он не замечал, что все его товарищи постоянно чем-нибудь увлечены — у одних это Бог, у других король, у третьих рабочий класс, не одно, так другое… есть и такие, которых захватывает просто игра, сколько существует в настоящее время таких девушек и юношей, все мысли которых заняты физкультурой…
Тереза старательно обдумывала свои фразы, но Жорж пожимал плечами, качал головой.
— Нет, что следовало бы… вы как-то вечером это сказали. (И так как Тереза вздохнула: «Что там еще я сказала?») Помните? Вечером того дня, когда я с вами познакомился… после того, как, проводив Мари на вокзал, я осмелился прийти сюда. Вы были великолепны… Вы сказали… — И почти слово в слово он повторил: «Следовало бы, чтобы вся жизнь с человеком, которого мы любим, была длительным отдыхом под солнцем, бесконечным отдыхом, полным животного спокойствия… эта уверенность, что рядом, совсем близко, так близко, что можешь коснуться его рукой, есть существо, созвучное тебе, преданное и удовлетворенное, существо, которое так же, как и ты, никуда не стремится. Вокруг должно царить такое оцепенение, при котором замирает всякая мысль и, следовательно, даже в помыслах невозможна измена…»
— Это, бедный мой мальчик, слова, брошенные на ветер, слова, которые говорят, когда нечего сказать. Вы отлично понимаете, что они не соответствуют ничему реальному. Любовь не все в жизни, особенно для мужчины…
Теперь она начала развивать эту тему. Она могла бы говорить до зари; рассуждения, полные благоразумия, в которые она пускалась из чувства долга и произносить которые ей стоило больших усилий, не запечатлевались в мозгу Жоржа. Безусловно, он даже не слышал их, так как лишь те из ее слов, которыми поддерживалось его отчаяние, доходили до его сознания. Он воспринимал от Терезы лишь то, что давало пищу его отчаянию. И именно поэтому, возможно, сама того не сознавая, Тереза дала своим словам то направление, которого он добивался. По мере того как она перечисляла основания, по которым двадцатилетний юноша может любить жизнь, она мало-помалу вновь обретала иронический тон; тогда, насторожившись, он обратил к ней печальное, страстное лицо, из-за полуоткрытых губ блестели зубы. «Да, политика, конечно… — говорила Тереза. — Но не следует принадлежать к числу людей, у которых сердечные увлечения берут верх надо всем. Чаще всего они испытывают от этого стыд, они делают вид, что интересуются тем, что страстно волнует окружающих их людей, они, как нечто позорное, скрывают эту безудержную тоску, безнадежную оттого, что обладание для таких людей — химера: то, чем они уже обладают, перестает для них существовать; каждую минуту перед ними снова встает вопрос о том, не разлюбили ли их, не произошло ли охлаждение…»
Казалось, Тереза говорит для себя одной. Она продолжала:
— Ведь никогда не перечитывают старых писем, не правда ли? Их предпочитают рвать, не перечитывая, так как они являются свидетелями того, чего уже не существует… В самые счастливые минуты для существа, воображающего, что оно нас любит, вдруг оказывается возможным обходиться без нас… его занимают личные дела, его семья… нам от него перепадают крохи. В лучшем случае мы получаем лишь ту каплю воды, которую богач со дна пропасти просил у Лазаря. А иной раз даже и того не получаем! Ибо любимое существо почти всегда является тем пресловутым Бедняком, слава которого велика, но который лишен всего и ничего не может дать нам, чье сердце горит любовью к нему… Впрочем, нет, Жорж, я говорю вам совершеннейший вздор. Все эти рассуждения не имеют никакого смысла или же имеют смысл лишь для меня одной. Не смотрите на меня такими безумными глазами.
Поднявшись, она обошла низкий пуф, на котором сидел Жорж, и обеими руками закрыла ему глаза. Он схватил ее за руки. Тереза подумала о своих старческих огрубевших руках, покрытых крупными веснушками, подумала о том, что в эту минуту Жорж должен будет их заметить. Но, если он и увидел эти веснушки, он, безусловно, полюбил их, как все, что принадлежало Терезе; впрочем, он прижимал губы к ладоням, к запястьям ее рук… Она не отнимала их, думая о тех словах, которые она не сумела удержать, и о том, что Жорж будет без конца повторять эти слова про себя. Она произнесла вполголоса:
— Я отравляю вас.
Произнося эти слова, она почувствовала, как запылали ее щеки. Жорж не шевельнулся и не оторвал губ от маленьких, покрытых веснушками рук Терезы. Но по едва ощутимой дрожи Тереза поняла, что слова эти его взволновали. Возможно, подумала она, выход из положения открывается с этой стороны: чтобы спасти хотя бы Жоржа, следует идти именно этим путем. Мари погибла, она погубила ее, но Жоржа можно еще спасти. Уже не раздумывая, она повторила:
— Я отравляю вас, вас тоже.
— Отлично, — с насмешкой в голосе сказал Жорж. — Отлично, Тереза (он впервые с робкой нежностью назвал ее по имени), я вас понял. К чему настаивать?
И он еще сильнее прижался губами к ее рукам, не выпуская их. Они услышали, как Анна приготовляет на ночь комнату Терезы. Затем дверь, ведущая в кухню, захлопнулась. Они поняли, что остались одни в квартире. Дом засыпал, улица затихала. Дрожащие отблески огня играли на стеклах книжного шкафа, вывезенного из Аржелуза. На мраморе камина лиловым пятном выделялся конверт, на котором Мари написала красными чернилами: Мадам Дескейру, улица Бак. Тереза не спускала с него глаз; подобно пловцу, который, желая отдышаться, недвижно лежит на воде с обращенным к небу лицом, она, замерев, в полной неподвижности лишь плыла по течению, ощущая на своих руках губы Жоржа, она не делала ни одного движения, которое он мог бы принять за знак поощрения.
— Вы мне не верите? — снова начала она глухим, раздраженным голосом.
Спокойным движением освободив руки, несмотря на попытку юноши их удержать, она отошла немного в сторону. Они стояли, выжидающе разглядывая друг друга. В какое отчаяние приводила Терезу его недоверчивая и в то же время жалкая улыбка! И в ответ на его слова: «В глубине души вы меня ненавидите…»
— Я ненавижу вас за то, что вы не хотите мне верить. Вы похожи на прочих аржелузских глупцов: на мое преступление вы смотрите их глазами, вам кажется невероятным, чтобы я могла совершить столь гнусный поступок, вам непонятно, что он является почти пустяком в сравнении с тем, что делаю я здесь, на ваших глазах, с тех пор, как вошла в вашу жизнь. Я вижу, вы только сын тех крестьян, которые считают себя безгрешными, поскольку они никого не убили! Ну что же! Да! В течение целой зимы я подливала мышьяк в чашку человека, который был моим тюремщиком в тюрьме, худшей, чем любой каменный острог… Подумаешь, какое дело! В то время, как сейчас моими жертвами являетесь Мари и вы, вы, воображающий, что любите меня…
Говоря, она не глядела на Жоржа, но, взглянув на него, она спохватилась:
— Я хочу сказать, вы, в продолжение нескольких дней думавший, что любите меня… Теперь все кончено, не правда ли?
И так как он пожал плечами, она продолжала с раздражением:
— Как? Что вы посмеете сказать? Вы, может быть, скажете, что я не совершила этого поступка? Нет, я совершила его, но он — ничто в сравнении с другими моими преступлениями, более подлыми, более скрытыми, без всякого риска… Еще раз спрашиваю вас: неужели же вы не видели, к чему с самого начала нашего знакомства клонились все мои слова? Вы качаете головой? Не понимаете, что я хочу сказать?
Он стоял, прислонившись к стене, и смотрел ей прямо в глаза.
— Жорж, отчего вы на меня так смотрите? Нет, я не чудовище… Вы сами… Если вы хорошенько пороетесь в памяти… впрочем, не надо даже особенно долго искать… Конечно, вы никогда не увеличивали дозы лекарства, чтобы избавиться от человека… Но есть ведь еще масса способов уничтожать себе подобных!
И почти шепотом:
— Сколько людей выбросили вы из своей жизни?
Губы юноши шевелились, но он не мог произнести ни слова. Тереза подошла ближе, и отступать ему было некуда.
— Я говорю не только об историях с женщинами… но о случаях, более сокровенных, имеющих место в жизни каждого человека… иной раз даже в детстве.
— Откуда вы это знаете? — спросил он.
Тереза рассмеялась от удовольствия. Теперь она удовлетворена. Ласковым тоном она сказала: «Ну вот и хорошо! Так расскажите же…» Но он отрицательно покачал головой.
— Это невозможно.
— Мне-то можно сказать все.
— Это вовсе не оттого, что я вас стыжусь… Просто — это слишком трудно; это непередаваемо… Мне никогда не приходила в голову мысль, кому бы то ни было об этом рассказывать, мне рассмеялись бы в глаза; это же совершеннейший пустяк.
Не спуская с него глаз, Тереза продолжала настаивать:
— Вы все-таки попытайтесь. Не беда, если вы и застрянете на полдороге. К тому же я здесь, я помогу… Решайтесь!
Они продолжали стоять друг против друга, Жорж — по-прежнему прислонившись к стене.
— Я был в третьем классе лицея, мне было четырнадцать лет, — начал он вполголоса. — В одном классе со мной учился мальчик из дальнего города, полный пансионер, никогда не выходивший за пределы лицея, нескладный, небрежно одетый школьник, хотя у него было, как мы говорили, «смазливое личико». Он очень привязался ко мне. Я был сентиментальным ребенком, и это создало мне репутацию доброго мальчика, но сердце у меня было черствое. Я ничего не делал, чтобы отдалить его от себя, и дал ему возможность занять значительное место в моей школьной жизни, но произошло это не вследствие дружеского расположения к нему, а от безразличия: для меня он был просто товарищем, таким же, как и другие, разве только несколько большим «надоедой». В конце концов он добился от своих родителей и нашего начальства разрешения проводить свободные дни в моей семье (мы имели в Бордо постоянную квартиру, и мои родители жили там почти круглый год, все время, пока я посещал лицей). Я никогда бы не поверил, что мальчику, столь непрактичному в житейских вопросах, каким был мой товарищ, удастся добиться успеха в этих переговорах. Очевидно, удачу следовало приписать тому, что он был славным, неиспорченным, крайне религиозным ребенком, и учителя рассчитывали на благотворное влияние, которое он окажет на меня, уже тогда слывшего вольнодумцем. Несмотря на то что я не возражал против его планов, все же в то утро, когда он с сияющим лицом прибежал сообщить мне об одержанной им победе, я почувствовал в глубине души досаду. Я сделал вид, что разделяю его радость, но с этого дня ему пришлось много страдать от моего дурного настроения. Я не мог простить ему посягательства на мою «домашнюю жизнь», которая была для меня священна. Кроме того, я считал его фанатиком, находил, что он смешон и надоедлив, и не упускал случая дать ему это понять. Думаю, что никогда в жизни он не чувствовал себя таким несчастным, как в те четверги и воскресенья, когда мы после обеда отвозили его в автомобиле по душным и пыльным улицам обратно в лицей…
Жорж сделал паузу и, проведя рукой по глазам, взглянул на Терезу:
— Вот видите? Это же совершеннейший пустяк.
— Не нахожу, продолжайте.
— О! — снова торопливо заговорил Жорж. — Вы увидите, какой это пустяк, вы будете разочарованы. В первый же день по окончании пасхальных каникул он сообщил мне, что с осени он переводится в другой лицей, куда-то около Лондона. Он отлично видел, что это сообщение не вызвало во мне никакого волнения. «Возможно, мы больше никогда не увидимся», — сказал он. Я же… я не решаюсь повторить вам то, что я ему ответил. Вот, кажется, и все, — добавил Жорж после минутного молчания.
— Нет, — сказала Тереза, — это не все.
Жорж послушно продолжал:
— Чем он становился печальнее, тем грубее и раздражительнее делался я; так продолжалось до самого дня раздачи наград. В этот день, день нашей разлуки, он захотел, чтобы его мать по окончании церемонии подошла поблагодарить мою. Не знаю, какое чувство руководило мною, но я не хотел, чтобы это свидание состоялось: история была кончена, нечего было к ней возвращаться. Как сейчас помню, с какой поспешностью я старался увести свою мать, увлекая ее за собой. Толпа разбрелась по дорожкам парка, мы шли по смятой траве, под деревьями играл оркестр, в это июльское утро было уже жарко. Позади себя я услышал запыхавшийся голос: «Жорж! Жорж!» С ним была мать, и поэтому ему трудно было меня догнать или же он просто не решался на это (ведь он отлично знал, что я их видел). Он не мог сомневаться в том, что я слышал его крик: «Жорж! Жорж!»
— Вы и сейчас его слышите, — сказала Тереза.
Не отвечая, он посмотрел на нее со страдальческим выражением. Она спросила:
— И потом он вам писал?
Жорж наклонил голову.
— И вы ему отвечали?
— Нет, — прошептал Жорж. Наступило молчание, Тереза прервала его вопросом:
— Что сталось с ним? — И так как юноша опустил глаза: — Он умер?
— Да, — поспешно ответил Жорж, — в Марокко. Он записался добровольцем… Нет надобности вам объяснять, что между этими обстоятельствами нет никакой связи: вы сами отлично это понимаете. Впоследствии я узнал, что по возвращении из Англии он вел ужасный образ жизни… Не знаю, зачем я вам это все рассказал.
Он умолк и сидел неподвижно, устремив глаза в одну точку. Несомненно, он не слышал шума автомобилей, проезжавших по мокрым от дождя улицам Парижа; в ушах его раздавался детский голос, вот уже сколько лет звавший его из глубины парка.
В эту минуту Тереза как будто очнулась: казалось, тоска, которую она вызвала в другом, захватила и ее.
— Нет, бедный мой мальчик, это пустяк, это совершеннейший пустяк. — И так как он отрицательно покачал головой: — Жорж, вы же сами говорили, что это — пустяк…
Он простонал:
— Как больно вы мне сделали!
Она протянула руки, желая привлечь его к себе, но он грубо отстранился, и она поняла, что потеряла его.
Тереза вновь опустилась на низенький пуф, машинально отбросив волосы со своего несоразмерно высокого лба, она обнажила большие бледные уши, но на этот раз она сделала это без всякой цели, и, может быть, поэтому-то Жорж и увидел ее наконец. Это жуткое лицо, эти старческие руки, которые пятнадцать лет тому назад пытались убить и которые еще сегодня вечером обнимали его. Он не верил своим глазам; до сих пор, увлеченный погоней за пленившим его таинственным существом, он не обращал внимания на наружность Терезы. Ведь это она, это Тереза, и в то же время это — не она, — эта женщина, защитительную речь которой он слушал с глупым видом. Нет, она не хотела причинять ему зла. Никогда не было у нее желания вредить. Она говорит, что она сопротивлялась, что будет сопротивляться до последнего вздоха, что она уже не раз, поскольку это нужно было, взбиралась и еще будет взбираться, сколько потребуется, по наклонной плоскости до какой-то новой точки, откуда вновь начнется ее падение; словно единственное ее назначение в жизни — выкарабкиваться из какой-то глубокой ямы и снова падать туда, чтобы затем вновь, неизвестно до каких пор, начинать все сначала; долгие годы не сознавала она, что таков ритм ее жизни. Но теперь она вырвалась из мрака. Теперь она прозрела.
Тереза сидела, опустив голову, обхватив руками колени. Она услышала слова Жоржа:
— Мне хотелось бы что-нибудь сделать для вас…
«Возможно, — подумала она, — это говорится лишь приличия ради, прежде чем обратиться в бегство». Но он с жаром повторил:
— Я хотел бы иметь возможность что-нибудь сделать для вас.
Очевидно, он уверен, что она ответит: «Вы бессильны что-либо сделать для меня». Тогда он убежит из этой комнаты, освободится от этого кошмара и вновь вернется к тому, что было до его знакомства с Терезой: маленькая комната, в которой уже слишком поздно заводить сегодня граммофон, так как можно потревожить соседей… О чем думал он в то время, когда его мысли не были заняты ею?..
Сегодня вечером она внезапно стала другой, непохожей на ту, которая околдовала его с первой же встречи… Она стала такой, какой изображали ее обыватели Аржелуза, и он только что испытал на себе силу ее злых чар. Он помнил одну из ее фраз, как, впрочем, и все, что она говорила в его присутствии: самые противоречивые суждения об одном и том же человеке — верны, все зависит отточки зрения, а всякая точка зрения по-своему справедлива… Но было ли подлинным лицом Терезы это внезапно возникшее перед ним жуткое лицо, как бы выхваченное из альбома уголовных преступников?
Он проговорил еще раз: «Мне больно оттого, что я ничем не могу вам помочь…» В действительности же он думал лишь о том, чтобы скорее уйти отсюда, вновь очутиться у себя в комнате, не зажигая электричества, раздеться, лечь. Когда ставни не закрыты, в комнате достаточно светло от светящейся вывески над входной дверью. Он с головой спрячется под простыню… Внезапно раздавшийся кроткий и робкий голос не был голосом Терезы, не мог принадлежать ей:
— Ну что же! Да, кое-что вы можете сделать для меня… Это очень просто: вы можете все… Но вы не захотите.
Жорж запротестовал с неподдельной горячностью. Он стоял, а Тереза, сидевшая на низеньком пуфе, по-прежнему машинальным движением откидывала волосы, обнажая лоб, на который Жорж старался не смотреть. «Нет, нет, она ничего не хочет ему сказать, к чему говорить?» Сделав громадное усилие, он опустился на колени у ее ног, так что лица их оставались на одном уровне. Теперь он видел Терезу совсем близко, смотрел как бы в лупу на эту изъеденную временем кожу. Взгляд оставался прежним, таким же прекрасным, каким Жорж его видел всегда. Но вокруг глаз, которые заставляли его столько мечтать, он открывал теперь целый погибший мир, никогда до сих пор перед ним не возникавший, — опустошенные берега мертвого моря.
— Если вы так настаиваете… Да, речь идет о Мари, — после некоторого колебания вновь заговорила Тереза. — Не волнуйтесь, я не стану вас ни о чем просить, кроме того, чтобы вы подождали, не действовали опрометчиво, предоставили все времени. Вы достаточно меня знаете. Я не такая мать, которая стремится «пристроить» свою дочь, ни тем более такая, которая ради счастья дочери пошла бы на унижение; да и кто поручится, что вы когда-нибудь дадите ей это счастье? Нет, это ради меня я вас прошу, умоляю вас… Не ради Мари, ради меня.
Она горячо настаивала: он один мог победить эту страсть разрушения, владевшую ею, эту способность, проявляющуюся помимо ее воли, эту исходящую от нее ужасную силу. Видя ее полные слез глаза, слыша ее глухой голос, он бормотал: «Да, я все понимаю… Я обещаю вам…» Если существовал в мире кто-либо, кого он никогда больше не хотел бы увидеть, то в настоящую минуту это, конечно, была дочь Терезы. Дочь Терезы! Именно то, от чего он хотел бы бежать… И тем не менее он повторял: «Не беспокойтесь о Мари…» Как мог он устоять перед такой мольбой?
— Это вас ни к чему не обязывает… Но я остаюсь при прежнем убеждении, что если у вас хватит терпения… Главное для вас (ведь я вас знаю, бедное мое дитя!) — это не любить, а быть любимым; необходимо, чтобы какая-нибудь женщина взяла вас под свою опеку; да, чтобы какая-нибудь женщина заботилась о вас в то время, как сами вы будете — и довольно часто — до безумия увлекаться другой… Видите, речь идет даже не о том, чтобы вы были верны Мари… Вы думаете, что она не примирится заранее с теми ударами, которые вы можете ей нанести? Нет, дело не в этом: ей нужно лишь, чтобы вы существовали в ее жизни, чтобы вы оставались в ней навсегда.
Говоря это, она приблизила к нему лицо, он чувствовал ее дыхание. И когда она взяла его за руки, он, стоя с опущенной головой, утвердительно кивнул ей; казалось, он порывался скорее уйти, и на этот раз уже Тереза удержи вала его на пороге, чтобы поблагодарить его и вновь услышать от него подтверждение, что он сдержит свое обещание. Она добавила, и в словах ее одновременно прозвучали приказание и мольба:
— Вы забудете об этой глупой лицейской истории.
Он спросил: «Вы думаете?» — и улыбнулся, как всегда, исподлобья, затем взялся за ручку двери. Но Тереза еще раз окликнула его:
— Выберите книгу в моем шкафу, любую, какая вам понравится, и оставьте ее себе на память!
— Книги!
Он пожал плечами и снова улыбнулся. В эту минуту Тереза, исчерпавшая все свои силы, уже не испытывала к нему ничего, что походило бы на любовь или хотя бы на нежность. Усилившаяся в левой стороне груди боль убивала в Терезе всякое чувство собственной вины, дорогой ценой придется ей заплатить за этот вечер и за целый ряд других вечеров! «Какая же я жалкая безумица!» Хорошо еще, что в такого рода делах обыкновенно не бывает свидетелей, и никто ничего не может рассказать о происходившем. Но ведь, в конце концов, она вы полнила свою задачу… Можно ли быть уверенной хотя бы в этом? Взяв опять юношу за обе руки, она посмотрела ему в глаза:
— Вы останетесь в жизни Мари? Останетесь? Вы это обещали? — страстно настаивала она.
Он открыл дверь и уже на площадке лестницы обернулся, чтобы ответить:
— Пока я буду жив…
Тереза, наконец успокоившись, закрыла дверь и вернулась в гостиную; минуту она стояла в раздумье, затем, быстро подойдя к окну, открыла его, распахнула ставни и высунулась в окно, во влажный сумрак ночи. Но балконы нижних этажей скрывали от нее тротуар. Она не увидела Жоржа Фило, она услышала лишь чьи-то удалявшиеся шаги: возможно, шаги Жоржа.
VIII
Нечего было и думать о том, чтобы лечь. Опершись на подушки, она продолжала сидеть в темноте; глаза ее были широко раскрыты, все внимание сосредоточено на том, чтобы справиться с удушьем. Было самое тихое время ночи. Малейший вздох, тоскливый или радостный, не остался бы незамеченным, думала она. Его было бы достаточно, чтобы нарушить молчание мира. Тереза старалась отдышаться, подобно балерине, прислонившейся к декорации во время антракта. Драма прервана, и без желания Терезы она не возобновится.
Трудно представить себе, что в этом ночном молчании скрыты тысячи страстных объятий и предсмертных агоний. Тереза думала, что добилась покоя, между тем она лишь временно вышла из игры. Но эта игра продолжалась без ее ведома где-то в другом месте. Тот, чьи удалявшиеся шаги она слышала в тишине пустынной улицы, возможно, тоже сейчас уже дома, в своей постели. А может быть, он пошел еще куда-нибудь. Она не задумывалась над этим вопросом, хотя не переставала думать о Жорже.
Как он был одет сегодня вечером? Он не умеет одеваться. Тереза старалась вспомнить цвет его галстука, недостаточно туго стягивавшего невысокий воротник. Ей припомнился особый взгляд, который она подметила у него в тот момент, когда голова его лежала у нее на плече и она, чтобы лучше его видеть, с ласковой улыбкой склонялась над ним, как мать над ребенком. Он же, не отвечая на ее улыбку, лишь пристально смотрел на нее глазами ночной птицы. И тогда она ясно увидела, что левый глаз его косит — слегка «подгулял», как сказали бы в Аржелузе. Что напоминала ей эта начинавшая отрастать борода, придававшая грязный вид его подбородку? Ах! Да… снимок в старом номере «Иллюстрасьон», мертвое лицо молодого испанского анархиста, убитого карабинерами… Она подумала, что Жорж мог бы сейчас быть подле нее, и в этом не было бы ни риска, ни преступления. Тереза слишком страдала, ее болезнь избавила бы их от жалких жестов любовного ритуала. Прижавшись к ней, он спал бы невинным детским сном. Ведь матери часто берут к себе в кровать детей, которых мучают тяжелые сны. Она же, защищенная болезнью и этим ощущением близости смерти, таящимся в груди, спокойно, без свидетелей, наслаждалась бы присутствием возле себя другого человеческого существа; хотя того, кем она любовалась бы, даже не было бы здесь, ведь сон есть отсутствие. Последнее бодрствование над спящим, последняя радость — странная радость, которая удовлетворила бы ее, но никому другому не была бы понятна… Ах! Зачем она так поторопилась прогнать его от себя во мрак ночи? Быть может, никогда больше не представится возможность хоть на мгновение испытать такое счастье… никогда больше!
Физическая боль стихала, дышать стало легче, и грезы Терезы мало-помалу переносились в другой мир, мир, заполненный людьми и вещами прошлого. В этом мире для Жоржа Фило нет места. Она обедает с мужем в квартире, на острове Сен-Луи, где она когда-то прожила несколько лет и куда он никогда не приезжал; Мари — уже взрослая — сидит между ними; Терезе хочется незаметно для Бернара и Мари уйти из-за стола; но Анна, наливающая в ее стакан вино, делает ей знак не двигаться; она же чувствует, что ей надо сделать что-то неотложное, — что именно, она не знает, — ей необходимо уйти…
Тереза внезапно проснулась; ей показалось, что уже наступило утро, но, повернув выключатель, она снова выключила свет. Бессонница ее не страшила: так чудесно иметь возможность думать о Жорже. Здесь, в этой таинственной области, созданной ее воображением, в мире грез и фантазий она по крайней мере не причиняет никому зла, никого не отравляет. «Но ведь он уже не принадлежит мне, — подумала она, — он принадлежит Мари…»
Она старалась больше не отделять их в своих мыслях: она представляла их вместе. И Тереза старалась отделаться от какого-то смутного стыда.
С чувством горького удовлетворения, с желанием бередить свою рану она сосредоточила все внимание на этом слившемся, двуликом образе. Нет, ночь пройдет незаметно в размышлениях над мирной жизнью двух нежных супругов, у которых есть дети, которые делят и горе и радость и доживают вместе до седых волос, до самой смерти; тот из них, кто умирает первым, лишь открывает путь другому, чтобы оставшийся в живых не страшился вечного сна. Тереза всегда сохраняла в себе эту способность до мельчайших подробностей представлять себе подобную жизнь, которая для нее самой навсегда осталась недоступной; ей казалось, что все возвышенное и значительное в повседневной жизни ускользает от тех, кто окунулся в эту жизнь, и хлеб насущный им приедается; лишь те люди, которые, подобно ей, навсегда лишены его, глубоко и тяжело переживают свой голод.
«Не в течение какого-нибудь часа или дня, но каждый вечер, всю жизнь иметь возможность склонить голову на чье-нибудь плечо, — думала Тереза, — не при кратковременных встречах, но каждую ночь, до самой смерти засыпать в объятиях друга. Разве это не дано большинству людей? Мари узнает это счастье, и Жорж тоже его узнает. Я дам им то, чего сама никогда не получу. Я сумею дать им в изобилии даже то, чем сама никогда не располагала. Не все ли равно, где это произойдет, — в Париже или в Аржелузе? Я скажу это Жоржу… я ему это скажу… Но ведь он не любит Мари, — произнесла она вполголоса. — Он решается. Почему решается он на это? Теперь уже не ради любви или хотя бы жалости ко мне… быть может, чтобы сдержать данное слово? Ведь немало таких мужчин, которые думают, что данное слово надо держать».
Широко раскрыв глаза, Тереза вздрогнула от страха при мысли, что еще раз сделала все, чтобы Жорж и Мари стали, возможно, более несчастными. В тех случаях, когда поступки ее грозили кому-нибудь гибелью, инстинкт никогда ее не обманывал!
Она пыталась оправдаться: «Да нет же! За Мари я совершенно спокойна; она получит то, без чего не мыслит своего существования, — присутствие Жоржа… даже если он будет причинять ей страдания: покинутые женщины всегда с наслаждением вспоминают о том, что им пришлось претерпеть. Отсутствие любимого — единственное их горе; отсутствие без надежды на возвращение — единственное, непоправимое горе! Но Жорж? Жорж, которого она толкнула на путь, внушающий ему отвращение…»
Глаза Терезы привыкли к темноте. Она различала очертания шкафа, темное пятно кресла и свою брошенную одежду, на которую падали блики света, пробивавшегося сквозь щели жалюзи и не походившего на свет зари. Не было слышно шума автомобилей. «Жорж… Жорж…» — в глубокой тоске повторяла Тереза. Ну что же! Да… Мари будет нужна Жоржу. Тереза уверена в этом, так как знает его; она не могла бы знать его лучше даже в том случае, если бы сама носила, родила и выкормила его, даже если бы видела его пробуждение к сознательной жизни. Эти юноши болезненно нуждаются в чужом внимании, свое же собственное ни на секунду не могут сосредоточить ни на чем другом, кроме себя самих… Достаточно видеть, как Жорж ежеминутно трогает свой нос, губы, щеки… Он принадлежит к числу тех, кто слишком увлекается самонаблюдением, кто минута за минутой следит за приближением старости и смерти…
Нет, у него нет иного выхода, кроме любви такой Мари, может быть, это несчастье, но несчастье наименьшее. По правде сказать, он совсем не сопротивлялся. Он тотчас же на это согласился. Слишком скоро, по мнению Терезы. Как дорого было бы ей его сопротивление! Но нет, он без всякого видимого усилия обещал остаться верным Мари, с невероятной покорностью. Уже уходя, на пороге, он подтвердил ей свое обещание. Какое выражение он употребил? Тереза силится его вспомнить, но сразу ей это не удается. Однако она уверена, что припомнит его слова, так как они ее поразили тогда. «Он сказал… Ах! Да! Он сказал (и это проще, менее торжественно, чем мне казалось), он сказал: «Пока я буду жив…»
В сущности, в этих словах нет ничего особенного. Почему же они поразили ее так сильно, что и сейчас она могла найти их запечатлевшимися глубоко в ее памяти? Ей казалось, что она вновь слышит его голос: это «Пока я буду жив…» было сказано с определенным выражением… Конечно, когда его уже не будет в живых… Довольно глупо было уходить сейчас же после такой фразы… Он произнес эти слова, желая лишь придать больше силы своему обещанию. Они означали, что только смерть может освободить его от взятого им на себя обязательства.
«Нет! — со стоном вырвалось у Терезы. — Нет! Нет!» Она протестовала против пришедшей ей в голову мысли, мысли, которую она гнала от себя, против нелепого, зародившегося в ней страха, против пока еще неясной тревоги, которая — Тереза в этом уверена — возрастет, захватит, овладеет ею. Нет, в этой короткой фразе не заключалось угрозы; эти простые четыре слова не имели никакого другого значения: их следовало понимать только в прямом смысле: пока я буду жив… Ну да! Конечно, пока он жив. Мари не будет покинута. Пока он жив, Тереза может быть спокойна за судьбу Мари… Ах! Неужели ей придется всю ночь продумать над этим пока я буду жив, на все лады перетолковывая эти слова?
Тереза пыталась успокоиться: «В худшем случае, если в словах его скрывалась угроза, достаточно будет сегодня утром написать, чтобы он не считал себя связанным обещанием… Или же нет: я сама пойду поговорю с ним».
Тереза встала и, дрожа от холода, открыла окно, распахнула ставни. Шел дождь. Свет занимающейся зари медленно скользил по крышам. В тишине пустынной улицы раздавались чьи-то шаги, подобно шагам Жоржа накануне вечером… Ах, отчего не побежала она за ним! Сейчас еще слишком рано вставать, идти в отель. Ее примут за сумасшедшую. Раньше восьми часов туда нечего и показываться. Еще два часа ждать. Набросив халат, Тереза прошла в гостиную, которая при свете люстры неожиданно предстала перед ней в том виде, в каком Жорж оставил ее. Взглянув на кресло, на котором он стоял на коленях, Тереза закрыла глаза, и ей показалось, что в запахе застоявшегося в комнате табачного дыма она различает запах дешевого бриллиантина. Нет, она не станет открывать ни окна, ни ставней, чтобы вдыхать этот запах до тех пор, пока он не исчезнет. Она боялась чем-либо нарушить царивший в комнате беспорядок, свидетельствовавший о том, что Жорж жив. В камине тлел огонь, у которого он грел ноги. Он жив. Ничто не потеряно, и жизнь Терезы может еще сложиться так, как у всякой другой. Она могла бы стоять здесь в эту же минуту, на этом же месте, но, встав с постели с предосторожностью, боясь его разбудить; через приоткрытую дверь она прислушивалась бы к его дыханию. Но она захотела его потерять, она безвозвратно его потеряла. Когда сейчас в отеле она вновь увидит его, не в ее власти будет воссоздать мираж; никогда уже не будет она для него той женщиной, без которой, как ему несколько дней казалось, он не мог бы жить. Теперь он знал ее, знал подлинную Терезу… И она заранее представляла себе взгляд, которым он встретит ее сейчас, когда она войдет в его комнату… Ах! Лишь бы то был взгляд живого человека! Важно только, чтобы он был жив! Что это она подумала? Что это осмелилась она подумать? Какое безумие! Нет, больше Тереза ему не поддастся.
Настежь распахнув окно, она села в кресло, где несколько часов назад стоял на коленях Жорж, и, укутавшись в одеяло, положила босые ноги на низенький пуф. Теперь это пока я буду жив показалось ей совсем безобидным, и ее удивляло, как могла она в этих словах уловить хотя бы малейший намек на угрозу. Ворвавшийся вместе с дождем порыв ветра развеял по столу пепел от папиросы.
Терезу разбудила Анна, не спросившая ее ни о чем.
— Я не могла спать лежа, — робко сказала Тереза.
Лицо служанки оставалось бесстрастным. Какое Терезе, собственно говоря, дело до этой девушки! Уже девять часов. Может быть, Жорж куда-нибудь ушел; пожалуй, даже лучше не встречаться с ним. На стук в дверь его комнаты она не получит ответа; тогда она на минуту откроет дверь, чтобы увидеть неубранную кровать. Или же она оставит на столе письмо, которым напомнит Жоржу, что он не должен считать себя чем-то связанным, что он свободен. Она пишет это письмо, затем поспешно одевается, она чувствует себя разбитой, но знает, что может побороть свою слабость. Она еще успеет умереть от усталости; сперва нужно убедиться в том, что Жорж жив. Она дает шоферу адрес отеля «Шмен де фер де л'Уест». Скоро она успокоится; тем не менее она старается вообразить худшее, чтобы быть уверенной, что это худшее не случится. Она представляет себе, что в отеле тревога. «Вы хотите видеть месье Фило? Но разве вы не знаете, что сегодня ночью?.. Соседи слышали глухой выстрел… Они не поняли, что это могло быть…» Она отчетливо слышит, как управляющая говорит: «Да, родные предупреждены… Не хотите ли посмотреть на него? Он не изменился». Или же ей скажут: «Он ушел в семь часов; как всегда, поздоровался с нами. И в голову не могло прийти, что потом его к нам привезут…» Тереза качает головой, вздыхает. Теперь она может быть спокойна, того, что она только что так ясно себе представила, в действительности не существует, ведь она совершенно не обладает даром предвидения, а жизнь всегда сулит нам неожиданности.
В отеле, казалось, все было спокойно. Окно Жоржа было закрыто, ставни открыты. Никого ни в коридоре, ни на лестнице. Она быстро поднялась на четвертый этаж: дорого обойдется ей эта поспешность. Кто-то напевает за дверью. Он напевает… Нет, это в соседней комнате. Но ей кажется, что она слышит его дыхание, она стучит, прислушивается, стучит еще раз. В комнате — никого, постель не смята, спертый воздух сутки не проветривавшегося помещения; обычный запах всех второразрядных гостиниц, запах давно не сменявшегося постельного белья, заношенного платья. Тереза закрывает дверь. Зачем приходить в отчаяние? Он ушел с раннего утра, уже успели убрать его комнату, стоит только справиться в конторе… Впрочем, что странного в таком исчезновении, если ей и сообщат, что он не приходил со вчерашнего вечера?
Сидя на постели, грудью наклонившись вперед, она рассматривала рисунок ковра из линолеума; здесь, в этой комнате, жил Жорж, здесь он страдал, по этому коврику каждое утро ступали его босые ноги. На ночном столике лекции права, отпечатанные на гектографе. Над кроватью вырезанная из кинематографического журнала фотография круглолицей девушки. Потом опять она же в купальном костюме. Какую роль играют киноартистки в жизни всех этих юношей… Это те женщины, которыми они обладают лишь на картинках… Тереза выпрямилась: у стены, как черная мишень, поставленная на ребро граммофонная пластинка. На этажерке дешевые книжки. (С каким презрением воскликнул он накануне вечером: «Книги!») И вдруг ей бросилась в глаза — на столе, на самом видном месте — четвертушка белой бумаги. Тереза дрожащими руками поднесла ее к глазам: тщательный, четкий почерк, однако она лишь с трудом его разобрала: «Я безрезультатно прождал тебя сегодня утром в «Des deux magots». Здесь мне сказали, что ты не возвращался со вчерашнего вечера, ах ты… Как только вернешься, приходи ко мне в «Capoulade», я буду там до двух часов». Тереза поняла: это от Монду… Бесполезно справляться в конторе: совершенно очевидно, Жорж провел ночь вне дома. Но Монду это, казалось, совсем не удивило. Она глубоко вздохнула. Да, Монду находит это вполне естественным. Жорж появится с минуты на минуту. Она подождет… «Будто это так легко!..» — вздохнула она.
Автобусы и такси спешили к утренним поездам на вокзал. Тереза подошла к окну. Дождь перестал. Стоя по пояс в длинной канаве, у оголенной канализационной трубы копошились рабочие. Машина повседневной жизни города была заведена, и управлял ею полицейский. Ничем нельзя было ее остановить, можно было лишь убить самого себя. Но можно также толкнуть другого на самоубийство… «Если Жорж покончил с собой, меня следует арестовать, посадить в тюрьму… Нет, я с ума схожу!» Закрыв окно, она вновь опустилась на кровать, прислушиваясь к стуку шагов, к возгласам, к звонкам. Ах, если бы это был он! В нижнем этаже хлопнула дверь, за перегородкой оборвалось пение; и эти странные, приглушенные звуки, исходящие от водопроводных труб и напоминающие звуки далекого оркестра… На этот раз она не ошибается: кто-то торопливо поднимается по лестнице, останавливается перед дверью, она слышит, как он запыхался, как он переводит дыхание. Нет, это не Жорж; она не сразу узнает Монду.
Подойдя к двери, он тоже почувствовал, что в комнате кто-то есть, и решил, что Жорж наконец вернулся. Но здесь эта женщина. Он как раз шел от нее. Здесь только эта женщина. Она же подумала в свою очередь: «Это только Монду». Не представляя друг для друга никакого интереса, они лишь враждебно смотрели один на другого. Монду сухо спросил:
— Когда видели вы его в последний раз?
Она ответила, что накануне вечером он ушел от нее почти в двенадцать. У Монду вырвалось легкое восклицание, и он отвел глаза. Тереза видела его только один раз, в кафе за столиком. Теперь же, когда он стоял, он оказался огромного роста, у него были правильные, тонкие черты лица, открытый взгляд, но он сутулился и был безобразно худ.
— О чем вы говорили? Как вы расстались?
Еще один судья после целого ряда других! Терезе уже поздно теперь отступать. Может быть, за ней следят? Она покорно ответила, что они с полной откровенностью беседовали о ее дочери и расстались друзьями.
Тереза предпочла бы не лгать. Не ее вина, если правду не передать никакими словами. Нельзя вкратце рассказать историю двух людей, которые подобным образом столкнулись друг с другом. В самом деле, что, собственно, произошло между ними? Тереза чувствовала себя бессильной точно это сформулировать. Даже на допросе у следователя она не вымолвила бы ни слова. Но почему Монду проявляет такое беспокойство? Она не решалась спросить его об этом. Сразу видно, что он страшно волнуется. То, чего она боялась, неожиданно превращалось в жестокую действительность. Она пробормотала:
— Какие у вас основания пугаться? Разве есть что-нибудь необычное в том, что он не ночевал дома?
Он почти грубо оборвал ее: «К чему разыгрывает она эту комедию? Она же отлично знает, чего он боится…»
— Нет, правда! Я его очень мало знаю, а вы, вероятно, уже давно… Вы должны мне сказать…
Он сделал отрицательный жест, чувствуя, по-видимому, такое же бессилие, какое помешало Терезе рассказать о последних часах, проведенных ею с Жоржем накануне вечером. Этих двух людей, стоявших один против другого в маленькой комнате, их отсутствующий друг разъединял так, словно между ними лежало необъятное море. Общим было одно только их беспокойство.
— Я думал было сходить в полицейский участок, но ведь мне рассмеялись бы в лицо. Юноша, исчезнувший накануне вечером! Мне посоветовали бы ждать, не приходить в отчаяние. Если допустить даже самое худшее, в утренних газетах еще ничего не может быть. Посмотрим, что скажут дневные.
— Вы с ума сошли! — прошептала Тереза. Он пожал плечами. Она села на кровать. Она признавала себя побежденной какой-то могущественной силой, которая, возможно, не была слепой, какой-то неведомой властью, в которую она не верила (но ведь только что она так же не верила, что ей удастся умилостивить судьбу, если она мысленно станет допускать самое худшее; и все же она действовала так, словно верила в это)… Вот и сейчас она с безумной мольбой обращается к этому «ничто», которое безжалостно давит и угнетает ее. Она делает вид, что верит в то, что ребенок, который еще жив, но с минуты на минуту должен погибнуть, может по воле женщины быть возвращен к жизни. Тереза задыхалась; она задыхалась бы не больше даже в том случае, если бы одна, своими силами, вытащила на берег тяжелое, большое тело. По временам мысли ее прояснялись. «Какое безумие! — повторяла она. — Какое безумие!» Но тут же, как бы стараясь заслужить прощение своему неверию, с огромным напряжением словно насилуя чью-то волю — она не знала чью, — вновь горячо, почти яростно принималась за свои мольбы.
Монду открыл окно и облокотился на подоконник. Тереза спросила его, в котором часу предполагает он начать поиски. Из-за уличного шума он не расслышал ее вопроса, и она, дошедшая до полного изнеможения, продолжала сидеть на кровати, испытывая мучительный стыд от сознания, что унизилась до молитв… Будто она когда-нибудь думала, что эти молитвы, хотя бы в незначительной мере, могут что-либо изменить в случившемся! Остается одно — ждать, и если худшее уже совершилось… ну что же! Надо примириться с этой мыслью, свыкнуться с нею — с этой мыслью, с которой так тяжело будет жить: «ребенок не погиб бы, если бы не знал меня». Невыносимая мысль; тем не менее, как это бывало с Терезой всегда, она к ней привыкнет, она уже обдумывает свою защиту, она будет продолжать свою бесконечную защитительную речь: ведь она первая жертва своих поступков, возможно, самая невинная. Но до ее невиновности теперь никому нет дела; важно одно: где-то с простреленным виском лежит ребенок. Как хочется Терезе, чтобы все скорее раскрылось, чтобы родители его уже знали!.. Бог мой! А Мари! Не все будет кончено с этой смертью. Мари! С этой смертью все только начнется. Высунувшийся в окно Монду не слышит, как она стонет: «Мари!» Тереза решила больше не пытаться что-либо делать для девочки. Она решила совершенно забыть о ней: что бы она теперь ни сделала для Мари, она может только смертельно ранить ее. Не думать больше о Мари: как только грянет удар, Тереза закроет глаза, заткнет уши, как делала это в детстве, когда среди ночи ее будила гроза; она не сделает ни одного движения, не ответит ни на одно оскорбление, ни одним словом не помешает завершению драмы, которая заключается в том, что где-то, — где, неизвестно, — лежит тело Жоржа Фило. Не потребует ли в конце концов людское правосудие от нее отчета? Два раза ускользнуть от полиции в течение одной и той же жизни не удастся…
Она услышала голос Монду. Он разговаривал с кем-то, кто стоял на улице. Тереза привстала, но не решилась подойти к окну. Монду обернулся и самым естественным тоном сказал:
— Это он.
С похолодевшими руками, неспособная что-либо чувствовать, она повторила: «Это он?» Она уже узнавала эти шаги на лестнице — шаги воскресшего ребенка — и от этого ослабела еще больше, словно жизнь, возвращенная Жоржу, разом покинула ее. Нельзя терять сознания, он жив. Она повторяла:
— Это он.
Монду вышел из комнаты. Сейчас в черной дыре двери появится Жорж. На нем не будет повязок, кровь не будет струиться по его лицу.
И вот наконец он появился; взгляд его был мутен, лицо обросло черной щетиной, ботинки облеплены грязью. Она не успела перехватить его взгляд. Как только он увидел Терезу, он поспешил обратно на площадку, с силой захлопнув дверь. Сперва она услышала шепот, затем раздался громкий голос Жоржа: «Нет! Нет! Отстань!» Голос злой, голос больного. Монду вернулся. Он сказал, что Жорж пошел принять ванну. Ему неприятно показываться в таком виде: «После ночной прогулки, какие он часто проделывает…» Тереза поправила шляпу перед зеркалом и, взявшись за дверную ручку, повторила:
— Он жив.
Она чувствовала себя ослабевшей, но была спокойна и, обретя душевный покой, полностью отдалась охватившему ее радостному чувству.
— Вы уж слишком мрачно все себе представляли… я, само собой разумеется, был слегка раздосадован… Но отсюда до того, чтобы считать его мертвым…
Тереза улыбнулась:
— Скажите ему, что я приходила только затем, чтобы оставить письмо: оно там, на столе.
Она обернулась еще раз и робко прибавила:
— Оно касается моей дочери… Не будете ли вы так любезны прочесть его? Я всецело полагаюсь на ваше мнение, следует ли знакомить Жоржа с содержанием этого письма… Вы лучше меня можете судить об этом…
Впредь она будет обдумывать и проверять каждый свой шаг. Тем временем Монду пробежал письмо:
— Я не премину возможно скорее передать ему это письмо, — сухо сказал он. — Да, Жоржу необходимо чувствовать себя свободным, в нем сильно развито сознание долга, а он имеет склонность взваливать на себя непосильное бремя.
Он добавил, что после подобных приступов Жоржу необходим покой… Тереза его прервала:
— Вы не говорили мне ни о каких приступах…
Он вспылил и с мальчишеским задором заявил, что не обязан давать ей никаких справок. Напрасно пыталась Тереза успокоить его, придать голосу тот хрипловатый тон, власть которого она хорошо знала, напрасно играла она глазами — Монду оставался совершенно равнодушным и даже рассердился, когда она выразила сожаление (очень ласково), что ее об этом не предупредили.
— По какому праву вошли вы в его жизнь?
Злоба, которую он уже некоторое время сдерживал, наконец прорвалась. Мгновение Тереза колебалась, затем, словно она была обязана давать отчет этому незнакомцу, произнесла вполголоса: «Дело шло о моей дочери…»
— Плевать вы хотели на вашу дочь…
Она посмотрела на него с удивлением, и ее охватила внезапная усталость. Какое ей дело до этого одержимого? Она попробовала не слушать его злого голоса:
— Я сразу раскрыл все ваши карты. Нет ничего мудреного оказывать влияние на неуравновешенную натуру, на больное воображение. Подумать только, вы еще, чего доброго, воображали, что он вас любит!
Терезе следовало пожать плечами и уйти. Но она, думавшая, что ее уже ничем нельзя вывести из состояния безразличия, не вынесла этого смеха, этого издевательства и не смогла сдержать крика: «Если бы я захотела!»
— Ну конечно, если бы вы захотели!
Почему она оставалась, почему она упорствовала? Тереза не узнавала собственного голоса. Неужели же этот жалобный голос принадлежит ей? Ей казалось, что лепечет какая-то другая женщина:
— Он сам клялся мне в любви.
— Он клялся в этом многим другим… О! Я отдаю вам должное! Вы здорово сумели, что называется, втереть ему очки, он считал вас чуть ли не гением… Но, как видите, долго это не продолжалось…
Тот же голос, тот же чужой голос какой-то идиотки, а не Терезы, возразил:
— Это длилось ровно столько, сколько я хотела.
Тереза жалобно повторила: «Если бы я захотела…»
Если бы она захотела, если бы она раскрыла ему свои объятия, если бы…
— Так в чем же дело? Вы отказались принадлежать ему… охраняя свою добродетель?
Бросив на него негодующий взгляд, она спросила дрожащим голосом:
— Что я вам сделала?
— Вы не хотели меня с ним поссорить? Нет?
— Я?
— Да, вы хотели возбудить в нем ревность. Вы не успели еще рассказать ему, что я за вами ухаживаю. Мы виделись с вами всего лишь раз, и он вам не поверил бы. Но вы не преминули бы это сделать в ближайшие же дни… Это старый, верный способ. Все женщины знают его. А пока что вы притворились, что я вам очень нравлюсь… Хорошенькую сценку он устроил мне в тот день в кафе после вашего ухода!
— Нельзя сказать, чтобы логика была вашим сильным местом, — прервала его взбешенная Тереза. — Всего минуту тому назад вы никак не хотели допустить, что он меня любит…
На этот раз говорила уже она — Тереза, готовая беспощадно жалить. Тереза, только что неосторожно разбуженная этим человеком. «Один он, — говорила она, — лопается от ревности. Ревность не всегда смешна, его же ревность безусловно комична».
— Комична? Почему?
Вместо ответа она слегка усмехнулась, но от него не ускользнула скрытая в этой усмешке ирония. Откинув назад маленькую голову и глядя на него в упор, она внезапно возвысила голос:
— Каким бы оригиналом ваш друг ни был, ему никогда не пришла бы в голову мысль, что вы способны кому-нибудь понравиться… Если бы я задалась целью возбудить в нем ревность, я, конечно, постаралась бы, чтобы это выглядело более правдоподобно…
Она была уверена, что нашла наконец слабое место врага, место, по которому и следовало бить; сознание, что она заставляет его страдать, доставляло ей глубокое наслаждение. И чем язвительнее были слова, которые без всякого усилия непрерывным потоком срывались с ее губ, тем ласковее становился ее голос. От возможности получить удовлетворение она смягчилась. Уверенность, что последнее слово останется за ней, что в ее власти нанести ему смертельный удар, возвращала ей душевный мир. Внезапно она успокоилась, не чувствовала больше своего сердца. Такой дерзкий еще несколько минут тому назад, юноша побледнел…
— Когда вам кажется, что вам удалось оскорбить женщину, вы чувствуете удовлетворение, не так ли? И вы не ошибаетесь, это единственное удовольствие, которое вы вправе ожидать от женщин. Но это мнимое удовольствие, так как вам никогда не удается действительно сделать нам больно. Этой способностью обладают лишь те, кого мы любим. Опасны только мужчины, которых любят. Любопытно даже, что, проявив такую грубость по отношению к женщине, какую проявили вы ко мне, можно быть столь безобидным…
— Это нисколько меня не трогает! — пробормотал Монду.
Он повторил: «Это меня не трогает!..», но, открыв дверь, он старался вытолкнуть Терезу на лестницу, отворачивая от нее свое до неузнаваемости искаженное лицо. На мгновение Тереза взглянула в эти еще совершенно детские глаза… Почему вдруг улеглась ее ярость? Ненависть отступала, как волны в морской отлив, убывала, как вода. Откуда взялось у нее столько смелости?
— Нет, — сказала она, — нет! Не верьте мне.
Он продолжал выталкивать ее, но она держалась за дверной косяк.
— Не надо верить мне, — вновь начала она вполголоса.
— Мне в высшей степени наплевать на все, что вы можете мне сказать!
С минуты на минуту должен вернуться Жорж, он не хотел застать ее в своей комнате.
— Он категорически сказал мне: «Главное, чтобы она ушла, чтобы больше я ее не видел!»
Тереза замерла у двери, и Монду не смог вынести ее застывшего взгляда. Она осторожно высвободила руку, которую он удерживал. Когда она уже была на площадке, ее маленькая головка вновь поднялась:
— Я старалась вас оскорбить. Я придумывала невесть что…
Он тихо ответил:
— Нет, нет, не невесть что…
С беспокойством она спросила:
— Что вы предполагаете делать, чтобы отомстить? Донести в полицию?
Пораженный, он не двигался с места, пока она не сошла с лестницы, пока не скрылась из виду; затем, вернувшись в комнату, он сел за стол своего приятеля и, облокотившись, опустил голову на руки.
IX
Идя по улице вдоль домов, Тереза думала о нем. В эту минуту ее не занимали ни Жорж Фило, ни Мари. Ее интересовал только Монду — ее последняя жертва. Дело не в том, что большого зла она ему не причинила; этот удар, нанесенный верной рукой, дал ей возможность уяснить себе силу своего могущества, помог ей определить свое назначение. Нет ничего удивительного, что на нее оглядываются прохожие: вонючее животное сразу выдает свое присутствие. Тереза чувствовала на себе чужие назойливые взгляды. Она ускорила шаги, горя нетерпением скорее добраться до своего логова и укрыться там. Теперь ей придется жить отшельницей. Для того чтобы быть уверенной, что уже никому не навредишь, а также для того, чтобы избежать возмездия, ибо все те, кому она причиняла зло, в конце концов объединятся. Она достаточно долго подвергала себя риску… Да, конечно, до сих пор она жила под защитой постановления об отсутствии состава преступления, но подобные прецеденты придают только большее значение любой клевете… Какой клевете? Оклеветать ее невозможно: разве не совершила она больше преступлений, чем ей может быть приписано? Но ведь никто ее не обвинял! Никто. Что это она выдумала?
У нее слегка кружилась голова; она прислонилась к каким-то воротам, на несколько мгновений закрыла глаза и вспомнила, что ничего не ела с утра. Черт возьми! Она голодна; насколько она помнит, она не завтракала. Нет, это не значит, что она сходит с ума, нужно только не забывать есть в определенные часы. Она зашла в кондитерскую, выпила чаю. Все входило в норму, все вновь становилось простым: Жорж Фило жив, начиная с этого дня, она перестает думать о Мари, жизнь ее будет протекать между креслом и столом, выходить она будет лишь с наступлением темноты. Никогда уже не покажется она на улице среди бела дня. Никогда не станет подвергать себя опасности этих взглядов, которые она чувствует на своей спине.
Вот наконец она дома. Только бы консьержки не было на лестнице! Но та как раз стоит в дверях своей комнаты и разговаривает с Анной. Почему они умолкают при виде Терезы? Почему с таким напряженным, неприятным вниманием разглядывают ее? Консьержка ей сообщает:
— О вас сегодня утром кто-то справлялся. Да, такой высокий парень… Он задавал мне вопросы…
— Какие вопросы?
— Разве запомнишь? Не выходили ли вы вчера вечером, не принимали ли кого-либо у себя…
— Что же вы ответили?
— Что я ничего не знаю, что шпионить за другими не мое дело…
Тереза не посмела ее спросить: «Кто же это мог быть, по вашему мнению?» Она не попросила описать ей этого неизвестного посетителя: старуха, вероятно, ответила бы: «Молодой, высокий дылда…», — и Тереза, возможно, узнала бы Монду, который действительно в то самое время, когда она выходила из автомобиля перед отелем «Шмен де фер де л'Уест», заходил на улицу Бак.
Взволновавшись и совсем забыв о своем больном сердце, Тереза быстро поднялась по лестнице. Она заперла дверь на засов и, даже не сняв шляпы, опустилась в первое попавшееся кресло. Сильно болела грудь, но теперь она уже не боялась умереть в одиночестве: главное — защитить себя от людей… Анна, очевидно, поднялась по черной лестнице; надо будет избавиться от Анны. Тереза полагала, что девушка не ладите консьержкой; по-видимому, общая ненависть к Терезе примирила их. Но просто так, ни с того ни с сего, вышвырнуть Анну за дверь, нажить себе смертельного врага в ее лице… Что же такое придумать, чтобы заставить ее уйти добровольно? «Если кто-нибудь заинтересован в том, чтобы она осталась у меня, ее не заставишь уйти, она будет цепляться за это место».
Вновь охваченная беспокойством, Тереза с трудом добралась до своей комнаты. «Но ведь это же нелепо, — думала она, — я ничем не рискую. Все то, в чем я виновна, законом не преследуется. Конечно, можно желать моей гибели, можно сговориться и погубить меня. Ничего не стоит причинить неприятность женщине, у которой уже были недоразумения с правосудием…»
Напрасно твердила она себе: «Ничего же не случилось!» — она чувствовала, как вокруг ее шеи затягивается петля. Против этой уверенности были бессильны какие-либо доводы. Тишина квартиры казалась ей подозрительной. Уже давно Анна не поет больше своих эльзасских песенок. Теперь она только шпионит; очевидно, она не пропустила мимо ушей ни одного слова из тех разговоров, которые Тереза вела с Жоржем и Мари в гостиной. И тому и другому Тереза призналась в своем преступлении. Какую замечательную помощницу найдут враги Терезы в этой девушке! Нет, теперь она уже не поет, не гремит больше посудой — она подстерегает признания, которые могут вырваться у ее хозяйки.
Подойдя к окну, Тереза раздвинула занавески и увидела на тротуаре мужчину, смотревшего вверх. Делая вид, что он ждет автобус, он стоял у остановки, не спуская глаз с ее квартиры. «Нет! Ты же отлично знаешь, что он ждет автобус…» Тереза громко произнесла эти слова, чтобы убедить себя, что она не потеряла способности здраво рассуждать. Она отлично знала, что из своей комнаты не может слышать дыхания человека, стоящего у входной двери, и все же была уверена, что слышит чье-то прерывистое дыхание. Чтобы удостовериться, она прошла в переднюю, открыла дверь и почти столкнулась с консьержкой, которая «забыла передать мадам корреспонденцию…» Тереза совсем близко увидела это плоское, серое лицо, на котором поблескивали свиные глазки, нет, не свиные — крысиные глазки. И какое в них жадное любопытство!
— Почему вы меня так разглядываете?
— У мадам что-то плохой вид.
— Я чувствую себя, как обычно.
— Но, мадам, то, что я об этом сказала…
— Тот тип, что приходил вчера, не спрашивал вас, больна ли я? Нет? Впрочем, все эти сплетни меня не интересуют…
С силой хлопнув дверью, она закрыла ее на засов. Консьержка, опешив, заворчала: «А, так!» — но вместо того, чтобы сойти вниз, она открыла своим ключом дверь в пустую квартиру напротив и по черной лестнице прошла в кухню к Анне.
Сидя на низеньком пуфе, грудью наклонившись вперед, как всегда, когда у нее болело сердце, Тереза не двигалась, внимательно прислушиваясь к малейшему шуму, вся обратясь в слух, как лисица, которая слышит собак. Анна говорит сама с собой… Нет, кто-то ей отвечает. В кухне идет разговор вполголоса. В кухне кто-то сговаривается с Анной.
С трудом добравшись до столовой, Тереза приложила ухо к замочной скважине и узнала голос консьержки.
Не могла она успеть спуститься по главной лестнице и снова подняться по черной. Когда Тереза придет в себя, над этим надо подумать, надо будет разгадать эту загадку. Сейчас же нужно постараться не пропустить ни слова. Консьержка советует следить за Терезой. По ее мнению, не мешает даже предупредить семью. Так, так… Анна говорит, что знает адрес… «Откуда она его знает? — спрашивает себя Тереза. — Через Мари, конечно… Они переписываются за ее спиной…» Услышав шум, Анна открывает дверь и отступает при виде белого как полотно лица хозяйки.
— Я пришла узнать, скоро ли вы собираетесь подавать обед… — И к консьержке: — Вы опять поднялись наверх, сударыня?
Пробурчав, что она на минутку зашла навестить Анну, старуха скрылась по черной лестнице. Продолжая возиться у плиты, Анна не решалась оглянуться, все время чувствуя на себе подозрительный взгляд.
Тереза снова вернулась на свое низенькое кресло. Коснувшись рукой горла, она как бы осязала захлестнувшую ее петлю.
Никогда уже не сможет она дышать свободно. Прежде всего ей не следует выходить на улицу. Здесь, в квартире, за ней следят, но что еще могут ей сделать? Жилище неприкосновенно. Разве только они донесут на нее… Очевидно, для этого недостаточно данных. Использовать как прямую улику против нее те признания, которые подслушала Анна, они сейчас не могут. Но если она выйдет, она сразу попадет в расставленную западню. Отлично известно, что она виновна, что она заслуживает каторги; им нужно лишь найти законный предлог… У полиции всегда найдется в запасе такой прием, которым она сумеет погубить намеченную жертву. Дома с нее не спускают глаз, но они ничего не сделают ей, ибо уверены, что рано или поздно она выйдет на улицу. Анна пришла сказать:
— Кушать подано.
У нее не обычный голос, и она ни на минуту не спускает глаз с Терезы.
— Мадам ничего не ест?
Какой у нее огорченный вид оттого, что Тереза ничего не ест!
— Мадам должна заставить себя.
Воля Терезы инстинктивно сопротивляется воле противника: если хотят, чтобы она ела, значит, непременно следует отказываться от всякой пищи.
Когда Анна принесла кофе, она увидела, что хозяйка сидит против двери, не сводя с нее глаз; позднее, когда служанка пришла за подносом, кофейник был по-прежнему полон; Тереза не переменила позы. Нельзя сказать, чтобы ей не хотелось рискнуть выйти на улицу и удивить врагов своей смелостью; они были бы поражены и не осмелились бы ничего предпринять, она же следила бы за их маневрами… Так как и в четыре часа она отказалась от чая, который налила ей Анна, девушке пришло в голову попробовать его перед ней, причмокивая языком и приговаривая: «Ах, как вкусно…», как она делала, когда ее маленькая сестренка не хотела есть суп. Тереза тотчас же выхватила чашку у нее из рук и с жадностью стала пить. Тем не менее она продолжала смотреть на Анну с жутким выражением.
— У мадам болит сердце?
— Нет, Анна… или, вернее, да… Но меня мучает не это…
Она схватила Анну за руки и крепко их сжала:
— Вы ничего им не выдадите? Делайте вид, что вы на их стороне… но не выдавайте им ничего.
— Я не понимаю, что мадам хочет сказать.
— Не пытайтесь меня обмануть. Я в их власти…
— Я пойду положу вам в постель грелку, и вы спокойно заснете.
— Почему вы хотите, чтобы я уснула? — с неожиданной резкостью спросила Тереза. — Не рассчитывайте на мой сон: я больше не буду спать.
— Бедная мадам! Ведь вам никто не хочет зла.
— Садитесь, Анна… Будь что будет, я вам все скажу. Придвиньте кресло. Они втянули вас в свою игру, ничего не объяснив. Я человек, которого решили уничтожить, но не так-то легко кого-нибудь уничтожить законным путем… Даже если речь идет о преступнице… Вы как будто не понимаете, а между тем, если бы вы знали, как это просто! По совершенному мною преступлению, за которое я могла бы попасть на каторгу, было вынесено постановление об отсутствии состава преступления… Остальные мои поступки под действие закона не подходят, собственно говоря, с общепринятой точки зрения это не преступление… Но, принимая во внимание то, что я сделала когда-то, они, несмотря на отсутствие состава преступления, найдут способ…
Анна в ужасе держала хозяйку за руки, стараясь заглянуть ей в глаза:
— Вам надо уснуть, бедная мадам. У вас бред…
— Нет, я не сумасшедшая. Но вас будут убеждать, что это так. Потому что они предусмотрели и это: упрятать меня. Чтобы я исчезла, словно в воду канула. Анна, уверяю вас, я в здравом уме. Как убедить вас, что все это правда? Этому трудно поверить, я понимаю, и все же это правда. Никто не станет больше меня слушать, никто мне больше не поверит. Всю жизнь я говорила о своих страданиях, но только сегодня я поняла, что значит действительно страдать… Почему вы меня раздеваете?
Однако она, не сопротивляясь, дала себя раздеть, она отказывалась от борьбы. Анна тихонько подталкивала ее к кровати:
— Грелка не слишком горяча?
— Нет, так хорошо…
Наслаждаясь наступившей кратковременной передышкой, Тереза не выпускала из своих ладоней эту большую потную руку.
— Помните, Анна? Иногда вы приходили сюда с работой и оставались подле меня, пока я не засыпала. То были хорошие времена. Как я была счастлива! Я не понимала тогда, что была счастлива! Теперь это уже не повторится. Нет, нет, не уходите за работой, не оставляйте меня одну, не отпускайте моей руки.
Она умолкла и, казалось, задремала; Анна попробовала осторожно разжать ей пальцы, но тотчас же раздался жалобный голос:
— Нет, ведь я же не сплю! Анна, у меня явилась мысль… Что, если я пойду в участок? Где здесь ближайший участок? Какая блестящая мысль! Самой рассказать все с самого начала, рассказать все подробно, оставить их с носом. Но с чего начать? У них не хватит терпения выслушать меня, они мне не поверят, Анна! Клевета всегда проста, всегда правдоподобна… В то время как правда… Правда — это целый мир! У них не хватит терпения, они мне не поверят… Но если они меня арестуют, я наконец-то буду спокойна. С этим будет покончено. Я уже не буду жить в этом вечном страхе… Дайте мне белье и платье, мне надо одеться.
Обхватив ее руками, Анна говорила все, что только приходило ей в голову: она пойдет завтра утром, в этот час все полицейские участки переполнены. Раз она уже твердо на это решилась, лучше провести последнюю ночь…
— Верно. Теперь я могу спать… Я больше уже ничем не рискую.
Решив, что Тереза заснула, Анна поднялась и хотела уйти, но не успела она взяться за дверную ручку, как ее позвали обратно… Она послушно вернулась на свое место. Но ведь без четверти девять ей надо уйти. В девять часов ее будет ждать шофер с третьего этажа. Впервые она согласилась принять его у себя в комнате. Он обещал, что не позволит себе ничего лишнего. Закрыв глаза, Анна глубоко вздохнула. Чего она беспокоится? Ничто не помешает ей в девять подстерегать его за приоткрытой дверью… Заснет же в конце концов старуха, и потом даже, если она не заснет… Анна скорее перешагнет через ее труп… Ожидание всецело поглотило ее: было о чем подумать, и она не скучала при свете ночника… Ведь ночь, ночь счастья, уже наступала! Старуха, казалось, успокоилась. Она даже согласилась выпить чашку бульона: «Да, — повторяла она, — я думаю, что могу заснуть…» Но и в восемь, и в половине девятого, когда Анна пыталась уйти, она пугалась и подзывала ее обратно и затем уже все время лежала с широко открытыми глазами.
В девять часов Анна сказала: «Ну, уж на этот раз…» Тереза не возражала, но начала плакать. Она всхлипывала, как ребенок, и эти рыдания подействовали на Анну сильнее всяких просьб. Она осталась, хотя уже пробило девять, и она представила себе мужчину, который сейчас стоит у двери ее комнаты на восьмом этаже, зовет ее, прислушивается и пытается открыть дверь. Дыхание Терезы становилось спокойнее. По временам она произносила неясные слова, стонала, кричала: «Нет! Нет!» — и поворачивалась на левый бок, так как ее беспокоил свет ночника.
Анна услышала слабый звонок у двери черного хода. Это, наверное, он! И, поднявшись так тихо, что Тереза не шевельнулась, она на цыпочках прошла переднюю и дошла до кухни, не слыша на этот раз зова Терезы; откинув засов, она увидела высокого парня, загородившего всю дверь, и втащила его в маленькую кухню.
— Нет, — тихо сказала она, — не зажигай.
Она шепотом давала ему объяснения, но, не отвечая, он поцелуем закрыл ей рот.
Из столовой до них донесся стук упавшего стула. И когда открылась дверь, их привыкшие к темноте глаза различили на пороге неподвижный, худой призрак. Тереза услышала мужской голос:
— Ты уверена, что она безоружна?
Она хотела закричать: «Не убивайте меня…», но не могла произнести ни звука и тихо опустилась на плиты пола.
Когда Тереза пришла в себя, она уже сидела на кровати, вся обложенная подушками. Она не задала Анне ни одного вопроса, не упомянула о мужчине, которого застала в кухне и который, очевидно, помог перенести ее в комнату. Анна поняла, что теперь хозяйка относит ее к числу своих злейших врагов, находящихся по ту сторону баррикады; ей с трудом удалось добиться от Терезы нескольких коротких ответов: «Да, мне лучше… Я думаю, что сейчас мне удастся уснуть… Вы можете остаться здесь на кушетке…»
Больная мучительно напрягалась, чтобы не заснуть, и прислушивалась к малейшему шороху. Завтра она встанет на рассвете и отправится прямо в полицейский участок. Возможно, что целой этой ночи не хватит, чтобы обдумать и привести в порядок все, что она должна будет рассказать. Но ведь ей не поверят… Ужасное бессилие! Она всегда была одна, не подозревая того, что такое подлинное одиночество. Об одиночестве говорят, но не знают, что это такое. Никакой надежды, что слова ее дойдут до сознания полицейского комиссара; она увидит, как эти слова, не достигая цели, будут падать, словно подстреленные птицы. Нет у нее иного исхода, как скрываться в своем жилище. Враг проник к ней по черной лестнице. Значит, с этой стороны и надо быть настороже.
Тереза не сомневалась, что она служит мишенью, что вокруг нее создался огромный тайный заговор… Откуда ей знать, что во всем мире в этот час ни одна душа не думает о ней, что в течение всей этой ночи ни один человек не вспомнит о существовании Терезы Дескейру? Нет ничего, что имело отношение к ней… Ничего, за исключением одного письма, которое было написано в пять часов, брошено в ящик в почтовом отделении на улице Ренн и теперь уносилось по направлению к Бордо. Письмо, адресованное ее дочери: Мадемуазель Мари Дескейру. Сен-Клер, Жиронда. Адрес, написанный тщательнее обычного. Жорж Фило старательно выписал все буквы и подчеркнул слово Жиронда. Бросив это письмо в почтовый ящик, он почувствовал радость и облегчение. Каждая фраза была просмотрена и исправлена Монду. Теперь ему оставалось только заткнуть уши, чтобы не слышать, как будет кричать Мари. В такого рода историях нет ничего хуже жалости. Самые жестокие палачи, как говорит Монду, те, у кого доброе сердце, кто под предлогом жалости наносит двенадцать ударов топором, когда достаточно одного. Если соглашаться с этой точкой зрения, то последняя фраза, целиком принадлежащая Монду, казалась Жоржу Фило особенно удачной: «Убедительно прошу вас не отвечать мне. Я, во всяком случае, в наших же интересах, беру на себя обязательство в том, что ничто не заставит меня нарушить молчание: никакие ваши мольбы, никакие угрозы. Еще раз прошу, не обвиняйте меня в жестокости. Когда я поддерживал надежду на то, чего не в состоянии был выполнить, я был негодяем, и за это прошу у вас прощения. Забудьте меня. Прилагаю к этому письму записочку вашей матери, из которой вы увидите, что она не считает меня связанным в отношении вас какими-либо обязательствами».
X
На следующий день, около часа, это письмо пришло в Сен-Клер и было передано Мари.
Девушка в накинутом на плечи платке сидела одна в столовой. При виде дорогого почерка ее охватила такая радость, что в первую минуту она подумала, что теряет сознание. Сдерживаться и притворяться не было необходимости: Бернар Дескейру уехал в Аржелуз к старухе матери, чтобы помочь ей заколоть свинью.
Мари ела, глядя на конверт, который она вскроет сейчас у себя в комнате, предварительно заперев дверь на ключ. Был солнечный, теплый ноябрьский день, в городке было шумно, восточный ветер, вместе с запахами смолы и древесной коры, доносил жужжанье механических пил с лесопильных заводов. Было слышно — признак хорошей погоды, — как громыхает по рельсам маленький поезд узкоколейной железной дороги. Жизнь была полна счастья.
Мари повернула ключ в замке и, будучи уверена, что никто ее не видит, поднесла к губам конверт, к которому прикасались руки Жоржа; она вскрыла его и, узнав почерк матери, тотчас же усмотрела в этом какое-то грозное предзнаменование. Она пробежала сперва эту записочку, а затем, не отрываясь, прочла письмо Жоржа, прочла его так быстро, что, окончив чтение, еще слышала, как раздавался в ясном послеполуденном воздухе стук колес старых вагонов, удалявшихся под своды сосен. «Прилагаю к этому письму записочку вашей матери, из которой вы увидите, что она не считает меня связанным в отношении вас какими-либо обязательствами». Мари ни на секунду не задумывалась над причинами, которые могли побудить Жоржа на этот разрыв. Ею руководил детский инстинкт, состоящий в том, чтобы все упростить, прежде всего отыскать виновного и сосредоточить на нем всю ненависть, причем этим виновным не могло быть существо, которое безумно любишь. «Она предала меня. Подумать только, что я доверилась этой негодяйке! Какая же я идиотка…» Смутные подозрения внезапно превратились в уверенность: чего только, вероятно, не наговорила она Жоржу? И почему? Из ревности? Из мести? Но она не знает Мари! Если она, Мари, еще жива и с пылающими щеками стоит сейчас здесь, если этот удар ее не сразил, это значит, что она не верит своему несчастью; она примет все меры, всегда можно вернуть юношу, она знает, как вернуть этого… Ведь это будет уже не в первый раз и не в последний… Через десять минут в Бордо отправляется автобус. В пять идет поезд на Париж, в полночь она приедет на вокзал д'Орсе. С вокзала она пошлет телеграмму отцу. Бездействовать было бы невыносимо, ноу нее едва хватило времени захватить саквояж.
Прислуга не видела, как она ушла. Автобус почти пуст. Нет, она не отчаивалась. Избыток страсти превращался у нее в ненависть. Прежде даже, чем вообразить себе сцену с Жоржем и обдумать, с чего начать с ним разговор, она представляет себе, как появится сегодня вечером на улице Бак и застанет врасплох свою преступную мать, прервав ее первый сон. Нельзя же в полночь отправляться прямо в отель «Шмен де фер де л'Уест». Как только настанет утро, она побежит туда, разбудит Жоржа. О! Для нее это будет сушим пустяком… Ей хочется верить в свои силы. Ночь будет долгой, но разговоры с матерью помогут ей убить время. Она обращала на Терезу ту исступленную ярость, которую унаследовала от нее же, но которая не уравновешивалась у Мари критическим отношением к жизни. Надо, однако, думала она, сохранять хладнокровие, все у нее выведать, возможно, даже добиться от нее, чтобы она написала Жоржу письмо, в котором она отречется от своих слов. Одним словом, там будет видно…
Таким образом, в то время как Тереза, уже сутки не смыкавшая глаз, сидела у себя в постели, притворяясь спокойной, чтобы избавиться от присутствия Анны, внушавшей ей теперь ужас и отвращение, над ней сгущались грозовые тучи, идущие со стороны ее ланд. Как ни подозрительна стала несчастная, ей все же казалось, что в этот день уже прошли все сроки для нападения на нее, для неожиданной атаки. Анна, очевидно, сейчас у себя в комнате на восьмом этаже, со вчерашним незнакомым мужчиной… В квартире никого, все двери на запоре. Благодаря тому своеобразному перемирию, какое обеспечивала ей ночь, Тереза на минуту забыла о своих преследователях: минуя невидимый кордон вражеской армии, она возвращалась к своим прежним, ничего не значащим страданиям, вспоминала последний удар, полученный ею перед самым открытием ужасного заговора… Ей припомнилась фраза Жоржа, которую повторил ей Монду: «Главное, чтобы она ушла, чтобы я ее не видел больше!» Он, он сказал это, сказал тем же голосом, которым за несколько часов до того произносил такие нежные слова…
Ах! Да будет он все же благословен за эти несколько дней надежды, за эти краткие минуты ослепления и уверенности. Даже и сейчас Тереза находит эту каплю воды и, как бы желая утолить ею жажду, подносит ладони к губам. В сущности, они не сделали ничего плохого; никаких дурных мыслей не возникает у нее, когда она думает о Жорже. Она только мечтает о том, как она кладет ему на плечо свою бедную, погибшую голову… Ах! Враг не замедлил воспользоваться этими несколькими минутами невнимания. Отчаянный звонок. Терезе кажется, что это ей снится, она хватает себя за голову. Раздается второй, настойчивый, на этот раз уже яростный звонок.
Тереза встает, зажигает люстру в передней, на секунду прислоняется к стене (ведь питается она только чаем и сухарями).
— Кто там?
— Это я… Мари.
Мари! Итак, первый удар будет нанесен ею. Тереза не сразу осмеливается отойти от стены. С трудом подходит она к двери, напоминая себе о своем решении: молча снести все, не делать ни единого жеста для самозащиты.
— Входи, Мари, входи, моя девочка.
Тереза стоит под люстрой. Мари с открытым ртом замерла перед этим привидением.
— Идем в гостиную, дорогая. Я не в состоянии долго стоять.
Спохватившись, Мари повторяет про себя: «Какое изумительное притворство!» Сколько раз видела она в течение нескольких дней, как Тереза меняла свою внешность! Это один из приемов ее коварства.
Достаточно ей откинуть со лба свои жалкие три волоска.
— Как ты поздно приехала!
— С двенадцатичасовым.
Она думала, что мать станет задавать ей вопросы. Но Тереза, не говоря больше ни слова, смотрела на нее в ожидании удара. Невозможно было выдержать ее пристальный взгляд. Еще один трюк: эта манера смотреть на людей в упор.
— Знаете, зачем я приехала?
Тереза наклонила голову.
— Как видите, реагирую я на все быстро. К счастью!.. Но почему вы это сделали?
Тереза вздохнула.
— Я столько сделала! О чем именно ты говоришь?
— Вы не догадываетесь? Нет? А это письмо Жоржу, написанное позавчера! Что вы скажете! Это вас все-таки смутило! Вы не думали, что я так скоро буду иметь доказательство вашей измены!..
— Ничто не удивляет меня, я знаю, что они располагают могущественными средствами. Они делали вещи посложнее. Ты еще не то увидишь.
Она говорит спокойно, с видом полного безразличия, который действует на Мари, хотя девочка старается разжечь в себе злобу: как бы то ни было, думает она, какая комедиантка!
— Что тебе поручено, девочка? Да, одним словом… что на тебя возложено? Со мной лучше играть в открытую. Я не буду сопротивляться, я пойду вам навстречу, лишь бы все разрешилось быстрее… Отвечать я буду так, как того потребуют. Я подпишу любое показание. Бесполезно хитрить…
Мари прерывает ее со злобой:
— Вы всегда считали меня идиоткой. Ноя не так глупа, как вы думаете. Прежде всего объясните мне, зачем вы написали это письмо?
— Уверяю тебя, девочка, будет лучше, если я отвечу прямо полицейскому комиссару или судебному следователю.
— Вы издеваетесь надо мной! Вы…
Но Мари останавливается на полуслове. Нет! Не может быть, чтобы эта жуткая дрожь, которая с ног до головы сотрясает ее мать, эта одинокая слеза, которая течет вдоль носа и которую она не вытирает, это застывшее на лице выражение ужаса и приниженный вид укрощенного животного, не может быть, чтобы все это было просто искусно разыгрываемая роль!
— Ты меня не поймешь, ты не поверишь тому, что знаю я, тому, что знаю одна я. Ты — орудие в чужих руках, ты повинуешься неведомой тебе силе. Они хотели, чтобы Жорж покончил с собой; самоубийство его было бы отнесено на мой счет. И я одна помешала убийству. Мне было поручено его свершить; Жорж должен был умереть, потому что был знаком со мною, но я расстроила этот план. Понимаешь? Я расстроила этот план. Об этом все же надо будет сказать, когда придется отчитываться… Да, я понесу возмездие, я не стану защищаться… Что же касается Жоржа, то я не только не убила его, как мне было поручено, а — хотя этому не поверят — спасла его. Впрочем, какой смысл кричать в этой пустыне? К кому взывать из глубины этого склепа? Ты здесь, и в то же время ты в тысячах километров.
Со стоном она отвернулась к стене. Чем же объяснить такие страдания? Мари уже не чувствует собственной боли. Ей хочется что-то сделать для матери, вроде того, как набрасывают одеяла на человека, объятого пламенем… «Я помешала этому самоубийству!» — сказала она. Что, если это правда? Сколько раз случалось самой Мари склоняться над бездной тоски, из которой Жорж так редко поднимался к ней!
В тишине квартиры она слышала, как, повернувшись к стене и закрыв лицо согнутой в локте рукой, плачет ее мать, но не так, как обычно плачут взрослые, она всхлипывает, как наказанная девочка, и, как ребенка, берет ее Мари на руки, кладет на кровать. Она говорит ей:
— Никто не хочет вам зла, мама, я приехала из Сен-Клера, чтобы оберегать вас. Никто ничего не может вам сделать, пока я с вами.
— Ты не знаешь того, что знаю я. Вчера приходил какой-то мужчина, он спрашивал, не вооружена ли я, а ночью он прятался в комнате Анны. Кто-то из полиции, они не торопятся, рано или поздно я буду в их руках; они знают, что мне не уйти от них.
— Сегодня ночью ничего не случится: я буду вас охранять. Спите… Вот смотрите: я кладу руку вам на лоб.
— Они велели тебе войти ко мне в доверие? Я все знаю. Меня не так-то легко одурачить… Но все же хорошо, что ты со мной.
Как мало походила эта ночь на то, чего ожидала Мари! Едва отнимала она свою затекшую руку, как жалобный стон вынуждал опять класть ее на лоб матери. Девушке было холодно. Вокруг снова был осенний ночной Париж, мрачный грохот его автомобилей, пыхтенье паровоза где-то в стороне рынка. И в одном из этих домов спал равнодушный, недосягаемый Жорж. Она никогда ничего для него не значила, хотя делала вид, что не верит этому. Только он и никто другой, только этот высокий парень с раскосыми глазами. Только он и никто другой. Она не упрекает его ни в чем, так как отдала ему всю себя, не рассчитывая что-либо получить взамен. «Ты можешь бросить меня, но ты не можешь сделать так, чтобы я не была твоей…» Она плакала, но слезы ее не были слезами отчаяния или злобы. Не раздеваясь, легла она рядом с матерью, прислушиваясь к ее дыханию, к бессвязным словам, которые вырывались у той. Но так как Мари было всего только семнадцать лет, она уснула.
Терезе все же доставляло глубокую радость чувствовать близость этого тела. Хотя она и относила Мари к числу своих врагов (но скорее как орудие в их руках, а не как их соучастницу), это не помешало ей тоже забыться сном. Разбудил ее шум голосов. Было совсем светло. Мари возле нее уже не было. Она шепчется с Анной в гостиной. О! Той легко удалось взять ее в свои руки! Тереза прислушалась.
— Никак нельзя уговорить ее позвать доктора, — говорила Анна. — Она думает, что он из полиции и ему поручено засадить ее в тюрьму. Она грозит выброситься из окна, если он войдет в комнату. Поскольку она доверяет вам, не оставляйте ее, мадемуазель, отложите эту прогулку…
— Не стану я откладывать ее ни за что на свете. Может быть, это будет не надолго… Я вернусь еще до двенадцати. Нет! Бесполезно настаивать….
«Не одна же ее мать существует на свете! К кому идет она на свидание? Кто ждет ее?» — спрашивает себя подслушивающая Тереза. «Кто-то, кого она явно боится, кто может ей приказывать… Но она не умеет притворяться. Как только она вернется, я сразу увижу, что она замышляет». Она услышала стук двери и быстро удалявшиеся по лестнице шаги Мари. Когда вошла Анна, Тереза притворилась спящей.
Мари так спешила, что, несмотря на холод и туман, была вся в испарине, когда дошла до бульвара Монпарнас. Зайдя под какие-то ворота, она на скорую руку привела в порядок свое лицо. В конторе отеля еще никого не было. Коридорный мыл вестибюль. Он помешал Мари осуществить ее план — прямо подняться в комнату Жоржа и застать его еще в постели.
— Эй! Вы там! Дамочка!
Мари, уже поднимавшаяся по лестнице, крикнула ему, что ее ждут.
— Кто это вас ждет? Месье Фило, говорите? Здорово вы ему нужны, месье Фило!
Мари, перегнувшейся через перила, были видны его поднятые к ней смеющиеся глаза с воспаленными веками.
— Да… вчера около полудня он расплатился по счету за комнату и уехал, не оставив адреса. Письма на его имя он велел посылать господину Монду.
Коридорный не был бы так щедр на справки, если бы его не забавляло выражение лица Мари. Но, чтобы посмотреть, какую физиономию скорчит эта «цыпочка», стоило постараться.
— Да, за ним приезжала на автомобиле и увезла его в свою родную деревушку в окрестностях Парижа одна дама, мадам Гарсен… Ее частенько можно было здесь видеть. Эта не боялась обождать… Вы ее знаете? Красивая, молоденькая дамочка, а уж до чего щедрая!
Мари было знакомо имя мадам Гарсен. Она знала, что эта женщина занимает какое-то место в жизни Жоржа, и по этому поводу даже шутила с ним: «В Париже я разрешаю вам мадам Гарсен!» Подразумевалось, что Жорж ее не любит. И, однако, вот что получилось! После того как он написал Мари письмо о разрыве, он поехал к этой женщине. Слуге уже не казался таким забавным вид этой хорошенькой девушки, которая как-то вся съежилась; лицо ее сразу осунулось, она цеплялась за перила, чего доброго, еще выйдет какая-нибудь история. Поднявшись на несколько ступенек, он взял ее за руку и не встретил сопротивления. Она смотрела прямо перед собой. Если бы не столько дел, в самый раз было бы воспользоваться случаем. Да ведь, собственно говоря, много времени и не нужно…
И он приблизил к ней лицо. Не понимая, чего он от нее хочет, Мари тихонько отстранила его, вышла на улицу и подозвала такси.
— Как хорошо, что вы так быстро управились! — сказала Анна, открывая ей дверь.
В передней было слишком темно, чтобы она могла заметить, как изменилось лицо молодой девушки. Бросив берет и пальто на низенькое кресло, Мари прошла к матери, которая притворилась спящей. Но из-под опущенных век она наблюдала за дочерью. Кого видела Мари? Что могли поручить бедной девочке, отчего всем ее существом овладела такая тоска? Терезе не удалось дольше разыгрывать спящую, так как теперь все ее тело охватила ужасная дрожь. Напрасно стискивала она зубы.
— Вам холодно, мама?
Опустившись на край кровати, Мари обняла мать, и та попыталась улыбнуться ей.
— Мне не холодно — мне страшно.
И так как девушка тихо спросила ее: «Боитесь меня?» — Тереза ответила, что ей следовало бы бояться ее в такой же мере, как и других:
— Но это выше моих сил: я не могу поверить, чтобы ты хотела мне зла… Что с тобой, дорогая, ты плачешь?
Мари неожиданно залилась слезами и этим, сама того не подозревая, оказала поддержку матери, отвлекла от угнетавших ее мыслей. И теперь уже больная пришла ей на помощь: «Ну, ну, поплачь…» — повторяла она, покачивая прильнувшую к ее плечу Мари так ласково, так по-матерински, как, возможно, никогда не делала даже тогда, когда Мари была ребенком.
— Мама, что же мы такое сделали, что так страдаем?
— Ты ничего. Но я…
— Мама, он уехал, не оставив адреса… с другой… Все кончено!
И, позволяя матери гладить себя по голове, она вытирала глаза о подушку.
— Нет, детка, нет!
— Почему вы говорите нет?
— Он вернется. Ты его не потеряла.
И, словно читая в душе дочери, она — на этот раз своим обычным голосом — ответила на ее затаенные мысли:
— Нет, я не сумасшедшая. Никогда не была я так далека от этого, как сейчас. Когда-нибудь, когда ты будешь счастлива, ты вспомнишь, что я тебе сегодня сказала, вспомнишь это мрачное утро.
Не много нужно, чтобы воскресить надежду в юном сердце. Как ни странно, но Мари перестала плакать и ласково прижалась к матери. Так оставались они довольно долго.
Мари сказала, что сама приготовит кофе и поджарит хлеб. После завтрака Тереза согласилась принять ванну. Она не слышала, как в кухне раздался звонок и на имя Мари принесли телеграмму. Отец приказывал ей немедленно вернуться: «Требую возвращения первым поездом». По-видимому, он был вне себя. Мари застала Терезу в гостиной и опять увидела ее дрожащей и предающейся самому мрачному отчаянию. Она говорила, что считала себя уже вне опасности, и теперь у нее не хватит мужества вновь оказаться во власти Анны. Анна — любовница полицейского. И ей, и консьержке достаточно платят. После приезда Мари они стали скрытничать. Они боятся Мари. Пока Мари здесь, ничего не может случиться. Девочка расстраивает все их планы. Они пытались ее использовать, но не посмели показать свое подлинное лицо. И вот теперь Мари собирается ее покинуть!
Она рыдала, Мари с трудом удалось помешать ее намерению стать на колени. Это было отчаяние, минутами походившее на детский каприз: она не хочет, чтобы Мари уезжала. Она не пустит ее. Мари уверяла, что вернется, что ей нужно только съездить в Сен-Клер и рассказать о создавшемся положении:
— Но они знают его лучше тебя, несчастное дитя! Ты не уедешь.
— Это же необходимо, бедная мама.
— Ну хорошо! — внезапно воскликнула она (должно быть, в детстве ей не раз случалось произносить эту фразу, которая после стольких лет сейчас снова возникла в ее памяти). — Ну хорошо! Раз так, я всюду последую за тобой.
— Что вы вздумали!
Но Тереза, в волнении бегая по комнате, упрямо, по-детски твердила свое: «Я всюду последую за тобой!»
— Почему мне нельзя в Сен-Клер? Там я буду чувствовать себя в большей безопасности, чем здесь, так как ты будешь со мной. Кроме того, там я мадам Бернар Дескейру. А жандармы Сен-Клера не посмеют вторгнуться в дом Дескейру. Для членов нашей семьи полиции не существует. Это с достаточной очевидностью было доказано пятнадцать лет тому назад… К тому же, — взволнованным и таинственным шепотом добавила она, — мой отъезд расстроит все планы Анны; да и что сможет возразить против этого твой отец? Не выбросит же он меня на улицу в таком состоянии?
Последнюю фразу Тереза произнесла своим обычным голосом, словно вдруг на несколько секунд увидела себя со стороны и сама вынесла себе приговор.
— Что вы вздумали! — повторила Мари и, охватив руками голову матери, тихонько покачала ее из стороны в сторону, словно желая разбудить Терезу от какого-то сна. — После стольких лет вернуться в этот дом, мама; по доброй воле снова войти в него после того, как вы едва там не задохнулись… после того, как вы вернули себе свободу, — и какой ценой! — тихо добавила она.
— Какой ценой? — повторила Тереза, нахмурившись, и добавила вполне серьезно: — Знаешь, я больше не сержусь на твоего отца. Теперь он уже не будет меня раздражать. И потом дом так велик! В нем столько свободных комнат! В одной из них, заброшенная, забытая, буду жить я. Впрочем, когда они перестанут меня преследовать, я снова могу оттуда уехать: теперь это уже не будет тюрьмой…
Проект матери больше не казался Мари таким безумным. Ей, не решавшейся даже подумать о той встрече, какую после этого вторичного бегства готовит ей отец, не придется теперь подыскивать оправданий; ее зашита принимала определенную форму: получив письмо с сообщением о болезни матери, она выехала с первым же поездом, а поскольку ее вызвали обратно в Сен-Клер, она не могла оставить больную одну, без помощи и привезла ее с собой. Об остальном пусть думает семья…
— Хотите ехать со мной, мама?
— Сегодня вечером? Только тайком, конечно! Завтра утром Анна постучит в дверь — и никого!
Тереза смеялась, затем внезапно снова становилась серьезной, и ее вопрошающий взгляд с мольбой останавливался на Мари: она никак не могла поверить, что это возможно, и начала немного успокаиваться только тогда, когда услышала, что девушка по телефону передает телеграмму в Сен-Клер.
— Не так громко! — умоляла она. — Анна услышит.
С большим трудом удалось Мари предупредить служанку так, что Тереза этого не заметила. Когда был заперт последний чемодан, больная опять стала волноваться: она боялась, что ее схватят в момент выхода из дому.
В поезде, сидя напротив уснувшей матери, Мари опять вернулась к мыслям о Жорже. Завтра она ему напишет. Главное — перекинуть мост, не допустить, чтобы между ними все было кончено. Жорж меняется изо дня в день… Если бы ей удалось его увидеть, она безусловно вернула бы его себе. Если бы она застала его сегодня утром, если бы он проснулся в ее объятиях… Она плакала в темном купе вагона, где некого было стесняться, как вдруг почувствовала на своем лице руку матери. Раздался нетерпеливый голос Терезы:
— Ведь я же сказала тебе, что он вернется! И даже, — добавила она, рассмеявшись, как смеялась когда-то, — наступят дни, когда он изрядно тебе надоест. Это будет мужчина не хуже и не лучше других — обыкновенный, грубый мужчина.
XI
Время, которое рано или поздно излечивает всякую любовь, гораздо медленнее притупляет ненависть, но в конце концов берет верх и над нею. Выйдя на перрон вокзала в Сен-Клере, Тереза забывает ответить на приветствие встречающего их лысого мужчины. Это Бернар, ее муж; где-нибудь на парижской улице она, пожалуй, даже не узнала бы его. Он уже не так грузен, как раньше. Коричневая вязаная фуфайка плотно облегает круглый живот любителя аперитивов. Он так и не научился как следует завязывать галстук. Со скукой и нерешительностью разглядывает он эту сумасшедшую, заботу о которой теперь ему волей-неволей придется взять на себя. Он не представляет себе, что мог бы поступить иначе. Хорошее удовольствие, нечего сказать! И, как твердит его мать, что бы ни говорили против развода, все-таки тяжело, когда после стольких лет разлуки эта женщина снова сваливается вам на голову. Но для него это в конечном счете вопрос принципиального значения… Как бы то ни было, закон есть закон.
— Послушайте, папа, — кричит Мари, — помогите ей дойти до автомобиля.
Сидя за рулем, Бернар радовался, что может хранить молчание. Всякие объяснения и даже самые простые разговоры все больше и больше приводили его в ужас. Была ли то лень или беспомощность, но постепенно это превратилось у него в манию. Его не останавливали лишние пятьдесят километров на автомобиле, когда дело шло о том, чтобы вернуться домой уже после разъезда гостей. Страх встретить священника или учителя играл немалую роль в выборе маршрута для прогулок. Он был доволен — Тереза приехала, а ему не пришлось и рта раскрыть.
Больную оставили в маленькой гостиной: предназначенная ей комната еще не была готова. Она слышала, как кто-то тихо спорит в соседней комнате, но отнеслась к этому совершенно спокойно: тоска сменилась полной апатией. Ей не оставалось ничего иного, как подчиниться приговору; она сделает все, что ей прикажут, а сейчас это может быть лишь приказанием лечь и закрыть глаза; ей нужно только, не рассуждая, повиноваться какой-то силе, которая оказалась настолько могущественной, что через пятнадцать лет привела ее в ту же комнату, где было задумано ее преступление. Переменили обои и занавески, мебель обили другой материей. Но тень от громадных платанов на площади по-прежнему наполняла комнату сумраком. На тех же местах Тереза вновь находит знакомые ей отвратительные допотопные вещи, немых свидетелей ее ненависти.
Ее отнесли наверх, в комнату, окна которой выходили на запад; эта комната обыкновенно предназначалась для гостей, и Терезе никогда не случалось в ней жить. Ничто из прошлого не могло встать здесь перед Терезой, за исключением единственного случая. Она вспоминает: семья тогда жила в Аржелузе. У Терезы были свои основания не хотеть, чтобы ее присутствие в этот день в Сен-Клере было известно; ей кажется, что она видит себя прячущейся в глубине этой полутемной комнаты в то время, как рядом в бельевой горничная складывает в шкаф простыни.
Вечером в день приезда с ней случился на руках у Мари первый приступ удушья, приостановленный впрыскиванием; за ним, ночью, второй, еще более сильный, от которого она едва не умерла. С этой минуты как для Терезы, так и для Дескейру все стало значительно проще. Она была уверена, что теперь ей уже нечего бояться: между измученной женщиной и сворой воображаемых ею преследователей встала смерть. Для Дескейру главное затруднение устранялось безнадежным состоянием Терезы: ее свекровь, бежавшая в Аржелуз и предупредившая Бернара, что ноги ее не будет в Сен-Клере до тех пор, «пока там будет находиться это чудовище», хотя и не появилась в Сен-Клере, но согласилась сложить оружие. «Дадим свершиться Божьему правосудию», — писала она Бернару. И дальше: «Наша маленькая Мари достойна восхищения».
Мари взяла на себя все заботы по уходу за Терезой: обращаться к прислуге старались возможно меньше во избежание сплетен: «Она и без того причинила нам немало зла…». Тереза принимала заботы дочери с полным доверием; так продолжалось до Рождества, с приближением которого больная стала проявлять беспокойство. Мари заметно изменилась; она забросила шитье, которым ранее занималась с таким рвением, и бесцельно слонялась по комнате, по временам прикладываясь лбом к оконным стеклам; заботы о матери свелись теперь к одному физическому уходу за ней. «Она получила какие-то приказания, — думала Тереза. — В ней происходит борьба с чьим-то посторонним влиянием. Нас обнаружили. Но ведь она почти никуда не выходит… Да, но у них столько возможностей прислать ей зашифрованное распоряжение… На нее откуда-то со стороны оказывают давление. Во всяком случае, как бы они ни старались, она меня не отравит… Но, поскольку она моя дочь, они, возможно, воображают…» Таков был смысл слов, которые она бормотала про себя.
И вот, в одно пасмурное утро, когда дождь стучал в окна, у Терезы появилась твердая уверенность, что ее предали. Надев синий непромокаемый плащ, Мари сказала Терезе, что собирается уходить, и спросила, не нужно ли ей чего-нибудь. О! Все то же! Тот же самый вопрос: «Вы уходите, милочка? Вы не боитесь дождя?..» — который когда-то в свои одинокие вечера она задавала Анне, когда служанка надевала английский костюм и туфли из искусственной крокодиловой кожи, — тот же вопрос задавала она теперь Мари, будучи так же уверена, как и тогда, что ничто в мире не помешает девушке убежать туда, где ее ждут. И она не ошибалась, несмотря на незначительность слов Мари (ей необходим моцион… в Париже выходят на улицу во всякую погоду; почему же не делать этого в деревне, в особенности здесь, где вся влага впитывается в песок?), непреклонное выражение ее лица означало: «Скорее я перешагну через твой труп…»
Два дня тому назад рождественские каникулы привели Жоржа Фило в Сен-Клер. Кухарка Фило сообщила об этом мяснику. Мари не смогла противостоять искушению написать Жоржу: «Почему бы нам не проститься? Завтра около десяти часов я буду в Силе на заброшенном хуторе…»
Он, конечно, не придет. Она твердила себе, что он не придет. Обернувшись, Мари с порога послала воздушный поцелуй матери, которая со своих подушек следила за ней; и сколько тоски было в ее взгляде! Но в конце концов привыкаешь к страданиям человека, за которым ухаживаешь!
Идя по площади, она повторяла про себя ужасное обещание Жоржа: «Я взял на себя обязательство в том, что ничто не заставит меня нарушить молчание: никакие мольбы, никакие угрозы». Даже в том случае, если он решится прийти на свидание, какая гарантия, что из этого выйдет что-нибудь благоприятное для Мари? Тем не менее она была полна надежды, надежды, которую ежедневно поддерживала в ней мать. Тереза неоднократно делала намеки на своих внуков, которых ей уже не придется видеть. Еще накануне она сказала:
— Ты учишься ремеслу сиделки. Ты учишься терпению. С ним придется быть очень терпеливой.
Но ведь это же говорила сумасшедшая? Мари это знала, и все же в это утро, сворачивая с разбитой повозками аржелузской дороги на песчаную тропинку, чуть отсыревшую от дождя, она вспомнила эти слова. С дубов еще не облетели листья, было тепло, в ландах зима является лишь бесконечным продолжением осени. Дождь, словно ватная пелена, обволакивал Мари, отделяя ее от окружающего мира; пахло прелым деревом и сухим папоротником. Сквозь просветы между соснами она сразу заметила, что загон для овец, где она и Жорж обыкновенно укрывали от непогоды своих лошадей, был открыт. Из трубы шел дым, кто-то жег там хворост и сосновые шишки. Возможно, что это пастух. Даже лучше, если это пастух…
Она вошла, дым ел ей глаза. На куче валежника, вытянув ноги к огню, сидел Жорж; при виде ее он сразу вскочил. Она заметила, что он похудел и, как в дни большой усталости, косил сильнее обычного. На нем были очки, которые она запрещала ему носить в своем присутствии, она находила, что в очках он безобразен. Он даже не потрудился побриться. Это был он — высокий, пылкий и хилый юноша. И она, полная сил, с мокрым от дождя лицом, с пылающими щеками и горящими глазами… Из-под юбки ее английского костюма выглядывали лакированные сапожки, доходившие ей почти до колен. Она поблагодарила его за то, что он пришел. Он предложил ей сесть ближе к огню и отодвинулся, чтобы освободить место.
Надписи, инициалы и рисунки, сделанные углем на стенах, оставались такими же четкими, как и в прошлом году. Как это было бы просто, если бы она захотела! Стоило ей взять его за руку… Но сразу поняв, зачем он пришел, она встала.
— Я уже согрелась, — сказала она. — Нет, сидите, пожалуйста. Этим письмом наши отношения не закончены. Мне не хотелось, не простившись, расстаться с вами. Затем, даю вам слово, я оставлю вас в покое…
Он стал уверять, что вовсе не стремится к тому, чтобы она оставила его в покое, но эти уверения не доставили Мари никакой радости. Она узнавала выражение, которое обычно в такие минуты принимало его лицо, этот крестьянский говор, который неожиданно у него появлялся, это прерывистое дыхание, эту манеру оттопыривать нижнюю, чересчур красную губу; и бесстрастно, совершенно не разделяя его волнения, даже с чувством некоторого отвращения, она наблюдала за ним. И, однако, не он ее любил, а она пылала к нему страстью, она мечтала даже о смерти.
Он понял, что «дело не выгорело», и больше не настаивал (он никогда не настаивал). Он уже досадовал на себя зато, что пришел, и, устремив взгляд на огонь, принялся насвистывать.
— У меня есть новые пластинки, — сказал он, — изумительные… Да, правда! Ведь музыка и вы…
И, не обращая на Мари больше никакого внимания, он принялся давать концерт самому себе: «ла! ла! ла! ла! ла!» Она думала о матери, лежащей в мрачной комнате, в окна которой стучит дождь, о выражении ужаса, застывшем на ее лице. Она спросила только для того, чтобы прервать это насвистывание:
— Как поживает ваш друг Монду?
— О! Это совершенно неслыханно! Могли ли вы подумать… впрочем, я совсем забыл, вы же его не знаете. Вам следует с ним познакомиться! Представьте себе, он неожиданно открыл женщин. Он говорит, что это чудесно и можно иметь все, что хочешь. Бедняга Монду! Это сделалось его навязчивой идеей… Если бы вы его знали… Но, Мари, отчего вы плачете? Я думал, вы стали благоразумнее…
Сквозь слезы она пробормотала (но она лгала):
— Я плачу не из-за вас.
— Значит, уже не я причиняю вам огорчения? Мне следовало бы об этом догадаться.
Он неестественно рассмеялся.
— Я очень к ней привязалась, — сказала Мари, вытирая глаза, — да, хотя раньше я ее так ненавидела… По временам она совсем теряет рассудок. Однако, как ни странно, это нисколько не умаляет ее личности. Но она недолго протянет: несколько месяцев, может быть… Каждую минуту можно ждать нового приступа, который будет для нее роковым.
Жорж спросил:
— О ком вы говорите?
Мари с удивлением посмотрела на него. Она даже не представляла себе, как мог он уже сутки быть в Сен-Клере и не знать о приезде и болезни Терезы Дескейру. Она предположила, что Фило остерегались произносить это имя в его присутствии.
— Я должна была привезти свою мать сюда, — сказала она. — Это оказалось серьезнее, чем неврастения… Здесь у нее было еще два приступа. Она погибла, — добавила она, рыдая.
Положение ее матери было в этот день не хуже, чем в предыдущие дни, когда у Мари были сухие глаза, когда она ела с аппетитом, читала газеты, думала о том, как сложится ее жизнь после смерти Терезы. Она вытерла глаза. Не следовало докучать Жоржу, который, очевидно, из приличия перестал свистеть. «Простите меня…» — сказала она. Он подсел ближе к очагу, держа перед собой в виде экрана ладони рук. Не поворачивая головы, он спросил:
— Как вы думаете, узнала бы она меня?
— О! Конечно! У нее какие-то дикие представления, она воображает, что ее разыскивает полиция, но в отношении всего остального она сохранила здравый рассудок; и, если только она не отнесет вас к числу своих врагов…
— Это невероятно, — глухо сказал он. — Такая умница!.. Но теперь, поскольку вы говорите, что она безнадежна, это не имеет уже никакого значения… Вы уверены, что она безнадежна? — спросил он с выражением скорби.
И так как Мари посмотрела на него, он отвернулся к огню.
— Доктор полагает, что ей не выдержать нового приступа.
— Тереза! — тихо позвал он.
Мари не видела его лица, но заметила, как он несколько раз провел рукой по глазам. Она спросила:
— Значит, вы были так дружны? Я этого не знала.
— Я видел ее, может быть, всего три или четыре раза. Но и одной встречи было бы достаточно…
Он умолк, затем Мари услышала, как он шепчет: «Мир без нее…» Вода, капля по капле падавшая с крыши, скапливалась между расшатанными оконными рамами. В шуме сосен, обступивших заброшенный хутор, слышалась все та же бесконечная жалоба. Мари чувствовала себя спокойно и уверенно. Внимание ее было напряжено. Ей никогда не приходилось видеть, чтобы этот юноша страдал из-за кого-нибудь другого, кроме самого себя. Никогда раньше не видела она у него этого страстного выражения. При ней он казался как бы мертвым, у него было мертвое лицо. О нем сплошь да рядом говорили: «Я нахожу, что он какой-то мертвый…» И вот впервые он оживился в ее присутствии, он жил.
Однако мысль о том, что мать ее предала, не приходила ей в голову. Мари было семнадцать лет. Как могла она допустить, что юноша чувствует сердечное влечение к этой старой, сумасшедшей женщине? Ведь она, по правде говоря, всегда была безумной… Неожиданно девушка сухо ему заявила:
— Впрочем, она всегда была сумасшедшей. Мы всегда знали ее такой. Это опасный, неуравновешенный человек, нам дорого стоило в этом убедиться. В конце концов, именно это в ней вас и интересовало, не правда ли?
Он устало ответил:
— Вы меня не понимаете… Вы никогда меня не понимали. Когда я вам говорил, что я человек, неспособный обращать внимание на кого бы то ни было, кроме самого себя…
— Ну нет! — прервала она его со смехом. — Я вас понимаю! Это-то верно!
— Нет, — продолжал он, и в голосе его послышалось презрение, — вы не понимаете меня. Вы не знаете, что представляет собою человек, который каждое мгновение сомневается в том, что он собой представляет… Это кажется идиотством, это безумие… И все же не моя вина, если каждую секунду я чувствую это раздвоение своей личности… Так вот! В первый же раз, как я увидел Терезу, я понял…
— Терезу! Вы называете ее Терезой!
И Мари снова начала смеяться.
— Я понял, — как бы это сказать? — что она укажет мне путь к истокам моего отчаяния. Да, с первых же ее слов… Она с чудесной проницательностью читала в моей душе, она меня определяла; я принимал, наконец, некоторую форму в своих собственных глазах, определенную форму, я существовал, пока она бывала со мной. И даже когда ее не было, достаточно мне было подумать о ней… Но теперь…
Закрыв лицо руками, он произнес вполголоса: «Тереза мертвая!» Мари испытывала смутное чувство раздражения и ревности, как в тех случаях, когда Жорж ставил отвратительную, по ее мнению, граммофонную пластинку, в то время как она предпочла бы говорить с ним или целовать его. Но теперь к этому чувству присоединилась какая-то огромная и неясная боль, в которой она не могла еще разобраться.
— Все же, — сухо сказала она, — не следует забывать… Видит Бог, я ее простила! Но как бы то ни было, она все же совершила…
И так как Жорж, пожав плечами, с раздражением возразил: «Ах нет! Не будете же вы опять говорить об этой старой истории!» — она сердито закричала:
— Однако постойте! Кажется, вы сами придавали этому большое значение! Вспомните, как вы негодовали, когда мне не удалось добиться от матери, чтобы она объяснила мне мотивы своего поступка… Разве вы не помните?
— Да, верно, я не совсем ясно отдавал себе отчет, почему меня так интересовала эта история с отравлением. Именно потому… (он запнулся, бросив беглый взгляд на Мари), потому, что я ее уважал, мне, как я думал, и хотелось раз навсегда это выяснить. Подозревать это необыкновенное создание в подобной гнусности было для меня невыносимо. По крайней мере я думал, что таковы были тогда мои переживания. Но мне так трудно разобраться в своих подлинных чувствах! Ничего из того, что есть во мне, я не могу определить ясными и точными словами. Только впоследствии уяснил я себе ту конечную цель, к которой я стремился. Да, тем, что я не верил в виновность вашей матери, я выражал свой протест, я притворялся, что не допускаю, чтобы ею было совершено преступление, но все это было только для того, чтобы услышать ответ, в котором я нуждался и который она не замедлила мне дать. Она сказала мне, что это преступление лишь одно из многих других, которые она совершала ежедневно, которые совершаем мы все… Да, Мари, и вы тоже. Обычно преступлением принято считать только то, что является нарушением общего права, нанесением материального ущерба… О! Ей быстро удалось заставить меня извлечь из самых недр моей памяти один ничтожный, отвратительный поступок, крошечного скорпиона, выбранного среди тысячи других…
— Какого скорпиона?
— Если бы я рассказал вам эту лицейскую историю, вы сказали бы: «Только-то и всего? Но ведь это же пустяки!» К чему пытаться объяснять вам то, что знаю я, что знает также и ваша мать…
— Ясное дело! — проворчала Мари. — Я же идиотка. Разве я не знаю, каким тоном вы говорите: «Какая идиотка!» Нет, не старайтесь мне возражать…
Увы! Ей нечего было просить его об этом. Он и не думал возражать; в этом вопросе он был солидарен с нею: идиотка, которой недоступен мир его страданий, тот мир, куда она никогда не сможет за ним последовать. Но, во всяком случае, она обладает тем, чего не было у ее матери; Мари подумала, что все же хорошо в семнадцать лет сознавать, что можешь прижаться к любимому существу… Опустившись на кучу валежника, она ласково провела рукой по лбу Жоржа, по его вискам, по небритым щекам. Несомненно, он принимал ее за жадную до жизни девчонку. Он ошибался, не того хотелось бы ей. Но что же оставалось ей делать? Она отдала бы все на свете, лишь бы быть достойной соединиться с ним там, куда мать ее проникла без всяких усилий… И разве нельзя одновременно понимать мужчину и находиться в его объятиях? Может быть, ее мать… Она в ужасе покачала головой. Эта сумасшедшая?.. Сумасшедшая? Но ведь когда Жорж познакомился с нею, она не была еще сумасшедшей… Бедная Мари! Что это она вообразила?
Положив голову на плечо юноши и обвив его руками, она на некоторое время замерла в таком положении. О, блаженные минуты! Казалось, на этот раз он наконец не отвергал ее; она чувствовала его дыхание.
— Как вы думаете, — спросил он, — согласится ли она меня принять?
Девушка резко отстранилась от него. Она встала, и Жорж даже не попытался ее удержать; подойдя к открытой двери, она долго и жадно пила струи ласковой реки дождя и дыма. Наконец она обернулась:
— Хоть сейчас, — сказала она спокойным тоном.
— Нет, нет, не сейчас!
— Тогда в любой день после полудня… Я всегда бываю дома и проведу вас к ней.
— Может быть, не следует, чтобы сейчас нас видели вместе, — после некоторой паузы сказал Жорж. — Вы пешком, и поэтому вам лучше выйти первой.
Говоря с ней, он вынужден был смотреть ей в лицо. Что же прочел он на этом лице, что так испугало его? Он поспешил добавить:
— Знаете, она любила вас. Все ее мысли были заняты вами. Забота о вашем счастье ее преследовала. И даже, должен вам сказать, я существовал для нее исключительно только из-за вас. В этом я могу вам поклясться. Но ведь вы это знаете, Мари? — добавил он. — Вы верите этому?
— Странно, — смеясь, сказала Мари, — что вы чувствуете потребность меня успокаивать. Вы не находите, что это забавно?
Она помахала ему рукой; он подождал, пока над нею не сомкнулась завеса дождя, и, вернувшись к огню, вновь опустился на кучу валежника.
XII
Мари прошла в ванную, чтобы повесить свой непромокаемый плащ, с которого лило. Тереза, следившая за нею, сразу же, по едва заметным признакам, определила, что в комнату вошел враг: смертельный враг. Дом был погружен в молчание, нарушавшееся только шумом дождя. Не было слышно звонков. Бернар Дескейру уехал к матери в Аржелуз. Тереза спросила: «Ты не очень промокла, дорогая?» — но ответа не получила.
— Ты никого не встретила?
— Никого интересного… Вам пора принимать микстуру.
Стук тарелки о мрамор камина, откупориванье пузырька, позвякиванье ложечки, которой мешают в чашке, — из глубины лет эти звуки доносятся до обезумевшей от страха женщины. Так же прислушивалась она к ним когда-то в оцепенении полуденного покоя, торопясь вылить последнюю каплю яда, чтобы снова воцарился мир и безмолвная смерть завершила начатое ею дело, не нарушив тишины комнаты и всего мира.
Мари приближается к ней. В руках у нее чашка. Она помешивает ложечкой жидкость. Мари подходит к кровати; нельзя различить черт ее лица, склоненного над чашкой, так как она повернулась спиной к свету. У нее нет ничего от матери… но, когда силуэт ее вырисовывается на фоне окна, она походит на тень своей матери. Это сама Тереза приближается сейчас к Терезе.
— Нет, Мари… Нет.
Она в ужасе отталкивает чашку и умоляюще глядит на дочь. Мари вдруг догадывается, она могла бы, как часто это делала, отпить глоток лекарства, одного этого было бы достаточно, чтобы успокоить больную. Может быть, она этого и ждет? Почему же этого не сделать? Но она сурово говорит:
— Вам надо это выпить.
И так как Терезу охватывает дрожь, которая не возобновлялась у нее со времени переезда в Сен-Клер, Мари спрашивает с невинным видом:
— Это я вас так пугаю?
Дальше идти некуда. Тереза останавливается и переводит дыхание. У нее не хватило бы сил идти дальше. Достигнутый ею предел не есть предел человеческого страдания, но ее собственного, ее предел. Здесь ей предстоит отдать дань; это последний причитающийся с нее обол, и она его заплатит. Теперь она уже не дрожит и смотрит на Мари, она берет чашку у нее из рук и залпом выпивает ее содержимое, все так же пристально вглядываясь в смутные очертания этого лица. Мари забирает у нее чашку, как Тереза пятнадцать лет тому назад забирала ее у Бернара, и идет сполоснуть ее в ванную так же, как делала она.
Тереза откидывается на подушки. Теперь остается только ждать той минуты, когда Некто призовет ее к допросу и она скажет: «Вот твое создание, измученное бесконечной борьбой с самим собою, как ты того хотел». Слегка отвернув голову, Тереза смотрит на гипсовое распятие на стене. Осторожно, с усилием кладет она ногу на ногу, медленно раздвигает руки, разжимает ладони.
Так как Тереза достигла вершины, она начинает уже спускаться по другому склону, теперь она знает, что в чашке не было никакого яда, что Мари неповинна в преступлении. «Значит, я была сумасшедшей, если я так думала? А все остальное? Весь этот чудовищный кошмар?» Туман рассеивался, реальный мир открывался ее глазам.
— Мари!
Девушка поднялась с кресла, на котором сидела неподвижно, откинувшись назад и вытянув ноги.
— С кем виделась ты сегодня утром? Нет, не поворачивайся спиной к свету, иди так, чтобы я могла видеть твое лицо…
— Вы хотите знать, с кем я виделась? С одним человеком, который назначил мне свидание, который ждал меня в уединенном месте…
— Дитя мое, зачем ты хочешь меня напугать?
— Я не собираюсь вас пугать. Тот, кто только что разговаривал со мною в Силе, не принадлежит к числу ваших врагов. Напротив… и в скором времени он придет сюда.
— Никто в мире не любит меня.
— Нет! Кто-то, кто ждал меня на заброшенном хуторе… Видите! Мне не нужно даже называть его имени. Вы догадались.
— Ты его видела? Он тебя ждал? Ну что же! Посмотри мне в глаза. Разве у меня такой вид, будто я об этом жалею? Неужели ты забыла все, что я для тебя делала? И разве я не предсказывала тебе…
Девушка небрежно кивнула головой.
— Ты же знаешь, чего я страстно желаю?
Да, возможно… Но ей вспоминается Жорж на кухне хутора в Силе, его слезы…
— Что касается вас, я допускаю… Но он! То, чем вы являетесь для него…
— Дурочка! — говорит Тереза. — Старая женщина, выслушивающая всякие истории, делающая вид, что их понимает, всегда до некоторой степени импонирует. Ею восхищаются, даже, пожалуй, любят и огорчаются, когда видят, что она умирает. У молодых людей нет никого, с кем они могли бы говорить. В двадцать лет так трудно найти кого-нибудь, кто мог бы одновременно и выслушать и понять… Но, дорогая моя, это совсем другое… и с любовью ничего общего не имеет. Мне стыдно произносить это слово: в моих устах оно звучит просто смешно.
— Если бы вы видели его горе…
— Ну да, конечно! По-своему он ко мне привязан, в течение нескольких дней ему будет меня недоставать… А потом ты увидишь! В дальнейшем у тебя с ним будет больше чем достаточно таких историй. Ты скажешь: «Если бы бедная мама была со мной, она хотя бы немного меня от них избавила…»
Говоря это, она смеялась, и смех ее звучал молодо и естественно. Но вид ее обнаженных десен был ужасен. «Конечно, это совсем другое», — думала Мари. Чего же ей беспокоиться? Ведь как бы то ни было, Жорж первый пришел в Силе и ждал ее там, мечтая о ее ласках, в которых она ему отказала. Она по опыту знала, что после таких неудач он становится враждебным, равнодушным. А потом, как верно то, что говорила ей мать:
— В семнадцать лет ты не можешь претендовать на то, чтобы суметь все постичь в мужчине… Твое влияние будет увеличиваться год от году… Ты увидишь!
Дождь перестал. На площади платаны стряхивали с себя последние капли.
— Тебе следовало бы воспользоваться солнцем и пойти погулять в южную аллею.
— А как же вы, мама?
— Я попробую задремать. Не беспокойся обо мне… теперь ты можешь меня оставить: я больше не боюсь.
Мари обняла ее: «Значит, вы выздоровели?» Кивнув головой, Тереза улыбнулась: она прислушалась к удаляющимся шагам дочери. Наконец-то! Теперь ничто не помешает ей в полной мере насладиться только что сделанным открытием: Жорж страдал, он плакал, узнав о том, что она умирает. Нет! Необходимо отогнать эту радость! Эту чудовищную радость. О, эти сердца, они преследуют нас до порога смерти, будто нам причитается еще какой-то запоздалый остаток страсти, и обрушиваются на нас всей своей тяжестью в то время, когда мы уже стоим на краю могилы… Он придет. Мари будет тут же. Терезе надо приготовиться к этой очной ставке, чтобы ничем не выдать ни своей боли, ни своей любви.
XIII
В тот вечер, когда он пришел в первый раз, на столе горела только одна лампа. Тереза знаком показала ему, что она не в состоянии говорить. Ему бросились в глаза лежащие на простыне костлявые руки, покрытые коричневыми пятнами. Постепенно перед ним возникало то, что еще осталось от ее лица: заострившийся нос, выдающиеся кости лба и скул. Но какими живыми казались эти глаза, нестерпимо пристальный взгляд которых ему еще раз предстоит выдержать! Он остановился подле самой кровати, Тереза взяла его за руку; Мари, стоя несколько поодаль, наблюдала за ними.
— Мари, подойди сюда.
Девушка сделала несколько шагов. Тереза взяла Мари за кисть руки и с усилием соединила их руки. В первую минуту Мари хотела отстраниться, но Жорж силой удержал ее, и она перестала сопротивляться. Они не решались разойтись, так как Тереза сжимала их соединенные руки.
Мало-помалу пальцы ее разжались. Решив, что она заснула, они на цыпочках вышли из комнаты. Тогда Тереза открыла глаза. Она задыхалась. Как долго не возвращается Мари! Очевидно, она пошла проводить его до ворот. Сейчас они, возможно, обмениваются первым поцелуем помолвленных… под ногами у них грязь и сухие листья… Жуткая боль, сжимавшая грудь Терезы, улеглась, когда наконец появилась Мари и села в глубине комнаты, как можно дальше от ее кровати.
Тереза не могла разобрать выражения этого запрокинутого лица и не знала, о чем думает девушка: «За всю жизнь я не сделаю и половины того пути, который эта старая женщина только что прошла в течение нескольких дней… Только ради нее он принимает меня, подбирает меня. Только ради нее! В память о ней…»
Тереза была далека от мысли, что ее девочка питает к ней такую злобу. Что бы почувствовала она, если бы это узнала, — огорчилась бы? Обрадовалась? Сама не зная, какой ответ хотелось ей услышать, она внезапно спросила:
— Ты счастлива, Мари?
Девушка отняла руку, которой закрывала глаза:
— Я думала, вы спите.
Голос снова повторил с мольбой:
— Поклянись мне, что ты счастлива.
Подойдя к столу, Мари сказала: «Вам пора принимать микстуру…» И снова Тереза внимательно прислушивалась к звуку вынимаемой пробки, к позвякиванию ложечки о чашку.
Среди ночи с больной опять случился припадок. Когда она пришла в сознание, первое, что она увидела, было озабоченное лицо Мари.
— Как вы, должно быть, страдали, мама!
— Совсем нет, я ничего не чувствовала, кроме укола, когда ты вводила иголку…
Что же это? Неужели эти хрипы, это посиневшее лицо вовсе не были признаками страдания? Или же человек может пройти через ад мук и не сохранить об этом никакого воспоминания?
Приехал полусонный врач, с опухшими глазами, взлохмаченный. Пальто было надето на нем прямо на ночную сорочку. Выслушав Терезу, он прошел в коридор вслед за Мари. Шепот их прерывался громкими восклицаниями:
— Да, да… Их следует вызвать. Аржелуз ведь недалеко… Завтра же рано утром, никак не позже.
Это конец? Но ведь Тереза не чувствует себя плохо. Ей кажется невероятным, что она может умереть. Когда она проснулась, Бернар Дескейру, еще не снявший с себя овчинной куртки, и Мари стояли подле нее, не спуская с нее глаз. Улыбнувшись им, она сказала, что чувствует себя лучше. Бернар вышел, поскрипывая башмаками, Мари же, приведя больную в порядок, помогла ей пересесть в кресло. Затем она вышла к отцу на площадку лестницы; на этот раз Терезе не удалось разобрать их слов, она только ясно различила фальцет свекрови. Вся семья была в ожидании события, жизнь приостановилась… «Но это недоразумение», — подумала Тереза. Она еще не умирает.
Бернар вернулся, теперь на нем уже не было овчинной куртки.
— Я пришел заменить Мари… Надо бедным детям дать возможность видеться…
Из этих слов она поняла, что помолвка состоялась. Усевшись несколько поодаль, Бернар вытащил из кармана газету. Неужели он собирается оставаться здесь весь день? В час, положенный для выпивки перед завтраком, он вышел, но во второй половине дня вернулся снова и не уходил уже до тех пор, пока Мари не пришла закрыть ставни. Так же поступал он и в следующие дни. Он ничего не говорил, слышно было только, как шуршит бумага в его руках; иногда неожиданно он резким движением переворачивал или складывал газету, громкий шелест которой выводил Терезу из себя.
В последний раз он появлялся в ее комнате в момент посещения врача, который приезжал всегда довольно поздно, уже под конец своих визитов. От доктора пахло табаком, его мокрая от дождя борода не раздражала Терезу. Небрежно выслушав больную, он обычно говорил: «Однако дела наши как будто не хуже!» Должно быть, они находили, что смерть ее слишком долго заставляет себя ждать… Почему Жорж Фило продолжает оставаться в Сен-Клере? Он-то чего ждет? «К экзаменам можно подготовиться и не посещая лекций», — уверяла Мари. Впрочем, может быть, он решил остаться с отцом, которому он нужен: Париж уже не привлекает его… Как-то девушка сказала:
— Помните? После того как вы с ним виделись, с вами случился обморок. Он придет, когда вам станет лучше. Доктор запретил, чтобы вас посещали посторонние… Что?
И Тереза, не открывая глаз, произнесла:
— Но, дитя мое, мне совсем не хочется его видеть…
Бернар, которого она успела забыть, снова вошел в ее жизнь. Снова возле нее этот мужчина; в сравнении с прошлым он похудел и стал еще меньше обращать внимания на свою внешность: голова опущена, затылок облысел, всегда молчит, глаза налиты кровью, как у человека, злоупотребляющего спиртными напитками и перенесшего легкий удар. Она уже не спрашивает себя, как могла она совершить подобный поступок… Теперь, когда этот человек опять возле нее и угнетает ее всей своей тяжестью, желание его отстранить, выкинуть его навсегда из своей жизни кажется ей самым естественным… Она допустила промах, и вот он еще здесь… Умирала она, а он следил за тем, как она умирает, ожидая конца с тем же нетерпением, какое пятнадцать лет тому назад овладевало ею.
Он комкал газету, отхаркивался, чесал в ухе, неистово тряся мизинцем, а когда возвращался из кафе Лакост, где у него был постоянный столик, ему непрестанно приходилось подносить руку ко рту и извиняться. Тереза делала вид, что хочет спать. Тогда он проходил в соседнюю комнату, но дверь оставлял открытой, и она продолжала чувствовать, что он существует. «Нет, нет, — говорила она себе, — я не желаю его гибели…» Но, несмотря на все наслоения, какие жизнь постепенно наложила на нее, это желание никогда не покидало ее, оставалось в ней вечно юным.
Тереза никак не могла решиться умереть. В общем, она чувствовала себя лучше, отлично ела и покончила со всеми страхами. Конечно, сердце ее может «сдать» с минуты на минуту. «Отлично, доктор, — говорила ее свекровь, — тем не менее оно не «сдает»… Мари уже не могла дежурить, Бернар в хорошую погоду отправлялся охотиться: необходимо было кого-нибудь подыскать.
Как-то утром Мари спросила у матери, продолжает ли она по-прежнему не доверять Анне. Тереза пожала плечами, ответив: «Ты же знаешь, что я была не в своем уме… Бедняжка Анна!»
— Она приезжает сегодня вечером… Она привезет вам белье… Да, всего месяца на два: она помолвлена с каким-то шофером, который путешествует со своими хозяевами. Но через два месяца…
— Через два месяца?
Мари покраснела и сказала:
— Вы выздоровеете, мама.
Приезд Анны изменил жизнь Терезы. Мари и ее отец заглядывали к ней теперь всего на несколько минут, утром и вечером. Тереза снова стала тем ребенком, которого успокаивает присутствие нянюшки. Пока Анна с ней, ей нечего бояться. Самые неприятные обязанности Анна выполняла, казалось, с удовольствием. Она не скучала: «Подумайте только! Мне нужно сделать все приданое». Она похудела, но уверяла, что нисколько не страдает от разлуки с женихом. Однако ей скоро придется уехать. Шофер должен вернуться… Он ищет место… Он не цепляется за Париж… Слушая эту непритязательную болтовню, Тереза думает: «К тому времени я успею умереть». Она уже не представляет себе теперь, как она могла бы жить без Анны.
Из глубины дома внезапно раздается музыка: рояль, скрипка, виолончель наполняют звуками мрачные послеобеденные часы.
— Граммофон… — говорит Анна. — Они вернулись…
В хорошую погоду, по утрам, когда жених и невеста собирались на прогулку верхом, с мощеного двора доносился нетерпеливый стук копыт. И об их возвращении можно было узнать еще издали по стуку восьми копыт по обледенелой дороге. Но в туманные и дождливые дни один только граммофон выдавал присутствие Жоржа. Бывали минуты, когда Тереза воображала, что эта музыка может еще создать между юношей и Мари непереходимое море. Одна она, Тереза, могла бы идти по этому морю, приблизиться к погибшему ребенку… Необходимо, однако, добиться, чтобы он еще раз вошел в эту комнату… Ей нужно еще что-то сказать ему, что-то неотложное… Речь идет не о любви… Впрочем, кто знает, не о Терезе ли думает он, когда ставит пластинку из Trio а l'Archiduc, о которой, помнится, она говорила ему как-то вечером?
— Нет! — восклицает Тереза. — Нет!
— Кому кричите вы «нет»? Вы грезите, бедная мадам!
Служанка подошла. Тереза схватила ее большую руку и держала до тех пор, пока не почувствовала, что рука становится влажной.
— Анна, сколько времени остается еще до возвращения вашего жениха?
— Две недели, мадам.
— Две недели! Нет, на это вы и не рассчитывайте! Через две недели я еще буду жива!
— И не только будете живы, но сможете уже обойтись без меня.
Когда под вечер Бернар зашел к Терезе в комнату, она сказала:
— У меня есть к вам последняя просьба… Пожалуйста, не пугайтесь и не делайте такой физиономии: это вам не будет стоить очень дорого.
На лице его появилось беспокойство:
— Вы знаете, что смола… Дела идут все хуже и хуже. Вы видели сегодняшний курс?
— Это мой последний каприз… Да, мне хочется, чтобы на то время, пока я еще жива, вы наняли шофера… жениха Анны…
— Шофера? Да вы с ума сошли! Я рассчитал своего уже полтора года тому назад. Шофера! Когда смола…
— Ну да, но ведь это только для того, чтобы Анна могла остаться со мной. Во всяком случае, это не надолго…
— Разве можно что-нибудь знать наперед при сердечных заболеваниях? Ведь удалось же вам обмануть врача… Шофера! А что прикажете делать с ним в течение всего дня? Нет, как вам это понравится? Я не ожидал ничего подобного! Шофера! Подходящее время вы выбрали, нечего сказать!
Молчальник внезапно засыпал ее словами, негодование делало его красноречивым. У Терезы не было сил спорить с ним. Ничего не поделаешь! Она умирает, а он отказывает ей в том единственном, чем она дорожит еще на свете, — в присутствии Анны… из-за нескольких кредиток! Ей, которая добровольно отказывалась от всего своего состояния… Она поспешила сказать:
— Поскольку я отдаю все, что имею…
— О! Теперь…
Он спохватился, но слишком поздно… Тереза отлично поняла, что он хотел сказать: теперь, когда они и так это наследство получат… Она устремила на него взгляд, который он без труда узнал через пятнадцать лет.
— Говорите, дети мои. Я что-то вас больше не слышу.
— Но мы разговариваем, мама.
«Я думала, что она уже легла», — тихо сказала Мари, кладя голову на грудь Жоржа.
— Дорогой мой, когда у вас закрыты глаза, вы похожи на покойника… Знаете? Мама настаивает, чтобы вы еще раз зашли к ней. Ага! Я нашла способ вас разбудить… Она обещает, что на этот раз обморока у нее не будет… У нее как будто есть что-то важное, о чем она хочет вам сообщить!..
— Я пойду к ней завтра, если позволит доктор…
— О! Это ей уже разрешено… Интересно было бы знать, что именно хочет она вам сказать… Вы мне потом расскажете?
Он ничего не ответил. На башне мэрии долго били часы. Старая дама крикнула из гостиной:
— Одиннадцать часов! Жорж, я вас прогоняю.
Он не подозревал, что почти каждый вечер, уходя, он будил Терезу и она внимательно прислушивается к его шагам, пока они не стихают в заснувшей деревне, где затем вдруг начинают лаять собаки. За последние три дня выпало немного снега, который таял, как только касался земли. Лишь на черепицах кровель он еще слабо поблескивал. Завтра Жорж увидит Терезу. Она не покинет этот мир, прежде чем Жорж не доверит ей того, что уже столько дней он вынашивает в своем сердце: «Я ей скажу…». Он поднял глаза к зимнему небу, усеянному звездами. Что он ей скажет? Что она может заснуть, не беспокоясь за его судьбу, что она не причинила ему никакого зла, что ее предназначением было потрясать очерствевшие сердца, чтобы заставить их забиться вновь, что она проникала в святая святых человеческих душ, которые благодаря ей возрождались к жизни… Ах! Ему все равно, будет ли то Мари или другая женщина, Сен-Клер или Париж, отцовские дровяные склады и лесопильни или училище правоведения! Он будет черпать силы из того источника, который открыла в нем Тереза. Да, она причинила ему боль и прервала его полет к вечной любви. Уже никогда не будет он доволен собой, уже никогда не будет удовлетворен… Он научится определять границы, за пределами которых простирается бесконечное страдание… Отвратительные, ничтожные, темные деяния, которые мы совершаем наедине и безнаказанно, лучше характеризуют нас, чем великие преступления… Так мечтал Жорж в эту ночь, когда шаги его гулко раздавались в пустынных деревенских улицах.
— Я подожду на площадке, — язвительно сказала Мари. — Не больше пяти минут: приказ доктора! Через пять минут я вернусь.
Жорж почувствовал, что ненавидит голос этой женщины, возле которой ему предстоит жить и умереть. Он открыл дверь. Тереза сидела у пылающего камина. В первую минуту ему показалось, что она пополнела. Щеки ее округлились (если только это не было легким отеком), глаза казались меньше. Рядом с ней на этажерке стояли пузырьки, колокольчик и чашка, до половины наполненная какой-то жидкостью. Жалюзи не были еще закрыты, и оконные стекла казались черными.
Только беглый взгляд, который Тереза тотчас же отводит… Он поцеловал ей руку, улыбнулся. Она казалась озабоченной, губы ее шевелились, будто она подыскивала нужные слова; он молчал, полагая, что она должна заговорить первая.
— Вот… но сперва обещайте мне… Дело касается… Я никогда не решусь…
И она подняла на Жоржа глаза, полные тоски.
— Все зависит от вас… У вашего отца есть грузовые автомобили, не правда ли?
Он подумал, что она бредит.
— Почему грузовые автомобили?
— Потому что он уже занимался перевозкой тяжелых грузов… Да, жених Анны… Если бы ваш отец мог его нанять… У него имеются отличные рекомендации… Тогда я не лишусь этой девушки… я не смею надеяться, это было бы слишком хорошо!
Она устремила пытливый взгляд на Жоржа. Казалось, он был недоволен. Почему так исказилось его лицо?
— Если моя просьба вам неприятна…
Он запротестовал: «Нет, нет!» Он поговорит об этом с отцом. Правда, он думает, что в данный момент свободного места нет. Но пока что этому парню можно будет найти занятие. Облегченно вздохнув, она посмотрела на Жоржа. Как в ту ночь на улице Бак, он с видом злой, притаившейся собаки стоял, опустив голову. Далекий, заглушённый голос твердил Терезе: «Это он, он здесь в последний раз! Это — горячо любимое дитя…» Это Жорж. Какой же еще удар нанесла она ему сейчас, что он смотрит на нее с таким выражением муки? Волнение Терезы не укрылось от Жоржа. Вот подходящий момент высказать ей все, что он хотел и чего, впрочем, теперь она уже не поймет. Он начал:
— Нет, вы не причинили мне зла…
Но он забыл все остальные приготовленные слова. Тогда он задал ей первый пришедший ему в голову вопрос:
— Вы будете сейчас спать?
Мари открыла дверь и крикнула, что пять минут прошли. Прислонившись к косяку, она наблюдала за Жоржем: он стоял, слегка наклонившись над креслом Терезы, лица которой ей не было видно. Казалось, он не слышал Мари и повторил:
— Вы будете спать?
Больная покачала головой. Она больше не спит: ей мешает удушье. В темноте время тянется медленно.
— Вы читаете?
Нет, она не может читать.
— Я ничего не делаю. Я слушаю, как бьют часы. Я жду конца жизни…
— Вы хотите сказать: конца ночи?
Внезапно она схватила его за руки. Всего несколько секунд мог он выдержать огонь этого взгляда, полного нежности и безнадежной тоски.
— Да, дитя мое, конца жизни, конца ночи.
Примечания
1
Пневматичка — письмо-телеграмма. Передается по трубам при помощи сжатого воздуха.
(обратно)
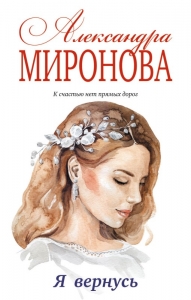
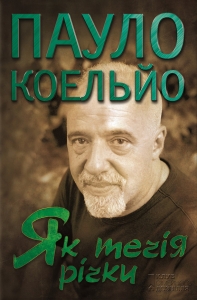



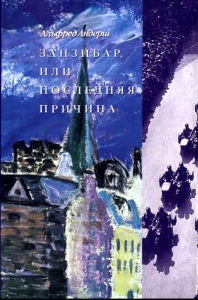
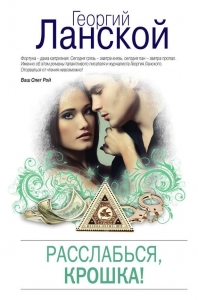

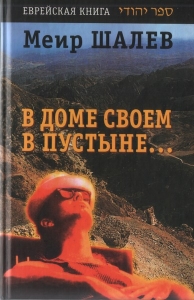

Комментарии к книге «Конец ночи», Франсуа Шарль Мориак
Всего 0 комментариев