Для начала надо сказать, что я никогда не хотела иметь в собственности какие-либо вещи. Я, может быть, и континент сменила, исходя из того же принципа. Мне впрямь казалось, что, оставляя позади прошлое, город, какое ни на есть общество, я отделаюсь заодно от всех вещей, посредством которых они меня удерживали и обременяли. Только не надо заблуждаться на мой счет. Моей душе чужда склонность к авантюрам, во мне нет ничего богемного. Я робка и часто думала, что мой отказ владеть вещами — признак слабохарактерности, какой-то дефект конституции. Я не выношу хлопот, терпеть не могу ответственности и, сталкиваясь с проблемами, обычно стараюсь не столько их разрешить, сколько увильнуть от этой необходимости.
Однако же мебелью все-таки нужно было обзавестись. В этой стране, как в любой другой, приходится есть с помощью вещей, садиться на одни вещи, ложиться на другие, освещать свое жилье третьими. Большинство наших друзей из числа таких же, как мы, с корнями вырванных из привычной почвы, в основном предпочли устроиться на новом месте, конечно, по-другому, чем прежде, но основательно и почитай что бесповоротно, по крайней мере в расчете на все время своего пребывания в этой стране. Другие, менее зажиточные или более беспечные, обошлись мебелью из малоценной древесины и той, какую можно приобрести, почитав объявления в газете; они окружили себя легкой, транспортабельной обстановкой, от которой, если вздумается, можно избавиться в любой момент.
По мне, эти способы стоят друг друга. Оба равно плохи, поскольку навязывают тебе более или менее тяжкую ответственность за изрядное количество вещей. Итак, мы нашли другое решение — сняли полностью меблированную квартиру. Предыдущие съемщики, престарелая супружеская чета — они-то нам ее и сдали, — больше не могли выносить городскую жизнь и купили дом на берегу моря. Но не в силах примириться с тем, что останутся совсем без городского пристанища, они стали искать семью, которой нужна квартира с обстановкой, чтобы было кому позаботиться об их мебели. Мы им подходили по всем статьям. Я заверила их, что обожаю домашнюю работу, являюсь мастерицей на все руки, мой муж аккуратист, а дети у нас очень спокойные. Все это было не совсем ложью. Заботиться о вещах я умею так же, как о детях или собственном теле. Я знаю, что настанет день, когда они меня покинут, но, пока они доверены мне, я делаю все, что в моих силах, чтобы они функционировали как можно лучше.
Наши друзья удивляются, как мы можем жить в обстановке, не нами придуманной, среди заемных вещей, зачастую — я готова это признать — уродливых. Особенно им не дают покоя картины, что висят у нас в комнате. Люди, у которых мы сняли эти апартаменты в поднаем, немолоды, а в их времена было, похоже, принято заказывать модным живописцам свои портреты. Вот и висят теперь на одной из стен два больших полотна в золоченых, как тогда полагалось, рамах. На них изображены мужчина и женщина, наши домовладельцы. Он — примерно в тех же годах, что мой муж. Костюм строгий, взгляд в упор, серьезный и, может быть, чуть отсутствующий. Она сидит на стуле, очень прямо и тем не менее слегка неустойчиво. Возникает смутное впечатление, что она, позируя, испытывала бессознательное желание встать и уйти. Ее платье своей яркой расцветкой создает контраст с приглушенными тонами другого портрета, это броское пятно занимает почти весь холст, скрадывая вертикальную линию спинки стула и слегка нарушая жестковатое равновесие общей композиции. И он, и она висят рядом на одной стене, но друг на друга не смотрят.
Наши друзья не упускают случая отпустить какую-нибудь остроту по адресу этих портретов, расположенных как раз напротив нашей кровати. Признаться, я плохо переношу такое зубоскальство. Ну в самом деле, как им объяснить, что все это — и мебель, и портреты — нас совершенно не задевает, мы их просто не видим? В самом буквальном смысле этого слова. Не замечаем их. Разве что взглянем иногда, так же, как бросают рассеянный взгляд за окно или, скажем, на собственные ногти. Это всего лишь случайности рельефа, неровности той местности, по которой мы блуждаем. Здесь есть вещи и есть мы, почему бы нам с ними не жить в мире? Должна сказать, что люди, непрестанно видоизменяющие свой интерьер вплоть до его полного разрушения, то что-нибудь добавляя, то отсекая, всегда казались мне немножко подозрительными. Во всех этих хлопотах чудятся нетерпимость и неуравновешенность, которые мне претят.
Семья у нас очень дружная, может быть, мы именно поэтому не испытываем нужды привязываться к вещам. Нам хватает нас самих, а город предоставляет все, что может понадобиться. Летом — море, до которого можно добраться на метро, зимой — покрытые снегом живописные окрестности, куда за несколько минут доезжаешь автобусом. Там же осенью или по весне к нашим услугам громадные здешние леса с полянками, будто созданными для пикников, и старыми индейскими тропами. А для повседневных радостей есть два парка, один в начале нашей улицы, другой в конце. И еще предусмотрены отменные площадки для игр, обнесенные крепкими решетками, аккуратно расположенные на равном расстоянии друг от друга, и аллеи, по которым можно пешком дойти до реки и прибрежных лугов. «Жизнь здесь легко поддается организации», — говорит мой муж, и мне остается лишь согласиться с ним.
Под вечер в парк на площадки для игр из нас двоих хожу именно я. Смотрю на черных детишек, с воплями взлетающих на качелях к кронам деревьев, и на маленьких чумазых блондинчиков, возящихся у фонтана. Смотрю на старого сторожа-пуэрториканца, перебирающего четки, потом на небо. Там пролетают самолеты, они описывают плавную дугу, снижаясь или набирая высоту. Их длинным белым следам в вышине отвечает непрестанное шуршание машин, проносящихся по скоростному шоссе по ту сторону качелей, и вечера уходят один за другим, не будя посторонних желаний.
Наши дети, их игры и помыслы — средоточие наших забот. Мне не удается выкроить пару часов, чтобы побегать по магазинам или походить по выставкам живописи, даром что в городе их полно. Когда выпадает малая толика досуга, мы читаем или слушаем музыку. Своего мужа я знаю с детства, вкусы у нас одинаковые, и мы поэтому живем очень мирно. Тогда, разумеется, трудно объяснить, чего ради мы оставили свою страну, чтобы приехать сюда, поселиться в этом городе. И конечно, порой, когда в воскресенье над гигантскими прямоугольниками его зданий зазвонят колокола Риверсайдской церкви, словно в воздухе запляшут легонькие шарики пинг-понга, нам случается взгрустнуть о покинутом по ту сторону океана родном городе, где утро, в тех краях вечно немного хмурое, тоже заполнено колокольным звоном. Однако же в дом Господень мы не ходили. Мы ходили в отчий дом. «Это почти одно и то же», — говорит мой муж с присущим ему всегда легким цинизмом. Я это, разумеется, одобряю. Мы снялись с места в полном согласии и решение остановиться в этом городе приняли столь же единодушно. Но если я говорю, что сбежать из родного города нас побудил страх перед вещами, это объяснение, вероятно, может показаться недостаточно убедительным. А я тем не менее повторяю его всякий раз, когда перед нами встает этот вопрос, даже если чувствую подчас, что мне такой ответ поднадоел. Другого я в настоящий момент не ищу. И если к концу моего рассказа он все же найдется и будет полнее удовлетворять требованиям здравого смысла, я не усматриваю никакого неудобства в том, чтобы по доброй воле пустить его в ход. Меня страшит всяческое — даже чисто умозрительное — увязание, и к этой истории я испытываю не больше собственнических чувств, чем к любым другим вещам.
Наша жизнь проста. Мы поселились в верхней части города, рядом с коллегами мужа по его университетской работе. Каждое утро я прохожу по пронумерованным авеню, строгая геометрия их перекрестков не дает мне заблудиться, потом я намечаю перед своими учениками четкие контуры грамматических правил нашего языка, чтобы в полдень снова, в обратном порядке, прошагать всю ясную, прямолинейную иерархию нумерованных улиц, ведущую в верхний город, к нашему дому. Если нам встречается какое-нибудь словарное затруднение, перед которым пасует даже мой муж, на этот случай на перекрестках моего пути есть несколько библиотек, снабжаемых великолепно: они получают даже самые свежие новинки, публикуемые в нашей стране.
Мы мало с кем видимся. Мой муж — человек, склонный к размышлениям, работа в университете поглощает все его время, кроме того, которое он отдает семье. Суеты и салонных разговоров он не любит. Он страстно увлечен музыкой, но презирает изобразительные искусства, чьи возможности считает слишком ограниченными. «Что такое картина? — говорит он. — Кусок холста, простая форма, не больше!» Он поборник здравомыслия. Для него — ну, конечно, и для меня тоже — искание одной лишь красоты, составляющее занятие художника, возможно только в ущерб высокой политической сознательности и подлинной нравственности. Глядя на расписанные граффити трущобы Бэдфорд-Стивесента и Гарлема, он не скажет: «Как хороши эти яркие краски на темном фоне!», но: «Что за фирма ведает здесь недвижимостью? Она явно безбожно эксплуатирует этих людей!» Он сурово порицает и удачливых дельцов, и жалких ничтожеств, что плетутся у них в хвосте. Если я скажу, что мотивации финансового рода для него просто не существуют, это вряд ли будет преувеличением. Он впервые в жизни по-настоящему рассердился на меня, когда я, не посоветовавшись с ним, купила одну, всего одну акцию. А между тем не кто иной, как я, должен в конце месяца сводить концы с концами, и потому, сама себе, конечно, в том не признаваясь, я не смогла устоять перед искушением заполучить без особых усилий хоть какие-то добавочные средства. Я считала себя достаточно ловкой, поскольку меня проконсультировал друг-банкир. Впрочем, невзирая на гнев супруга, я ту акцию сохранила, и мне нравится следить за ее курсом.
Итак, мы, хоть, собственно, и не желали того, мало-помалу растеряли друзей, которые после нашего приезда завелись было у нас во французской диаспоре. Оказавшись в этом городе, я нашла здесь многих подруг, с которыми зналась студенткой в Париже, когда они готовились к своей карьере в высших учебных заведениях столицы. Большинство из них теперь замужем, обитают в дорогих модных кварталах, снимают на лето дома на частных пляжах, выбирая местечки, где легко наносить друг другу визиты, или даже селятся там на паях. Французская буржуазия здесь заново формирует свой неизменный круг, он, может быть, немного просторнее, стиль чуть более открытый, но в конечном счете она перевезла сюда те же кастовые условности, тот же дух избранности, привносящий в образ ее поведения оттенок конформистской узости, который всегда втайне раздражал меня, казался несносным. Может статься, впрочем, что сюда подмешивается и малая толика зависти. Конечно, у моего мужа нет нужды подавлять в себе подобные чувства. Его равнодушие к этим недалеким, заурядным людям не знает предела.
Стало быть, мы стараемся как можно реже посещать коктейли и званые вечера, которые по всевозможным поводам затевают директора банков и крупных компаний, журналисты и сотрудники посольства. Когда же увильнуть от приглашения никак не удается — полностью утратить контакт со своими прежними друзьями мы не хотим в основном из-за детей, ведь товарищи им нужны, — случается, что муж меня туда делегирует одну. Тогда, одолжив платье у одной американской приятельницы, которая покупает наряды, как я — автобусные билеты, я отправляюсь с визитом, изображая светскую даму. Если быть честной до конца, надо признаться, что такие выходы доставляют мне некоторое удовольствие. Надеть новое платье, прихорошившись, этакой важной персоной проплыть по улице, поглазеть на людей (тех, чьих статей мы никогда не читаем или про кого с трудом припоминаем, какой именно знаменитости они приходятся родственниками или друзьями, и прочих, предпринимающих громадные усилия, чтобы подлезть поближе к первым), смотреть на все это, потягивая коктейли и слушая рассказы о последних модных постановках, о недавних вояжах того или другого гостя, — такие вечера для меня не лишены приятности, коль скоро здесь нет ничего обязательного: уйду и забуду. Возвратясь домой, я, бывает, и вздохну исподтишка при виде чужих портретов, висящих над кроватью, якобы китайских ламп, потертой софы. Но в обшем у меня и времени нет, чтобы останавливаться на подобных соображениях.
* * *
И вот однажды вечером муж попросил меня сходить без него на один из таких коктейлей, куда нас, помнится, пригласил давний друг, которого не хотелось обижать. Я была не прочь оказать ему эту любезность. Правда, в последний момент меня смутила мысль, что придется темной ночью выйти на улицу одной. Мне внезапно захотелось вернуться к себе в комнату и снова углубиться в книгу, которую я в то время читала. Но муж уже уселся за письменный стол, погрузясь в работу, и я надела свое парадное платье. Как бы то ни было, я пошла туда.
Собственно от вечеринки мне мало что запомнилось, если не считать всеобщего сладостного и, может статься, порочного возбуждения. Наш хозяин праздновал повышение, которое получил благодаря тому, что президент его банка ушел на пенсию. Шампанское лилось рекой, и сквозь открытые окна наперекор кондиционерам проникал влажный воздух, отягощенный ароматами расцветающего лета. Один мужчина заметил меня, подошел, заговорил. Он, дескать, находит, что у меня волосы редкого рыжеватого оттенка, одновременно нежного и волнующего, и еще замечательно, что они довольно длинные. У меня к тому же трогательное лицо и манера держаться, какой он не встречал в подобной среде. Я бы, естественно, отнесла такие речи на счет шампанского, не придав им значения, если бы сам говорящий не показался мне фигурой необычной.
Это был мужчина с могучими квадратными плечами и густой бородой, тотчас напомнивший мне портрет Генриха VIII, знакомый по учебникам истории. Встретившись с ним глазами, я испытала ощущение легкой неустойчивости, словно внезапное предчувствие «бездны», притаившейся где-то рядом незримым для меня обрывом в пустоту. Разумеется, мое головокружение мгновенно прошло, и я сразу распознала причину: дело было в некоторой асимметричности его глаз, придававшей облику что-то жестокое.
Мне понравилось, что он не кружил с улыбкой по залу, расточая всем собравшимся любезности и комплименты, как поступали прочие гости, которых на следующий день в разговоре со мной наш хозяин назвал «такими милыми». Мне понравилось, что он сидел один на софе, заняв ее чуть ли не целиком, и только наблюдал да курил. Мне понравилось, что он так напрямик, чуть ли не угрюмо заговорил со мной. Я заметила также, что он не спросил ни как дела у моего мужа, ни в каком районе города мы живем — вопросы, привычные на таких сборищах и сводящие к сущей малости время, что собеседник проводит подле вас. Угадала я и то, что наперекор своему отчужденному поведению он, похоже, ищет знакомства, причем я, конечно не без удовольствия, отметила, что он предпочел мою компанию обществу других молодых женщин, каковых здесь собралось немало.
На этом званом вечере мы провели вместе несколько часов, однако я не могу припомнить в точности ни единой фразы, ни даже тем, вокруг которых мы предавались плетению словес. Он говорил очень много, часто озадачивая меня непререкаемостью тона, но порой мог внезапно стать лаконичным, сдержанным, а то и вовсе молчаливым. В общем-то у меня сложилось впечатление, что его речи предназначены не только и не столько мне, — похоже, он через мою голову обращался к кому-то другому, возможно, к самому себе, борясь, ища, кипятясь. Тем не менее мне с ним было вольготно — я беспечно, вдохновенно болтала, смеялась.
Я, однако же, не настолько опьянела, чтобы не замечать, что иногда он переставал меня слушать, но это, казалось, не имело особого значения. Его слова, изливаясь передо мной в изобилии, были словно щекочущий, игристо пенящийся туман, струи которого, опадая, тотчас оживали вновь, пузырясь и взлетая, словно гейзеры.
Над всем этим господствовало острое, как аромат крепких духов, ощущение нашего «несходства». Ни один из тех разговоров, что происходили между нами впоследствии, безусловно, не мог уже ничего к этому добавить. Да только ведь в первоначальные впечатления никогда особенно не вникаешь. И я не видела в этом ничего, кроме побуждения поговорить еще, объясниться получше, самой больше понять. Это воспринималось как вызов, всех опасностей которого я не осознала ни на мгновение.
И вот, пока гости вокруг нас смеялись, сновали и выпивали, а от реки, протекавшей совсем близко, поднимался густой туман, пока во влажной темноте загорались тысячи огней — глаза ночного города, я поняла, что человеку, которого я вижу перед собой, любо движение как таковое. Он не искал ничего, кроме как можно более полной растраты себя, у него не было иных забот, помимо тех, что, требуя постоянного превышения достигнутых пределов, тем самым сводят на нет саму идею цели. Я постигла также, что всякое творчество осуществляется за счет разрушения и лишь неведомое, где бы оно ни обреталось, — область, достойная мужчины. Слушая его тогда, я, кажется, осознала, что являю собой воплощение стабильности и благоразумия. Я сказала ему, что вижу вещи в их расположении во времени и пространстве, но не в их преобразованиях, что для меня существенно их бытование, а не бренность. Он, похоже, пришел в восхищение от моих слов и под конец, должно быть, когда мы уже прощались, заявил, дескать, «вы женщина, с которой славно было бы жить». Я улыбнулась ему, не обратив внимания на сослагательное наклонение.
Когда мой собеседник ушел, я узнала, что он знаменитый художник, чьи произведения в настоящее время выставлены в Музее современного искусства и вызвали немало откликов.
* * *
Я не рассказала мужу об этой встрече — сама не знаю, что меня удержало. В любом случае — не опасение возбудить его ревность. Мы с мужем были веселыми товарищами детских игр, потом чистосердечно влюбленными и, наконец, верными, надежными друзьями. Если мне случалось испытывать влечение к другому мужчине, я этого никогда от него не скрывала. И равным образом никогда не пыталась манипулировать им, будоражить его или чего-то добиваться, пользуясь для этого своими — отнюдь не многочисленными — приключениями. Вместе мы легко пришли к выводу, что лишения и неудовлетворенность ни в коей мере не способствуют прочности нашего союза, а браком мы очень дорожим. Так что нам порой случалось заводить то, что в буржуазных кругах называют «любовником» или «любовницей», но, как правило, здесь дело также касалось тех, кто был в дружбе с нами обоими, и каждый из нас чутко следил, чтобы другой не страдал и не чувствовал себя лишним. Мой муж человек исключительно добрый и интеллигентный, я и поныне убеждена в том, что он вел себя совершенно правильно, а вот я стала игрушкой демона по имени Случай.
Стало быть, ни слова не сказав о той встрече мужу, я на следующий день отправилась в Музей современного искусства. Живописные полотна экспонировались на первом этаже, и я сначала прошла мимо, не взглянув на них. А между тем они были огромны, хотя красок там было мало, форм и того меньше. Я была разочарована. Эти картины показались мне «плоскими», неинтересными. На что тут смотреть? Я не сожалела, что ничего не сказала мужу.
Однако собравшись уходить, я поглядела на посетителей, стоявших перед картинами. Их лица были серьезны, почти суровы. Один из них напомнил мне мужа. Он несколько раз подходил к полотну совсем близко, вглядываясь не знаю во что на самом пустом месте. Заметив, что я на него смотрю, он нахмурился. Я отошла немного подальше. Подтягивались еще люди. Я не сумела так сразу уйти. Да что они в этом находят? Для меня, вне всякого сомнения, не было никакой разницы между выставленными полотнами и стенами. Внезапно проснулась тревога. Что, если вокруг, совсем рядом, существует невидимый мне мир, о котором я не знаю ничего — даже того, что я его не вижу? Еще раз повернув обратно, я стала проталкиваться сквозь группу посетителей. Музейный смотритель зашевелился в своем углу. В конце концов я все же ушла.
* * *
Думая, что тем дело и завершится, я несколько дней не вспоминала ни о художнике, ни о картинах. Однако во мне поселилась легкая дрожь, будто я превратилась в самописец осциллографа, чьи колебания никак не затухали. Я говорила себе, что подцепила, должно быть, какой-нибудь из пресловутых вирусов, чье действие обнаруживается, по словам медиков, через сутки-двое. Слова, приходящие извне, словно из тумана, переступали порог, закрадывались в мою голову. Я не противилась. Разве вирусы приходят не так же? Я ввязывалась в разговоры, которые прежде оставили бы меня равнодушной, задерживалась подолгу на некоторых мыслях — и ждала.
Я откопала свой давно заброшенный фотоаппарат. Во время наших послеобеденных прогулок я теперь больше не высматривала примеры бедности и угнетения, контрасты роскоши и нищеты, пороки властей, картины эксплуатации и загрязнения окружающей среды. Я видела свинцовые отблески речной воды, гладкие крылья чайки, сверкнувшие белизной на гранулированном фоне развороченной мусорной кучи, цвета ржавчины и пожара, проступающие на досках, которыми заколочены окна домов, предназначенных на снос, неожиданно скульптурные очертания криво обрезанной автогеном трубы, забытой на тротуаре газовой компанией, бесконечное нагромождение форм — высотка на высотке — и на каждом шагу замечала неистощимую смену их вариаций. Тогда я приноровилась ставить на первом плане детей, чтобы оправдать фотографирование всех этих безымянных вещей. Я смотрела алчно и чем больше замечала, тем сильнее хотелось увидеть еще. Вскоре я вернулась в музей и заново принялась разглядывать полотна, вызвавшие у меня в прошлый раз такое презрение.
Сказать, что меня занимал мужчина, которого я встретила на той вечеринке, было бы неправдой. Я не думала о нем.
* * *
И вот тогда-то друг, тот самый, в доме которого мы познакомились, снова нас свел. Он хотел купить картину и предложил мне отправиться с ним вместе в мастерскую живописца, которого я так «сразила» тогда на коктейле. «Я его сразила?» — переспросила я, сама сраженная внезапным головокружением. «Да, — сказал друг, — это он меня просил тебя привести».
Тут у меня в памяти всплыла странная картина. Художник привиделся мне таким, каким был в последние минуты перед нашим прощанием, — в нескольких метрах от меня, в группе гостей. Вечеринка кончалась. Было жарко, но пиджак сбросил только он один. Голубая рубашка липла к его коже — он обильно потел. Все прочие гости были одеты с отменным однотипным вкусом, таково нудное своеобразие, неизменно присущее французскому буржуазному кругу этого города. Он стоял вполоборота ко мне, его рубашка была слишком просторна, полурасстегнута, пот проступал на ней большими пятнами. Этот вульгарный образ преследовал меня. Какая связь могла быть между ним и моим бурно растущим интересом к живописи?
Я согласилась сопровождать нашего друга. Но снова, уже вторично, ни словом не обмолвилась об этом мужу. Впрочем, он, бесспорно, увидел бы в таком визите всего лишь прихоть, не более вредную, чем вечер, потраченный на посещение одной из тех музыкальных комедий, куда люди сбегаются, как муравьи: рекламными афишами этих спектаклей как раз в те дни были обклеены все стены города. Он не без удовольствия насмехался над этими модными пустячками. Я поколебалась, но так ничего и не сказала. Приятель назначил наш визит на следующий день — мы с ним должны были встретиться прямо в мастерской.
* * *
Тем не менее, когда настало время, мне показалось, что я никогда не осмелюсь туда пойти. Обычно я, не будучи дерзкой, в общем-то, достаточно уверена в себе. Но в тот день никак не удавалось обрести ту спокойную гармонию, что была мне привычна. Одевшись как обычно и уже подойдя к лифту, я вдруг почувствовала, что слишком расфуфырена, в буржуазной манере. Но, едва успев переодеться, тотчас испугалась, что выгляжу неряшливо, можно подумать, будто я, навещая художника на его рабочем месте, отношусь к этому визиту с пренебрежением. Впервые до меня дошло, что, какой облик ни выбери, он значим, нейтрального варианта не существует. Я казалась себе то слишком экстравагантной, то не в меру строгой. А желательно было дать понять, что происходящее для меня важно и вместе с тем ни в коей мере не выходит за рамки обычного. Тревога, необъяснимая для меня самой, придавала моим движениям замедленность. Я также хотела быть красивой, но чтобы и в этом качестве сохранять оттенок нейтральности. Красивой без той достойной сдержанности, что отличала буржуазных дам на нашей вечеринке, без знойной живописности негритянок и пуэрториканок, без чумазой расхристанности хиппи, без яркости евреек и без того анархически-небрежного стиля, что свойствен большинству прочих жительниц Америки. В конце концов, оказавшись в метро, а потом выйдя на улицу, я почувствовала себя голой. Все бы отдала за одно из тех широченных пончо, что скрывают все тело — под ними можно упрятать даже руки.
При виде тесных переходов метро мне пришло на ум, что я никогда прежде не бывала в нижнем городе. Наша жизнь была сосредоточена в верхней его части, на берегу реки, по соседству с колледжами Колумбийского университета. Иногда нам случалось пересекать парк в восточном направлении, чтобы заглянуть к нашим друзьям, помешанным на шикарной жизни, или добираться до Гринвич-Вилледж, если там выступала какая-нибудь джазовая группа, интересующая моего мужа. В центре города мы только и знали, что Линкольн-Центр, так как у нас был абонемент на посещение тамошних концертов. Приехав сюда, я несколько раз пыталась сунуться в квартал больших магазинов, но так и не сумела справиться с паникой, которая меня охватывала перед этим нечеловеческим скоплением товаров, изготовленных на конвейере, без души, только ради прибыли. Мы, разумеется, не преминули, подобно прочим туристам, осмотреть город и его окрестности. Но с этим мы управились очень быстро, пустив в ход естественный отбор впечатлений, то есть руководствуясь в таких экскурсиях глубинными потребностями своей жизни, а не одержимым пустоватым любопытством профессиональных путешественников. Поэтому к тревогам этого дня подмешалось то легкое беспокойство, которое всегда овладевает человеком, забредшим в незнакомые места.
Мой приятель-банкир позаботился пояснить мне, что мастерская этого человека расположена не в Сохо или Нохо, где согласно моде устраивают свои студии преуспевающие люди искусства, а в крайне неблагополучном, почти заброшенном квартале: он обзавелся этой мастерской, еще когда был начинающим, и, несмотря на свои недавние триумфы, не пожелал менять место. Уж не знаю, чего ради приятель взял на себя труд растолковать мне это. Я в любом случае понятия не имела, что шикарные кварталы для занятий искусством тоже существуют. Возможно, ему захотелось предотвратить неблагоприятное впечатление, которое неминуемо должно было у меня сложиться при одном виде этой улицы, и таким манером он напоминал мне, что художник, чьи полотна он приобретает, не абы кто. Не мог же он предполагать, что я уже, так или иначе, была далека от подобного хода мысли. Картины, смотреть на которые я научилась в Музее современного искусства, были для меня теперь столь же ошеломительными творениями, как любой из тех великих музыкальных шедевров, что хранились у нас на дисках. Поэтому, выйдя на Кристи-стрит, я не была с первого взгляда изумлена и разочарована тем, что такой художник может регулярно посещать место, где царствует подобная разруха. Я испытала шок, но иного рода.
* * *
Выйдя из метро, я чуть было с первых же шагов не повернула обратно. Мне почудилось, что я по ошибке очутилась в другом городе, если не на другой планете. Передо мной простиралось бессвязное нагромождение объемов, этот туманный край топорщился диковинными формами, неведомыми нашему миру. Сначала у меня просто помутилось в глазах, будто линзы моего внутреннего зрения расфокусировались. Я не понимала, в какую сторону идти. Но мало-помалу пейзаж встал на свое место, и я, оправившись от первого испуга, стала различать в этом хаосе хоть какое-то подобие порядка.
Зияющие в почве дыры и груды строительного мусора указывали на места разрытых фундаментов недавно снесенных зданий. Повсюду скелеты автомобилей, выпотрошенные, ржавые. Среди всего этого наблюдался прогал, это была улица, но до того ухабистая, грязная, заваленная отбросами, что ее трудно было распознать. Проволочные ограждения тротуара, местами разодранные, провисали между своих опор. На их металлических навершиях болтались клочья ткани. Идти следовало осторожно, столько колдобин и нечистот подворачивалось под ноги. Вдруг я подняла глаза. Розовая целлулоидная кукла, голая, с мучительно вывернутыми конечностями, висела, зацепившись ногой за ячейку проволочного заграждения. К глазам внезапно подступили слезы.
Повсюду валялись осколки стекла. На проезжей части, на тротуарах, на стенах проступали какие-то знаки, здесь что-то было написано, но от букв остались лишь грязные пятна. Какие-то гигантские перекошенные линии — я не могла глаз отвести от них. Но и разобрать ни слова не сумела. Мне почудилось, что я разучилась читать. И тем не менее дрожь пробежала по коже, что-то во мне по-звериному взъерошилось, будто из-за этих грубых буквиц на меня глянули гримасничающие рожи, перековерканные злобой и отчаянием.
Перескочив через кучу пивных банок и искореженных железяк, я вдруг наступила на что-то, чего не было видно с той стороны этой груды. Споткнулась и рухнула плашмя, во весь рост на человека, который там лежал. Я тут же вскочила на ноги, схватилась за сумочку — я была уверена, что он закричит, встанет или хоть зашевелится. Но он оставался неподвижным и был весь с головы до пят обмотан черными бинтами. Только его желтые глаза смотрели на меня из-под гноящихся век. Я поколебалась, но пошла дальше. Колени у меня дрожали, ссадина на локте горела. Я подумала о муже и вдруг вместо того, чтобы пожалеть, что его нет рядом и я беззащитна, или задуматься, что бы он обо всем этом сказал, почувствовала глухую досаду. И прогнала прочь всякое воспоминание о нем.
* * *
Наконец я подошла к зданию, которое искала. Это был пакгауз, лифтом здесь служила простая подъемная площадка, грязная и скрипучая. Она двигалась судорожными рывками, при любом перемещении немилосердно трясясь. Сердце болезненно сжалось. А что, если я застряну здесь, в этом колодце без окон и света? Или, того хуже, откроется дверь и кто-то войдет? Потом, когда я выбралась оттуда в темноватый лабиринт коридоров, стало еще страшнее. Как отыскать нужный номер среди лишенных указателей стен и абсолютно одинаковых дверей? И нигде никого из обслуги, чтобы спросить… Вдруг послышался стук. Гулкие удары молотка доносились из глубины здания, будто там кто-то крушил мебель, и одновременно заиграл орган, аж стена завибрировала под ударами мощного звукового прибоя.
Отчаяние навалилось, отнимая последние остатки мужества. Никто меня в таком шуме не услышит. Так с какой стати до хруста в костях ломиться в эту дверь, к тому же железную? Я опять едва не расплакалась. Мне-то казалось, что после всех ужасов, через которые я только что прошла, кто-то должен встретить меня здесь, утешить, приободрить. Я почувствовала себя всеми покинутой, ноги не держали, чего доброго, упаду сейчас прямо перед этой дверью. Подступала злость на целый свет, зачем-то вынудивший меня претерпеть подобные испытания. Каким безумием было приехать в такое место одной! Этот человек надо мной посмеялся. В голове завертелись мстительные прожекты. И тут дверь вдруг открылась. Я вошла, совершенно ошарашенная.
* * *
Сперва меня ошеломило ощущение тотальной необычности. Я осознала, что отныне мне уже ничто никогда не покажется непредвиденным, ошеломляющим, сбивающим с толку.
Я оказалась в громадном сплошь белом зале, освещенном со слепящей яркостью, так что в первые мгновения я больше ничего не могла рассмотреть. Орган не умолкал, его звуки, отражаясь от всех стен зала, оглушили меня. Наконец хозяин повернул выключатель радио, пригасил лампы, и я снова получила возможность видеть и слышать. Я повернулась к нему, собираясь объясниться и привести оправдания, ведь, когда я сюда ввалилась, вид у меня был отменно дурацкий. Но я даже слова сказать не успела: покатилась со смеху. Человек, представший передо мной, смахивал на ряженого, довольно неумело преображенного во что-то вроде предводителя бедуинов. Я, впрочем, почти тотчас подавила смех, почувствовав, что не подобает вести себя так. Ведь на самом деле этот человек ни в кого не вырядился. Он просто был обнажен до пояса из-за того, что от ламп шел сильный жар, а чтобы пот со лба не капал на полотно, над которым он трудился, обмотал голову ярко-розовым полотенцем, соорудив подобие тюрбана. Всего лишь рабочая одежда, не совсем обычная, но тем не менее рабочая, а стало быть, респектабельная. Я почувствовала, что краснею, стесняясь своей нелепой выходки. Он взирал на меня с недовольным видом, будто я учинила какую-то выдающуюся глупость. Мне снова захотелось принести извинения, как-то вылетело из головы, что, в конце концов, он сам пригласил меня сюда. Мне же наперекор очевидности казалось, будто именно я виновата. Он давал понять, что я отрываю его от работы. А кто я такая, всего лишь праздная и невежественная особа, однако вот осмеливаюсь его от работы отрывать? Я почувствовала себя еще более голой, чем поначалу, и хотела уже только одного: убраться отсюда подальше.
Он направился к банкам с краской, расставленным прямо на полу, обтер то, что показалось мне огромным пистолетом, потом устремился прямиком к раковине, сбросил тюрбан, нагнувшись, ополоснул голову, потом руки и натянул рубаху. Все это без единого слова. Тем не менее я, забыв первоначальный страх, следила за каждым его движением, как зачарованная. Наконец он повернулся ко мне, на этот раз улыбаясь, притом сердечно. Теперь я узнала в нем собеседника, с которым говорила на вечеринке. Он сообщил мне, что наш общий друг только что звонил, чтобы отменить свой приезд из-за непредвиденного собрания, вызванного визитом одного важного клиента банка. Именно этот звонок был причиной его дурного настроения, поскольку застал его в разгар весьма тонкой работы, на вечер после окончания которой он наметил условленную встречу, а он терпеть не может, когда нарушают его планы.
Эти объяснения я слушала вполуха, оглядывая зал и пытаясь найти причину головокружения, которое он у меня вызывал, и его обшей странности. И вдруг поняла. Ни одна из стен не была параллельна противоположной и не заканчивалась прямым углом. Чем больше я смотрела на это помещение, тем несуразнее оно казалось. Особенно ошарашивали его размеры. В том мире, где я жила, в верхней части города, все привыкли к стандартным квартирам, распланированным так, чтобы отвечать надобностям обычной жизни: тамошние комнаты предназначались для приготовления пищи, для сна, для купанья, для приема гостей, для размышления, если можешь себе это позволить. Маленькие такие кубышечки, ячейки организованной жизни. Здесь — ничего похожего. Потолок раза в два выше, чем у меня дома. Некоторое количество стен имело место, но ни одна из них не разграничивала замкнутых пространств, они, напротив, скорее укрывали от взгляда их границы. И наконец, на стене фасада было столько окон, что казалось, будто находишься с городом на одном уровне или, того лучше, город ради собственного удовольствия растянулся перед тобой, словно гигантский холст. Я на миг наклонилась к одному из окон, вгляделась в открывшуюся перспективу, может быть, затем, чтобы отвлечься от пространства зала, создававшего странное ощущение, будто теряешь равновесие.
Там, чуть поодаль, за туманным провалом улицы, тянулись почти до горизонта плоские крыши ветхих строений ржавого коричневого цвета; под пологом летней дымки они казались зыбкими, будто тающими. На окнах сушилось белье всех мыслимых цветов, по растрескавшимся фасадам, тесно жмущимся друг к другу, зигзагами, как странные змеи, вились металлические лестницы. И я впервые вместо того, чтобы скорбеть о нищете и упадке, сказала себе, что в этом городском ландшафте есть что-то красивое и щемящее.
В это время художник, взиравший на меня не без некоторого раздражения, мрачным тоном изрек: «Французы обычно находят этот пейзаж живописным. Ко мне на днях забрел один интеллектуал, он мне заявил: „Как, должно быть, интересно жить здесь!“ А для меня это ужасно. Сегодня утром я из своего окна видел человека, который кололся, в этот самый момент дозу себе вводил. Вон там, на той кровле. А сейчас, может статься, выйдет на улицу и за доллар кого-нибудь убьет. За стенами этих зданий — дно ада. Кто докатится до того, чтобы застрять здесь, тому в среднем не протянуть больше года». — «Однако же, — заметила я, — вы решили здесь остаться, сделали выбор». — «Я такого не выбирал, — с живостью откликнулся он, — как только истечет срок моей аренды, я перееду. Вероятно, сниму мастерскую рядом с Грамерси-парком. Довольно я насмотрелся на бедность, на черных наркоманов и спивающихся пуэрториканцев, на весь здешний развал. Люди тут ни к чему не питают уважения, только и умеют, что разрушать. В прошлом году для них поставили миленькие крашеные скамейки, высадили аллею деревьев по всей длине той улицы, что проложена ниже. Неделю спустя ничего не уцелело: скамьи поломаны, деревья вырваны с корнем, изломаны, вырублены. Хотел бы я видеть этот квартал чистым, а вот люди чтобы вовсе исчезли». Неожиданно грубым жестом он изобразил, как расстреливает из автомата весь ландшафт из края в край. Потом расслабленно уронил руки и проворчал сердито, будто защищаясь: «Мне нужно, чтобы вокруг меня был порядок. Сознание — это такой хаос, что хватит уже». И потом еще долго не унимался, будто сам с собой говоря, что-то бубнил про декаданс, революцию, фашизм. «Восстания, уничтожение картин, разрушение красот…»
По правде сказать, до меня не совсем дошло, о чем он, собственно, толковал. Я чувствовала, что лучше не отвечать, да, пожалуй, и не слушать. Но в глубине души, хоть и не вполне улавливая смысл его речей, я сознавала, что они вызывают во мне резкий протест.
Мне представлялось, будто вся моя жизнь, все то, что я всегда уважала, любила и умела облекать в подходящую словесную форму, здесь внезапно обращалось в растоптанное и осмеянное ничто. В голове еще раз промелькнула мысль о муже, но не принесла никакой поддержки. Я была глубоко несчастна.
А художник тем временем продолжал. Он теперь перешел на другое, его лицо омрачилось, побагровело, будто в бешенстве. «Глупость. Эти рассуждения людей. Я иногда просто не могу их больше выносить… Я рву свои полотна, беру нож и кромсаю их все. И вышвыриваю на улицу». Потрясенная, я вспомнила клочья, что валялись на тротуаре, настолько поблекшие от дождей, что я так и не смогла догадаться об их происхождении. Я всегда не терпела насилия, порой страх что-то разрушить толкал меня на поступки странные и обременительные. Я храню все щербатое, надтреснутое, изодранное — мне кажется, что, отправив все это в мусорную корзину, я бы совершила какую-то трудно поддающуюся определению несправедливость. Вдруг мне необоримо захотелось расплакаться. Я отвернулась. Закусила губы, но слезы все равно потекли из глаз, и ярость на собственное бессилие, на неспособность себя контролировать лишь выжимала все новые слезы. Странные, нелепые слова застучали в висках: «Волк, степной волк…»
Он не обратил на мои слезы внимания. Нет, не то чтобы он ими пренебрег. Просто смотрел на меня, и его лицо не выражало ни раздражения, ни сочувствия. Он меня не видел. Именно это равнодушие вскоре помогло мне взять себя в руки. Рыдания утихли, я успокоилась, меня даже несколько забавляли теперь эти эмоции, возможности которых я в себе не предполагала, и я высказала желание посмотреть его картины.
Тогда кошмар этой сцены оборвался так же внезапно, как начался. А то, что последовало, было сплошным очарованием. Художник вытаскивал для меня полотна всех видов, большие и маленькие, а я только вскрикивала, не рассуждая. Обычно я скорее сдержанна, люблю высказываться со знанием дела и страшусь ситуаций, в которых требуется выражать эмоции. Рождение детей погрузило меня в столь глубокое молчание, что родные в конце концов даже решили, будто эта перемена мне досаждает, а между тем мои дети для меня всё. Даже трагические события войны, задевая меня очень глубоко, внешней реакции не вызвали, так что друзья не одобряли моего безразличия. Однако сейчас на ум приходили странные слова, те самые, которые я всегда презирала, туманные и приподнятые, вроде «прекрасно», «чудесно», «потрясающе», «волшебно». Они слетали с языка, перегоняя друг дружку, их так легко было повторять, они пенились, как игристое вино, и с ними ко мне возвратилось то сладостное опьянение, что я уже испытала при нашей первой встрече.
Художник взирал на меня с симпатией: похоже, я его забавляла. Вдруг меня посетила мысль. Или, если быть точной, сразу две. «Знаете, — сказала я ему, — ведь денег у меня нет, я ничего не покупаю и, кроме вас, не знакома ни с кем из знаменитостей. Я живу в верхней части города в довольно жалкой квартирке и никогда не интересовалась живописью». Он ничего на это не сказал, только затянулся своей трубкой. И все же продолжал показывать мне картины, давая пояснения с той же деликатностью, так же изящно и чувственно, как до моего заявления или, если это возможно, даже еще предупредительнее. Что до второй мысли, мелькнувшей у меня в голове, ею я с ним делиться не стала. Да и себе вскоре сказала, что она глупа до крайности: мужчина вроде него легко нашел бы в этом городе девиц пособлазнительней меня. К тому же ничто в его поведении не подтверждало идею, что я имею дело с искателем любовных побед. Самонадеянность и мелочность подобного предположения снова заставили меня покраснеть. Потом я вдруг разом и думать о нем забыла.
Я чувствовала себя ребенком, заброшенным в книжку с картинками, вдруг волшебным образом увеличенную, и бродила по этому очарованному царству, где со всех сторон на каждом шагу открывались новые перспективы, одна другой заманчивее. Я все хотела увидеть, ко всему прикоснуться. Металась, как обезумевший мотылек, и это ощущение было упоительно.
Вскоре новая мысль пришла мне на ум. Я посмотрела на его измаранные краской брюки и спросила себя, где же то полотно, над которым он трудился, когда я пришла. Стены выглядели абсолютно пустыми, и мольберта нигде не видно.
Художник, услышав такой вопрос, воззрился на меня с изумлением. Наконец буркнул: «Ну, на полу…» Мне стало ужасно неловко. Я ничего не видела. Пол был сплошь в разноцветных пятнах, я не знала, куда смотреть. Снова возникало впечатление, будто меня занесло на другую планету. Как тогда, на выходе из метро, мое зрение помутилось, и, если отдельные предметы виделись с необычайной отчетливостью, другие зато, казалось, полностью выпадали из поля моего зрения. На миг меня охватило смятение: может, я утратила ориентацию в предметном мире и больше не понимаю что к чему, может, картины теперь похожи на столы, на стулья, а мое зрение поразила диковинная болезнь?
Между тем художник продолжал: «Какое дивное цветение красок, не так ли! Многим охота прихватить с собой не столько мои картины, сколько мой пол». И со смехом добавил: «Когда совсем поиздержусь, придется его вырезать и продать». Тогда до меня дошло, что свои полотна он расстилает прямо на полу и расписывает с помощью краскопульта. Это открытие натолкнуло меня еще на одну мысль, касающуюся живописи. Я всегда считала ее искусством тонким, почти салонным. Художника я представляла себе тихим человеком, который довольствуется тесным пространством, ловко орудуя заостренными кисточками где-нибудь в уголке своей комнаты, а если на пленэре, воображала его этаким денди в шляпе-канотье, склоненным над мольбертом. Но это, выходит, искусство, требующее силы в руках и плечах, орудий пожарника и грубой фамильярности в обращении с вещами? Я вдруг оробела. Руки повисли вдоль тела безвольно, как воланы на платье провинциалки. Вспомнив свою профессию — грамматика! — я почувствовала стыд.
Наконец мой взгляд обратился к центральной части мастерской. Там, тоже прямо на полу, лежали три полотна, натянутые на деревянные подрамники и очень бросающиеся в глаза. Они были большие, примерно 38 дюймов на 74. Все три были еще влажны. На том, что справа, преобладали оттенки красного, то, что слева, было выдержано в желтых тонах. В основе композиции всех трех были по четыре вертикальные полосы, под прямым углом перечеркнутые пятью горизонтальными, так что возникало подобие решетки, напоминающее оконный переплет. Цветовые пятна компоновались вокруг этих пересечений. Было уже не трудно понять, какой посыл заложен в правом и левом полотне. Первое источало мощь, даже жестокость, едва сдерживаемое насилие. Второе было пронизано кроткой нежностью.
Однако то, что в середине, а к нему-то мой взгляд поминутно непроизвольно возвращался, казалось совершенно невнятным. Цвета сменяли друг друга без видимого порядка, размашисто выплескиваясь на пол рядом с картинами, так что полотно, казалось, еще не выбралось наружу из текучего кокона живописи.
Художник объяснил, что он создает свои произведения сериями. «Меня ведет то, что происходит на моем полотне, — совершаются события, текут краски, перекрывая одна другую, мне надо быть в этом каждое мгновение, видеть, с чем согласен, что отвергаю, чему подчиняюсь… Я забываю весь мир, мои уши глохнут для посторонних звуков, я могу так умирать подряд три дня, неделю, ничто больше для меня не существует… Потом я хожу вокруг своего полотна, погружаясь в то, что на нем совершилось, пытаюсь взять верх над ним, это смахивает на балет, я будто наркоман под кайфом, меня шатает…» Я смотрела на него. Он закрыл глаза, его пальцы будто прощупывали пустоту. Он вдруг показался мне немного смешным, и это сразу после того, как поверг меня чуть ли не в трепет своей сокрушительной мощью. Перед глазами мелькнуло и пропало воспоминание — бюст Бетховена… Руки у художника были крепкие, мясистые, на коже пролегли глубокие борозды.
Он и сам мне сказал, что обе картины, те, что по бокам, кажутся ему удавшимися. «Проблема всегда в том, чтобы понять, когда работа закончена. Иногда важно уметь вовремя остановиться… Когда устаешь, а бросить не можешь, продолжаешь работать над картиной и, случается, все безвозвратно портишь… Я не люблю хранить свои полотна в мастерской… Всегда боюсь, что меня потянет добавить что-нибудь, изменить… Это со мной происходит безотчетно…» Помолчав, он почему-то сказал: «Когда я был маленьким, наш дом стоял у самого вокзала. Я почти всегда был один и большую часть времени проводил, глядя на него: все ждал, что придет еще поезд, потом еще…» Тут он осекся, пораженный какой-то мыслью, и уставился на меня. «Я смотрел, как дым появляется над оградой и потом исчезает. — Это он произнес медленно, и мне почудилось, что его голос дрогнул. — Вот так, стало быть, и с этими полотнами…»
Я вдруг почувствовала тягостное смущение. В голове молотком застучали слова: «Самый примитивный эгоцентризм». Я находила его неотесанным, подобные разговоры просто нестерпимы, мое лицо кривилось в брезгливой гримаске. Но он продолжал: «Я стараюсь никогда не думать о своем детстве, я был тогда слишком несчастен». Животный инстинкт вдруг толкнул меня: я его поцеловала. И тотчас снова смутилась. Пояснила, что у меня двое детей и мысль о ребенке, брошенном матерью, кажется мне невыносимой. При всем том я о своем порыве не жалела. Да и он, казалось, воспринял его очень просто.
Но в глубине моего существа поселилась глухая боль, придававшая всему происходящему «смысл», сути которого я не знала, только чувствовала, что он назойливо неотвратим. Все, что мы говорили и делали, каким-то неуловимым образом приобретало для меня чрезвычайную важность, каждая деталь что-то значила, без промаха становилась на свое законное место. Мной владел тот диковинный страх, что просыпается, когда среди повседневной суеты возникают события, знаменующие поворот судьбы, и наши чувства наконец улавливают этот сигнал.
Я заметила, что он ничего не говорит о центральном полотне, к которому то и дело обращался мой взгляд. Но и я не осмеливалась ничего ему об этом сказать. Тем не менее, хотя никто из нас даже намеком не обмолвился об этой картине, мы словно бы уже условились, что завтра я приду снова, чтобы посмотреть, как он работает. А коль скоро две другие были уже, считай, готовы, само собой выходило, что работать он будет над ней.
* * *
Возвратясь домой, я впала в состояние тревоги или, вернее, неописуемо томительного нетерпения. Чувства скакали по нервам тысячами электрических импульсов, и я не знала, что мне с ними делать. Ночью меня преследовали видения неоконченного полотна. Вязкий океан красок подступал ко мне. Моя плоть растворялась в розовом и каштановом, их мягкая волна, пенясь и крутясь, наползала на огромный и темный песчаный берег, потом вдруг наталкивалась на какую-то жесткую преграду, полосы обвивали и душили меня, но я внезапно вновь обретала власть над собственным телом. Я чувствовала себя разбитой, как после долгого физического труда. Вскоре мной снова овладевала полудрема. Я была вся в поту от напряжения. Мне мерещилось, что у меня то ли отняли мое тело, то ли оно мне еще не предоставлено. Оно мерцало, словно бесформенная масса плохо сочетающихся красок. То мне представлялось, будто они разом буйно вспыхивают и я становлюсь огнем, то все внезапно застывало, разноцветный ледник в длительном неостановимом устремлении дорастал до неба. Страх и ликование обуревали меня одновременно. Потом вдруг, напротив, чудилось, что цвета, образумившись, приобретают основательность и гармонически согласуются, я чувствовала, что тело наполняется нежностью и покоем, сулящими наконец блаженный отдых, и текла куда-то в бесконечность, подобно мирной реке, вся в легких бликах. Но снова наталкивалась на жесткую преграду. И опять просыпалась, обнаруживая, что по спине стекает пот.
Я говорила себе: это, должно быть, переутомление; как бывает порой в состоянии депрессии, моим ослабевшим сознанием с силой наваждения овладела одна-единственная мысль. Чтобы избавиться от нее, нужно завтра снова увидеть то самое полотно, причину бессонницы. Оно меня наверняка разочарует, я уже не увижу в нем двери, распахнутой в неверный и угрожающий мир, где все мыслимое и немыслимое кружится в нескончаемом танце, и пойму наконец, что передо мной всего-навсего заурядный набросок.
* * *
Шли недели, а я все снова и снова, чуть ли не каждый день, возвращалась в мастерскую. Когда что-нибудь мешало мне, удерживая дома вдали от картины больше двух или трех суток, я чувствовала себя выбитой из колеи, меня грызло беспокойство. Мне было необходимо ежеминутно знать, как она продвигается, узнаю ли я ее по возвращении, найду ли ее. Ибо выпадали дни, когда она почти полностью исчезала, то под слоем вконец взбесившихся красок, то, наоборот, потому, что их одержимо счищали.
Таким образом, я видела, как полосы постепенно сливались с фоном, потом являлись вновь, словно накрывая картину решеткой, опять стушевывались, блекли по краям, превращаясь под конец в едва заметные черточки. В иные дни полотно, бывшее накануне совсем розовым, к утру оказывалось фиолетовым, а когда я возвращалась назавтра, оно становилось оранжевым. Однажды вечером я застала картину багровой в черноту, все ее полосы слились в единую колонну, верхнюю часть которой, похоже, пожирало пламя. Я была уверена, что это конец, катаклизм, пожар Трои. Ночью в кошмарном сне я плакала над поверженным Гектором. Потом с краев робко проступили пятнышки желтого, потянулись к середине, и на другое утро полотно было переполнено солнечным сиянием. Трепеща в послеполуденных лучах, оно стало почти неразличимым. Мне показалось, что дальше пойти невозможно, я бы желала попросту раствориться в этой «лучезарности». Но тут настала очередь зеленого, он сперва возник из местами темнеющего желтого, потом проступил пятнами. Вместе с ним снова неожиданно всплыл красный цвет, потом забрезжил голубой.
Однажды дождливым днем в начале осени мне вздумалось прогуляться по берегу Гудзона. За последние две-три недели листва деревьев приобрела необычайные оттенки, подчеркиваемые удивительной прозрачностью воздуха, и мне захотелось посмотреть, что станется с этими кронами, пронзительно оранжевыми, пламенеюще алыми и тяжеловесно каштановыми, отданными теперь на произвол разгулявшейся бури. Лихорадочное любопытство ударило мне в голову — я позвала с собою детей. Мне показалось, что мы давненько никуда вместе не ходили. Собираясь на эту прогулку, мы преисполнились радостного возбуждения при мысли, что будем гулять под дождем, все трое бок о бок шагать против ветра, прижимаясь друг к другу, хохоча, когда мокрый лист, пролетая, хлестнет по щеке. Тогда мне подумалось вскользь, что детям нужны новые непромокаемые плащи. Но я сказала себе, что свежий воздух в любом случае пойдет им на пользу.
На улице лил дождь, в просветах сквозь завесу тумана было видно, как ветер треплет деревья, как серые пузыри вздуваются и опадают на речной глади. Я жадно созерцала этот пейзаж. Глаз оторвать не могла. Домой мы вернулись, когда совсем стемнело. На следующее утро у детей начался сильный жар. Смутное ощущение вины овладело мной, я стала думать, что они заболели из-за меня. Уже много дней они были лишены моего безраздельного внимания, к которому так привыкли. С болью и удивлением я осознала, что, пожалуй, для матери невозможно иметь иное занятие, кроме детей, — занятие подлинное, увлекающее и продолжительное. Я припомнила эти недели — свои перемены настроения, приступы глухого гнева, короткие резкие вспышки, удивлявшие всю семью и рождавшие во мне стыд, восторженные порывы, когда я ни с того ни с сего бросалась страстно целовать детей, лихорадочное беспредметное возбуждение, утихомирить которое могла только музыка, вялые, будто затуманенные дни и беспокойные ночи, и так месяц за месяцем.
И вот теперь дети серьезно больны. Мне следовало ожидать подобного поворота. Путь, что привел к нему, ужасал меня своими заморочками, навязчивыми идеями, туманящими рассудок, всей этой чрезмерной красочностью, кажущейся ныне такой фальшивой. Я провела ночь у их изголовья. Смотрела на хрупкие личики, пылающие жаром, и мне было страшно. Воспоминания толпой осаждали меня, я не понимала, как могла до такой степени отдалиться от них. Мне казалось, будто с глаз наконец спадает пелена, я заново обретаю способность управлять своими чувствами. Меня околдовали, казалось немыслимым, как же я раньше не отдавала себе в этом отчета. Впрочем, разве это не самый характерный симптом околдованности? Я лишь недоумевала, почему среди стольких людей подобное случилось именно со мной.
В долгих бессонных грезах, посещавших меня, когда дети, одурманенные лекарствами, задремывали, давая мне передышку, воображение рисовало странные фигуры, давно позабытые в музейных подвалах памяти. Неотвязно заполоняя изнуренный мозг, в нем оживали никогда не виданные статуи. Я думала о мадам Бовари, героине, всегда внушавшей мне легкое презрение, о Федре, над чьими выспренними излияниями я в юности посмеивалась, о Дон Жуане, никогда не вызывавшем во мне иного чувства, кроме иронической симпатии. И Макбета я вспомнила, его столь необъяснимо одержимое влечение к короне и крови, и Фауста, о котором некогда написала столько хороших сочинений, даром что его странные причуды наводили на меня скуку. Мне не хотелось их видеть, я бы желала отправить их обратно в книги, из которых они вышли, их появление на каждом повороте моей мысли наполняло меня тайным страхом. Я говорила себе сначала: «Да ну, тут же не более чем это!» — а потом: «Значит, это именно оно самое и было!» Потом мой взгляд снова падал на детей, и мне становилось дурно.
Настал момент, когда один из них вдруг сел, выпрямившись, на кровати и громко сказал: «Мама, не уходи!» Эти слова произвели на меня ужасающее действие. Он бредил. Я кинулась к телефонному справочнику, стала набирать номера — один, два, десять, и всякий раз отзывался только бесстрастный голос автоответчика. Я побежала к мужу. Он собрал свои книги и посоветовал мне идти спать, сказав, что поработает, устроившись рядом с детьми. «Ты же знаешь, сегодня воскресенье, найти врача почти невозможно», — добавил он. А, стало быть, уже воскресенье! Я ретировалась в свою комнату, вся холодея. Сейчас я испытывала лишь безнадежную потребность забыться, уснуть. Простое, грубое желание, чтобы все кончилось, овладело мной. Пусть они умрут. Чтобы наконец и я тоже могла провалиться в смерть.
* * *
Назавтра дети уже чувствовали себя много лучше. С этого дня они быстро пошли на поправку. И я тоже. Когда мне случалось вспомнить о картине, главным моим чувством оказывалось отчужденное удивление. Вся магия испарилась, и я подвергла свой былой энтузиазм холодному рассмотрению. Как я могла допустить, чтобы меня настолько заморочили какие-то пятна краски, наляпанные на четырехугольник хлопковой ткани? Проплывая перед моим умственным взором, полотно казалось мне плоским изображением, на фоне огромности мира и житейских потрясений представляющим весьма ничтожный интерес. Я снова почувствовала вкус к нашим семейным заботам, и мы с мужем стали поговаривать о том, что недурно бы куда-нибудь съездить в отпуск. Но разумеется, следовало дождаться школьных каникул, ведь мы и в мыслях не имели уехать без детей.
Я быстро набиралась сил, чувствовала, что душевное здоровье ко мне вернулось, и потому, когда наш приятель-банкир, снова собравшись нанести визит художнику, чтобы получить ранее выбранное для покупки полотно, попросил меня сопровождать его, я не увидела тому никаких препятствий. Спросила его, не идет ли речь о картине из серии «Окна». Он меня заверил, что нет, поскольку он так и не решился остановиться ни на одном из восьми полотен этой серии, притом, так или иначе, галерея уже прибрала их к рукам, а его выбор пал на давнюю композицию, исполненную в манере более классической. Я не осмелилась спросить, существует ли еще та картина, которую я видела в работе, да и как бы я ее описала? Я же видела ее не иначе как в череде бесконечных трансформаций. К тому же это меня больше не интересовало.
* * *
Отправляясь в мастерскую, я чувствовала себя несколько скованно. И потом, я ведь еще не выходила из дома со времени болезни детей, так что теперь уличное движение и сутолока метро слегка кружили мне голову.
Мой друг уже прибыл на место, его присутствие избавило меня от замешательства при первом обмене репликами. В мастерской, похоже, ничего не изменилось. Меня удивило, что художник даже не спросил, как чувствуют себя мои дети. То есть он, может быть, и задал этот вопрос, но так вскользь, как отдают дань ненужной условности. Видимо, он также не заметил, насколько я подурнела, как осунулось мое лицо. В общем, пока я проходила через кошмарнейшие испытания, здесь все шло своим чередом, никого не заботили ни мои чувства, ни произошедшая в них перемена.
Художник воодушевленно объяснял, сколько хлопот и затруднений доставило ему его последнее полотно, и мой друг с любопытством подбадривал его вопросами. Я же смотрела на городской пейзаж, на эти плоские кровли, тянувшиеся до горизонта, на оборванных ребятишек, гонявшихся друг за дружкой по улице, и болтавшееся на окнах белье. Я спрашивала себя с тревогой, что станется с детьми, растущими вот так, на улице, в подобной разрухе, среди наркоманов и пьяниц. Я думала о своих детях, представляла их внезапно осиротевшими, оставленными в одиночестве на милость этого чудовищного города — маленькие хрупкие жизни в тисках неуправляемых безжалостных сил. Я чувствовала себя покинутой и печальной. Порыв безмерного сочувствия заставил меня глубже вникнуть в суть вещей, и мне захотелось плакать.
Между тем живописец говорил, что он стремится в некотором смысле противопоставить или, может быть, объединить аполлонический дух и дионисийскую безудержность. Что он непрестанно мечется между этими крайностями, часто готов все бросить и до сих пор еще не знает, закончена ли его картина. «Меня увлекали противоречия, которые были источником моей живописи и одновременно препятствием для нее. Я без конца разрывался между яростью и нежностью, только и держусь, что на лезвии неукротимого раздражения». Глядя на него, я вдруг поняла: он толкует о той самой картине, что навеяла мне столько кошмаров. Потом он извинился, что выражается так книжно, прибавив, что это, наверное, все же лучший способ заставить нас понять его. У меня возникло вполне отчетливое впечатление, что все это обращено ко мне. Но почему это меня так ранило? Сердце щемило от какого-то нелепого стыда. Затем он прибавил, что с неделю тому назад полностью утратил интерес к этой картине и решил остановиться, пусть она будет такой, как есть. Эти слова меня поразили. Впечатление было потрясающим, и за шумом лишних фраз явственно услышалось: «Все из-за того, что вы не приходили».
Тогда мне вдруг показалось совершенно невероятным, что я могла так забыть об этой картине, хотя бы всего на несколько дней. Я не понимала, как могла настолько отдалиться от нее. Меня обуяло сильнейшее желание увидеть ее снова и одновременно — рвущий душу страх, что она слишком изменилась, я ее не узнаю, она уже не будет моей. Меня трясло, я не смела вымолвить ни слова. К счастью, наш друг тоном, который показался мне оскорбительно легкомысленным, попросил позволения взглянуть на нее. И художник все с тем же равнодушным видом вытащил ее из груды других полотен той же серии — она стояла последней — и повесил на стену.
Все время, пока продолжалась эта небольшая церемония — снять картину, что уже висела на том месте, отнести ее в угол, пристроить туда другую, направить свет лампы под нужным углом, сходить за стульями, — я старалась не смотреть. Сосредоточиться на несущественных деталях. Смотреть, к примеру, на ноги художника, видные из-за края картины, которую он нес так, что создавалось уморительное впечатление, будто она идет сама. Или разглядывать банки с краской, выстроившиеся на полу наподобие кухонной отопительной батареи, — я даже взялась их пересчитать. Потом попыталась вспомнить стихи, сочиненные поэтессой, которая любила этого человека: я прочла их в недавно вышедшей книге. Удалось вспомнить только слова «затравлена зверем, бежавшим за мной по пятам», я стала их пережевывать, вертя так и сяк, словно жевательную резинку, пока они не утратили всякий смысл. Наконец картину повесили. Я посмотрела на нее.
Это было потрясением. Волны эмоций захлестнули меня. На полотне я узнала все те краски, что на моих глазах появлялись и исчезали в течение минувших недель, все оттенки, представившие для меня гибкую переменчивую гамму моих настроений, были собраны здесь, словно суммарный итог дней, проведенных мною в мастерской, но теперь они обрели таинственное, ускользающее равновесие, превышавшее мое понимание, при всем том казалось, что и жизнь не жаль отдать за возможность отыскать его секрет. Картина была прекрасна, она меня покорила.
Тут я услышала голос нашего друга. Он спрашивал, когда галерея пришлет машину за этой серией. «С минуты на минуту», — обронил художник, глянув на часы. От этих слов меня передернуло, как от скабрезной брани. У меня даже не было времени толком наглядеться на картину! Я внезапно представила, как всего через несколько часов она исчезнет, будет выставлена на всеобщее обозрение, уйдет в какой-то неизвестный дом, и мне ее больше не видать. Не успев даже подумать, я услышала собственный до странности резкий вскрик: «Только не эту картину!»
Художник посмотрел на меня и осведомился холодно: «С какой стати?» Я смешалась. О правилах купли-продажи произведений искусства я не имела ни малейшего понятия, но, если галерея закупила все полотна данной серии, очевидно, к ней и следует обращаться. Но тот же страх снова схватил за горло — страх, что я потеряю картину, дня не пройдет, как она окажется в чужих руках, чужие глаза будут смотреть на нее. И вместе со страхом меня обуял гнев, который я тотчас обратила против нашего друга. Я принялась кричать. «Великолепно! — вопила я. — Думаешь, только таким, как ты, пристало владеть произведениями искусства, а с меня довольно видеть их в музее или когда ты соблаговолишь пригласить в гости? Мне осточертело, что публика вроде вас вечно скупает наследие, принадлежащее всем, хотя вы ни в чем не смыслите, только и умеете, что платить, благо деньги есть! Даже подумать тошно, что это, — широким патетическим жестом я указала на картину, — будет висеть у тебя в салоне, где твои гости, толкаясь вокруг коктейлей, не взглянут на нее или, наоборот, будут долго пялиться, чтобы потом брякнуть какую-нибудь чепуху!» И поскольку мой гнев не утихал, я повернулась к художнику, набросилась уже на него: «А вы-то! Не стоило приглашать меня сюда, что ни день, смотреть, как вы работаете, чтобы в последнюю минуту объявить, что вы даже не можете отдать мне вашу картину! Мою картину! Потому что вы сами прекрасно знаете — она моя!» Тут яростным рывком я вытащила свою чековую книжку и замерла в ожидании. Вся моя робость исчезла как не бывало, меня переполняла страстная убежденность. Во всяком случае, я заметила, что моя внезапная выходка отнюдь не разозлила художника — она ему понравилась. От этого я только еще решительнее вцепилась в чековую книжку. У меня нашлось еще немного яду напоследок: «Я отлично понимаю, что у вас на уме. Вы думаете, что в моей квартире ее никто не увидит и, в общем, это для нее похороны по первому разряду. Но, скажу вам, мне на это плевать, потому что ваша картина, как только вы ее закончили, перестала вам принадлежать, и даже если на нее буду смотреть я одна, по мне, этого достаточно: так она будет оценена лучше, чем если бы на нее глазели в галереях толпы кретинов!»
Тут по краю сознания промелькнула смутная мысль: «Может, вам кто и сложит поэму про ваши банки с краской, но кто сочинит целую историю про одну картину? Так что не жалуйтесь!»
Жаловаться он и не думал. К удивлению нашего приятеля, который, смутившись, рассыпался в путаных извинениях, я получила свою картину. Все еще заряженная энергией своего порыва, я пожелала забрать ее немедленно. Она была слишком большой, чтобы поместиться в автомобиле нашего друга, но я вынудила художника вызвать знакомого перевозчика, специализирующегося на подобных грузах, и была так настойчива, что последний обещал сей же час прислать фургон. Пока его ждали, я прочитала договор. Обязательства, которые ложились на меня как на владелицу произведения искусства, показались мне оправданными, и я подписала контракт, отныне роковым образом приковывающий меня к четырехугольнику размалеванного полотна. Я была положительно не в себе. Все получилось, я знала, что получится, меня ничто бы не остановило, но в то же время, как бывает во сне или в тумане грез, я чувствовала: то, что все наконец встало на свои места, — не объективная реальность, а всего лишь моя иллюзия и на самом деле равновесие в любой момент может быть внезапно нарушено.
* * *
Вернувшись домой, детей я там не застала, да и мужа еще не было. Я обрадовалась такой передышке. Прислонила картину к стене, расплатилась с перевозчиком, закрыла дверь. Села. Я была наедине с моей картиной. И тут прилив энергии, на котором я держалась, иссяк. До меня дошло, что я только что потратила деньги, которые мы скопили на наш отпуск, да к тому же, ни с кем не посоветовавшись, совершила поступок, касавшийся всей семьи, и это при том, что в наших хоромах даже места нет, чтобы повесить картину такого размера.
Сердце глухо заколотилось. Было жарко, зной давил. Послеполуденный свет сделался блеклым, желтоватым. Я перевела взгляд на картину. Ее краски словно бы скопились, теснясь на поверхности, их расположение было плоско, банально, они утратили свой блеск и прозрачность. Очертания полос выпирали почти вульгарно, цветовые пятна цеплялись за них, будто клочья грязных тряпок. Я отступила на шаг. Теперь полотно казалось закрытым, будто по собственной воле отгородилось от меня решеткой.
Я испытала порыв тяжкой неприязни, тотчас сменившейся чувством унижения. Меня осаждали самые разнородные мысли, но все они, как острые иглы, впивались в мою совесть. Мне вспомнилось, как давно дети мечтают о новом фортепьяно взамен нашего старенького, буквально распадающегося на части, как муж откладывает с одного семестра на другой поездку в Европу, которая между тем необходима ему, чтобы продвинуться в своей работе, и как горько моя мама, оставшаяся во Франции, сетует на то, что мы вот уже год не видались. От угрызений, что и помощь детям Вьетнама мы забросили, хотя прежде горячо участвовали в этой работе, я перешла к соображениям более общего плана.
Оглянувшись на прошлую жизнь в целом, я вдруг спросила себя, не является ли сплошной ошибкой все наше пребывание в этой стране. Я задавала себе вопрос, удастся ли нам наперекор нашим ограниченным средствам воспитать детей так, как мы того желаем, и тут же другой — что мы будем делать, если кто-то из наших родителей тяжело заболеет, сляжет или если наша семья непоправимо распадется, причем по моей вине?
Потому что теперь мне стало ясно, что именно я, а не кто иной год за годом отказывалась вернуться. Меня куда сильнее, чем моего мужа, для которого вполне достаточно его исследований и привязанности близких, пугала возможность возвращения в родной город. И вот мне впервые показалось, что эта страна не примет нас никогда. Заезжие французские буржуа, пустые и амбициозные, остались для нас чужими как по стилю жизни, так и по устремлениям. Что до прочих соотечественников — молодых карьеристов или поверхностных любителей перемены мест, у нас, конечно, было совсем мало общего с ними. У мужа, разумеется, завелось несколько друзей среди американцев, с которыми он имел дело по работе, таких же лингвистов, но они всегда рано или поздно куда-нибудь переезжали. Хотя мой муж не жаловался на жизнь, у нас было достаточно забот, да и знакомств немало, но меня грызло беспокойство.
Все это в тот вечер с необычайной силой представилось моему сознанию. Чувство вины захлестывало меня с головой, и я горько заплакала. К тому времени, когда вернулся муж, я уже настолько надломилась, что все бы отдала за возможность отослать полотно обратно. Застав меня в таком отчаянии и увидев картину, муж, несомненно, в общих чертах догадался о случившемся. Он пробормотал всего одно слово: «Наконец…» Это показалось мне так странно — я не нашлась что ответить. А он ничего больше не прибавил, не считая шутки, примерный смысл которой состоял в том, что «отныне, похоже, я смогу возместить нашим шикарным друзьям с Ист-Ривер все те обеды, что мы им задолжали». Я была ошеломлена. Мне хотелось выплакаться в его объятиях, объяснить, какое сцепление обстоятельств привело меня к этому поступку, выразить ему свои угрызения, я бы желала, чтобы меня поругали и чтобы утешили, я жаждала найти опору в той нежной снисходительности, к которой он меня приучил. От его холодной покорности судьбе, от того, что он не проронил ни слова упрека, от этого отчужденного безразличия все во мне заледенело.
Я перестала плакать. Притулила картину к стене так, чтобы она занимала как можно меньше места, и стала, как обычно, готовить ужин. Когда дети пришли из школы, они меня попросили как-нибудь сдвинуть эту штуку, а то она им мешает играть в дартс. Их оживленная кутерьма наполнила дом, и вечер прошел так же, как всегда. Потом они отправились спать. Муж вернулся к своей работе. Я улеглась в соседней комнате. Пелена молчания повисла между нами.
Однако на следующее утро, когда дети ушли и муж в свой черед отправился на работу, я почувствовала, что настроение у меня исправляется. Возвратила на свои места вещи, которые они бросили в беспорядке, и только после этого направилась в гостиную.
Мою картину никто не потревожил, она была точно на том же месте, где я ее оставила накануне. При первом же взгляде на полотно неодолимый трепет радости пробежал по телу. Все мучения вчерашнего вечера и ночи вмиг исчезли. Дикое торжество обуяло меня. Итак, она в моем доме, она моя, больше никто и ничто у меня ее не отнимет, я достигла своей цели. Я проскользнула в глубину своего существа и притаилась там, как скрытная змея. Теперь окружающий мир стал для меня всего лишь огромным могучим врагом, у которого мне удалось вырвать свою добычу. Я тихонько засмеялась и мысленно обратилась к художнику: «Итак, вы попались на удочку, дали мне провести вас своей маленькой игрой, этим моим гневом вкупе с преклонением и наивностью! Будь я менее ловкой, вы бы никогда мне ее не продали, тем паче за такую цену!» И верно: хотя для нашего бюджета цифра была непомерно высока, он уступил мне картину чуть ли не за половину той суммы, которую предложила бы за нее галерея. Я вспомнила своего друга из банка, не знавшего об этой подробности сделки, и ощущение долгожданного реванша преисполнило меня веселым самодовольством. Подумала о муже и про себя цинично шепнула ему: «Твоей злости все равно надолго не хватит, да и как бы там ни было, у тебя есть твои книги, ими и утешайся». И о детях подумала — сказала себе, что они, по сути, не более чем эгоистичные маленькие зверушки и я за все прошлые годы уже достаточно им отдала. Вспомнив о матери, я пришла к заключению, что пора пожестче относиться к ее вечным жалобам, она тоже была молодой и, уж верно, имела в жизни радости, о которых никогда нам не расскажет.
Я растянулась на софе, упиваясь ощущением такого всесилия, какого отродясь не испытывала. Те, кого я любила, отодвинулись, слились с серой массой, с толпой. Моя жизнь всегда была так плотно, без зазора связана с их существованием, что казалось немыслимым, даже смешным представить малейшую дистанцию между нами. Теперь одиночество пьянило меня. У меня было счастье, принадлежавшее исключительно мне, которого никто из них разделить не мог, счастье даровое и бесполезное, и я чувствовала, как во мне растет могущественная, чуть ли не пугающая сила, готовая защищать его.
На картину я почти не смотрела. В ясном, легком утреннем освещении она все еще казалась тускловатой. Но я знала и то, что это впечатление нормально, что мне теперь нужно научиться понимать ее, жить с ней и что отныне у меня будет столько времени для этого, сколько потребуется. Ничто не к спеху, она останется здесь и будет меня ждать, покорная моим желаниям, мне вольно думать о другом, уйти, если вздумается, даже отдалиться от нее настолько, насколько захочу. Я испытала спокойное чувство собственности, полновластного обладания: когда бы то ни было и где бы я ни находилась, если угодно, я смогу вернуться и обнять ее взглядом, всю, без остатка.
* * *
Большую часть дня я занималась привычными делами, вспоминая о картине лишь от случая к случаю. Казалось, я избавилась от огромной тяжести, давившей на мои плечи, и сама вместе с тем неуловимо изменилась, хотя и вынужденно, под насильственным для меня, для всех нас влиянием «извне». В окружающей реальности произошло нечто такое, перед чем пришлось склониться не только мне, но и другим. На сей раз это уже не было грезой, нет. Картина — вон она, стоит там, доказательство чему столь же материально и очевидно, как вот это кольцо, что теперь так странно глядится на пальце, а некогда служило доказательством моего супружества.
Однако под вечер я снова испытала потребность увидеть картину. Зажгла лампу и тихонько приблизилась. Краски на полотне, подсвеченные сбоку, гармонически перетекали одна в другую: голубой цвет отдавал сиреневым, сиреневый розовым, розовый уступал место светло-каштановому, который в свою очередь розовел, желтел, потом становился оранжевым, а тот коричневел, принимая в себя отсветы темно-зеленого, чтобы зеленый затем, расплываясь, растворился в синеве. Пересекающиеся полосы и те казались текучими, включившись в игру форм, хрупких, как следы самолетов в небе, порой они двоились, перепутываясь, пропадая, а затем мягко проступая в стороне, где их и не ждешь. Что до самого полотна, оно в этом приглушенном свете приобрело персиковую бархатистость; я смотрела на него искоса, и краски, казалось, подрагивали, словно на зябкой коже ребенка.
Потушив лампу, я бесшумно удалилась. Бесконечная нежность переполняла меня. Я чувствовала в себе созидательную доброжелательность, которой хотелось поделиться со всеми, кто меня окружает. Вспомнив о ненависти, обуявшей меня утром, я готова была посмеяться над собой. Мне казалось, что все эти треволнения принадлежат прошлому, я чуть не расхохоталась при мысли, что могла усматривать в своих чувствах к этой картине что-то пугающее и опасное. Ее краски так нежны, рисунок так чист, в ней есть что-то ангельское, как в невинной и безобидной красоте младенца. Я и сама себя чувствовала чистой, покинутой и полной дивной, одухотворенной любви. И с нетерпением ждала, когда же вернутся мои домашние. Мне не терпелось выразить им свою привязанность, доказать, что я все та же, нисколько не отдалилась от них, картина лишь ярче проявила во мне самое лучшее.
Когда они пришли, я с некоторым удивлением обнаружила, что они не способны тотчас настроиться на восприятие моих столь возвышенных чувств. Муж выглядел озабоченным, а дети спорили о сравнительных достоинствах героев какого-то телефильма.
* * *
В последующие дни я всерьез занялась поисками места, куда бы повесить картину. Не могла же она до бесконечности стоять, прислоненная к стене, где дети в любой момент могли, играя, порвать ее или испачкать. Пристроить ее куда-либо, кроме гостиной, было невозможно — даже захоти я этого, все равно не смогла бы. Стены нашей спальни и детской уже были заняты портретами домовладельцев, а также их предков и потомков. Имелась, конечно, довольно большая прихожая — в западной части города апартаменты вообще просторные, они рассчитаны на полнокровное семейство с прислугой, в восточных кварталах жилища теснее, хотя и слывут более шикарными и престижными. Увы! В прихожую мы затолкали всю ту мебель, которая, на наш взгляд, излишне загромождала остальные комнаты. Стало быть, я могла рассчитывать только на стены гостиной. Но и их следовало сначала «расчистить»: они уже были задействованы, демонстрируя целых пять полотен.
Тут мне впервые пришло на ум, что эти картины, вставленные в тяжеловесные золоченые рамы, — тоже живопись, а стало быть, принадлежат к тому же роду искусства, что и моя. Я никогда раньше по-настоящему не смотрела на них, как не замечала мебели. Когда я теперь сообразила это, у меня аж дыхание перехватило. Усевшись посреди гостиной, я принялась изучать их с чувством, близким к панике.
Возможно ли, что настанет день, когда моя картина станет столь же незаметной для меня или для других? Неужели может случиться, что когда-нибудь я так же оставлю ее в квартире, где больше не буду жить, среди равнодушных людей, которые, чего доброго, запихнут ее в стенной шкаф? И она упокоится там, как в гробу, среди других золоченых рам?
И вот еще что меня пугало. Вдруг я обнаружу, что эти полотна тоже прекрасны, и, может статься, буду готова предпочесть их моей картине, и, значит, ее покупка послужила не более чем этапом на пути к ним. Или что их красота, равная ее достоинствам, потребует столь же пристального внимания. Чего стоит такая любовь, если она обращена ко всем, а не сосредоточена на одном предмете? Или того хуже: что, если только мрачное допотопное обрамление помешало мне разглядеть их как следует? А может, это мое предубеждение против наших домовладельцев с их старомодными манерами и претенциозной мебелью так меня ослепило, что я не увидела естественной красоты принадлежавших им полотен? Выходит, мое суждение состоятельно лишь до тех пор, пока соблюдается ряд чисто внешних условий? Неужели я настолько поверхностна и зависима? Эти вопросы взбудоражили меня не на шутку.
Все пять картин были написаны в реалистичной манере. На одной изображались корабли, на другой аллея, на третьей река, на четвертой груши и кувшинчик, на пятой дерево и под ним коровы. В них была своя приятность, но я сразу поняла, что между ними и моей картиной нет ровным счетом ничего общего. Строго говоря, они могли навести на мысль, что хорошо бы прогуляться, помыться, перекусить, но тот же самый эффект производят пейзаж за окном, вид ванной или холодильника. Сколь бы я ни любила природу или коров, не представляю, как могла бы уделить этим их изображениям больше внимания, чем требуется для одного беглого взгляда. Успокоенная на сей счет, я решила упразднить две последние картины — с коровами и кувшинчиком.
Они были тяжеленные, мне насилу удалось дотащить их до нашей комнаты. Я намеревалась задвинуть их под кровать, она у нас была большая, в стародавнем вкусе, под ней хватало свободного места. Но каково же было мое изумление, когда, наклонившись, я обнаружила, что место уже занято несколькими изрядно потертыми чемоданами из кожкартона с выломанными замками. А главное, как странно было узнать эти чемоданы, о самом существовании которых я напрочь забыла. Я бросила картины, уселась на пол. Поколебавшись, выдвинула один и открыла. Он был полон бумаг, по большей части тетрадей, но и разрозненные листки тоже попадались. Я поспешно захлопнула крышку, словно пряча некстати выплывшие на свет фотографии интимного свойства. Щеки загорелись так сильно, что я, должно быть, аж побагровела. Там хранились тетрадки моего дневника, который я вела вплоть до рождения детей. Потом я заставила себя снова открыть чемодан. На страницах более давних тетрадей, лежавших снизу, почерк был мелкий, небрежный, местами строчки почти полностью стерлись, как будто чернила пересохли и осыпались, обратившись в прах. Мой взгляд затуманился, я не могла заставить себя прочесть это. Но верхние тетради были исписаны разборчивее. Я быстро перелистывала их, чувствуя, что к лицу снова прихлынула краска. Мне хотелось полностью отделить себя от той, что все это писала, поверить, будто это был кто-то другой, а я никогда не разражалась такими потоками слез, не растекалась чувствительными лужами, не пускалась в сентиментально хлюпающие излияния. Что общего с этими тетрадками могла иметь я, потратившая годы на то, чтобы научиться вести себя четко и здраво, я, преподающая ныне грамматику?
Они были мне противны. Казалось, их появление именно сейчас не случайно. Мне словно бы силой навязали свидание с самой собой. Я продолжала переворачивать страницы, злясь и не зная, что делать. Даже простая мысль, что можно было измарать столько бумаги этим неряшливым, неразборчивым почерком, наполняла меня омерзением.
Стало быть, все эти годы дневники прятались здесь, под моей кроватью, как бесформенный влажный перегной, тайно подстерегая момент, чтобы толкнуть меня, если оступлюсь. Я снова закрыла все чемоданы, решившись выбросить их. Чтобы они не попались на глаза мужу, чтобы никто никогда этого не прочел. Но мне и выбрасывать их тоже не хотелось. Я была расстроена, взвинчена. Они цеплялись за меня. Тогда мне захотелось похватать все эти тетрадки, швырнуть их на пол, хорошенько походить по ним, растоптать, вдавить в щелки меж паркетинами. Смотреть, как мягкие слова разлезаются под каблуком, словно клопы, жирные — лопаются, разбрызгиваясь в разные стороны, а все прочие тихо растекаются по стыкам.
Внезапно меня пробрала дрожь. Над тетрадками передо мной как воочию явился образ картины.
* * *
Разом придя в себя, я пожала плечами: что они могут значить в конечном счете, эти тетрадки? Я засунула под кровать обе хозяйские картины и стала искать, куда бы пристроить чемоданы. Может быть, они еще и послужат… Пошла за стремянкой, добралась по ней до верхней полки стенного шкафа, того, что в нашей спальне. Мне вроде бы помнилось, что там есть свободное место. Но я заблуждалась. Забыла, что прошлой зимой провернула грандиозную инвентаризацию содержимого всех шкафов, а хлам до поры запихнула наверх. И вот теперь на него наткнулась. Я впала в уныние, припомнив, что давно хотела раздать эти обноски, но случай все не представлялся, или, может, я сама его не искала? Как-то же управляются с этим мои друзья из восточных кварталов? Едва ли вещи причиняют им подобные страдания. Они умеют заставить предметы повиноваться. В нужный момент являют пример твердости, избавляясь от них, изобретательности, находя им иное применение, или даже ловкости, извлекая из этого выгоду. А я вот только и умею, что оставлять их там, где они были, отдавая им должное и надеясь, что они ответят мне взаимностью. Хотя бы не станут скапливаться в самых видных местах. Но теперь я набралась решимости. Тыльной стороной ладони смахнула груду одежды, затащила все три чемодана наверх и спустилась наконец со своего насеста. Я говорила себе: как бы там ни было, самый факт, что они так громоздятся посреди дороги, принуждает меня выбросить их без всякого промедления.
Наудачу вытащила, чтобы взглянуть, несколько старых тряпок: совсем крошечное платьице, комбинезончик, который мой малыш носил, наверное, года в два. Вспомнилось, сколько я потратила времени, чтобы смастерить для дочки это платье из мужниной рубахи, обветшавшей у ворота и с обтрепанными манжетами, и то, как старательно я штопала комбинезончик, который мы все никак не решались объявить негодным. Отчаявшись, когда уже невозможно стало спасать его дальше, благо и сын подрос, я обрезала комбинезон до колен, и малыш еще поносил его какое-то время, он ему так шел!
Казалось, все это было вчера, а между тем уже больше шести лет протекло с тех пор. На висках выступил холодный пот, меня затрясло. Я осознала, что со времени появления на свет детей я только и делала, что приносила себя в жертву им, их одежкам, их прогулкам, их еде, их чтению, их играм, ссорам, жалобам. С того дня, когда мне на живот впервые положили старшего — маленький нелепый кусочек липкой плоти, меня словно околдовали. Я продолжала вести что-то вроде дневника, но теперь это был детский дневник, и не более того. В него я записывала их хвори, даты появления зубов, первые произнесенные ими слова, там же я хранила их записочки. Эта тетрадка лежала в верхнем ящике мужнина рабочего стола. Мы часто ее доставали оттуда к величайшей радости детей.
Но обо мне там больше и речи не заходило. Я абсолютно забросила свой дневник. И теперь я думала о тех тетрадках с завистью. От одного того, как их много, щемило сердце. Вот ведь сколько всего я имела сказать! Меня вдруг одолела бешеная тоска об этой чернильной пене, о том горячечном потоке, принадлежавшем лишь мне одной. Такое никогда больше не вернется. Я почувствовала, что бледнею при мысли о долгом умирании моей личности, длящемся вот уже седьмой год.
* * *
От головокружения потемнело в глазах. Мне казалось, что моя жизнь близится к концу, что она вся куда-то утекла, а я и не заметила, а пробуждение настало в тот момент, когда уже поздно, все потеряно. Я говорила себе, что мне только тридцать, а в ушах звучало, как удары гонга: «сорок лет», «пятьдесят лет», «шестьдесят», «семьдесят», — эти слова проникали в меня, они были как бледные призраки, теснящиеся у моих дверей, они здесь, они уже пришли, обступают, душат. Будущее скукоживалось на глазах, похожее на мертвый лист, который сорвет с ветки и самый слабый ветерок. Я видела, как пределы моей жизни скручиваются, словно бумага, пожираемая огнем, как она трескается, сжимается, с головокружительной быстротой превращаясь в тоненький клочок, трепещущий и плоский, который тоже вот-вот рассыплется пеплом. Сердце колотилось с такой силой, что мне почудилось, будто я заболеваю.
Я пошла в ванную, побрызгала на себя водой, чтобы освежиться, и попыталась рассуждать здраво. После недолгого колебания положила две маленькие одежки на груду разбросанного по полу тряпья, потом скрутила все это в по возможности аккуратный узел и придвинула к стене.
Но мое волнение не утихомирилось. Я поняла, что теперь придется сделать несколько телефонных звонков, чтобы подыскать для этих вещей пристанище, — я не могла примириться с мыслью, чтобы просто-напросто выкинуть их, ведь они были еще пригодны к употреблению, — а потом надо будет отвезти их куда-то, чего доброго, даже в несколько мест. Я прикинула, что эти демарши, включая перевозку барахла и неизбежные пустые разговоры, с ней сопряженные, которые я еще не научилась грубо обрывать, даже если они надоедают мне до крайности, — так я, стало быть, подсчитала, что на все это уйдет дня два-три и эти дни, потраченные на улаживание подобных мелочей, будут походить на все предыдущие, от которых мне теперь осталось лишь зыбкое убогое воспоминание, а также, бесспорно, на все те, что придут вслед за ними. Слабея от накатившего отчаяния, я снова села.
Мне вспомнилось иное время, уже так далеко отошедшее. Как тогда мои товарищи и я сама были категоричны в своих суждениях, какими твердо обоснованными выглядели наши выводы! Казалось немыслимым, чтобы наша жизнь не стала сплошным долгим свершением, чередой свершений, каждое из которых, мощно осуществившись, тотчас же должно быть превзойдено следующим. Чудилось, будто все можно разрешить словом; впрочем, разве не я сама задала тему своей диссертации? Интересно, что с ней сталось теперь? Наверняка меня уже исключили из всех списков. Мы с мужем сошлись на том, что наши дети важнее, чем диссертация; действительно, разве их воспитание — не вклад в строительство нового, лучшего мира? Но не являлись ли «дети», по существу, лишь еще одной разновидностью научной работы, другой ступенькой на огромной лестнице бытия? Стоит только научиться самоорганизации, и можно было бы одолевать иные ступени, снова и снова — для этого всего-то и требовалось больше порядка. Но разве не это самое пожелание мне тысячу раз писали на полях моих письменных работ? Впрочем, мне и совсем другое вспомнилось. Я вспомнила, как любила балы, кружение тел под музыку, игры ума и прихоти чувств. И зябкую дрожь вечеров, и удовольствие от сознания, что ты не одна, и провожания, и огни города, и платья, и тени, и ночь, а еще зеркала, ковры — все, что блестит и переливается.
Все это впервые нахлынуло после стольких лет. И тотчас же вновь отодвинулось, сгинуло, как будто одна эта столь напряженная мысль уже изнурила меня. Осталось лишь смутное недомогание да нетерпеливая потребность в какой-нибудь активности, в физической разрядке.
* * *
Я возвратилась в гостиную. Подставив под картину парочку стульев, я сумела повесить ее на освободившуюся стену, потом отступила, чтобы оценить результат. И тотчас меня поразило резкое несоответствие, что-то смущало, мешая мирному созерцанию картины. Оказалось, прежние снятые мной полотна оставили после себя на обоях два менее выцветших четырехугольника, а там, где их рамы терлись об стену, — еще и черноватые, очень заметные следы. Мне же для моей картины нужна белая, девственно-чистая стена. Эти изъяны недопустимы. Я вышла из дому купить моющее средство, и в самом скором времени по всей длине плинтуса в гостиной полилась на пол сероватая пена.
Потратив добрый час и несколько губок, я сумела отчистить грязь. Начав оттирать, я не могла остановиться, забирала все выше и шире, пока вся стена не обрела свой первоначальный цвет. Когда я наконец отошла и посмотрела, результат меня поразил. На почти идеально гладкой и светлой поверхности картина выделялась в точности так, как я рассчитывала.
Но тут, оглядевшись, я осознала, что другие стены остались прежними и по контрасту с той, которую я отмыла, кажутся грязными, липкими, ветхими. Вдруг почудилось, будто комната поделена надвое незримой чертой, которая, однако же, служит границей двух абсолютно противоположных, как ночь и день, состояний: с одной стороны белое пространство, в упор озаренное светом дня, с сияющей картиной посредине, с другой — пространство темное, смутное, захламленное и, если начистоту, попросту мерзкое. Я сразу поняла, что жить в таком разделении не смогу. Снова пустила в ход моющее средство, передвинула часть мебели, загнула края ковра и принялась за дело. Работа, монотонная, но изобилующая мелкими, крошечными событиями — раздавленная муха, пятно, не желающее сходить, замазанная штукатуркой полость, теперь вылезшая на свет, дырка, в которой наверняка прежде торчал шуруп, а ныне из нее сыплется песочек, — эта работа заняла у меня всю вторую половину дня. За ней я позабыла обо всем. Я прыскала из пульверизатора, ополаскивала, оттерев один кусок, переходила к следующему, смывала с губки грязь и начинала заново…
Вдруг я оглянулась. В дверях стоял муж и смотрел на меня. Моя физиономия лоснилась от пота, руки замараны, волосы в беспорядке. Вероятно, вид глупый донельзя. Потом я почувствовала себя виноватой. За эти несколько часов я умудрилась забыть даже о самом его существовании, и его приход застал меня врасплох, как на месте преступления. И тут я вдруг увидела комнату его глазами: это была то ли стройплощадка в разгар работ, то ли дом, пострадавший при бомбежке. Вся мебель сдвинута с места, книги на полу, из-под скрученных ковров выглядывает паркет, который отродясь не натирали. Картины, снятые со стен, загромождают столы, под ними чего только не набросано, не говоря уж о сероватой пене, которая теперь растеклась по всему полу. Тем не менее он, ни слова не сказав, направился в свой кабинет. Чтобы туда пройти, нужно пересечь спальню. Я вдруг с ужасом вспомнила тюк с одеждой на полу, стремянку, забытую посреди всего, раскрытые настежь дверцы стенного шкафа и на ковре — следы моих мокрых подошв. Я бросилась за ним. «У меня уборка», — пролепетала я. «Вижу, — обронил он холодно. — А ужин готов? Ты же знаешь, у меня сегодня вечером лекция. Мне через полчаса надо уходить».
Я напрочь забыла об этой лекции. И никакого ужина я не приготовила, в холодильнике тоже шаром покати. Не было смысла искать какие-либо оправдания. По моему смущенному виду муж, разумеется, мигом сообразил, что происходит. Двух минут не прошло, как он удалился, громко хлопнув дверью. Я была сражена, не знала, что делать. Никогда прежде не видела его в приступе гнева. И к тому же ведь он пришел после долгого дня утомительной работы, разве нет? Собственная беспечность меня ошеломила. Дети, явившись вскоре, своими расспросами только усилили мое смятение. Когда они отправились спать, я принялась, как могла, спешно наводить порядок в двух разворошенных комнатах. Не взглянув на полотно, поставила все на свои места, собрала губками пену, повесила обратно картины, а уходя из гостиной, вдруг взяла да и повернула мою лицом к стене.
Помывшись с головы до пят, я улеглась, измочаленная, уже не чувствуя ни рук, ни ног, с одной мыслью в голове, как бы заснуть. Но что-то меня тревожило, я все не могла успокоиться. Напряженно вслушивалась в любой шум на лестнице, ждала, когда в замке звякнет ключ. Но ничего не происходило, и моя нервозность росла. То мне казалось, что время остановилось и еще рано, то, напротив, что оно движется слишком быстро, верно, ночь уже на исходе. Я не решалась зажечь свет, чтобы взглянуть на часы. Когда муж наконец возвратился, я уже почти дремала. Ни слова не говоря, он лег рядом со мной, без единого ласкового жеста отвернулся и больше не двигался.
Сердце у меня заколотилось непривычно громко. Я была потрясена. Потом почувствовала себя оскорбленной. Его жестокость поражала меня до глубины души. Вскоре я уже находила ее чудовищной. Чем больше я об этом думала, тем упорнее старалась ожесточиться в ответ. «Ну, раз так, — все твердила я про себя, — раз так, ладно же…» — хотя толком не знала, что, собственно, имею в виду. О том, чтобы заснуть, больше и речи быть не могло. Я окончательно пробудилась. Чувствовала себя сильной, в полной мере владеющей собой и с мрачным удовольствием убеждалась, что, в конце концов, если все меня покинут, я самодостаточна и обойдусь, мне не нужна ничья обременительная привязанность. Вот я осталась наедине с собой, и так тоже неплохо. Мужчина, что лежал рядом, отныне враг, и у меня над ним то преимущество, что он об этом не догадывается. Впереди расстилается путь в неведомое, дикий, вольный простор, и никто не сможет мне помешать исследовать его. Назавтра поутру я приготовила завтрак с совершенно непроницаемым видом, ничего не желая ни видеть, ни слышать, ни на что не собираясь отвлекаться и, главное, не допуская, чтобы лед растаял. Мне не терпелось остаться одной.
* * *
Я вернула свою картину на место. В сиянии этого солнечного утра она была так очаровательна, смотрелась так весело, что привела меня в хорошее настроение. Гостиная, став белой, казалась выкрашенной заново. И прямоугольники на полотне напоминали яркий генган в разноцветную клеточку. Ощутив необычайную легкость, я принялась напевать. Только одно мне все еще досаждало: те три картины, которые я вернула на прежние места, — их претенциозные золоченые рамы неприятно выпирали на фоне посветлевших стен. Без долгих размышлений я решила отправить их на мебельный склад, поскольку была уверена, что места в квартире, чтобы их перевесить, уже не найду. Мне даже в голову не пришло справиться сначала об их стоимости. А поскольку они были очень тяжелыми, я взяла такси и дала привратнику щедрые чаевые, чтобы он помог мне дотащить их до машины, а потом шоферу — чтобы до склада донести помог. Потом, коль скоро больше мне в этот день делать было нечего, а погода стояла хорошая и настроение у меня было хоть куда, я решила отправиться в центр города на Пятую авеню поглазеть на витрины. Другое такси как раз проезжало мимо, и я села в него.
* * *
Машина медленно следовала мимо деревьев парка, фонтанов у Метрополитен-опера, потом снова вдоль стены парка. В воздухе трепетали звуки тамтама.
«Что за несносный город!» — бубнил шофер, морща лоб. Он недоумевал, как можно терпеть здешнее лето. Как бы то ни было, он, когда закончит работу, сбежит на Лонг-Айленд или поближе к горам Кэтскилл, ну, а пока он борется с жарой по мере сил, как все, с помощью кондиционера, машинки для приготовления льда и таблеток с солью… да-да, о пилюлях с солью забывать не следует.
Пока он болтал, я смотрела на улицу. Глаза непроизвольно моргали, как будто я только что из темной пещеры выскочила в совсем другой мир. Невообразимая череда всевозможных нарядов проплывала передо мной — их разнообразие было скорее плодом естественной человеческой выдумки, нежели банальной промышленной изобретательности. Брюки, обрезанные выше колен или у бедра, а порой испещренные таким количеством отверстий, что лишь весьма растяжимое понятие о целомудрии способно допустить это. Нательные майки, заменяющие собой рубашки, притом — чтобы подчеркнуть, что они выступают ныне уже не в качестве нижнего белья, — расцвеченные, пестрые, обвешанные какими-то знаками отличия. Зимние башмаки с прорезями для большого пальца и пятки, как у босоножек. Вязаные сетчатые кольчужки, рассчитанные на максимальную продуваемость. Шляпы с пером, с козырьком, широкополые или, напротив, крохотные. А у девушек — куцые юбчонки, что едва держатся на заду, — этакие набедренные повязки с тонкой бахромой, которой играет ветерок, маленькие шейные платочки, закрепленные на груди простым узлом, бретельки всевозможных фасонов, поддерживающие эти усеченные подобия юбок или шорты, лишь немного расширяясь на уровне бюста, экстравагантные сандалии с зигзагообразной шнуровкой, охватывающей ноги аж до самых бедер, тяжелые крестьянские сабо городской выделки, в которых танцующая поступь голых бледных ног кажется неустойчивой. А еще — шляпы, шапочки, тюрбаны, косынки. И здесь же, рядом, — другая публика, одетая, как положено, благопристойно, без тени враждебности наблюдающая это зрелище, как если бы все, побросав свои доспехи и оружие, образовали единый круг солидарности перед лицом какого-то общего для них испытания.
Только теперь я вдруг заметила, что лето и впрямь настало. А я вошла прямо в него с моей картиной, и это меняло все. Когда я вылезала из такси, мне представилось, будто я выхожу из кареты и улица передо мной выстлана коврами в мою честь: город, мой город, только и ждал моего явления, одного моего взгляда. И я взирала окрест благосклонно, будто мысленно раскланиваясь. Лето разрушило холодные, бездушные стены, воздвигнутые зимой, оно разбило тонкие кристаллические преграды, которыми ледяная стужа отделяла людей друг от друга. Улица на взгляд казалась текучей, как река, даже фигуры прохожих выглядели водянисто-зыбкими, словно и они готовы слиться между собой так же легко и естественно, как разливается поток, затопляя берега. Цветные одежды, облекая тела, создавали неисчислимые красочные пятна, они двигались, пересекались, исчезая и появляясь вновь в непрерывной подводной фарандоле. И люди, расслабленные, забывшие обычную торопливость, словно возвращались к своим океанским истокам, казалось, им сладко и вольно проплывать друг мимо друга, и нескончаемая смена лиц и тел вершится во всех полноводных каналах, которые прежде служили городскими улицами.
Город вздымался воплощенной великой симфонией, тут, как на картине, играли все перемены, пели все чередования, а мой взгляд оркестровал их, словно увидев впервые. Лето, хмельное, влажное тропическое лето сплеталось с самой безумной, самой жестокой из зим, когда снежные ураганы, останавливая городское движение; обращают его в застывшее ледяное царство, когда ревущие ветры словно врываются прямиком с бескрайних полярных просторов, а за ними, как чернота, проступающая из-под многоцветья, надвигается чудовищная тень катастрофы. Мне вдруг открылось, что в конечном счете именно это — и ничто иное — пленяло меня в этом городе. И если я задержалась здесь уже так надолго, то вовсе не из-за мужниной работы, не ради концертов или большей свободы, которую мы здесь обрели, но во имя подобной «затерянности» среди погодных крайностей, рождающих иллюзию, будто тебя всего за несколько великанских шагов перебрасывают с одного края земли на другой, так что чувствуешь себя то среди нестерпимого экваториального зноя, то на заледенелом полюсе, близ раскаленных потоков лавы и застывших белоснежных вершин. Так вот чего я, выходит, искала: проникновения в заповедную глубь вечного льда и плавящего камни жара, блуждала в чаянье места, сотрясаемого противоборством крайностей. Между тем как где-то, в слишком дальней дали, простираются берега, согретые ровным теплом, там чувства немеют или все перепутывается, усредняется… тот край мягкой пасмурности — наш родной город.
Только что сделанное открытие поначалу оглушило меня. Выходит, город оказался чем-то большим, более существенным, чем любое другое место на планете. Он был символом, а я находилась в самом его центре.
Воодушевившись, я быстрым шагом устремилась вперед. Вокруг разыгрывался неистощимый спектакль улицы. Потом я притормозила, задержалась у какой-то витрины. Я чувствовала себя избавленной ото всех обязанностей, свободной в любых передвижениях, а время стало материей безмерно податливой, оно казалось обратимым, в нем не было ничего невозможного.
Но внезапно я остановилась как вкопанная. Изумление пригвоздило меня к месту. Справа, на углу Мэдисон-авеню и Шестидесятой улицы мне бросилась в глаза некая вещь, впечатление было столь ясно и сильно, что я будто услышала слова, обращенные ко мне, как если бы меня окликнули или я сама вслух заговорила с собой же. Улица, стены домов на миг показались мне порождением моего сознания, которое, распространяясь вширь, обступало меня. Вдруг я увидела в витрине магазина платье. Рисунок и цвета ткани в точности повторяли мое полотно. Подумав, что мне это мерещится, я отвела глаза. Земля под ногами заколебалась, все, казалось, сдвинулось со своих мест. Что же это творится? Мою картину украли, привезли сюда, раскроили? Все это выглядело безумием, абсурдом, и однако… Любопытные взгляды прохожих наконец заставили меня выйти из столбняка. Я медленно направилась к магазину, я толкнула дверь, я как могла спокойно сказала, что хочу примерить то платье, что на витрине. «Это?» — спросила продавщица. Не поворачивая головы я уверенно бросила: «То, что в центре». — «Это не платье, мадам, это ансамбль», — отвечала продавщица. Потом осведомилась, какой у меня размер.
Все ее фразы казались мне в высшей степени неуместными и раздражающими. И вот я оказалась в просторной примерочной кабинке. Я ждала. Ромбовидные зеркала, вставленные в рамы, будто картины, светильники, напоминающие скульптуры, оранжевые ковры на полу и стенах казались мне странными. Посреди всего этого я чувствовала себя почти нагой, а со всех стен на меня, словно в пещере мага, смотрело мое отражение. Я уже не понимала, что делаю одна в этом замкнутом и вместе с тем размноженном пространстве. В голове мутилось от жары, будто здесь накурили ладаном. Мне захотелось убежать. Но тут занавеска наконец приподнялась, и мне на вытянутых руках бережно поднесли платье.
Стараясь унять сердцебиение, я в упор уставилась на него. Потом взяла его, расправила в руках, потерлась о него щекой. Это было широкое одеяние из набивного ситца, состоявшее из длинной юбки, скроенной по косой, и присборенного на талии болеро с рукавами, пышными, как фонарики на венецианских карнавалах. Экстравагантный наряд, носить который можно, только если ничего не делать, созданный исключительно чтобы покрасоваться. Расцветка ткани по общему впечатлению действительно напоминала краски моей картины. Там была гамма розового, зеленого и ярко-желтого, цвета располагались длинными диагональными полосами, которые перекрещивались с другими такого же цвета, но более нежных оттенков. Ансамбль был свеж, искрометен, неотразимо соблазнителен.
Наглядевшись на него, я его примерила. В этом наряде все — и цвет, и фасон, — казалось, на удивление соответствует моей внутренней сущности. Я не могла решиться снять его. Распустив волосы, я вгляделась в отражения, что демонстрировали мне зеркала. То был образ привычный и одновременно чуждый, без прошлого, во всей своей законченности возникший из зеркал, ограждавших его. Я сказала себе: «Это я, да, это я!» Мне захотелось выйти на улицу, идти и идти по городу все дальше, никогда больше не останавливаясь. Вдруг продавщица просунула голову за занавес и осведомилась тоном, который показался мне оскорбительно-равнодушным и легким, подошел ли мне ансамбль, или ей нужно его забрать. Я услышала, как отвечаю до странности резко, что беру его. Он был там в единственном экземпляре, так что времени на размышление у меня не оставалось. Но главное, я никак не могла заставить себя его снять. Я чувствовала, что если мне только удастся это сделать и снова надеть старую одежду, то уж больше ничего не произойдет. Стоит увидеть это платье разлученным со мной хотя бы на несколько секунд, и я смогу убедиться, что оно может существовать отдельно от меня и дальше, и даже всегда. Тогда я смогла бы одолеть несколько метров, отделяющих меня от двери, выйти из магазина, сесть в автобус, забыть. Но именно это и было немыслимо — распахнуть болеро, расстегнуть юбку, дать всему этому проскользнуть по моей коже вниз, на пол. Чтобы освободиться из плена, мне требовалось только это — несколько простых движений, и все. Но я не могла снять платье. Итак, я вышла из примерочной. А так как мне нужно было пройти мимо конторки, пришлось остановиться, достать чековую книжку, взять ручку. Продавщица, уже успевшая запаковать мою старую одежду, оторвала ценник и небрежным жестом показала мне его. Это был шок: цифра всего на несколько центов отличалась от суммы, которую я выложила за полотно художника. Совпадение меня потрясло. Картина и платье уже во второй раз слились в моем сознании воедино! Я почувствовала некое обязательство перед этим платьем, еще теснее связавшее меня с ним. И подписала чек.
Тем временем снаружи стемнело, от реки поднялся туман, улицы затянуло его влажной пеленой, огни города просачивались сквозь нее бледными лужами, похожими на громадные цветы, мерцающие до самого утонувшего во мраке горизонта.
Итак, я отправилась домой пешком, не имея возможности ни поймать такси, ни сесть в автобус. Пришлось пройти даже через парк, слывущий опасным в столь поздний час. Я не могла ни свернуть, ни выбрать другую дорогу. Мной владело состояние зачарованности. Я шла только вперед с застывшим, отсутствующим лицом, в этом широком развевающемся наряде, явно пришедшем из совершенно иной эпохи, так что, пробираясь по парковым тропинкам, юбку приходилось приподнимать. Я замечала, как на меня смотрят, но мне было все равно. Платье мерно покачивалось при каждом шаге — я не могла остановиться. Никто меня не окликал, не заговаривал со мной. Так я и заявилась домой в этом фантастическом наряде на много часов позднее, чем обычно возвращалась, прошла мимо удивленного консьержа, едва удостоив его взглядом, шагнула в лифт, подхватив широченную полу. И вот вошла в квартиру.
События, что последовали за этим, были смутны и бессвязны. Вероятно, я испытывала страх, мне было горько или, может быть, стыдно. Я захотела остаться одна. Несколько часов спустя я легла спать и больше ничего не помню. Лиц моего мужа и детей я в тот вечер не видела, они для меня полностью отсутствовали. Как если бы стали невидимы или я, чтобы избежать треволнений, которые они бы не преминули мне причинить, мысленно зачеркнула их. Как если бы я их убила. Я уснула, исполненная ледяного равнодушия.
* * *
Позже, глубокой ночью, я проснулась. Мне нужно было увидеть мою картину. Я достала фонарик, купленный за несколько дней до того в специализированном магазине, и направила его на полотно в упор, прямо в середину. Потом задействовала его на полную мощность.
Картина предстала передо мной в новом свете. Мне показалось, будто я ее впервые вижу. На мгновение мной овладела уверенность, что она изменилась. При беспощадном свете фонаря нежные цвета исчезли, словно были не более чем притворными улыбками. Розовый, бледно-сиреневый, светло-зеленый погасли, светло-каштановый растаял, слившись со стеной. Нежные краски бежали, а за ними вслед выступил отряд полос, властных, подавляющих: я смотрела на них, и мне казалось, что они стерегут полотно со всех сторон, что они зажали мой взгляд в тиски, втянули его туда силой, и если позволят ускользнуть, ослабить напряжение, то лишь затем, чтобы изловчиться захватить меня покрепче и швырнуть на решетку еще дальше от спасительного выхода.
На мгновение я зажмурилась. Я не понимала, что происходит. То, что я видела перед собой, — это была не моя картина. В ней ни радости, ни изящества, я не могла купить такое, мне бы не вынести этого зрелища, целый день торчащего перед глазами. Я снова вгляделась в нее. Там ничего не осталось, кроме железных линий, диктующих свою волю, кроме решетки, каждая горизонтальная линия которой жаждала продолжиться, каждая вертикальная стремилась расти вверх и вниз. И не убежать — решетка произвольно разрасталась в самозапирающуюся клетку. О красоте и помину не было, об игре тоже. Прутья, казалось, приняли цвет, говорящий о наибольшей твердости. Их матовый блеск был жесток — никакой прозрачности, все замкнулось.
Я не любила эту картину. Мне противно было смотреть на истязающие сознание прутья. У меня болела от них голова. Мысль, что мне день за днем придется видеть их, наводила ужас.
Но возможно ли отступление? Картина у меня, я за нее заплатила, подписала договор. Теперь весь свет знает, что я отвечаю за нее, от меня в любой момент могут потребовать, чтобы я ее предъявила. Уничтожить ее я не вправе. А она такая большая, что невозможно даже избавиться от нее, сослав в другую комнату, куда-нибудь в темный угол. Она здесь и должна здесь оставаться, иной возможности нет. Я почувствовала, что угодила в капкан. Как я могла сделать подобную глупость? Было совершенно очевидно, что картину таких размеров держать в квартире сущее безумие. Куда ни повернись, отовсюду волей-неволей видишь ее или чувствуешь ее присутствие. Из-за нее я лишилась возможности хоть что-нибудь изменить у себя в доме. Из-за нее я вынуждена каждое утро задергивать шторы, чтобы солнечный свет не повредил ей, а потом шторы приходится снова открывать. И не позволять детям играть возле нее, и каждому очередному посетителю заново давать пояснения, и вечно смотреть на нее, иметь ее постоянно перед глазами, а о том, чтобы сменить пейзаж, уже речи нет, у меня больше не осталось выбора, я на веки вечные связана с этой авантюрой, этими красками и полосами. Картина захватила меня в плен. Меня привлекли с первого взгляда ее краски, кроткие и безобидные, как детская улыбка, а теперь я обнаружила неприступные стены, глухие решетки, неподатливость камня. Огромная, она душила меня, я тонула в подступивших к горлу красках, полосы, ставшие прутьями заграждения, не давали высвободиться, линии обернулись сетью.
Меня охватила паника. Прошлое отрезано, будущее преграждало мне путь — как в лабиринте: куда ни кинешься, выхода нет. С завязанными глазами я неотвратимо вынуждена следовать по дороге, указанной мне со всей беспощадностью. Выбора не осталось, и при этом я не ведала, куда иду. Картина здесь, я обречена жить с ней, идти до конца, и коль скоро она — мой пожизненный крест, придется, страдая, тащить его на горбу. Все вмиг заволокло туманом, я уже не понимала ни что происходит, ни зачем я причиняю себе столько мучений.
Потом я вспомнила о платье. Оглянулась на него — оно лежало, распростертое на софе, словно падаль, и при виде его я вдруг осознала все свое безумие, глупость, легкомыслие. Я спрашивала себя, как можно было усмотреть в нем хоть малое сходство с моей картиной. «Или может быть, оно все-таки напоминало ее — такую, какой она прежде мне казалась?» — пробормотала я. Платье даже не выглядело красивым. Черные полосы, параллельные цветным, которые были лишь самую малость пошире, теперь неприятно бросались в глаза: в магазине я не замечала этой черноты — смотрела и не видела. А между тем она делала ансамбль мрачноватым, сводила на нет всю его яркую свежесть.
Воспоминание о том, как я мечтала, что буду красоваться в этом наряде перед моей картиной, благодаря этой объединяющей гармонии цвета почувствую себя, так сказать, в новом согласии с ней, — все это показалось мне теперь столь непомерной, колоссальной глупостью, что все тело обдало жаром стыда. Потом я спросила себя, как меня угораздило купить столь дорогую одежду. У меня уже не было ни малейшего желания носить это. Я горько сожалела, зачем тогда, в магазине, сразу не сбросила платье, не нашла в себе сил совладать с искушением. Но от пустякового жеста, необходимого, чтобы расстаться с платьем, с одной стороны, удерживало ощущение сокрушительной невозможности, пристрастия, каждой клеточкой кожи привязавшего меня к этой обнове, а с другой — абсолютная беззаботность тех минут, их головокружительная беспечная легкость. Между двумя столь властными состояниями что значила такая хрупкая, едва приметная мелочь, как карандашный росчерк, подобный мимолетному блику — только сморгни, и нет его, однако с того момента, когда эта закорючка легла на бумагу, ее последствия несокрушимы, как стена. И что толку теперь осознавать это? Тут уж, сказала я себе, «осознание» оказывается бессильным, оно ни к чему не ведет, лишь отягощая бремя угрызений!
Посидев еще немного, я встала, аккуратно сложила платье и упрятала его обратно в картонную магазинную коробку. И погасила фонарь. Воодушевление, придававшее мне сил, рассеялось напрочь. Я была глубоко унижена. К тягостному впечатлению, что я предала своих близких, прибавлялось, удваивая муку, сознание, что плодом этого предательства стал полный крах и ничего больше. Я была в проигрыше со всех сторон. Спать я легла с тяжелым сердцем, со мной были только моя сокрушенная гордость, мое осмеянное тщеславие.
Казалось, я утратила все, что любила, все, что мне было к радости и ко благу, и остаюсь отныне одна, как перст, причем по собственной вине, лишенная какого бы то ни было покровительства, отданная на милость собственных инстинктов — хищного зверя, что рыщет в своих джунглях, не ведая ни покоя, ни игры, в любом своем движении, в любом взгляде влекомый лишь алчностью охоты.
Мне чудилось, что в этой череде дней, не заметив когда и где, я потеряла свою чистоту и теперь уже способна только катиться вниз, к погибели. Прошлая жизнь виделась отдаленной и скудной. При одной мысли о темных стенах нашей квартиры, так хорошо мне знакомой, где прожито уже столько лет, меня настигало удушье — не в силах это терпеть, я задыхалась. Потребность вырваться на волю томила меня. А всего невыносимее было то, что этого, похоже, никто не замечал. Все продолжалось, как обычно, события катились по наезженной колее, лица людей оставались прежними. Во мне росло глухое ожесточение против них. Они не желали замечать того, что происходило со мной, они меня отрицали, безжалостно втихую душили своими однообразными вечными улыбками. И даже моя ярость, смешиваясь с неуверенностью, словно с пресной водой, слабела, не могла продержаться! Все страхи, должно быть, пустое, ведь изменилась я одна, больше ничто не меняется, так что придется снова раз и навсегда согласиться с единственно реальными мотивами окружающих, а как же иначе, ведь «важны» только они. Я чувствовала, что бреду куда-то в пустоте. Лишившись прошлого, я приближалась к концу времен, ступая по шаткому лезвию минут, а под ногами разверзалась бездна и с каждым шагом становилась все шире. Я так и не смогла уснуть.
* * *
Когда же настало утро, я об этих кошмарах и думать забыла. От них остались только легкое утомление да смутное недовольство, на которые тотчас наложилась лихорадочная потребность в действии. Теперь, когда я освободила стены от загромождавших их картин, оставалось только повесить мою, что я и сделала незамедлительно с помощью нескольких гвоздей и молотка. Теперь в ее распоряжении была целиком вся стена, но меня уже смущало другое. Казалось, чего-то не хватает, я не могла созерцать ее так восторженно, как хотелось. А я желала упиваться своею картиной до самой глубины души. Я испытывала по отношению к ней тайное и оттого особенно властное чувство долга. Хотелось восторгаться ею так, как она того заслуживала. Быть может даже, овладеть ею настолько, чтобы она больше не существовала вне меня, или, напротив, самой покориться ей, в ней раствориться. Но она еще чего-то требовала, не давала мне покоя.
Вскоре я сообразила, отчего такой дискомфорт. Если стена, где картина висела, была достаточных размеров, чтобы оставался еще фон, на котором она могла вольно демонстрировать свои пропорции, то комната, расположенная перед ней, выглядела, напротив, чересчур заставленной, ее пространство слишком дробилось. А нижнюю часть полотна еще и заслонял подлокотник кресла. Стало быть, я не могла спокойно охватить ее одним взглядом. Прежде чем пробиться к ней, мой взгляд цеплялся за горизонтальные линии канапе и обеденного стола, потом за углы кресел, да к тому же ему мешали овалы чайных столиков. Он достигал полотна не иначе как с запозданием, теряя по пути часть своей благоговейной внимательности. От сознания этого раздражение, возрастая, достигло крайних пределов. Я мечтала об огромном пустом пространстве для картины, чтобы она, одинокая, как королева, властно требовала взглядов, красуясь на парадной стене, отодвинутой в глубь зала. Не в силах более сдерживаться, я преисполнилась отваги и, засучив рукава, принялась за работу.
Несколько часов подряд я двигала туда и сюда тяжелую неподатливую мебель, то дергая, то толкая, у меня уже и спину ломило, и волдыри вздулись на руках. Я испробовала добрую дюжину комбинаций. Но задача была неразрешима. Когда мы въезжали, комната уже была заполнена до отказа. Если я хотела полностью освободить ее середину, чтобы обеспечить взгляду беспрепятственный порыв, вольный разбег к картине, мне нужно было неминуемо что-то устранить, выбросить. Начав от полотна, я принялась расчищать путь к нему, пока не добралась до противоположной стены. Затем попыталась расставить на оставшемся с обеих сторон пространстве ту мебель, без которой нам было уж никак не обойтись.
Еще немного повозившись, я наконец нашла результат удовлетворительным. Я уселась в дальнем конце комнаты и долго упивалась моей картиной. Мы были с ней один на один, между нами оставалось несколько свободных метров, и эта дистанция по-особенному нас сближала. Мы были отделены друг от друга и тем неразлучнее. Как две статуи на горных склонах, что высятся над долиной по обе ее стороны, связанные лишь внутренней необходимостью своей стати, своего сходства. Я чувствовала, как возвеличиваюсь, возвышаюсь над вершинами.
Но я быстро оттуда скатилась, и притом кубарем. Одного взгляда на входную дверь было достаточно, чтобы убедиться, что мой труд еще не завершен. Там в буквальном смысле слова не оставалось прохода, куда можно было бы протиснуться. Когда дети вернутся домой, им не проникнуть дальше двери. Мне нужно было придумать, что делать, да побыстрее. Я была слишком разбита, чтобы даже помыслить вернуть мебель на прежние места. Коль скоро так вышло, что я ее туда задвинула, оставалось лишь задвинуть ее еще дальше. Я ухватилась за эту предельно простую формулировку проблемы: раз вещи не могут ни стоять здесь, перегородив вход, ни вернуться обратно в гостиную, им остается лишь отправиться за дверь — в прихожую, ведь иного решения нет. А там, оказавшись за порогом, они, конечно, коль скоро нет другого пути, пойдут в служебный лифт, из него же — в подвал.
Управляющий, когда я его вызвала, создал мне массу затруднений. Похоже, до него не доходила логика моих аргументов. У него оказалось полным-полно других доводов, на мой взгляд, по правде сказать, более чем явственно изобличавших низкое происхождение и интеллектуальное убожество того, кто их приводил. Наш управляющий был кубинским эмигрантом, не говорившим ни по-английски, ни по-французски; отнюдь не склонный самоотверженно посвящать себя заботам о состоянии нашего дома, он проводил часы, уткнувшись носом в мотор одного из тех больших ярко раскрашенных автомобилей, что вечно скапливались у его дверей. Мой муж видел в нем типичного представителя меньшинства, не сумевшего ассимилироваться, утратившего идентичность, лишенного корней, обманутого и эксплуатируемого алчной и угнетающей системой. Эти рассуждения меня раздражали. Я-то в первую очередь видела, что текущие краны никто и не думает ремонтировать, что жалюзи как были неисправны, так и остаются, а мусор перед входом убирают реже, чем следовало бы. Короче, управляющий дал понять, что он не имеет права складировать мебель, в подвале для этого нет места, к тому же подвал не надежен, мебель будет там портиться, но, впрочем, с помощью консьержа я бы могла, пожалуй, перетащить ее туда. А для него, как он утверждал, возиться с этими вещами — непозволительно большая трата времени. Это, конечно, наша забота, она его не касается. Тут я смекнула, что все упирается в проблему чаевых, и мигом разрешила ее, не скупясь. Расставаться с нашими деньгами мне стало теперь несравненно легче, чем прежде. Я даже испытывала что-то похожее на опьянение, растрачивая их так, без счета. Вот, стало быть, что значит разоряться, да, это оно самое и есть — эта легкость, эта беспечность, это наслаждение.
В последующие дни я стала замечать, что мебель, оставшаяся в гостиной, на фоне побелевших стен, в освободившемся пространстве проявляет свою индивидуальность отчетливее, чем раньше, и вскоре ее цвет начал меня тяготить. Бархатная обивка канапе резала глаза своей попугайной голубизной, полосатые чехлы на стульях, стоявших у стола, были желтовато-зелеными. С одной стороны, цвета не отличались красотой, с другой — своей излишней броскостью отвлекали внимание от картины. Мало того: чересчур яркая голубизна канапе перекликалась с цветом голубых полос на полотне, нарушая тем самым непосредственность впечатления. А ведь наверняка именно это обстоятельство привело к тому, что вчера картина мне не понравилась. Я решила, что канапе нужно заново обтянуть тканью очень блеклого тона, а режущие глаз ковры, которые домовладельцы поручили нашим особым заботам, убрать, чтобы оставить голый паркет, только придется его заново отциклевать и натереть. Ткань я купила. Мне потребовалось для этого много времени, ведь я плохо ориентировалась в больших магазинах, не знала, куда податься, заблудившись среди этажей, теряясь среди полок. К тому же я не привыкла делать покупки, мне трудно по образцу ткани судить о том, как она будет выглядеть в сочетании со всем прочим. Заново обтянуть сиденья я взялась сама. Но принялась за кресла, не удосужившись их разобрать, и получила растяжение запястья, так что с этой работой вскоре пришлось покончить. Тогда я решила отправить все это к обойщику.
* * *
И снова, в который раз, я не посоветовалась с мужем. При этом я не то чтобы умышленно стремилась действовать украдкой, чтобы потом ставить его перед свершившимся фактом. Но вследствие череды случайностей выходило так, что мы почти не виделись. Он часто задерживался по вечерам в своем университетском рабочем кабинете, за ужином мы разговаривали с детьми, когда же ночь сводила нас один на один, мы оба — и он, и я — были уже слишком вымотаны, чтобы затевать разговоры о вещах, которые привели бы к спорам, требующим длительного разбирательства. А лишнего времени у нас не было. И он, и я были до чрезвычайности заняты, а наши пути при уходах из дому и возвращениях если и пересекались, то редко. Если его звали на концерт, я оказывалась приглашена в какое-нибудь другое место, если я замышляла отправиться куда-либо, ему надо было остаться дома и поработать. Казалось, у нас больше совсем не остается досуга для тех семейных вечеров, которые мы прежде так любили, — стало некогда ни послушать музыку, ни рассказывать детям разные истории, ни вместе почитать. Для такого стремительного усыхания свободного времени всегда находились резонные объяснения — я, разумеется, не могла восставать против его бесчисленных лекций, коль скоро они нас кормили, и между нами слишком долго царило полное доверие, чтобы он мог вдруг потребовать от меня отчета в моих действиях. Он всегда предоставлял мне все заботы о материальных вопросах и, разумеется, был не таким человеком, чтобы придираться к мелочам. Открытый конфликт в нашем случае показался бы полнейшим абсурдом. Я если и допускала его возможность, то как нечто отдаленное, неуловимое. Робость мешала мне спрашивать его совета относительно всех этих демаршей, однако я затаила на него малую толику злобы: ведь у меня часто возникало смутное ощущение, что я совершаю ошибку, и мне бы хотелось, чтобы он был рядом, предвидел ее и предотвратил.
* * *
Поутру на моем пороге возник управляющий, и при одном взгляде на него я поняла: случилась катастрофа. Мебель, которую я распорядилась перенести в подвал, исчезла. Ее украли. Я была изумлена. Хотя истории о чрезвычайной дерзости здешних воров, а также о всеобщем страхе, часто позволяющем им действовать беспрепятственно, в изобилии циркулировали вокруг нас в первое время после нашего приезда, я все еще не принимала этих россказней всерьез.
Я не могла допустить, что можно пробраться в подвал жилого дома, как бы то ни было, часто посещаемый благодаря тому, что здесь находились стиральные машины и сушилки, вытащить оттуда такие более чем громоздкие предметы, поставить их на тротуар, у всех на глазах затолкать в грузовичок, рискуя в любой момент быть застигнутыми… Я была возмущена и напугана. Прибегнуть к поддержке мужа я не смела, ведь все эти перестановки я учинила, не поинтересовавшись его мнением. Поэтому я обрушила свою ярость на управляющего. Меня бесила его злонамеренность. Я напрямик обвинила его в пособничестве этой краже. Мне казалось немыслимым, что пять или шесть предметов меблировки можно было вынести, если бы он так или иначе в том не соучаствовал. Еще я попыталась воззвать к консьержу и сверх того к одной старой даме из нашего дома, которая целыми днями сидела на стуле у подъезда. Ни тот, ни другая ничего не видели. Я оказалась загнана в тупик, обречена на длинную череду действий, которые мне были противны. Придется известить о случившемся мужа, потом наших домовладельцев, потом наскрести денег, чтобы возместить им утрату мебели, да сверх того извиняться перед служащими конторы, ведающей домом, объясняться с одними, с другими, заламывать руки, стонать, восклицать. Как я буду уродлива в этой роли…
А тут еще вечером мы должны идти к художнику на прием. Он, как и сказал мне тогда, перебрался в новую мастерскую, сохранив за собой старую в качестве склада. Друзья рассказывали: мастерская великолепна, квартал чудесный, и я знала также, что на приеме будет много народу. Дурацкое происшествие с мебелью, случившееся именно в этот день, — просто подлая каверза судьбы. И тут я осознала, что непременно хочу быть на этом вечере. По правде говоря, с тех пор как я забрала картину, казалось, он ко мне охладел. У него больше не было того прежнего удивленного, радостного внимания ко мне, теперь все чаще он казался угрюмым и раздражительным, и я больше не знала, о чем с ним говорить. При том, как я теперь живу, мало надежды вызвать интерес человека, привыкшего к разговорам о художественных журналах, к путешествиям и появлению в свете рядом со знаменитыми женщинами. Завести с ним речь о проблемах, которые доставляет мне его картина, я не решалась. У меня крепло предчувствие — скорее даже уверенность, — что это лишь усугубит его сожаление о том дне, когда он уступил мне ее: да-да, не обо мне, попавшей из-за нее в беду, а о ней, ввергнутой в хаос столь малозначительных, лишенных масштаба эмоций. Меня била дрожь при одной мысли, что мы с мужем теперь, возможно, опоздаем на вечер и мне придется позвонить художнику. Я теперь настолько перед ним робела, что, начав фразу, не имела сил ее закончить, лепетала что-то, мучительно стыдясь всего, что говорю. Это приводило меня в крайнее раздражение. Я, некогда столь уверенная в своих суждениях, уже не знала, к чему бы прицепиться, чтобы высказать мало-мальски разумное замечание. Это ведь было именно то, что я потеряла, — разум. Всякий мой шаг, в какую сторону ни обратись, тотчас же начинал казаться мне ложным, пустой данью условностям и приоритетам, которые я приняла, не обдумав и не прочувствовав самостоятельно. И вот я молчала, откладывая возможность высказаться на потом, когда я пересмотрю свои мысли, найду им более надежное обоснование, научусь защищать их против враждебных аргументов, являющихся неизвестно откуда и выраженных языком, который для меня так странен.
Я отправилась в контору администратора нашего дома, находившуюся почти на окраине, но там мне сказали, что он отлучился и ожидается только к вечеру, так что я вернулась ни с чем. Этак мы наверняка опоздаем на вечер. Мне неизбежно придется позвонить художнику. Но я не смогу решиться на это. Может быть, он выслушает меня благосклонно, но ведь также возможно, что, узнав мой голос, ответит с убийственной холодностью. Я все еще не могла постичь, что за принцип определяет его поведение: если таковой и существовал, он ни в коей мере не поддавался ни единому из доступных мне способов логического осмысления. Его манера выражаться ставила меня в тупик, мои мысли, наталкиваясь на его заявления, лишались равновесия, опрокидывались вверх тормашками, сбивая друг друга с ног, — он меня непрестанно ошарашивал. Когда мы заговаривали о фашизме, у меня возникало впечатление, что он восторгается в нем некой мощью и величием, но, когда я готова была возмутиться, его иронический взгляд обезоруживал меня, я уже не знала, что сказать. Он насмехался над христианской моралью, и, уж конечно, не мне было осуждать его за это, но, когда он добавлял, что она больше не может питать творчество, я чувствовала себя необъяснимо задетой. Он не питал ни малейшего уважения к обществу, в которое мы были вхожи. «Чего он ищет, — говорил он о нашем друге из банка, — карабкаясь наверх? Столько усилий ради себя одного — и только? И это все?» И еще: «Там все одинаковое — даже квартиры, даже семьи, даже разговоры». Слушая это, я и сама переставала понимать, на чьей я стороне.
Иногда я замечала в нем надрывающую сердце ранимость, а мгновение спустя он казался мне человеком опасным, целиком находящимся во власти своих могучих неконтролируемых инстинктов. Едва я успевала привыкнуть к его рафинированной тонкости, к возвышенности его запросов, как он оборачивался утратившим иллюзии циником или приходилось сталкиваться с его холодной категоричностью, не умеряемой никакой внешней, хотя бы формальной учтивостью. Абсолютная, зачастую компрометирующая искренность сочеталась в нем с внезапными приступами самоуглубленной замкнутости, с уклончивыми маневрами, застающими врасплох, поскольку ранее их ничто не предвещало. Он подчас бывал самым веселым товарищем, воистину неистощимым собеседником, но потом внезапно одно слово или жест могли все изменить, и небосклон мгновенно заволакивали грозовые тучи.
Искать в этих дебрях какой-либо связи, последовательности было занятием изнурительным. Я с удивлением замечала, что моя жизнь на редкость однородна, если не считать шероховатостей, связанных с натянутыми отношениями между двумя общественными слоями, к которым мы были причастны, но эта натянутость, в конечном счете возникающая на основе единой культуры, к разрывам не приводила. Я знала систему условных знаков, открывающую доступ как к одной социальной прослойке, так и к другой. С ним же никаких ориентиров более не существовало, я попадала в мир разорванный и дикий, при столкновении с которым все во мне ощетинивалось.
Мне хотелось пойти на этот вечер, чтобы доказать себе, что я не боюсь; мой муж тогда убедится, что я ничего от него не скрываю, а друзьям я дам понять, что наша дружба с художником по-прежнему безоблачна; наконец, я не могла допустить, чтобы любое изменение в его жизни — новая мастерская, гости, которые там соберутся, его последние работы — оставалось мне совершенно чуждо: я обязана, представлялось мне, быть в курсе всего из-за картины. Чтобы полнее оценить ее, я не должна ею ограничиваться, я хотела, чтобы мое восхищение не было невежественным и косным.
Я думала обо всем этом на забитых транспортными пробками улицах в чреватую грозой послеполуденную пору. Автобус еле полз или вовсе стоял на месте, а у меня сердце колотилось от нетерпения, ведь, едва добравшись до цели, мне предстояло приступить к демаршам, о которых и помыслить противно. Но я даже приступить не смогла — события меня опередили. Управляющий, почуяв, что будет буря, принял превентивные меры: позвонил в контору администратора дома, пожаловался, что его вынудили сложить в подвале мебель, хотя она заняла там место, которое часто бывает ему нужно, да и сами вещи страдали от подобного нарушения правил их содержания, все это его измучило до предела, он, поставленный в такие условия, больше не мог исполнять свои трудоемкие обязанности. Его немыслимый акцент и бесконечные восклицания довели сотрудников конторы до крайнего раздражения, и они не нашли ничего лучше, как обратить свой гнев против нас. Они всполошили официальных квартиросъемщиков — владельцев мебели, взявших на себя ответственность за наше благонравное поведение на занимаемой зданием территории, — и объявили им, что съемщик, помимо всего прочего, не имел права сдавать апартаменты от своего имени.
К исходу дня уже стало ясно, что нам больше не позволят жить в этом доме. Может статься, контора стремилась лишь выжать из этой истории немного больше денег, но я знала: муж на шантаж не поддается. С другой стороны, я в своем взвинченном состоянии разругалась по телефону с домовладельцами, которых между тем всегда находила весьма вежливыми и приятными. Нам тоже жить надо, напрямик выкрикнула я им, мы не можем до бесконечности оберегать их дом, будто неприкосновенную музейную коллекцию, так или иначе, мебель была безобразна, и мы уже с лихвой оплатили ее стоимость за те восемь лет, что снимали квартиру. После таких слов нам ничего больше не оставалось, как паковать вещички.
Разумеется, о том, чтобы пойти на вечер к художнику, теперь и речи быть не могло. Я чувствовала себя вконец разбитой. И никак не могла придумать, чем оправдаться перед ним, однако ни на секунду не допускала возможности сказать ему правду, чересчур унизительную для меня, к тому же в любом случае требующую слишком долгих объяснений. Выслушивать такое он, конечно, не пожелал бы — терпения не хватит.
Эта история стала катастрофой для всей семьи. С одной стороны, мужу приходилось отказаться от такого преимущества, как близость места работы, куда он до сих пор всегда мог добраться пешком. С другой — мы теряли квартиру, плата за которую, конечно, тоже была для нас высоковата, однако дешевле всего того, что мы теперь сможем найти.
Я решила принять все эти потрясения легко. Заверила мужа, что в другом месте нам будет лучше и это сулит забавные перемены, которые пойдут нам на пользу. Разве он сам не говорил, что этот квартал небезопасен для детей? Про себя же я думала, что такой поворот событий в конечном счете удовлетворит мои самые тайные желания: я более чем счастлива покинуть это место, оно так неудобно расположено и такое скучное, все тут отмечено печатью посредственности. Нам, может быть, удастся, думала я, найти квартиру в «настоящем» доме с красивыми белыми стенами и бьющими фонтанами, с охранником в униформе у входа и видом на все небоскребы города.
* * *
Все квартиры, что мы осматривали в западных кварталах, конечно просторные, но староватые, меня не удовлетворяли. Я отвергала их до тех пор, пока мы не перенесли свои поиски в восточный сектор, где обитало большинство моих старых друзей. Мне хотелось только одного: иметь прекрасное жилище, апартаменты под стать художественной галерее, и чтобы на сей раз я могла ее обставить по своему вкусу в соответствии с новыми понятиями о красоте, которыми меня обогатило обладание картиной. Я была не в состоянии говорить ни о чем другом. Когда мне казалось, что муж склоняется к решению снять жилье вроде того, что было у нас прежде, я напрочь теряла интерес ко всему. Он в конце концов внял моим доводам. И вскоре мы въехали в превосходный новый дом в восточной части города, дом, давно восхищавший меня гордым силуэтом, смягчаемым изящными балконами. У нас тоже имелся балкон, и, хотя комнат здесь было меньше, чем там, где мы жили прежде, зато они выглядели несравненно презентабельнее. Муж утратил возможность работать в отдельном кабинете, детям пришлось довольствоваться одной комнатой на двоих, и все же мне казалось, что мы достигли многого.
Однако мое торжество продлилось недолго — вскоре пришлось столкнуться с новыми проблемами. Теперь нам требовалась меблировка, и я хотела, чтобы она гармонировала с домом и с моей картиной. Мой вкус в этой области развивался с неслыханной быстротой. Неоценимую помощь мне оказывали дамы из числа былых приятельниц, большинство своих покупок я делала вместе с той или другой из них. Я не могла понять, почему когда-то презирала их разговоры. Теперь я находила в них много интересного и весьма ценила их советы.
Вскоре мы потратили все деньги, скопленные для детей, как на их каникулы, так и на случай болезни. Мысль об этом мне несколько досаждала, но мы же все-таки не могли жить без мебели!
Итак, я купила на распродаже с аукциона очень красивый стол в стиле чиппендейл. Покупка вышла дорогая, но он был нам необходим, а прочее могло и подождать. Однако же полнейший абсурд пользоваться и дальше разрозненными столовыми приборами, которыми мы довольствовались до сих пор. Дурацкие, противные, они напоминали насекомых на серых нечистых лапках, они оскорбляли и стол, и новые апартаменты, и картину. И тут я приглядела на витрине серебряные столовые приборы, чья красота меня буквально ошеломила. Уж они-то, по крайней мере, не были простыми щербатыми кусками металла. Один вид узких корон, вытесненных на каждой тарелке, навевал грезы, а снежные переливы серебра напоминали о суровости ледяных фьордов и темной роскоши дворцовых страстей. Я обзавелась кредитной картой и, орудуя ею, как новенькой волшебной палочкой, приобрела всю серию. Но вскоре я натолкнулась на новое препятствие. Теперь стало немыслимо использовать пластмассовые тарелки, которых нам хватало в прежней жалкой квартире. Пришлось снова прибегнуть к помощи своей карты. Я купила старинные оловянные тарелки, которые если и не шли в сравнение с серебряными столовыми приборами, то, по крайней мере, затрагивали ту же область души. Они были призваны на ближайшее время придавать нашим повседневным трапезам сносный вид, но воспользоваться этими новыми приобретениями мы так и не смогли: скрежет ножей по металлу слишком действовал на нервы. Чтобы утихомирить досаду, я купила горшки с громадными зелеными растениями. Я говорила себе, что поставлю их подле моей картины, что ее краски в обрамлении этих почти что деревьев покажутся еще более таинственными, будет так странно угадывать их блеск под сенью слегка колышущихся больших пальм.
Мне очень нравилось показывать полотно гостям, объяснять им его смысл. Я говорила, что у картины, как у человека, есть свои настроения, что она меняется при разном освещении. Я доставала фонарь и вращала его луч перед холстом, чтобы продемонстрировать им все роскошество красок, проявить со всей очевидностью их ускользающую и вместе с тем навязчивую лучезарность; обращала внимание посетителей на мощный рисунок полос, на текучесть цветовых оттенков; указывала на структуру «оконной рамы», которая придает картине небывалую глубину и одновременно распахнутость, делая ее образом внутреннего и внешнего, местом соприкосновения двух бездн, узлом, в который стягиваются непримиримые противоборствующие силы.
К тому же эти показы были единственными моментами, когда картина доставляла мне удовольствие. Меня теперь настолько поглощали заботы о том, как бы создать ей обрамление, достойное ее красоты, что я уже не находила времени на нее смотреть. Когда же мне случалось слишком долго оставаться с нею наедине, я чувствовала смущение, природы которого не понимала. В этой новой обстановке она, несомненно, смотрелась уж очень по-другому, и художник, когда увидел ее здесь, удивился. Он больше не узнавал своего творения. Так он сам, по крайней мере, сказал.
* * *
Итак, мы снова поселились недалеко от своих старых приятелей, теперь нас разделяло всего несколько улиц, и мы стали встречаться чаще, то и дело обедая вместе. Некоторые из наших знакомых приходили в восторг от возможности завести за столом беседу с моим мужем, он же делился с ними своими конструктивными воззрениями на политику и современные нравы. Наши дети также бывали на детских вечерах, затевавшихся в этом кругу. Почти каждую неделю то одного, то другую приглашали на чей-нибудь день рождения или иное торжество. Чтобы не выглядеть хуже прочих, идти надо было с подарками, следовательно, всякий раз мне приходилось что-нибудь покупать, а потом устраивать ответные приемы для тех, кто их приглашал. У меня больше не оставалось времени, чтобы побуждать их к чтению, водить на прогулки, разговаривать с ними. Правда, мы зато купили телевизор, он отчасти заменил меня как устроительницу их развлечений. Но отныне они без конца требовали все новых игрушек, которые видели в рекламных роликах или у приятелей, уже их получивших.
Внешне мы стали выглядеть преуспевающими и полными энергии, и наши друзья из восточных кварталов считали, что мы наконец-то сдвинулись с мертвой точки, зажили полноценно. К тому же они проявляли любезную готовность ввести нас в свой круг — теперь, когда мы, по-видимому, желаем этого. Наш новый образ жизни наконец стал для них постижим, и они были расположены отнести наши прежние привычки на счет нашего интеллигентского воспитания: по их представлениям, мы «искали себя», и теперь они думали, что мы, без сомнения, себя нашли.
Но я сама не стала счастливее. Заботы, которые я на себя взвалила, не оставляли ни минуты покоя. Надо было лелеять все эти вещи и предметы, отправлять их в чистку, доставлять обратно, то убирать их в шкафы, то вытаскивать, запрещать детям их трогать, бдеть над ними во время вечерних приемов, носиться по всему городу в заботе о поддержании их в пристойном виде. Все подруги, меня здесь окружавшие, по-видимому, проводили дни так же бессмысленно и были довольны, поэтому мне казалось, что и я должна воспринимать это как должное. Я не хотела признаваться самой себе, что устала от вечной суеты, наводящей безмерную скуку. Поколесив по городу, я возвращалась домой измученная, полная отвращения и корила себя за вялость и недостаток бодрой житейской хватки. Чтение я совсем забросила, разве что пролистывала наскоро газеты и журналы, а поскольку в той среде, где мы теперь вращались, большего никто не делал, я не отдавала себе отчета в собственной деградации, в утрате того, что мне впоследствии придется так горько оплакивать.
С художником я больше не виделась, кроме как на званых вечерах и коктейлях, но такие встречи происходили чаще. Мы превратились в поистине закадычных друзей. Это новое приятельство, болтливое и громогласное, порой смущало меня. Казалось, что-то умерло между нами, хотя определить в точности, что именно, я не умела. Чем больше возникало поводов встречаться с ним благодаря новому стилю жизни, тем, казалось, явственнее проявлялось отчуждение. И тем больше требовалось слов, чтобы замаскировать его. Я не осмеливалась завести речь о том, что меня тревожило, а если иной раз и набиралась смелости, оказывалось, что уже и сама не знаю, о чем хотела поговорить. В те дни я мало-помалу научилась «обходительности», приобрела лоск хороших манер и стала бояться задавать серьезные вопросы, способные поставить собеседника в затруднительное положение. Что до него, он мне больше не звонил, если его не вынуждали к этому какие-либо мелкие проблемы практического свойства. Мы с приятностью болтали, обсуждали сплетни, я убедилась, что он человек светский и даже куда как в курсе мелочей быта различных социальных прослоек. Я находила беседы с ним занимательными и сама порой недоумевала, что же все-таки меня беспокоит. Он был очарователен, хотя в общем и целом довольно банален. Но мне ничто уже не доставляло счастья. Я не настолько утратила чувствительность, чтобы не сознавать: наша новая жизнь — не более чем фасад, хрупкая конструкция, построенная на ухищрениях. Мы вечно стеснены в средствах, больше не посещаем концертов, уже и не заговариваем о том, чтобы съездить во Францию повидаться с родными. Тяготила нестабильность, чем дальше, тем сильнее дававшая о себе знать. Я несколько раз указывала мужу на то, что малейшая болезнь или самый пустяковый несчастный случай обернутся для нас катастрофой, мы не сможем больше платить за снимаемое жилье. Но он, не имея времени меня выслушать до конца, просто отвечал, что, так или иначе, во втором семестре проведет больше лекций.
Его заверения меня на некоторое время успокаивали. Мой супруг не мог позволить материальным заботам нарушить его душевное равновесие, и я была благодарна ему за то, что он не жалуется на необходимость взваливать на себя дополнительную работу. Он, вне всякого сомнения, был человеком слишком выдающихся достоинств, чтобы поддаваться заурядным чувствам, никогда не проявлял вульгарного раздражения и никакому сколь угодно неприятному событию не позволил бы пошатнуть справедливую взвешенность его суждений. К тому же он был неукоснительно верен себе. Ни одно из пережитых нами потрясений — ни смена континента, ни надобность приноровиться к новой шкале ценностей, ни столкновение с иной цивилизацией, отличной от нашей, ни столь осязаемые перемены в моем образе действий — на него никоим образом не повлияло. Его воззрения и принципы оставались прежними, от всего того, что мы узнали в новой для нас стране, его аналитические построения приняли лишь более четкую форму. Под конец муж свел дружбу со знаменитым поэтом и анархистом Полом Гудменом, смерть которого потрясла его сильнее, чем все наши переезды и финансовые затруднения.
Тем не менее новые работы, за которые он брался, отнимали больше времени, чем предполагалось поначалу. Больше не удавалось выкраивать несколько часов в день для научных трудов. Он попытался работать по вечерам дома, но дети теперь поднимали больше шума — разумеется, из-за тесноты новой квартиры. И я заметила, что он уже не так снисходителен к ним. Он утратил прежнюю отрешенно-юмористическую терпимость, что некогда делала домашнюю жизнь такой мирной и веселой. Ночью, когда все наконец угомонятся, он вставал, чтобы послушать музыку, ведь днем мы больше не могли себе этого позволить: взамен кабинета имелась только общая гостиная, по которой, конечно, без конца сновали дети. Затем, когда музыка — я в этом не сомневалась — возвращала его к самому себе, он выключал ее и погружался, как я предполагала, в свои занятия. Но работал он, читал или размышлял — этого я знать не могла, не решаясь ему помешать. Но и я спала плохо: меня тревожили его многочасовые бдения, поскольку наутро он казался более издерганным, чем накануне. И чем чаще я замечала в нем признаки растущей усталости, тем раздражительнее становилась сама. Более всего я боялась поддаться жалости к нему, размякнуть.
Впрочем, он мне не давал к этому ни малейшего повода. Ни в чем не отказывал, не искал ссоры, не задавал вопросов. Все выглядело так, будто я стала ему чужой, в полном смысле слова «посторонней» — женщиной, с которой у него нет ничего общего. Друзей у моего мужа, конечно, было немного, но тем, кого он признавал таковыми, он оставался верен на свой мирный, основательный манер. Только я одна оказалась выброшена из круга его личной жизни. Ему больше нечего было мне сказать, и общества той новой женщины, которой я стала, он совсем не искал. Я не могла усмотреть в нем даже враждебности и гнева. Он вел себя обычным образом, но я ведь знала, много раз видела, как он общается с неинтересными ему людьми. Он оставался любезен и мягок, как всегда, но из глубин его внутренней жизни больше ничто не выходило на поверхность. Полное безразличие. Я слишком хорошо знала эту его индивидуальную манеру замыкаться, некогда любила ее, она сближала нас и успокаивала, придавая каждому крепость кристалла, а это позволяло мне выходить в мир с глубоким внутренним ощущением покоя и надежности. Я всегда с абсолютным доверием полагалась на него. Непрестанные житейские треволнения ни в чем не могли его поколебать. Отметая все краски и внешние формы, зачастую не придавая им никакого значения, он всегда искал глубинную суть. Зная это, я не могла его обвинять, не могла возненавидеть.
Во мне глухо нарастало, пробивалось из глубины, как влага сквозь пористую почву, час от часу растекалось, ширилось чувство вины. Оно застаивалось во мне, его миазмы распространялись на все, чего бы я ни коснулась, что бы ни делала. Я была как в трясине, она непрестанно засасывала меня. А спасительные берега всё отдалялись, потом неведомо как настал день, когда они превратились лишь в смутное представление, порой проплывающее в памяти, а еще позже — в образ некоего мистического брега.
Однажды утром я вдруг заметила, что муж больше не выглядит молодым. В уголках губ наметились морщинки, которые сразу показались мне ужасно нелепыми. А поскольку из-за них я вдруг посмотрела на него, будто на незнакомца, я увидела, что он уже и двигается почти как старик. Высокий рост, худоба, падающие на лоб светлые волосы, та мечтательная или задумчивая повадка не совсем уверенно ступающего по земле человека, все, что я так любила, что придавало ему романтический вид немецкого поэта, вдруг поблекло, а у меня даже не было времени осознать происходящее, остановить этот процесс. На миг меня охватила паника, будто почва уплывала из-под ног, но тут же вслед за испугом с неудержимой силой нахлынула злобная обида. Вот и музыка, которую он слушал, внезапно показалась мне пристрастием какого-то психа, слабоумного. Его чтение, что бы он там ни читал, вызывало у меня теперь одну лишь нервическую неприязнь. Все, чего он начитался, все, что он говорил, представилось мне далеким от действительности, как я ее понимала, какой-то грезой, раздражающей утопией. Я злилась на него за то, что он так худ и бледен, за этот его отсутствующий вид, с которым он по большей части просиживал все званые вечера, куда нас приглашали, меня бесило, что он не пытался блеснуть, даже не удосуживался открыть рот, чтобы возразить какому-нибудь краснорожему дурню, несшему несусветную чушь. Он молчал, а ведь я-то знала, какими острыми и неотразимыми могут быть его реплики. Я считала, что при всей своей мудрости он слишком тушуется. Я находила его скучным, хотя и сознавала, что он лучше всех. И тогда я принималась болтать без умолку, смеялась, флиртовала, делалась шумной. А потом снова наступала ночь, я слышала, как он, один в гостиной, листал книжные страницы, и не было мне покоя.
В пустотах послеполуденных часов, в тайниках нервической ночной бессонницы, на заре туманных утр я без устали ворошила собственные помыслы, поднимая муть и затхлую вонь с их тинистого дна. Я хотела, чтобы он исчез. Чтобы его больше не было.
* * *
Однажды, когда наступила ночь, но я еще не спала, тишина показалась мне невыносимой. Дверь гостиной оставалась открытой, и я слышала легкий шорох книжных листов. Он читал быстро, только страницы пощелкивали, словно надкрылья насекомых. Я встала, чтобы затворить дверь, но вместо этого вошла в гостиную. Комната была испещрена пятнами света и тени, в беспорядке разбросанными по стенам и потолку над лампой, и сперва я различала только его тень, огромную тень мужчины, сидевшего полусогнувшись с книгой в руке, чья голова отбрасывала на картину гигантский темный круг. «Встань, — сказала я, — ты прислоняешься к картине». Он слегка пошевелился, подвинул свое кресло, все еще погруженный в чтение. Я закричала: «Встань, ты же видишь, что заслоняешь картину!» Он встал. Его тень накрыла картину почти полностью. Мне почудилось, что она уже никогда оттуда не уберется. Я завопила: «Уходи, уходи!» Еще мгновение, и он включил верхний свет. Я заморгала. А он просто сказал, что пойдет работать в университет. Собрал свои вещи и ушел.
Я резко повернулась к картине. Она выделялась на стене банальным, почти слащавым прямоугольником, вроде тех шотландских платьев, чьи простоватые расцветки, если долго смотреть, начинают казаться несносными. Полотно походило на убогий клочок такой ткани.
Мучительная усталость от самой себя овладела мной. Собственные мысли держали меня в клетке, похожей на переплет этого нарисованного окна, и злили, как вибрации этих красок. Бешеные искушения бороздили сознание огненными полосами. Внезапно меня обуяла ярость, я схватила нож, бросилась к картине и замерла перед ней, всего в нескольких сантиметрах. Меня трясло. Хотелось вонзить нож в переплетение красок, вытащить, вонзить снова, кромсать, рвать, терзать. Мною владело безумное желание страшного поступка, несказанного злодейства, которое, может быть, взломает некое чудовищное заграждение и погребет меня под его обломками, вызовет гигантское землетрясение, когда все стены разлетятся вдребезги, рухнут грудой осколков в слепящем белом свете, который тотчас обратится мраком, смешав все краски в ужасающем хаосе катастрофы. Я была уничтожена. Но желание не уходило, как если бы в основе кошмара таилось дикое наслаждение, всепожирающее, как огонь, после которого уже ничто не будет иметь значения. Так я стояла там, вся дрожа, с ножом в руке. Потом ощутила, что сейчас меня вырвет. Снова улеглась, подавленная настолько, что не хватило сил даже посмеяться над подобными эксцессами, сколь бы это ни было оздоровительно.
Я впала в полное безразличие по отношению к картине. Главное, она вызывала у меня чувство, отдаленно похожее на тошноту, прежде всего, как казалось, из-за раздражающих красок, которые непрестанно вертелись где-то в смутной глубине сознания, упрятанные под слоем других впечатлений.
* * *
Я постепенно теряла интерес ко всему, ради чего за прошлые месяцы потратила столько сил. А вот вещи обо мне не забыли. Они гнули свое, скапливались на моем пути, агрессивно щетинились и непрестанно напоминали о себе голосом то одного, то другого из тех, кто меня окружал. Я ничего еще не подготовила для обеда, на который к нам приглашены шесть человек гостей, говорили мне, я должна выплатить крупный штраф библиотеке за задержку книг, которые давно пора бы вернуть, если я немедленно не зайду в ремонтную мастерскую за своим магнитофоном, дальше хранить его у себя они не намерены, замоченное белье вот уже трое суток киснет в стиральной машине в подвале, я пропустила важное родительское собрание в школе, уходя, я забыла запереть дверь на ключ… Я только и делала, что забывала.
Такие упреки озадачивали меня. Я была словно погруженный в тупую, вялую дремоту великан, которого снова и снова дергают за рукав, к тому же нашептывая совершенно непонятные слова. Я говорила себе: «Ну вот, опять!» — и мне казалось, будто копится какой-то длинный необъяснимый долг и скоро мне придется платить. Все донимающие меня фразы были так нелепы, настолько далеки от сути! Я только и могла, что недоумевать, слыша их. Едва я успевала оправиться от удивления, вызванного какой-то одной, как в ушах звучала другая и снова мешала сосредоточиться. Каждый раз возникало лишь смутное ошеломление, а когда я пыталась рассердиться или оправдаться, у меня на это не хватало желания, так что ничего не выходило.
Вещи стали тяжелы на подъем — не сдвинешь. Стоило приподнять два-три предмета, и руки опускались, я прекращала всякие попытки. А жизнь, казалось, состояла сплошь из передвижений. Она была полна сложных, переплетающихся траекторий, обязательных отправлений и возвращений, и мне полагалось следовать этому не мной заведенному порядку, то есть брать предметы и транспортировать их из того или иного пункта А в какой-нибудь пункт Б. Но даже если не было нужды перемещать ничего иного, мое собственное тело тоже приходилось куда-то передвигать и перевозить. А я бы удовлетворилась возможностью пребывать в одном и том же месте и неизменном состоянии. Но впрочем, разрешать такие проблемы не составляло труда. Я попросту забывала о поставленных задачах и, когда не хотелось больше двигаться, когда тело мое проявляло хоть малейшее расположение уклониться, тотчас останавливалась, упуская из виду предполагаемую ранее траекторию.
Выбор был прост: мне оставалось следовать в своем поведении тому, что диктовала очевидность. Я помнила, что когда-то у меня были амбиции, желания, тревоги, но все это теперь существовало лишь на краешке сознания, словно хрупкая, напрасно вышитая оторочка, поддерживать которую в свое время стоило большого труда, а теперь она истрепалась и совсем не нужна. Тонкости чувств, причудливые арабески боли и радости, должно быть не лишенные некогда красоты и интереса, ныне окончательно поблекли и висели в дальних шкафах памяти, словно вышедшие из моды тряпки.
Краски картины, уже утратившие свежесть, лишенные былой магической прелести, тоже болтались, свисая с рисованного переплета. Гармония цвета разрушилась, мазки отделились друг от друга и просто висели рядом, как на вешалке, обретя свою изначальную незначительность. Они не казались мне ни уродливыми, ни красивыми, ни тревожащими, ни вдохновляющими — я ничего больше в них не находила. Я пребывала в мире белесой бесцветности и, если порой в небе вырисовывалось прозрачное облако, сквозящее тающими оттенками, торопливо отводила взгляд. Мое тело источало серую пелену невозмутимого равнодушия, она распространялась вокруг и бесшумно, без толчков затягивала все, что могло бы пробудить волнение, она была густа, растекалась неприметно, без видимых усилий, ее истечение выглядело столь же естественным, как циркуляция лимфы в организме. Все это происходило в глубочайшем молчании, в такой чистой отрешенности, что приводивший эти реакции в действие механизм оставался незримым, словно был погребен под толстым слоем ваты. И это меня вполне устраивало. Подчас я себя спрашивала, уж не мертва ли я, или, может быть, это состояние комы, предшествующее смерти? Ответ не приходил. Мне ничего не хотелось, а сил, чтобы думать, было маловато.
* * *
Однажды поутру, довольно рано, я принялась за уборку комнаты. Но скоро бросила, перешла в другую. Почти тотчас же вообще махнула на это занятие рукой и села. Рядом оказалась стопка газет. Я взяла несколько, стала перелистывать. Внезапно раздался весьма настойчивый звонок в дверь. Я подняла глаза, в комнате было темно — настала ночь. Так могли звонить только дети, к тому же теперь я услышала за порогом их возбужденные голоса. Я встала. Прошла по коридору, наткнувшись на дверь стенного шкафа, который забыла закрыть. И впрямь ни лучика света, темнота, хоть глаз выколи. Я сказала себе: ведь сейчас зима, самый разгар зимы. Дети стряхнули снег с запорошенных пальто и помчались в свою комнату. Потом окликнули меня. Стали спрашивать, почему я не пришла встретить их на автобусную остановку, чего бы им поесть, где я провела целый день, почему у них в комнате не убрано. Их голоса показались мне оглушительными. Говорить не хотелось. «Я ждала…» — произнесла было я, но тут же осеклась. Мне нечего было им ответить. А дети между тем уже перебрались на кухню и хлопали дверцей холодильника. Слышалось звяканье стаканов. Они смеялись и очень громко кричали. И опрокинули какую-то бутылку.
Мне стало немного скучно. Я ведь не имела заранее обдуманного намерения оставить дом неубранным. Речь не шла ни о мстительности, ни о демонстрации раздражения, я даже сожалела, что муж может увидеть все это под таким углом зрения. А я-то просто забыла. Он еще утверждал, что очень неосторожно позволять детям возвращаться домой одним. Его настойчивость в этом вопросе казалась мне нелепой. Он, похоже, не заметил, как дети выросли за последнее время. Они стали очень большими, достаточно большими, чтобы переходить улицу самим. Еще он пожелал знать, чем я занималась весь день, и меня огорчило, что я не нахожу ответа. Он целую историю из этого раздул, но я была слишком утомлена, чтобы протестовать.
* * *
Физически я хорошо себя чувствовала: неплохо спала, нормально ела, гуляла, делала все, что положено, и даже испытывала нечто вроде мутного благодушия, которое придавало мне любезность и мягкость в обхождении с соседями по палате. И с доктором, что ко мне приходил, охотно сотрудничала. По видимости у меня все было хорошо. Я находила людей чрезвычайно милыми, только недоумевала, почему они так из-за меня хлопочут, уделяют мне столько внимания, между тем как я ни от кого ничего не хочу. Но вопросов я себе не задавала. Меня поместили в очень просторном доме, там мне жилось хорошо, вокруг росли деревья. И главное, больше не приходилось транспортировать вещи. Я знала, что здесь, в этом месте, меня сейчас считают больной, но это не имело особого значения — терминологический вопрос, и только. Как бы то ни было, ко мне он никакого отношения не имел.
Вскоре жизнь клиники заинтересовала меня. Мне был представлен на обозрение новый мир, полностью меблированный, населенный, организованный, и я с удовольствием наблюдала, как он функционирует. Здесь всегда было на что посмотреть — столы на колесиках, кресла-каталки, снующие туда-сюда медсестры, уборщицы, врачи, родственники, а сверх того манипуляции рабочих, пристраивающих рядом еще один корпус. Ночью через равные промежутки времени раздавался какой-то шум, было интересно сначала угадывать его происхождение, потом поджидать, когда он послышится снова. Зрелище разворачивалось своим чередом, все шло, как по маслу, номера сменяли друг друга, и пустого времени почти не оставалось. Мое присутствие здесь проблем не создавало. Мне определили место в общем распорядке, и мероприятия проходили удовлетворительно.
К тому же я принимала посетителей. Когда не чувствовала себя усталой, охотно виделась с людьми. Мне было очень легко рассуждать о «моем случае», объяснять его тем, кто об этом спрашивал, кто хотел знать. Слова находились без малейших усилий, мысль тоже работала без запинки. Это было как игра, правила которой я давно изучила, а стало быть, мне ничего не стоило поиграть в нее. Только в ней больше не оставалось соблазнов игры, привлекательности выигрыша и страха проиграть, поэтому я играла равнодушно. В отношении к своему случаю я проявляла словоохотливость эксперта и безразличие постороннего. Я бы с тем же успехом могла участвовать в любой другой игре, если бы умела. Что меня тяготило, так это замешательство других. Сама-то я была абсолютно в своей тарелке. С каждым, кто приходил меня навестить, я пускала в ход ту манеру общения, которая установилась между нами ранее и стала привычной. Так было проще всего. Я вспоминала, что когда-то вырабатывала эту манеру с трудом, да потом еще частенько приходилось ее модифицировать по ходу испытаний. Но теперь с этим было покончено, в моем распоряжении имелся набор технических приемов, которые оставалось только использовать, даже не задумываясь, автоматически. От меня не требовалось что бы то ни было менять в своей манере держаться, да, впрочем, я уже стала неспособна к новшествам. Мне досаждало только одно маленькое затруднение: я путала имена или вообще не могла вспомнить, кого как зовут. Но я просто приноровилась устраиваться так, чтобы никто этого не заметил.
Такая нормальность моего поведения, похоже, сбивала людей с толку. Вид у них становился смущенный, и я быстро сообразила, о чем они думали. Они начинали подозревать, что у меня нет никаких отклонений и вся моя болезнь не более чем притворство, чтобы порисоваться, или уж, если на то пошло, может быть, я вправду помешалась, то есть утратила психическое равновесие, а это в глазах людей благополучных всегда представляется в первую очередь следствием некоего нравственного порока, притом они убеждены, что какое бы то ни было лечение здесь бессильно, ибо подобный недуг заложен в генах, как горб или врожденная хромота. Это меня не задевало. Я лишь подмечала их непоследовательность. В самом деле, ведь когда у меня не было сил поддерживать беседу с теми, кто пришел с визитом, и я впадала в молчание, самым естественным образом позволяя себе умственно отключиться, я видела, что они вообще переставали что-либо понимать. Они сердились на меня за эту замкнутость и отрешенность, о которых судили, исходя из критериев здоровых людей, бодро шагающих своим путем. В их прошлый визит им показалось, что я чересчур нормальна. Зато теперь они находили меня неприятной. Я не плакала, не каталась по полу, не жаловалась, у меня не было припадков. Цвет моего лица был свеж, щеки достаточно округлы, а поскольку за мной хорошо ухаживали, я даже не имела запущенного вида. Они уж и не знали, к чему прицепиться со своими соболезнованиями. А потому покидали меня в раздражении, и я знала, что стоит им вернуться домой, как они не преминут отвести душу, немного помыв мне косточки.
Я все это видела. Моя проницательность чудесно обострилась. Я была как стекло, становящееся чем дальше, тем прозрачнее, и, когда приходилось рассказывать врачу о моих наблюдениях над визитерами, я находила для этого вполне адекватные слова. И все же, видимо, мои пояснения отличались от того, что говорили другие. Я употребляла безукоризненно правильные понятия, несомненно, более точные, чем в прежние времена, но они словно потускнели, утратили цвет и блеск. К тому же я сама удивлялась, что все еще умею различать их, не путать, при том, что все слова ныне казались мне похожими. Как белые камешки, что попадались на дороге, — я их, разумеется, собирала, но так же просто могла и выбросить, ежели находились другие.
А вот посещений детей и мужа я не любила. Чем проще я держалась, тем более встревоженными они выглядели. Зачастую при таких встречах мне приходилось говорить одной. Я слушала свою беспечную болтовню, гладкую и мягкую, перескакивающую с предмета на предмет, то незначительный, то ужасный, сохраняя неизменно ровный тон, а их речь была так неуверенна, спотыкалась, наталкиваясь на необъяснимые препятствия и обрываясь на полуслове. Я догадывалась, что внушаю им страх, и об этом тоже говорила с улыбкой. Тогда они словно бы рассыпались передо мной в пыль, как будто нечто невидимое, но сокрушительное, вроде прозрачного стеклянного лемеха, срезав, дробило их на мелкие части. Все это вскоре стало решительно раздражать. Я сохраняла полнейшую естественность, но это неизменно вызывало у окружающих болезненные реакции: так морские волны разбиваются, столкнувшись со скалой.
Сама себе я тоже представлялась ясной до прозрачности. Моя прозорливость в отношении собственного поведения была так велика, что подчас у меня даже возникало впечатление, будто я ломаю комедию. Случались моменты, когда утомление вынуждало меня к неподвижности, руки отнимались, разум затуманивался. Но когда это проходило, начинало казаться, что я прекрасно могла бы начать все сызнова: возобновить одну за другой все прежние привычки, встряхнуться, организоваться, закруглять каждый день, как жемчужину, и верить, что одно завтра будет следовать за другим по накатанным рельсам согласно маршруту и дорожным знакам. При всем том хватило бы и малейшего сдвига в сознании, смещения на несколько сантиметров, чтобы вся эта история сделалась мне отвратительной; тогда я, верно, отнесла бы ее на счет лени, скуки и трусости. По ту сторону подобного рубежа мне виделось мое другое «я» в стенах иной комнаты. Там обосновалось чувство вины — множество его выдвижных ящиков с богатейшим выбором содержимого. С раннего детства их набивали словами, они так переполнены, что при малейшем толчке излишек готов просыпаться через край. Я утону в них с головой, стоит только вновь войти в свою квартиру, так хорошо приспособленную ко всем житейским надобностям, так великолепно подогнанную под навязанные общественной жизнью стандарты, что я даже не смогу осознать, насколько многообразно и поминутно ее требования стесняют меня и ранят, до какой степени они не по мне. Слова, разжигающие чувство вины, прятались в прежних апартаментах повсюду — туго запакованные в пачки и рассованные по ящикам стола и шкафам, по всем углам и закоулкам; они походили на шарики нафталина, посредством которых поддерживаются порядок и гигиена. Стоит самую малость качнуться, и я могла бы снова сорваться, рухнуть туда, где острый едкий запах порядка и гигиены так привычен, что уже не ощущается, а там, возвратившись к себе домой, я не без смущения слушала бы разговоры, осуждавшие все, что со мной приключилось. А может, как знать, мной овладело бы полное безразличие к этой истории.
Я не чувствовала презрения к жизни, оставленной «по ту сторону». Мне представлялось даже, что я к ней очень близка и во всех отношениях настолько с ней совпадаю, что способна без надрывных усилий вернуться вспять. Таким образом, я убеждалась, что не могу быть серьезно больна, коль скоро необходим лишь простой маленький щелчок в мозгу, чтобы тотчас возвратиться к себе, к привычным обязанностям. Да только все это ни к чему. Хоть у меня не возникало настоятельного желания удаляться все дальше от прежнего быта, потребности в обратном я тоже не испытывала. Я избегала движения, моя пассивность удерживала меня там, где я находилась, и, если мне суждено считаться «больной», «больной» я и останусь.
На мой взгляд, все было хорошо так, как есть. Это состояние меня устраивало. Его называют нервной депрессией? Ну и пусть. Я себя больше не изводила, не была сама для себя тяжким бременем, а что до других, они пребывали в сером тумане, не пропускавшем ничего, кроме их силуэтов, стиравшем все краски. Они не могли меня затронуть. Мои чувства угасли, тоже свелись к оттенкам серого; при подобном состоянии я без помех манипулировала другими. А поскольку меня главным образом страшили перемены, я все делала для того, чтобы ситуация застыла на мертвой точке. В таком двоедушии нет ничего порочного, никакого скрытого умысла, ведь меня поставили перед очевидностью, которая вполне себя оправдывала и не могла возбудить никаких сомнений морального порядка. Другие оставались такими, какими хотели, я не стремилась ничем им досадить, не пыталась создать для них затруднения. Но было совершенно ясно, что наши пути разошлись. Чтобы снова присоединиться к ним, разогнать серый туман и вновь обрести краски жизни, мне пришлось бы что-то сделать, совершить некий акт, а любое, пусть самое ничтожное, усилие, в том или ином направлении меняющее положение вещей, мне претило.
* * *
Однажды утром явился посыльный, он приволок и свалил в коридоре на моем этаже большой плоский пакет. Вскоре пришел служитель и распаковал его. Там было несколько абстрактных картин, по-видимому, подарок кого-то из бывших пациентов. Служитель повесил их в коридоре. Когда он управился с этим, я вышла, чтобы взглянуть, что получилось. И тотчас в глазах потемнело, как мутнеет озеро, когда с взбаламученного дна поднимется ил. Картины кишели красками, у меня закружилась голова, я не находила в своем безупречно обкатанном репертуаре реакции, отвечающей этому впечатлению. Я вернулась в свою палату и тут заметила, что мне хочется кричать. Не от гнева или в истерике. Меня томила жажда долгого вопля, на мягких, низких нотах, который никогда бы не затихал, продолжаясь сам по себе, вопля, натянутого, как стальной канат, по которому я бежала бы быстрее, чем катится капля воды, вопля приглушенного, но глушащего все прочие звуки, и чтобы он раскинулся, как гигантская промокашка, втягивая в себя все до горизонта и далее, далее.
«Вот оно, безумие!» — сказала я себе. Но никакого страха не испытала. Оно, стало быть, такое. И только-то! Я-то думала, это в самом деле некое «иное», почти непостижимое состояние, ввергнуть меня в которое мог бы разве что катаклизм. Теперь подобная наивность казалась мне смешной. Выходило, что безумие близко мне, точь-в-точь как моя прежняя жизнь, как нынешнее мое состояние, они взаимозаменяемы, во всех смыслах равноценны. А слово — не более чем полая оболочка, в пустоте которой содержится воздух того же состава, что и внутри любых других слов. Все то, что мы давно утратили, наши неиспользованные возможности! А еще меня разбирал смех при мысли о том, как легко было бы забраться под кровать, залаять по-собачьи, и прыгать, и корчить дикие рожи. Достаточно всего лишь соскользнуть в себя, в мутные глубины собственного тела.
Я ощутила свою близость ко всему животному царству. Они и я — мы разделены лишь условной гранью, слова «животное» и «человек» служат не более чем одежками, наброшенными на кожу, облекают одно и то же единое для всех содержание. Я часто представляла, что плюхаюсь на живот и лопаю свою еду, как кормовую болтанку, или ползаю по земле наподобие змеи либо краба, или же присаживаюсь в ожидании на краешек кровати, как делают некоторые птицы. А еще можно прилипнуть к стене, растопырив руки, словно ящерица, или часами напролет тихонько мяукать, будто кошка.
Перспективы превращений тела казались безграничными. Подчас меня охватывало острое, непосредственное желание метаморфозы. В мышцах, в коже я ощущала первые ее подвижки, ее начальные признаки. Еще чуток проскользить в том же направлении, и дело сделано. На этом повороте меня бы вынесло за пределы того блеклого тумана, в котором я жила; пока же облекавшая меня дымка то очень быстро, то неторопливо обретала разнообразные оттенки, тоже менявшиеся в свой черед: светло-каштановый морок становился нежнее, бархатистей, сиреневый — сочнее и притягательней, зеленоватый достигал пронзительной резкости, а то вдруг отдавал кошачьей рыжиной или синевой оперенья острокрылых птиц, между тем как розовый туман деликатно искал, чего бы поклевать на далеких расслабленных окраинах сознания, зыбкие оттенки толпились там во множестве, создавая тесные скопления, красноватые массы, вскоре начинавшие вопить, вспыхивать пожаром от края до края, взметаясь огромной тучей огненных всполохов, щелкая клювами и хлопая крыльями, выгибая в прыжках хребты, и мелькали горящие взгляды, кривые крючья клювов и костей, раздавались трескучие крики, затихая и рассыпаясь тлеющими угольями.
Я думала обо всем таком хладнокровно. Этот вариант восприятия не отличался от прочих и не слишком меня волновал. Поразило лишь открытие, что все текуче. Располагаясь в центре — благо центром становилась любая точка — обширного поля картины, я созерцала одновременно все схождения линий, отображавшие перспективу. Время и пространство сливались воедино. Я же свободно перемещалась внутри. Впрочем, собственно, и перемещаться не имело смысла, хватало просто смотреть. Все, что называют жизнью, раскинулось перед моими глазами, равно близкое и отдаленное, сплошь подверженное трансформациям, гладкое и равномерное. Если другие относили мое внешнее поведение к тем или иным категориям, так именно потому, что они не видели текучести — имманентного свойства, заложенного в преображениях. Все сравнялось со всем, без каких-либо предпочтений. Во время наших бесед врач подолгу говорил со мной об этом равенстве, задаваясь вопросом, как сочетать его с тождественностью. Его теории оставались для меня невразумительными и совсем неинтересными. Оказавшись на плоскости взаимозаменяемых возможностей, я чувствовала себя свободной, не возникало желания вставать на чужую точку зрения, воспринимать категории чьих-то умствований и копаться в тонких нюансах смысла.
Тем не менее я оттягивала тот театрализованный финт, что приведет в движение всю машинерию, ознаменовав начало конкретного представления, имеющего установленные пределы, — одного из тех взаимозаменяемых вариантов, возможность которых я носила в себе. У меня была «депрессия», на том я и стояла. Эта депрессия служила мне единственным спасательным кругом, защищая свободу и оберегая молчание. Так я могла плавать в мире других самым осторожным образом, как бы в нейтральных водах.
* * *
Я возвратилась домой. Теперь там находилась юная гаитянка, которую мой муж нанял, чтобы она помогала мне в домашних делах и занималась детьми. Мысль о том, что отныне я избавлена от большей части забот, не доставила мне особой радости. Эта молодая женщина появилась слишком поздно. Ее приход в некотором смысле ставил весьма отчетливую финальную точку на дотоле еще не совсем упорядоченной странице. А налаженное подобным образом хозяйство позволяло мне просто перевернуть эту страницу, потому как, казалось мне, написанное там принадлежало прошлому, а на самом деле она — не более чем воспоминание, перенесенное в конец раздела, чтобы побыстрее его завершить.
Но когда я вернулась и, войдя в свою квартиру, увидела, что посреди комнаты стоит гаитянка и смотрит на меня, я почувствовала легкое недоумение. То была несколько сутулая молодая женщина с печальным взглядом, во всей ее фигуре сквозила какая-то пугливая неуверенность, словно она на каждом шагу могла оступиться, упасть. У меня мелькнуло импульсивное желание протянуть руки, поддержать. Сердце мое заколотилось. О влажные отблески ее глаз, темные берега ее кожи!
Я тотчас увидела, что она сурово осуждает меня. Во время моего отсутствия она, как только могла, помогала моему мужу, жалея его и восхищаясь его терпением. Бывший муж гаитянки бросил ее, остался ребенок, которого она с величайшим трудом растила. Она давала понять, что мне очень повезло. Я чувствовала, что она ждет от меня ответа. По-английски она не говорила, а я плохо понимала ее французский. Но не в словах дело, не они были нужны между нами, требовались какие-нибудь проявления привязанности, свидетельства пробуждающейся нежности, может быть, слезы. В ее некрасивом лице, в низком, жестком голосе сквозило что-то патетическое. Глядя на нее, я говорила себе, что она очень несчастна, но даже не знает об этом. Бедное неуклюжее тело, шатаемое незримыми течениями, способное объясняться лишь посредством звукоподражания или исковерканными словами, плоть, кое-как сработанная на конвейере, купленная в супермаркете, а затем расплачивавшаяся всем, что имела, за тень свободы… Склониться на миг, заглянуть за край ее уклончивого взгляда значило бы соскользнуть в пропасть без дна, утонуть, исчезнуть. Вздыхая, она все твердила, как мне повезло. Я не отвечала ей и перестала заглядывать в ее глаза. Единственное, что я могла сделать для нее — и меня это тоже устраивало, — предоставить ей любить и обихаживать детей. Уразумев это, она со мной больше не заговаривала. Мое равнодушие казалось ей предосудительным отречением от своего долга. А я выглядела слишком разумной, чтобы у нее могло пробудиться хотя бы малейшее сочувствие к моему недугу.
Я получала удовольствие, глядя, как она орудует в доме. Присев на стул в кухне, долго с упоением смотрела на нее. Она гладила. Ее коричневые руки сновали по белой простыне, ткань похрустывала, когда она ее складывала, от утюга, отставленного в сторонку, поднималось крошечное облачко пара. Она попросила меня помочь развернуть следующую простыню. Я ощутила кожей шершавое, до странности реальное и волнующее прикосновение ткани. И нарочно выпустила из пальцев угол, который должна была держать. Потом я подхватила его и снова смогла ощутить мимолетное прикосновение простыни — тоже своего рода кожи, уже чуть помятой (падая на землю, она, наверное, съеживается в комочек). Этот маневр я повторила раза два-три и видела, каким враждебным взглядом молодая женщина уставилась на меня. Я постаралась этого не заметить. Разумеется, я бы могла рассердиться, укорить ее за невнимательность и дерзость. Но это означало бы возврат к «нормальности», реакцию настолько адекватную, что присутствие этой женщины тотчас стало бы излишним. А она была нужна мне.
* * *
Я стала часто менять свои простыни ради наслаждения видеть, как она их потом гладит. Она об этой хитрости наверняка догадывалась и относила ее на счет моего зловредного нрава. Мне было все равно. Что думала обо мне эта женщина, живущая под моей крышей, какое тягостное впечатление я могла на нее производить — все это меня не трогало. Если она и замечала некоторые изъяны моего поведения, что с того? Значение имело лишь удовольствие, которое она мне доставляла во время продолжительных сеансов глажения, а ежели удавалось растянуть это удовольствие подольше, последствия меня не заботили.
Речь тут шла не о чувственной усладе. Скорее об интеллектуальной операции, всякий раз чудесным образом мне удававшейся. Но я никогда не была полностью уверена, вот и повторяла все заново, желая убедиться, что успех — не случайность, а мое стабильное, неотчуждаемое духовное приобретение. Он меня всякий раз слегка оглушал. Я оказалась способна причинять зло, полностью закрыться от других, думать только о себе! Стало быть, я могла идти к цели, не заботясь о средствах, я освоила эту фундаментальную науку, я знала ее! Но сколько же времени потребовалось, чтобы обрести уверенность, завоевать эту маленькую, такую ограниченную домашнюю победу!
Наблюдая, как она гладит, я чувствовала, что пребываю в забавной и порочной области своей души. Ее коричневые руки, под огрубевшей морщинистой кожей которых угадывалась крепкая, жесткая плоть, потрескавшаяся, как кусок дерева, выброшенный на берег морским прибоем и иссушенный солнцем, будили во мне мысли о руках мертвецов, может быть, мумий, и к ней на кухню я приходила, как в выставочный зал музея. Движения этих рук взад-вперед над гладильной доской отнюдь не нарушали впечатления. Они только подтверждали его, как надпись на цоколе выставленного предмета, которую разбираешь строка за строкой, чтобы понять назначение экспоната. Ведь нет сомнения, что удовольствие, которое получаешь от разглядывания таких вещей, всегда двусмысленно. Для меня в этом таилось удовлетворение, подобное маленькому листочку, что красуется, вылезая из самой сердцевины моего двоедушия. Ведь если черные руки принадлежали мертвой, значит, мои оставались живыми. Я упивалась этим противопоставлением, оно мне не надоедало.
Складывался некий образ, его я снова и снова жадно воскрешала в воображении, глядя, как она орудует утюгом, как двигаются над тканью взад и вперед ее хлопотливые руки, между тем как мои, сложенные на коленях, остаются неподвижными… Я смотрела, как разглаживается белое полотно, как затем складывается под ее ловкими пальцами, как скрывается за дверцами шкафа, вскоре запиравшимися, и все это оставалось со мною, во мне.
Я чувствовала, как ко мне возвращается самообладание, казалось, отныне ничто уже не сможет изгнать меня из моих пределов. За время столь долгого безмолвия в глубине моего существа образовалось нечто несокрушимое, как камень, и на этом основании я могла вновь воздвигнуть самое себя. Теперь молодая гаитянка перестала меня интересовать. Ее большие печальные глаза уже ничем мне не угрожали, она сама не требовалась мне для демонстрации и доказательства моей силы. И я разом сделалась с нею куда любезнее, так что вскоре мы чуть ли не подружились.
* * *
Зима выдалась сухой и студеной. Глядя на огромное холодное небо, очень чистое и высокое над прямыми линиями городских зданий, я говорила себе, что стала подобна ему и, может быть, более нечего ждать. Ведь цель достигнута; окаменев, я в некотором роде обрела неуязвимость. Скоро совсем оправлюсь, тогда работница уйдет, и я смогу снова, как прежде, приняться за домашние дела. Все изменилось, и все останется неизменным. Горечи я не чувствовала. Просто знала, что сумею функционировать без сучка без задоринки и, возможно, временами даже получать удовольствие от того или сего. Мое нутро оковано льдом. Благодаря этому я буду твердо стоять на ногах и с легкостью займу свое место во внешнем мире.
Но как же мне было холодно. Иногда я смотрела на картину. Ее краски поблекли, ей не хватало динамичности. Искусство обман, как и все прочее, говорила я себе, а когда кругом неправда, жить проще простого. Как бы то ни было, картина мне не мешала. Думая о муже и детях, я убеждала себя, что, разумеется, люблю их, но вместе с тем это ничего не значит. Часто, проходя по улице и глядя на встречных, я подозревала, что они тоже окаменели изнутри, и тогда они внушали мне ледяное восхищение.
Я коченела. Чем нормальнее и многочисленнее становились мои занятия, тем более праздной я себя чувствовала. Во мне осталось так мало от жизни. Внешний мир уже ничего не значил, а внутри все было сковано стужей — так, жалкий клочок, по существу, бесплодной ледяной поверхности.
В конце концов до меня дошло, что я все время думаю об этом. Когда я бросала взгляд в зеркало, меня передергивало: оттуда смотрело мраморное лицо. Я сжимала руки, терла одну о другую, но они никак не могли согреться. И страх снова начал подкрадываться ко мне.
* * *
Однажды утром начался дождь. Сперва я не обратила на него внимания. Но перевалило далеко за полдень, а он все шел. Это был один из тех нескончаемых дождей, что затопляют входы на станции метро, заливают автомагистрали, парализуют дорожное движение. На опустелый город лило как из ведра. Бешеные порывы ветра сотрясали оконные стекла. В перерывах вода стекала по ним маленькими ручейками с журчанием, тихим, как шепот. Я стала слушать, как налетают громадные разъяренные шквалы. Они встряхивали дом и, казалось, отдавались даже в моем сердце. Когда они затихали, в наступившей тишине меня колотила дрожь от далекого вкрадчивого бормотания капель, разбивавшихся о плиты мостовой. И тут я обернулась, чтобы взглянуть на мою картину.
Краски между полосами рисованного переплета подтаяли, будто их размыло слезами. Они словно стекали с перекрестий, оставляя широкие, постепенно бледнеющие следы. Холст дрожал у меня перед глазами, словно мерцающая поверхность воды, быстро впитывающейся в песок, или колеблемые ветерком заросли тростника. Из глаз хлынули слезы, казалось, они уже никогда не иссякнут. Я подошла к картине, провела пальцами по жесткому полотну, мне хотелось прислониться к нему щекой, ощутить в нем живую нежность кожи, услышать глухое биение сердца. Я обеими руками вцепилась в раму, и оттого, что не почувствовала в своих объятиях ничего, кроме дерева и хлопка, мне стало так больно, что хоть кричи. Я отшатнулась, и картина снова затрепетала перед моим взором. Влажная скользкость полос увлекала меня в центр переплета, в туманные светло-каштановые глубины. Я увидела, как там, словно на бесконечно далеком дне пропасти, плывут бледные, на глазах тающие облака.
Вновь вспыхнули все те краски, в которых мне хотелось раствориться. Я горела, как в лихорадке, меня охватило отчаяние. Нетерпение было слишком сильно, оно больше не могло выносить препятствий. Так демобилизованный солдат, выдержав бесконечное сидение в казарме и внезапно разгоравшиеся перестрелки, месяц за месяцем видя трупы и слыша стоны, — наконец после томительного ожидания возвратясь домой, впадает в бешенство, стоит кому-нибудь в метро задеть его локтем. Как будто его плоть, надолго утратившая чувствительность от инъекций новокаина, была истерзана без его ведома — обожжена, обморожена, ободрана, — хотя весть о боли и не доходила до мозга. И теперь, когда, очухавшись, он с прежним терпением собирается жить-поживать, до него наконец доходит, что времени больше нет. Отныне самое ничтожное препятствие, встающее на пути, словно разорвавшаяся бомба, терзает в клочья его тело.
Я не могла больше медлить, мне хотелось все объяснить, устроить, соотнести. Я жаждала поддаться зову естества. Привольно растечься, хлынуть, куда придется, по прихоти своих потаенных склонов и русл, распустить те жесткие металлические скрепы, что стягивали меня с головы до пят. И если поток моих настроений, перелившись через край, захлестнет берега, затопит окрестные луга, превращая травянистые пастбища в грязное болото и размывая фундаменты домов, я ничего тут поделать не могу, нет моих сил об этом заботиться, а уж придержать свое половодье вообще не в моей власти.
Дождь лил еще долго. Ночью я слышала, как струи стекают по водостокам… казалось, льды наконец тают, а вода тихо смывает их обломки.
* * *
На следующее утро потаенное воодушевление разбудило меня очень рано. Оно танцевало во всех моих членах, мне хотелось двигаться, бежать куда-то. Я огляделась. Город купался в огромной, упоительно свежей заре. Я ощущала ее кожей, впивала всем телом. Сам собой взгляд обратился к картине. Она сияла в дальнем конце комнаты розовым ореолом. И сразу все во мне озарилось, окрасившись тем же цветом.
Это был час розового, одно из тех утр, когда я пробуждалась в тонком, хрупком расположении духа, балансируя на режущей грани обстоятельств, покачиваясь в неустойчивом равновесии, и вот я осталась там, трепеща, как птица, а под ногами у меня был уже не лед, а тонкая проминающаяся пленка слез с похрустывающими бороздками. Новое настроение заполонило душу, набрало высоту. Перепрыгивая через разрежения смысла, перелетая через его сгущения, оно проносилось от одной видимости вещи к другой, легонько задевая их по касательной, его заносило на виражах, но в повороты оно все же вписывалось, а порой привольно изливалось росистой капелью на тихие пустые прогалины между домами.
Я взлетела с первым розовым лучом рассвета, а внизу, подо мной, как по волшебству, розовое сияние будило спящий город.
Освобожденный взгляд больше не бился в силках городской паутины, не катился, как биллиардный шар, по желобам прорезающих город улиц, а восходил ввысь, как легчайший пар; внизу же, сколько хватал глаз, раскинулась необъятная ширь. Утреннее солнце играло на равнинах, вспыхивая острыми, мгновенными, как молния, лучами; отточенные всполохи, скрещиваясь, словно клинки, и без следа уходили в землю. Все до головокружения сверкало, будто зеркально отполированная поверхность. Ослепленное сознание кружило на одном месте, сперва медленно, с оглядкой, потом все быстрее и быстрее, земля уходила из-под ног, благо ничто не мешало стремительному бегу к какой-то иной, неумолимо приближавшейся тверди. Внизу, очень далеко, все еще разворачивалось замысловатое плетение улиц. Я без устали смотрела в окно, смотрела из всех окон, но камень стен отступал, просвечивал, как театральная декорация, поднимался, уподобясь поочередно уходящим вверх полотнищам. Там, где взгляд еще вчера еле тащился в тяжелых башмаках, рассчитывая степени риска и прослеживая этапы пути, стесняемый своей стеганой, набитой мыслями экипировкой и громоздкими защитными очками, теперь он бросался наудачу отовсюду, с самых крутых откосов. Дорожные ориентиры улетучивались, как сновидения, уже было не различить ни пункта отправления, ни места прибытия, оставалось лишь чувство, что ты — неизменно в центре. Справа, слева, куда ни посмотришь, каждое мгновение глазу открывались новые виды, взгляд, охватив их все в единой круговой пробежке, мог снова стремительно ринуться вперед. И так до бесконечности — то головокружительные виражи, то рывки вдаль! На земной тверди, дававшей опору и вместе с тем отталкивавшей, гоня все вперед и вперед, душа, эта влага тела, подобная капле масла, оставляла похрустывающий след, будто на плите, добела раскаленной лучами из витражной розетки солнца.
Иногда все затихало, и я больше ничего не видела. Сознание, оглушенное пустотой, растворялось в пространстве. Когда я снова обрела зрение, город уже застыл в привычной неизменности, и мое настроение, отделившееся от него, словно вздох озера, паром улетело в небо. Розовый туман окончательно рассеялся. То, что осталось от меня, просыпалось на землю, как шлак.
Тотчас подступили ледяные торосы повседневности. Я издали различала, как они движутся, как с шумом трутся один о другой, и распростирала руки, изо всех сил отталкивая их, судорожно вцепляясь пальцами в края трескающихся, лязгающих льдин, ежесекундно грозящих сомкнуться и раздавить меня. Я была в смертельной опасности. Пришлось упасть ничком, стать как можно более плоской и в пустоте вынужденного терпения ждать момента, когда над оголенной линией горизонта вновь пробьется хрупкий отсвет розового.
Я жаждала тишины и уединения. Хватало любого пустяка, чтобы во мне вскипело дикое раздражение, скандал вспыхивал разом, вихрь ссоры, забушевав вокруг меня, грозил прорваться наружу, в серый город, разметать трафаретные черные отпечатки предметов, я обдирала ступни об их жесткие неровности, шершавые, словно скалистые выступы; избыток дел, которые следовало переделать, мрачной грядой туч наваливался на бледный небосклон, и все разом запутывалось. Розовое таяло, как гнусная каша раскисшего мороженого, мои руки были грязны, а все тело покрывалось розоватой зернистой сыпью, которую хотелось расчесывать до крови.
Меня лихорадило, жар ударял в голову. Тугая поверхность розового местами трескалась, на ней внезапно, как молнии, возникали багровые зигзаги. Оскорбленная, я уходила, хлопнув дверью, и жаждала возврата ускользающих оттенков утра, бесцельно блуждая по улицам в ожидании, пока утихнет бурлящий поток мутной воды и, коль нет розового, проглянет хотя бы светло-каштановый, цвет увядших красок, — начав с него, я, может быть, смогу возвратиться вспять.
* * *
Муж сообщил, что служанка уволена, а вдобавок мне придется взять на себя часть его работы. Гладкая зеркальная поверхность, по которой я скользила, куда вздумается, мгновенно подломилась подо мной. Оставалась только одна стезя, зигзагообразная, испещренная уродливыми трещинами, на которую меня снова норовили толкнуть. И ведь я уже потеряла столько времени… Я больше не могу позволить себе помогать ему, отвечала я, и, если он этого не понимает, мне придется уйти. «Воля твоя», — только и произнес он.
Я сняла комнату в старой гостинице «Уэллс», стоявшей в начале длинной улицы, и несколько дней мне жилось как нельзя более весело. С утра до вечера я бродила по городу, все оттягивая момент возвращения к своей работе. Я купалась в розовом сиянии непрерывной зари.
Но однажды в послеполуденный час я забрела в парк рядом с моим старинным отелем, там устроили что-то вроде просторного луга, несколько пустоватого, где было совершенно нечего делать. Я села на скамейку, собираясь насладиться моментом. Но вскоре поневоле услышала голоса двоих детей, игравших неподалеку. Они бегали, гонялись друг за другом, падали на траву, хохотали. Мужчина, что был с ними, читал, откликался на их вскрики, тоже посмеивался. Потом один малыш споткнулся, подвернул лодыжку и заплакал. Одним прыжком мужчина ринулся к нему. И подхватил его на руки.
Вскочив, я стремительно зашагала прочь. Розовые кристаллы утра, рассыпаясь, осколками падали на землю вокруг меня, краски перекрывали одна другую, все должно было измениться. На сердце вдруг стало невыносимо тяжело. И пока я шла так, в сухой розовый цвет стала впитываться капля очень бледной желтизны. Желтое растекалось, проступая из-под розового, придавая ему щемящую нежность, мягкую, пушистую глубину. Как можно жить, не ощущая тел? Другое настроение поднималось во мне, хрупкое, пронзительное небо этого розового осеннего дня снисходило к желтеющей плоти листвы, к ее же густой золотисто-коричневой массе у подножия деревьев, к темному перегною почвы. Вся жизнь в тот миг сосредоточилась между светом дня и сумерками, окрасившись в оранжевый цвет, одновременно такой тяжелый и нежный… Предугадывалось, что вскоре охра возьмет верх над желтым, оранжевый раскиснет в каштановый, выродится во влажный, мерзкий коричневый, расползется густыми полосами гнили. Но пока оранжевый сладостно сиял, это был тот самый цвет, что мне желанен, я хотела его целиком, пока все не умрет.
Мне позарез, кровь из носу необходимо было вернуться домой, коснуться тел своих детей, ощутить сливочный запах их кожи, вместе с беззвучным дыханием ночи втянуть в себя все домашние запахи.
Оранжевый с примесью охры, сладостный оранжевый детского сна! Я хотела сохранить этот цвет в своем теле, до тошноты смаковать его плотскую нежность, пропитаться его пафосом, снова и снова теребить оранжевый цвет, трогательный, потрясающий оранжевый.
* * *
Но когда я вернулась к себе, оранжевого я в доме не нашла, там не было того единого, большого и теплого охристого тела, над которым я мечтала склониться, — лишь отдельные разрозненные тела, нелепо искривленные, беспорядочно, без заботливого умысла испещренные мелкими осколками цвета. Всего лишь жалкие калеки, ковыляющие в изодранных обрывках моего прекрасного охристо-оранжевого.
Я взирала на них с ненавистью и болью. Что же, и мне придется ковылять с ними вместе? Мне надрывали сердце ничтожные нужды этих уродцев, ютящихся в грязной пещере дома, я принялась что-то делать для них, но каждое мое движение, как удар топора, обрушивалось на последние мелкие клочки ранее обретенного прекрасного цвета. Каждым жестом я добивала, рубила дивный цвет, которого мне больше не видать. И казалось, что я вернулась к самому началу, потеряв из-за них все.
Словно бы весь долгий, смертельно изнурительный день я ждала оранжевого мгновения заката, с самого восхода шла, торопясь, считая минуты пути, прикидывая его длину и принимая в расчет все остановки, чтобы прийти к подножию утеса в точности перед тем, как пылающее солнце соскользнет в морские свинцовые волны. Но, почти достигнув цели после стольких напрасных, безрассудных задержек, я подхожу к подножью утеса всего на одну секунду позже. И вот тогда, наконец взойдя на вершину, я вижу, что солнце исчезло, а небо и океан бороздят яркие смешанные пятна, я нахожу лишь замутненные краски, беглые издевательские отблески, и мой столь долгий путь становится необъяснимой блажью, уже позабытой, утонувшей в стирающей все ночной мгле.
Угрызения хлынули струей, налетели тучей стрел так стремительно, что утратили всякий смысл. Слезы сочились из-под век, все краски стекались в грязь самого зловонного коричневого цвета. Вдали от моих близких, вне их тел не было любви, я могла лишь расстилать сухой и нервический, чересчур нестабильный розовый цвет, и всё. А с ними я словно бы опрокидывала на себя поток липкого, тяжелого клея. Мои жизненные соки тотчас густели, запекались. Я не могла уйти отсюда, а остаться — все равно что умереть.
Только сон приносил облегчение, когда же он не приходил, я искала тени, искала повсюду, ночью и днем, как только теряли свежесть любимые цвета и краски. На поворотах длинных авеню в час, когда освещение тускло, моим телом вдруг, как хищник, в прыжке настигающий добычу, овладевала потребность больше не двигаться, погрузиться на дно, исчезнуть. Приказ замереть развертывался во мне, проникая во все члены, и отвердевал. Но я еще не утратила рефлекса смотреть направо и налево, остерегаться неожиданного. А потом устремлялась в первую попавшуюся тень, разинутую на обочине, словно дряблая пасть. Странный туман заполнял эти укромные закоулки. Он целительно омывал обожженные слезами глаза, врачевал раны от стрел…
Это был сиреневый со всем кортежем оттенков. Пока тянулись самые полноводные дни, он ждал, забившись в уголки, в свои потаенные заливы. Когда я, обессилев, роняла себя, сиреневый прокрадывался ко мне, мягко скользя, и его дымка заволакивала грубый неон повседневности.
Неблизкие ближние быстро проходили, рывками проскакивали мимо, меня не замечая. Отступив в легкую сиреневую тень, я становилась невидимой. А асфальт их дороги, всего несколько мгновений назад еще казавшийся плотным, внезапно обнаруживал хрупкость своей структуры. Тут и там, как я подмечала, провисали дни, часы шли пятнами, в них образовывались комки, а минуты, легонько растрепавшись, позволяли угадать под своей истертой тканью тень, проступающую наружу. Я различала, что нити основы повсеместно ослабли, расползаются, уже насилу прикрывая сиреневую тень, а она, вздуваясь, напирает снизу, источая свои испарения, которые распространяются во все стороны.
Теперь, остановившись у самого входа в темный закоулок, но еще не входя, я дивилась, что не вижу, как проседает дневной мир. Нелепое суетливое шествие все текло и текло по грубо залатанной дороге, двигаясь рывками, словно на киноленте, что вытягивалась из ее чрева. Тут я со странной радостью вспомнила прошедшую пресловутую «болезнь», что у меня недавно обнаружили. Стало быть, вот та дорога, по которой меня хотели пустить! Да кем надо быть, чтобы не подхватить здесь морскую болезнь? А теперь у меня, как тотчас после пробуждения от снов или на выходе из кинотеатра после длинного сеанса, только голова кружится и взгляд затуманен.
Я ныряла под истрепанный полог дня за сиреневым, как за лосьоном, за бальзамом. Те, что проходили надо мной по дороге, становились такими далекими, скорее даже призраками, оставляющими туманный тающий след. Сиреневый, за которым я следовала на ощупь, уходил, впитываясь в почву; вокруг воцарялась темнота. Я слышала, как меня без умолку зовут, окликают голоса, жаждущие сцапать меня, зажать в свои клещи. Их призывы доносились сверху, очень издалека, щекоча своими паучьими лапками тоненькую, всю в складках пленку, которая еще плавала передо мной; я слышала, что меня называют по имени. Защитная пленка прилегала так неплотно, я спрашивала себя, сколько еще она сможет это выдерживать. Я видела, как призывы пробегают, подобно пузырькам, стремящимся со дна к поверхности воды. Забившись в глубину, я не шевелилась. Суматоха утихала, на какое-то время я была спасена. И заползала еще поглубже. Мир простирался подо мной, переливаясь через край, со всех сторон напирал на мою плоть, эту хрупкую оболочку, что плавала на поверхности, я же спускалась в ее заповедные глубины, где, как мне чудилось, никогда и дна не нащупаешь. Сиреневый темнел.
Однако же наступил день, когда шум голосов на поверхности стал настойчивым. Я хотела ускользнуть обратно на дно, но их щипцы не отпускали меня. Мне показалось, что я уже долгие дни моргаю здесь на резком слепящем свету среди кишащего полчища насекомых. Я искала, в какую бы дыру спрятаться, исчезнуть, хотя бы укрыться в тени, но сиреневого тумана, что меня защищал, больше нигде не осталось. И сверх того вообще никаких красок, только упорно сжимающие меня клещи да без мерьы и смысла бьющий по глазам свет. Тогда желание жить вновь проснулось во мне, обернувшись гневом, вспыхнув яростью. На облепившей меня и уже почти отвердевшей грязи вдруг проступили ярко-красные стремительные полосы. Там, где они зажглись, корка треснула, распалась, и в тот же миг я сумела ускользнуть, спаслась бегством, даже не осознав, что это был разрыв.
* * *
Далеко за мостами, в Бронксе, в квартале, через который мы когда-то проезжали, сохранилось скопление заброшенных и подлежащих сносу домов. У меня больше не оставалось средств, да и слов, необходимых, чтобы продолжить прежнюю работу. Впрочем, какой работой можно заниматься на изнанке мира, где я теперь оказалась? Самые недорогие гостиницы слишком дороги, их свет чересчур ярок, хотя именно там я, может быть, смогла бы на веки вечные погрузиться в сиреневый; но всему назло я пустилась отыскивать утраченный, почти изгладившийся из памяти след.
Мало-помалу спуски в метро, мимо которых я пробиралась, становились все более обветшалыми и грязными. На последней авеню, куда меня вынесло, все стекла автобусов лучились звездчатыми трещинами, а бока были испещрены вмятинами от брошенных камней. Когда же вдобавок ноги перестали справляться с выбоинами мостовой и я начала бесперечь оступаться, чуть их вовсе не вывихнув, стало понятно, что нужное место найдено. Выпотрошенные и перекошенные дома вокруг меня валились друг на друга, но ошметки жизни еще цеплялись за остовы фасадов: банки из-под пива на тротуаре, залатанные газетами окна, граффити, мусор на крыльце у парадных… У начала одной из таких улиц я остановилась. Не знала, куда идти.
Вдруг я увидела впереди, в дальнем конце улицы, что-то диковинно сверкающее. Словно вуаль, болтающаяся над густо-красным крыльцом, среди отбросов, или, может быть, гигантский раскрытый веер, колеблемый ветром. По глазам ударил странный ярко-фиолетовый цвет, с оттенком то ли ядовитого зелья, то ли любовного напитка. Его отблеск метнулся мне навстречу, ударил в голову, как хмельные испарения, и мне показалось, будто я всегда знала его. Околдованная, я двинулась к нему. Там была женщина, на вид примерно моих лет, грязная мразь в пышном платье, распускавшемся на ней, как огромный цветок. Я подошла еще ближе и под копной спутанных волос разглядела опустошенное, но породистое и красивое лицо.
«Профессор», — выговорила она вдруг. Я вздрогнула. Она глянула на меня и тотчас отвернулась, будто обжегшись. «Профессор, дай сигаретку». Почему она так выразилась? Я хотела спросить об этом, но не нашла слов. И молча отдала ей всю пачку. Она сказала: «Моя сестра тоже профессор. Врач. Она дала мне это платье. Вчера». Потом вдруг встала и зашагала по улице взад и вперед, одной рукой подхватив чуть длинноватую юбку, а дымящуюся сигарету держа в другой. На ходу она почти без остановки резко дергала головой то вправо, то влево. Я мгновенно угадала смысл ее жеста. Это не было ни нервным тиком, ни судорогами страха, нет: тысячи мельчайших движений улицы каждую секунду цепляли своими когтями ее внимание, сознание ее металось, словно затравленный зверь, которого обложили со всех сторон.
Как привязанная, я пошла по ее ярко-фиолетовому следу, будто никогда не видела других красок: в целом мире царила она одна, казалось, мое тело растворяется в этом цвете без надежды на возвращение.
* * *
Однако на следующий день платья у нее уже не было. На полу ее комнаты побывали в свой черед шубки, платья, одеяла, тостеры, соковыжималки, что давала ей богатая сестра, но ни один из этих предметов здесь не остался. В городе шел нескончаемый обмен — в некоторых уголках парка, в местах сноса отслуживших строений, в метро. Она жила от одной такой операции до другой. А я стерегла ее сокровища. С тех пор как я оказалась там, она никогда не оставалась в своем логове. Забежав, окликала: «Профессор, Профессор!» — и, убедившись, что я не исчезла, успокоенная, тут же снова уходила. В покрытых расплывчатыми пятнами стенах каморки я сделалась ее вторым внутренним миром, целиком погрузившись в ее ярко-фиолетовую суть, мой взгляд купался в вечно сиреневом, и, видя, как она вышагивает взад-вперед по улице, я понимала, что она — моя внешняя оболочка. Ее запахи стали моими, моими были и лохмотья ее прошлого, и этот ярко-фиолетовый взгляд, казалось безостановочно, как обезумевшее животное, бьющийся у порога ее кожи. Чужие взгляды так дробили ее мозг, что говорить она могла лишь обрывками фраз, а у меня больше не осталось слов. Но ее жизнь превратилась в мою, я, например, знала все комнаты, что раньше служили ей мимолетным убежищем. И квартиру ее сестры в красивом доме на Парк-авеню, и психиатрическую клинику в Бельвю, и комнаты в отелях, за которые платили социальные службы — длинная череда гостиничных номеров, — а также конторы приема заявок на пособие, куда она даже обратиться не удосужилась.
Она не принимала наркотиков, не занималась проституцией, но иногда на нее находило. Тогда она бежала к автобусу, забиралась в него, усаживалась, забившись в угол, и ее лицо все корежилось в ужасающих гримасах. Я следовала за ней. Она сидела, обхватив голову руками, и мне казалось, что я вижу обжигающие неотвязные краски, терзающие ее мозг.
Люди входили, садились подальше от нас. И когда я смотрела на них, не ее, а их лица казались мне странными — какие-то фальшивые краски, искусственное выражение. Но нестерпимо было оставаться вот так, на виду, в этой нелепой позиции, отрешенной от других тел — других кусков своего тела, — отделенной от них расстоянием в несколько метров слоями одежд, кожей. Мне хотелось исподтишка подкрасться к ним, проворным пальцем коснуться с внутренней стороны скрывающей их нелепой маски. Как только мой взгляд останавливался на ком-нибудь из окружающих меня тел, это на них действовало, словно кислота, — разъедало. Тонкая пленка вздувалась волдырями, коробилась и спадала. Под одеждой я видела кожу, под кожей — краски плоти. Она была сизой, как сливы, когда они уже перезрели, или пурпурной, как искусанные губы, а порой — нежно-сиреневой, как трепещущие вены, когда они выходят на поверхность, и еще иногда — потемневшей, почти черной. И такого черного цвета нельзя не возжелать, пусть и поневоле, невозможно не захотеть прижать его к груди, крепко стиснуть, впивать его. Чем более отталкивала его непрозрачность, тем неистовее, неодолимей становилась жажда проникнуть. Цвета плоти — фиолетовые, пурпурные, сиреневые, черные, — можно ли приближаться к ним без трепета? Как не пронзить бледную оболочку кожи, удерживающую их в плену, не прорваться внутрь силой?
Мое тело ценой кошмарных усилий удерживалось от этого соблазна. Тогда я говорила себе, что, может статься, хорошо было бы дать себе волю, зайти слишком далеко, чтобы удостовериться: да, я познала себя до конца, овладела собой — пусть даже расплатой станет немедленная смерть. Оттенки фиолетового отравляли меня, и я преследовала их со страстной ненавистью.
* * *
Мой муж сообщил, что разводится со мной. Это меня не удивило. Чтобы не потерять его окончательно, мне бы надо снова всплыть на поверхность, туда, откуда я еще могла разглядеть его. Хорошо бы убедить его последовать за мной, хоть издали. Одновременно опускаясь на дно, оказавшись снова на одном уровне, мы, может быть, смогли бы иногда встречаться, обмениваться маленькими знаками приязни и благодарности. Но стоило только подумать об этом, как голова сразу кружилась от усталости. Какие начнутся сложные пертурбации! Оттенки фиолетового и без того совсем меня затерроризировали, мне этого не выдержать. Предпринять столько усилий в надежде на что? Другие, но не ближние нужны мне только как клинки, как копья, чтобы копаться в собственной душе, углубиться в себя или повернуть в другую сторону. Я понимала мужа более чем хорошо, во мне не проснулось и тени озлобления, однако даже отвечать ему не хотелось, зачем? Вокруг меня мигали фосфоресцирующие оттенки фиолетового, и как же бледны в сравнении с ними стойкие красители обычных эмоций!
* * *
Да я и сама тоже не могла больше оставаться в ладу с собой. Стремительно густеющий воздух моих эманаций становился непригодным для дыхания; под их напором рушились стены, увлекая меня за собой, наваливаясь, удушая. Вскоре такое наркотическое соседство стало меня нестерпимо тяготить. Разве мир не огромная трясина, где из глубины всплывают полные ядовитых испарений пузыри, где, словно блуждающие огоньки, безостановочно пробегают галлюцинации? Ярко-фиолетовое сочилось из моих пор, из тел других, пятная все вокруг густым соком — пурпурным, алым, сиреневым, винно-красным, сизым, сумеречным, легкого толчка ладонью хватало, чтобы тела, дрейфующие мимо на расстоянии вытянутой руки, тотчас покрывались синюшными разводами, а ежели нажать посильнее, тот же сок выступит, прольется. А если другие цвета, отбившись от невероятной радуги, случайно опускались на эту гигантскую лужу, все окружающие оттенки тотчас выцветали, перекрывая друг друга, спутывались в кричащем совокуплении, в огромном падении, где ничто не может устоять. Тела, что блуждали среди этой мешанины случайных красок, превращались в ядовитые грибы, дьявольскую травку, бредовые соцветия. Такими делались их души, в состав которых подмешивались дурманящие порошки, недоступная контролю химия; в вечном коловращении их стремительные шоки, их прикосновения, их тайные соития и разлуки дробили круглые жемчужины часов, взрывали русло плоско текущего времени, поднимали заряженные электричеством бури, плюющиеся фейерверками, разбрасывающие пучки искр. Их нескончаемая сарабанда без начала и завершения населяла фиолетовыми галлюцинациями весь окоем до самого горизонта. Да, именно она. В ней было все дело, и она меня уже доконала. А подумать только, что этот гам может усиливаться, что каждая грань в этом громадном шаре, состоящем из шума, того и гляди обернется длинным коридором, а в конце его могут распахнуться залы резонанса, своды, полные отголосков! Как вообразишь, что любая из этих крошечных граней способна породить новую бесконечность оглушающей суматохи, удесятериться, непрестанно умножать фантасмагорию, и без того такую неимоверную, такую несносную?
* * *
Поутру моя бедная подруга возвратилась из своих скитаний окоченевшая, она стискивала в руках раздавленный картонный стаканчик из-под кофе — утренней милостыни, выпрошенной в баре. Ее взгляд метался во все стороны, как у раненого животного, она зажимала голову то руками, то между колен. Тогда я бросилась к ней, прижала к себе, мне хотелось прикрыть чем-нибудь ее вытаращенные глаза, надвинуть на них очки со светофильтром, успокоительные стекла. Она видела больше, чем я, видела все, беспощадно многоцветный поток мира катился в ее глаза по обнаженным нервам. Я помчалась за сигаретами, где только не бегала, выклянчивая их для нее, и, когда клубы дыма сгустились, когда ее голова наконец поникла в его сером мягком саване и страдание стало отпускать, мои объятия разжались. Я осталась наедине с собой. Но чувствовала, что силы истощены.
Однажды вечером, в необычное время, я вдруг услышала в дальнем конце улицы ее зов: «Профессор! Профессор!» Голос звучал, как обезумевший набат. Я выбежала. На ней снова сияло ярко-фиолетовое платье, а она рвала его, не снимая, в клочья, отдирала от кожи, словно отравленную тунику из старинного мифа. И вдруг бросилась на груду мусора перед нашей лестницей, что было сил вцепившись в мои ноги. Платье на ней было испещрено дырами, как лепестки огромного ядовитого цветка. Винно-красную лестницу и оранжевые граффити на мусорных баках оживлял тусклый свет. Я подняла глаза. Улица убегала вдаль между обветшалых фасадов, словно аллея, среди своих разрушенных опор, а заканчиваясь, внезапно врезалась прямо в небо, глубокое небо сумерек. Между кровлями последних домов загорался ярко-фиолетовый свет. Тени с аметистовыми глазами бродили, пошатываясь, жались к стенкам. Я спросила себя, упадут ли они там, в небесной ране, исчезнут ли без следа. Ярко-фиолетовое платье переливалось, сияя у моих ног, вонючие отбросы скользили, увлекая за собой распростертое тело. Только мои ноги тормозили это скольжение. Но силы мои были на исходе. Мне тоже захотелось упасть и вместе с этим платьем, с мусором, со смрадом, со всей улицей соскользнуть, выплеснуться в фиолетовую ночь, в фиолетовую ледяную немочь.
Внезапно я наклонилась. На фиолетовом шелке проступило пурпурное пятнышко. Было уже темно. Я неотрывно уставилась на него. Пятно, казалось, то съеживается, то расширяется. Ярко-фиолетовое и пурпурное кошмарным образом перемешались, струйки запаха, едкие, острые, тянулись вверх, будто маленькие лианы. Пятно набрякло, его оттенок сгустился. Я с бьющимся сердцем сказала себе: «Это женщина, да, она тоже». Черт возьми, тощее, изгвазданное, скомканное нечто с безумными глазами, с руками, похожими на ветви терновника, брошенное, как зловонная тубероза, в громадную лужу, — тоже… женщина.
Вязкая жижа приняла нас, изнемогших, озябших, липких, сперва одну, потом другую. Я проснулась заледеневшая. Ярко-фиолетовые сияния исчезли из моей головы. Встав, я взяла свою соседку за плечи. Она не противилась, я тянула ее, как мягкое большое растение, завязшее в иле. Дотащила до каморки, засунула подол ее платья ей между ног, повесила ей на шею медальон с адресом сестры-врача, которая наверняка никогда ее не покинет. А потом ушла. В автобусном оконном стекле я увидела свое отражение. Мое лицо стало бесцветно. При свете неоновых ламп в метро пустые вагонные сиденья лишены цвета, такими же выглядели рекламные физиономии на стенах, колонны, своды, скамьи. Красок не стало. Мир обесцветился. В который раз я потеряла все.
* * *
Я жила где придется, у кого ни попадя. Меня, как электрон, носило по городу кругами, я зацеплялась где-то или отцеплялась по прихоти случайных встреч. И заметила, что, если вращаться таким манером достаточно постоянно, притом — важное условие — без остановки, умудряешься никоим образом не нарушать равновесия.
Но останавливаться не следовало. И главное, не забивать себе голову заботами о том, откуда в следующий раз возьмется еда, кровать, чтобы лечь, тело, чьим жаром напитаешься, голос, звучание которого мимоходом зацепит твое внимание. Я заметила, что в прямолинейных теснинах улиц и даже внутри жестких коробок из стекла и бетона движутся некие бесчисленные потоки. Стоит лишь отдаться на волю течений — этого достаточно. В огромном теле города я уподобилась маленькому кровяному сгустку, который, оторвавшись от стенки сосуда, путешествует по артериям и венам. Его внутренности стали моей средой обитания. Я блуждала по улицам, проникала в жилые здания, поднималась по лестницам, входила в квартиры, я прошла через долгую череду апартаментов самых различных очертаний, расположенных друг за другом, словно штабеля ящиков, я бросалась в этот лабиринт, всякий раз твердя себе: «Не противься». Любое место подходило мне, и ни одно меня не удерживало. Стоило пришвартоваться куда-нибудь, чтобы внутренняя секреция моего естества тотчас заработала с новой силой, благо я не мешала ей бунтовать, что всегда сопровождалось целым букетом ядовитых испарений, а при первом конфликте разрывала все и уходила. Малейшая попытка давления заставляла меня взрываться, как гейзер, и, если моим минутным спутникам не удавалось, проявляя чудеса интуиции, найти благоприятное течение, я тут же хлопала дверью, больше не пытаясь ни объясниться, ни понять.
* * *
Однажды я оказалась у подножия гигантского стеклянного здания. Вереница флагов, выставленных по стойке «смирно», являла взору свои кричащие краски, и я забавлялась, глядя на эти цветные пятна во вкусе умственно отсталых. Час был уже поздний, и окна на всех этажах светились непрерывными рядами. Глаза мои перебегали от одного освещенного прямоугольника к другому, вдруг невольно померещилось, что они выстраиваются по этажам в цепочки, будто кадры кинопленки, и стало как-то не по себе. Я отвернулась и внизу, перед проезжей частью, заметила очень высокую скульптуру. Меня тотчас охватило непреодолимое желание коснуться ее. Я двинулась к ней довольно нерешительно, но тут часовой, что прохаживался в нескольких метрах от ограды, дружески помахал мне рукой, и я осмелела. Скульптура имела в центре плавное углубление, с одного боку поверхность мягко скользила, с другого вспучивалась, сама же пустота была оформлена в виде столь тонко вылепленных объемов, что оставалось лишь поддаться обаянию, скользя взглядом по их извивам. Меня обуяла отчаянная тоска. Город, отступивший в сторонку, был таким грубым со своими приливами, отливами, водоворотами без числа!
В этот момент турникет парадного входа пришел в движение. Выходила группа. И тут я их вдруг узнала: дипломатов, чиновников, секретарей, — все это были мои ученики из ООН, те самые, которым я когда-то преподавала стройную систему грамматических правил нашего языка. А за их спинами, за высоким стеклянным фасадом была шахта лифта. Двадцать пятый этаж, зал 2506, пятнадцатый этаж, залы 1526, 1527, 1528, потом коридоры, эскалаторы, пост охраны, зал совещаний, поворот, четвертый этаж, кафетерий, туалеты с их скользкими, лабораторно чистыми поверхностями, взгляд вниз на мерцающий огнями город, лифт, стрелки, указывающие вверх и вниз, краткое ожидание, тот же путь в обратном направлении. Все туда же, в город.
Я села и стала припоминать. Мне все это вдруг представилось так ясно. Вспомнилось, как я жила, прицепившись к скале, и все мои пути расходились лучами от этого раз и навсегда установленного центра, что господствует над городом. А сам город был переплетением так же четко определенных траекторий, по которым я с удобством двигалась в нескольких заранее скрупулезно рассчитанных направлениях. Город являл собой сеть, аккуратно растянутую между ориентирами, бессменными, надежно вколоченными в землю указателями: библиотека, университет, школа, парки, — все те места, между которыми время и пространство, сливаясь, отвердевали, так что на магме города во всей своей основательности отпечатывался план привычек, переплетение каменных дамб, по верху которых я в полной безопасности могла передвигаться туда и сюда. Я перебирала эти воспоминания, но они были теперь всего лишь окаменелостями с тощими иссохшими ребрами. «Это музей», — сказала я себе. Надо наклоняться и вчитываться в этикетки, чтобы понять, что перед тобой.
Но у меня разбаливалась голова даже от одного чтения этикеток. Я знала, что больше не смогу ходить по музеям. Город, отданный на произвол изменчивости, был подобен морю, где скалы появлялись теперь лишь для того, чтобы исчезнуть, берега смутно проступали в тумане и, покинутые, оставались позади, клочки суши, едва исследованные, теряли интерес.
Я перепрыгивала с островка на островок, и они тотчас шли ко дну у меня под ногами, приходилось без конца покидать один ради другого. Все это были только волдыри на поверхности, пузыри, тотчас выпускавшие воздух. А я сама была топью, тинистой трясиной на морском дне. Так что, будучи на поверхности, я могла сесть в любую плохонькую лодчонку, это уже не имело значения — клочок земли, где можно высадиться и поесть, всегда подвернется вовремя. А если не подвернется или ощетинится укреплениями, что ж, надо плыть дальше под водой, глазами утопленницы созерцая штриховку зыби, подернувшей над тобой волны, пену, что оседает на город, отвердевая на его стенах.
А потом опять всплыть, в который раз предаться течениям, скорым и горьким, несущим в гору, в город.
* * *
Я снова пустилась бежать, уподобившись потоку, яростно пробивающему себе путь. С берегов, проносившихся мимо, неслись вопли, там оставались истерические припадки, битая посуда, буйные выходки, хлопанье дверьми, лестницы, с которых я сбегала стремглав. Я бросила Л. потому, что он был свирепым, а Н. — потому, что она была слишком нежной. Я ушла от Т. потому, что он был похож на меня, от С. — из боязни, что стану бояться его, а от Б. — из боязни, что он будет бояться меня. Я уходила, потому что мне нужно было бродить по ночам и спать днем. Уходила, чтобы не сказать каких-то слов, которые бы все зачеркнули, чтобы вообще избавиться от надобности что-либо говорить или, напротив, чтобы поговорить, причем немедленно, хоть с кем-нибудь. Я ложилась спать на асфальте, на плитах мостовой, на полу, один раз — на ковре из трав в полной цветов оранжерее среди чистого поля, в то время как снаружи намело снега до самых стекол, а то, помню, и на парковой скамейке, закутавшись в большой кусок белого полиэтилена, что дал мне сумасшедший мистик, который проповедовал под дождем, а еще однажды — на трясущейся кровле полуразрушенной башни, где вместо окон зияли дыры, а от стен остался один скелет.
* * *
Бури настигали меня все чаще. Со скоростью урагана проносились мимо лица, тела, пейзажи. Я пыталась вырваться, но при каждом усилии круговерть только еще более ускорялась. Краски затевали оголтелую сарабанду, прыгали друг на друга, кусали себя за хвост, как взбесившиеся змеи, оставляя в своем кильватере головоломное кружение черных извивающихся шнурков, черных покрывал, черных стен, огромное черное колесо, что вращалось все быстрее, постепенно раскаляясь, плавясь в жидком сверкании.
Я написала художнику, умоляя его о встрече. Он не ответил. Я стучалась в дверь его новой мастерской — ни души. Пошла в старую — там дверь открылась. Он холодно поздоровался, предложил войти. Я рассказала ему все, что со мной случилось. Его лицо сделалось мрачнее тучи, он процедил гневно: «Зачем вы пришли? Мне нечего вам дать!» Распахнул дверь большого зала, показал разбросанные по полу изодранные полотна и другие, прислоненные к стенам. Там же стояла походная кровать. «Я не более чем вот это, и это, и это. Вам не кажется, что с меня довольно моих собственных бзиков? Мне пришлось переехать сюда, пришлось брать заказы, я перестал понимать, куда меня занесло с моей живописью». Потом рубанул грубо: «Не люблю психов!» И выжидательно застыл в молчании перед своими полотнами. Наконец сказал: «А теперь мне надо работать».
Я одна спустилась на шатком лифте пакгауза. Голову ломило, как после попойки. Но я заметила, что в глазах прояснилось. Розовой целлулоидной куклы, что висела на уличной решетке, там больше не было. Крашеные скамейки расставили заново. На месте свалки строительного мусора теперь был паркинг. Я с редким вниманием отмечала все это. Голова больше не кружилась, я подумала, что не так уж мне и плохо.
В тот же вечер я отправила письмо друзьям, жившим на севере страны, у самой границы, среди величественной природы на дальней оконечности континента. Я заверяла их, что, если они смогут меня прокормить, я буду им помогать, готова на любую работу. Несколько дней спустя мне прислали билет на проезд большими междугородними автобусами.
* * *
Этот человек был сторожем охотничьих угодий. Жил вдвоем с женой в обширном поместье, оставленном на его попечении. Владельцы не приезжали никогда, так что чета полновластно распоряжалась лесами, озером, лугами. Каждое утро мы брались за работу, а по вечерам беседовали у камина. Я с удивлением осознала, что прежде мы встречались всего один раз. Их это тоже удивляло. Они тогда еще жили в городе, он работал инженером по механическим конструкциям, она служила в той же фирме. Мы не говорили ни о тех временах, ни о моих приключениях. Поместье требовало забот, и возможности беседовать на темы, связанные с ними, было вполне достаточно. К тому же мы получали килограммы воскресных газет, их нам хватало на всю неделю. По вечерам сторож мастерил маленькие заводные машинки, у меня появилась привычка немного поигрывать с ними. Они были выкрашены в ярко-красный цвет и собирались из деталей, которые вставлялись друг в друга с диковинной точностью, мне страшно нравилось пускать их в ход. Так и шли дни — серые, но это меня устраивало. Мой друг и его жена были ирландцами. У обоих молочно-белая кожа, местами усеянная золотистыми пятнышками. Когда вечерами мы тихонько покачивались на веранде в своих креслах-качалках, я была довольна, что мой взгляд останавливается у порога этой кожи, не порываясь вглубь, и наши речи тоже всегда легки. Мне вспоминалось огромное сизое болото, куда я рухнула однажды, и я говорила себе: «Нельзя видеть все». И еще говорила, что «больше не стану пытаться все увидеть».
Однажды утром, очень рано, я услышала, что они меня зовут. Они стояли на невысоком холме позади дома. Я бегом поспешила к ним. Над озером, на окрестных лугах, на лесной опушке — всюду светлело, серый туман, долгие дни одевавший здесь все, медленно поднимался к небу. Он отползал, как большое облако, как огромный мирный зверь, который, когда настанет его час, уходит, не предупредив, бредет прочь, мерно покачивая боками. Белые султаны еще цеплялись за кроны деревьев, потом и они растаяли. И я впервые огляделась вокруг. Местность была сверхъестественно зеленой. Я сказала себе: «Зеленый, вот оно что, настоящий зеленый!»
Далеко, далеко за моей спиной остались черные дни, влажные ночи, они уходили и таяли, как этот туман. Под ним открывалась твердая почва, до бесконечности зеленые пространства. Сердце забилось сильнее. Повернувшись к друзьям, я сказала, пряча свою радость: «Какой красивый цвет!» Они покивали в знак согласия и ответили, что теперь надо бы подправить изгороди. Им уже пора было спускаться.
* * *
Но я обрела цвет своего пути. Сейчас я могла бы взять себя за руку и пуститься в пляс. Зеленый расстилался окрест, как сад, полный плодов, каждый из которых просился в рот, как стадо ветерков, резвых, будто кобылицы, и за каждым хочется побежать вдогонку, как мириады свежих ручейков, чьи воды манят освежиться, не пропустив ни единого! Это было то, да, то самое, чего я жаждала. Я устремилась прочь от дома, но что-то меня вдруг удержало. Глухая тоска билась в моих жилах. Нет, эти вещи должны совершаться совсем не в природе. Природа может только внушить желание, подсказать образ. Но где же тогда, где оно, средоточие зеленого? Я повернулась и побрела обратно. Медленно обошла дом, отыскала сторожа и сказала ему, что я сегодня возьму свободный день. Мне нужно подумать. После этого я спустилась к озеру и стала бродить по тропинкам.
Вокруг меня сверкал на солнце зеленый цвет, все виды зелени, а я спрашивала себя: «Который из них?» Их было столько, что за всеми не уследишь. Где тот зеленый, который я смогу любить? Я шла по лугу. Между выкрашенных заново оград нежно зеленела трава.
Здесь не было ни души, но мне виделись резвящиеся обалдевшие жеребята, слышались чьи-то смешки, свежие, словно маргаритки, и голоса, беспечные, как у тех, кто затевает пикник, раскинув на полянке белую скатерть, — все звуки, прилетевшие из детских грез, пробегали по траве, будто легкий ветерок, что побуждает вас нежно, о, так нежно: вернуться, вернуться…
Я взобралась на деревянный забор, поставив ногу на перекладину. Вдали, за озером, по ту сторону границы, начинался огромный лес, при взгляде отсюда он казался почти черным — лес тянулся далеко на север, и, если смотреть на него слишком долго, там мерещился одинокий дом среди елей, в доме тяжелый стол, заваленный книгами, а над ними лицо, такое спокойное и такое, ах, такое отрешенное. Но мой взгляд, вмиг став суровым, продолжая свой путь, преодолел океан, достиг другого континента, прошелся по красивым расчерченным паркам, по чистым газонам, по безукоризненно выверенным аллеям. Там тоже все зеленело. Пожав плечами, я спрыгнула на землю.
Все суета — и прыжки по мягкой траве, и величавое созерцание лесов на суровых горных кручах, и лиризм прелестных парков. Однако нет ничего соблазнительнее этой суеты, когда оттенки зеленого смешиваются и контрастируют по прихоти распускающихся почек, клонясь долу с ветвями ив и взметаясь ввысь с березовыми кронами, когда они тихо плачут с росистой, окропленной слезами травой или отступают в таинственную тень густых чащоб, а потом снова устремляются к небу, так высоко, трепеща листвой на разметанных бурей ветвях. Но он, этот суетный соблазн, всего опаснее там, где красота, глядясь, как в зеркало, сама в себя, вскоре оборачивается статуей, застывшей в огороженной решетками аллее.
Зеленый, что полюбится мне, не здесь. Это цвет живой и действенный, напряженный и нервный, он не будет медлить, сосредоточившись на самом себе. Он легко, как нож сквозь масло, пройдет сквозь все цвета. Таким он будет, смеющийся, напористый зеленый. Он будет сиять светло и ярко, и сквозь его блеск, как по электрическому проводу в солнечном свете, побежит легкий пронзительный звук. Так он меня подключит к самому высокому напряжению, приобщит ко всем краскам — он, мой неусыпный, мой возлюбленный зеленый.
* * *
Когда вечером мы снова собрались на веранде возле камина, пышущего жаром углей, я объявила сторожу и его жене, что уезжаю. Я им сказала, что не могу больше оставаться в бездействии, в стороне, мне нужно работать, вернуться в город, к людям, снова обрести среди них свое место. Сторож легонько покачивался в кресле-качалке, его молочно-белая кожа светилась на фоне наивных цветочков, которыми была расписана деревянная спинка кресла. Помолчав, он сказал, что они-то с места не сдвинутся, и глянул на жену, а та прибавила, что они будут очень рады, если в один прекрасный день мне захочется сюда вернуться. И я услышала, сколько тепла в их голосах, будто согретых этим угасающим красноватым пламенем.
Но как только я вернулась в свою комнату, меня снова обуяло нетерпение. О них я уже позабыла. Я жаждала города, торопливого жесткого стука каблуков по асфальту, свиданий, следующих друг за другом тесной чередой, словно оливы, высаженные рядами, пронзительных телефонных звонков, стрекотни голосов, долетающих по проводу, глубоких погребов тамошних баров и высоких застекленных смотровых площадок на кровлях, газетных листов, вспархивающих на ветру, как флаги, книг, что проглядываешь утречком на бегу, часов, которые одолеваешь, словно барьеры, лиц тех, кто пьет жизнь большими глотками, дорог, пожираемых на бешеной скорости, городов, что развертываются перед глазами.
* * *
Автобус пронесся по автостраде, словно шарик на резинке, и, когда на остановке он резко затормозил, на меня со всех сторон нахлынул непрерывный шум городских улиц. Едва оказавшись тут, я сразу подцепила первую попавшуюся работу. Ах, работа перестала быть изнурительной цепью на ногах, она теперь была волшебным ковром на шарикоподшипниках, соединяющим между собой все улицы, все здания, все этажи города. Покончено с замкнутым четырехугольным загоном грамматики родного языка, долой прямолинейную иерархию пронумерованных улиц. Я перепрыгивала с одного места работы на другое, из квартала в квартал, гонясь за удачей, никогда не дающейся в руки, меняла направление, отрывалась от почвы.
Я работала в алмазном центре, за маленькими узкими решетками, с бледными мужчинами в черных рединготах и с длинными кудрями, среди ярких улиц, где на витринах в беспорядке навалены драгоценные камни, они лежат себе рядом, словно груды щебня на дороге, а мимо без остановки течет толпа, туда-сюда, словно полчище муравьев, вооруженных горячими колбасками и просяными галетами.
Я работала в магазине одежды с евреями, эти были румяными и носили уйму перстней, в слишком жарко натопленном заднем помещении мы сновали проворно, как блохи, то доставая платья, то вешая их на место, а рядом непрестанно катались из угла в угол продолговатые тележки, до отказа нагруженные старьем, болтающимся на вешалках, подвешенными шкурами всего того народа, что готов извергнуться из гигантского городского лона среди криков и свистящего хрипа этих чудовищных родов.
Я работала в магазине мехов, в шикарных будуарах, притаившихся в глубине сияющих чистотой помещений, где такие же самые тележки катались, груженные на сей раз иными шкурами — мохнатыми, шелковистыми, пушистыми, как если бы во внутренностях города водился звериный народец, между тем как внизу тянулась грязная улица, где за пожелтевшими металлическими ставнями торчали рядком тощие изъеденные молью чучела, эта улица сама походила на брошенное животное, вполглаза дремлющее под слоем своей лицемерной грязи.
Я работала в фирме по продаже дисков и кассет, терпеливо, скрытно, льстиво пробивала путь сквозь массивную толщу гумуса, закупоривающего уши обитателей страны, пуская в ход самые немыслимые сверла, что ни день, изобретаемые службой розыгрыша рекламных призов, пробивая ходы, по которым наша грубая какофония хлынет в мир, чтобы вернуться, превратившись в звонкую монету, обратно к великому алчному магу — нашему патрону.
Я служила в клинике помощи отчаявшимся женщинам, дежурила на телефоне, готовая мгновенно отправлять наши ответные успокоительные сигналы, когда среди ночи какие-нибудь потерявшие голову девчонки из самой глухомани канадских лесов вдруг в пожарном порядке возвещали о своих стрессах.
Я кружилась мотыльком в лучезарном заманчивом фонаре литературного агентства, вместе с командой других таких же мотыльков принимая от бедных комариков, бьющихся о наши стекла, их исполненные пафоса творения, мы терпеливо давили их в наших соковыжималках и возвращали, заботливо сопровождая отзывами, неизменно обрамленными тремя фразами, всегда одними и теми же в начале, в середине и в конце: «Мы с интересом прочли… к нашему глубокому сожалению, конъюнктура современного рынка… мы от всей души желаем вам не отчаиваться и продолжать…» — подклеивая эти липкие медовые фразы к титульному листу произведений изящной словесности, дабы они вернулись к нам в виде подписанных чеков, которыми питались два гигантских паука — наши шефы.
Я работала в центрах помощи наркоманам, в соборах, построенных на средства банкиров, на самолетах, на грузовиках.
Каждое утро мой день наливался безупречной зеленью. Город неумолчно шумел, и все его краски, все течения были мне желанны. Хотелось исходить его весь, сплошь исколесить его огромное многоцветное тело, подсоединенное к электрическому проводу моих причуд. Ах, пройти, зеленея, над всем розовым, зелено взобраться по склонам фиолетового, проскользнуть зеленой украдкой между оттенков синего, яростной зеленью вспыхнуть над оранжевым, ливнем хлынуть на млеющую от восторга желтизну, пощекотать зелеными пальцами заснеженные низинки, побарахтаться среди серого тумана в росистой листве пальм, вскарабкаться, цепляясь зелеными усиками, на колонны черноты, чтобы потом снова хлынуть вниз насмешливыми каскадами на спину каштанов, о, прорастание трав, распускание листвы, трепетные превращения зелени, живой зеленый, яркий зеленый, зеленый…
Я мчалась, гонимая задорными переливами моих зеленых настроении. Моя энергия мощными волнами выплескивалась на улицы города. Я говорила себе: «Чего ни пожелаю, все смогу», и вскоре меня стали подталкивать, нести вперед другие руки, другие ноги, безымянные, ставшие как бы продолжением моего тела. Оно сделалось многоглазым, протянулось в бесконечность, где подчас распадалось на части, накладываясь само на себя, как кубистический рисунок, и улицы неизменно расступались передо мной, в них всегда веяло яркой зеленью. Это был ветер бесприютных пространств, высокогорных плато, где коченеют от стужи и умирают в одиночку, долетая до города, он еще нес в себе частицу ледяной жестокости вершин, не расслабляясь, хранил этот колючий холод, что взбадривает, заставляя ощетиниваться по-звериному, подстегивая бег крови. Он свистел над перегретыми коконами долин, где притаились тихие, тепло упакованные мертвецы. Ветер кусачий, ветер хохочущий, он проносился над вязкими торфяниками других красок, чтобы тотчас, зеленея все ярче, унестись дальше, вперед.
* * *
Стремясь вслед за бодрящим зеленым вихрем своих настроений, я меняла лошадей одну за другой, пересаживаясь, как только повод найдется, но он находился не всегда. Мои временные работы занимали месяц, от силы три, а затягиваясь дольше, становились почти невыносимыми. Некоторые из них приносили достаточно, чтобы жить, на других можно было кое-как продержаться, на третьих — никак. В одно прекрасное утро я поругалась с гигантским пауком из-за бедного комарика, которого мы доили уже в третий раз, но к вечеру новое место еще не нашлось. На следующий день я стала перебирать агентства, у них у всех была одна дежурная формула: «Сорок слов в минуту». В последнее я подоспела к самому закрытию, уже на исходе дня. Толкнула дверь из искрящегося стекла — и оказалась в аквариуме. Зеленое пушистое ковровое покрытие пружинило, ноги тонули в нем. Стены изумрудно сияли. Русалка подплыла небрежно, влача за собой шлейф из зеленых водорослей. Я принялась было перечислять свои способности, но она, не слушая, протянула мне зеленоватый бланк, где значилась одна рубрика, все та же: «слова в минуту». Вместо ответа я нарисовала извивающийся силуэт змеи-русалки, и она, не взглянув, сунула мой бланк в громадный яблочно-зеленый лакированный ларь, полный таких же зеленоватых карточек, набившихся там, сжатых плотно, как зеленые черви. Я вышла на улицу, еле волоча ноги, вконец разбитая. Было уже шесть вечера, мимо валом валила серая толпа, стояло глухое безветрие, никаких бодрящих дуновений. Зеленый цвет внушал мне содрогание.
А ночью приснился сон. Я торопливо шагала по дороге, держа в руке большой зеленый зонтик. Знала, что идти надо быстро, однако вдруг что-то мне стало мешать, шаг замедлился, я глянула вниз и с ужасом обнаружила, что под ногами пустота. Зонтик на самом деле был большим воздушным шаром, я принялась отчаянно орудовать насосом, но рука устала, шар не надувался, он камнем падал вниз. Я рухнула на скалу, которая сомкнулась надо мной, клацнув, словно зубастая пасть. Я была устрицей. Прижавшись лбом к стене там, где она дала трещину, я смогла различить далеко в вышине семицветный клочок радуги.
* * *
Круг замкнулся. Снова настал сезон распродажи коллекций. Я опять вернулась в магазин одежды, оказалась в тех же слишком жарких задних помещениях среди колесящих тележек, опять то доставала, то возвращала на место платья, проворная, как блоха. Но это была уже совсем другая песня.
Больше никаких прыгучих блошек — вокруг толклись бледные влажные тела, какие у них были дряблые животы, как они натужно двигались, каким спертым воздухом дышали! Приказы падали, как куски подсохшего дерьма, оно копилось кучами, словно штабеля мягких коровьих лепешек, которые, постепенно уплотняясь, делаются плоскими. Сколько времени придется ждать, пока они возвратятся к жизни, удобрят нашу почву, а воздух очистится? Личинки в тряпичных мешках ползали туда-сюда с мучительными усилиями, какими же тяжелыми и усталыми были тела, как медленно сползали с них коконы!
Течения города, разворачиваясь по кругу, вынесли меня к тому понтону, откуда я начинала свое плавание. Больше не было, значит, иного выбора, как только снова пуститься в путь, по тем же смрадным каналам, и так на веки вечные? Сколько бы существо города ни вынашивало в своей обширной матке, она извергает все те же формы. И как же были смехотворны все наши хилые измышления, как жалки цветные брелоки, которыми мы обвешиваем свои скрипучие тележки, чтобы скрыть эти унылые нескончаемые повторения.
Конец задорной зелени городских ветерков. Сомнения наплывали, как тучи, клубились на пути моих настроений. Ах, я могла бы и дальше держаться за насыщенный электричеством провод моей одержимости, но все уже было не то, и гроза заклубилась в моем теле.
Я думала, что легко, как играющий ветерок, перепархиваю с места на место, соскальзываю с самых острых отрогов, смеясь с ними вместе над их видимой остроконечностью, и, дразня своей зеленой бахромой, вовлекаю их в свое кружение. Но отроги не смеялись, каждое место, четко обозначившись в себе самом, считало себя единственным, вечным. И я больше не порхала, я напоролась на их острия, мне следовало оставаться там, где я есть, поверить в это место. Стать и самой таким же отрогом, затвердевшим и плотно вросшим в почву, а свою развевающуюся в вечном кружении бахрому выкинуть в мусорный бак. Меня больше не смешили жирные тела менеджеров, ловкие руки в перстнях, холодные и все проверяющие на ощупь, резкие голоса контролеров, не забавляли ни длинные носы исподтишка вынюхивающих добычу рекламных наводчиков, ни послушные марионетки, прыгающие так же, как я. При первом же лязгнувшем над ухом приказе перед глазами вспыхнул красный. Я сорвала с себя свой скромный маскарадный халатик. Он не поддавался, и я резким жестом разодрала его в клочья, швырнула эту пеструю рвань своре, которая бросилась на нее, а сама удрала через туалеты.
* * *
Внизу между стен все те же каналы продолжали обычное медлительное течение, перекрещивались снова и снова — вечный круговорот в нескончаемом топоте множества ног. Город, объятый штилем, раскинулся вокруг, его механический шум напоминал площадку для игры в крикет. Его глупый прибой бился о подножия зданий. Улицы расступались передо мной, словно падающие стебли подгнивших водорослей. Краски были разбросаны по ним грудой увядших лепестков.
Но где же она совершилась, эта грандиозная жатва, что заставила их облететь? Где тот сверкающий сноп цветов? В какой час, в каком краю можно было нарвать подобный букет? Неужели надо остаться в тесном лабиринте, подождать еще, влачась через долгие часы, годы, века, не получая от огромного неба ничего, кроме остатков этого разрозненного букета, случайно падающих там и сям, жалких, вечно подпорченных с краю, изъеденных червями или увядших! Ах, пусть этот сноп отдаст полностью все, что может, чтобы здесь и сейчас сжать его слабую плоть, заставить ее излиться, украсив небо красными султанами своего сока, а сердце его пусть взовьется ракетой, чтобы на черном дне времени раскрылся наконец громадный ослепительный витраж города.
* * *
И тут я увидела, как все краски вскипели. И бежевый, и каштановый воспылали жестоким багровым пламенем катаклизма, чья темная краснота вздувалась всеми красками, которые она вбирала в себя, растворяя в своем бурлящем горне. В этом расплавленном месиве краски кружились, словно цветы, сотканные из пены, мечущиеся анемоны, а между бурунами снова и снова взметались гигантские стебли огня. Оранжевый взрывался, фиолетовый грубо разжижался, скатываясь ртутными каплями, растекался желтый, синий падал, как рушатся утесы, а зеленый, чуть этот жар его коснется, испарялся. Во мне бесновалось насилие, рожденное отчаянием и похотью, из темных дыр моей жизни восстали невредимыми все страсти, но теперь они словно по волшебству вдруг выросли до гигантских размеров. Если в пору их детства они были маленькими чарующими и жестокими зверушками, созданными для игры, то теперь они обернулись громадными чудищами, которые оспаривали друг у друга хрупкие клочки моей жизни. Пламя занялось со всех сторон.
Я могла бы, конечно, перекинуть через эти потоки расплавленной лавы переходные мостки, опирающиеся на все те цвета, которые я испытала, но они, пожираемые жаром, тотчас уплыли бы клубами тумана. Я могла бы вбить краски в землю, как столбы, как сваи. Но что-то побежало бы от моих пальцев вверх по колонне, которую я бы воздвигала, у меня не нашлось бы достаточно убежденности, чтобы наладить, утрясти свои краски, сделав их несгораемыми. И тогда вершина колонны вдруг беспощадно надломилась бы, взорвавшись мрачным огнем, алое сердце взрыва заволоклось бы дымом, то была бы едкая алость последнего сгорания, где зеленое уже не сможет быть ничем, кроме мифической саламандры.
Итак, не оставалось ничего иного, как отдаться пожару, пошвырять в огонь куски своей плоти и упиваться этим ненасытным опьянением до последнего уголька, пока не рассыплешься в пепел. А после этого, может быть, обретешь ту невинность, о которой говорится в книгах.
Огонь заражал меня своей лихорадкой. Чем выше взметались языки пламени, тем жарче становилось мое возбуждение, и они сливались в едином взрыве. Ярко-красное сердце огня кипело под каждой из моих дорог, под каждой из моих красок. В любой миг я рисковала поскользнуться, и тогда, обернувшись пожаром, я, может статься, как пламя, испепелила бы все вокруг.
Но нет, жар лишь опалил мое лицо. Огонь оттолкнул меня своим яростным дыханием, и всесожжение не состоялось.
* * *
И вот я вернулась в город еще на несколько дней. Когда дул ветер, я научилась расправлять крылья. Теперь ветер стих, и мои крылья тоже поникли, но я продолжала путь пешком. Если подключалось течение, я учтиво следовала за ним, когда оно меня покидало, опрокинув навзничь, я поднималась вновь. Стоило какому-нибудь цвету заявить о себе, я подобающим образом снимала перед ним шляпу своих эмоций, но потом надевала ее снова. Я делала то, что надлежит, не позволяя красному зайти дальше опушки и следуя стародавними тропинками зеленого. Но я им не верила. Зеленый тоже был недостаточен, он мог отступить перед красным. Два изначальных цвета пришли ко мне, они играли со мной, а не оберегали меня. Мое тело не удерживало красок.
Наконец зеленый исчез полностью. Осталось лишь болтливое журчание каналов по камням огромных строений, и этот шум стал для меня нестерпим. Казалось, город разбился вдребезги, словно бутылка, и я шла по его острым, со скрежетом трущимся друг о друга осколкам. Внезапно я осознала, что невозможно провести ночь, хотя бы всего одну, в этой невразумительной местности. Как я смогу заснуть на обломках огромной развалившейся вазы города, где моему телу примоститься среди этих режущих граней, которые в клочья раздерут мой сон? Я отыскала свой спальный мешок и направилась в парк.
На его дорожках еще мелькали последние велосипедисты. Под деревьями уже копилась мгла. Я пересекла этот почти лесной участок в надежде, что, может быть, выйду из него уже не здесь, окажусь в каком-то ином пространстве. Но меня вынесло на центральный газон. Заходящее солнце здесь било в упор, как прожектор. Я развернула свой спальник и улеглась. Тень осталась вдали, у кромки деревьев. Потом солнце скрылось, и она подползла ближе. А там, совсем далеко, на фоне неба четко прорисовались, ощетинившись сверканием стекол, крепостные укрепления города. Оттуда не долетало ни звука. Я уснула прямо на голой земле.
* * *
Утром я проснулась очень рано. Выбралась из спального мешка. Мое тело не улавливало красок, но я услышала собственный голос, проговоривший отрешенно: «Да, но я по-прежнему здесь». Я снова потянулась. Все вокруг казалось мне беспредельно удивительным. Солнце всходило из моря. Легкая желтизна, похожая на пыльцу, окрасила мои пальцы. Я стала смеяться, я говорила себе: «Вот он, еще один, новый!» И так он был нежен, этот цвет, такое излучал ласковое тепло, что взгляд растворялся в нем. Верхушки деревьев купались в желтом сиянии. Мне вспомнилась молочно-белая кожа лесного смотрителя и его жены с этими золотистыми пятнышками, которыми она была усыпана. Решив, что работать не пойду, я снова разложила спальный мешок. Когда в парк стали забредать первые гуляющие, я перебралась под деревья. Я нежилась, купаясь в солнечных бликах, каждый из них был теплым озерцом, и тело в нем блаженно раскрывалось, будто кувшинка. Я сказала себе: «Пусть меня объявят универсальным художником!» — потом, перебравшись в другое золотистое озерцо, добавила: «А мир пусть копошится в своей пестрой ветоши!» Я могла немного побыть в неподвижности под защитой этого заколдованного круга желтизны, мир никуда не денется, не исчезнет. В свое время я наверняка найду его снова. И он больше не отвернется от меня, с треском захлопнув веер своих красок только потому, что я покинула его ненадолго. Я сказала себе: «В конце концов, я тоже часть мира». И уснула в желтом уютном кружке.
* * *
Когда настал вечер, желтый покинул меня. Я этому не удивилась. И знала, что последовать за ним не смогу. Чтобы удержать его при себе навсегда, требовалась особая грация, а у меня ее не было. Мои пальцы были слишком грубы, мои нервы — слишком напряжены. Его золотистой пыльце нужны были тело лотоса и терпеливые персты мудреца. Чтобы венчики его оттенков могли раскрыться вполне, города должны уподобиться озерам, а взгляды стать медленными, словно скользящая по глади ладья. Затаив сожаление в глубине сердца, я отпустила его, и он удалился в своем неторопливом странствии, цвет тела, распускающего свои лепестки, а я смотрела, как тает в небе его сияющий след, пока не увидела, как наконец он застыл, бесконечно далекий, будто созвездие в глубинах памяти.
Мне оставалось от него теперь уже только удовлетворение. Отрада сознавать, что это был изначальный цвет, что он существовал и, может быть, существует поныне.
* * *
И тут я подвела итог: изначальных красок четыре — зеленый, красный, желтый уже были, стало быть, остался только синий. Все краски облетели с меня, я теперь так оторвана от всего. Что до этого последнего, я не стану ждать, когда он придет ко мне, на сей раз я сама буду его искать, я затравлю его, как зверя, мне страсть как не терпится с этим покончить. Синий, где ты, ты меня слышишь? Я подняла глаза к небу. Синий, разумеется, был там. Тогда я решила добраться до одной из башен города, самой высокой, той, что как раз только что перестала расти, той, чья вершина в облачные дни скрывалась за тучами.
Когда я подоспела к ее подножию, конторы уже закрылись, в застекленном холле расхаживали в противоположных направлениях два охранника. Я долго наблюдала за ними. Наконец один из них остановился у настенного телефона, нагнулся. Тут я выждала, чтобы другой завернул за угол эскалатора, и проскользнула к лифтам.
Долгий, долгий подъем по центральной шахте, замкнутой со всех сторон. На последнем этаже, как и на других, ни единого окна, а все двери заперты. Я дергала и толкала их одну за другой, но непроницаемые стены не давали пробиться к небу. Внезапно я вспомнила, что у меня есть оружие — мой талисман, который я всегда заботливо хранила и умудрилась не потерять. Это была отмычка, подарок сумасшедшего проповедника из парка, — ею открывались туалеты больших административных зданий. Итак, я толкнула дверь, потом села на плиточный пол перед громадным окном.
Синий, где ты? Ты меня слышишь? Я не знала, смеяться или плакать. Моя жизнь разыгрывалась в орла и решку, но кем — ликом Бога или монстра — обернется орел? Столкнусь ли я нос к носу со страшным, несусветным зверем, который поднимется сюда из заоконной бездны, или эта дрожь, тихонько нарастающая во мне, — знак, что ангел во плоти расправляет крылья? Город, раскинувшийся внизу, был почти невидим. Он словно бы ушел в землю. А вверху, надо мной и впереди, простиралась бескрайняя синь. У меня больше не было надежды. Я протянула руки, проклиная окна, которые не открывались. И тут я достала мой второй талисман, алмазный резец, оставшийся у меня от работы в одной компании. Я принялась вырезать стекло. Работала неторопливо, тщательно. Потом отделила его и прислонила к стене. Теперь небо доходило до самой земли. Я опустилась на колени.
Синева над самой башней была лучезарна, ни единая тень не нарушала ее кристальной прозрачности. Как я могла столь долго заблуждаться? Это она — изначальный цвет, первый и главный, все прочие грубы, перегруженны, лишь она одна истинна, та, что сливается с бесцветностью, та, чья тишина погружает сознание в бесконечный покой.
Отпущенная, как воздушный шар, моя душа поплыла вдаль. Я была одна среди бледных пространств, от всего отрешенная, витала в сферах, тихо уносясь вверх, проходя сквозь голубоватые прозрачные воздушные массы, исчезая.
Внезапно я вернулась на подоконник… Сердце дико колотилось. Потому что я ведь так и не встретила синего, там были одни лишь прозрачности, они нескончаемо наплывали и уничтожались, сменяясь новыми прозрачностями, это же не более чем одна громадная пористость. И теперь к земле рвался мой взгляд, снова к ней, к земле! Сколько бы город ни прятался сейчас, как бедный съежившийся зверь, со своей высоты я вдруг так хорошо увидела его целиком, весь. Там, внизу, танцевала жизнь во всех своих безумных и трогательных обличьях, и все краски, сбежавшись, водили хоровод вокруг нее, наряжая ее, как сестру, и она меняла свои уборы, каждый из которых не был ни более, ни менее прекрасным, чем другие, но он был собой, единственным, и чего иного я могла ожидать? О, как же я любила этот восторг ее красок! Я видела их все, все цвета, которые презрела, — и розовый хрусталь первых взглядов, и оранжевый, страстный, как руки, протянутые для объятия, и унылый каштановый, и фиолетовый, полный тревоги, словно открытая рана, и робкие переливы сиреневого, и стремительно галопирующий зеленый, и красный в его ярости, и желтый, такой нежный. Они, все краски жизни, все ее полотно, как они были мне любы! Как небесная пустота сумела заставить меня воздать им должное! И какую же ошибку я чуть не совершила!
Небесная синь была чистым ничто. Синий цвет мог существовать лишь внизу, в городе, чтобы, как холст художника, служить другим краскам, своим сестрам, рождаться от них и в свой черед производить их на свет. И служить, служить!
Я вытащила свой последний талисман — авторучку, что сохранилась у меня от работы в литературном агентстве, достала сменный баллончик, нажала на него пальцем, вставляя в ручку, и большими буквами написала на вырезанном куске стекла: «Осторожно — пустота!» Потом пристроила его на прежнее место, как могла, прикрыв дыру. Авторучку я спрятала обратно в карман. Руки у меня были испачканы. Я вздрогнула от счастья — эти пятна были первыми следами моей любви. Пусть они останутся со мной подольше, эти отметины, пусть никогда меня не покидают!
С тем я и ушла, сжимая в кармане свое стило.
* * *
Позже, завершив наконец писание этой истории — после точно таких же головокружительных заходов, крутых виражей и перемен, как те, что здесь описаны, — я рискнула дать художнику прочесть ее. Несколько дней спустя я встретилась с ним в городе. Мы позавтракали вместе. Впервые после столь долгих треволнений я была спокойна. У него был весьма мрачный вид, и я с любопытством наблюдала за ним. Его голубая джинсовая рубашка липла к телу, он обильно потел. Шея в вырезе рубахи поражала своими мощными пропорциями. Внезапно, как тогда с моей бедной подружкой из Бронкса, сердце дрогнуло в озарении, и я сказала себе: «Но это же мужчина, да, он тоже мужчина!» Я думала о его картинах, говоря себе, что он наверняка страдал. А что теперь, как он вышел из этого, обрел ли новый путь в своей живописи? Но я ничего не сказала. Подошел официант, мы сделали заказ.
Он, кажется, путешествовал, уезжал надолго, потом возвратился, и мы встретились. Меня охватило смятение, голова слегка закружилась, потом чувство реальности вернулось, и оно было всеобъемлющим. Все показалось мне плоским, ограниченным и оттого еще более осязаемым.
Я хранила молчание.
Он спросил, как поживают мои дети, что нового у мужа, не вернулись ли мы в нашу прежнюю квартиру. Я на все это ответила.
Наконец он достал пачку моих голубоватых страничек и положил на стол. Потом прихлопнул сверху ладонью. Я знала, что слова для него ничего не значат, но все-таки ждала, что он заговорит. Мне даже не хотелось ничего больше — только этого. И потому, подождав, я спросила:
— Итак, эта история?..
— Недурно, недурно, однако…
— Однако что?
— Под конец вы как будто совсем забыли о картине. Я полагал, что это история моей картины, вы сами так сказали, разве нет?
— Я мало говорю о вашей картине?..
У меня аж горло перехватило, я не сразу смогла продолжить.
Потом, переведя наконец дыхание, пояснила очень мягко:
— Но, видите ли, это моя картина. Та, которую создала я сама. Картина моей истории.
* * *
После этого толковать стало не о чем. Все было сказано. Мы поболтали еще немного — очень спокойно — и отправились каждый своей дорогой.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




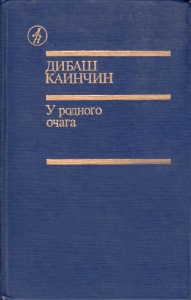
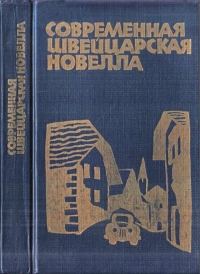




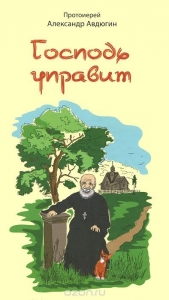

Комментарии к книге «История картины», Пьеретт Флетьо
Всего 0 комментариев