Валюше, дорогой сестренке
Бедность сих строк от жажды что-то спрятать, сберечь, обернуться…
И.БродскийФайл 1: сон
Я видел сны.
Мне снились: под паром поезд и машины. Подъемные краны. Высокие дома, зеленые деревья, а в небе облака… Как вата облака.
По горизонту горы. Антенны для дальней связи с космосом — и вдруг…
Из-за горизонта — мрак. Все копится, слоится. И уже не мрак — огромные драконы! Мне страшно. Меч в руке. Нет. Длинное копье. Мне тяжело. Драконы наплывают. Копье пронзает одного. И мрак стекает…
Алеет небо. На фоне неба трепещут флаги. Для людей играют горны — звонко-золотисто — и слышится: ура!
Вздымалось Солнце. И сотни тысяч струн, сжигающих и ярких, побили, посекли все сумраки и тени…
И я, солнцепоклонник маленький, как в древности жрецы, пел гимны Солнцу:
— Будь благословен Огне-боже наш от века до веков!
И с песней возносился — щекотка в животе — в ликующее небо — навстречу солнечному ветру! Дрожали солнечные струны и звенели хрустально-стеклянисто, распадаясь на мамин голос и слова: «Сына, вставай! Сына, пора!»
И я проснулся.
— Ну вот! — у мамы улыбались глаза. — Оденешь шорты и футболку. А это все стирать!
Мама уходит. В окно влетает ветер. Шевелит занавеси и привносит запах политых асфальтов и разогретых листьев. Гомонятся воробьи и гукают горлинки. А ведь я еду к папе на работу! Я живо вскакиваю. Вспомнив приснившееся, лечу на балкон.
Солнце, прорвавшись сквозь виноградные лозы, ложится на стены и пол, рисуя беспокойные тени. Но не было громады в полнеба и где же музыка небес? Все буднично, все было… Немного взгрустнув, плетусь обратно.
Но грусть моя недолга. Появляется папа, объявляет: опоздавшим двойную порцию каши! Я протестую и карабкаюсь на него. Он после ванны и пахнет гелем для бритья. Папаня непреклонен и тащит меня умываться. Мне остается лишь пищать, смеяться и звать на помощь маму.
Файл 2: потеря
Я стал давно грустнее и скромней. Сентябрь. Березы за окнами желтеют, роняют листья и, выбегая меж уроками во двор, мы уж чуяли запах увядания и близких перемен. Денечки становились прохладнее, а солнце блекло. Тревожно граяли, предвещая скорую разлуку, черные грачи, а на юг тянулись паучки на нитях-паутинках…
С усмешкой вспоминаю восторженного чудака, прибывшего в недалеком августе в этот город. Время, когда я, восхищаясь высотками, взлетел на лифте на двенадцатый этаж и с замершим сердцем, перевешиваясь через перила, следил с обморочной высоты за сплюснутыми людьми-мурашами и коробушками машин, закончилось. Теперь уж город не казался мне загадочно-большим, а просто довольно грязным, с невзрачным центром, а его рынок походил на заурядную толкучку кирзаводских бараков…
Все кончилось в один момент.
Вечерами во дворе становилось шумно. Я вышел погулять — присмотреться к пацанам и с тайною надеждой завести знакомства. Ко мне вскоре подошли двое. Ровесники, нормальные на вид. Как зовут, откуда и все такое прочее. Пойдем присядем… И я пошел. А когда сел, меня столкнули. С лавки, на спину назад. Я лежал и все смешалось в голове: зачем же так? Что я им сделал? Обида и горечь… А они стояли рядом и щерились в улыбках.
Я встал и сказал:
— Вот дураки! — и ушел.
Дома пришло ощущение: что-то я потерял. Несмотря на знакомые вещи, покойно меня окружавшие: диваны, шкафы, телефон, телевизор и стенку, — мне было тревожно. Потеряно было привычное и очень важное.
Я бесцельно бродил и туда, и сюда; брал знакомые предметы; выдвигал ящики стола; перекладывал книжки; рассыпал игрушки; перетряхнул одежду: все мне казалось — сейчас! Все мне казалось — вот-вот! Но было не то… Мама спросила: что я ищу? А что я мог ответить — лишь пожал плечами: и сам не знал.
И только когда я начал засыпать и увидел Солнце — то, мое, из детства, в полнеба, — узнал свою потерю. Ошеломленный, сел ночью на постели. Все прихлынуло ко мне — лишь глухо застонал: потеря была невозвратной. Потерял-то свой Город, свое Солнце, свою прежнюю жизнь. Молча смотрел в темноту, а сердце терзалось… Я тосковал: я хотел туда, хотел обратно!..
Файл 3: кирзавод
Иногда я вспоминаю горы…
Их основания всегда бледнее, чем вершины, и молчаливо дрожат, исчезая в густых струеньях асфальта и крыш. Но чем выше вздымаются горы, тем яснее они на фоне неба, тем ярче белеют вечными снегами гребни их вершин и призрачнее становятся цвета и очертания ущелий и склонов.
Луна кажется фрагментом гор: оторвалась и застыла над ними — такая же голубо-бледно-белая, затерянная за далью и годами. Вместе они: горы и луна — не были одиноки, и молчание их было тайным разговором.
За горами жили иностранцы. Я не мог представить: как можно быть иностранцем? Это значит они не такие как мы: разговаривают не так, смеются не так, едят другую пищу, их дети играют по-другому. В общем, бедные-бедные иностранцы: как же можно жить иначе? Не так как мы? Это значит хуже нас…
А еще папа говорил: у них идет война.
Я стою на высокой стене, окружающей папину работу, и смотрю, как раскинулся город. Столица нашей республики. Папа переводит его название: Город Любви, а можно Город Влюбленных…
Город плоский, повторяет плавные изгибы холмов; с широкими проездами; проспектами; бульварами, по которым, пуская лобовыми стеклами зайчиков, тянутся вереницы машин. Иногда по этим широким улицам пролетают пылевые бури. Ветер с недалекой пустыни приносит тучищи песка, и он, затеняя дневной свет, обрушивается на здания и деревья, сечет стекла, стены, бегущих людей. В эти минуты мне страшно. И я совершаю некое магическое действо: у меня на полке, лицевой обложкой вверх, лежит детский журнал — вот его и переворачиваю. Теперь уже нижняя оказывается наверху. На ней — Маленький Принц со шпагой и в плаще; его я выпускаю на борьбу со стихией, и когда он победит (а так происходит всегда — бури утихают), то вновь уйдет на отдых, а на смену ему придут Незнайка и его друзья, которые созданы для солнца и безоблачных дней.
Сейчас тихо, и в зное полудня, в районе Гаудана, колышется тройка экспериментальных сейсмоустойчивых пятиэтажек, а на западе заходит на посадку самолет. Я люблю эти моменты: тяжелые серебристые птицы, отсвечивая прошитыми клепаными брюхами, с гулом, плавно снижаются или поднимаются над неохватным, расстеленным на холмах городом.
За моей спиной гудят печи. Печи длинные — в них яростный огонь. Газ с ревом выходит из сопла и калит в штабелях кирпич. Кирпич закладывают подъемные краны. Они стоят на рельсах возле печки. Моя мечта залезть на кран. Но отец не разрешает — остается лишь смотреть: на решетчатые фермы; на фанерную кабину (люк в полу); на тросы; барабаны, крутящиеся туда-сюда; на бетонные противовесы; на толстый жгут электропитания и вагонные колеса — они тихонько крутятся и кран ползет по рельсам… Скоро он будет выгружать краснозвонкий кирпич на «КамАЗ», стоящий рядом. Я еще читаю надпись по-русски на бетонном заду крана: «Не стой под стрелой!»
«КамАЗы» ездят часто. От них пыль столбом — песок висит стеной. У отца в кабинете против этой пыли пара штук респираторов. Я выпрашиваю один. В респираторе я похож на мутанта. В нем душно, а ожидал струю свежего воздуха (как он кондиционера), но дышится ничуть не легче — лишь запах поролона и замши с резиной. Я разбираю респиратор. Мне нравятся всякие тонкие пленочки и резные пластмассовые кружочки. Обратно еле собрал… Бросаю это занятие и начинаю исследовать торцевую стену администрации, у которой растут акации, сливы, шелковица и под ними стоит полумрак. Дядя Ильяс — папин водитель — ловит медведок. Он бьет по земле и азартно кричит: «Лавы! Лавы!» А я бесславно трушу… Медведки не похожи на знакомых мне жуков: с брюшком червяка, с крыльями поденки, хвостатые и с мою ладонь. А лапы — мини-экскаватор. Они юрко бегают и скрываются в траве. Я знаю: на них клюют сомики, дядя Ильяс объяснил — он заядлый рыболов.
Файл 4: объявление
Подходил к середине октябрь. Вместе с летом миновало мое южное детство, а на его место пришла неизвестность: душа наполнилась тревогой и смутной неурядицей. Эффект витрины исчез, я уже не был отделен от этой жизни налетом пришельца, незнакомца — гость стал жильцом. Пока неприкаянным.
Папа занят обустройством делового проекта. Он стал менеджером на АО «Керамик» и пробивал новую линию по выпуску глиняного ширпотреба: возил на Совет директоров свою коллекцию сервизов, распечатки бухгалтерии и все экономические расчеты и раскладки — предусмотрительно вывез все с собой. Мама все кивала на дискеты и шутливо замечала: экономический шпионаж карается по закону. «Всего лишь утечка мозгов», — отвечал папа.
Мама, после ремонта квартиры, также стала устраиваться: ездила по отделам кадров в больницах, где-то пообещали место на станции скорой помощи — это было большим понижением после зав. хирургическим отделением. Мама нервничала.
А мои дни тянулись без событий, без друзей и мелких нечаянных радостей. Была другая жизнь: яркая и динамичная, с хитросплетением судеб, интриг и кровавыми схватками — виртуальная, в компьютере. Сейчас, когда я просиживал за дисплеем, с загруженным «Героем» — игрой-стратегией, — мой действительный мир исказился, напоминал химеру, реальнее он был на экране: краски насыщеннее, действия героев понятнее, и был я там властелином. А здесь не так: тускло, неприглядно, чувства беднее и сам я — бесплотный, как тень. Исчезни здесь — ничто не изменится. А там-то с моим исчезновением исчезнут и города, и герои разъедутся, все заполнит всепоглощающая Тьма. Вот поэтому так и тянуло запускать вновь и вновь игру, так и тянуло слышать гудение процессора и маленьких турбинок, охлаждающих его; нажимать кнопки «мыши», а еще шире — вершить судьбы…
Родителей, конечно, беспокоило, что просиживаю день и ночь за дисплеем: отец просил — иди погуляй; мама сердилась — зрение портишь, организм облучаешь… Отлучили от игры: компромисс — два часа в день.
Следующий их шаг был неожиданным. Однажды в прихожке меня встретил Грей — трехмесячный щенок ризеншнауцера — на высоких мосластых лапах и с шевелящимся обрубком хвоста. Это было что-то! Я стал ходить с ним на прогулки, за покупками в магазин, ездить в клуб на дрессировку, посещать для прививок ветеринара — внешне стал вроде занят, но вот в душе, в душе-то было так же одиноко. Я гулял с Греем, и как мне хотелось к ребятам, которые гоняли мяч в хоккейной коробке, носились стайками на великах или просто бегали по игровой площадке меж качелей, домиков на курьих ножках, беседок, горок и деревянных истуканов! Мне пару раз махали одноклассники, но, видя меж них моих обидчиков, я не решался — может, и зря. А в школе пару раз предлагали сыграть на фишки в «камень, ножницы, бумагу…», но фишек у меня не было, а когда появились, уже не подходили. И уже не брали в «четыре угла», в «сто один», а сам навязываться не мог.
Может быть, со временем все бы и образовалось: ко мне бы привыкли, я бы стал смелее и решительнее, появились бы друзья, — но мне хотелось всего именно сейчас. Я любил компании и прежде у меня было много друзей; меня знали, меня уважали; я думал, что так будет и здесь, но нет… А одиночество — не мое. Отсутствие внутренней цели угнетало: никто за стенами не ждал, никому там я не был нужен — в общем, чужак… Я падал духом, но опять собирался. Предчувствие встречи с чем-то необычным и ярким сидели в самой глубинной сущности моей. Именно этот огонек поддерживал во мне надежду, что после этой встречи решатся многие вопросы, многие проблемы…
Я смотрел в окно класса на голые и мокрые верхушки берез, когда в дверь постучали. Заглянули двое мужчин. Они извинились, и математичка милостиво кивнула. Мы встали, ничуть не удивившись. За прошедшие дни нас посетили представители: цирка (фотографировал на переменах с обезьянкой — за деньги); зооцирка (ходил по классам с живым питоном, питон был теплый, покрытый рыбьей чешуей — трогали бесплатно); детской газеты «Горизонталь» (с собой не было ничего, представительницей была женщина в очках); луна-парка (раздавали пакеты с программой — цветные, глянцевые). И эти ничем не отличались от остальных, разве что держались более уверенно, были подтянуты, на обоих шикарные спортивные костюмы — не фуфло там какое, и классные кроссовки — навороченная шнуровка, прошитая замша и с высокими супинаторами.
Когда мы сели, они подошли к доске и сделали столь потрясающее объявление, что у меня аж сердце захолонуло, а по затылку пошел мороз!
И пока один говорил, другой на доске писал: где и когда сбор, что с собой надо (заявление, справка врача, согласие родителей и т. д.).
После этого объявления все вдруг встало на место. Я приобрел цель. Я во что бы то ни стало должен был попасть в эту секцию. Все самое сокровенное, все мои смутные и не очень желания, надежды и думы сгустились и выкристаллизовались в этом объявлении. Мужчины сказали: «Набираем группу фехтования!»
Файл 5: начало
К месту встречи ехал с более-менее знакомыми одноклассниками: Сашкой Четверговым, Андреем Савельевым, Сашкой Филиным, Сашкой Колчковым и другими — Коляном, Валериком (этих знал хуже).
Спорткомплекс находился в другом районе. Из окна троллейбуса выглядел он внушительно и современно: тонированные зеркальные стекла, блестящая крыша, широкие ступени, позади стадион неохватный взглядом…
Прибыли на полчаса раньше и тогда решили прошвырнуться по рынку, что притулился рядом. Мимо, по осенней слякоти, бежали люди, а мы не торопясь, с сумками, в которых обувь и трико, чавкали обувью вдоль прилавков. Встретили еще некоторых.
Убив время, поднялись к входным дверям. Раздевшись и сунув номерок в карман — робкие, несмелые, тихие, примерные, — пошли по царству спорта. Сразу же вошел в меня запах места: пахло пыльными паласами и старыми кожаными матами; влажными паркетными полами и резиной кед, пацаньим потом и застарелым дымом сигарет. А вокруг были цветы; стенды с фотографиями, турнирными сетками и таблицами; кубки, вымпелы и грамоты под стеклами и много дверей… Мы немного заблудились и нам показали на второй этаж.
Мы не увидели фехтующих, а услышали. На подходе к залу, из приоткрытых дверей, раздавались крики. Крики были протяжные и беспощадные и сливались с сухим и четким пощелкиванием клинков. Крики были как поток: то накатывали в мощном порыве, то распадались в отдельных отзвуках и звоне шпаг… И крики эти были напоены такой удалью и неистовством, что в груди моей забилось, задрожало нечто спрятанное там с глухих и темных времен, а рука крепче сомкнулась вокруг ручек сумки.
Вдоль стен с тренировочными зеркалами, на лавочках, с сумками у ног, сидела половина наших, а в зале прохаживалась куча народа в белых одеждах. Прохаживались они друг против друга как-то прикольно: с криком делали скачки друг на друга, выпады и еще что-то непонятное и интересное. Полы были расчерчены на дорожки с выделенным центром, как на футбольном поле.
Я смотрел во все глаза на клинки: были они не очень длинные и гибко гнулись, если утыкались кому в плечо, грудь или бедро. Где-то еще пищало, наверное, в ящике, что стоял на ученической парте у стены. От него тянулись провода к фехтующей паре…
— А-а! Пополнение прибыло! Ну-ну! — к нам подошел уже знакомый по школе мужчина. Был он как и тогда — деловит и быстр. — Ждать больше не будем. Пошли!
Спустились мы в спортзал — обыкновенный: с баскетбольными щитами и окнами, затянутыми сетками. Василий Валентинович (потом звать мы его будем В.В.) собрал справки, показал раздевалку и вынес мешок с мячами.
Вскоре к нему, в тренерскую, подошел его напарник. Я услышал разговор, когда перевязывал шнурок: дверь была открытой и они собрались выходить:
— Напрасная канитель… измучаешься, — говорил напарник, — и их неизвестностью. Измерим быстроту реакции, прыгучесть, бег. И все — отберем кого надо.
— Да нет, не главное это. Главное, чтобы умели бой понимать, противника чувствовать.
Дальше я не слышал. Я встал не сразу — на мгновение потемнело в глазах. У меня запылали уши и будто лицо окатило: каким наивным вновь я оказался! Мне было стыдно: за детскую мечту, за веру в чудо — ведь думал: сказка! А оказалось — жизнь… И вновь борьба: сила, нервы; вновь отбор: мечта — тому, кто победит! Ничто так даром не дается. Что же делать? Удержаться — во что бы то ни стало!
Нас построили по росту. Тренер сделал перекличку. В группе оказалось 24 человека.
Тренер прошелся туда-сюда. В нем чувствовалось внутреннее достоинство. Относился он к нам чуть высокомерно и вальяжно. Но мы не осуждали — свое положение он заслужил, был выше нас на несколько голов.
— Все чемпионами не будете. Может быть, многие уйдут. Фехтование как спорт — не вино и книжки: это труд — тяжелый и потный. Знаю, первые занятия вас разочаруют. О шпагах и рапирах на время забудьте. Займемся физической формой. Романтику оставьте за порогом. Но если пройдете все: пот, тяжелый труд, первые поражения — в конце вас будет ждать радость побед. И вы поймете: ради нее стоило отдать и время, и силы… А теперь налево: раз, два!
И началось! Мы бегали: с ускорением и без; на носках и пятках; на внешней и внутренней части стопы; боком и спиной вперед; ползали гусиным шагом; приседали и выпрыгивали вверх-вперед; прыгали в длину с места; прыгали с места в высоту; приседали «пистолетом» и с партнером на плечах у шведской стенки (как дрожали мои ноги! как соломкою ломались); отжимались классически; отжимались по очереди на каждой руке; отжимались с хлопком; на кулаках и пальцах…
И все время, когда кто-то отставал, когда я кого-то обгонял, а кто-то меня, билось в голове: будь начеку, не дай маху, будь сильным, не дай слабины! Наплывала усталость, измотанность, безразличие, пот на глаза — я отгонял все это, старался держать сознание ясным, дыхание ровным.
Не знаю, на сколько хватило бы меня, но в конце концов — медленный бег с переходом на шаг; руки вверх-вниз, вверх-вниз; восстановим дыхание… Встали. Сколько прошло: час, два?
— Хочу сказать, что показали вы себя неплохо, — тренер смотрел твердо, — молодцы! Потенциал в вас есть — горы свернем. Особо отмечу тебя, тебя…
Он подходил и хлопал по плечу Сашку Четвергова (самый высокий), Артема Лазовского, еще троих с параллелей — в общем, давно признанных спортсменов и заводил. А в конце оглядел шеренгу и, встретившись глазами со мной, кивнул:
— Ну и тебя! А теперь все присядьте и медленно дышите. Вспомните лето, пляж…
С лавок мы сползли, а футболки — отжимай!
Домой ехали той же компанией. Со временем стали очень дружны. Ну, во-первых, это Сашка Четвергов — высокий мускулистый пацан. За ним было спокойно: все ответственные дела брал на себя (нас и собрал в классе, обговорил, где встретиться, как ехать сюда), трудных делах шел впереди (добровольцем там отнести или перетащить чего на субботниках и т. д.) — знал себе цену и не позволял фамильярно помыкать. Филин ниже его, спокойней, но в случае сего мог вспыхнуть. Сашка Колчков был самым независимым и немного таинственным из моих одноклассников: гулял сам по себе, был деловитым, всегда улыбчивый, мог пошутить, побалагурить, мог и обидеть. Интересовался всем понемногу: теннис, баскетбол, волейбол, лыжи, велик, теперь вот шпага — в то же время курил, матерился (не удивлюсь, если и спиртное пробовал) и ни с кем особо не дружил. Самым добродушным и отзывчивым был Андрей Савельев. В любой беде мог посочувствовать и предложить помощь, никогда не задирался и старался гасить любой конфликт. С другой стороны, отличался от нас тем, что на любой вопрос мог ответить, всегда имел свое мнение, умел рассуждать и поэтому был не то чтоб странным, а интересным, что ли, иным… Пацаны водились с ним и всегда звали с собой. С Андреем я сдружился. Он узнал про наш компьютер, напросился и стал часто просиживать около экрана (скоро знал больше моего) — но это иной разговор.
Девчонок тренировал другой — тот, напарник В.В. Поэтому мы с ними не встречались. Просто знали, что из нашего класса ездят четверо девчонок. Одна из них Валя Артамонова — высокая, спортивная. Хорошистка, дает списывать отстающим, ходит еще в секцию баскетбола. Другая Любка Венедиктова — отличница, высокомерная, ябеда и любительница скандалов: то у нее ручку спрячут, то книжку закинут, то за хвост дернут — но красивая… Ну и подружки этих девчонок: Наташка и Ленка. Ничем особо не выделяющиеся — тихие на уроках и переменках; перебивающиеся с тройки на четверки; любительницы тетрадок с фотографиями кумиров и кумирш; обсуждающие сериалы; всегда имеющие точилки, стерки, простые карандаши, линейки и ручки с разноцветной пастой…
Файл 6: знакомство
У отца интересно было первые два дня. Он включал кондиционер, вентилятор, открывал окно. К нему заходили, говорили, спорили, давали бумажки на подпись… Секретарша (коренная жительница, в длинном, до пола, национальном платье, с акцентом и улыбкой) заносила и уносила папку, по интеркому просила взять трубку. Папаня брал, отвечал, сердился, кричал или, наоборот, улыбался, узнавал о здоровье. Иногда звонил он сам, загружал мне игру в освободившийся компьютер, вскакивал в машину с дядей Ильясом, мчался куда-то… Приезжал, отдувался, отирал лоб и шею, просил Гюльджамал (секретаршу) принести газировочки, интересовался как у меня дела, хвалил (я освобождал место), выпив стакан газировки, вновь брался за накладные, наряды, процентовки и сметы, а я, отпросившись, шел на прогулку.
Вот и сегодня где-то на линии требовалось присутствие отца, и как я ни просил, он меня с собой не взял, и я отправился гулять.
Перед фасадом жарились на солнце цветы. Здесь было скучно. Стоила внимания лишь поливалка. Она вращалась и веером выстреливала воду. Я поиграл с ней, замочил ноги и ушел в тень. Посидел, наблюдая жизнь хлопотливых муравьев. Слонялся по солнцепеку. Плевал в камешки на асфальте. Ходили люди. Меня знали: «С папкой приехал?», — а я их нет. В тени лежала собака. Тяжело дышала, высунув язык. Играть со мной не захотела. Отошла подальше.
Шел третий день моего пребывания здесь. Все было изучено, дядя Ильяс повез отца — и не с кем было поговорить о том о сем. И я отправился за угол, в гущу зарослей — идти вдоль стены, представляя себе дебри, джунгли, ожидая увидеть нечто интересное.
Прошел довольно — как вдруг наткнулся на невзрачное здание: кирпичное и обсаженное акациями; часто входили и выходили рабочие и шоферы. Вход был закрыт сеткой от мух и что внутри — не видно. Приготовился думать…
— Эй, ты! — раздалось сверху вдруг. — Я тебя знаю.
Я поднял голову и увидел в кроне шелковицы незнакомого мальчишку. Примерно моего возраста и, видимо, из местных: черноглазый, наголо бритый, в потертых шортах, на шее, на шнурке, качался ключ. В том, как он окликнул меня, как сидел: развалясь, с ленцой покачиваясь на ветке, — чувствовался хозяин территории. Как вести себя в подобных ситуациях, я не знал и, немного подумав, спросил:
— Откуда?
— Мой папка твоего возит.
— А-а! — обрадовался я: уж кто-кто, а дядя Ильяс свой человек. — Знаю, знаю — он еще рыбу ловит!
— Ага, вчера трех сомов поймал — вот таких! — Мальчишка показал. — Тебя как звать?
— Кирилл.
— А я Джалал, — он нагнулся и заболтал ободранными смуглыми ногами. — Айда сюда!
Я посмотрел на свои новые белые шорты и тенниску и уже представлял, как огорчится мама, если они потеряют свою белизну. Это одно. Другое. Признаться, у меня не было опыта лазанья по деревьям, и это было гораздо огорчительнее первого. Я еще раз взглянул на дерево и, вздохнув, пошел на казнь…
Я мужественно елозил ногами по гладкому стволу и что было сил тянулся руками — результат выходил ничтожный. Джалал помогал советами, а потом подал руку. Дальше было легче. И когда я сидел на одном суку с ним, в тенистой кроне, испытал некоторую гордость — тоже сумел!
Тут мне и объяснили, что здание внизу — «газировочная». Там работает мама Джалала. Сам он — младший в семье, кроме него есть еще трое старших братьев и две сестры. И он уже дважды дядя — в общем, ужас как интересно!
Джалал пожелал угостить газировкой, и мы слезли. Мама моего нового знакомого оказалась пожилой полной женщиной, и пока она разговаривала с сыном по-своему: отрывисто и резко, я оглядел помещение. Тут было прохладно и сыро: кафельный пол; стояли баллоны с газом; гудели охладители воды; покачивались липучки для мух, облепленные насевшими паразитами. Вполголоса переговаривались мужики, пившие пиво.
После Джалал позвал к себе домой, а я вспомнил про отца. Надо было его предупредить. Так мы и сделали.
Папаня сидел за своим столом со статуэткой ахалтекинца справа, флажком республики слева и портретом Мульк-баши над всем этим. «С кем это ты познакомился? — спросил папка. Не успел на улицу выйти…» Тут я впервые осознал, что искренняя дружба не требует долгого времени, время для нее убыстряется — было ощущение, что с Джалалом знакомы давно: месяц ли два — а для отца всего полчаса…
Файл 7: будни
Я пришел домой и грохнулся на кровать. А наутро Грея вывести не смог. Как болело мое тело! Ох, как болело мое тело! Я стал как тряпка: вялый и расслабленный. Ну, ладно «тряпка» — ныла каждая жилочка, каждая клеточка. Я был болезненной тряпкой — вялым растением. Те места, которые касались постели, молили, взывали: не троньте нас — мы так болеем… Я был скручен, растянут и отпущен. И не все встало на место. Те места, которые продолжали быть скрученными (скрюченными, скорченными), давали знать: болела — кругом — поясница; ломили плечи — казалось, их выкрутили и вбили на место; а икры и голени задрожали и налились усталостью лишь встал… Да, я был разбит, был выжат, измочален… Повалился обратно.
Поминутно пристанывал. Ворочался, поудобнее пристраивал тело и не находил покоя. Прихватывал зубами подушку. Ох, как было тяжко! Ох, как утомился! Хотел даже в школу не идти.
Мамуля прознала и прогнала под горячий душ. А потом сделала массаж. Стало легче. Она было порывалась встретиться с В.В., чтобы указать на недопустимость таких нагрузок на физически неокрепшие организмы. Еле отговорил.
А нагрузки только увеличивались. После разминок проводили различные старты, делали растяжки: полушпагат, «бабочку» — в конце играли в волейбол или баскетбол. За окном темнело, а тут, под светом мягко разгоравшихся ДРЛок, было ярко, азартно и весело. Мы стали более опытными и приносили с собой по две-три смены футболок. На те литры пота, которые сливались с нас, одной одежки не хватало.
После каждых занятий по три-пять часов дежурные вооружались тряпками, ведрами и швабрами. Швабры были широкие и захватывали по метру и более. Вот мы, отжав и накинув на эти поперечины мешковину, бегали с ними по залу вперед и назад. Спорткомплекс стал теперь для нас что дом родной. Сейчас он не казался таинственным и бездонно-огромным. Были здесь бассейн; пара борцовских залов, сплошь устеленных матами; наряду с баскетбольными площадками и наш фехтовальный зал. А еще больше кабинетов и несколько душевых, закрытых на замок.
Все чаще мы проникали туда, где тренировались старшие. Некоторые уже вышли из школы, учились в ПТУ и техникумах, но до сих пор не бросали любимое дело. Обращал на себя внимание один. По особому выражению лица, по движениям чувствовалось, что он знает себе цену. Двигался парень легко, безошибочно быстро. Дрался бурно, темпераментно, с резкими возгласами, шпагу с рукояткой «пистолетом» держал в левой руке. Мы показывали его друг другу и говорили шепотом: кандидат в мастера… И казалось: пока научусь так драться — сто лет пройдет.
Уже стали разбираться кое в чем: шпагой поражается весь противник, а рапирой только грудь — для рапиры и предназначены те два белых фонаря на аппарате — «негативный укол» — горят, если не в грудь. Были еще саблисты, но они тренировались по другим дням, и мы лишь знали, что у них засчитываются удары, а не уколы. Заметили еще, что шпага трехгранная, а рапира четырехгранная и с большой резной гардой. С каким нетерпением ждали того момента, когда позволят нам взять клинки — вот уж казалось: против нас никто не устоит!
Но дни текли, но дни сменялись — без намека на приобщение к оружию, нагруженные до предела. Если днем и вечером занимаемся на секции, то по утрам — дома. Бегаю — укрепляю ноги. Грей рядом. Сначала на школьном стадиончике. Потом осмеливаюсь и делаю круги вдоль кварталов. Прибегаю заляпанным до спины — на улице грязь и холод. Хорошо, что болонья легко отмывается, а то от мамы мне бы влетало. Но ноги тренировать необходимо — В.В. сказал, что у нас они должны быть мощнее культуристских. Кстати, об этом. Дверь спальни моей увешана страницами из журнала «Красота и сила». На них курс атлетической гимнастики для подростков и юношей. Стараюсь следовать указаниям. Кроме ног особо надо укреплять плечи: вытягиваешь руку с гантелью вперед и держишь — хороший показатель, если не опустишь в течение пятнадцати минут. Пока не купили гантели, пользовался утюгом.
Файл 8: шпага
Самый знаменательный день произошел через два месяца интенсивных тренировок — нам выдали форму и оружие! Каждый получил «бандуру» — чехол, похожий на гитарный, а внутри фехтовальный набор. Форма была старенькой и далеко не белого цвета: потрепанная, на кнопках (а у старших — молнии) и пахла лежалой, влажной тканью Костюм представлял из себя тонкую фуфайку: хэбэ, внутри вата. Отдельно шел набочник: на двух резинках, надевается на руку и плечо: защищает ватой половину тела — у меня правую, так как был правша. Да у нас, в принципе, все были правши. Штаны короткие — чуть ниже колен, а дальше гетры. К костюму прилагалась перчатка с раструбом. Ну и маска: погнутая и оцарапанная мелкоячеистая сетка, усиленная стальными прутками по лбу и подбородку и как основа одна вдоль посередке… Особое веселье вызвала пластмассовая раковина (или «бандажи», как их называли) — пацаны понадевали их и стали прикалываться: попытка на удар, танец живота, предположения на женский счет (а как у них? тоже так защищено?) — в общем, и смех, и грех. Кстати, бандажей у девчонок не оказалось, но были пластмассовые нагрудники… Но самое крутое — это когда раздали клинки. Как я хотел шпагу! Как стиснуло грудь, когда получил ее! Шпага была трехгранная; длиной семьдесят пять сантиметров (дома измерил); на кончике специальная насадка — как кнопка (называется «пландаре»); по одной грани канавка — не для крови, конечно, для проводов; на краю рукоятки гайка — для смены клинка, если сломается.
Я чувствовал тяжесть в руке и счастье в душе. Я был с оружием: попробуй — тронь меня! Вырос на голову, в общем… Пацаны, видно, переживали то же самое, уже скрещивали свои шпаги. В.В. жестко пресек баловство. Он выстроил нас и критически осмотрел. Форма была на один размер, и те, кто был крупнее, выше среднего, смотрелись не лучшим образом: ноги и руки торчали, как у буратин. Успокоил их обещанием подобрать на складе соответствующий размер. Сам В.В. был в костюме, перчатке и держал под мышкой шпагу:
— На первый — второй рассчитайтесь! Вторые номера четыре шага вперед. Так. Начнем. Со стойки в бою, — В.В. прошелся вдоль рядов. — Представьте, что сидите глубоко в кресле, чуть нагнувшись вперед…
В.В. несколько раз присел: показал и боком, и со спины.
— Та рука, которой держите шпагу, вытянута вперед. А вторую поднимите так — будто собираетесь почесать за ухом. Вот так…
И он, сгруппировавшись, продемонстрировал нам стойку.
Признаться, дома, в тайне от всех, я копировал те позы и выпады, которые видел наверху у старших. И для меня эта стойка не представляла первоначальных неудобств, которые вызвали смешки у некоторых наших. В.В. ходил между нами и поправлял ноги-ноги, шире колени; а ты локоть, локоть держи, почему висит… Тут он вышел и объяснил, это в некоторых зарубежных школах вторую руку держат на поясе — вот так! — но у нас считается целесообразнее держать ее наверху, так как при выпаде мы кидаем ее вниз и это сообщает нам дополнительный импульс — вот так!.. Тут он кинул руку одновременно с прыжком на правую ногу и пронзил в глубоком выпаде невидимого соперника — так стремительно и красиво, с этакой энергией и напором, что у меня вырвался вздох восхищения и екнуло сердце — будь там настоящий противник, ему бы туго пришлось!
Когда уходили, каждый получил задание — ушить раструб на своей перчатке (чтобы плотно облегала руку) и выучиться правильно делать стойку.
Ехали гордые, у всех «бандуры» за плечом. А рядом несчастные, у которых шпаг не было. И какие свершения ожидали нас! Мы болтали, смеялись, привлекали внимание. Да простят нас те пассажиры! Мы пожинали плоды своих трудов, тяжких трудов, и были чуть пьяны, но пьяны светлой радостью, чистой и бескорыстной, поэтому-то и делились ею — неоглядно и не жалко…
Файл 9: бараки
В скверике, возле бараков, где обитал Джамал Муратов, напротив одной из многочисленных контор «кирпички», стоит памятник Ленину: прямоугольный постамент, на котором большая голова. Голову любили голуби. Любовь их, однако, была делом грязным. Поэтому перед праздниками (а их у нас множество, ну не напрягая памяти: День национального ковра, День национального скакуна, День нашего флага, День независимости, День рождения нашего общего любимого и непревзойденного Мульк-баши — отца нации, главы народа, День конституции и т. д.) голову очищали и на несколько суток окутывали красной тряпкой. Зрелище ужасное, и не только для птиц: на плечах залитая кровью голова…
Голову Ленина должны были скоро, как сказал Джалал, убрать, а на ее место поставят другую — голову эдже (мамы) нашего общелюбимого и непревзойденного Мульк-баши. Портреты, памятники и бюсты его матери уже стали появляться в общественных местах: бабушка в белой шали, с добрым морщинистым лицом. А вот каки (отца) у него не было. Рос наш президент без отца в детском доме.
Памятник любили не только голуби: на бетонном подножии девчонки рисовали классики, прыгали через скакалки и резинки. Пацаны бегали вокруг, прятались в близрастущих живых изгородях и, продираясь сквозь них, бежали застучать себя о постамент… Но самым шиком было забраться на макушку. Это делали почти все, когда там было чисто.
Рядом со сквером располагались кирзаводские бараки. А если залезть на плечо памятника, то увидишь и широкую, сложенную их кирпичей, стену завода.
Вот сюда и привел меня Джалал. Мы постояли немного, и вскоре вокруг нас собралась группа чумазой и голопузой ребятни: в старых бейсболках со сломанными козырьками на стриженных под ноль головах, на некоторых были засаленные, захватанные тюбетейки; босиком, в одних трусах. Грязь настолько въелась в их щеки, локти, колени, животы, что те жалкие крохи воды, которые доставались коже, лишь беспомощно растекались по поверхности, оставляя чуть светлые разводы, их тела можно было читать как карту: вот моря, океаны, острова, береговая линия материка…
Ровесники и пацаны постарше одеты были в обрезанные по колено трико и в расхлыстанных, на последнем издыхании, прошитых нитками, проткнутых и скрученных проволокой, сланцах. Это была бедность. Ничем не прикрытая и не стыдящаяся себя. Стыд чувствовал я. Меня разглядывали как белую ворону — а я и был белый: в белых шортах и тенниске, в белых носках и белых кроссовках, в шикарной белой бейсболке с длинным козырьком — главный инженер мог не краснеть за своего сына.
Я уже жалел, что пришел сюда — немного побаивался: вдруг будут задаваться?! А мальчишки вели себя свободно: глаза их блестели, они сплевывали себе под ноги и как грачи-каркуны галдели хрипловатыми гортанными голосами. Пацаны постарше так страшно коверкали русский, что я плохо их понимал, а малышня по-русски знала лишь мат.
Все обступили нас и что-то лопотали с Джалалом — «Харбы-борчулыгы, айны-оуни»…
— Яшаян ери? — обратились ко мне. Национальный язык изучался с 4-го класса, кое-что в голове моей отложилось — что-то вроде: где живешь?
— На Гажа, — это был сравнительно новый район с белоснежными трехэтажками, с широкими зелеными улицами — не то что их Хитровка.
— Ады?
— Имя? Кирилл.
— Миллети рус?
— Да, русский.
Вскоре понятные слова исчерпались. Перешли на русский.
— Курыт ест?
— Дай шапку, а? — к моей голове тянулись грязноватые, будто прокопченные, пальцы.
Я машинально дернул головой.
— Ара, жалко, да? Отдам.
— Чеё трогаешь? Куда трогаешь, а? — это Джалал, он все оберегал меня.
— Посмотрю, да… Ара, класс! — это про часы.
Старшие вели себя сдержаннее — лишь спросили про курево и «быр манат» — денег у меня не было.
Когда я был показан, Джалал засобирался домой. Пацаны звали нас играть. Джалал не торопился: подумал и наконец согласился — сейчас придем.
На пути в барак пару раз попадались знакомые моего нового друга: «Салям, Джалал!» — «Салям, Овес. Салям, Байрам», — жали руки…
— Всех знаешь, — уважительно говорил я.
— Ай, — махал рукой Джалал, — все с нашей школы. Все с бараков.
Файл 10: тренировка
Мама занялась формой — отнесла костюм и набочник в химчистку, а гетры и штаны выстирала. Перчатку я ушивал сам. Для шпаги сделали с отцом стояк.
В секции «драться» нам, новичкам, еще не разрешали. Мы с завистью смотрели на признанных фехтовальщиков и, с тоской прислушиваясь к звону их клинков, послушно и терпеливо паслись у мишеней. Лишь с чучелом нам позволяли сражаться: мишень и чучело — таков был наш удел. Мишень была и дома. Из резинового коврика вырезал круг, клеем и штапиками приделал его к фанере и полученное изделие повесил на дверь кладовки. Остатками сурика нарисовал круги. Получилось ничего. Теперь из прихожки прыгал и выпадал на своего противника. Тупые звуки и мои выкрики выводили из равновесия маму. «Это не фехтовальная дорожка, — расстраивалась она, — это дорожка в сумасшедший дом!» И с неодобрением смотрела на меня, когда прежде чем воткнуть вилку в кусочек мяса, проделывал ею в воздухе различные фехтовальные этюды. Папа заговорщически мне подмигивал и говорил, что ребенку надо расти. Грей радостно подлаивал на мои воинственные крики, наступления и отступления. Особо расшалиться ему не удавалось — запирал его в спальню.
Пришел и тот день, когда нам позволили сражаться в паре. Мы уже знали и приветствие, и все шестнадцать позиций, могли делать крадущие проходки, разведочные прыжки и выпады туда-сюда.
Нас расставили в пары с более опытными спортсменами (или «старшими»). Вот они и помогали нам вначале. Это называлось работа в контрах. Тренер давал задание: работай на бедро, работай на кисть и т. д., — а сам занимался со всякими разрядниками и кандидатами. Чтобы проследить, как идут дела, В.В. через занятие устраивал «конвейер»: мы делали внешний и внутренний круги и смещались по ним — каждый мог поработать с каждым, а главное — с В.В. Техника с ним осваивалась легко: он помогал сохранять и нужную дистанцию для выполнения приема, вовремя подавал и убирал клинок, своевременно открывал нужный сектор для нанесения укола и т. д. В общем, с ним было легко и фехтовалось играючи, я прямо чувствовал, как расту. Лишь однажды стало тревожно. Помнится, В.В. попросил сделать атаку-флешь. Ну, это просто: начинаешь с выпада ногой, стоящей впереди (у меня правая), резко притопнув и набрав разгон, переходишь в бег. В зеркале выглядит так, будто хочешь прыгнуть через лужу с камнем посередке, от которого и отталкиваешься. Похвалил. Показал атаку с финтами.
— Это так… Красиво, конечно, но в бою вряд ли пригодится. Противник всегда начеку. Но… — выдержал паузу В.В. (он снял маску и утер лицо), — даже если за все схватки этот прием понадобится лишь однажды, ты должен быть готовым выполнить его. Понял? — Я кивнул. — Тогда к бою!
И мы проработали ложный выпад, за которым следовала небольшая пауза, рассчитанная на то, чтобы противник успокоился и отвлекся, а затем — атака.
— Освоил? — спросил В.В. С меня тек седьмой пот: майку и набочник выжимай…
— Освоил, Василий Валентинович…
— Ну-ка, пофехтуем! — он вновь надел маску и занял позицию.
Я отбивался. Мы передвигались секунд тридцать. А потом он остановился. Я увидел его нахмуренное лицо и жесткие глаза:
— Ну и что?! Почему не применяешь атаку? Учили-учили, как надо, а ты?! В чем дело?
Я растерялся. Подкатили слезы — слишком строг и непреклонен был В.В. Меньше всего хотел разочаровать его. Проговорил дрожащим голосом (а в глазах предательская влага):
— Я думал… Я — потом… хотел потом. Когда вы бы забыли…
— Что-о?! — тренер рассмеялся и хлопнул меня по плечу. — Ну ты даешь! Тактик, тактик… Поддел, поддел меня, Кирилл, надо же: забуду… Как теперь забуду? Теперь уж не забуду!
И он перешел дальше по кругу, поправляя на ходу перчатку и все еще посмеиваясь. А я остался — счастливый и ловящий вопрошающий взгляд нового партнера: чем это рассмешил обычно строгого и хмурого В.В.?
Файл 11: день
Летом Джалал жил у сестры в кирзаводском общежитии. Общежитие — или барак — представляло собой длинное здание с коридором посередине, по обе стороны которого двери в комнатушки. Вот одну такую дверь и открыл Джалал.
В комнате стояли два кровати. Висел коверчик, лежали половички. Умывальник с кухонным столом, отгороженный занавеской. Тут же зеркало с полкой: пасты, щетки, массажи, кремы всякие и дезодоранты. Одно окно. На нем цветок и магнитофон. На столе книжки — в основном на национальном языке.
— Это сестра читает, — объяснил Джалал, — ай, любовь все!
Телевизора и холодильника не было. Зато около двери — козлы, большие, на трех железных ногах. За козлами, в углу, стояла картонная коробка. В ней увядшие листики капусты и блюдце с водой. Черепахи не было. Но Джалал не обеспокоился. Он резво залез под кровать.
— Я ее на день отпускаю, пусть ползает… — Я присел рядом, шаря глазами. — А-а, вон она!
Джалал быстро пополз вдоль стены. И я увидел около ножки кровати даже не черепаху, а черепашонка. Сначала она спряталась, а потом высунула голову и лапы и принялась скрябать ими по полу. Лапы были морщинистые, в кожаных чешуйках, и можно было увидеть коготки. А панцирь, разглядел, разделен на пятигранные костяные пластинки.
— Сколько на них кружков, столько ему лет, — объяснил Джалал (иногда он путал рода). Мы насчитали пять. Еще в уголке у Джалала валялись несколько «гонок», некоторые без колес, два трансформера и пара водяных пистолетов. Мы их взяли, зарядили и вышли на улицу. Теперь мы шли смотреть собаку. Она недавно ощенилась и ребята ее подкармливали.
У собаки были печальные глаза и разбухшие розовые соски. Ее немного волновали наши внимательные взгляды и свое волнение она выражала в тщательном вылизывании щенков: не ругайте и не бейте — видите, как я забочусь и ухаживаю за детьми. Щенки оказались толстыми и коричневыми — как поролоновые шарики. Они попискивали, дрожали хвостиками и слепо тыкались в живот мамы.
— Мой этот, — ткнул Джалал в одного. Щенок был толще других и с белыми пятнами вокруг глаз. — Возьмешь какого?
Для меня не было все так просто. Я чувствовал: если буду объяснять, что требуется согласование с папой и мамой, то потеряю в глазах Джалала, поэтому неопределенно пожал плечами:
— Не знаю…
— Тогда я тебе ежа отдам, — решил он, — отец обещал поймать, — и, видя мои колебания и немое желание протеста, успокоил: — У меня ведь черепаха есть.
Возразить мне было нечего.
Перед их домом, на железных столбах, крашенных в синее, свивает свои лозы виноград. Тут же, неподалеку, растут каштаны с широкими тяжелыми листьями и пока незрелыми зелеными плодами-шарами. Там, в сумраке листвы, воркуют дикие горлинки. В тени деревьев стоит топчан. Мы сидим на нем. Время подходит к обеду. На улицах безлюдно. Только где-то раздаются ребячьи голоса. Играть к ним не пошли.
— Пойдем в столовую, — решает Джалал, и мы тронулись в путь.
Стены в заводской столовой стеклянные, занавешенные тюлем. На потолке, как и в конторе, вращаются огромные лопасти вентиляторов, гоня теплый воздух и неслышно гудя… Для администрации был свой кабинет — с кондиционером, цветами и зеркалами. Предыдущие два дня обедал там с папкой и его сотрудниками. Но сегодня мы с Джалалом сидели в общем зале. Здесь работала его сестра, у которой он жил, — Джейран. Она посидела с нами, поговорила. Молоденькая и смешливая. Тарелки накладывала нам от души.
— Хош, — поблагодарили мы. — Хош! Спасибо!
Все я, как ни старался, съесть не мог.
После обеденного перерыва Джалал вздумал прокатить меня на «КамАЗе». Один из его братьев возит кирпичи на стройку. Вот мы и стояли на дороге, поворачиваясь всякий раз спиной к шлейфу белой пыли, поднимаемой проезжающими машинами. В один момент Джалал замахал рукой, и возле нас, присев и тяжело ухнув, остановился красный «КамАЗ». Несмотря на то, что он был припорошен пылью, было видно, что машину любят и за ней ухаживают: над лобовым стеклом висела ковровая бахрома. Само стекло по периметру выложено монетками в одну теньгу. На крыше установлены три клаксона. Бампер и колесные диски сияли никелем. По бокам качались антенны, перешнурованные разноцветными изолированными проводами и заканчивающиеся на верхушках красными пластмассовыми розочками. Дверцы разрисованы ахалтекинцами в галопе, а по передку латинскими буквами красовалось название нашей республики и ее герб, и еще что-то арабской вязью (может быть, сура из Корана?). А брызговики! Чуть не до земли, заклепанные по кромке, узоры по трафарету! Выхлопные трубы подняты по обе стороны кабины с ходящими закрышечками, а над бампером, на сверкающей трубе, еще четыре фары — в общем, закачаешься!
— Ну, джульбарсы, залезайте! — раздался в открытую нам дверцу веселый голос.
Подняться оказалось непросто. Потом, когда мы уселись на покрытое серой кошмой сиденье, брат Джалала, перегнувшись через нас, проверил, крепко ли я закрыл дверцу, и мы тронулись. Брат был похож на дядю Ильяса: такой же улыбающийся, разговорчивый, управляющий машиной как игрушкой — при этом успевающий делать другие дела: пить газировку (сумка-термос), ловить на магнитоле «Фунай» песни, закуривать сигареты «Мальборо», разговаривать с нами (о школе, о моем папке).
Ехать на «КамАЗе» оказалось круче, чем на отцовской «Волге» — так же мягко, просторно, но плюс еще высота и потрясающий обзор через лобовое стекло. Кирпич возили куда-то в район Мир-2, здесь я не был ни разу и поэтому с интересом смотрел по сторонам. Улицы такие же чистые и ухоженные, как везде: тенистые деревья; широкие газоны с зеленой травой — семена этой травы специально из Голландии привезли, весь город обсадили; бордюры центральных улиц гранитные, а госучреждения облицованы мраморными плитами, двери и окна зеркальные. Объявления и реклама, вывески всякие латинским шрифтом. Папа говорил, что раньше алфавит другой был, а теперь под Турцию косим.
Когда стояли на перекрестках, можно было видеть на углах наклеенную «Клятву». Клятва эта висела повсюду: в школах, на заборах, у папки на работе, в кинотеатрах, на досках объявлений, на остановках. Ее я знал наизусть — в школе перед занятиями всегда повторяли: Родина, Отчизна любимая, край родимый мой, и в мыслях, и в сердце я всегда с тобой… На малейший навет на тебя да отсохнет язык, да отнимется рука моя — и т. д. И по национальному… Ну и, конечно, здесь были портреты нашего общелюбимого и непревзойденного Мульк-баши (да будут благословенны его дни!): большие и маленькие, цветные и черно-белые, с улыбкой и задумчивые, с лошадью и с мамой, в парадном костюме и в национальном халате в окружении белобородых аксакалов…
А вот и стройка. Строят, как всегда, турки. Турок я встречал. Были они настолько смуглые, что Джалал с братом по сравнению с ними казались белыми.
Пока старший брат с бумажками куда-то бегал отмечаться, мы с Джалалом разглядывали белый «Мерседес» и белую «Волгу», подъехавшую вслед за нами. Из машины вылезли хорошо одетые господа, к ним тотчас подбежал бригадир с халатами и желтыми касками. Все начали осматривать стройку — что-то обсуждали, показывая руками на здание и на большие листы бумаги, развернутые тут же.
— Тоже турки, — кивнул на приехавших Джалал.
— Да вроде не похоже, — усомнился я. — Турки — они вон какие все черные.
— А у них две нации, — уверенно объяснял Джалал. — Те, которые белые, господа: управляющие, врачи там, инженеры, бизнесмены всякие; а другие, которые черные, рабочие: строители, чабаны, дехкане… ага…
— А-а, — лишь протянул я.
Мы сделали еще две ездки, а потом мне сказали, что меня ищет отец…
Файл 12: крещение
Я легко побеждал своих ровесников и поэтому не предстоящий турнир, который планировали на весенние каникулы в Чебоксарах, отобрали из нашей группы меня да еще Андрюху Савельева. Теперь нас частенько подключали к электрофиксатору — чтобы привыкали и не обращали внимания на шнур сзади. Дома проклеил провода по клинку и подогнал разъемы под свой костюм. Схватки в контрах все чаще проводились в виде соревнований: на 5 уколов отводилось шесть минут; если не укладывались в уколы — добавляли минуту. Обычно у меня до этого не доходило — в регламент укладывался.
До Чебоксар мы добрались на поезде. На вокзале с нами сошла другая группа, как оказалось, с Воронежа. Нас встречали на автобусе. Тренеры друг друга знали и тотчас уселись вместе, болтая о своем. Салон заполнился шумом и гамом: смеялись, шутили, вспоминали — старшие тут бывали не раз и воронежских знали. Меня же посетило забытое чувство любопытства, мы сидели с Андрюхой, молча крутили головами и наполнялись тихим ликованием.
Разместили нас в гостинице, в двухместных номерах. Узковато, но с телевизором и столом. Обои явно не обновлялись со дня постройки — были выцветшими до желтизны. Прихожка со встроенным шкафом, тут же дверь в умывальник и туалет. На входной двери схема эвакуации на случай пожара. Полотенца тут висели, так что которое положила мне мама, не пригодилось.
Делать было нечего. За окном неинтересно. Пощелкали телеком (черно-белая развалюха из детства наших родаков), облазили всю гостиницу. Оказалось, здесь полно спортсменов. После сидели в холле. Познакомились с воронежцами (у меня прямо руки зачесались проверить их на дорожке) — нас поселили в одном крыле.
Поужинали невдалеке от гостиницы. Тут же В.В. сказал, что сейчас у нас свободное время — можно погулять, но в полдевятого все должны быть в номерах. В основном это касалось самых старших — пэтэушники и студенты технических колледжей, в большинстве своем, вели себя вольно и независимо.
Мы погуляли с девчонками. У некоторых были «мыльницы» — фотографировались на площади; возле парка; у гостиницы. Так и закончился бы этот день, полный новых впечатлений, легкого морозца и желания борьбы, если бы не последнее происшествие.
Мы уже собирались ложиться. Работал телевизор, я чистил зубы, а Андрей доедал печенье — остатки былой роскоши домашних гостинцев. Мы слышали громкий разговор и ржание старших. И сейчас они ввалились к нам. У одного — Славки — была в руках шпага с фирменной рукояткой «пистолетом». Их было трое и все хорошо датые.
— Новички?
— Да, — у меня заныло сердце.
— Соревнования первые?
— Да.
— Креститься готовы?
— Креститься?
— Обычай, мужики: кому первые соревнование — по заду клинком, — Славка загнул коленом шпагу и отпустил клинок. — Сколько лет?
— Четырнадцать.
— Во-о-от… Четырнадцать раз…
Я, может, и стерпел бы: обычай, крещение и все такое прочее, — но Андрей вдруг воспротивился. Он уперся и твердил: не буду! Почему? Не буду и все! И когда стали было его «крестить» силком, он вдруг вывернулся и между ног кинулся к двери: «Да вы чё, козлы! Отстаньте!» Пацаны схватили его, он лежал на полу и отбивался ногами, вырывая руки: «Чё-ё делаете? А-а! Чё-ё пристали! Василь Валентинович, скажите им! Отстаньте!..»
Я стоял и не знал, что делать: то ли Андрюхе помогать, то ли за В.В. бежать. А пацаны схватили Андрюху за руки и поворачивали спиной вверх, Андрюха елозил, изгибался телом — не давался никак.
На крики в дверь уже заглядывали: девчонки делали большие глаза, пацаны понимающе улыбались…
— Дверь закрой, — крикнул Славка одному из мучителей, тот только собрался это сделать, как она широко распахнулась и в комнату влетел В.В. Был он раскрасневшийся и тоже пах далеко не цветами.
— Ну-ка, разошлись! Все! Быстро! Чего придумали?! Волков…
— Василий Валентинович, крещение! А этот… разорался.
— Брось, Волков, — поморщился В.В. — Им же выступать завтра. Все. Идите по палатам, тьфу! По комнатам! Давайте быстро!
— Ну, молокососы, до завтра, — Волков уже не улыбался и исподтишка показал нам кулак. Был он перворазрядник, один из лучших, и многие ему спускалось.
Дверь закрылась, и до нас долетел приглушенный шум разборки. В.В. гневно отчитывал Волкова и его друзей, те оправдывались. Андрей запоздало всхлипнул, пробормотал насчет козлов и психов, поправил кровать и пошел умываться. Еще раз зашел В.В., узнал, не сильно ли нас обидели. Сказал, что больше не тронут. Посоветовал хорошо выспаться. Ушел.
Уже когда лежали при выключенном свете, сказал:
— Интересно, больно бьет?
— Давай попробуем?! — Андрей сразу понял, вскочил, включил свет и вытащил клинок.
Первому досталось мне. Ожгло будто раскаленным прутом — только воздух втянул.
— Ой-ё-ёй! — протянул Андрей.
Так и крестили мы себя.
Файл 13: игры
Маму волновали мои возникшие отношения с кирзаводской ребятней. Поначалу я в восторге делился своими впечатлениями, но потом стал осторожнее. И впрямь, ведь не будешь говорить, что бедные дети грязные, все выпрашивают; что они чуть что дерутся, плюются, кидаются камнями, пью воду из колонок; что курят и употребляют гадкие слова; что обходятся без туалетной бумаги и соревнуются, кто выше всех струю на стену пустит. Я говорил маме только о том, что с этими знакомыми мне интересно; что пускаем из колонок воду и делаем на полученных реках плотины для корабликов и лодок; как катаем покрышки от тракторных телег; как играем в футбол (там стоят гаражи, между ними широко и асфальтировано — вот и гоняли мяч, а если не было мяча — пустую пластмассовую бутылку); как бегали, обливая друг друга из водяных пистолетов; как играли в «лянгу» и «альчики».
Теперь знал многих ребят моего возраста и младше: Овеса, Мырата, Байрама, Сапара, Амантика. Знал и девчонок: Гозель, Маралу, Гюльсапар и других.
С пацанами лазали и на территорию завода. С самого края стояла заброшенная обжигочная печь. Была она длинная и пустая, с проломами в стенах и развалами битых кирпичей возле них. Тут и играли в войнушку. У некоторых были шикарные пистолеты от «Денди», у некоторых водяные, китайские, с давно расстрелянными пульками, и просто самодельные. А какие в конце устраивали разборки: кто кого убил, кто кого убил быстрее, кто кого не убивал! Эмоций не скрывали, друг другу не уступали, спорили насмерть, обижались навсегда. «Ты!» — яростно сверкали глазами и уходили, долго крича взаимные оскорбления. Но я уже знаю, что минут через девять-двадцать все забудется и организуется новая игра… Самое странное, что теперь мои новые друзья не казались мне той ободранной, дикой и неуправляемой толпой, как поначалу. Были они обыкновенными, с теми же заботами и интересами, что и у меня. Ну, разве лишь чуть горячее, открытее, без задних мыслей и двойственного расслоения души. Я даже завидовал их цельности, вольности в образе жизни и свободе в желаниях, принятии решений и поступках. Но понимал, предложи мне быть на их месте — не пошел бы. БОльшая вольность предполагала и бОльшую самостоятельность, бОльшую самоотверженность и бОльшую ответственность. Дорог оставался мой мирок: уютный и бездумный — где решения принимал папка, где о комфорте заботилась мамулечка, где рос я безмятежно, без больших страстей… Вот и опять появилась двойственность: желаю обрести волю, но не хочу терять привычку. Джалал бы не колебался…
Часто с Джалалом мы бродили одни. Ловили юрких ящерок — сажали их на рубашки; те сидели смирно, как значки; прихлопывали ладонями кузнечиков с задними пилками-ногами — они коротко прыгали, раскрывая крылышки и падая набок в траву; собирали мохнатых черных гусениц с рдяными точками угольков в банки с травой — уж очень красивые, очень мохнатые… правда, от них краснели и опухали подушечки пальцев. Часто видели лягушек. Их едят ежи, объяснял мой друг. Надо сказать, что ежа он все-таки мне подарил, но его пришлось отпустить: ночами еж топал, шуршал и пыхтел, а гадил за холодильником на кухне — что было сверх маминых сил, а папа объяснил, что ежи не приспособлены жить в неволе. В общем, я не сильно переживал.
Показывал Джалал и жилище жука-носорога. В скверике возле конторы, там, где памятник, росло много деревьев. И вот, если у одного из них у подножия отодвинуть траву, то можно заметить жука в углублении корней. Сам жук будто полированный и облитый лаком, с крохотными бусинками-глазами и обсыпанным трухой рогом. А уж сколько здесь жуков-навозников! Один даже катил недозрелый плод каштана.
Подкармливали мы ветками с листвой и коз, что паслись у заводской стены, а когда козы, насытившись, делали стойки и пытались боднуть, били их по рогам пустыми пластмассовыми бутылками. А однажды пацаны нашли где-то за старой печью склад из спрятанных кувшинов. Кувшины были красные, шершавые, разных размеров. Даже с наш рост. В таких мы катались. Видел и похороны. Стоял автобус, в него и занесли покойника — мужчину в национальной одежде, в бараньей шапке и в целлофановом мешке. Несли его на плечах — целая толпа! Остальные мужчины шли вслед приплясывая, кричали вразнобой: алла, алла! — и били ладонями по щекам. Криков было много, а женщин не заметил… Никогда прежде не видел похороны. И почему именно эти показались настолько чуждыми, неприятными, в общем, не по мне, не по моему роду (может быть, не по-людски?), что все возмутилось в душе? Не знаю… И почудилось даже, что покойник и не умер-то (до конца), что это он стонал в целлофановом мешке — протяжно и тоскливо…
Файл 14: схватка
В спортзале, где мы встречались, было восемь дорожек. Рядом со спортзалом висели склеенные ватманы — разграфленные и с фамилиями участников. В нашей возрастной группе оказалось не так уж много человек. Младшие выступали первыми. В.В. построил «пульку», еще раз проверил у всех набочники и на выбор раковины (очень просто — стукал в пах). У меня начинало подниматься волнение. Вышли из раздевалки…
Против каждой дорожки стояли столы. На столах электрофиксаторы. Сидели судьи с бумажками. Мы столпились у лавки. Тренер все говорил: не сидите, не стойте, ходите, разминайтесь… Пришли девчонки болеть. В.В. уже успел сбегать куда-то и, прибежав, сказал, что начинаем. Мы сцепили руки и, произнеся: «Ни пуха, ни пера!», — всё послали к черту.
Выкрикивали фамилии и к дорожкам с разных сторон подходили соперники. Судьи измеряли щупом зазор в пландре наших шпаг — у В.В. был такой: три пластинки в кожаном футляре, с пробитыми стандартами; буквами F, S, E; цифрами 24, 6, 4, 12, 15 и т. д. — в общем, абракадабра для непосвященных; потом кидали оружие на стол — смотрели на прогиб. Мы знали — он не должен превышать трех сантиметров; чем больше прогиб, тем лучше — при схватке это захлест и перевод… По залу пополз прерывающийся писк. Это пацанов попросили уткнуть шпаги в пол — проверка работы пландре. У нас все нормально. Отойдя от стола, незаметно стал изгибать клинок о пол…
Что сказать о моем противнике? Я разглядел его у стола. Был он ниже меня ростом, конопат, с волосами цвета меди, из Уфы. В.В. сказал, что там фехтуют не очень. Что ж, посмотрим!
— К бою готовы? — спросил судья, и мы поспешно вдвоем ответили:
— Да!
Лишь судья скомандовал: «Начинайте!», я без разведки, без подготовки одним коротким движением сделал флешь-атаку — мне не терпелось победить. Весь я был переполнен энергией, мне хотелось прыгать все выше и выше! Казалось, я взлечу. Есть! 1:0.
Однако надо сдерживать себя. Дальше решил подождать: что будет делать уфимец? Теперь мы прыгали, как козлята: назад-вперед… синхронно так… назад-вперед… на двух ногах… прыг-скок… прыг-скок… наставить шпагу и убрать… прыжок вперед, прыжок назад!
Ах, как хотелось атаковать, разить! Но знал — второй раз это не пройдет. Сколько мы прыгали, танцуя? Никто ничего не предпринимал. И я не выдержал: делаю атаку — ее четко взяли и дали ответ. Ах, упоение в бою: в возгласах своих и соперника, в щелчках клинков — казалось, я уже попался, его клинок втыкался в грудь! Каким-то чудом провел контрзащиту и нанес еще укол. 2:0.
Усиленно хмурю брови, покусываю губы, стараюсь задушить в себе преждевременное ликование. «Готовы?» — судья. «Ye-es!» Ну, быстрее-быстрее! Не помню, как нанес третий укол. Вот теперь близкая победа ослепила меня. Забочусь лишь о том, чтобы выглядеть красиво. И, небрежно пощелкивая клинком, приближаюсь к сопернику, и как — расслабленно, беспечно!.. Что ж, тут же попал на укол. Это жестоко! Пот прошибает меня, я отдуваюсь. 3:1.
Еле уношу ноги от его парад-рипоста. Вроде делаю то же, что и раньше, а ничего… Не выходит и все. Вся жизнь на кончике шпаги.
Теперь он меня все время теснит, все атакует. А я отступаю. Все правильно. Это тактика, но… но кажется — с каждым шагом назад теряю победу. Я злюсь: батман и укол под козырек — есть!
Прибежал В.В., откуда-то полотенце: на, вытрись, и тяни, тяни время. Дотянешь до конца — сделают по поражению, накинут по уколу, но суммарно выйдешь ты… Понял? Лишь киваю.
Вначале я водил, как и советовал В.В.: туда-сюда… прыжочки-козелочки… раз-два! раз-два!.. наставить шпагу и убрать… убрать и вновь наставить…
Уфимец, видимо, догадался, чего хочу, и стал атаковать. Я ответил и уже не помнил советов В.В. Стал охотиться за ногой (укол в бедро — моя коронка!), тот защищался и атаковал вас… Но тут меня озарило! Уфимец был низок, и потому выпад его не был длинным — при взаимных выпадах я должен достать его быстрее! Так и сделал. Чтобы достать меня, ему, кроме выпада, надо было сделать один или два скачка. И только он занес ногу для первого скачка, пытаясь шпагой захватить мою, я, ускользнув от его клинка, из последних сил вылетел навстречу, вперед, в простую флешь: х-х-ха-а! — и клинок упруго выгнулся — есть! Первый писк догнал второй. Но зеленым горел лишь мой фонарь. Победа за мной… Я устал. От нервов. И когда пожимал руку конопатому, еле нашел сил ему улыбнуться. Он был уставшим не меньше. А прошло всего шесть минут, а впереди столько схваток!
Да. Все только начиналось. Судья вручил мне протокол, и я побежал заверить его к главному судье. Потом искал В.В., чтобы с ним найти спорткомитет для снятия данных. Потом искали меня для второго боя… Все слилось для меня в один пестрый водоворот. Схватки я выигрывал одну за другой, и напротив мой фамилии в таблице росла цепочка красных галочек, как объяснил В.В. — букв «V», от французского «виктория» — победа.
В один момент он меня поймал и сказал, что я набрал высокий личный коэффициент и сейчас могу отдохнуть — буду драться только за призовое место. Только не расслабляйся!
Я сидел с нашими девчонками и парой мальчишек из запасных и пребывал в блаженстве: вокруг какофония пищащих электрофиксаторов, выкриков, возгласов, щелчков, свиста болельщиков звучала для меня божественной музыкой.
В финале я дрался с уфимцами, и с воронежцами, и с двумя своими. Так получилось, что свои первые соревнования в соответствующей возрастной группе я выиграл. Был награжден грамотой и магнитофоном. По командным соревнованиям заняли третье место (Савельев Андрей остановился где-то на седьмом месте). И было приятно, когда по приезде, в школе, после каникул, увидели приветственную «молнию» — поздравляли меня и ребят из школы, участвовавших в соревнованиях.
Файл 15: знак
И понеслось! Соревнования за соревнованиями: городские, отборочные, зональные, кубок Агафонова… Занимал почти одни первые места. Все лето мотался по российским городам, запомнились и вокзалы, и местные достопримечательности (если было время, то В.В. водил нас на экскурсию). Так, в Чебоксарах пацаны прикалывались над чугунными ядрами чапаевского коня; в Самаре катались на трамваях и были у памятника Гагарину на набережной Волги: малышня карабкалась и съезжала вниз, по наклонной плоскости. В Нижнем Новгороде так и не успели ничего осмотреть, запомнилась только Волга: железный мост и ужасно много воды — не хватало взгляда… В Ижевске соревновались в спорткомплексе «Динамо» на Пушкинской улице; в Торжке — старинный уютный уголок — посетили Кремль, привез оттуда значок с гербом: шесть голубей…
Я был неуязвим. И когда выходил на дорожку, забывал о тонких расчетах и холодном разуме. Просто знал, что выиграю, хотя большого опыта и высокого мастерства у меня еще не было. Я фехтовал, повинуясь движениям души — чутьем находил единственно выигрышный путь. В.В. стал выделять меня. Вручил альстаровскую форму: все в молниях, маска без уплотнения, легкая и прочная — проверяли: берешь за козырек и со всего размаха об стену или пол — и ничего… Эмблема «голубой аист» — германская фирма. Только вот альстаровских клинков Василий Валентинович достать не мог. На тренировках иногда клинки ломались и были случаи ранения обломками. А альстаровские рассыпаются, если лопнут… Теперь он помногу работал со мной на дорожке, и я поверил в свою непобедимость раньше, чем стал таким. И, может, этим нарушив какую-то тайную заповедь фехтовальщика, навсегда лишил себя возможности овладеть секретом непобедимости. А пока просто было чувство, что благодаря чему-то данному мне свыше буду выигрывать всегда. Пока мне не преподали урок…
Были отборочные бои на первенство СНГ. Мы вновь отправились в Нижний. Был он памятен и тем, что там впервые встал на профессиональную дорожку: помост, а на нем металлическая сетка. С одной стороны, все боялся, что упаду, а с другой — было непривычно ногам: стоял как вкопанный — в таких, обыкновенных, залах привык к крашеным полам, где подскользишь, где напряжешься, где расслабишься, а здесь привыкать по-новому надо — ничего, освоился…
В пульке меня поставили по силам первым, а у соперников тот парень был последним. Поэтому перед боем с ним особенно не волновался. Тем более что и видел его впервые. Но когда вышел на дорожку, то отметил нечто интересное — обычной стойки фехтовальщика не было. Соперник стоял… м-м, как это сказать… в позе презрения, что ли: совершенно прямо, вскинув подбородок вверх, правой рукой уткнув шпагу в пол, левую — в бок. С командой судьи: «К бою!» — он не шелохнулся, лишь взгляд его стал более вызывающим. «Готовы?» — спросил судья. «Да», — ответили мы. И одновременно с командой «начинайте» он понесся на меня. Без всяких правил фехтовального передвижения, без этих: «раз-два!.. наскок-отскок… припал-встал»…
Защищаясь, я не мог поймать и отбить его клинок. Он шел не как все и шпагу закидывал откуда-то сверху или сбоку. А это мы «не проходили». Но пока он, к счастью, промахивался. Еще раз я попытался взять защиту, но он пробил ее и нанес первый укол.
Тогда я решил атаковать. Но и тут соперник повел себя необычно. Словно не зная, что на атаку надо отступить, взять защиту и дать ответ или же идти на опережение, он по-прежнему летел на меня, и мы, как два барана, со всего размаха сталкивались — чуть ли не масками. Причем на электрофиксаторе горел один фонарь, и он был не в мою пользу.
Это был бой двух новичков. Как будто меня ничему не учили. А мой тренер мрачный ходил рядом с дорожкой. И мне было стыдно — я не оправдывал его надежд, его мастерства. От моего спокойствия не осталось и следа — теперь я был в смятении. И все же не хотел проигрывать. Сказал судье, что нужно подкрутить шпагу. Подошел В.В. с отверткой. Спросил: где мой класс и где мой уровень? И почему с новичком дерусь на равных. Потом сказал, чтобы не пытался фехтовать сразу. Нужно сначала убегать — до самой границы, — пока он не выложится и я не разгляжу хорошенько, что он делает. А затем, на его последнее движение, взять защиту и спокойно нанести укол. И все будет хорошо. Ведь я же сильный. Надо успокоиться и не обращать внимания на побочные выкрутасы. Только следи за шпагой.
А потом я проиграл. И, пожимая руку, не знал, кого ненавижу больше: его или себя — с дорожки уходил, не сняв маски.
В.В. расстроился и сказал, что если я собираюсь в первой ступени проигрывать последним номерам, да еще в таком ярком стиле, то слов нет, одни цифры…
Я понял, что надо бросать фехтование, и злые слезы подступили к глазам — бросать и немедленно. И дело не просто в проигрыше — иногда проигрываешь и чувствуешь себя обогащенным — мне просто утерли нос. Плюнули на меня, перешагнули не цацкаясь. Оказывается, я — ничто. И я решил бросить все.
Правда, это длилось не больше нескольких секунд! Потом я взял шпагу и не мог дождаться следующего боя. Я снова хотел драться, и новые соперники должны были ответить за мой проигрыш. Ух, как я фехтовал! Как я всех их разделывал! В общем, я выиграл остальные бои и прошел в следующую ступень. А мысль: непобедимых нет — навсегда осталась со мной.
Файл 16: в гостях
В один из дней Джалал сказал: «А давай ко мне с ночевкой?» Как мне хотелось! Этим днем мы ходили на базар. Базар был недалеко от завода. Располагался он на площади перед тюрьмой. Тюрьма была окружена высокой стеной красного кирпича (гладкая-гладкая!), а по верху обнесена колючей проволокой. Стояли солдаты с автоматами, а внутри, через колонки, играл дутар и какой-то акын тянул унылым голосом бесконечное: аляль-гиляль, стылы-харбы… А внизу вращался водоворот людской толпы. Шагу не ступить: люди, палатки, палатки, но еще больше товара на асфальте, на клеенках. Сколько ковров, разной посуды (преобладали заварные чайники — железные, блестящие)! Одежда, обувь, пестрые ткани… Все шумит, торгуется… Аудиоаппаратура, мягкие игрушки. Мы ищем игрушки, но не мягкие… Дядя Ильяс дал Джалалу деньги на радиоуправляемый джип. Двести манат. Почти зарплата. И когда я увидел машину, да еще в действии, понял: того стоит. Игрушка была копией джипа «Чероки»: вся блестяще-хромированная, колеса с настоящей резиной и великолепно гнущейся антенной в полметра, а как жужжал мотор! Джип поворачивал, давал задний ход, менял скорость… Джалалу все хотелось узнать, как он берет препятствия, и продавец милостиво разрешил проехаться по разложенным вещам: какие-то шнуры, наборы батареек, фонарики, розетки, выключатели и другой электрический ширпотреб. Испытания прошли великолепно, и Джалал Муратов приобрел машину (батарейки шли отдельно). Я преисполнился белой завистью и всю дорогу восхищался, вот Джалал и предложил заночевать у него. Я колебался: не знаю, как папка… «Айда к нему!»-великодушно предложил он. И мы пошли. Прошли в обратном порядке одежные ряды, ковровые, посудные, овощные — с наваленными горами арбузов, дынь, развалами поменьше из фиолетовых баклажан, урюка в ящиках и прочей вкуснятины.
Я летел к отцу на крыльях, я был уверен — все, что мы задумали, исполнится. Не могло не исполниться — я так желал этого!
— Еще чего выдумал, Кирилл, — сказал отец. — Нет, нет, даже и не думай…
— Ну, пап, — продолжал я, — ну, пожалуйста. Всего на одну ночь. У Джалала такая машина…
— Кирилл, разговор не имеет смысла: играйте сейчас, бегайте, машиной занимайтесь — не запрещаю. Но всему есть мера. Все. Иди.
Я вышел. Обида подкатила слезами — еле их сдерживал: почему папа отказал? Все так хорошо начиналось…
— Ну, дядь Володь, — сунулся в дверь с коробкой Джалал, увидев мое печальное лицо, — разрешите!
— Джалал-джан, — донеслось, — у Кирилла есть свой дом. Все, саты-саты. Не мешайте работать.
Грустные подались мы из здания. На выходе увидели подъезжающего дядю Ильяса. Джалал кинулся к нему с покупкой. Они распаковали джип, и дядя Ильяс, прицокивая языком, начал через пульт управления, блестя на солнце антенной, рулить игрушкой. Джалал все просил: «Дай я, дай я!» Наконец он отдал пульт и взглянул на меня:
— Вах, чагалар, почему такой грустный? — он часто так нас с Джалалом называл — «чагалары» — что значит «ребята».
— Ай, папа его не отпускает, ага… — сказал Джалал, крутя джойстиком, и объяснил ситуацию.
— Ну-ну, — потрепал меня по голове дядя Ильяс, — выше нос. Я сейчас.
Через пять минут вопрос был улажен. Отец дал мне несколько наказов, он пытался скрыть свой недовольный вид и в какой-то момент я пожалел о своей просьбе.
Но все потом забылось. Мы шли к бабушке и дедушке Джалала в частный сектор. Домики здесь были маленькие и полностью скрывались за высокими дувалами. Один я бы заблудился в этих узких, похожих друг на друга, пыльных улочках. Шли мы довольно долго. Все мне было любопытно. После шикарных центральных проспектов и современных спальных районов я впервые видел еще одну сторону города, впрочем, после бараков Хитровки это оказалось не столь ошеломляюще.
Наконец мы остановились около одной двери с написанным на ней белой краской номером. Со всех сторон глухие стены. Джалал открыл дверь и нас встретил громким лаем лохматый песик:
— Керем, иди сюда! — мой друг присел и принялся ласкать собаку. — Не бойся, не кусается. Хороший, Керем, хороший…
На лай и наши голоса вышел старик, а следом бабушка. Старик был в национальном чекмене, в бараньей шапке и с белой бородой.
— Салям алейкум, ата; салям алейкум, баба-джан, — поклонился Джалал. Я тоже поздоровался.
— Ай, кто пришел! — обрадовались старики. Они переговаривались по-своему, но кое-что я разобрал.
— Проходите, проходите…
Бабушка была также в длинном национальном халате, в белом платке и широких балаках. И оба в резиновых галошах на босу ногу.
Домик их был без окон. Освещался он сквозь четырехугольную дыру в потолке, затянутую целлофановой пленкой. После ослепительного дня здесь стояла темнота, и глаза с трудом привыкали к сумраку. Стульев и столов не было. Само помещение оказалось разделено на две половины. Одна — где кушали и спали — по уровню чуть выше той, куда заходили. На глиняные полы постланы ковры для спанья, белые кошмы и валики тюфяков. Заметил лампочку без абажура — голая, на шнуре. На плитке готовили какую-то еду. Стоял старенький телевизор, укрытый платком. Летали мухи.
Бабушка расстелила сычак, накормила нас шурпой. По-русски она не понимала. Говорил со мной дедушка — уважительно и обстоятельно. Узнавал о семье, о папиной работе — с трудом подбирал слова — завод-то мы с бабушкой строили, да а! — иногда переспрашивал: «как?», поворачивая голову боком — ухом ко мне. Джалал кое-где переводил, и дедушка задумчиво качал головой, поглаживая бороду. А бабушка все хлопотала, о чем-то разговаривая с внуком, он отвечал, отказывался, махал рукой, а нам все подкладывали к чаю, который остывал в разрисованных оранжевыми листьями по белому полю пиалушках халвы, повидла из алычи, сушеного урюка…
А потом мы играли в садике. Хорошо здесь было. Зрели персики, кое-где дозревал урюк. Виноград оплетал навес, пряча в своей тени топчан. Раскинули кроны чинары. Вдоль одной из стен расползлись ажурные, пятипало вырезанные, плети арбуза. Поспевали на грядках болгарский перец, баклажаны, а вот виктория уже отошла… Возле колодчика, в котором гудело, когда бабушка качала для дома воду, стоял старенький тандыр, но чуреки в нем давно, видно, не пекли.
Вот отсюда мы и запустили свой (ну, вернее, Джалала) джип. Как гоняли мы его! Как, первое время, пугался Керем! Ух, как заливался и трусил! В общем, поиграли мы классно!
Уже под вечер, набив карманы кишмишем, отправились обратно к пацанам в бараки. Договаривались играть в догонялки на великах или просто. Велик мне Джалал обещал спросить у брата, у того, который на «КамАЗе» нас катал.
Файл 17: снег
Из Нижнего я приехал чемпионом среди юниоров, и это было лучшим подарком мне на Новый год. Уже второй раз встречали мы этот праздник здесь. Город, особенно центр, преображался. Развешивались разноцветные гирлянды. Красиво смотрелись голые кроны деревьев в вечернее время, опутанные маленькими лампочками. Лампочки горели и создавали сказочно-праздничный эффект. На площади построили ледяную крепость и ледяного дракона. Они также подсвечивались, и лед горел и сверкал изумрудным цветом. Здесь ребята и катались с горок на санках, резиновых ледянках, просто на фанере или куске целлофана. Елка уже была поставлена, обтянута цепочками из сороковаттных лампочек, увешана резиновыми надувными и пластмассовыми зверюшками. Дежурила милиция. 31-го мы посетили народные гулянья. Со всех сторон шли толпы людей. Было не протолкнуться. За головами в шапках сцену видели плохо. Малышня шныряла туда-сюда, ввинчиваясь меж стоящими. Кидали петарды. За их треском и хлопками, за гулом толпы плохо слышали и Деда Мороза, и Снегурочку, и песни. Поздравляли мэр, главы администраций — люди кричали: «Ур-ра!» и свистели. Кусал морозец. Но все скрашивала атмосфера всеобщей доброты и приятия. Пока шли сюда, видели, как совершенно незнакомые группы людей поздравляли друг друга, желали счастья и тепла, пару раз и мы отвечали…
А над площадью висело темное небо и сумрак таился по всем щелям и закоулкам. Но темень разгонял электрический свет. Все заливалось светом: горела праздничная иллюминация; витрины магазинов и фонари освещали улицы; запускались, с громкими взрывами, фейерверки; искрились в руках бенгальские огни, их также кидали в небо и огни рассыпались искрами… Везде смех, говор, играют кое-где на баянах, поют… Даже мои папа с мамой не выдержали, поддались чарам праздничной ночи и стали кататься с ледяной горки, и я заодно! Вот уж мы накувыркались, вот уж набарахтались! Как я любил эти мгновенья: счастливые, смеющиеся лица, все близкие, и нету горести и бед!..
И долго еще не могли отряхнуться от снега. И по пути к машине еще навалялись: и сам папа, и нас с мамой опрокинул в сугроб — в этом году выпало много снега, целые горы! Меня все спрашивали — был ли снег там, откуда я приехал? Да, там снег бывал, и я вспомнил свой первый снегопад!
Зимой все горы в снегу. Над пиками клубились кипы смуглых облаков. Они ползли на город.
Стало тихо, сыро и тепло. Я шлепал по лужам в сапожках. И услышал призрачный шорох: вверху родились снежинки. Начинался снегопад. Налетел и свежий ветер: рушил эти тучи снежищ, кружил коловерть… Живо роились снежинки, порхали в струях воздуха, ныряя туда и сюда, и сжигались, истаяв у меня на лице. Я чуял прохладу слезинок…
Снег я видел впервые.
А вокруг все стало белым вдруг! И небо, и земля! Я снял сапожки и пошел по снегозему босиком…
От мамы мне досталось! Но восторг осел в душе и жег огнем. Душа рвалась за окно!
Не чаял я, но снег растаял. Солнце утром скушало все снеги.
Мне было шесть. Других снегопадов и не запомнил.
А к Новому году с Украины привезли целый состав елок, и теперь их продавали на всех площадях и базарах. И однажды папаня принес домой одну — пушистую красавицу. В доме сразу поселился смолистый аромат. Сделалось празднично, и тревожное ожидание радостного события заставляло дрожать мое сердечко и бегать в эйфории. Мама достала коробки с игрушками. Игрушки развесили (как они пахли лаком и красками! пахли праздником!) и осыпали ветви разноцветными кукурузными палочками. И еще. Моей обязанностью было привязывать канитель на решетки вентиляторов и кондиционера. Когда техника включалась, серебристые ниточки вздрагивали и, шурша, оживали. Они таинственно мерцали и переливались, радужно пуская еле заметные зайчики в свете елочных гирлянд и торшера.
В день праздника начинались с утра последние приготовления: варились манты — мантышница была интересным сооружением: многоэтажная и с завинчивающейся крышкой; раскладывался стол в зале; открывались компоты из алычи, сливы, персиков — густые и сладкие; пеклись блинчики с творогом — я тоже помогал их складывать. Мама с папой делали уборку. Потом отдыхали.
Во второй половине варили традиционный плов: в казане калилось масло и было оно готово, если в нем вспыхивала спичка — тогда и запускался рис, мясо и всякие специи. Закладывались еще в духовку окорочка. И тут не обходилось без меня — выдавливал на них чеснок. На кухне под вечер становилось адски жарко…
Мама успевала еще: принять душ, одеться, уложить прическу, поколдовать перед зеркалом в спальне и сделаться иной, юной. Выходила такой красивой, что я расплывался в улыбке и начинал топать за ней. Меня также переодевали и еще доставалось по капельке маминых духов за уши. И папа преображался: в костюме и галстуке он делался строже и недоступнее.
Когда прибывали гости, в прихожей становилось шумно: возгласы, смех, поцелуи, похлопывания и потискивания… Мужчины приносили красивые темные бутылки с красочными этикетками, а женщины пакеты с подарками и мне шоколадку. Были дети, я знал их по таким вот праздникам: Денис, Таня и Лена с Валериком. Уводил их в детскую и показывал игрушки, раскраски, книжки и другую мелочь, ценную и необходимую.
К двенадцати часам мужчины оставались обычно в рубашках с короткими рукавами, а женщины начинали обмахиваться платочками. Без десяти двенадцать слушали поздравления нашего общелюбимого и непревзойденного Мульк-баши (да будут благословенны его дни!) на двух языках, а потом вставали, звенели бокалами и кричали: «Ура!»
Чуть позже танцевали. Мужчины выходили курить, мы играли в прятки: лазали под стол, прятались за диваном и креслами, в стенке, в спальне за занавесками и под кроватью… В один такой момент я забежал на кухню и залез под стол. За столом сидели папка с дядей Васей — отцом Дениса — и разговаривали.
— Что наша жизнь? — спрашивал дядя Вася и отвечал: — Дар мертвых живым. Они умирают и оставляют нам свои дома, свои песни, музыку, философию, религию, свои знания и опыт; а чем живет наше тело? Едой из умерших животных и растений… — тут он звякнул вилкой и, жуя, продолжил: — И мы трудимся вовсе не для того, чтобы не умереть, а для того, чтобы жили другие, а самим умереть… И самое страшное знаешь что, Вовчик (это значит мой папа)? Последним их даром нам является — да! — смерть…
Тут меня нашли, и я убежал.
А потом, когда все расходились (а пили еще чай с тортом, хворостом и орешками, вареньем и повидлом), когда сонных моих друзей одевали, а меня, сонного, наоборот, раздевали, чтобы уложить, я спросил у папы: «А правда, мы все умрем?» «Ну что ты, сына, кто тебе сказал?» — спросил он. «А дядя Вася?» — «А-а… нет, сынок, все мы будем жить — всегда». «А как же снег?» — это я спросонок. «А снег вернется, — ответил папа. — И снег вернется, и все вернется. Да, все вернется, как снег — вот увидишь. А теперь спи. Спи, мой маленький». Меня поцеловали, и я уснул.
А это я запомнил: все вернется, как снег.
Файл 18: каток
Единственным недостатком владения собакой была необходимость ее утреннего выгула. По утрам я просыпался от звуков позевывания с подвыванием, лязганья и клацанья зубов; потягушеньки, распрямлюшеньки; тихий, несмелый скулеж; глухой топоток туда-сюда… А чесался Грей так яростно и с таким азартным скрежетом, что я невольно сжимал зубы и зарывался в одеяло — и ведь насекомых не должно быть: купаем и дезодоранты специальные применяем…
Немного погодя на меня наваливаются лапы и грудь. Жаркая пасть дышит в ухо, а мокрый холодный нос пытается залезть под мышку. Я открываю глаза и вижу его, понимающие, что, мол, да, рано, но… Я смотрю на часы, вздыхаю, чешу его под подбородком, укоризненно бормоча: «А, Грей, Грей…» Выскальзываю из теплой постели, и уже настает моя очередь позевать и потягиваться… А за окном зимняя темень: зябкая, с утомленными за ночь фонарями, с троллейбусами — пустыми и с мерзлым инеем на окнах, а на улице стужа, мороз, сонные люди… бр-р!
Вечерами было легче. Вечерами мне даже нравилось. За день надоедали стены: школьные, спорткомплекса, домашние… И ближе к семи, выходя в прихожку, бренча поводком, подавал знак: гулять, Грей, гулять. Начиналась буря: Грей кометой вылетал откуда-нибудь из зала, юлил, крутил задом, подскакивал, пытаясь лизнуть… За этот год он здорово вырос, раздался, оброс кучерявой шерстью — не расчешешь, а когда встает, передние лапы достают до плеч…
Я тормошил его, злил, заигрывал, вызывая глухой рокот рычания.
Во дворе его отцеплял, и он начинал обходить приметные кусты, бугорки и столбы; замирал, принюхиваясь; чихал от попадавшего в нос снега; а то просто пулей носился назад и вперед.
Встречались другие хозяева. Я давно их всех знал: с овчаркой Теллой, ротвейлером Вольфом, пуделихой Ракел, болонкой Чапой, которая звонко на всех «чапала», трусливо прячась за ногами согбенной старушки.
Наш путь проходил мимо внутридворовой хоккейной коробки. Сейчас она была залита, и надо сказать, что утренний и дневной каток от вечернего значительно отличались. Днем он был скучным: серый лед, изрезанный и припорошенный; борта, заваленные по кромку с внешней стороны сугробами; на льду ржавые ворота, сваренные из труб, — все покойно и безлюдно. А вот сейчас вечерний каток напоминал базар-вокзал: освещенный фонарями, был шумный и многолюдный. Вдоль бортов, на сугробах, стояли родители и пускали вниз по склону детишек в салазках. Бегали друг за дружкой какие-то пацанята — все в снегу и распаренные. А внутри, со скрипом и визгом рассекая лед, носились конькобежцы. Глухо шлепались шайбы о борт. Любители хоккея оккупировали половину площадки и носились по ней с клюшками. Здесь были и мои одноклассники, и пацаны постарше. Некоторые из школьной команды в экипировке: болоньевые рейтузы, наколенники и налокотники, «мастерские» коньки, клюшки, перехваченные изолентой — смотрелось солидно. Я жутко им завидовал, и еще тем, которые на другой половине катка рассекали, как метеоры, круто огибая более медлительных, и с шиком, элегантно, резали углы, чтобы, развернувшись, мчаться обратно… Я думал, что когда-нибудь растрясу отца на коньки и займусь катанием. Но думал, признаться, вяло — у меня уже было дело, которому я отдавался со всей душой и неиссякаемой энергией… Но получилось именно так, именно так получилось, что свяжусь я с катанием не в далеком будущем, а этой зимой, в этом месяце, буквально через несколько дней. И связь эта будет не чисто внешней, а глубокой — настолько глубокой, что вся моя душа, все мое сердце сжимается, когда говорят это слово: «каток»…
Файл 19: вечер
День «сломал ноги». Завалился за край окоема и багровел, дотлевая травой и асфальтом. Воздух наполнялся густой, как чай, теплынью. Небо приумеркло и прозвездилось. Теплою и серою золою опускался вечер.
Из-за гор выплывает величаво луна. Она огромная и выпукло-желтая. Разливается ее сумеречный свет. В лиловом небе, над темными кронами деревьев, бесшумной тенью начинают пикировать нетопыри, оставляя в уголках глаз молниеносный черный росчерк. Их безмолвный полет затрагивает глубинные первобытные потемки души, наполняя ее тонкой, сладкой тревогой… Пацаны еще говорили, что летучие мыши вцепляются женщинам в волосы — это тоже загадочно и таинственно тревожно… Выползают и крупные серые пауки — качаясь и кувыркаясь в парном воздухе, начинают прясть свои тенета. Несмело пробуют звенеть цикады. Мы пытаемся обнаружить их в зарослях кустов, подсвечивая себе фонариками…
А ночь неотвратимо проступает из крон деревьев, поднимается с земли. Краски блекнут и белеют лишь наши майки, да звенят наши голоса, перебивая то тут, то там звук магнитофонов и телевизоров из распахнутых окон. Все чаще мелькают лучики галогеновых китайских фонариков. Беда в том, что скоро дешевые питашки сажаются и их приходится плющить. Но это мало помогает. Амантик показывает мне фокус в темноте: он касается зубами разных полюсов «кроны» и, по его уверениям, у него в глазах должны проскакивать искры. Пацаны видят их и кричат, что он, дурак, испортит зрение. Я неуверенно соглашаюсь, что искры вижу тоже. Амантик доволен.
А возле раскрытых дверей и окон, под дрожащим, наваливающимся светом ртутных ламп, на топчанах, подвернув по себя ноги, сидят потные мужики. Они гортанно вскрикивают, азартно шлепают картами, громко переговариваются, дымят вонючими папиросами и дуют пиво. Мы, дребезжа и вихляя по невидимым в темноте колдобинам и выбоинам, мотаемся мимо них на великах. Велик с динамкой был лишь у Джалала, и пацаны клянчили, чтобы хоть разочек прокатиться с фарой на велике в ночи, — ара! Это круто.
Ночь заряжает нас какой-то темной, возбуждающей энергией. Все во мне и вокруг не как днем. И другие пацаны тоже делаются быстрыми и юркими: бегают друг за другом. Притащили откуда-то незрелые твердые персики: ясное дело — лазали за чей-то дувал, приставив к нему доску.
Ближе к одиннадцати некоторые нетерпеливые мамки начинают не раз и не два выкликивать своих увлеченно играющих сыновей, и те, попрощавшись, уходят к освещенным, затянутым сеткам, окнам и дверям. А нам еще в кирзаводскую баню! Уезжаем и мы.
Ночь кладет свой отпечаток и на Джалала: глаза блестят, улыбается (днем-то редко увидишь это), сам он как-то вырастает, подтягивается. В движениях исчезает прохладца и уверенная ленца — становится бодрым и упругим.
— Кирилл, догоняй! — он жмет на педали, а я за ним.
Весь горб горизонта залит огнями. Можно видеть прямые ряды фонарей вдоль центральных улиц, а также огни фар движущихся автомобилей. Здесь под деревьями темно. И везде слышен говор, девичий смех, рдеют в темноте огоньки тлеющих сигарет. Молодежь сидит на железных оградках, на лавочках возле дверей. С ревом проезжает пара мотоциклов, разорвав ночь и ослепив глаза ярко-белым светом. «Галогенки», — со знанием дела говорит Джалал и провожает взглядом покачивающиеся, с подсвеченными на концах розочками, антенны.
Джейран сидит у дома с каким-то парнем. Я здороваюсь.
— Вай, ханум-джан, вай! — говорит ее братишка. — Как не стыдно!
И дальше по-своему.
— Сгинь, шайтан, — отвечает сестра и уходит, чтобы вынести пакет с нехитрым банным скарбом.
Джалал продолжает дразнить друга Джейран, тот отвечает. Я плохо понимаю, что-то типа: «Сейчас уши надеру, маленький негодник!» Мне смешно. Потом парень делает вид, что встает, Джалал со смехом отбегает… Выходит Джейран. Отдает пакет. Джалал боком-боком уводит велик и, уже отъезжая, кричит по-своему нечто такое, от чего сестра оскорбляется вконец и грозит Джалалу:
— Ну, щенок, завтра придешь!..
— Джалал!.. — укоряю я его.
— Ай, — машет он рукой, — ладно! Мы всегда деремся, ага…
Файл 20: встреча
В один из февральских вечеров, после 23-го февраля, на который девчонки подарили нам ручки с кнопками (дружно щелкая ими, вызывали нервные припадки учителей), я, как всегда, выгуливал Грея. Погода в эти предмартовские вечерочки стояла теплая, сыро-туманная. Поэтому на улицу повылазила вся ребятня и их родители. Попадалось много из нашей школы. Так я повстречал Сашу Четвергова и Женьку Соболева. Они, с коньками в руках, шли на каток. С Сашкой мы перекинулись парой фраз о тренировках, о школьных делах, туда-сюда и — «айда с нами!» — Сашка был заводной парень. Но я кататься не умел и коньков у меня не было — о чем им и сказал. «Ничего, научим, — поддержал Сашку Женька, — это быстро…» «А коньки мои оденешь, — добавил Сашка, — у тебя какой размер?» Признаться, мне хотелось научиться, да и их внимание было дорого. Эх, была — не была… Я подозвал Грея, и мы пошли.
Около портов увидели одноклассниц, карауливших обувь катающихся подруг, попросили постеречь и нашу… Честно говоря, мне уже расхотелось учиться: было неловко на глазах у стольких людей, накатывал стыд за свое неумение — тем более перед своими девчонками, но Сашка твердой рукой тянул вперед, а Женька помогал… Да! Видок, должно быть, у меня был стремный… Есть выражение: корова на льду — вот и я был этой коровой: ноги разъезжались, тело изгибалось и вперед, и назад… Женька все кричал: «Ребром, ребром конек!», а Сашка: «Отталкивайся елочкой, елочкой, как на лыжах!», и оба поддерживали под руки, а я все говорил: «Дайте сам, погодите, не держите… Погодите, не тащите…»
Вот тут и подъехала к нам Ольга…
Что знал о ней? Обыкновенная девчонка: прилежная; участница всех мероприятий и олимпиад; спортивная — наш физрук довольно тепло к ней относился; острая на язык — все это в целом заставляло нас, мальчишек, ее уважать.
— Привет, мальчики! Помощь требуется?
Мы стали было отнекиваться, но она прервала нас:
— Да ладно… Жень, покатайся, я уж накаталась, а я тут за тебя…
Мы еще минут десять двигались около бортов. Перекидывались фразами, останавливались. Сашкины коньки были мне чуть великоваты, и все время стопы мои норовили в них подвернуться.
Когда мы остановились в очередной раз, Санек увидел своих знакомых и, сказав «сейчас», ушел. Мы остались вдвоем, только Женька иногда подъезжал — интересовался, как мои успехи. Я уже научился стоять и проходить метра три — с большими проскальзываниями и страшным напряжением в ногах. Я не был одет подобающе и сильно взмок…
Подъезжали к девчонкам. Грей очень волновался, теряя меня из вида. Ольга кружила рядом, иногда брала за руку и тянула от спасительных бортов. Тут я начал замечать, что мой взгляд все чаще останавливается на ней. Я постепенно начинал видеть другую Ольгу: ловкую, легкую, шаловливо-отзывчивую и по-особому близкую сейчас…
Она перехватила взгляд:
— Ну что смотришь? Раньше что — виделись?
Я улыбнулся и озорно поддержал:
— Да. Миллионы лет назад…
— Надо же!..
— Да-да… вспомнил! Я вот помню! И ты… — я притворно наморщил лоб и поднял палец, — учила меня… летать — мы были другими!..
— Да-а? — она помолчала. — Нет. Что-то не помню.
И укатила вперед.
Потом подъехала и стала подбадривать, таща в гущу катающихся. Я страшно волновался, притворно грозил ей. А она лишь шутила: вспомни, как нужно летать!
В один момент я запутался в ногах, заторопился и грохнулся, не отпустив ее руки. Ольга упала рядом. Она смеялась вместе со мной, одновременно охая и держась за коленку: «Плохо же я тебя научила летать — на ровном месте падаешь!» «Вот, — отвечал я, — кара тебе за мои мученья, ага…»
Я вновь взглянул на нее. Теперь окончательно — будто пелена с глаз — видел новую Ольгу: светлая челка под вязаной шапочкой, под густыми русыми бровями темнели карие глаза — сейчас, в полумраке, они казались бездонными, лишь когда она поворачивала голову, искры от фонарей загорались в них; блестели ее ровные зубы и пар от дыхания вырывался облачком… И своей рукой в варежке, на которой свалялся в комочках снег, она поправляла шапочку, надвигая ее на ушко.
Что-то мягкое и настойчивое толкнулось у меня в груди, смутное томление сладко сдавило сердце — я уловил появление странно-знакомого ожидания чего-то несказанного и неповторимого… Точно! Все то, что говорил, оказалось правдой: это было узнавание! Когда-то, миллионы лет назад, я знал ЕЁ, но потом забыл. Но вот и встретил вновь… Мой смех затих, пришло осознание: она — идеал, к которому должен стремиться. И не жаль будет отдать всего себя этому, и впереди лишь радость и полнота существования. И наоборот — если не откликнусь, пройду мимо, то потом почувствую страдания и неисполнение себя…
Видимо, Ольга уловила что-то в моем взгляде, и мы, не сговариваясь, в большом смятении, стали подниматься. В молчании отряхиваясь, не зная, куда скрыть появившееся между нами смущение и неловкость… Тут подъехал Женька, а за ним и Сашка — один его знакомый собрался уходить, и Сашка выпросил себе коньки. Мы с Ольгой дружно включились в возникший разговор, и настолько приятно нам было толковать о вещах совершенно посторонних (скрывая тайну УЗНАВАНИЯ друг друга), что Сашка с Женькой постепенно включились в эту игру: с искрометными шутками, со смехом, намеками и тайным смыслом. Наша подспудная радость захватила и их, и мы скользили по льду в каком-то упоении, с полной отдачей этим скользящим движениям, гармонично, без усилий напрягая свои мускулы. Слух мой обострился, глаза стали зорче. Я был так счастлив, что позабыл об опасности падений, смело двигал ногами, падал и вновь подымался — нисколько не ударяясь, не чувствуя боли ушибов.
Каждый раз, когда мы начинали новую пробежку, я окидывал взглядом каток. Все людские голоса, режущие звуки коньков, щелканье клюшек, отраженные от бортов и стен многоэтажек, сливались для меня в какой-то необыкновенный, волшебный звук. То здесь, то там слышались ликующие человеческие голоса, и они вместе с радостным гулом движений соединялись с песнью моей души…
Долго так было? Не помню… Должно быть, долго. Девчонки, сторожившие нашу обувь, махали нам и кричали, что пора. Мне неохота было уходить с катка. Но все когда-нибудь завершается. И мы отправились в путь все еще возбужденные и веселые. На моих друзей, как будто без всякой причины, может быть, просто от ощущения полной свободы (а может, состояние моей души передалось?), нашла безудержная веселость. Подружки никак не могли понять их безобидный шаловливый задор, но вскоре тоже включились и стали шутить и смеяться. Потом девчонки перешли на сердечные дела одноклассников и приятелей из параллелей: кого кто с кем сейчас видел, кто с кем стоял, разговаривал — а в порыве откровенности все трое отдались легкой болтовне и секретничанию. Сашка с Женькой вставляли свои замечания и заливались смешками. Предложили мне выбрать из этой троицы кого-нибудь, описывали их достоинства, девчонки отбивались, и вскоре между ними разгорелась шутливая перебранка: подружки подразумевали Сашкин разговор на катке с некой Таней из восьмого «г», Сашка сопротивлялся для вида и переводил намеки на нас с Ольгой: тоже наедине оставались… Я лишь качал головой и начинал заниматься Греем. За меня заступался Женек. А Ольга будто и не боялась подвергнуться «нападению» и лишь время от времени вставляла какое-нибудь шутливое замечание или легкую колкость. Я слушал их болтовню и молча улыбался — сердце мое было полно пережитым за вечер.
С подружками Ольги (а нашими одноклассницами) мы расстались пораньше, а Ольгу проводили до дома. Уже попрощавшись со всеми, она напоследок протянула руку и мне:
— Ну что, мальчишки, займемся завтра Кириллом?
Я застенчиво пожал ей руку, а она смотрела твердо и слегка улыбалась.
Мальчишки согласились, что сегодня у меня были большие успехи, и пообещали завтра довести все до нормы. Договорились встретиться у катка в полвосьмого.
Затем Ольга проворно убежала от нас, исчезнув в густой темени слабо освещенного подъезда. Попрощался и я с пацанами (им было в другую сторону). Санек Четвергов посоветовал мне спросить коньки на первое время у физрука: в подсобке их там у него полно, правда, старые все — но в мастерской можно наточить, тиски для коньков имеются. Я кивал головой и был согласен со всем, а в душе благодарил судьбу, подарившую мне эти прекрасные мгновенья…
Файл 21: ночь
С приходом ночи завод не прекращает свою работу. На вахту заступает третья смена. Территорию заливает свет фонарей: от оранжево-рыжего до молочно-белого. На верхушках и на стрелах кранов горят габаритные огни, теряясь среди звезд. Также гудят яростным огнем печи. Ночная жизнь завода кажется мне в тысячу раз интересней и захватывающей.
Мы катим по освещенным тротуарам, кидая взгляды на фонари, вокруг которых ткет бесконечность мошкара. Спешат куда-то молчаливо-таинственные рабочие. Листва акаций, под искусственным светом у здания администрации, кажется клеенчато-зеленой. Глубокий карьер чуть дальше, такой страшный своей пропастью днем, сейчас скрыт тьмой, и не видно его дна, залитого водой. Обычно на воде плавают осклизлые доски и днем на них греются жирные лягушки. Джалал иногда пытался сбивать их камнями, но ему редко это удавалось — лягушки обладают хорошей реакцией.
Баня представляет собой одноэтажное длинное здание. Металлические ряды ящиков убегают во мрак. Там же слышатся призрачные голоса и неясный, скраденный дверью шум льющейся воды — это домывается вторая смена. Джалал здесь свой: быстро нашел две пустые ячейки, скинул одежду, достал банные принадлежности:
— Кирилл, давай быстрей! — и исчез в помывочной.
Я раздевался медленно, без одежды чувствовал себя неловко и страшно робел.
А когда прошмыгнул в дверь за Джалалом, то потерялся. В помывочной, в душно-влажном мареве, тускло тлели лампочки. По стенам и потолку копилась влага. Иногда эти капли срывались и, попадая на меня, отдавали коже прохладу… Бесконечные ряды бетонных лавок, облицованных кафелем; плиточный пол с бегущей и исчезающей в воронках мыльной водой; четырехугольные тумбы с торчащими трубами и кранами; белеющие и чернеющие в пару тела безликих неспешных мужиков с гулкими голосами — все это было фантасмагорично и странно действовало на меня. Мне казалось — я выпал из потока времени и остался один на один с ним. Я созерцал его течение и не ощущал радости. Я был потерян в безвременье: маленький, беззащитный, нагой, один, совсем один… пока я действовал и не думал ни о чем таком, я был как бы хозяином положения, а теперь? Обособлен, отделен… Впервые почувствовал, что значит быть вне времени, быть одиноким среди других…
Откуда-то вынырнул Джалал. Он был воплощением действия — притащил два таза и вывел из ступора, сунув один:
— Аю, Кирыл! Пойдем за водой.
Мы наполнили тазы, а после стояли под душем.
В конце я настолько освоился в этой влажно-водной атмосфере, что не хотелось уходить.
Приезжаем мы к Муратовым-старикам уже к двенадцати. Под ногами вертится Керем — пытается прыгать на грудь и лизнуть.
Открывает нам бабушка:
— Вай-ай, как поздно! — она включила уличную лампочку и было слышно, как звучно стукаются и трещат крылышками серые мохнатые бабочки, кидая тени вокруг.
Бабушка заботливо о чем-то спрашивает. «Есть хочешь?» — переводит Джалал. «Нет», — отвечаю. Джалал говорит, бабушка уходит и выносит поесть. «А я проголодался», — улыбается Джалал.
Мы сидим на топчане, здесь нам постелили, и уплетаем за обе щеки. Вместе с едой бабушка принесла пакет крахмала. Им мы натираемся, чтобы нас не покусали комары. Джалал еще дурачится: крахмал здорово скрипит. Наконец мы ложимся. Бабушка уходит и выключает свет. Здесь, под чинарами, сразу становится непроглядно темно. Если посмотреть чуть в сторону и вверх, то видно звездное небо. Звезды усыпали темно-фиолетовую глубину пространства и подмигивают мне красно-сине-зелено… И чем дольше я вглядываюсь в них, тем больше их проявляется, и скоро звезд и звездочек становится так много, что эта темная бездна кажется усыпанной звездной пылью. И пыль эта живет: рдеет, струится, трепещет и пульсирует…
А на юге висит луна — печально и загадочно улыбаясь. Теперь она не желтая, а люминесцентно-белая, и красит этим рассеянно-призрачным светом мягко вырисовывающиеся контуры близких шелковиц, персиковых деревьев, алычи и виноградных лоз. Листья их, изменчиво меняя окраску, тихо шелестят и шуршат, дыша прохладой и принося таинственные шорохи и потрескивания в кронах. Журчат невидимые цикады, и под их ночной концерт — уверенный и отрывисто-настойчивый — я засыпаю и успеваю подумать, что завтра все продолжится: будет новый день, будут новые знакомства и открытия…
Файл 22: после
Просыпаюсь я рано. Моя душа как шар воздушный. Мне хорошо. И я вдруг вспоминаю — все! Я как спираль! Отбрасываю одеяло, вскакиваю… Грей путается в ногах. Какое страшное дело — привычка! Я одеваюсь — секундой! — размышляю: привыкание, пре терпение… С какой тяжестью жил все эти годы! А легкость кружит голову. Я сдерживаюсь — не подпрыгнуть бы! Легкость души, легкость на душе! Легкие раздуваются — побольше воздуха!.. Я вздыхаю глубоко — во всю грудь. Звенящая радость. В каждой клеточке! Жить с камнем внутри и не знать… А ведь живем и не знаем… Куда он пропал? Да сгорел! И дал вот столько энергии!
Я двигаюсь, двигаюсь! На все дела секунды: заправить койку, поднять гантели, гирю покидать, умыться, причесаться. На мгновение вглядываюсь в свое отражение — пытаюсь выявить перемены. Ничего особенного: внимательные глаза (говорят, мамины), челка на брови (стричься пора), резкие скулы (мама все мечтает, чтобы поправился — вот уж дудки) — может, только в уголках губ затаилась улыбка. Гримаса для прикола, отхожу. Одеваюсь легче — сделаю пробежку.
На улице еще сумерки. Прохладный ветерок — ежусь и перехожу на бег, Грей рядом. Радостный настрой гонит кровь живее — я согреваюсь, лишь морозец тлеет на щеках. Играю с Греем: гоняюсь то за ним, то он за мной. Ему нравится, даже подливает от возбуждения и прикусывает рукав. Бегу по старому маршруту.
Небо на глазах делается яснее. Синева и фиолетовые тени покидают глубины деревьев и кустов — прячутся в подъездах. Истаивают последние клочки облаков на небе. Золотятся верхние этажи высоток. Восток окрашиваются в пурпур. Громче звуки транспорта с недалекого проезда. Стукаются двери подъездов, становится многолюднее. Половина восьмого. Возвращаемся домой.
Мои уже встали. Я целую маму — у нее выходной.
— Салям, пап-джан! — папа в ванной, бреется.
— Как там, Кирюш? (в смысле — на улице).
— Классно: солнце, мороз, — но в самый раз! В общем, прекрасно! Гулял бы — день!
— Ты это чего?! — улыбается мама, а в глазах удивленное недоумение (или недоуменное удивление?).
— Мам, я есть хочу! — крикнул. — Слона бы съел! Я голоден!
А был влюблен.
На мир опустилась Вселенская Любовь. И по пути в школу, встречая друзей, посторонних прохожих, казалось мне — все они объединены одной единой Тайной. И имя тайне — Любовь. Это как пароль. Скажи им это слово, и тебя поймут, и станут близкими. С другой стороны я знал: у них не было того, чем я обладал — и нес им нечто, что сделает их счастливее: нес им свои чувства! Я был как сосуд — хрупкий и прозрачный — и светился…
Я понял, для чего родятся люди, — для таких вот встреч. Я рос для этого — чтобы испытать такие чувства… Передо мной распахивались такие дали! Как опрокинутые небеса… Что, оказывается, может испытать человек! Я млел от ужаса — сладкого и томного. То леденели руки, и зубы начинали выстукивать дробь — не мог и двух слов друзьям сказать, то кидало в жар, и речь моя лилась свободно, и шутки вылетали одна за другой… Мне то хотелось делиться своими ощущениями, откровенно рассказать о ВСТРЕЧЕ, то открыть все, затаится, и, в эгоистическом приступе, смаковать свои чувства — ни с кем не делясь…
Когда подошел к дверям класса, то понял, — увижу ЕЁ. И двери открыть не смог. А когда все же вошел, наши с ней взгляды столкнулись — как электрический разряд! Мы их спешно отвели. Мои щеки потеплели — я, наверное, краснел, а губы задрожали в улыбке — моя Тайна была и ее. И я понял еще: не надо никого — это лишь наше…
Так с тех пор и повелось. По вечерам на катке, а если было холодно в прогулках, в подъездах, мы были вместе. А днем встречались глазами и тотчас их отводили — мы стали заговорщиками. Против всех, против мира. Это следовало скрывать. Мы стали лучше, а этим не хвалятся; мы стали богаче, а это скрывают; мы стали счастливее, а этому завидуют; мы стали сильнее, а это вызывающе; наконец, я стал свободнее, а это ущерб для других! И все безвозмездно, и все без усилий, а это нечестно, несправедливо, — а как же другие? А как же с другими?! Но, странно, все это ничуть не пугало, все это вздымало! Вот эту раздвоенность, свою шизанутость мы и скрывали. Но как скроешь радость от присутствия другого? Как скроешь энергию свою? Все равно прорывалось: во взглядах, в ответах, в общении с друзьями. Это замечали, на это обращали внимание: Кирилл, ей-богу, ты тяпнул! Ну и ладно! Ну и пусть! Будьте как я! Пусть будет новое: люди, ощущения, слова!
Через несколько дней, все, кому надо, знали: Кирилл Ястребцев дружит с Ольгой Никитиной.
Файл 23: отъезд
Прошел год. И вновь встретившись с Джалалом, понял — былых отношений не будет: мы повзрослели — вернее, повзрослел он. Подружился со старшими мальчишками, стал более циничным, презрительно сплевывал при разговоре, садился на корточки и затягивался, пряча сигарету в кулак. Уже не так охотно радовался при встречах и не звал к себе играть — интересы его стали совсем другими.
Все на мгновенье вернулось, когда зашли в столовую перекусить и нас там встретила Джейран. С Джалала упала та холодная маска взрослости, и мы шутили и смеялись как раньше. Когда сестра его ушла, Джалал посмотрел на часы (тоже вот появились) и сказал, что ему надо в одно место, с собой не звал… Я попрощался с ним и понял, что адрес его: «Кир. завод, гр.7–27, кв.12» — мне не понадобится: писать друг другу (ведь мы уезжали) нам ни к чему. Вот еще истина: все проходит…
А через пару недель отец уволился. На прощанье подарили ему натуральный национальный ковер: большой, толстый и очень дорогой; и невообразимый сервиз с его родной линии: глиняные чашки, чашечки и чашищи; таких же размеров и неповторяющихся форм заварные чайники; целые горы тарелок, несчетное количество пиал; вазы для фруктов; вазоны для цветов; салатницы и рыбницы — и все это было тяжелое, глазурованное, с выдавленным и вдавленным орнаментом, грубоватое, стилизованное под ручную, топорно-старинную работу. А уж кувшинов — толстых, тонких, с высокими и короткими горлышками, с ручками и без — столько, что не знали куда деть…
Еще раньше он продал свою «Волгу». Сделали какую-то комбинацию с продажей квартиры: фиктивно развелись с мамой, потом мама так же фиктивно расписалась с покупателем, прописала его на этой жилплощади, вновь развод, но квартира уже за покупателем, а деньги у родителей и без высоких налогов на куплю-продажу, оформление всяких бумаг и взяток чиновникам. На все манаты папа купил доллары и отбыл в Россию, в свой родной город. Оказалось, за пару лет списался со своим другом юности, ставшим каким-то крупным госчиновником, и тот нашел ему место по профилю. Сейчас надо было утрясать необходимые формальности и шероховатости.
Папа часто звонил, мама нервничала: проблема с пропиской — чтобы прописаться, надо жилье, чтобы жилье купить — надо гражданство, чтобы гражданство было — нужна прописка — заколдованный круг. Ну, ладно, прописался у родителей в районе, кредит, самое лучшее, через пару лет — не они первые: очередь… Но тут ударило семнадцатое августа: рубль упал, доллар скакнул, и папа принялся ковать железо не отходя от кассы. Купил квартиру в каком-то престижном районе: четыре комнаты да плюс гараж и дача за городом, приобрел «жигуленок» седьмой модели фиолетового цвета, прислал перевод и наказ, чтобы срочно отправляли контейнер и выезжали сами. Мама получила расчет, сделала прощальный сабантуй, и мы отправились.
Файл 24: метания
Мое состояние влюбленности отразилось на моих выступлениях ужасно. Конечно, силы удесятерялись, но я не мог ни есть, ни спать и, само собой, не мог и драться. Нужно было быть агрессивным, злым, даже жестоким, а я так любил весь мир… В.В. в последнее время во всем стал полагаться на меня, в частоте, в объеме тренировок и т. д. А я все чаще позволял себе неделями не появляться в спортзале, сказав, что перетренировался или что-нибудь в этом роде, а сам пропадал с Ольгой.
Стал уже забывать, что такое кропотливая будничная работа над техникой, посмеивался и над Андрюхой Савельевым, и над Филиным, и над остальными Шуриками… Теперь, после знакомства с Ольгой, фехтование перестало быть целью, а стало лишь удовольствием. И как только удовольствие уходило — бросал шпагу. И был доволен, что В.В. не принуждал меня. Все это, конечно, не значило, что я не хотел быть первым. Просто, благодаря чувствам к Ольге, было какое-то тайное знание: победы ждут меня. И первые проигрыши мне были, будто безразличны, но когда В.В. сказал: если так будет продолжаться и дальше, то ни о каком Кубке стран Балтии не может быть и речи — я вдруг почувствовал себя несчастным. Было уязвлено мое самолюбие. Ведь успел выиграть все мыслимые турниры и чемпионаты, и Ольга знала меня чемпионом, а что теперь — чемпион-то дутый?! Ну, нет! За будущую победу я готов был платить — вперед бесконечными тренировками, отречением от лишних встреч, докажу всем — я не стал хуже. Все ведь просто: чтобы долго побеждать — надо долго тренироваться.
Я возобновил тренировки во всем объеме: физические нагрузки, бег по утрам. Выпросил у отца четвертную на рибоксин. Конечно, видимый эффект наступит, если пить его горстями, как Сашка Четвергов, который увлекся «железом» — стероидами это в качалке у них не считалось, так — профилактика.
Но мышцы мышцами, надо было что-то делать и в технике, и в тактике: придумать, и умело притаить — до поры до времени. А это — ох! — как трудно. Ведь большинство моих соперников — это и мои товарищи, друзья по команде. Вот на тренировках и приходилось прятать тот или иной прием, который стал хорошо получатся — берег до соревнований. Правильно ли поступал? Не думал об этом. Одна цель была: выиграть отборочные и победить на Кубке — во что бы то ни стало! Конечно, в такой момент и с В.В. сложились сложные отношения. Любую новинку нужно, прежде всего, отработать с тренером, но он ведь может посчитать, что это новшество может быть полезным и другим: начнет отрабатывать прием, ну а там возникнут мысли о контрприеме и т. д. Поэтому после первых ступеней отборочных, на которых я применял то или иное изобретение из моих тайных арсеналов, он или бранился за мое «придумывание», или просил повторить, а я юлил, говорил, что выходит само собой, что уже забыл. Не знаю, верил ли В.В., но как мне нужно было поступать в тех случаях, не ведаю. Говорил себе: вот только до Риги, а потом уж скрывать ничего не буду…
Ну и просиживал в спортзале целые дни. Покидал его последним. Отрабатывал приемы на чучелах, мишенях или с Андрюхой — заделавшимся моим спарринг партнером. Любил, когда брал в руки клинок В.В. — владел одинаково и правой, и левой. Время вылетало у меня из головы. Когда В.В. прекращал схватки, говоря, что все получается великолепно, я отвечал ему: это вы так, Василь Валентиныч, чтобы меня пожалеть, ну давайте еще чуть-чуть! «Загонишь себя, ворчал В.В., ну смотри, еще минут десять»…
Файл 25: у нее
…Жила Ольга на четвертом этаже. На лифте мы не поехали. Прошлись пешком. Открыла дверь своим ключом, крикнула в глубь: «мам, я не одна». Из кухни, рядом с прихожкой, появилась женщина в переднике — обтирала руки полотенцем. Стала ясно на кого похожа Ольга: те же глаза, та же улыбка, форма ушей, нос… Мы поздоровались.
— Мой одноклассник — Кирилл, — знакомила Ольга, — моя мама.
Я страшно смущался.
— Можешь звать Валентиной Дмитриевной, — улыбнулась та. — Значит, вот он какой-чемпион, слышали, слышали… Давайте, раздевайтесь, в зал проходите.
— Мы ко мне пойдем… — Ольга упорхнула.
— Кирилл, вон тапочки. Чай скоро будет готов.
На мои попытки отговориться, типа: не надо, не хочу, спасибо — лишь улыбались, отказов не принимаем, с пирогами в самый раз.
Ольга уже махала рукой: идем.
Надо сказать, что спальня ее внушала уважение к усилиям владельца: Все стены были оклеены плакатами, постерами, обложками журналов — с фотографиями кумиров, поп-идолов и рок звезд. Из киноактеров преобладал «утопленный» Леонардо ди Каприо и более солидный и мною уважаемый Джон Траволта. Оторваться от стен было трудно, и во время легкого трепа я все вращал голову и тянул шею во все стороны.
Появился рыжий кот, который оказался наглым и довольно бесстыже лазал по столу, окну, кровати и брезгливо дергал хвостом. Ольга его любила, гладила и ласково тютюшкала.
Потом мы смотрели фотографии (ради этого, в принципе, и был затеян поход в гости). Яркие, красочные фотки были упакованы в большой фотоальбом и каждая сопровождалась комментарием. Надписи вырезались Ольгой из газетных и журнальных заголовков, и были остроумны и смешны.
Нас позвали пить чай. В зале, на столике, стояли вазочки с вареньем, пирожками и печеньем, дымились кружки. Валентина Дмитриевна живо интересовалась моими успехами на дорожке, школьными делами, вспоминала свои школьные годы.
Когда чай был выпит, и она собиралась нас покинуть, раздался звонок. «Это отец», — сказала Валентина Дмитриевна, и пошла открывать. Да, попал я!
— Охо-хо, холодно! — донеслось от двери. — Встречайте Деда Мороза! Пришел марток — одевай трое порток!
Голос был густой, басистый. Ольгина мама что-то сказала и вновь раскатилось:
— Ну-ну, гость — это хорошо-о, дай-ка, мать, посмотрю…
От двери было видно плотного коренастого мужчину в зеленой военной одежде. От Ольги я знал, что отец ее работает в военкомате. Он прошел в зал, потирая руки.
— На остановке хо-олодно, наро-од стои-ит, жде-ет, — говорил он добродушно, растягивая гласные и делая ударение на последних слогах, — а транспорта не-ет. В общем, безобра-а-азие.
Моя рука утонула в его ладони. Такое ощущение, будто пожимаешь гранит.
— Ну-с, добрый вечер, молодой человек. Будем знакомы, — он внимательно разглядывал меня, — Павел Петрович.
— Кирилл.
— Мать, приготовить нам чайку. Посиди-им, поговори-им…
— Да мы уже, — улыбнулась Ольга.
— Ничего-о, — проговорил Павел Петрович, — пока самовар не выдуем, гостя не отпущу-у…
Он подмигнул мне.
С приходом этого человека в квартире, будто тесно стало: голос его громыхал и в спальне, и в ванной. Он напевал: из-за острова, на стержень, а на замечание Валентины Дмитриевны о том, что он когда-нибудь подарит свои уши морозу, подшучивал: нет, не отдадим, а пристанет — мы его прихло-опнем, вот так… и похлопывал, тер себе уши: вам-то хорошо — в платка-ах, в шаля-ах!..
Я тушевался, на его шутки отвечала Ольга, ее поддерживала Валентина Дмитриевна. Павел Петрович легко отбивался и давил их своим командирски поставленным голосом.
За разговором и большим количеством выпитого чая, время пролетело быстро. Когда я было собрался уходить, Павел Петрович заявил, что без ужина меня не отпустит: мать, как у нас там? Но я действительно задержался и отговаривался: и родители будут беспокоится. Телефон есть? Павел Петрович, я бы с удовольствием, но мне действительно надо… Ну что ж, если надо — так надо… Меня проводили: ну заходи, чемпион, всегда рады…
Шел домой переполненный чувствами: с такими хорошими людьми я познакомился. Да, главное в этом мире — добрая встреча…
Файл 26: в подъезде
Россия — другое государство, поэтому мама оформляла визу транзитом через Узбекистан: сколько было собрано всяких бумаг! Даже моя детская медицинская карточка и карта прививок…
В Ташкенте мы садимся в поезд «Москва — Ташкент». Вагоны ташкентского красные. Окна и двери распахнуты. В проходах гуляет ветер и летают осы. Здесь полно ос. Смуглые, узкоглазые узбеки завалили все тамбуры дынями, аромат их — медовый и пряный — разносится по всему составу и приманивает этих желто-полосатых хищниц. А еще у узбеков тюки с трикотажем — где они только не навалены и чем они только не набиты! Мама покаялась, что решила сэкономить — надо было брать купе. Ладно — трое суток, как-нибудь…
Мне нравятся открытые окна — так и хочется высунуться и мчаться так под ветром, но мама не разрешает, и я нахожу выход: иду в туалет, там встаю на унитаз, и голову — в окно. Через два дня волосы как проволока, а лицо от копоти смуглеет, делается как у узбеков — но это ерунда.
Поезд несет нас все дальше на северо-запад. За окнами мелькают нескончаемые волосья проводов на столбах-гребенках; далекие и близкие деревеньки; степи, леса, мосты, переправы, переезды; города и городки. Меня переполняет радость первооткрывателя: я готов без конца улыбаться; болтать о пустяках с соседями; высовываться из окна; бегать на остановках по привокзальным киоскам, заставляя трепетать сердечко мамули — и делать тысячу других мелких дел.
Мы уже в России. На очередной станции кучей сходим по решетчатой лестнице на бетон перрона. Вновь мелькают напряженные лица, скользящие глаза, торопливые движения и хмурость — радостные лица лишь в поезде. Рядом снует провинция: бабки, женщины, мальчишки — все кричат:
— Пиво, рыба, пирог с картошкой!
— Лимонад, минеральная вода…
— Вишня, яблоки, кому вишни?!
Около покупателей стихийно закручиваются водовороты: сбегаются продавцы, уговаривают приобрести то или иное, и подсовывают свои товары:
— Семечки берем, семечки…
— Картошечка — горячая! Горячая картошечка.
А пирожки в корзинках, в картонных коробках; а рыба на проволоке через глаза; а пиво в ведрах, в холодной, якобы, воде:
— Ряженка, молочко! — в пластмассовых полуторалитровых бутылках…
— Супы, лапша — быстрого приготовления!
— Кому хлеб?! Горячий хлеб! Берем батоны, пирожки! Пирожки берем!
Азрат, наш сосед, молодой юморной узбек, начинает очередное представление: он то берет, то не берет, приценивается — возле собирается куча бабулек, — ощупывает, обнюхивает рыбу — с икрой? — критически оценивает — дай твою, — бабульки нахваливают — вот пиво к рыбке! Азрат ломается, узнает срок годности: темное? — нет, темное не надо — кто знает что там! Забористое? Из-за забора пивзавода? Нет, мать, у тебя не возьму, не уговаривай, я очень капризный… Мы стоит рядом, смеемся — все так серьезно к нему относятся, а знали бы какой он на самом деле! Наконец Азрат покупает кое-что. Тут еще подходят молодые женщины, мальчишки с рыбой…
— Нет, сынок, рыбы не надо, а вот тебя, девушка, взял бы!
Женщина смеется:
— Дорого встану!
Менялись вокзалы: красного кирпича, в зарослях сирени и тополей, большие из бетона и стекла, в окружении многоэтажек — обычно в таких вагоны осаждали. Узбеки торговали: дыни свежие, вяленые, урюк и персики, а также — тапки, трико, халаты, трикотаж. Проходили мимо милиционеры с рациями на поясе и дубинками в руках; подходили нищие, собиратели пустых бутылок, цыгане, беженцы, погорельцы. Все суетились, торопились и наоборот — не торопились, отрешенно глядели внутрь себя; дремали на лавках, друг на друга облокотясь…
На все я смотрел свысока — я прочно сидел на стреме жизни, у меня была цель и с каждым часом был все ближе к ней…
Файл 27: Рига
На Рижском вокзале оранжевые пластмассовые сиденья в ряд и отсутствует толкучка как на Казанском или Белорусском. Помещение небольшое и чистое. Много говорили о том, как прибалты ненавидят русских, мы, в свою очередь, тоже заочно переполнились враждой к ним. Но еще больше говорили об эстонской школе фехтования: сильная, крутая — мне не терпелось встретиться с ними.
На границе наши вагоны прошли латвийские полицейские в черной форме и закатанными рукавами, в ремнях — как эсэсовцы. Они держали списки в руках и сверялись по ним. Русской речи совсем не осталось.
В Риге ждали автобусы с проводником. Поселили нас где-то на окраине, в школе, по классам: парты были сдвинуты к стене, а на полу в куче лежали раскладушки. Мы немного поворчали, но, в принципе, это было романтично и по-походному. Кормили тут же, в столовой. Были еще команды из Уфы и Торжка. Клубы из богатых городов: Москвы, Казани, Нижнего, Петербурга — разорились на гостиницы. В первый вечер играли в карты, всем конам и счет потеряли, но за окном было еще очень светло и спать не хотелось. Кто-то взглянул на часы и присвистнул: мужики, а время уж двенадцатый! Вот тогда-то и кинулись все на улицу, позвали девчонок — смотреть белую ночь.
Командные поединки особых волнений нам не приносили: ни в первый день, ни во второй. Легко и без напряга вышли в тур прямого выбывания. В четвертьфинале должны были встретиться с командой Эстонии. Начиналось все неплохо: петербуржцы, белорусы, — но проигрышей копилось все больше. Проиграл свой бой и я — какому-то левше Кайдо. Как всегда, я сразу шел на сближение и атаковал. Но на этот раз при входе в дистанцию меня обманывали и кололи в бедро — сразу понял: его «коронка». Я расстраивался; пытался скрыть это; начинал искать в захват его оружие — он контратаковал в руку, останавливал меня, а на отходе колол длинным выпадом — и опять в бедро! Я нервничал, забывал обо всем, бросался в атаку вновь и вновь, но… он выиграл этот бой — в чистую! — несмотря на мои заготовки.
При счете 8:5 в их пользу встреча была прекращена — эстонцы вели 17 уколов и, даже проиграв оставшиеся три боя по 5:0, все равно имели бы преимущество.
На обед ехали уставшие и были молчаливы. Четвертьфинал мы провалили.
После обеда нас возили в Старую Ригу осматривать Домский собор: на метр он врос в землю и был обкопан вдоль стены. Высокая башня с каскадом зеленых куполов, мал мала меньше, — прошита шахтой лифта: поднимались на нем по четверо — любоваться панорамой. Внутри собора стояли дубовые лавки, а в стенах за плитами ждали второго пришествия замурованные мертвецы. Был еще саркофаг, прекрасные витражи, а вот орган не довелось послушать — а какой высокий свод! Захватывало дух. Было очень красиво!
Вечером с местными играли в баскетбол — они тут на площадке стукали мячиком, в кольцо бросали, вот мы от нечего делать и сообразили… Блистал, как всегда, Сашка Четвергов, Филин классные проходы делал. Я так, на подхвате — в баскетбол не очень, вот волейбол — другое дело! А вообще в эти игры мы на уровне играем. На тренировках не было дня, чтобы не состоялась игра в волейбол или баскетбол. Этим снималось напряжение от все-таки монотонных однообразных фехтовальных упражнений.
Местных мы обыграли. Договорились завтра встретиться.
Вечером В.В. настраивал нас на личный турнир. Мы знали, что Кубок собрал очень сильных спортсменов, а с известными именами в СНГ было человек тридцать. И завтрашний турнир предъявлял повышенные требования: чтобы пройти все ступени отбора и тур прямого выбывания (где сражались на 10 уколов 64 человека), да еще без утешительных боев — нужно было действительно быть сильным и со стальными нервами. И вечером, перед сном, мы были насторожены и невеселы. Притих даже балагур и весельчак Санька Колчков. Он не блистал на дорожке, но всегда дрался упорно и отчаянно, и В.В. решил включить его — поможет хоть нам. Спать легли рано и наш этаж сразу затих.
Отдых пошел мне на пользу. В первой половине дня сумел опередить всех, победив в решающем бою какого-то петербуржца — претендента в Олимпийскую сборную. На обед уезжал полуфиналистом. Финал, чуялось, будет поздним вечером.
В полуфинале встречаюсь с еще одним эстонцем. Он был длинный и на любое мое движение вперед делал атаку «стрелой» и наносил укол. Не успеваю даже сообразить, а счет уже 0:3. Зато после на меня снизошло какое-то спокойствие и мозг заработал как компьютер: так, сокращать дистанцию с ним нельзя; главное — выдержка. Вхожу в дистанцию и быстро ее разрываю; дистанция — разрыв. Соперник не выдерживает — атака! Ловлю во вторую защиту и — укол! 1:3. Дважды прижимаю его к границе, и оба раза он выбрасывается в жесткую атаку «стрелой». Но я-то жду, и эстонец увязает в моих защитах. 3:3. Проигрывать всегда обидно, и он сам начинает теснить меня — обоюдные уколы. А затем вновь ловлю его оружие во вторую защиту — выбирался тот из нее очень трудно. %6;. Ну, а дальше дело техники. Побеждаю 10:6.
В финале встречался с самим Олегом Мигуновым из Москвы. Проиграл ему. Он владеет филигранной техникой: уколы в руку его так быстры и точны, что не успеваешь отводить их. Жесткие защиты выполняет без долгих раскачек и скупыми движениями — так что не разберешь, в какой позиции перехвачен мой клинок. И ловил на выпаде — начинал Олег медленно, как бы нехотя, и пока думаешь, что сделать, вдруг мощное ускорение и уж поздно уходить в отрыв. Как правило — укол. Три раза с ним встречался и всегда проигрывал.
По результатам стал серебряным призером. И выполнил минимум на I взрослый — выиграл у тридцати перворазрядников. Получил Кубок и красочный диплом. А перед отъездом подошли ко мне представители московского клуба и предложили поступить в их спортивную школу-интернат: проезд домой на каникулы, праздники — бесплатный; карманные деньги, экипировка — все за счет клуба. Это было неожиданно, я был одновременно растерян и счастлив, но куда денешь провинциальную дикость? Испугался. Отказался наотрез. Предложили не торопиться, подумать, обсудить с родителями — оставили координаты.
Файл 28: море
В конце июля меня включили на сборы. Ехали к Черному морю… («Bad file data, CRC error!»)
В «Икарусе» было жарко. Все, что можно распахнуть, — распахнуто. Доедалось и допивалось то, что закуплено на вокзале. По салону летают пластмассовые бутылки с яркими наклейками, груши, бананы, плывет запах апельсинов, доедается спешно мороженое. Мы едем как баре: впереди милицейский «жигуленок», а позади «скорая».
Когда выехали из города, сидящие у окон с южной стороны стали обливаться потом и позадергивали шторки. В те же окна полетели огрызки яблок, груш, кожура бананов и апельсинов, бумажки из-под мороженого и даже пустые бутылки. Сделали замечание. Первоначальное возбуждение стало проходить. Утихли громкие голоса, смех, разговоры, гитарное бренчание. Автобус мерно покачивался, обдувало ветерком. Я начинаю подремывать.
Все эти неполные двое суток превращаются для меня в некое захватывающее волнующее действо. Я наслаждался, впитывая в себя и запах купе, и названия станций, и неустанное покачивание вагона, и новые лица ребят, и бесконечные разговоры. Я словно зарядился энергией ночи на вокзале, где под сильными фонарями столпилась толпа с бледными лицами от ртутного света; где слышались взволнованные разговоры родителей и бесконечные, с капелькой капризности, ребят; где чувствовалось беспокойство; где мы сбивались по командам; где в якобы пустяшных обменах репликами скрывали свое нетерпение и заинтересованность в предстоящем мероприятии; где родители новичков делились настроением с родителями, чьи дети попадали на сборы не в первый раз; где все что-то выспрашивали у провожатых, тренеров; и где нас который раз пересчитывали; где я прощался с родителями — так и сохранял я эти ощущения на протяжении всего пути. Казалось, я впал в детство: все это уже было — тогда, при переезде из Города детства, — и беспричинная радость, и высовывание из окна и т. д. и т. п.
Это путешествие захватило меня, и мне хотелось испытывать все новые и новые впечатления. Много ребят из секций нашего Дворца спорта уже бывали на сборах — мы познакомились с соседями, — и как я ни выспрашивал у них о лагере, и особенно о море, ничего нового не узнал. Мое настроение не падало после их сухих рассказов, и мне хотелось туда еще больше: стремился увидеть то, что упустили ребята, — а в том, что увижу нечто особенное, и не сомневался…
По салону ветерком проносится — скоро море! Я стряхиваю дремоту и оглядываюсь. За окнами мелькают гущи садов — необыкновенно густых и сочно-зеленых, — на какой-то миг мне показалось, что я вновь попал ТУДА — на МОЙ юг, но нет, здесь неуловимо по-другому.
От домиков остаются крыши и кусочки белых стен. Мы въезжаем в какой-то пригород. Домики с садами опускаются по холму к шоссе и убегают из-под шоссе дальше вниз. Сами мы поднимаемся вверх, и хорошо видно, как растянулась наша колонна. Мы переваливаем хребет и поворачиваем влево… И кто-то говорит:
— Море…
И уже громче:
— Смотрите! Море!
Все (ну кто все? новички, разумеется) срываются с мест, шебуршат, мешают друг другу и кидаются на правую сторону. Я тоже. Тоже толкаюсь, лезу, согнувшись, вперед, висну на спинке кресла, вытягиваю шею. И вижу море!
Далеко внизу, в большом прогале меж садов, крыш домов, купами деревьев и высоко к горизонту синеет огромный лоскут водной глади. Объемная глубина создает такое зримое присутствие огромности водных пространств, что я ощущаю озноб: каждая клеточка впитывает глубинность этой синевы, и когда мы выезжаем на открытое место, мои глаза и голова прямо тонут в открывшемся просторе. Никогда я не видел такого количества воды и сейчас охватывался и тонул в этой безбрежности. У всех вырывается вздох восхищения. Мы как-то дружно, без команды, охваченные единым порывом, кричим: «ва-у! е-е-э!» — кто как…
Слева от нас вздымаются кручи. Деревьями они поросли вверху, и нам видны белые скаты известняка с рыжими проплешинами. Все скаты изборождены дождевыми потоками и кое-где их подошвы подпирают бетонные бордюры — многотонные блоки. Склоны дыбятся, ломаются, припадают и вздымаются вновь. Лес поверху то наступает, то уползает снова на гребень. Впереди наплывают новые холмы… Море же справа, за крутым обрывом, казалось, никуда не спешило. Оно стояло на месте и осознавало свою нескончаемость. Я сижу и не отрываю от него взгляда. Надо быть могучим, чтобы вот так разлечься вольготно среди великих пространств и вздымать — чуть лениво — свои волны. Море поблескивает на солнце, по нему скользят катерки и яхты. Кружат чайки. Море так близко…
Файл 29: на юге
На сборах в этом лагере были: юные футболисты, борцы («вольники» и «греко-римляне», В.В. называет их: «мУжи — ломаные уши», я вглядываюсь и действительно замечаю — у многих пацанов, особенно старших, уши плоские и тесно прижаты к черепу; борцы все лысые), ходоки (эти любили по вечерам привязывать к дверным ручкам эспандеры и ногами их оттягивать), волейболисты (все длинные, разыгрывали перед сеткой разные комбинации: «углом», «коробочкой» и т. д.), были даже спортивные танцоры, студия «Алые небеса» (надо сказать, в своем большинстве задаваки). Позже должны были приехать троеборцы и пловцы.
Дни летели: открытие лагеря, с речью шефа, линейкой и поднятием флага, с кострами на побережье в южной ночи, веселыми стартами, межотрядными (ух! сколько было эмоций и криков!) культурными мероприятиями и тренировки, тренировки, тренировки: приходили глазеть на нас, мы на других. Особенно много зевак собирали танцоры — что говорить, красивые были танцы — все «латино», зажигательные, эмоциональные, с внутренним напряжением… Но дружили мы с борцами. Несмотря на их довольно внушительные «пачки» и свирепые лысины, оказались ребята добродушными и веселыми. Во всех командах были и далеко уже не школьники: студенты «физвос»-факультетов различных вузов.
«Bad file data, CRC error!»
Еще внутренняя жизнь… Разве я мог рассказать им о море? О том, что я потерял его? Конечно, море было; конечно, было здорово купаться в зеленоватой прозрачной воде; уходить в даль на водных велосипедах; на пляже зарываться в песок. Но как я мог объяснить, что не было моря ЖИВОГО?! Только на минуту открылось мне оно — там, на повороте. Там была радость узнавания. А что здесь? Я видел придаток человеческой деятельности, я видел индустрию отдыха — пространство голых людей: красных, коричневых, черных — лениво, вповалку лежащих. Я видел ряды комков, прибрежные воды, забитые головами, кругами, мячами, надувными матрасами. И моя душа ослепла. Создавалось впечатление, что людей больше воды. Не мог же я признаться в том, что ждал того, что море будет только моим?
Я бродил. Лазил на кручи. Спускался к воде. Валялся на пляже. Я искал.
Файл 30: находка
Сегодня я проснулся рано. Отбрасываю простынь — вскакиваю. Линолеум холодит ноги. Он весь усыпан кусочками желтой сморщенной кожи. Мы все по-страшному облезаем. Колчков и Четвергов с Филиным уже обзавелись подружками из «ходоков», вот они по вечерам и обдирают им плечи, спину… Мне приходится справляться самому: грудь, руки, ноги… А новая кожа горит — я будто плитка: теплый круглые сутки. Странное дело: моя прошлая жизнь — Ольга, папа с мамой, город, дача, дом — отодвинулись куда-то на край сознания, и, звоня иногда по вечерам и Ольге, и родителям, ощущаю, что звоню в прошлое. Я даже переживал некую вину: вот, не грущу, не тоскую, — но оправдывал это насыщенностью дней, пестротой обстановки, новыми друзьями: никогда раньше не жил в такой куче людей, характеров, общения…
Я тихонько двигаюсь. Обхожу Четвергова и, стараясь не греметь балконной дверью, окунаюсь в свежесть утра.
Сейчас еще рано, и воздух сыроват — ночью капал дождик. Небо высокое и ясное. Оно прозрачное-прозрачное. Клумбы и подножия деревьев окутаны мягкой дымкой. Громко чирикают воробьи и какие-то неведомые птички, их голоса эхом отпрыгивают от тихих стен корпуса. Пахнет влажной землей и близким морем.
Слышится разговор. Из-за корпуса выходит дворничиха. Она с огромной метлой, минуту примеривается и начинает описывать полукруги: ши-и-ир, ши-и-ир — долетает до меня.
Больше спокойно стоять не могу. Возвращаюсь в палату, хватаю полотенце и мимо сонных комнат, по лестнице, через зеркальный холл, выбегаю на прохладный двор.
В близкую рощицу солнце еще не проникло, и всюду разбросаны радужные капли. На земле темные остатки следов ручейков, обрамленные бледно-зеленой сосновой пыльцой. Вниз ведет просека и бетонная лестница. Но я предпочитаю, как и все другие мальчишки, путь куда интереснее. Он не так полог, не так гладок, не так широк. На нем нет лавочек со спинками и нет перил. Но зато я ощущаю все неровности земли, но зато я дотрагиваюсь руками до веток кустарника, до стволов деревьев — они теплые и шероховатые, и мои колени изредка задевают широкие, перистые листья папоротника — холодные и сырые, снизу усеянные коричневыми шишечками; из них сыплются споры, оставляя на коже еле заметные мазки. А еще тропинку причудливо пересекают корни. Они похожи на лениво разлегшихся змей. Корни узловатые и сверху сотни ребячьих ног отполировали их до блеска. Вот и я сейчас перехожу и перескакиваю с одного корня на другой. На спуске корни образуют небольшие терраски, и когда ручейки, прорыв неглубокие русла, упираются в них, то появляются десятки водопадиков.
А просвет все ближе. Деревья как бы расступаются передо мной, и уже поблескивает то, к чему я стремлюсь. Но выдерживаю и срываюсь с места. Уклон все круче, делаю огромные скачки, резкие завороты, не обращаю внимания на шишки и твердые корни — вся моя сущность рвется вперед. Вот последние сосны, осинки, полоска кустов — и я вырываюсь к морю. К моему морю: наконец нашел его…
А еще вчера грустил…
Все бродил, все искал, все лазал на кручи, спускался к воде, ходил в обгорелой толпе и до боли в глазах в блестящее море смотрел. Но все чужое, но все обыденное. Я устал, я отупел, а вокруг все так же: сутолока потемневших тел, в лежку на полотенцах, на покрывалах, недвижные фигуры с полосками купальников и плавок. Мальчишки с корзинками — хрипло: «А вот кукуруза, а вот кукуруза!» Пот каплями, пот ручейками, зеркальные очки; бутылки газировки, разноцветные полутора— и двухлитровые, запотевшие внутри, закрытые от солнца; белые панамки на голых детишках, улыбки снежно-белые, улыбки золотые; наносники, цветные козырьки; широкополые соломенные шляпы; шезлонги деревянно-реечные, шезлонги под зонтами, на террасе под крышей; грибки поваленные, грибки покошенные; фотограф с треногой, газета как веер; многоголосый шум, многоголосый гуд, на тон всех выше тонкий детский плач; накатный шелест волн; сырая полоса прибоя, дети, замки из песка, мячики голов; плечи, спины, груди, двуцветные круги; шары, матрасы надувные; водные велосипеды, перегруженные и нет; смех, брызги, разговоры; мороженое, белые потеки, капли, капли, а моря нет, а моря нет…
Я вдруг очнулся. Я прошел весь пляж и подходил к ограде. Мои ноги вязнут в песке, выше щиколотки они покрыты белой пылью, а все мое тело — кристалликами соли. Я стараюсь идти так, как читал в одной книжке: подвернув ступни вовнутрь, чтобы нагрузка распределялась на все пальцы. Песок обжигает, я сворачиваю к сырой полосе прилива. Только здесь я нахожу следы моря: побуревшие, йодисто-пахнувшие нити водорослей, обкатанные цветные голыши, блистающие серебром, неведомо как попавшие сюда чешуйки рыб, перламутровые кусочки расколотых раковин. В карманах моих шорт, что осталось там, где мы оккупировали кусочек пляжа с командой, лежат камешки мрамора (так я думаю), с девственно белым сколом и черными переплетениями на гранях, две бугристо-колючие клешни крабов и створка раковины мидии.
Я дохожу до металлической сетки ограды, захожу в море — волна, дошедшая до пояса, мягко приподнимает меня — и миную заграждение. Здесь узенькая полоска дикого пляжа: нет привозного песка, одни голыши, круглая галька и серые валуны. Склонив голову, машинально продолжаю путь. Ничего интересного. Дохожу до нагромождения камней — дальше кручи, и хотел было повернуть.
— Ты рапана ищешь?
Я немного удивляюсь и оглядываюсь. Мальчишка, что перепрыгивал с одного валуна на другой, был похож на проявленный негатив: загорелая до шоколада кожа и выгоревшие до белизны русые волосы.
— Здесь не найдешь. Лучше у водолаза спросить. Тут часто один собирает.
Мальчишка подходит ко мне и останавливается. Я припоминаю, что видел его мельком в нашем санатории. Мне грустно, одиноко, и я рад неожиданному собеседнику:
— Море я ищу, понимаешь?
— Море? — удивленно переспрашивает мальчуган и невольно бросает взгляд на водные просторы…
Я усмехаюсь, мое оцепенение проходит окончательно:
— Не это, а настоящее… — и перевожу разговор. — Я тебя видел, там, — киваю в сторону санатория, — ты из какой команды?
— Нет, — крутит головой мальчишка, он года на два-три младше меня, — я не приезжий. Я живу здесь. У меня родители в санатории работают…
— Здорово! — восхищаюсь я.
Мы идем уже по пляжу. Мальчишка цепко, как обезьяна, перелез через сетку, даже не замочив ног. В разговоре узнаю, что родители его работают в санатории врачами и живет он недалеко, в городке. Каждое лето его с братом Пашкой устраивают на отдых здесь.
— Вон наши, — говорю я: пацаны в кружке играли в волейбол (трудновато тем, кто против солнца).
— Ну, я пойду, — говорит мальчишка.
Что-то надо сказать — он так был открыт со мной, поэтому поднимаю руку и отвечаю:
— Еще увидимся.
Я окунаюсь и растягиваюсь на песке рядом с нашими. Вокруг все бело: обрывы невдалеке, море, небо, песок… Особенно песок. Он мелкий и всюду: в волосах, в ушах; его высыпаешь из носков, кроссовок, из карманов шорт и трико, даже из плавок; от него отряхиваешь полотенца, покрывала и простыни; он попадает под кровать, за порог, за тумбочки. Но песок чистый, сухой и совершенно не создает грязи…
Когда мы с командой возвращаемся в корпус, то вдруг замечаю нового знакомого — он призывно машет мне.
— Я догоню, — говорю и отхожу от ребят.
У мальчишки чуть виноватый взор, он немного смущен, быстро взглядывает и отводит глаза:
— Знаешь, я подумал… тебе это… интересно будет. Мне кажется, я знаю где… ну, это… настоящее море есть, — он, наверно, замечает мою недоверчивую улыбку и начинает торопиться. — Здесь недалеко, вон туда. Там тропинка есть… сосна. Туда вниз надо. Я часто там бываю. Могу… показать, — при последних словах мальчишка угасает. Но я решил, я ему верю, бросаю:
— Пошли.
Мы идем. Между нами устанавливается молчаливое напряжение. Мы проходим мимо комков, спрятавшихся в тени деревьев. Тут распахнуты двери, окна, вентиляторы работают на всю мощь. Около прилавков толпятся люди. На открытом воздухе готовят шашлык и лаваш: черные грузины в белых грязных фартуках на голых потных телах. Осталось позади высокая металлическая клетка, где висят катера, как рыбы на просушке: носами на крюках, на тросах друг за дружкой…
Шли мы, наверное, минут десять. Поднимались вверх, запыхались. Успели перелезть через ограду и попасть на тропинку. Она вела, со слов моего провожатого, в другой санаторий. Вот он оборачивается, машет рукой, и мы сходим вниз. В просветах меж сосен, осин и каштанов виднеется море.
— Я давно это место открыл, — говорит мальчишка.
Мы стоим на меловых кручах, отвесно уходящих вниз. Там, примерно на высоте пятиэтажки, простирается водная гладь. Набегают неторопливо волны, как бы вспухая у подножия и, постояв чуть, уходят вниз.
Здесь было тихо. Только тетенькали птички позади нас, да висел шум прибоя, слившийся с тишиной. НА море не видно ни кораблей, ни катеров. И пляжа не видно. Мое сердце шевельнулось. Я предчувствую тайну — незримую и очень близкую. Мальчишка сползает вниз. Там козырек и сосна — приземистая и корявая. Из-под его ног срываются камешки и, подпрыгивая, исчезают внизу. Я с предосторожностями спускаюсь к нему. Мой знакомый садится на край и свешивает ноги. Я — ближе к сосне. Сосна теплая, пахнет нагретой пылью. Ее иголками усыпан весь карниз. Ветерок треплет травинки, проросшие сквозь эти иголки, и распластывает их по земле. Он доносит до меня ритмичный, дремотный гул моря. От нечего делать я закрываю глаза и начинаю вслушиваться. Гул входит в меня, заполняет. И вдруг впервые ощущаю непонятное в этом, то нарастающем, то стихающем шуме. Это было что-то вечное, независимо от нас существующее. Тут чувствовалась неизменность первородного порядка.
От неожиданности я открываю глаза и смотрю вниз и вперед. Подножье круч то обнажается сырым камнем, то скрывается под бледно-бутылочными волнами. Волны невысокие. Поэтому они нестрашные, какие-то домашние. Мой взгляд с буруна на бурун уходит вдаль… Я не заметил когда… Я судорожно вздыхаю. Я нашел! Я впиваюсь — боюсь потерять! Безбрежность воды воспринялась вновь, как тогда, целостно и живо.
Я снова узнал ТО море! И оно взглянуло на меня всей громадой, упруго выгнувшись горизонтом в небо, дыша ритмично и влажно. Это уже не механическое движение волн — это живое существо и его движение рождено еще на заре мира. Из моря вышли первые существа, менялись эры, эпохи, а море оставалось, и вот эта вечность дохнула сейчас на меня. Вот оно какое море — оно вечное! О! какими маленькими и ненастоящими были все мои недавние обиды и переживания. Здесь тонула вся накипь дней. Входило все легкое и яркое. Я наполнялся солнечной дымкой, я истончался, делалось легко, и море как вошло в меня, так там и осталось — уже не исчезая.
Файл 31: август
По сравнению с югом лето в нашем городе подходило к концу. Лишь дома понял: а, оказывается, как все-таки соскучился!.. Ни с чем не сравнится это домашнее умиротворение и покой. Любовь и внимание близких заменили гомон и сутолоку народа санатория, а строгий распорядок и рамки режима дня — нега и легкое лентяйничанье семейной обстановки.
По вечерам мы с Ольгой и некоторыми одноклассниками из команды посещали дискотеки в фойе районного кинотеатра. Грохотали колонки, блистала светомузыка, в кругах топтались знакомые, что-то оптимистично кричал в микрофон диск-жокей и передавал приветы; визжали девчата, выходили курить с пацанами, а от пола вздымались клубы пыли и затягивали туманом, прорезаемое лучами прожекторов, пространство. Иногда об этот каменный пол бились пивные бутылки…
Все чаще выпадали холодные дожди, и, возвращаясь с дискотеки, нам приходилось шлепать по лужам. В ночных фонарях они непроглядно темнели, и, вглядываясь в отсвечивающий асфальт, мы преодолевали эти впадины и рытвины. По дорогам растягивались группки и группы наших ровесников, то и дело слышались взрывы смеха, громкие разговоры и шутки. Наши тени шли за нами и, обгоняя, впереди нас. Иногда попадались редкие машины. Отходили, опасаясь брызг.
Еще не было холодно, но ветер уж бодрил щеки и пальцы рук — намек на предосеннюю прохладу. Мы одевали легкие свитера или ветровки. На улицах народа поубавилось, и все чаще мы попадали под моросящее марево. Все чаще мы затягивали наши прогулки и все чаще оставались в школьном дворе. С деревьев капало и, прислушиваясь к ударам капель об асфальт, мы чувствовали ритм — ритм нашей юности. Капель с деревьев, ароматы прохлады, начинающих вянуть листьев, блеск сырой проезжей части, темные провалы луж — все это наполняло предощущением близких перемен: в душе, в нашей жизни, в чувствах, в мироощущении. Это тревожило и наполняло сердце радостным трепетом. Все эти ощущения не требовали слов, и мы переживали, перечувствовали молча — держась друг друга: локтем, плечом, ладонями.
Что это было? Взросление? А может, наши отношения наполняли нас новым содержанием? Душа, сознание совершали работу по отбору чего-то нового, годного для дальнейшей нашей жизни и чувствованию других людей. Оставлялось все самое ценное — сочувствование (не только людям, но красоте во всем), вера в добро, всепрощение, терпимость, человеколюбие, сопереживание… Отбрасывалось (по крайней мере, на это время) все темное, неприглядное. Происходило очищение души.
Сквозь наслоения мутных облаков в небе желтел месяц. Мир был сумеречен, ветрист и влажен. Ночь была тайной тайн. Ночь преображала все. Все дышало первобытностью и первозданностью. Именно сейчас, в ночи, зарождалось новое — новый день, новые чувства, новый я, новая она:
Тьма дерев дарила ей золото рук.
Тьма земли дарила ей серебро ног.
Тьма небес — частые звезды в очах.
Лишь светел месяц зажигал на ее волосах жемчужины, а на ресницах бриллианты. А тьма моего сердца, дарила мне неодолимую сладость мученья. Да, темно было внутри меня. Но именно в темноте, в тайне от мира, от пристального света завершалось главное чудо человечества — созидание любящих людей.
Приближался сентябрь. Закупались учебники: история, английский, литература; тетради, ручки. Я познакомил Ольгу с родителями и теперь частенько водил ее в гости. Родители обсуждали трагедию «Курска», а мы, у меня, загружали на компьютере диски с записями, я показывал Ольге свои июльские «южные» фотографии.
Рассказывал про город своего детства: какие там широкие и зеленые улицы, как все облицовано мрамором, какие там фонтаны и парки с аттракционами; про то, что электричество, газ и соль бесплатны, а вот рис — дефицит, а арбузы копейки стоят; про то, что поразили меня здесь пальцы продавцов-мужчин в некоторых магазинах — такие бледные и белые; подарил Ольге витую веревку-оберег на запястье из колючей верблюжьей шерсти, несколько монет с профилем нашего общелюбимого и непревзойденного Мульк-баши (правда, уже не нашего, но все же пусть будут благословенны его дни!), а когда показывали рекламу «Севен-Ап» с группой парней играющих в мячик, то объяснил ей, что по сути дела это и есть игра «лянга», показал Ольге как это дело набивается…
Надо сказать, что эта сторона жизни Ольгу интересовала куда больше, чем спортивная. Я пытался пару раз водить ее на разные турниры, но ей там не понравилось: прыгаете и сталкиваетесь, как бараны, говорила она, все так быстро и непонятно! Я не обижался. А вот с Греем Ольга подружилась и всякий раз угощала его конфеткой — специально приносила.
Файл 32: разлука
За пять дней до первого сентября я заметил — что-то мучило Ольгу. Она рассеянно отвечала на вопросы; молчала; внимательно начинала вглядываться в меня или наоборот углублялась в себя; набирала воздух для слов, но, спохватившись, оставляла все как есть. Я не выдержал, и когда остановились около ее подъезда, спросил:
— Оль, в чем дело?
Она испытующе посмотрела и отвела взгляд.
— Я… я не знаю, как сказать…
В ее голосе сквозила боль, и я не на шутку встревожился:
— Говори как есть! В чем дело?!
Она вновь смотрела на меня:
— Знаешь… — закусила губу и твердо, глядя в глаза: — Мы скоро уезжаем… Отца переводят.
Я все еще недопонимал:
— Куда?
— В Пермь.
Что-то тревожное замаячило на горизонте — как облачко перед бурей:
— А когда едете?
— Ночью, — просто ответила Ольга.
— Что? — выдохнул усмешливой улыбкой. — Шутишь?
Ольга вновь закусила губу и покачала головой. Улыбка моя сползла, сердце заколотилось, а солнце померкло — на миг, на единственный миг. Прерывисто… шепотом:
— Как?! Как уезжаете? — мои губы свело в остатках улыбки: недоверчивой и ошеломленной. — А почему не сказала… не говорила?
А в сердце закрадывалось подозрение: все так и есть — уедет, уедет навсегда! И больше не увидимся?! Но почему молчала?
А в душе-то рас-троился: один трепетал от жестокой боли, от несправедливости и унижения; второй все говорил: не может быть, нет, не может быть, и порывался что-то делать; лишь третий безучастно наблюдал: я так и знал, я так и знал, — говорил холодно, спокойно…
А что-то в мире менялось, а что-то в мире рушилось. Плыло, качалось, множилось… Лица, лица… Трещина в асфальте… Глаза прищуренные, глаза раскрытые… Безмолвные фигуры. В мозгу: сожженные мосты! сожженные мосты! Вот и все! Вот и все! И звон… Вплывает в голову — звенит. И тонко-тонко! И никаких связных картин. Так, обрывки… И обрывки эти рвались, дробились… И я понял, и понял я: рушился мир — во мне. Рушился я — новый. Как замок на песке. На песке души. Душа — в песок. Голова моя клонилась:
— Ночью… Совсем… И больше не увидимся?! — чувствовал: алеют уши, щеки… Я не мог смотреть в ее лицо. Весь мир на кончиках ботинок… В мозгу стучало: что же будет? что же будет?
— Давай прощаться, — сказала она, взяв за руку.
Я весь покрылся потом, а во рту была сушь. Судорожно сглотнул и, показалось, заскрипело, стянуло там ремнями. А она подняла мое лицо, и я увидел ее глаза — пронзительней, чем стрелы:
— Я не могла, понимаешь? Не могла сказать! Все! Уходи — не провожай!
Она стремительно обернулась и убежала.
Не помню, как шел домой. Не видел ничего и никого. Неужели все?! — билось в голове, неужели так?
И уже дома мычал от бессилия и кусал кулак. Если человек маленькая вселенная, то во мне произошел коллапс. Все сжалось в одну бесконечно маленькую точку. Ничто не бушевало. Все было глухо. Осталась только оболочка.
Я проснулся будто от толчка. Сел на кровати. Вспомнил все. Повернул голову к окну — там стояли поздние сумерки. Был одиннадцатый час. Мелькнуло молнией решение. Я весь собрался. Без лишних движений вышел из спальни. Отец. Телевизор. Мать — на дежурстве.
— Па, — мимоходом, — я ненадолго!
— Так поздно? На завтра нельзя?
— Мне надо…
Взял с подзеркальника ключи. Сорвал куртку. Кроссовки — раз! два! Лифт свободен.
Бежал в ночи. Под темными деревьями. Пересекал освещенные переходы и дороги. Вот темные коробки гаражей. Что сделает отец? Разговор будет жесткий… Раскрыл ворота. Так: Так: брелок… сигнализация. Теперь блокировку с кардана…
Когда закрывал ворота, чувствовал, как дрожат руки, а в икры ног наливалась тяжесть. Лишь вновь ощутив запах смазки, кожи сидений, масла и жженого бензина в салоне — немного успокоился.
Я ехал по дорогам, тормозил на перекрестках и все тер холодные и мокрые ладони о брюки. И дрожали ноги, затекшие в страшном напряжении, на педалях… Успею? Нет? Быстрей! Быстрей! Летел на крыльях. Вот вокзал. Где приткнуться? Частники везде. Ага! Я зарулил, а в душе все сжалось — вдруг врежусь?! Бордюр впереди! Резко на тормоз — взвизг, бросило вперед и только заметил, что без ремня! Ай, ладно! Быстрее, быстрее! Замок, ключи, включить брелок…
Быстрее в кассы!
Толпился народ. Блуждал глазами: справочное — закрыто; пригородные — закрыто; расписание на стенах — некогда!.. Постучал в окно, где дремала кассир:
— Здравствуйте, поезд на Пермь ушел?
— ?!? — кассир немного пробудилась. — Нет таких поездов.
— Ну, какой должен сейчас был уйти.
— «Свердловск-Новороссийск», прибывает через десять минут.
— Спасибо! — удивленные глаза в окошке.
Я мчался через площадь и все боялся опоздать. Народ толпился на освещенной платформе: группками с баулами, сумками, чемоданами… Я шнырял и там, и здесь, вытягивал шею, оглядывался… Отчаяние, как девятый вал, охватывало меня. Шел обратно, по второму разу… и увидел! Увидел ЕЕ. Она сидела на вещах, с накинутой на плечи ветровкой. Рядом стояли Валентина Дмитриевна, Павел Петрович с двумя мужчинами и женщинами.
— Здравствуйте, — сказал я.
Ахи, охи Ольгиных родителей: ты откуда да ты как?! Ольга оборачивается и молчит. Лишь глаза начинают сиять…
— Вот, решил вас проводить, — меня переполняет какая-то нервная, бешеная радость.
Мы с Ольгой отходим.
— А я все искал поезд на Пермь! — говорю я.
— Ну как, нашел? — улыбается Олька. — Мы в Пермь из Свердловска поедем.
И уже серьезно:
— Я же просила, Кирилл. Родители беспокоиться будут. Вдруг на троллейбус опоздаешь?
— Я на машине, — говорю.
— Дорого, — замечает Ольга.
— На своей, — отвечаю и, не удержавшись от бахвальства, звеню ключами.
У Ольги расширяются глаза.
— Один? Ты что наделал! С ума сошел?!
Мне приятен ее испуг.
— А отец что скажет?
— Ай, ладно, — машу рукой, может быть, и не догадается…
Ольга все качает головой, но радость встречи поглощает все заботы и тревоги. Говорили потом о всякой ерунде. И речь все была не о том, и это были не те всё слова. Но не это было важным. Важны были минуты: каждый миг, каждую секунду вглядываться, вчувствоваться, соприкасаться… И переполняться отчаянною, какой-то болезненно-лихорадочной радостью: сейчас, казалось, мне море по колено; сейчас, казалось, все будет хорошо; сейчас, казалось, расставались лишь на время…
Включился репродуктор; прогудел, приближаясь, поезд; остановился, лязгая буферами; вздрогнула толпа.
— Оля, Оля, пора! — заволновалась Валентина Дмитриевна.
— Давайте помогу, — предложил я. Хотя, в принципе, все сумки и баулы были разобраны — одни только знакомые Павла Петровича держали в каждой руке по два чемодана. Я взял сумку у Ольги, и мы пошли вдоль состава, отыскивая нужный вагон.
В купе было тесно. Мужики тискали Павла Петровича, женщины целовались с Валентиной Дмитриевной. Мы стояли с Ольгой и с улыбкой смотрели на них. Потом добрались и до Ольги, а ее родители до меня:
— Ну, чемпион, давай пять! — я попал в медвежьи объятия Ольгиного папаши. — Спаси-ибо, проводи-ил. Держи марку и дальше!
Валентина Дмитриевна поцеловала меня:
— Всего доброго тебе, Кирюш. Видишь, как получилось…
— Ничего, — ответил я. — Вам всего хорошего!
Потом мы стояли на перроне. Павел Петрович опустил раму окна, но все равно невидимое стекло отделило нас. Ольга плакала. Я все улыбался, говорил какую-то чушь, типа: позвони, адрес напиши, буду ждать… Она кивала. Мужики все наказывали Павлу Петровичу найти какого-то Николаича и стрясти с него бутылку коньяка…
Поезд тронулся. Мы шли рядом. Нам махали.
— Ну, давай, Петрович, — поднимали сжатые кулаки провожатые. Наконец мы остановились.
— Да-а, — раздумчиво произнес один. — Вот так и живем: страна сказала «надо!», солдат ответил «есть!».
— Командир, давай подвезем, — обратились ко мне. — Тебе куда?
Я отрицательно покачал головой:
— Нет, я тут… мне рядом.
— Ну, смотри… — они тронулись толпой к автостоянке. Я следом.
Домой ехал опустошенный, без первоначального лихорадочного напряжения, с накинутым ремнем. И не так боялся милиции, как врезаться во что-нибудь. Выше шестидесяти не выжимал — в общем, плелся, как черепаха, прижимаясь к бордюру — посередке носились, как угорелые… А как обгонял припозднившиеся троллейбусы — один Бог ведает, полжизни, наверное, отдал…
У отца на побелевшем лице гневно сверкали глаза:
— Паршивец, куда машину гонял?! А если бы разбился? А если бы машину угробил?
Я был вымотан так, что не было сил отвечать. Лишь сказал:
— Все… они уехали.
Не знаю, о чем догадался папа:
— Но ты мог хотя бы подойти ко мне, объяснить… И если так тебе приспичило, отвез бы куда надо! Но так… так поступить! Ты хоть понимаешь, что так не делают?! Эт-то черт знает что! Ты о нас с матерью подумал? Эгоист хренов!
И, грохнув дверью, он ушел.
Файл 33: боль
Тоска пришла через два дня. До этого были на даче. А когда приехали, я больше не выходил из комнаты.
Лежу на койке. Очень, очень плохо мне. Музыка лишь подчеркивает мое состояние. Тяжело, тоскливо, и никого нет рядом, с кем можно было б поделиться.
А все вокруг покойно, ничто мне не грозит, но на душе так тяжко! Там смутно, там пасмурно, там грязная пелена — плесень дней. Что со мной? Что гнетет меня? Одна ли разлука? Осознание потери счастья, а потому осознание ненужности будущих дней (ведь только счастливые нужны жизни)? Или есть еще что-то такое, что подспудно сидит во мне, и мутит, мутит меня? Наверное, обида — на несправедливость жизни. За что меня так резали, кромсали? За то, что в своем недолгом счастье смел забыть, что существует боль, что существует разлука? Так простите меня, ведь живу впервые на земле…
Оказывается, это не только слова: почувствовал горе — это живое существо, которое поселяется в тебе, шевелится, ворочает свои щупальца — вот здесь, в груди, — вздымается муть души, мешая гниль души… Как плохо мне, как муторно и тошно…
И приходит мысль. Мысль о том, что не устою: перед жизнью, перед ее грубостью, беспощадностью, непрощаемостью.
Хочется успокоиться, очень хочется успокоиться. Остатки чувств бьются во мне… стукаются о темные стены — стены очерствелой души. Царапают и кровоточат… Я очень устал… Еще немного и все пройдет. Лишь сердце будет глухо ворочаться. Остальное свернется в комочек, забьется до следующего момента — когда станет невтерпеж. А сейчас надо избыть свое горе. Оно рвется вовне. Слишком велико оно — ему тесно в груди.
Я беру ручку, вырываю лист — написать в далекую Пермь. Но получилось все иначе. Хотел словами, а вышло стихами.
Слова рождались в муках, горе выдавливалось ими — сукровицей души, пеплом души. Слова не поспевали за мыслью — выдирались вслед с корнем, с мясом, и впечатывались в лист клетками мозга, впитывались обрывками нервов… И когда не находилось того, одного, единственно нужного — хотелось стонать! — плавились мозги — в подреберье подпирало. Не хватало глоточка воздуха, чтобы вдохнуть и выдохнуть — судорожно сжимались челюсти и яростно грыз, вгрызался в ручку — трещала пластмасса…
И когда прочел эти корявые, но неподдельные; по-детски наивные, но искренние, рожденные в муках строчки, то в душе моей осталась пустота…
Я лег спать, очень болела голова.
А стихи лежали на столе, на исчирканном с обеих сторон листке, под изломанной, раскрошенной ручкой…
Разве лишь тем заглушить эту боль: Лезвием вену — поглубже и вдоль. Растопит, быть может, излома бровь Капля за каплей горячая кровь. Да сердце в груди затихающий стук… Белизна тяжелеющих рук. Взгляд, уводящий в себя — бесконечность, Небесным покоем манящая вечность. Разве лишь это заглушит боль, Что на расколотом сердце, как соль, Разве лишь эти торопливые строчки… А в памяти счастья сверкают кусочки. А в мыслях из жизни непрожитой годы, И уже не тревожат забота, Лишь горечь тоски: и лица, и лица, С кем бы не смог (не хотел бы) проститься, С кем бы хотел бы обняться до боли, Чтобы быть вместе — не расстаться чтоб боле. Увидеть ЕЕ, пережитым делиться. Но разве так можно? Нет, так не годится… Боль для тебя: и туго — в комок, А боль для тебя — на пудовый замок. А для нее — радостный взгляд. А для нее — мечты водопад. И как начиналось все звонко и ясно: С НЕЮ вдруг понял — живу ненапрасно! Но все оказалось просто до боли: Наше-то счастье не в нашей-то воле!(дописано после разговора с отцом)
Наука о счастье — в науке о горе Жаль, что не учат этому в школе.Файл 34: разговор
Так порушена была суть жизни. Так испепелена была душа и уничтожены первые чувства. Отвернулось сердце мое от радостей дней и было иссушено и опустошено; и память погрузилась в прошлое и пока создавала пустые образы, и время медленно текло, и не было полезных дел, и солнце уныло по небу кружило — я не мог улыбаться…
А о себе имел известность: родные утешали, друзья ругали, учителя и В.В. качали головой. Но кто понимал душу мою? Покушались на мой покой — болезненный и шаткий, — пытались возвратить радость жизни, ясность в делах, но нужды в правде — в моей правде — не имели. А истина была проста. В душе моей вызрела она: пока существуют такие страдания — рай на Земле невозможен… Зачем же жить? Зачем к чему-то стремиться? Все равно все пройдет; все исчезнет, а страдания, а боль — останутся…
Такие мрачные мысли одолевали меня, и жизнь моя превратилась в серенькое существование, и даже Грей не мог ничего изменить…
Я лежал и тупо смотрел в потолок, когда вошел отец. Он прошел к окну, заложил руки за спину, покачался с носка на пятку и сказал:
— Знаешь, хочу рассказать тебе историю об открытия одного принципа — принципа, которому подчиняется вся наша жизнь: будь то физика, философия, мы с тобой.
Мне было все равно. Я лишь поморщился. Отец обернулся и, прислонясь к подоконнику, продолжил:
— В конце девятнадцатого века классическая физика оказалась в тупике. Стали появляться факты, наблюдения, которые она объяснить не могла. Что делать? Отказаться от новых представлений, не замечать очевидного и остаться в старом, уютном, полностью описанном, но тупиковом мире? Разумеется, настоящие ученые сделать этого не могли, и они вводят новые, революционные понятия в классическую физику. НО молодежь не удовлетворяют половинчатые решения, постоянное оглядывание на каноны классики. И после Первой мировой они закладывают фундамент новой — неклассической физики. Да вот беда: постройка здания все затягивается — произошел раскол в ответе на один из главных вопросов: свет — это частица или волна? Спорили до хрипоты, до обид; уходили, возвращались — и у всех были неопровержимые доводы правильности именно своих взглядов. Чем бы кончилось? Кто знает… Но вот, наконец, одного из них озарило: мужики, а ведь правы все! И на все возражения: «Как это так?! Свойства частицы не могут быть свойствами волны и наоборот!» — он отвечал: да, свойства эти действительно несовместимы, но для полного описания данного объекта оба они равно необходимы и — вот главное! — поэтому не противоречат, а дополняют друг друга. И дальше оказалось, что это не исключение, а всеобщий философский принцип: всякое истинно глубокое чувство, явление, категория не могут быть определены однозначно с помощью нашего языка, а требуют для своего определения по крайней мере двух взаимоисключающих понятий: день — ночь, добро — зло, искусство — наука и так далее. Этот принцип универсален. Ему подчиняется всё. Даже твой случай…
Все мне стало понятно: утешить меня пришел. Лишь не понял — зачем так длинно, начал бы сразу с последнего.
— Ты, Кирилл, был счастлив встречей и несчастлив разлукой. С точки зрения принципа дополнительности встреча и разлука — да, несовместимы, но также они и неразделимы. Надо понять то, что они отражают разные дополнительные стороны человеческого опыта и лишь взятые вместе дают нам полное представление о мире.
— Лучше б у меня не было такого опыта, — сказал я.
— Как знать, как знать… — покачал головой папа. — Опыт этот полезен и еще раз доказывает, что ничего сверхординарного не произошло…
Тут я не выдержал. Вот как?! Все, что произошло со мной, для других, оказывается, так… ерунда! Я поднялся и сел:
— Для твоего принципа, может быть, и не произошло, а для меня… — голос мой прервался; обида на, как мне казалось, черствость отца, на его несправедливые слова (а может быть, на правду?) закипела в носу и глазах. — Ты знаешь, как мне тут…
У меня прервался голос и я постучал в грудь:
— Знаешь… как мне… — спазм сдавил горло и на выдохе, шепотом: — тяжело…
Я убежал в ванную, пустил воду…
А отец говорил, перекрикивая дверь и шум струи.
— Да пойми ты, Кирюш, не ты первый и не ты последний. Мы могли с матерью предупредить и хотели даже предостеречь тебя от чрезмерного увлечения, но ты бы поверил? Ты бы послушал? Ты имел право на ошибки, но ты имеешь право и на исправление их. Жизнь не кончается на разлуках. Да, твои воспоминания, несомненно, прекрасны! Дело в другом — твое будущее ждет не воспоминаний, а надежд! Все! Прошлое умерло! Его нет! Его не воротишь. Пойми это и — не противься! Ждешь жалости? Мы жалели тебя. Хватит.
Сдерживал, сдерживал слезы: зубы — тисками, веки — ладонями… И слезы не лились — крошились — льдинками, и сыпались — стеклянной пылью…
— Нельзя всю жизнь жалеть… И потом: а нас ты жалеешь… нас? Думаешь, легко смотреть, как ты себя изводишь?
Из меня выходило все, что накопилось за эти дни…
— Меня, мать — которую ночь без таблеток уснуть не может… Все, Кирилл, давай завязывай со своей трагедией и начинай новую жизнь.
Он ушел, а я сидел на ванне и, опершись на раковину, оплакивал свое прошлое, себя в нем, нас с Ольгой, наши действия и чувства — ибо знал, давно знал, но понял лишь сейчас: прежним я уже не буду никогда…
Вечером, за ужином, спросил грубовато:
— Отец, а как там ученого звали, ну, который принцип этот открыл?
— Какой принцип? — не поняла мама.
— Разговор «тет-а-тет», — папа заговорщически мне подмигнул, мама понимающе покачала головой, а я вяло улыбнулся.
И уже мне:
— Очень просто: Нильс Б.
Файл 35: «Can’t read file or unexpected end of file»
К концу сентября я немного отошел. Вовсю полыхала олимпиада в Сиднее. Василий Валентинович записывал у кого-то на кабельном, по каналу «Euro-sport», фехтование и устраивал нам просмотры и разборы. Наша сборная после выступления на Кубке стран Балтии получила доступ к отборочным на европейский турнир среди юниоров в Варшаве. И В.В. был настроен решительно — гонял до седьмого пота.
Я фехтовал неузнаваемо. Ни одного лишнего движения — невозмутимость и выжидание. Как там сказано? «Терпением спасайся»… И вообще, после моей хандры ушло куда-то все: радость, искристый юмор, беспричинная шумливая веселость. Я стал как в то, предпоследнее, лето Джалал — спокойным, рассудительным, мудрым, что ли. Вот и на дорожке: не безрассудочные, а редкие и хорошо подготовленные атаки.
Речи о моем переезде в московский клуб уже не было: если по первости останавливал разрыв с родителями, Ольгой, то сейчас, после отъезда Ольги, все мне казалось суетой, и я, и родители, не видели необходимости заниматься фехтованием профессионально.
Соревнования проходили на зимних в Москве.
В финал я вышел. Вроде бы без проблем, а на самом деле пришлось ох как тяжело! Ребята съехались в Раменки, в Олимпийскую деревню, с разных концов России и СНГ. Как-то незаметно подросла молодежь и действовала смело и напористо. И приходилось вновь и вновь, в каждом бою, направлять их скорость в нужное мне русло, и приходилось вновь и вновь выискивать нечто, чтобы удержаться на стреме. Да-а, мое первоначальное фехтование — фехтование-упоение — превратилось теперь в мудрую игру: то на отходе оставишь ногу — на, пожалуйста, коли! — то, изобразив испуг, на любое ложное движение берешь нижнюю защиту, открывая грудь. А что молодежь? Включают максимальную скорость: быстрее, быстрее — укол! Ан нет — ведь это ловушка! Так вот, из мелочей, и лепишь начало успеха. А уж когда ведешь в счете, начинаешь избегать схватки, стремишься свести все к «по поражению» — соперники нервничают, начинают ошибаться, а ты пользуешься этим…
Финал. Я уже знаю, с кем придется фехтовать. С Кайдо. Еще не забылось, как он выиграл у меня. Но сейчас слишком все серьезно, чтобы повторять старые ошибки. Мы оба выхаживаем, наскакиваем друг на друга: раз-два! раз-два! наскок-ускок! присесть-встать! оп-па-а! оп-па-а! Кайдо великолепно колет в бедро. На этом я и погорел в начале лета. А бедро — также один из любимых моих приемов. И стоило мне нанести укол туда, как Кайдо вспыхнул, завелся и начал, забыв обо всем, гоняться за моей ногой. В этот раз мне удается перехватить инициативу. Используя ложные защиты, заставляю Кайдо провести глубокую атаку и удачно контратакую в руку, а затем сам атакую на подготовку, когда Кайдо торопится из-за недостатка времени. Так мне удается трижды переиграть его.
Вновь выжидаю, не ввязываюсь ни в какие осложнения. Часы отсчитывают секунды, минуты… Кайдо начинает поиск возможностей… И тут я допускаю ошибку — выхожу в атаку с захватом (хотел опередить!) — дзинь! дзах! Но уставшая рука не смогла сделать перевод, и я промахиваюсь. 3:1.
Кайдо собрался. Почувствовал, что не все потеряно, и, очевидно, также не забыв летней победы, начал легко двигаться, чутко сохраняя дистанцию, а на мою повторную атаку резко ее сократил, перехватил оружие и 3:2! Блин-н! Куда спешу? Внимание: терпение, терпение… Не торопись!
Начинаю создавать неудобства: атакую в верхние сектора, при малейшей опасности убегаю. Проходит минуты две, и Кайдо никак не может понять, что происходит — ведь все шло так прекрасно! И поэтому когда моя атака вновь пришлась ему во вторую защиту, он поспешил нанести укол. Вот тут-то и поймал! 4:2.
Кайдо несколько раз проверяет шпагу, а через несколько секунд все повторяется — 5:2. Кайдо немного растерян. Спешу использовать ситуацию. Сразу после команды судьи иду в атаку в бедро. Соперник автоматически берет вторую защиту — дзах! дзинь! дзи-у! И получает укол: ха-а! Срывает маску. Голубые глаза растерянно смотрят на меня. Он что-то бормочет сквозь зубы. Ни в коем случае не смотреть с вызовом и насмешкой: эстонец может опомниться, злость может отрезвить его и помочь осознать ошибки — пожимаю лишь плечами: мол, и сам удивляюсь…
6:2 — теперь самое время — время тянуть. Я умышленно — потихонечку! — двигаюсь за границу дорожки. Тренер эстонцев, понимая, что поражение им ни к чему, так как они уже проигрывали в счете, начинает кричать: «Кайдо, коли его! Он самый слабый! Ты сильный!» Ах, старый хрыч, думаешь, поддамся?!
Получаю предупреждение, но все равно потихоньку продолжаю отступать. Товарищи соперника подбадривают его, лопочут по-своему, он наступает, а я все ползу, ползу назад… Остается двадцать, десять сантиметров. Все заворожены. Кайдо думает только о том, чтобы вытеснить меня за границу, — наседает только так! А о себе и думать позабыл! А на часах за его спиной зеленые цифры отмеривают последние две секунды. И тогда я выхожу в резкую атаку — показав в маску, колю в бедро. 7:2.
Мы еще выцарапываем друг у друга по два укола в дополнительное время. И мне достаточно вновь выходить последний бой. А Кайдо наседает — беспрестанно атакует. Мне уже надоедает. Хочу, чтоб все закончилось. Я вспоминаю, как когда-то сделал атаку «стрелой» (или флешь) — на опережение — в своем первом бою. Повторить? У Кайдо руки длиннее, что же, сделаем батман, а также перехватим рукоятку шпаги ближе к краю, чтобы увеличить длину оружия. И когда Кайдо начал разбег, атакую. Вышло немного иначе: схватил его шпагу в четвертую защиту, прижал на мгновение вниз и на последнем дыхании броска — снизу вверх — резко колю в живот: х-ха-а! Я услышал свой крик, который, как всегда, показался мне чужим. Крик подхватили наши, и лишь уголком глаз уловил, как клинок эстонца уперся мне в плечо, скользнув снизу под моим… Согнулся вдвое… Резкий упругий щелчок… И показалось, раскаленный палец пронзил меня.
Багровая вспышка в глазах!..
Файл 36: травма
Я не был испуган. Испуганы были тренер, врач, судьи… Я успокаивал их: да все нормально, да бросьте!.. Я верил во всемогущество В.В. и врача. Знал, что все будет хорошо, и поэтому боялся беспокоить их зря: подумаешь, царапина… Я не стоил такого их внимания, а рана моя не стоила такого их волнения… Пацаны обеих команд ошалело толпились вокруг и растерянно улыбались. Их распихивали, откуда-то лед в целлофане. Врач аэрозолью мне все залил.
Рука моя, перетянутая в плече, стала буро-бордовой, холодной и тяжелой. Я прикасался к ней другой рукой и чувствовал ее чужой и какой-то мертвой: будто батон колбасы в магазине — вялый, тяжелый и холодно-влажный… Ржаво пахло кровью, она запеклась, стала липкой и тянучей… Испарина выступила на лбу. Мне дали ватку с нашатырем. Отвели в раздевалку. У В.В. тряслись руки — он, закуривая, повторял все врачу и судьям (ждали «скорую»): давно надо на альстаровские клинки переходить, экономим все, черт! Я успокаивал его: да ладно, Василь Валентиныч, все нормально, главное — я сделал его! Но чувствовал: нет, не нормально. Появилась какая-то сосущая боль, ломило плечо и каждое движение (переодевались) отзывалось во мне ударами тока… Страшно опухло предплечье, наливаясь нездоровой синюшностью.
В дороге я стонал, а врач все говорил: сейчас, сейчас приедем.
В больнице осматривал длинный худой хирург. У него были холодные волосатые пальцы. Он пальпировал плечо, хмуря черные сросшиеся брови, и внимательно вглядывался в себя. Был серьезным, а черные жесткие волосы лезли отовсюду: «на рентген» лишь сказал. И когда просмотрел мокрый снимок, подошел ко мне: «Ну что, брат, будем немножко резать тебя, — теперь он улыбался. — Надо вставить тебе одну косточку и зашить связки — ну, это нам работа, а ты будешь лежать, отдыхать. Издалека?» Я назвал. «Есть возможность известить кого-нибудь?» — «А может, не надо? Волноваться будут…» Хирург понимающе улыбнулся: «Если бы, если бы, но, понимаешь — формальности всякие… тебе сколько лет, восемнадцати ведь нет? Ну и потом, тебе спокойнее будет — когда после операции родных увидишь… Ну как?» «У Василь Валентиныча телефон есть, — вздохнул я, — он знает — и код, и моих родителей, а все-таки я бы ничего не говорил». «Ну-ну», — похлопал меня по колену хирург и вышел из палаты. Вошла нянечка, полная женщина, с добродушным лицом и ласковой улыбкой:
— К Сергею Борисовичу? — она принесла операционную одежду и помогла снять с меня мою. — Он хороший… А крестика-то нет?
— Нет — неверующий.
— А зря… Крест-то, он всем помогает. Погоди-ка, — женщина вытащила откуда-то из-под халата коричневую ленточку, сложенную много раз. Давай вот под пяточку, в носок…
Так быстро все произошло, что я не успел возразить и лишь наблюдал, покорившись этой несколько своеобразной заботе.
— Молитва — «Живый в помощи». А сам в какой класс-то ходишь?
— В девятый.
— У меня внучок твоего возраста, — она сложила мою одежду и заправляла койку. — И где тебя так? Озорники какие?
— Да нет, на соревнованиях.
— Ну, не бойся, все будет хорошо. Сергей Борисович-то, он дело знает, — нянечка взяла одежду и вышла.
В процедурной взяли кровь из уха — анализ на свертываемость и еще чего-то там… Я блуждал глазами по стеклянным шкафам, по приборам и шлангам и не находил ничего знакомого и доброго: все чужеродно блестело и было холодным в своем блеске…
Пришел хирург, сказал, что до дома дозвонились и родители уже выезжают: а что ж не сказал, что мама твоя мне коллега? Ну, сейчас все будет готово. И хирург ушел, унося запах сигарет и дорогого одеколона.
Стол в операционной — под многоглазым прожектором — был на удивление узок. Я взобрался на него и лег, боясь упасть. Холод вошел в меня, да так там и остался.
Медсестры из-под стола выдвинули держаки и распяли. Привязывали кожаными ремнями со вшитой цепью: рука, через живот, чуть выше колен… Я чувствовал себя вдвойне беззащитным: без одежды и привязанный. Вдруг сразу проявились неудобства: было жестко, хотелось шевелиться и чесаться…
Накинули простыню и стали обрабатывать рану: сбрили под мышкой, терли тремя растворами — спиртом, зеленкой, какой-то синей гадостью…
Пришла анестезиолог. Сделала укол под мышку. И, звякая, подняла иглу сантиметров в пятнадцать. Объяснила: буду отыскивать нерв. Как ударит «током» в кончике пальца — говори. Понял? Было немного жутко — такая игла войдет в меня! После каждого моего мыкания и утверждения через иглу вводили раствор. А потом я уж чувствовал и не чувствовал. Пару раз брякнул от балды.
Медсестры ходили в повязках, поэтому выглядели таинственно и заговорщически звякали инструментами. А я наконец отыскал знакомый предмет из моей прошлой жизни — электронные часы с зелеными цифрами и следил, как уходит, ускользает время. Действительно, как быстро бежит время для нас и как медленно для себя: всего час назад был в спортзале, дрался на шпагах, а кажется, прошло страшно много и здесь я уже давно, очень давно…
После анестезии сильно зачесалось лицо. Левая рука была привязана, а правая боли уже не чувствовала и лежала как чугунная. Лицо так страшно зудело, что я решился почесать его своей раненой рукой… Мне казалось — поднимаю железную балку, стальную рельсу, а не руку. Я повернул голову и видел, как рука сгибается багрово-синяя в красно-рыжих чешуйках засохшей крови — не чуя себя. Минут пять прошло, прежде чем согнул ее в локте. Но тут она не удержалась и упала мне на лицо… Я думал, медсестер удар хватит — столько было криков и визгов. Руку с превеликими предосторожностями с лица убрали приказали лежать спокойно.
Пришел хирург. Уже весь в зеленом. Сказал, что начинаем. На меня напялили колпак. На животе расстелили тряпку и разложили инструменты. Начал тыкать иглой — спрашивал: чувствуешь, нет? Было больно, о чем и сказал. Хирург откинулся и медсестрам: ледокаин, быстро… И вляпали еще уколов десять. Задернули занавеску перед лицом и голову укутали: для чего? Чтоб от запаха крови не взбесился?
А хирург продолжал колдовать: сейчас я тебе нарисую, как буду делать разрез… И впрямь, ощутил легкое прикосновение и щекотание — будто перышком вели, но тут скорее в мозгу, чем в ушах, услышал хруст — и понял: не рисуют — режут… Звяк инструментов, легкий электрический треск… И вновь Сергей Борисович что-то брал с живота, клал обратно. Стала чуяться боль — как зуб ноет: глухо и неприятно. Теперь я чувствовал шевыряние в плече. Что-то стали перекусывать, какую-то жилу. Жила, чуялось, была в палец толщиной, вот они и жали, жали, — хрясь! — и перекусили… и так раз пять, а может, семь…
Не знаю, что там стало происходить: то ли отмораживаться, то ли обезболивающее перестало действовать, но боль разрасталась. Плечо уже не было чужим и бревенчато-бесчувственным, теперь в нем бесцеремонно копались, что вызывало во мне тихий ужас и страдания, как будто копались где-то внутри меня, в моей душе. Я начал постанывать и мотать головой. От круглой лампы, не дающей теней, шло ощутимое тепло — мне стало тошно. Услышал краем уха: наркоз, общий… Почувствовал — смазывают руку, укол. Столько уколов, наверное, за всю жизнь не получал. За шторку заглянул хирург: что, совсем невтерпеж? Я лишь простонал: больно, больно… Ну, еще можешь потерпеть? Потерплю, смотря сколько… Потерпи, скоро все — минут пятнадцать. Заглянула анестезиолог — лишь сейчас разглядел, что у нее черные глаза, — промокнула лоб…
Файл 37: ад
Наверное, начал действовать наркоз: боль утухла, а кукушка моя съехала совсем — в голове и глазах начали мягко повертываться неведомые миры, и я сам вращался с ними: медленно и неустанно. А свет-то — от Луны, Солнца? — такой струящийся и весь трепещущий вливался в меня, наполняя внеземным ликованием. Я поднимался в небо! Мимо проплывали серебристые облака, оставаясь далеко внизу, а навстречу проявлялся Космос… И я уже парил в невесомости. Мелькали, наплывали какие-то фигуры — смутные и неясные. И все было пронизано призрачными струнами: фигуры задевали их (а я никак!), и струны звучали нежными аккордами… Все проходило сквозь меня и отзывалось во мне. А внизу плыла Земля, поворачивалась Луна — я беспрерывно покачивался, наполняясь теплом и всеохватывающей Любовью…
Меня окружали призраки. Они клонились надо мной и вгрызались в правое плечо. Я был одинок в своем мученье: так продолжалось уже тысячу лет и так будет продолжаться тысячи лет… И как было СТРАШНО знать, что тебя заживо съедают: ты ешь, пьешь, сидишь, а где-то сбоку в тебя вгрызаются, в тебе копошатся, отпихиваются друг от друга мелкие белые червячки.
И я потерял себя. Я был разорван — на клочки, и продолжал дробиться… Я понимал, что это сон, и понимал: нет! не сон! Ужас и тоска охватили меня — я никак не мог проснуться от призрачных кошмаров. Сюда был вход, но не было выхода. И я мучился от боли, но больше от того, что помнил, что был здоров, что не знал такого состояния. И жалел, чтобы померк тот свет, что брезжил из прошлого — свет, освещавший тьму этих бредовых фантазмов; свет, который был так желанен и который был так ненавистен, не давал мне избавиться от этой полужизни. От нее нельзя ведь было избавиться ни проснувшись, ни умерев, а вот померкнул бы ТОТ свет и наступил бы покой.
Клонились лица. Одно из них, я знал, было лицом того ученого из Дании, о котором рассказывал мне папа, но почему-то не похожим на портрет в энциклопедии — был в очках и говорил отцовским голосом: «Помнишь принцип: все вернется, как снег?» Да, отвечал я, страдая, но ты не сказал мне, что это будет другой снег, иной снег… Ученый улыбнулся и приумерк — проявилось лицо Ольги с печальными глазами, маминым голосом…
И больше ничего не помню.
Когда проснулся, было солнечно. Вся моя рука, плечо и грудь оказались скованными — гипс. И уже настоящая мама склонилась надо мной. Я улыбнулся ей, ничуть не удивившись. Было видно, что она устала: набухли сосудики глаз, явственнее проступали под глазами тени, морщинки, — но все такая же красивая и сильная.
— Ну, вот и проснулся… Как самочувствие, сынок?
Я ощущал тягучее нытье в плече, но было не больно… Далекий призрак боли. И еще что-то смутное — мысль, к которой пришел ТАМ и теперь никак ее не мог вспомнить.
— Ничего. Все нормально.
— Гипс не жмет? — профессионально выспрашивала мама. — Дышать рука не мешает? Вдохни. Еще раз — на полную грудь… Так…
Я отдался приказам мамы, молча смотрел на нее и тихо улыбался: ну, теперь, с мамой, никакие царства теней не страшны.
— Кулак сжать можешь? Только осторожно… Хорошо. Все хорошо. Нервы не задеты…
— Мам, а как вы? Давно здесь?
— Сутки, Кирюш…
— Эге! — присвистнул я. — Вот я проспал!
— Папа там отдыхает, — махнула она рукой в коридор, — за рулем день, да ночь не спал.
— А ты что? — заволновался я.
— Да я спала недавно, — улыбнулась мама. — Посмотри, что ребята тебе оставили…
Мама сняла с тумбочки и положила мне на одеяло серебристый кубок. Улыбка расплылась на моем лице.
— А вот еще гостинцы. И это тебе. Перед отъездом пришло, — рядом с кубком очутился белый квадратик письма. И лишь я прочитал: Пермь… Ольге… — та мысль, которая не давала мне покоя, всплыла в моем мозгу:
— Мам, — сказал я, — знаешь, что я понял, когда был ТАМ? Что рай — это наша жизнь, а ад — воспоминание о ней…
Когда уезжали, тете Поля (теперь я знал, как зовут нянечку, готовившую меня к операции) выдала мою одежду, а мама, успевшая подружиться с ней, все уговаривала взять гостинцы. Наконец та поддалась и все шептала: «Пресвятая Мать-Богородица, Благодатная Марея, благослови их всех и в работе, и в хотьбе. А еще дай им Бог святой час, и спаси их всех ото всяких бед, ото всяких напастей и от лихех людей…» И на прощанье обратилась ко мне:
— А крестик-то носи…
Выехали на трассу, папа с мамой стали обсуждать уровень обслуживания в московских больницах, думали, куда заехать — коль уж выдалась возможность побывать здесь. А я все сжимал кусочек снега и смотрел, как исчезает он в каплях, чтобы вернуться вновь — более мудрым, более вечным…
Вместо послесловия
Данный текст предоставлен мне бывшей моей ученицей. Восстанавливая, по ее просьбе, информацию на поврежденной вирусом дискете, я ознакомился с текстовыми файлами и убедил Ольгу часть из них опубликовать. Остается лишь добавить, что подбор и нумерация файлов осуществлена полностью мной. Часть файлов была сильно повреждена и восстановлению не подлежала.
Письма также предоставлены Ольгой. Причем письмо Кирилла сопровождало дискету, а свое письмо Ольга восстановила по сохранившимся черновикам. Письма приведены с купюрами, сделанными хозяйкой по личным соображениям.
Тем, кого интересует нынешняя судьба Кирилла, могу сказать, со слов Ольги, что он является студентом одного из столичных вузов и собирается идти по стопам отца. Сама же Ольга учится на факультете журналистики нашего университета.
P.S. Фамилия физика в файле 34, не распечатанная полностью из-за ошибки в чтении, конечно же, Бор.
Письмо Кирилла к Ольге
«…твоя близость согревала кровь. И прогоняла все заботы! С тобой не знал ни огорчения, ни печали. Я был просто каким-то волшебником — все, за что брался, получалось. Без всяких осложнений. Как бы само собой. Я знал — я все смогу! Понимаешь, лишь с тобой я вдруг ощутил огромное желание жить! Мне казалось чудесным БЫТЬ — быть именно собой, именно с тобой, именно в этом месте и в это время!
А после прощания, там, у твоего подъезда, пришло вдруг осознание разлуки навсегда. Появилось ощущение нереальности происходящего. Понимаешь? Мир только что был наполнен счастьем. В нем жили мы. И вот, вдруг, ты исчезла… Нет, не то чтоб ты исчезла вообще — я ведь понимал: ты здесь, в городе, рядом. Я мог пойти, побежать, найти тебя. Нет. Ты исчезла из моей реальности. Ты правильно сказала: мы создали свой собственный мир. И теперь я мог найти тебя в моей реальности только лишь в прошлом.
В тот момент осознание того, что ты исчезаешь, странно подействовало на меня. Меня поразил абсурд происходящего. Я чуть не расхохотался, но понял — абсурдным был бы мой смех. Да и голос отказал — боль была такой, что остаток дня я жил как бы рас-троившись… А потом бросился искать тебя и нашел… А что же после?! А после месяц жил в двух измерениях: тело совершало обычные действия, а душа жила постоянной надеждой на чудо. Мне так и хотелось все бросить и полететь искать тебя, но удерживал разум… Приходилось жить воспоминаниями. Я перебирал все наши встречи, разговоры, стремился найти еще что-то, что ускользнуло от меня, от моего внимания. Вглядывался в фотографии, в каждую твою черточку и мог, наверное, нарисовать тебя с закрытыми глазами…
Был разговор с отцом, он привел в пример какую-то английскую пословицу, на русский что-то типа: живой тот, кто действует, мертвый тот, кто вспоминает. Да и сам начал понимать — надо дальше как-то жить. Тут Сидней, Олимпиада, наш Павел Колобков (В.В. знал его по сборам как Колобка) — в общем, вновь стал фехтовать. Наши выиграли место для поездки на турнир в Варшаву, а я личное первенство, но получил травму… А потом пришло твое письмо. Я перечитывал его раз за разом, пытался прочесть нечто между строк… И каждое такое прочтение причиняло мне одновременно и радость, и горе: ты меня не забыла — это раз, и второе, я чувствовал, что теряю тебя безвозвратно.
Потом, после травмы, я бросил фехтование, плечо следовало беречь, реакция не та, левой учиться поздно и всякая такая мура. Ох, как трудно оказалось это сделать! Оказывается, Оль, спорт по мере затраченных сил и времени, по мере наслоений соревнований и тренировок, тренировок и соревнований постепенно и незаметно срастается с тобой, пронизывает каждую твою клеточку, и когда собираешься его бросать, то вдруг выясняется, что это вторая душа, вторая моя жизнь (первая осталась с тобой) и бросить все не так-то просто. А если приходят и просят выступить, а если звонят и предлагают попытаться с командой попасть туда-то и туда-то, то оказывается, это моя давнишняя мечта. И происходит обратное, понимаешь, Оль: не мечта превращается в явь — после долгих усилий, трудов, пота; нет, много отданных сил, бесконечных тренировок в зале, даже слезы и обиды — превращаются в мечту. Но я преодолел себя, я уже был закален. Прошлое мертво, и прошлым моего фехтовального периода стали две сабли накрест на ковре (у сабель красивые гарды в отличие от шпаги) и всякая мелочь: пландаре, щуп, ушитая крага. Но если бы, Оль, так было просто свалить свое прошлое в ящик и закрыть его!
Когда пришел на гражданку, то заметил: жизнь как-то круто изменилась в моем городе. Он как-то помолодел, подросло новое поколение. Теперь они владели местами моей юности. А так ужасно захотелось вернуться и вновь пережить все те волнующие моменты: с тобой, с фехтованием, с друзьями… Мне так хотелось забыть эти страшные годы (что уж там скрывать, побывал в одной из горячих точек, но речь не об этом). Я заходил к друзьям: многие учились в вузах, многие хандрили после армии, многие разъехались, заходил в школу, посетил коробку катка (старая, разбитая), но не было облегчения. Сейчас я смешон в своих глазах, но тогда, Оль, я боялся будущего, боялся преждевременного покоя, боялся ТИШИНЫ, понимаешь, Оль? Тишина тревожит, в тишине зреют планы, в тишине враги крадутся, обкладывают фланги и заходят в тыл…
Я понимал — это все реакция на мирную жизнь: когда проживешь неполные два года бок о бок с опасностью, тишину воспринимаешь по-другому. Вся жизнь теперь казалась мне мелочной, пустой. Все люди были замкнутые и неотзывчивые, поневоле вспоминалось военное братство. И вот задаешь себе вопрос: а не забыли ли они, какой ценой куплено их благополучие? И проходя по этим улицам, вздрагиваешь моментом: а где-то там, по краю, гремят выстрелы… И никак не мог понять: как можно пребывать в таком блаженном состоянии, когда есть нечто важное… но что?! Потом дошло: ОЖИДАНИЕ ОПАСНОСТИ. За эти годы я успел привыкнуть к тому, что наслаждаешься жизнью лишь после борьбы, только с ощущением острой опасности. А здесь что? Так и накатила апатия. Во-первых, откуда-то пришло знание того, что самое-то главное прошло: любовь, борьба за выживание, дружба, наслаждение жизнью; во-вторых, теперь было дикостью делать что-то: ведь никто на тебя не нападет — зачем же выполнять какие-то функции? Главное-то: стрелять в тебя не будут — живи, существуй, наслаждайся покоем, впереди так много лет…
Повалялся так с месяцок, покутил было… Но что-то грызло меня, не давало покоя. Где-то в глубине сидело напоминание того, что есть еще нечто, чем обладаю только я! И я залез в свои старые тетради, книги, дневники, фотографии и нашел твое письмо. Все всколыхнулось во мне. Ностальгия пришла по второму разу. Но куда податься? Некогда монолитный наш коллектив распался (я уже повторяюсь): Сашка Четвергов поступил на физвос, Андрей Савельев в Москве на технологическом, Саша Колчков где-то в коммерческих структурах (мафия, одним словом), братья Вдовины (борцы — помнишь, рассказывал?) остались на сверхсрочную, про Сашку Филина ничего не знаю, говорят, закончил какое-то ПУ, женился на сокурснице и уехал к ней в Рязанскую область. Про твоих подруг известно также немного.
Ты знаешь, Оль, оказывается, все эти годы во мне жил мальчишка из детства, не умер он той „стихотворной“ ночью, жил все эти годы во мне, в самых потемках души. Так вот, сидя в этой куче бумаг, держа твое письмо в руке, понял я, что все, что делал: бегал по местам детства, посещал школу, любимых учителей, искал друзей — я делал ради него, но… друзья разбежались, места помельчали, учителя постарели, и все: одноклассники, знакомые и не очень — понадевали какие-то маски, пудовые замки на душу и зажили ненастоящей чужой жизнью: кому был нужен со своей тоской по прошлому? Я освоил и познал множество сторон жизни, воспринимаю теперь все как данность, и не знаю, что может огорчить или „ошпарить“ мои эмоции, так что вышеизложенное воспринял довольно спокойно. И в этот момент я решил восстановить свое прошлое своими силами. Груду бумаг разложил по годам. Засел за компьютер и проводил за ним дни и ночи: записал все, что помнил, ввел карту города, отметил на ней все памятные места.
Ну вот, вроде, и все… финал. Что мы ощущаем: легкость, усталость, свободу, тайную радость, гордость? Может быть… Но больше тихой грусти. И чем ближе я подходил к завершению, тем более явственнее проступало это чувство. Ты знаешь, Оль, все течет, не стоит на месте, и последующее — по происшествии времени — значительно отличается от первоначального. Все переходит, трансформируется, перескакивает в качественно иное… И в точку отсчета возврата нет. Еще раз убедился: прошлое ушло — безвозвратно и безнадежно; и пытаться вернуть (или догнать) его — неблагородное занятие. Так что все, что сделал, было всего лишь призом, утешительным призом тому мальчишке, что ждал — за верность памяти».
Письмо Ольги Кириллу
«…Сейчас, когда все вокруг меня серо, все люди скучны, их действия бессмысленны, я понимаю, как огромно было счастье, когда я была с тобой. Я помню все-все, до единой капельки: как ты глядел на меня и я тонула в твоих бездонных глазах, как ты брал меня за руку… А помнишь, как мы ходили в поход и сидели темной ночью у костра? Как струилось тепло от него? Я сидела рядом, и ты отгонял зудящих комаров. Вы с мальчишками разбирали что-то свое, твои глаза мерцали таинственно и мягко, а я вслушивалась во все подъемы и спады твоего голоса и не понимала все эти защиты, сектора, парад-рипосты и батманы; я вчувствовалась во все движения и волнения твоего тела, и ты знал это… вдруг замолкал, отводил глаза и вновь взглядывал на меня»
Несколько месяцев спустя
«Сейчас, когда меня окружают старые знакомые отца, старые — по месту первой службы — подруги мамы, их дочки и сыновья, а, значит, теперешние мои одноклассники, я еще больше и глубже переживаю случившееся с нами. И это возносит меня над пустотой этого мира. Я смеялась (ну не в глаза, конечно), когда некоторые мои новые подруги подходили ко мне с озабоченными лицами и делились своими ничтожными заботами. Мне было их жаль — сумеют ли они познать и обладать тем, что познала и чем обладала я?! Ах, многое бы я отдала, чтобы вновь увидеть и услышать тебя. Помнишь, как ты догонял меня на коньках, неумеха? Помнишь, как бежал за мной и прыгал в воду летом на карьере, куда ходили мы купаться вместе с нашей компанией?
Нельзя забыть тот мир, который был полностью наш; мир, в котором все предметы были созданы для нас: солнце, чтобы согревало нас и нам светило; каток, чтобы катались только мы (ну и другие — не жалко); деревья, чтобы скрывали нашу тайну…
Горький опыт, Кирилл, убедил меня, что люди вообще плохо понимают друг друга, а уж почувствовать, сопережить им вообще не дано (есть только видимость) — вот и бродят они в своем одиночестве, в своих „футлярах“, со своими радостями и горестями. И только после встречи с тобой я вдруг открыла в себе дар чувствования другого. Вот тут я поняла, Кирилл, что любовь — есть проникновение в мир другого человека, проникновение в души…
Ты знаешь, Кирилл, я раньше такой не была. Мы неожиданно открыли себя друг другу. И в первую очередь я удивилась себе (ты всегда был для меня лучше других мальчишек) — и ужаснулась: неужели я была такой? — без цели в жизни, без близкого человека, глухой, слепой, без счастья и любви!.. Что мне раньше было до внутренней жизни себя, подруг, близких людей?! Дальше сплетен, мелких ссор, обид, тряпок, фильмов, музыки, дискотек я не шла… А теперь даже испугалась: что ты нашел во мне? Оправдаю ли твои ожидания? Но после успокоилась: чувства мои делались острее, глаза зорче, сердце чутче…
Люди часто приписывают Любви то, что ей несвойственно, например, любовь его измучила — или: любовь сделала ее несчастной. Но может быть, люди сами измучили любовь, сами сделали ее несчастной? А неразделенная любовь? Могут мне возразить. А неразделенной любви не бывает. Все должно быть целым. Либо она есть такая: взаимная, счастливая, обогащающая всех — либо ее нет.
Теперь, Кирилл, после первых тяжелых дней, после нескольких серых месяцев жизнь захватила меня, как вихрь. И сейчас для меня все внешнее мало что значит, сейчас я стараюсь во всем и во всех выявить, как говорил поэт, „глубинную сущность“, и постараюсь, чтобы более-менее знакомые мне люди умели видеть в своих близких то невыразимо чудесное, что видели мы друг в друге, — тем же подругам, которые подходят и жалуются, говорю: девчонки, жизнь так коротка, радуйтесь друг другу, радуйтесь, что существуете, что существуют другие, и не обижайтесь на обидчиков: они ведь не умеют радоваться — вы никогда не задумывались, как, значит, они несчастны?! А если у меня не получится, я не буду грустить — что ж, я сделала что смогла. И если в мире существуют двое, которые знают, что мир существует не зря, что ж — мир действительно существует не зря…»


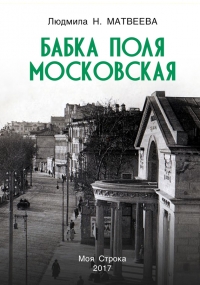
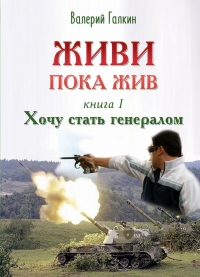
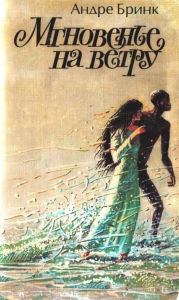


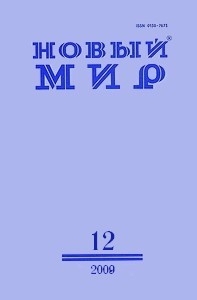




Комментарии к книге «Принцип Нильса Б.», Александр Анатольевич Жебанов
Всего 0 комментариев