Тогда, зимою
В этом селе ни одна дверь не сидела в своей раме так ладно. Плотная дубовая дверь, отец мой как приладил её лет десять — пятнадцать назад, так она и сидела в раме, будто влитая. Но по единому, почти незаметному стыку двери и рамы холод проставил ломкую кромку инея и крепким и гладким серым льдом обвёл пару петель; немного погодя, когда мальчик с отцом толкнут дверь, чтобы выйти из дома, лёд на обеих петлях с противным скрежетом разломается.
Мальчик по имени Армик Мнацаканян ждал, пока отец кончит отбирать гвозди. Несмелые язычки пламени изредка выглядывали из-за печной дверцы, стёкла в окнах были заиндевелые, в комнате стояли сумерки. Опустившись на колени прямо напротив слабых отблесков печки, отец на ощупь выбирал гвозди из ящика, те, что не очень гнутые были, совал в карман кожанки. Мать заправляла постель и каждый раз видела, как отец бросал в карман гвоздь. По мнению матери, стоило пожалеть и гвозди и карман. Матери всё хотелось сделать замечание, что гвозди раздерут карман, но она ничего не говорила. До войны, когда мальчик не доставал рукой до ящика, у отца там и впрямь было много гвоздёй, но сейчас их не было, и ему казалось, у него их никогда не было. И подростку по имени Армик Мнацаканян было стыдно вспомнить, что некогда он был ребёнком и загубил отцовы гвозди. Сейчас эти гвозди можно было найти в разных сгнивших досках. Мальчик Армик держал молоток в руках и забивал гвозди всюду, куда без труда мог войти гвоздь.
На печке не еда была — собачья похлёбка. Собаки у них не было, собаку волки задрали. Похлёбка разогревалась для свиньи, она пока ещё не разогрелась, её ещё не вынесли и не скормили свинье, кислый запах стоял по всей комнате. У подростка по имени Армик Мнацаканян волки отняли его собаку. Он сам выбрал её из щенков, остальных, ненужных, вместе с дедом они закопали в землю, а эту вырастил, деля с ней поровну молоко. Сам вместо деда он наказал себе защищать её от волков, потому что главное было эту зиму одолеть, а будущей зимой собака уже постояла бы за себя. Собака стукнулась о дверь и тревожно завыла, мальчик выскочил из постели и увидел собаку ещё живую — между хлевом и старой грушей, была даже такая минута, когда мальчик и собака оказались среди волков вместе, но потом мальчик стоял на снегу один, а за старой грушей на пустынном заснеженном холме вроде бы высоко прыгнула белая собака, и тут же её острый скулёж заглох между волками. Волки уходили врозь, не стаей, но собака не возвращалась. Мальчик осторожно, ужасаясь и удивляясь случившемуся, позвал собаку, но её не было. Стоя под луной среди поблёскивающих снегов, он ещё раз позвал собаку, ему даже послышались мягкий бесшумный бег и знакомое дыхание, но нет, мальчику показалось. Под большой луной на чистых снегах мальчик не нашёл даже капельки крови, прямо в воздухе, на лету они разодрали, слопали её. Мальчик, казалось, целую вечность простоял там, где только что были волки и собака, в ушах — их мерзкая возня. Чуть позже пришла мать и встала в дверях хлева. Озираясь по сторонам, мальчик подошёл к матери и потом, стоя рядом с нею, долго смотрел на чистый белый холм. Волков он не испугался, волков вблизи он уже видел. Среди поблёскивающих снегов он стоял неодетый и босой, но слово матери не было похвалой, нет: если бы мальчик так по-глупому не бросился к своре, собака бы тоже не кинулась туда, не кинулась и спаслась бы. Потом уже, дома, мать похвалила мальчика, но это уже так, чтобы мальчику не очень обидно было, а настоящее мнение матери было — упрёк, которого мать больше не повторила, но в сердце мальчика он уже засел занозой.
Сестрёнка проснулась, села в постели и, никого и ничего ещё не разбирая, поведала, что в её маленьком девчоночьем сне пришёл отец и поцеловал её, но принести ничего не принёс… Рассказывая, она увидела отца и удивилась:
— Вай, а ты во сне приходил к нам…
Отец выбирал гвозди перед печкой, радости в нём не было нисколько, но для девчушки он нашёл что-то похожее на ласку.
— Во сне приходил, говоришь? — сказал он. — Во сне я взаправду приходил?
В их холодном, пропитанном свинячьей мешанкой доме это была натужная ласка, но для того чтобы обрадовать девчушку, этого оказалось вполне достаточно. С раскрасневшимися щёчками, с блестящими глазками, она молча улыбалась, сидя в постели, потом сказала:
— Сколько ни увижу тебя во сне, столько ты и придёшь?
Стоя на коленях перед печкой, отец замер от восторга.
— Сколько ни увидишь, — сказал он, — столько и приду.
Мать убирала их с отцом постель, застилала её покрывалом, мать сказала:
— Сколько ни увидишь, столько и придёт, но ты поменьше такие сны смотри.
— Я каждую ночь буду его видеть, — сказала девчушка, — всегда буду видеть, если не будет приходить, глаза вот так закрою и увижу.
Девчушка натянула на плечи одеяло, закрыла глаза и покачнулась.
— Увидишь, — усмехнулась мать, — он-то придёт, а его раз — и пошлют за другого работать. Чужой работе конца-краю нет.
— И такое может быть, — откликнулся отец. — Гвоздей не нахожу.
— Посмотри в золе, — сказала мать, — но погодятся ли?
— Что гвозди в золе делают?
Мальчик возле двери весь сжался. Взмокнув от стыда, мальчик сжался не только потому, что в конечном счёте это он закинул гвозди в печку: мать растапливала печку подгнившими балками и досками, и старые, ещё в детские годы вколоченные туда гвозди выходили теперь на свет божий. Так-то оно так, но мальчик сжался в своём углу ещё и для того, чтобы сестрёнка его не увидела. На мальчике по имени Армик Мнацаканян было надето домотканое платье, которое мать носила, когда сама была девочкой, и которое года через два должна была надеть девчушка. Девчушка знала, что ярко-красное это платье должно перейти ей, и примеряла его время от времени. Для мальчика это было унизительное одеяние, но, когда мать почти силком впихивала мальчика в это платье, нельзя было громко, вслух возражать, потому что дети, братик и сестрёнка, проснулись бы и девчушка увидела бы в отблесках печки на мальчике своё будущее красное платье и огорчилась бы, ничего не сказала, но от горя заболела бы.
Единственное, что он мог сделать в знак протеста против девчачьего этого платья, это то, что он свою верёвку протянул над правым плечом, потом под левой рукой, обмотал вокруг груди и стал как русский солдат, скатавший шинель в скатку.
Щеколду перед отцом отодвинул мальчик, и с морозной ночной улицы отец принёс в дом свежий запах буковых опилок. С минуту отец стоял в дверях среди семейного тепла, усталую, натруженную руку он положил, как погладил, на голову мальчика, от усталости он валился с ног, потом он поцеловал спавших детей, и девчушка сказала: «Ты что мне принёс?» Увиденное девчушкой не было сном, но кто и когда углядел, что отец в селе, и кто и когда успел взвалить на отца работу — вот это для мальчика было загадкой. Наверное, случайно увидели его, проходящего по селу, и вспомнили, что быки в горах выломали дверь хлева… Но мальчику казалось, что деревенские власти всю неделю стояли на тропинке к их дому и поджидали отца, чтобы сообщить ему, что хоть это и не по его части и хоть он и усталый до смерти, но быки в горах снесли ворота хлева.
Может, из жалости к отцу, а может, потому, что ему ничего не стоило крепкое как сталь дерево пригвоздить к крепким полозьям санок, мальчику казалось, что дверь он починит в минуту, это животноводы пускай думают, что они животноводы, и только, а чтобы гвоздь вбить, для этого особый человек нужен.
— Пошли. — Отец сказал это так, словно тут, рядом, в двух шагах надо было вбить гвозди, он торопливо поднялся, засунул ящик в недра шкафа и повторил: — Пошли, пошли. — Потом нагнулся, поднял с земли и сунул под мышку связку верёвок. Открывая дверь, отец задел плечом мальчика, он посмотрел на него, вспомнил, что это его товарищ по пути, и жалко, с сомнением улыбнулся.
— Ну и уходи, — сказала мать. — Нам всё равно, ничего ведь для нас не приносишь, когда приходишь.
Мать сказала это как бы от имени девчушки, в шутку, значит, но хоть и в шутку, хоть и с любовью, а лучше бы она этого не говорила. Отца, пускай без ничего, без гостинцев, пустой приход уже был большим подарком для мальчика. В этом селе, полном осиротевших детей, отец, навещавший их раз в семь дней, источающий усталость и аромат свежего дерева отец наполнял сердце мальчика ни с чем не сравнимым счастьем и постоянным страхом потерять это счастье.
Холодный жёсткий воздух ударил им в лицо, и перекинувший верёвку через плечо на манер русского солдата мальчик в красном платье поёжился и затрусил за отцом. Ему хотелось думать, что они с отцом мужчины-товарищи, но его шаг был короче отцова, и, хотел он того или нет, он то забегал вперёд, то какое-то время с неприкрытой гордостью шёл рядом с отцом, плечо в плечо, а то отставал и видел впереди широкую костистую отцову спину. Так его собака бежала с ним, когда мальчик впрягался в сани и шёл за хворостом в лес.
Девчушка, прижавшись носом к стеклу, наверняка увидела из окна красное платье, надетое на брата, и конечно же немного огорчилась… и, может, мальчик не потащит в этом платье сено, может, он снимет платье и принесёт его домой под мышкой, и это станет утешением для девчушки, а пока ничего, пусть живёт до вечера её крохотная печаль птички.
Отец замедлил шаги и крикнул через плечо в сторону дома:
— Эй, ахчи…
Из хлева доносился резкий визг свиньи. Коза, телок, корова — как они дают понять о своих тревогах и голоде? Голодны они, пить хотят или же больны, молча терпят, а свинья с раннего утра наполняла их мирное существование своим неустанным безобразным визгом. Не дожидаясь ответа из дома, отец прокричал:
— Дайте этой свинье её пойло, пусть заткнётся, ахчи, а то корову жалко, — и споткнулся, что ли, споткнулся, потом пошёл быстрее, заспешил. И опять мальчик видел перед собой его широкую спину, топорище заткнутого за пояс топора и верёвки под мышкой.
Этот клич насчёт свиньи так и повис в воздухе. Ветер, а может, стужа подгоняли отца, согнувшись, он снова крикнул: «Эй, ахчи… дай поесть свинье». От их крыши поднимался белый пар, огонь в печке не занялся ещё, значит… печку разжигали хворостом мальчика… мальчик любил трескучий огонь сухого дерева, ещё мальчик любил зелёную мшистую бороду дров… Отец прокричал насчёт свиньи, на печке разогревалась мешанка… значит, ереванский жулик ещё не купил свинью, не приехал ещё из своего Еревана и сверх цены не кинул, как милостыню, дряхлую кожанку, кожанка ещё не пришла в их дом, на ереванце ещё была… но что же тогда было на отце? Отец, нет, он не был раздетым среди этих снегов, когда сказал через плечо «Эй, ахчи» и, как подстёгнутый, ускорил шаги, на отце что-то такое было, но что же? Солдатская шинель? Если пройти десять километров вдоль замёрзшей речки, если вдоль речки к железной дороге спускаться, лесное хозяйство будет. Отец там десятником работал. Командовал дровосеками-пленными. Война только кончилась или даже ещё не кончилась, на отце и впрямь могла быть солдатская шинель. Не помню. Мальчик, да, мальчиком этим был я, но я уже так отошёл, так отдалился от него, что мальчик этот для меня — существо отдельное, независимое. Начальничество отца над пленными мать, бывало, высмеет или скажет с беззлобной улыбкой — десятники, мол, мы. Но в душе она питала тайную надежду, что, получив ничтожную эту власть, её работяга-муж приохотится к должности… то есть не придёт и не попадёт у собственного порога прямо в лапы руководству, а, стоя на тропиночке, сам неделями будет выглядывать-поджидать какого-нибудь наивного простофилю работника, чтобы немедля отправить его в горы чинить сломанные ворота… Но теперь я знаю, что напрасными были и злость этой женщины, и надежды её: отец стеснялся попросить стакан воды у меня, собственного сына, этот человек был сам вроде в плену у своих пленных, какое там — десятником. Бойкому обманщику ереванцу он не мог сказать, что свинью ему не продаст, — единственная эта свинья была единственным прокормом всем троим детям, начиная с лютовавшей беспощадной этой зимы и до самой голодной весны, — он не сказал, что нам самим нужны и мясо, и сало, и кожа, и ножки, и свиная голова. Ереванскому рвачу он не мог сказать, что кожанку его в прошлом, может, даже комиссар какой носил, но сейчас кожанка старая, невозможно старая, прямо серая от старости… Сияющий, источающий улыбки торгаш сказал: «Свиным салом намажешь, ещё как заблестит».
Одна из дверей у Данеланцев скрипнула, кто-то, остановившись на тропинке, ведущей к уборной, смотрел в их сторону, и мальчик в своём красном девчоночьем платье спрятался за отца. До оврага, до того места, которое не проглядывалось от дома Данеланцев, мальчик двигался плечо в плечо с отцом. В овражке от ручья, покрытого крепким, как камень, толстым льдом, тропинка поползла вверх, и мальчик был вынужден пропустить отца вперёд, впрочем, прятаться уже было незачем — на всём белом склоне они были одни. Тропинка была дорожкой для санок с бороздами от полозьев, основательно заледенелыми, мальчик свои дрова привозил по этой дорожке, мальчик любил думать, что что его железная дорога, он мог от самого леса пустить вниз гружёные санки, и санки, не сбившись с пути, скатились бы, но мальчик не делал этого, потому что вдруг бы на тропинке кто-нибудь был… и потом, набрав скорость, санки с разбегу ударились бы внизу об лёд и соскочили в овраг.
Отец ломал дорожку мальчика — снег под его тяжёлыми шагами крошился, забивал борозды, завтра санки не пойдут уже так плавно. Но по обе стороны тропки снег был глубокий, по колено, и мальчик втайне радовался, что вот он подарил отцу свою дорогу. Завтрашняя работа мальчика осложнялась. Отец сошёл с заледенелой тропки и пошёл по снегу. Замёрзший снег продавливался, и ноги отца увязали в снегу. Лёгкий, совсем ничего не весивший мальчик обогнал отца и пошёл по своей дорожке, ударяя каблуками по обледенелым бороздам, разбивая их и приглашая отца разбивать. Отец, может, улыбнулся, может, сказал с любовью «дурень», а может, и огорчился, и выругал этот холодный, голодный и жестокий мир… но немного погодя подчинился и снова ступил на мальчикову тропку, а мальчик, будто бы ему надо перевязать ремешок у постола, отстал от отца, пропустил его вперёд, потому что нельзя же всё время маячить перед его глазами и постыдно напоминать, что вот-де я мальчик, а меня вырядили в девчоночье платье.
На самом краю обрыва брат поставил капкан. Вернее, это он, мальчик, наладил капкан, но капкан был братов. Потому что это брат мечтал поймать волков на пятьсот рублей. Его худенькое тельце птенца не оставляло следов на дорожке мальчика, и казалось, капкан спущен с неба, божий капкан. К цепи брат прибавил зелёную верёвку от постолов, ещё какую-то тряпку, лоскутки от какого-то платья и всё это протянул-привязал к дубовой поросли. Будто бы волк поднимется по тропинке мальчика и прямо — в капкан. Отец вытащил топор из-за пояса — домашнюю тварь может покалечить — и хотел было топорищем захлопнуть капкан, потом передумал — откуда ей взяться, всё подчищено.
— Это ты поставил? — спросил отец.
— Братик, — саказал мальчик, — брат.
Глядя на Грайровы верёвочки, отец засмеялся, как заплакал. Овраг кончился, они вышли к яру. Перед тем как начать восхождение, отец оглянулся на село, и мальчик тоже посмотрел. Безмолвное, словно вымершее село, казалось, и дыма нигде нет. Мальчик будто увидел ком в горле отца. Сорок восемь парней не вернулись с передовой, сорок восемь косарей, погонщиков, пастухов, учителей, пахарей — целый звонкий хор.
На всём взгорке сверху донизу лежал нетронутый, отдающий синевой снег, только саночный путь мальчика спускался по нему отлого. Таким прямым ещё был железнодорожный путь Петербург — Москва. Русский царь положил линейку на карту и начертил свою железную дорогу, и русские крепостные легли и на себе провели-проложили через болота эту прямую железную дорогу царя. А в мальчиковой дороге и крепостным, и царём был сам мальчик. Когда мальчик во второй раз вынужден был бросить санки и убежать в лес, санки, набрав скорость на повороте, слетели в омут, тот, что справа. Омут не очень глубокий был, но, как могильная яма, начинался сразу, и, когда мальчик по одному выбросил из него все свои дровишки и хотел уже сам выбраться, омут его не пускал, мальчик тогда домой пришёл только к ночи. Козла дяди Шаварша волки в этой яме слопали; окружили, спихнули и там задушили и загрызли, а на воле они и хвоста бы его не увидели — длинномордого, почти что дикого чёрного козла.
Между омутом и дорожкой мальчик устроил снежный заслон. Но он не очень был уверен, что заслон выдержит, если он на санках с размаху стукнется об него, и на этом повороте он всегда немножечко побаивался, а потом, проскочив, тайком улыбался про себя.
Отец заметил заслон, посмотрел поверх его на омут, наверное, увидел сухие щепки и следы мальчика, и снова у него вырвалось это его «айеэ» — айеээээ…
— Ты что же, в яму угодил? — запоздало перепугался он.
— Нет, салазки просто упустил.
— А не сам упал?
Мальчик говорил неправду, он не упустил санки, он их бросил, санки бросил, а сам убежал в лес.
— Очень мучаешься? Трудно тебе?
— Трудно? — удивился мальчик. — Нагружаю, сами идут.
Отец снова занервничал.
— Айеэ, лошадь, что ли, грузишь, сами идут.
Слова в нашем сознании имеют свой особый облик. Яблоко, например, это когда у тебя жар, и сознание твоё замутилось, и сестра отца, тётка твоя, бормоча, целует твой лоб и кладёт в твою руку холодное сморщенное, как её щека, яблоко, и ты только через два дня замечаешь, что за пазуху тебе закатилось яблоко. Слово «мучиться» относилось, по мнению мальчика, ко взрослым, к их работе, а дети, их лишения и их посильная доля в работе — это мучением не было.
— Вот дядя Ашхарбек, тот промучился, — сказал мальчик. — С Медовой Груши скатил бревно, до самого низу бревно хорошо летело, а внизу заело, волы сколько ни тянули, не вылезало. Потом ярмо сломалось, дядюшка тогда дерево срубил… волам неудобно, пятятся, а дядюшке самому холодно, дует на пальцы и на волов кричит… Когда дядюшка дерево рубил, с Каранцева холма на него лесник всё время смотрел. Дядюшка ему: «Иди, иди… говорит, как подойдёшь, так я запрягу». А тот всё стоит и смотрит, и не подходит.
— А почему Ашхарбек через нас поехал? — спросил отец. — Почему понизу не поехал, хорошей дорогой?
— Не знаю, — сказал мальчик, — он от Медовой Груши бревно отпустил, через нас хотел везти. Цепь старая была, всё время обрывалась, ярмо сломалось, волы не шли. Я уже хворосту набрал, вернулся, а он всё бился с ними.
— Бревно это, не иначе, мы вместе рубили, до войны ещё, — припомнил отец, — косить собрались, ребят в лесу поджидали, вырывая друг у друга топор, шутя, играючи срубили, обтесали, выволокли на дорогу, ребята пришли, видят, а мы на обтёсанном бревне сидим, их ждём, — отец вздохнул. — Унёс, значит.
— Наши думали, нам бревно везёт, председатель, думали, приказал, мама растерялась и всё смотрела, чем бы его угостить-накормить… и волам его решили сена дать… а он через нас и увёз.
— Ничего, — сказал отец, — увёз так и увёз. Мучился, значит. Сейчас столько их, которые под землёй и не мучаются, столько их, кто хотел бы мучиться и выбиваться из сил, но быть, живым быть…
— Я потом пошёл посмотрел, — сказал мальчик, и ему стало неловко: в мире столько горя и страдания, а он всё о себе, о том, как он пошёл да посмотрел. — На нижней дороге вода замёрзла, бревно бы в овраг вместе с волами скатилось, крепкий такой лёд, бугром, птица встанет, соскользнёт… и потом…
— Что потом?
— Бревно большое было, до Медовой Груши волы еле тащили, петляли.
— Ну ладно, — сказал отец, — бревно унёс, великое дело.
— Я не про бревно думаю, волы намучились.
— А ты? — сказал отец. — Ты не мучаешься, не устаёшь разве?
— Я тогда санки взял, в лес пошёл. А обратно иду, вижу, наш Грайр стоит возле волов и кряхтит с ними вместе, дядюшка кричит на волов, а он весь сжимается, напрягается. До самой ночи проторчал, мама звала его, а он не отзывался.
— И то помощь, — сказал отец. — Уроки у тебя как идут?
— Два-три здоровых кола нужны были и два-три человека, чтоб бревно поддеть. Дядюшка тужился один и всё смотрел через плечо, кого бы на помощь позвать, но никого кругом не было, только на Каранцевом холме лесник стоит и смотрит.
Отец усмехнулся.
— А Пыльный дед? Не помог?
— У них корова в овраг свалилась, сколько женщин набежало — и кричали, и ругались, и верёвками тащили.
— Это когда же дело было?
— Я тогда ещё маленький был, — сказал мальчик.
Отец улыбнулся.
— А сейчас большой?
Мальчик и теперь был маленький, но тогда, в то время, он был совсем маленьким. При жёлтом болезненном, можно сказать, несуществующем свете фонаря женщины суетились и проклинали Пыльного деда, а заодно и Гитлера. Внизу, ниже ручья, была топь, корову затягивало, а повыше ручья крутой обрыв был, женщины забросили верёвки и тащили корову вверх, смешанная со снегом земля уходила из-под ног, и женщины чертыхались и проклинали — и Гитлера, и корову, и Пыльного деда — не может ведра воды себе принести, тощая, стельная корова свалилась из-за тебя в овраг, чёртов дед… Потом из села пришли, велели погасить фонарь и замолчать — над селом самолёт кружил. Примолкшие женщины набросили на корову карпет и стали ждать, они ждут, а корова торчит в топи. Они говорили: «Чтоб снаряд у тебя в животе разорвался, Гитлер». Говорили: «Ох, Пыльный ты дед, чтоб ещё один снаряд да в твой живот». И смеялись от собственного бессилия. Фонарь был в руках у матери. Мать не хотела подчиняться и только прикрутила фитиль. На неё шёпотом цыкнули, мать погасила фонарь и какое-то проклятие крикнула, но ей сказали: «А ну, чтоб твоего голоса!» И была тьма полная, и во тьме гул самолёта, а через этот гул — смиренный стон коровы.
— Тот вол, у которого рога вверх и назад, большие такие, — сказал мальчик, — тот, что серый и смирный, этот вол нашим телёнком был?
Отец помедлил, подумал и сказал:
— Зачем тебе?
— Когда дядюшка запряг их и мучился, один из волов этот был. Он сильней другого был, давил на того, прямо под бревно его загонял.
— Тебе год был, когда его взяли, — сказал отец, — ты же его не помнишь.
— На нашу корову похож, — сказал мальчик. — Мама говорит, наш телёнок был.
— Старший брат нашей коровы, — сказал отец. — Кончай давай, — рассердился он, — наше, наше, ничего тут не наше.
— Ещё про одно спрошу… Лесник тогда стоял на Каранцевом холме и смотрел, а подойти не подходил, стоял и смотрел. Дядюшка сказал ему: только подойдёшь — запрягу. У нас что, нет права сухое полено из лесу взять?
— Сухое полено, говоришь? А что Ашхарбек для ярма срубил? Тоже сухое полено? А бревно колом поддевал, для кола тоже дерево, значит, срубил, ну?
Они вышли на взгорок, дальше мальчикова дорожка смешивалась с большой дорогой, ведущей в горы. Земля на этом месте всегда чистая от снега бывала, чтобы провезти здесь санки, мальчик каждый раз засыпал это место снегом, но сегодня тут опять была голая земля: жёлтый сыпучий песчаник втянул в себя весь снег, под этим буком всегда — даже когда кора на деревьях от мороза трескалась, — всегда там сохранялось какое-то тепло, сколько дыхания у грудного младенца, вот столько там тепла всегда сохранялось, и мальчик, проведя санки, всегда останавливался здесь и улыбался. Обычно это место мальчик так переходил: оставлял санки наверху, у зарослей граба, набирал снегу и посыпал это место, потом шёл, становился у граба за санками, плевал на ладони и нацеливался — до того вон места — и с криком «Вперёд на Германию!» — с размаху проскакивал опасное место. Санки он останавливал над самым спуском, слезал, возвращался, становился под буком среди кажущейся или на самом деле существующей теплоты и улыбался.
— Мучаешься тут, — отец швырнул ногой снег на голую землю. — Не убило меня и вроде бы вернулся, а тебя мучаю, — и он снова швырнул ногой снег на голую землю.
— Не держится, — сказал мальчик, — тает.
— Возвращайся, — рассердился отец, — нечего тебе из сил выбиваться, ступай домой.
Мальчик сделал вид, что не слышит.
— Пока изгородь жгите, — сказал отец, — за хворостом больше не ходи.
— Лес рядом, стыдно изгородь.
— Что тебя мучаю, это стыдно, а изгородь жечь совсем не стыдно.
Но как было мальчику сказать, что хоть он и мучается немного, верно, но то, что отец раз в неделю приходит домой, мучения эти стоят того. Приходил отец, и мальчика словно обдавали изнутри и снаружи ласковой тёплой шёлковой водой, и в согретой печкой комнате мальчик непрерывно чувствовал надёжное присутствие отца, читал книгу и чувствовал, что отец дома, думал об Ованесе Туманяне и чувствовал, что думает об этом в присутствии отца. В понедельник утром мальчик взглядывал на постель отца с тайной надеждой, что не ушёл, что здесь ещё, но каждый раз с тяжёлой тревогой видел, что постель пуста. Как собака, мальчик всюду улавливал его запах. Мальчик ради него таскал из лесу хворост — ради одного-единственного праздничного воскресенья. А каково было Айку, Овику, Норику, Жорику, чьи отцы ни разу в неделю не приходили и никогда не могли уже прийти. Лаврик и Юрик, Альберт, Альфон, Гильберт… Беспризорные, без мужчин дома, мимо этих домов отец проходил с неловкостью. Потому, наверное, он приходил домой по ночам.
— В России, — сказал отец, — лыжи, я слышал, воском натирают. Снизу.
Отец ударил каблуком по льду. Лёд не разбился, он ещё несколько раз ударил, потом поставил топор и тупой стороной разбил, а потом и лезвием обтесал и разровнял этот бугорок, где санки всегда встряхивало, чуть не сбрасывало с дороги. Сам мальчик ни за что бы не стал отцовским топором рубить лёд, вдруг бы топор напоролся на камень. Правда, мальчик уже умел наточить топор, но всё равно не стал бы.
— Можно, значит, и салазки натереть воском, — сказал отец, — легче идти будут.
— Ничего, — сказал мальчик, — я твоим рубанком провёл несколько раз, они теперь, как навощённые, вырвутся из рук, и не поймаешь. И потом, — сказал мальчик, — воска нет. Весь воск, и наш и ихний, бабушка собрала, сделала свечи, пошла, в часовне зажгла. Дед бога побоялся, ругаться из-за воска не стал, а мама не побоялась, — мальчик улыбнулся. — Мама ещё как раскричалась, а бабушка молилась и говорила богу: «Боже милостивый, не сердись на неё, это она так, пошуметь любит, а сердцем чистая… вот сын мой вернётся, — бабушка говорила, — и воск у нас будет, и мёд, и хлеб… как улей, как целый улей, будет работать мой сын».
Отец грустно улыбнулся.
— Вот я и вернулся, — повторил отец. — Вернулся, но ни для кого меня нету — ни для вас, ни для братовых детей беспризорных, ни для отца, ни для матери… Как они там, — спросил отец, — живут?
Мальчик рассказал:
— Когда издали смотришь, изгородь вроде бы целая, но они все мелкие сучья повытаскивали, сожгли… кору, сухие ветки с яблони, картофельную ботву сухую… огонь слабый-слабый, — сказал мальчик, — колени у деда согреются разве. Дед мёрзнет всегда.
— Кровь медленная стала в нём. — О старом отце и старухе матери отец, казалось, больше не думал, но, когда он снова заговорил, мальчик понял, что старый дом деда с бабкой — отдельная большая забота для отца. — Что же мне делать? — сказал отец. — Закон есть, по закону, если родители старые и за ними присматривать нужно… хворост им, воду… заболеют они или что… нет такого права, чтобы их кормилец, чтоб того, кто за ними смотрит, забирали в армию, мой младший брат по закону сейчас не в армии должен был быть, здесь… но мои мать-отец постеснялись. Постеснялись, что другие по два человека в войну потеряли, что среди этого горя они счастливые живут… Услали, — сказал отец, — моего младшего брата услали подальше, чтоб не мозолил глаза селу, мои мать-отец побоялись своего большого счастья.
Мальчик всегда упрашивал бабку научить его молиться, но бабка каждый раз делала вид, что не слышит. Мальчик всё же верил, что за бормотанием бабки есть какой-то другой мир, которого он, мальчик, не видит, поскольку не знает бабкиных колдовских слов, чтобы открыть тайную дверь. Дед каждый раз слабо, как помаргивает огонёк в их лампе, вот так слабо улыбался и говорил, что школьнику не полагается молиться. Когда мальчик заболел и тихая ласковая сестра отца принесла яблоко, бабка тоже пришла — молиться, чтоб он выздоровел. Мальчик с закрытыми глазами прислушался. Это были воспоминания о солнце, о ягнятах, о голосах в поле, о фруктах и цветах, а может, бабка уже в будущем видела-различала эти звонкие голоса, этот густой пасечный аромат, бабка долго так бормотала и только в самом конце пообещала рукой своего сына и мальчикова отца починить сломанную дверь часовни, аминь: «Симону моему скажу, починит». «С-с-с», — слышалось мальчику. Но об этом мальчик отцу не стал рассказывать, а то получалось, что всем, начиная с горных зимовий и до самого нижнего края села, отец что-то да должен. Мальчик спросил:
— Пленных когда отпустят, чтоб вернулись к себе домой?
— Я? — сказал отец. — Я должен отпустить? Когда Москва прикажет.
— Или не отпустите?.. Потому что пленные?
— Не знаю, — сказал отец. — Москва прикажет.
— Лес Туманяна рубят, — сказал мальчик. — Москва знает, что лес Туманяна рубят?
— Москва всё знает, — сказал отец, — но лес не Туманяна, Туманян ещё когда умер.
— Ованес Туманян умер в тысяча девятьсот двадцать третьем году, знаю, — сказал мальчик, — я не про это.
— Слушаю, — сказал отец.
— А может быть такое, — сказал мальчик, — что наши пленные в Германии, а их не отпускают…
Отец не ответил. Отец молчал, и мальчик подумал, что отец не понял его.
— Здесь пленные, верно? — начал мальчик. — А наши деревенские там, в ихних лесах…
— Не знаю, — сказал отец, — не знаю я, не в курсе… Не знаю, — рассердился отец, — мучились, выбивались из сил, верно, но хоть каждый своим делом мучился… а теперь что. Ступай домой, — сказал отец, — домой иди.
Как далёкое землетрясение, гудел ветер, но деревья в зимнем сером лесу не раскачивались или же раскачивались, но это было не видно. Повыше тянулись голые безжизненные горы. Снег на их гребнях отдавал слабым красным, а склоны были льдисто-синие. Лес был таким же мёртвым, как горы, но рядом с молчаливой твердью гор лес казался тёплым и добрым созданием. Не верилось, что за лесом, за мёртвыми пределами гор есть человеческий очаг, надёжный стог сена, что жаркие тяжёлые быки ломают там ворота, а женщины, как девушки, пугливо жмутся друг к другу и посылают весть о том, что быки разнесли ворота… И, несмотря на то что мальчик сам вилами сено подбирал и потом с матерью метал в стог, не верилось, никак не верилось, что эти горы были когда-то зелёными и узкая и лёгкая коса звенела в руках отца, что под снегом живёт трава, молоденькая пахучая травка. Но ведь только в этот единственный раз отец полностью, безраздельно принадлежал мальчику, один-единственный раз за долгую двенадцатилетнюю жизнь мальчика, и мальчик ни за что бы не согласился лишиться того, чтобы идти рядом с ним и, отстав, бежать за ним, как собачка.
Большая колхозная скирда на той стороне горы, возле хлевов зимовья, и мальчиков стожок на этой стороне горы, пониже Синего родника, были поставлены осенью в один и тот же день… С вилами, с граблями, с верёвками, закинутыми за спину, женщины задержали шаг возле мальчикова дома и подождали его мать. Мать в одну минуту сделалась больной и старой, села на трухлявый пень и сказала, что она им не мул. Тётка Искуи изловчилась, протянула поверх изгороди вилы к единственному яблоку на их яблоне и сказала: «Чтоб тебе сдохнуть, а мы, что ли, твои мулы». Потом по дороге они набивали мешки и подолы кислыми-прекислыми яблоками-дичками. Мать сказала: «Если я мужняя жена, почему же, как вы, безмужние, должна сено на себе тащить?» В это время на Каранцевом холме возникло обличие Ориорд Уцьюн. Ориорд Уцьюн была директором школы и преподавала математику, но держала в руках и наставляла всё село. Председатель боялся ругаться с женщинами и сложные случаи поручал Ориорд Уцьюн. Как прилежные ученицы, с граблями и вилами за плечами женщины смиренно пустились в путь.
Тётка Тамара свою картошку и сыр положила в материн мешок: «Не показывай мне, а то есть захочу». Женщины смеялись: «Держи крепче Тамарин паёк». «То вовсе не шла, а то и ребёнка с собой привела», — сказали женщины матери. Мать их обманула: «Моё дитя не хочет, чтобы его мать мулом была, наравне со мной будет работать». Женщины сказали: «Эх, твою счастливую головушку». С пересохшим ртом, с потрескавшимися, сухими губами, они оглядели-обследовали дикую яблоньку, и мальчик забрался на неё, а женщины с визгом разбежались, мальчик основательно разгрузил дерево, сплошной яблочный покров на земле получился, но, пока мальчик спускался, придерживая распоротые штаны, под деревом уже ни единого яблочка не было — как подмели.
Пониже Синего родника, улыбаясь сквозь слёзы, женщины то ли в шутку, то ли вправду прокляли силу того косаря, который тут был, косил траву, а сейчас отсутствует, но женщины так чувствовали, что он здесь. «И-и-и, — сказали женщины, — чтоб молния да в твою спину ударила, это кто же у нас ещё такой сердцеед». Мол, чтобы самим ударить этого косаря, моего отца то есть, их руки для этого слабы. Губы матери беззвучно шевелились, мать тайком улыбалась про себя, она не знала, ответить им что-нибудь или же молчать и радоваться, что муж хоть и не дома, но всё же есть — десятничает за десять километров от села над пленными, и хоть и десятничает, хоть и на службе, а всё же сумел потихоньку отлучиться на два часа, скосить траву.
В овражке с родником мальчик отстал. Отстал и из овражка не вышел, пока голоса женщин не стихли вдали. Здесь близко, не доходя до леса, были старые хлева Мнацаканянов, которые колхоз в своё время отобрал. Сейчас они стояли заброшенные, пустовали. Овец с некоторых пор гнали на зимовку в долину Кры. Пониже старых хлевов, почти что в лесу, на каменистом склоне были покосы мальчикова деда Аветика, а на Большой поляне, на лесистой горе Чрагтат, — старые хлева и покосы другого деда, Арутюна. Всё, всё было заброшено и пустовало, нигде не виднелось работающей косы. Только здесь, под Синим ключом, два часа трудился отец мальчика.
Когда он сюда приходил, мальчику было невдомёк. Наверное, ночью пришёл домой, постоял с минутку у изголовья спящих детишек, твёрдый и щетинистый его подбородок, наверное, нашёл худую щеку мальчика, потом заставил себя через силу, вышел из дому и прямиком сюда. К своим пленным он, наверное, вернулся ночью, потому что не пойдёт же он размахивать косой среди бела дня, это было бы просто бесстыдно — встать живым-здоровым на виду у этого осиротелого села, вот, мол, дескать, я, глядите, хожу, дышу, размахиваю косой. Нет-нет.
В то утро девчушка раньше мальчика почувствовала, что отец ночью приходил, мать, улыбнувшись, погладила её по голове и обманула, что это ей во сне приснилось такое. Но на следующий день мать вынуждена была сказать мальчику, что в горах у них сено есть и они с мальчиком должны убрать его, пока не пересохло.
Земля здесь была вся как будто подскребли… отец косил под корень, мальчик почувствовал присутствие его силы. Это была работа не на одну ночь и не для одного человека, но мать, когда возвращалась с мальчиком домой, заплакала и сказала, что отец скосил всё один, в одну ночь. Пониже покосов мальчик нашёл запрятанные в траве косу и брусок. Дубовая рукоять косы отполировалась в ладони отца, стала гладкая, как кожа. Сама коса сточилась, не шире пальца была, брусок тоже износившийся, как карандаш, в руках отца брусок с косой всю ночь поедом ели друг друга. Звонкий холодный Синий ключ не так уж далеко, но, чтобы не ходить туда каждый раз, отец там, где топь была, с краю покосов, вырыл ямку поглубже и то и дело припадал и высасывал эту мутную тёплую жижу.
Где граблями, а где и голыми руками мальчик собрал сено в одно место и даже связал его в стог, но, чтоб стог был настоящим, нужны были вилы, мать на обратном пути должна с вилами прийти сюда. Мальчик потом набрёл на старые, о двух зубьях вилы, и ему стало стыдно, как это он не додумался пойти и срубить в лесу такую длинную рогатину. С отцовым бруском за поясом, с отцовой косой в руках мальчик попробовал было покосить, коса бежала поверх травы, мальчику удалось срезать несколько пучков травы, но рядом с отцовской чистой работой это было уродство, и мальчик поскорее ушёл отсюда и попытался косить в другом месте, но густая, какая-то маслянистая и скользкая трава не поддавалась.
Мать запаздывала. Мальчик поднялся на гору. На той стороне по всей горной долине двигались стожки, возле хлева с красной черепичной крышей стояла наполовину сложенная скирда, на скирде орудовали два маленьких, с муравьёв, человека, в одном только месте сено на волах везли, но то ли от дальности, то ли ещё отчего поклажа на волах не больше трёх вязанок казалась — тех, что женщины на себе тащили. Огромный муравейник, большая долина, на дне которой молча кряхтели, молча проклинали судьбу, молча выбивались из сил женщины. Из села поверх безмолвных лесов донёсся было голос школьного звонка, а за горой на дне молчаливой долины женщины, притороченные верёвками к грузу, чтобы груз от них не убежал и чтобы они от груза не убежали, ещё ненамного приблизились к скирде, и рядом с их муками школа, чистота ногтей, красные чернила, грамматика, хитроумные задачки по арифметике и беззаботные стихи — всё в эту минуту являло собой просто глупость, большую и стыдную, бессовестную глупость.
На обратном пути, ночь уже была, мать неслышно отделилась от примолкших женщин. Мать пришла, а мальчик без вил, где руками, а где граблями почти всё сено уже собрал и даже, можно сказать, в стог сложил. Они быстро управились со стожком и молча вернулись в село.
Трудно было представить, что неуклюжая неторопливая работа этих женщин обратится потом тёплым, живым очагом — далёким зимовьем, где жаркие тяжёлые быки разносят ворота в щепки и доярки смотрят на это не то со страхом, не то восхищённо любуясь.
То ли мужской, то ли женский крик раздался, мальчик прислушался и различил шум убегающей телеги. Крик повторился, но крик был не отчаянный, даже не злой, а так, для виду, словно понарошке. Отец усмехнулся.
— А говорят, мужчин нет… на весь лес верещит.
Через густые заросли на взгорке они увидели какое-то движение, потом человек и телега резко повернули и покатили к отцу и мальчику. Погонщик бежал впереди волов, телега словно преследовала его, он бежал, и завязки его ушанки смешно подпрыгивали. Мальчику показалось, он увидел испуганные глаза, погонщик боялся, наверное, поскользнуться и угодить под колёса, с прутом в руках он убегал и на бегу выкрикивал:
— Циран!.. Циран!..1
На летнем горячем солнце в зелёных лугах один из этих волов, может, и был такого жёлтого, золотистого цвета, кто знает, но сейчас они оба были серые, всклокоченные, обросшие свалявшейся шерстью, громадные их животы болтались из стороны в сторону, они не могли сдержать свой бег, не могли остановиться.
— Тише, айта, под себя их подомнёшь, — усмехнулся отец.
Погонщик промчался между отцом и сыном, отец бросился волам наперерез и крикнул. Волы, словно заговорённые, раскорячились и остановились. Мальчик потом мог сказать, что дорогу волам перекрыл он, он и отец, они с отцом перекрыли волам дорогу.
Погонщик виновато улыбнулся, словно его, мужчину, уличили в недостойной мальчишеской игре. Он сказал:
— Неподкованные, проклятые, не могут удержаться.
— А ты? — сказал отец. — Ты тоже неподкованный?
Погонщик кончиком прута сдвинул на затылок солдатскую ушанку и радостно поздоровался:
— Добрый день вам!
Один из волов хрипел, кашлял, давился и снова хрипел, в ярме недоставало доски, и волы были неправильно запряжены, тому, что хрипел, особенно было неудобно.
Погонщик сунул пустой рукав шинели в карман, концом прута снова сдвинул ушанку на затылок, и его по-девичьи румяное и мягкое лицо засветилось каким-то бессмысленным и виноватым восторгом. Красная эта радость была, возможно, оттого, что погонщик так по-ребячьи убегал от телеги, а может, он всегда такой был, но в присутствии смуглого, жилистого, с жёсткой щетиной на лице — у отца даже голос словно жилистый был, — в присутствии этого человека погонщик, пожалуй, смахивал на женщину.
— Нас тут беспризорными оставил, — сказал погонщик, — для города лес рубишь.
Так могла сказать женщина, и это было полное его поражение, мальчику за него сделалось неловко, он украдкой посмотрел на него через плечо — и всё же он был мужчина, во всяком случае растительность на лице хоть и редкая, но есть, опять же рукав шинели пуст, на фронте, значит, был, потом мальчик бросил мимолётный взгляд на отца — лицо его исказилось неприятной гримасой.
— Айта, взрослый ты человек, — и голос отца зазвенел, — из-за одной двери вызываете меня в такую даль.
Всё ещё улыбаясь, погонщик сказал:
— Обижаешься?
Отец сказал, словно одним ударом гвоздь вогнал:
— А что же мне делать?
Радость с лица погонщика слетела, и само лицо как-то меньше сделалось, рот округлился, сжался, поместился ровно под носом, ни дать ни взять обиженный ребёнок, вот-вот расплачется, но он сказал:
— Ещё и обижается на несчастных женщин. Ты что, не видишь, мужиков не осталось, одни бабы кругом.
Отец в это время смотрел на волов, и слова его были как удар в спину:
— А ты что, тоже баба?
Мальчик потупился.
— А что я, без руки ведь, — послышалась безнадёжная жалоба погонщика, — я не то что баба, я похуже даже, что во мне мужского?
Пустой его рукав отца не разжалобил.
— А то раньше горами ворочал. — Но разве можно было так? Топтать с жалким настоящим человека заодно и его прошлое?
Отец сошёл с дороги, мальчику показалось, они уже дают телеге проехать, мальчик хотел сказать отцу про ярмо, что вол задыхается, но отец достал из-за пояса топор, значит, отец увидел убогую и жестокую эту упряжку и уже приметил единственный молодой ствол граба. Одним лёгким ударом наискось, даже звука не слышно было (мальчик со стыдом вспомнил, как он сам орудует топором), только хруст короткий раздался, и сразу видна стала сила отца, его мощь и сноровка, отец срубил молодой граб, и срубленный граб остался стоять рядом со своим пнём… Таким ударом и с такого места срубил, что один конец уже был готов, а когда он успел наладить другой конец, мальчик даже не увидел, держа топор наподобие ножа, отделяя от ствола мелкие сучья, отец вышел из снега. Пришёл, потопал ногами, сунул топор за пояс и раздражённо, ни к кому не обращаясь и ни на кого не глядя, словно рядом никого и не было, ни виноватых, ни вообще кого-нибудь, с гримасой на лице, одними пальцами развязал мёртвый узел, который мог задушить вола, а ведь этот однорукий не развязал бы его до самого села. Мальчик увидел под горлом у вола большой палец отца и твёрдый крепкий ноготь на этом пальце (а мальчик свои ногти всегда обгрызал).Теперь ярмо сидело как надо, вол был запряжён плотно и свободно, и отец гладил вола по глазам. Погонщик забыл уже про ребяческую обиду и смотрел на отца с прежней преданностью и восторгом… Но разве можно взвалить своё дело на другого и вместе с этим давать ему право оскорблять тебя?.. Нельзя было разве хоть одной рукой, хоть зубами раскрыть нож и самому отрезать и обстругать деревце, а потом и приладить его к ярму, пусть даже одной рукой, да, одной рукой и зубами.
— Чья дочка будешь? — спросил погонщик мальчика.
Из бывшего материного и будущего сестриного платья мальчик посмотрел на погонщика с острой ненавистью.
— Ребёнка чего тащишь в горы, в стужу самую? — сказал погонщик. — В нём и так духу никакого.
— Возьми его с собой, — сказал отец. — Ступай обратно, Армик, с ним вот вернёшься в село. — Отец посторонился, чтобы телега могла проехать, и положил тяжёлую ладонь волу на спину. — Иди уроки учи.
— А я вот, — сказал погонщик, — подковать их веду и соли прихвачу, каменная соль нам нужна для скотины.
— Доброго пути тебе, — повернувшись лицом к зимовью и уже уходя, сказал отец. — Иди, Армик, иди домой, замёрзнешь, простынешь в горах.
— Идём, парень, идём со мной… повезу тебя на телеге, — крикнул однорукий, — в красное платье вырядили, я и подумал, что девочка.
Если у тебя сломался ноготь и зубами за него не ухватиться, и лезвие топора не берёт, и среди всех неудобств этого мира ещё больше даже чем намокшие и обледеневшие на студёном вечернем ветру штанины, тебя мучает и до слез мешает этот сломанный ноготь, ты достаёшь свой нож и готов вместе с ногтем отхватить весь этот ненавистный проклятый палец. А нож не раскрывается, и твои замёрзшие пальцы не слушаются тебя, и ты достаёшь лезвие зубами… губы твои сжимают металл, и от холодного привкуса стали твои жилы мгновенно затвердевают. И вот ты стоишь посреди снегов, холодные, заледенелые штанины от твоих движений стукаются друг об друга, и ты словно прут строгаешь — отрезаешь ноготь, и под твоей детской худой серой и сухой кожей — натянутые туго жилы мужчины.
У подростка по имени Армик Мнацаканян была бесшумная поступь и беззвучное дыхание, и, если даже и было немного шума от того, как он ходил и дышал, отец бы всё равно не почувствовал, потому что лёгкое своё тело мальчик старался нести в ногу с отцом. Но отец заговорил, не оглянувшись, не проверив, здесь ли мальчик, словно в присутствии сына был так же уверен, как в своём собственном. Отец, значит, что-то такое об одноруком рассказывал… рассказывал, что однорукий всегда таким был, всегда на готовенькое шёл… что десяти-двенадцатилетним, взрослым парнем уже был, пошёл на пахоту в Длинные земли, и вот он сидел себе на спине вола, и кто-то в это время сказал: «Что там за женщина на лошади едет?..» Дорога в горы с Длинных земель хорошо просматривалась. Кто-то сказал: «Интересно, кто это в горы собрался…» Просматриваться-то просматривалась, но ведь далеко как, так нет же, разглядел, узнал во всаднице мать… десять лет было мальчишке, ещё грудь материну сосал… с вола спрыгнул и короткой дорогой, прямиком, прямиком — раз-два, раз-два — выскочил матери наперерез… и в шутку ли, всерьёз ли, но заставил мать слезть с лошади и дать ему грудь, которая, по его мнению, была его собственностью, поскольку младший в доме был он…
Это была старая весёлая история — рыжая дорога в горы и зелёное приволье, и красная всадница, направляющаяся в горы, и прохлада, волнами ударяющаяся о взмыленное тёмное брюхо лошади… потом она должна была удариться о смущённый ворот бедной той матери… ну да, народ на пашне натравил его, как собаку, выпустил на рыжую дорогу и теперь стоит, потешается…
— А после, — продолжал отец, — смотрят, показался в конце пашни, идёт, лениво покачивается, пахарь ему сказал: поспи, парень, ложись, младенцы ведь, откушав молочка, засыпают… И все пахари, весь народ на пашне сказал: ложись, парень, спи…
И отец с сыном засмеялись, да так, что однорукий, наверное, услыхал, остановил волов и прислушался, узнал свою старую весёлую и грустную историю.
Но подросток по имени Армик Мнацаканян, посмеиваясь с отцом вместе над тем несмышлёнышем, которому уже десять стукнуло, а он не хотел быть взрослым, не хотел отлучаться от материнской груди и которому сейчас уже сорок, а он всё так же не хочет быть взрослым… подросток по имени Армик Мнацаканян, который сам давно уже был взрослым, был доволен весёлой этой историей ещё и оттого, что отец так уверенно, так, не проверяя, тут ли сын, начал свой рассказ. У мальчика шаги и дыхание были бесшумные, а если и нет, всё равно его дыхание и шаги терялись в шагах и дыхании отца, и отец всё равно знал, что мальчик здесь, не повернул обратно, идёт за ним. Может, отец через плечо всё же видел красное платье, а может, он хорошо знал мальчика и знал, что сын и он единое существо, что мальчик — его прошлое, шагая след в след, мальчик должен вот так взойти вместе с отцом на холодные и пустынные солнечные горы.
— Ну, как у тебя с уроками? — спросил отец.
Мальчик улыбнулся.
— Учишься или же времени не бывает книжки читать?
— Мама вместе со мной буквы выучила… или раньше знала, теперь вспомнила?
— С тобой выучила, — сказал отец, — не знала. Сиротой была, в школу не посылали. Когда пришла в наш дом невесткой, захотела было от младших научиться грамоте, мой меньшой брат когда уроки учил, она тайком заглядывала через его плечо в книгу, но так и не выучилась… постеснялась. Постеснялась, — сказал отец, — уже ты должен был родиться, а она, как девочка, тайком в их книги заглядывала, буквы у них воровала. Моего отца и моего старшего брата и всего нашего дома постеснялась… Большая семья была. Теперь только, — сказал отец, — с тобой азбуку выучила.
— Сестрёнка смотрит в книгу и плачет, букв боится, — сказал мальчик, — говорит: «Я в школу не пойду». Говорит мне: «Уроки со мной будешь учить?» А Грайру говорит: «Пойдёшь вместо меня в школу?»
Отец с мальчиком рассмеялись.
— Ничего, сколько можешь, приглядывай за ними, — сказал отец, — пока меня нет дома.
Пять учебников для чтения раздали детям погибших на войне, мальчик остался без учебника. Мальчик раза два пересёк озябшее село, дошёл до нижнего конца, но неудобно было то и дело появляться у этих несчастных сирот, дескать, вот он я, сын живых-здоровых родителей, пришёл выучить свой урок отличника. Нет, невозможно было приходить в эти дома, где чужими были и безобразная, нескладная дверь, и неряшливая, не на месте стоявшая печка, и сам запах дома и только немножечко своей, немножечко родной была «Книга для чтения», ну как твой братик, который стесняется на улице подойти к тебе среди народа. Мальчик не смог объяснить учительнице, почему он не пошёл к Норику учить уроки. Он пообещал пойти и снова не пошёл. Оставалась одна надежда на утро, что успеет наскоро, по диагонали пробежать глазами урок, но в домах часов не было, в холодном, чисто подметённом классе мальчик вместе с уборщицей растапливал печку и ждал, но товарищи всё не шли… В домах часов не было, и, только когда в морозной тишине звенел школьный звонок, ребята выскакивали из домов и неслись сломя голову в школу, прибегали они всегда с опозданием, когда учитель уже был в классе или поджидал их в дверях учительской. А если кто-нибудь, обманувшись каким-нибудь случайным треньканьем, приходил пораньше, они втроём с мальчиком и уборщицей разжигали печку этими дрянными, паскудными дровами, потому что оторваться от этой печки, сесть за холодную сухую парту и уткнуться в «Чтение», от которого вдобавок пахло чужим домом, было невозможно.
В одноклассниках, тех, что получили учебники, мальчик тоже заметил неприязнь. Им было сказано, что учебники даются им, но они должны делиться с другими, у кого их нет, и они сказали «да». Но каждый раз, когда надо было отдать книгу, в них вспыхивала какая-то убогая злоба. Или ненависть. Но на это нельзя было жаловаться, потому что нельзя было говорить об их погибших отцах и своём здравствующем… а учителя, и в особенности учительница армянского, сначала незаметно, но потом уже слишком даже часто заговаривали о доброй зависти, и получалось, что зависти и ненависти не существовало, была только добрая зависть. Слово «зависть» в этом классе обретало какой-то мягкий, милый, даже полезный, оттенок… и как раз в это время Абовян Норик не отдал своё «Чтение» Армику Мнацаканяну, случилось это прямо в классе, Абовян Норик прикинулся глухим или же впрямь оглох от ненависти и «Чтение» перед Армиком Мнацаканяном не положил, а остался сидеть, закрыв книгу локтями, навалившись на неё грудью и заткнув пальцами уши. На третий или же на пятый оклик учительницы он коротко, решительно посмотрел и швырнул книгу, да так, что «Чтение» перелетело в другой конец класса. На что учительница сказала: «Вот почему ты, не готовишь уроки, Армик Мнацаканян». На следующий день было задано выучить наизусть стихотворение Ованеса Туманяна «Прощание пастуха». Длинное было стихотворение, учительница переписала его и дала Армику Мнацаканяну. Это был прекрасный почерк, белая бумага, ровные строки и фиолетовое сияние букв… и эта звонкая печаль расставания, когда хочется плакать и улыбаться и в горле у тебя першит… да, и у Армика Мнацаканяна должен быть такой же почерк, и он будет писать фиолетовыми чернилами на белой, ослепительно белой бумаге… так-то оно так, но ведь нельзя было ждать от учительницы, чтобы она переписала для Армика Мнацаканяна весь учебник. И он вспомнил, как отец строгал доску, может быть, мастерил дверь для их дома, мать то и дело выволакивала Армика из-под ног отца, ей-то казалось — из пыли и грязи, и каждый раз он снова лез в эти мягкие стружки-опилки… Из-за отцова уха торчал карандаш, отец был в переднике, и вдруг отец вытянулся в струнку и с чувством продекламировал — Армик Мнацаканян потом в школе узнал, что так вытягиваются в струнку ученики, вызванные учителем к доске. Отец вытянулся по-ученически и продекламировал:
— Э-э-эй, зелёный братец, Э-э-эй, весёлый братец. Ты сказал нам: «Улыбайтесь, Забывайте о зиме! Пусть цветы в садах белеют. Пусть ягнята нежно блеют. Пусть скворцы птенцов лелеют, Распевают на заре!»3Отец все строки произносил нараспев. «Зелёный братец» — это кто же будет, а, сынок?» — сказал он. Давным-давно, за пределами мальчиковой памяти, может, когда мальчик в колыбели был, отец научил его, и теперь они вместе в один голос сказали: «Весна — зелёный братец! — и похвалили друг друга в один голос: — Молодец!»
Старые эти голоса указывали мальчику место учебника, своего, родного, семейного учебника, из которого вместе с Ованесом Туманяном должны были выглянуть дед мальчика, он сейчас подставил колени к очагу и ждёт, когда кончится война, и бабушка, она ежедневно уходит к часовне и семь раз на коленях часовню эту ползком обходит во здравие всех детей — сыновей, дочерей, внуков и правнуков, — всех, мальчик должен был увидеть старшего дядю, который был на передовой и не писал писем, должен был увидеть отца, которого каждый день ждали домой, в этой книге непременно должна была быть и старшая тётка, сестра отца, которая вышла замуж в Дсех, родила трёх сыновей, муж которой должен был вот-вот вернуться с фронта, и другая сестра отца, добрая, тихая, красивая, у которой, в свою очередь, было три сына, а про мужа говорили, что погиб на войне, но лучше было пока не верить и никогда не верить и не оплакивать его, лучше было надеяться и ждать, и меньшая тётка, Наргиз, которая тоже была замужем за дсехцем, у которой был один сын и которая, говорят, была способной, хорошо училась в школе, но учёбы не продолжила, потому что влюбилась… и младший дядя, который вполне мог не пойти в армию, но постеснялся и пошёл, и старший сын старшего дяди, который из-за войны оставил школу и работал, и его сестры и братья — Сохак, Елена, Валод… все, все, все, кто хоть раз листал этот учебник, должны были выглянуть с его страниц, и дыхание их большого рода должно было обступить мальчика.
Как кошка, у которой что-то тайное на уме, но ни сама она ещё, ни ты не знаете, не догадываетесь об этом и пока ещё она дома и рассеянно тычется туда-сюда, совсем как такая кошка, мальчик покрутился немного возле деда-бабкиной печки, не слушая, услышал их причитания-стенания, поинтересовался между прочим, видел ли, дескать, дед живого Ованеса Туманяна, и, не выслушав ответа, вдруг исчез.
От амбара тех обильных времён пахло хлебом. В этом полумраке среди полной тишины мальчик почувствовал себя вольной мышкой. Мальчик не знал, что выйдет из амбара весь, как мельник, обсыпанный мукой, мальчик лазал по амбару, находил разрозненные странички и целые книги, подносил к тоненькому, медного отлива лучу света, пробивающемуся сквозь щель, «люди старого мира считали, что земля большой кусок суши», и всё время в памяти мальчика, словно мальчик, до того, как родился, уже жил в отцовском большом клане, всё это время в глубинах мальчикова слуха и зрения звенела, глухо смеялась, строила козни, молча улыбалась, глухо жаловалась и молча исходила слёзами старая большая семья: отцовы сестры — девушки — ткали ковёр, бабка помешивала на огне суп, дед прилёг на мутаку3, дядя хотел посадить на колено своего младшего, но стеснялся присутствия деда, своего то есть отца, младший дядя спрятался от гвалта за ковровым станком и учил наизусть домашнее задание под смех сестёр и постукивание станка.
По амбару постучали палкой. Мальчик притаился. Дед, значит, сумел подняться на чердак. По амбару постучали палкой и сказали: «Это что за мышь забралась в наш амбар?» Мальчик залился тихим смехом, словно не один был и не в полутьме, словно с отцом был или с дядей, словно они тоже мальчиками были, уличёнными в воровстве, и смеялись вместе с ним. «Это что за мышь там наши книги грызет? — сказал дед. — Моих детей книги что за маленькая мышь там грызёт, пойду чёрного кота принесу, брошу в амбар, пускай поймает ту мышь», — сказал дед. И затаившийся в тёмном углу мальчик решил, что привезёт деду с бабкой дров на салазках, что всегда будет приносить им дрова… И всё ещё не принёс, всё ещё должен принести. «Ну так брось же, — сказал мальчик, — где твой чёрный кот, пусть поймает меня, брось». — «Шшитаешь, смеюсь?» — сказал дед, и мальчик повторил про себя «шшитаешь, смеюсь», «не брошу, шшитаешь?» — и заглянул в щель плохо прикрытой дверцы. Он был настолько слаб, его шутку и правду не различить было. «Шшитаешь, што», — повторил в уме мальчик.
Ужасное случилось потом, буквы в учебнике куда-то отъехали, и вместо них объявилось дедово «шшитаешь, што». Но, стоя в классе перед картой, нельзя было сказать: «Древние греки шшитали, што земля — большой кусок суши». Мальчик стоял как в столбняке. Ни память, ни усилие воли, ни подсказка, ни даже помощь учительницы — ничто не помогло. Мальчик потом мог сказать, что чувствует ржавеющий в доске гвоздь и что чувствовало бревно дяди Ашхарбека, застрявшее в грязи, и что чувствовала корова Пыльного деда, которую засасывала топь, и она обречённо ждала, когда её совсем уже всю засосёт. А учительница говорила «я жду», учительница время от времени повторяла «я жду, я жду тебя». «Сядь, — сказала учительница, — плохо. Очень плохо, иди», — сказала учительница, но это было уже не так ужасно, поскольку мальчик шевельнулся и увидел, что он не угодившая в топь корова и не гвоздь, умирающий в доске. «Вот вам и ваш отличник», — донёсся голос Норика, и мальчик мысленно махнул на него рукой. «Иди к доске ты, — раздался голос учительницы. — Посмотрим, как ты запоёшь». И Норик, рассказывая на ходу урок, пошёл к доске: «Древние греки полагали, что земля — это кусок суши, суша эта, как они полагали, имеет конец, после чего начинается неизвестное большое море».
— Я нашёл твой учебник, — сказал мальчик, — твой, старшего дяди, тетин… вашего старого дома учебник нашёл.
Отец поглядел на него через плечо.
— Я в амбаре был, — сказал мальчик.
— В амбаре, — насмешливо передразнил отец, — амбар. Я размеры взял, небольшой хотел амбар строить, — рассказал отец. — Твой дед не согласился, больше надо, говорит, и бабка, моя мать, сказала: «Большая семья, внуки уже есть, и у тебя дети будут, разве ж это для большого очага амбар?» Я послушался, расширил. Что внутри было-то, — сказал отец, — что ты там увидел-углядел?
— Хлеба не было, я не за хлебом полез, — сказал мальчик, — хлебом, правда, пахло, но я книгу искал. Вы это проходили? — спросил мальчик.
Эй, люди добрые, сюда! Ко мне склоните слух! Вам про минувшие года Поведает ашуг.4Отец замедлил шаги, остановился, повернулся, хотел было что-то сказать, но не сказал. Ещё раз вроде собрался что-то сказать и снова промолчал.
— Это моего младшего брата урок, — заговорил наконец отец, — твоего дяди. Вишь, нашёл в старом амбаре. Постеснялся он, сам в армию пошёл. А ты, значит, его книгу нашёл. Да, — сказал отец, — короткая полоса надежды и покоя блеснула, мои отец с матерью подумали, сейчас на току начнут зерно молотить, на мельнице встанет очередь, из амбара запахнет хлебом… Если приглядишься, если как следует приглядишься… но не надо, нет, не смотри лучше… я у телка за левым ухом отметину сделал, чтобы потом из стада взять, привести домой. Каранцевский дед Саргис почистил плуг, смазал маслом и спрятал под верандой… пусть подождёт, намасленный, пусть столько там ждёт, пока не сгинет вековечная сталь… не нашего ума дело!.. — крикнул отец, и голос его прервался. — Вместо вола малого ребёнка с собой веду. Возвращайся! — крикнул отец, и ветер разорвал, разнёс его голос.
Ветер свистел в деревьях, но оттуда, где кончался лес и начинался синий склон, от этого места и до самого Разбитого Седла ветер ни клочка снега не сорвал, тут всё было покрыто льдом. Буки постанывали, весной они снова должны были пустить лист, взгорки Седла были освещены солнцем, нет, не солнцем — отблесками чужого, дальнего немощного огня; от того места, где кончался лес, и до самого Разбитого Седла склон назывался Медовый Цветок… но эти буки никогда уже, казалось, не зазеленеют, не зацветут, и склон этот враг в насмешку просто назвал Медовым Цветком. Казалось, под корой всё заледенело и буковые деревья вот-вот разломаются-рассыплются в прах, и ветер завывает среди сосулек, и уже твой собственный позвоночник кажется сосулькой. Так-то вот. Хочешь, переносись мысленно в туманяновские добрые владения, хочешь, продень руки в рукава девичьего маминого, будущего сестричкиного платья… вот он, твой мир.
— Не очень быстро идём, Армо? — спросил отец.
За отцом мальчик не сам шёл, свой шаг и самого себя мальчик не чуял, за отцом мальчика несли какие-то крылья, какое-то чувство, какая-то связь, родственная, дружеская ли, что-то вроде этого.
— Быстро нам нельзя, — сказал отец, — а то вспотеем и промёрзнем. Как увидишь, что не поспеваешь, скажи.
Это уже было прямое свидетельство того, что мальчик не лишний.
— Отец с сыном идут косить, — повёл отец рассказ, а мальчик тут же увидел себя и отца среди рыжих покосов. — Приходят в поле, первым делом ложки достают, садятся поесть. Подчищают миски, сын отцу и говорит: и поели же мы, отец, на славу. А тот ему отвечает: а как же, сыночек, я лев, ты львёнок, едоки что надо. Вечер когда приходит, — повысил голос отец, — отец с сыном смотрят — ничегошеньки не накосили. Отец и говорит: ну, я ведь старый, а ты ещё ребёнок, а как же, сыночек. — Отец засмеялся. В холодном, неживом лесу отец засмеялся, но казалось, смеётся он среди рыжих, прогретых солнцем полей.
Это была не их история, они с отцом такими быть не могли. Красиво было, что и говорить, что отец с сыном сидели друг против друга, что еда перед ними стояла, что отец был старый, что даже голос отца был старый… и всё же это были другие люди, не мальчик с отцом, не они.
— Армо, — мягко, словно по голове погладил, сказал отец, — вот ты говоришь, Ованес Туманян… — И оттого, что голос у отца такой мягкий был, или же оттого, что на смуглом лице его была виноватая улыбка, а может, оттого, что вершина горы за деревьями на секунду осветилась солнцем, при словах отца у мальчика в душе открылась тёплая светлая ласковая полянка, мальчику был уготован какой-то подарок, праздник, весенний день, какая-то мелодия. Отец нагнулся и завязал мальчику шнурки постолов, мальчик тыльной стороной ладони вытирал нос и ничего этого не замечал, он даже не почувствовал, что отец завязывает ему шнурки постолов; сердце в его груди играло, как весенний чистый жеребёночек среди зелени, как тайная улыбка фиалки, как глухой и звонкий пчелиный концерт над долиной, душа мальчика распахивалась, становилась большой. — Что тебе сказать… Ованес Туманян, — продолжал отец, — ну это было и прошло, был он, да, но теперь-то его нет… а я хочу, чтобы ты стал таким, как Стёпик… как Стёпа… как Степан.
И мальчик мгновенно поверил, что сам он нехороший, самого его не существует — хороший, примерный, красавец тот, для кого у мальчика не было ничего достойного, но кому мальчик хотел бы отдать всё, всё на свете. Стёпик, Стёпа, Степан. Подросток по имени Армик, Армо, Арменак ещё не знал, кто такой этот Степан, где он и чем занимается, но ему тут же захотелось, чтобы его имя тоже было Степан.
— Если хочешь, стану, — сказал мальчик.
Отец виновато и недоверчиво улыбнулся.
— Нелегко, — сказал он, — трудно это.
Вот так по дороге в горы, в студёный зимний день сын их дальнего родственника Степан Томцян вошёл в жизнь мальчика по имени Армик, Армо, Арменак, того самого, у которого голова, чтоб вошь не завелась, была обстрижена большими овечьими ножницами, у которого через плечо наподобие хомута была перекинута толстая верёвка, на которого было надето бывшее материно и сестричкино будущее красное платье, в жизнь мальчика с красными потрескавшимися руками, засопливевшего от холода, Степан Томцян вошёл как зов дальних далей, как что-то очень чистое, как тоска по этому чистому.
— А он кто? — спросил мальчик. — Генерал?
— Нет, — сказал отец, — но станет. Твоего возраста мальчик, гордость школы, отличник, во всём городе Ереване на него пальцем показывают, один он такой. Братья тоже хороши, но Стёпа — особое дело. На торжественных собраниях выходит на сцену, выступает, других учит, ты разве можешь? — Отец и сам не был способен на всё это. Даже подумать об этом не мог. От одной даже мысли об этом его бросало в жар.
Отец засмеялся.
— Перчик и Алик вдвоём чуть не целую рамку мёда умяли, съели и похлопали себя по животу, а их дед Степан только засмеялся. Но Стёпа — нет, твой ровесник, словно взрослый человек, обед свой съел: «Мама, можно, я не доем это?» — и ушёл в свою комнату.
«Ушёл в свою комнату», — повторил про себя мальчик.
— «Мама, ты позволишь, я оставлю это?» Нет, не так, — растерялся и вспомнил отец. — Он сказал: «Мама, вы позволите?..» Они своего отца и свою мать на «вы», во множественном числе называют, словно не одна у них мать, а несколько. А и в самом деле так: их дед Степан и их отец десятерых стоят по ловкости-расторопности. Учись как следует, слышишь, — встрепенулся отец, — нехорошо учишься.
Отец был прав. А было это так: Абовян Норик учился хорошо, после него неплохо учился и мальчик, но потом мать Норика послали с фермой на зимовье, и Норик перестал учить уроки, следом за ним, словно стесняясь быть отличником, потускнел и мальчик… Но это ещё куда ни шло, ещё постыднее было то, что мальчик в закоулках погреба нашёл бутылку застывшего мёда; затаившись в подвале, он согревал её дыханием, грел в руках и под мышками, но мёд не оттаивал, не растопился, и мальчик материными спицами, теми, что она носки вяжет, выковыривал и слизывал этот мёд, выковыривал и лизал… Мальчик, если бы можно было, запрятал бы куда-нибудь в уголок памяти этот позорный свой поступок, как запрятал тёмно-зелёную бутылку в углу погреба… Мальчик возненавидел себя, ему стал противен и брат с такой же, как у него, неровно обстриженной головой, брат смотрел на него, как собака, подбородок — на сторону… Мальчику показалось, брат тоже знает место, где тёмно-зелёная бутылка. Мальчик ещё совсем мало жил, плохих поступков за ним было ещё очень мало, мальчик приписывал себе и проступки брата, но всё равно тёмно-зелёная бутылка не давала покоя.
А отец снова говорил о трёх золотых медовых рамках. То ли дед Оганес, то ли мальчиков дед Аветик, скорее всего и тот и другой, а с ними и отец мальчика задолжали эти рамки деду Стёпы, Перчика и Алика, тоже Степану, давно ещё, с дедовских времён задолжали, а и не задолжали, мёд в сотах нам на что?..
— Мёд в сотах нам на что? — повторил мальчик.
Дед Аветик отправил мёд в город, и этот самый Степан поменял место отца на фронте, из пехотных частей перевёл его в артиллерию, где, правда, прямым попаданием разносило и орудие, и людей, но случалось и так, что мина падала далеко, во всяком случае далеко от особняка Томцяна Степана, и он с лучезарной верой по очереди переправил на передовую — отца мальчика, его дядю и всех без исключения цмакутцев, всех, кто пришёл к нему на поклон с рамками мёда.
— Ещё этот подъём одолеем, Армо-джан, — сказал отец, — и всё. Не быстро иду, поспеваешь за мной? И поросёнка с собой прихватил, — засмеялся отец, — откуда мне было знать, что они свиного запаха не переносят, невестка их зажала нос и убежала. По нашему разумению, я им очень даже хорошую вещь принёс, — отец засмеялся и дёрнулся, словно до сих пор ещё тот мешок с поросёнком был у него за плечами и он с рамками мёда в руках стоял в их зале и не знал, куда сложить поклажу. — Порося я обжёг, почистил хорошенько, они от этого запаха палёного нос воротили. Ты не знаешь, — сказал он, — мы с твоей матерью ночью незаметно обожгли, целиком, красный поросёнок был, я через этот голод и нищету принёс-доставил им такую вещь, а Степан говорит: «Взрослый парень, неужто не знаешь, что мы свинину не едим? Вынеси, вынеси скорее, говорит, неси на улицу». А насчёт мёда не стал возражать, — сказал отец. — Теперь не знаю, выбросили ту свинью они или отдали каким-нибудь голодным соседям. Обратно брать неудобно было.
— Они турки, наверное, — сказал мальчик, — турки свинину не едят.
— Не турки, армяне из нашего мнацаканяновского рода.
Сердце у мальчика ёкнуло, избранные из мнацаканяновской стаи взлетели и парили в дальних далях, его братья Мнацаканяны выступали на торжественных собраниях.
— Аферист, — сказал отец, мальчик впервые слышал это слово, и «аферист» поместился в чистых, светлых, нарядных и мелодичных покоях, и до сих пор, до сегодняшнего дня мальчик не может отделить это слово от уверенной учёбы братьев-отличников, от роскошной, цветущей красоты их матери, от сдержанного присутствия, смахивающего на отсутствие, их отца и от этой обители тонкого, точного, казалось бы, мелкого, но крупного жульничества. — Аферист, значит, умный, — сказал отец, — значит, знает, куда ему ступить, где стать, чтобы не затеряться. Э, когда это было, я такой, как ты сейчас, был, он сказал: «У села нет будущего» — и перебрался в город, теперь мы дошли до этого положения, но настоящий, большой смысл его слов мы всё равно ещё не понимаем, ни я, ни твой дед. И ты не поймёшь, как я погляжу. И ты, Армо-джан.
Перед тем как кончиться лесу, мальчик с серым от холода, покрытым пупырышками лицом, с выскочившими из орбит глазами, с головой, постриженной овечьими ножницами, с худой голой шеей, стоя в колее от телеги, мальчик прошептал:
— Степан Мнацаканян, Перч Мнацаканян…
Мальчику потом казалось, отец в этом месте промолчал. Отец долго молчал, жалко улыбался и не говорил того, что хотел.
— Пошли, — сказал отец. — Пошли-пошли, — он повернулся к мальчику спиной, наверно, не хотел видеть то выражение поруганного, которое должна была вызвать в мальчике правда. — Томцяны они теперь. Фамилию поменяли. Томцяны.
Что они бросили село, что вместе с одеждой пастухов оставили в селе свою фамилию, что не захотели быть Мнацаканянами, это их пренебрежение мальчика ужалило позже, много позже, спустя десятилетия. А сейчас, ступая по колее в ногу с отцом, совсем как молодой бычок, мальчик тайком глянул на отца и захотел быть Томцяном, Томцяном Стёпой, Томцяном Аликом, Томцяном Перчем или же, если это не покажется смешным, быть Томцяном Арменаком и быть их братом… но тогда оставался один среди этих снегов отец и в селе один оставался брат с неровно обстриженной овечьими ножницами головой, с вывернутым подбородком, молча, как собака, глядящий брат…
Левее Сломанного Седла по склону Медового Цветка проходила и падала в овраг заснеженная тропка. Отец заметил её, но не обратил внимания, потом пригляделся и стал к чему-то прислушиваться.
— Это какой же дурак… — донёсся голос отца.
И хотя те же следы выходили из оврага и, обогнув заснеженный куст шиповника, пересекали дорогу в горы, отец сделал вид, что не видит их, прошёл, не глядя на следы, но это было похоже на открытый обман, потому что мальчик ведь не только следы заметил, но и застывшую на снегу кровь. Отец обернулся и прежде, чем посмотреть на следы, взглянул на мальчика. Это были медвежьи и человечьи следы вперемежку. Медвежий след и человечий, и человек был не обутый или же обутый, но обувь обмотана тряпьём. Кто кого преследовал — человек загонял медведя или же медведь человека? Две трудные капли крови упали на снег и застыли. И то ли медведь тяжело карабкался вверх, то ли человек соскользнул обратно, или же обратно скатились оба вместе? Следы поднимались по обочине в гору, потом сворачивали вправо, к чаще. Мальчик прикинулся наивным ребёнком, чтобы отец за него, за своего сына, не испугался, чтобы отец спокойно мог придумать какую-нибудь ложь.
— Всадник прошёл здесь, — сказал мальчик. — Всадник, правда?
Отец плюнул, так прямо и плюнул на эту историю — в страдания человека и страдания медведя, в эту тайну,
— От страха голову в штаны запрятал, а ты — всадник! Ещё чего.
В далёких скалах Кахнута есть пещеры, мальчик повёл эти следы от пещер и верхами, верхами привёл их на эту сторону горы, перевёл через дорогу и увёл оврагами к далёкому склону Кошакара. Мысленно мальчик уже смотрел с вершины горы, и они виделись ему чёрными точками на заснёженном склоне. Их путь, когда он начался? Рано ли утром, когда мальчик ждал отца, прислонившись к дверному косяку, или вчера ночью, когда мальчик принял решение пойти с отцом за сеном, неделю назад, месяц назад или же всю войну он, тот, молча, незаметно следовал за раненым медведем?
Они вышли на развилку, дорога к зимовью уходила на Седло, но отец не пошёл нужной дорогой и не остановился, не меняя шага, он пошёл по тропе Синего родника, которая под снегом сровнялась и была не видна. Отец что же, решил не ходить на зимовье или, может, в этом продрогшем несчастном мире сломанные ворота хлева показались ему пустяковиной, а может быть, отец решил сам приладить вязанку мальчика? Мальчик потом понял, что отец просто убежал, просто не захотел увидеть своего навьюченного сына и убежал — лучше не видеть мучений ребёнка. Стоя на вершине холма, отец показывал мальчику, где лежит их сено.
Там же, на вершине холма, взорвался-пронёсся у них над ухом последний клочок ветра, они зашли за холм, и там был один сплошной пустынный, ослепительно сверкающий мёртвый покой. Ветер гудел на тенистой стороне склона, а на этой стороне были солнце и тишь. Мальчик потёр уши, отец с сыном стояли, смотрели вниз, в ушах мальчика свистела пустынная тишина белых пространств — отсюда и до самой большой равнины Кошакара. Ничто не двигалось. За восемнадцать километров вниз по реке, там, возможно, жила слабая надежда, в низине, в чаще, может быть, тлела и его надежда, и надежда медведя, но здесь ничего не было видно.
— Всякое может случиться, если встретится тебе по дороге, — сказал отец, — молча пройди, будто не видишь. А если вдруг заговорит, спросит о чём-нибудь, скажи: не один я, отец следом идёт, дед идёт, наши все за мной следом идут.
Стожка не было видно. Взгляд мальчика обежал весь склон, но стожка не было, всякие мелкие холмики — да, но то были муравейники. На всём белом склоне одно только чёрное пятно, маленькое чёрное пятнышко, мальчик понял, что это родник, тот, что в топи, потом мальчик разглядел высокие сухие камышины, одни кончики только, снег, значит, такой высокий там. Потом мальчик нашёл-таки стог, но не захотел поверить, что это его с матерью высокий осенний стог. Сейчас он был с муравейник, он казался под сеном просто муравейником.
— А почему он не выстрелит в медведя? — спросил мальчик. — Пули нет?
— Пули нет, ружьё ржавое, мушка сломалась, мало ли, тысяча неудобств, — ответил отец. — Среди тишины этой выстрелит, а потом? Вор он, вор, — сказал отец, — трусливый вор, пять лет уже свою жизнь, как вор, скрывает-прячет. Продрогли мы с тобой, — сказал отец, — а ну давай иди, — и, как-то странно, как-то вбок ставя ноги, отец зашагал к зимовью, а мальчик побежал вниз. — Армо, — донёсся голос отца.
Мальчик остановился, оглянулся. Стоя среди ясного яркого солнца, отец вроде бы улыбался.
— Ежели увидишь, что не под силу, не стесняйся, — отец коротко махнул в сторону села, оставь, мол, иди домой, ежели не сможешь. — Армик, — снова донёсся его голос.
Отец теперь не на солнечном освещённом склоне был, а снова на вершине холма, и ветер рвал на части его голос. Отец повернулся, пошёл, наклонясь, согнувшись, и словно отец не сам шёл, словно ветер его вёл.
— Арменак, — услышал мальчик, но это уже ему показалось, а может, отец звал его с той стороны.
Мальчик убежал. Мальчика, казалось, не было, он словно возникал из небытия, потом он убегал. Мальчик убегал три раза. Он помнил, как вначале спускался со склона Синего родника, спускался и останавливался посреди белого холодного солнца, вытаскивал ногу из снега, а обледенелая снежная корка царапала лодыжку, потом вытаскивал из снега другую ногу, и снова снежная корка больно царапала ногу, корка эта обламывалась, и нога мальчика до подола красного платья проваливалась в снег, мальчик вытаскивал ногу, осторожно сузив и сжав стопу, но всё равно ледяная кора умудрялась царапнуть, ы мальчик перед тем, как переставить ногу, останавливался, долго смотрел. Ещё помнит, что подул на пальцы, потом задрал подол и приложил руки к животу, к самому низу. Руки не согревались, а живот стал мёрзнуть, и вот тут-то мальчик по-глупому улыбнулся, вскрикнул и убежал.
Мальчик думал, он к селу побежал, но пришёл в себя возле стожка… Ещё здесь, значит. Ужасно это было — что ещё здесь, что только ещё должен был убежать. По белому сверкающему склону его след вёл к селу, долго петлял и приходил к этому снежному холму. Мальчик обошёл холм кругом и остановился, постоял немного. Нижние зимовья стояли заброшенные, чёрный омут Синего родника затерялся среди снегов, и не доносился с нижних зимовьев привычный окрик: «Эй, кто ты там, парень ты, девушка, кто, говори…» Жалея отца, пленных, медведя жалея и его, жалея себя самого, мальчик ещё раз обошёл холм, всхлипнул несколько раз и побежал.
Перед тем как войти в лес, мальчик опять стоял и смотрел назад, на свой след, спускающийся по склону, на пустой хребет горы, откуда последний раз послышался голос отца, на дорожку, проделанную им от стога, дорожка эта кончалась у него под ногами. Мальчик стоял, омытый холодным, негреющим солнцем, только стоял, ничего не делал и не знал, что будет делать, и даже того не знал, как это получилось, что только что он был возле стога, а сейчас его там нет.
А теперь вот он стоит перед своей дверью и ничего не помнит. Пожалуй, только след медведя и его след, и две капли чёрной крови, но и это, похоже, они с отцом вместе видели. Возле села в тихой долинке Тандзута мальчик и думал было набрать граба, наломать мелких сучьев, принести домой вязанку, но это было всё равно что у самого себя просить милостыню. Это был обман, и мальчик не стал этого делать. Мальчик махнул рукой. И вот так, ничем не маскируя себя, потерпевшего поражение, мальчик в красном девчушкином платье прошёл холм Медовой Груши и спустился к своему дому. Кто-то, стоя на тропинке к данеланцевской уборной, смотрел в его сторону, казалось, с самого утра он так и стоял тут, ждал мальчикова возвращения. Зимний скудный день усыхал, как керосин в нищее время, солнце уже подкатилось к самому Чрагтату, и дубового цвета холм Медовой Груши был весь залит ярким солнцем. Красное платье мальчика горело на солнце и было видно со всех сторон — и от их собственного дома, и от дома Данеланцев, и от дедовского дома, и от дома Каранцев, от старшего дяди дома и от тётки Шушан… И пускай. Мальчик не стал прятаться ва деревьями и не снял с себя красного платья, полыхая на солнце красным, мальчик спустился по холму Медовой Груши, подошёл к дому, постоял немного между домом и хлевом. Верёвку, которую он на манер русского солдата перекинул через плечо, верёвку эту он снял и бросил в угол хлева, подол красного платья собрал и через голову, с отвращением, почувствовав себя на минутку девочкой, стянул с себя это платье, швырнул на бельевую верёвку, протянутую от дверной балки к балке хлева. И остался стоять. Мать, сестричка, брат повыбегали из дома, но, не добежав до него, остановились. По всей длине карниза с крыши сарая капало, капель уже сходила на нет, уже начинала свисать тоненькими сосульками. «Смотрите, — мысленно сказал им мальчик, — я для вас сейчас театр, нате смотрите». Девчушке росту не хватало, положив ручонки на перила, она пыталась подтянуться, чтобы лучше увидеть брата.
— Не разрешил, — высказала предположение мать, — с полдороги домой отправил.
Мальчик пожал плечами.
Глаза матери выкатились от ужаса.
— Сено украли, — сказала она. — Нехорошо закрепили, пурга разнесла.
— Нет, — сказал мальчик, — там оно.
Мать улыбнулась.
— Буран был, — сказала она, — не смог вязанку связать.
Мальчик смотрел в сторону холодного чрагтатовского леса.
— В дом идите, — сказала мать, — холодно, идите домой.
Мальчик даже головы к ней не повернул.
— Капкан твоего брата, — сказала мать, — поймал гуся тётки Шушан, напромышлял братец, видишь, говорит, по случаю прихода папы, — мать рассмеялась.
С неровно обстриженной головой, лопоухий, брат смотрел на мальчика, а поверх перил, поверх двух ручонок на мальчика смотрели глазки и лоб сестрички.
— Ничего, мой хороший, — сказала мать, — на горе буран был, если же о гусе думаешь… свинью когда зарежем, четыре килограмма мяса им — вместо их гуся свиную ножку им дадим.
— Мне что, — прошептал мальчик и повёл плечом, — отдавайте.
— Если ты должен был так вот торчать перед дверью и в дом не идти, — грубо и серьёзно сказала мать, — лучше бы в поле и торчал. Ступай, в дом иди, — сказала мать, — нечего глаза мне мозолить.
Мальчик повёл было плечом, потом увидел, что надо что-то ответить, и мальчик сказал:
— В поле не стал торчать, чтоб ты знала, что со скалы не свалился и что волки меня не сожрали.
И мать увидела, что не может обмануть его и заставить тоже не может. Мать загнала детей в дом, открыла калиточку террасы, пришла, стала под карнизом возле поленницы, где дрова были сложены заботливо, аккуратно, полешко к полешку, поленница была выше материной головы, капель с карниза капала. Освещённая солнцем капель казалась нитями ткацкого станка, того, на котором ковёр ткут, и за этой завесой их мать была красивая, как на картине нарисованная. Стоя возле поленницы, где виднелись старательно сохранённые мальчиком зелёные бороды поленьев, скрестив руки под грудью, она переступала с ноги на ногу и не смогла придумать что-нибудь, чтобы обмануть сына.
— Разрешается? — улыбаясь, спросила она. — Разрешается твоими дровами печку растопить?
Мальчик презрел её.
Взяв в охапку поленьев, мать благословила своего сыночка:
— Чтоб ещё сильнее стали руки того, кто эти дрова набрал, чтоб его солнышко расцвело на радость нам, красное-красное.
Мальчик сделал вид, что не слышит её.
Поднявшись на террасу, мать обернулась к мальчику:
— Воды нет, принеси поди.
Не позволив себе взять в лесу вязанку граба, мальчик отверг эту воду тоже, мальчик расправил спину и не ответил матери. Пол-лица её было освещено солнцем, с поленьями в руках мать засмеялась под карнизом и снова сказала:
— Братец твой домашнего гуся капканом поймал. Говорит, из гуся только подушку делают, а с жареной картошкой нельзя его?
На эти слова из-за двери высунулась смешная братова голова, а к окошку, к стеклу прижался с той стороны сестрёнкин нос.
— Так в капкане и тащил его, приволок, открыли капкан… пошли, дома расскажу, — засмеялась мать.
Отчуждённо, издали, словно узник из-за решётки, мальчик глянул на неё.
— Бедный ребёнок побледнел со страху, а гусь и шипит и кричит, ровно хозяйка, — засмеялась мать. — Мало было свиньи, гуся ещё заимели. Как открыли капкан, гусь на одной ноге крутанулся, разбежался и полетел к тётке Шушан, а одна нога в воздухе болтается, та, что в капкан-то попала, прощайте-прощевайте, говорит нам гусиная лапа. Теперь мы вместо этой лапы, — засмеялась мать, — свиную ножку им отдадим, ножка с этой самой минуты ихняя, на свинье ещё, но не наша. Если хотят, могут прийти, свою долю оторвать, унести, а мы свинью после января собираемся зарезать, иди в дом, — сказала мать.
В отсутствие мальчика мать поругалась с тёткой Шушан и теперь со смехом рассказывала ему эту историю. Года три-четыре назад мать совсем ещё девчонкой была, как девочка, худая и пугливая. Как-то ночью она вдруг пропала из дому. Дети ликовали, то-то им раздолье будет, бабка всегда думала, что в её невестке сидит тоска по далёким горным вершинам, короче говоря, сумасшествие, вот и ушла, дед не мог и не хотел участвовать в разговоре, потому что не только колени, но и мысль его в последнее время была немощна, и, только глядя на продолговатое умное и спокойное лицо младшего дяди, мальчик понял, что мать отправилась за коровами. Их коровы отданы были на зиму в какие-то деревни в низовьях, где, говорят, было тепло и было достаточно корма, зелёные, дескать, села, надёжные, дескать, добрые руки… Худая, как былиночка, сухая эта женщина покрутилась-покрутилась, поглядела на спящих своих детишек, и вдруг словно что стукнуло, вдруг она поняла, что с коровами стряслась беда. Не дожидаясь рассвета, поскольку утром невозможно было бы отогнать льнущую к ней, как котёнок, девчушку и высвободить подол от Грайра. Она за день дошла до Дзорагеха и семь дней, гоня перед собой корову, шла домой. Возле дома старшего дяди, где начинался подъём, где в гору надо было идти, они застряли… Постаревшая, со вздувшимися жилами на руках, с отёкшими руками-ногами, под глазами мешки, эта женщина не могла удержать девчушку, девчушка вываливалась из её рук. Тощая, старая, одна кожа да кости, осиротевшая корова хотела сдохнуть, и эта женщина бормотала глухо, без выражения, словно в бреду: «Сестрица, матушка, Агун, родная… детей моих пожалей, ведь ты моих детей бабка, а, матушка, так ведь, матушка?.. Дочек своих порастёряла, — не в силах подняться с колен, засыпая на ходу, без слёз плакала она, — ненаглядных дочек своих порастёряла, телёночка потеряла, жаловаться сил у тебя нет, бабка моя… а ведь ты снова будешь плодиться, умножаться, в стаде своём королевой снова станешь, Агун-джан, милая…» Их тощая старая корова должна была отелиться и не могла. Дед, всё знавший, всё умевший, белый как лунь, одряхлевший дед, который ещё до мальчика, и до его отца, и до старшего даже дяди не менее как пятистам коровам помогал отелиться, этот чудесный друг всех цветов, пчёл, деревьев и коров, этот дед теперь ничего не мог поделать. И среди слабой, немощной этой весны, припушенной жёлтой порослью, на каменистом солнечном берегу ручья произошло чудо — корова отелилась. С цветочком-отметиной на лбу, и кончик хвоста — как цветок, этот дурачок, этот новорождённый шарахался и убегал по солнечным склонам — в овражке два-три листочка зелёных проклюнулись, — и корова, что ещё была слаба, и мать, которая улыбалась, положив голову на колени, и дряхлый-предряхлый дед смотрели телёночку вслед.
Эта женщина сказала тогда бабке — когда корове совсем худо стало, когда она не могла отелиться, бабка принесла и на солнечной стороне сада, прямо на изгороди, хотела с молитвами зажечь свечку, солнечная эта сторона овражка, таким образом, становилась как бы часовней, — вот тогда-то эта женщина и крикнула, упёрлась взглядом в бабкину спину и закричала: «Этот бог — я, свечку под моими ногами будешь жечь или как?!» А бабка: «Тьфу, тьфу! — стала плеваться. — Тьфу, бесстыжая», — словно божественной её молитвы злой дух коснулся, а дед скосил глаза и стал похож на наивное изображение творца… но ведь так оно и было, в весеннем том овражке богом была — эта женщина.
Перед войной, в звонкие, обильные те времена отцу задолжали свинью, он два улья смастерил, ульи смастерил, а заказчикам сказал: «Не к спеху, принесёте, как сможете», — насчёт свиньи сказал, сунул рубанок в карман, тесак заткнул за пояс и был таков, а прошлым голодным летом эта женщина вспомнила про старый долг, пошла, попросила, взмолилась, стала ругаться и грозиться, какая, мол, разница, долг есть долг, а свинья и в войну свинья, и пригнала, приволокла визжащего этого, короткорылого, с отвислыми ушами хряка.
Волк у Данеланцев разворотил крышу хлева, забрался к овцам и загрыз всех до единой. Живой осталась одна только коза с прокушенным горлом. Данеланцы хотели прирезать её, эта женщина не пустила, сказала: «Небось найдётся что-нибудь починить-построить, наш муж вам всё сделает, козу эту нам отдайте, выживет ли, околеет ли, наша будет судьба». Она расчистила снег под изгородью, выкопала корни крапивы, вскипятила в котле и, обжигая пальцы, кипящей водой крапивной промыла козе раны, а разодранное место заткнула смоченной в этой воде тряпкой. Она и сама не знала, что делает, и мальчику не смогла бы объяснить смысл своих действий, но коза, пожалуйста, вот она, не умеет мемекать, правда, молча смотрит на вас, но скоро должна разродиться тем не менее.
Надёжная, любимая, как собственный очаг, эта живность существует благодаря этой женщине, она имеет право смеяться, она может издеваться и высмеивать чужую невезучесть — жизнь в хлеву теплится благодаря ей. У Данеланцев хлев так и вымер, вон даже дверь распахнута, а там, где волк дырку сделал, снегу намело целый сугроб.
— Сено не твоя обязанность, — эта женщина толкнула коленом дверь, а дети изнутри открыли её. — Ты школьник, твоё дело уроки учить, — повернулась она в дверях.
Мальчик выпрямился и посмотрел в сторону чрагтатовской холодной чащи; закрывая лес, тень от неё пришла, легла у ног мальчика.
— Ну, раз ты так с нами обходишься, — она швырнула охапку поленьев на землю, — мы твои дрова жечь не будем, не нужны нам твои дрова. — И скрестила руки под грудью. — Сколько будешь стоять, столько и я простою, не уйду, — сказала эта женщина.
Игра это была или же она по-настоящему сердилась, всё равно это было нечестно с её стороны. Эта женщина думала, только она одна и существует на свете. Из глаз мальчика посыпались искры и слёзы, мальчик по имени Армен, Армик, Армо Мнацаканян посмотрел на неё. Мальчика душил гнев, а эта женщина только глазами хлопала. Похлопала-похлопала, переступила с ноги на ногу, ровно курица, стоящая в снегу, и сказала:
— Ну что?
Мальчик проглотил душивший его ком.
— Думаешь, на свете, кроме тебя, никого и нет.
Полуоткрыв сухой, с потрескавшимися губами рот, эта женщина моргнула, может, поняла, а может, и вовсе не поняла, что хоть она и мать, но с мальчиком у неё сейчас нет ничего общего. Она нагнулась, чтобы подобрать дрова, а дрова уже брат по одному перетаскал в дом, испуганно отворяя и затворяя дверь. И эта женщина посмотрела на всё и сказала:
— Сгинь.
Это мальчику понравилось.
Она ушла в дом, но через несколько минут прислала с братиком одежду, чтобы тот принёс, накинул её на плечи мальчика. Как и прежде, брат был верной собакой мальчику, и потому он в сомнении стоял возле мальчика и не знал, как быть, подойти набросить одежду на мальчика или же не делать этого, ослушаться мать. С прозрачными оттопыренными ушами брат стоял, изнемогая от нерешительности. Солнце прошло через мальчика и его брата. Мальчик приказал брату идти в дом, но тот всё ещё не мог уразуметь, выполнять ему наказ матери или же повиноваться мальчику.
Откуда-то сухой треск доносился. Ветки не гнулись, ломались, внутри их словно лёд был, чуть притронешься к ним, с треском ломаются. С уходом солнца с карниза сразу же перестало капать. На склоне Медовой Груши, к которому подползла синяя тень от Чрагтата, торопясь, пока холодная тень не дошла туда, кто-то проворно обламывал ветки граба — в ветках жизни совсем не было, ломались от одного прикосновения. Мальчик слышал, как падали на землю ветки, и тихо, как услышанное во сне и сохранившееся в памяти, доносился до него почти немой, молчаливый разговор того, кто на дереве ломал ветки и кто на земле подбирал их. Айк, Овик, Норик, Жорик вчетвером трёх коров пасли, под вечер, перед тем как солнцу уйти, они налетали, обламывали, обдирали граб, днём-то не могли, потому что на свете не только солнце и вьюга существовали, был ещё и однорукий, одноглазый злой лесник… С мешком под рубашкой Овик сейчас, лавируя между солнцем, сторожем и стужей, прячется возле сараев, чтобы вместе с чрагтатовской большой тенью подойти, прилепиться к сараю и набрать соломы. Потом по дороге домой ни одна соломинка из его мешка не просыплется, не упадёт на снежную чистую тропинку. Тем не менее, рассказывая легенду про мифического Айка — это когда наш бог Айк из овинов ассирийского бога Бела в громадной корзине приносит солому для своих волов, когда идёт он большими шагами и след его, Млечный Путь, ведущий с их ассирийского неба на наше цмакутское небо… — рассказывая про это, учительница армянского тем не менее посмотрит на волосы Овика. Наверху, у граба, значит, Норик и Жорик орудовали. Знали, что нельзя переговариваться, знали, что сухой треск ломающихся веток сам по себе уже равен громкому разговору на всё село. Но если бы Норик не разговаривал с Жориком, тот под деревом замёрз бы, и ветки потому же Норик бросал подальше от дерева, чтобы Жорик, собирая их, бегал и не мёрз. А Жорик всё равно бегом подбирал, складывал ветки в кучу и, как кролик, замерзал, съёжившись возле этой кучи.
Тень от Чрагтата ползком, медленно поднималась на Медовую Грушу, испуганное солнце пятилось, отступая к горе. Норик и Жорик были ещё в черте солнца. В черте солнца был ещё Каранцев холм и ещё кусочек дедова гумна с краю. Как прямая свечка, стояла на солнце бабка. Старый взял внуков, пошёл за сеном. В коленях у старого сил никаких, внуки, те, что постарше, — девочки, а мальчики совсем ещё малые дети. Добрая долина Калкары даст им пройти, укажет путь. А сено? Не разнёс ли его ветер, не разворошила ли косуля, не подмочила ли вода? Нет, под дедов стог вода не подберётся, но пропустит ли их Глубокая опушка, открыт ли путь у Известняков? Так и стояла бабка на освещённом солнцем пятачке гумна.
Прежде чем страшилище… ужас… отбирающий топоры и верёвки… прежде чем показался бы одноглазый-однорукий и прежде чем его тень возникла бы на Каранцевом холме и потом перекинулась бы на Медовую Грушу, мальчик понял, что тот, за холмом, подбирается крадучись, прячась за домами и нагрянет сразу, как клинок всадит… но ещё раньше мальчика его невидимое присутствие почувствовала бабка и на солнечном совсем пятачке ничего не сделала, ничего не сказала, но Жорик и Норик мгновенно притихли-притаились — один на дереве, другой под ним. И их верёвки притаились, и два вороха грабовых веток притаились. Как бабка сейчас, точно так наседка своих цыплят об опасности предупреждает, так рыба с малыми рыбёшками разговаривает. Они не были её внуками, но были детьми, а она была бабка, и плохо видела, и не различала своих и чужих, таким образом все были как бы её внуками.
— Ну что ты встрял тут, пугало, пожалей хоть красное солнышко, — сказала бабка, хотя однорукий-одноглазый ещё не показался и его плоский, словно из жести вырезанный облик ещё не возник, не ступил ещё на Каранцев холм. — А что ему, дереву, сделается, придёт весна, пустит лист, — сказала бабка. — Дети ведь. — Бабка, сказав своё, стоя на освещённом пятачке своего гумна, прямая, как горящая свечка, тут же о нём забыла. Но он-то уже уставился на холм, его страшная тень уже приковалась к Медовой Груше, где возле маленькой своей охапки грабовых веток, как зайчик, затаил дыхание Жорик и на дереве окаменел Норик.
Он и мальчик однажды чуть не столкнулись. Салазки уже набирали скорость, и знобкий восторг от этой скорости уже подрагивал в мальчике, и вдруг прямо у подножия спуска появился он. Мальчик ужаснулся. Так с салазками и должен был скатиться к нему в лапы. Мальчик вслепую на лету всадил топор в землю и сам вцепился в топорище, да так и остался на снегу, распластанный. Потом увидел, что лежит на снегу, держится за топор обеими руками, сам-то лежит, а санки, вздымая снежную пыль, летят вниз, и собака с лаем бежит рядом с салазками; потом мальчик бежал по лесу, он спрятал топор под снегом, побежал дальше, потом подумал, что нехорошо спрятал, вернулся, чтобы перепрятать, но топора не нашёл… и потом всё бежал и бежал к Долгим землям, где не было снега, а была низкорослая дубовая поросль и можно было не бояться оставить след, и издали бы его никто не разглядел, потому что холщовые штаны и рубаха мальчика были крашены дубовой корой и были того же цвета, что и лесок. Мальчик тогда пришёл в село задами, он прошёл гумна и возле сараев встретил Овика, и они побратались.
Мать вышла из дома с ведром через руку, держа в руках большую зелёную миску. Она сошла с балкона, сделав вид, что не видит мальчика, прошла в погреб, и мальчик услышал, как хлюпает и льётся рассол, потом она набирала в ведро картошки, мальчик слышал, как ударяются картофелины о ведро, потом она вышла из погреба, прошла, нагнувшись под карнизом, и, толкая ногой дверь на террасу, не выдержала, обратила к мальчику улыбающееся лицо, но мальчик в ответ не улыбнулся, и, как обиженная девочка, мать замкнулась, ушла в себя. Дверь ей открыл брат, успев из-под миски с соленьем метнуть взгляд на старшего брата.
Солнце спрыгнуло с каранцевского высокого холма, и сатанинский облик его тут же сгинул. Но он был там. Уменьшился, потускнел, сошёл на нет и солнечный пятачок на дедовом гумне, одно последнее мгновение, освещённое солнцем, оставалось в свету бабкино лицо, потом b оно погасло. Бабка сказала, наверное, про себя: «Не идут что-то». Ей показалось, сама она уже в доме, стоит возле печки, похлёбку танапур помешивает, но она стояла на краю гумна среди наступившего полумрака одна.
Приглушённый, словно в рот кляп загнали, словно кость под кожей дробят, — такой вот треск доносился. Норик ломал ветки граба, зажав их в кулаке, но его ладонь не была мягкой, надо было шапкой, в шапке надо было ломать — вот так, вот так, вот так. Обломанные ветки так надо было с дерева бросать, чтобы они молча втыкались в землю, мальчик бы так сделал.
— Это кто там, а?! — прогремело с Каранцева холма. — Это чей там щенок на дереве кукушкой засел?!
На холме Медовой Груши тихонечко засмеялись, и треск возобновился, словно это заяц дерево грыз — безостановочно, с одинаковым интервалом. Норик обламывал, прямо-таки оголял деревце граба. К сухим, безжизненным этим веткам коровы в первые дни не притрагивались. В хлеву, наложенные перед коровами, ветки эти от коровьего дыхания отходили, немного набухали, и тогда коровы начинали медленно, не спеша их перемалывать. Вы там кричите в своём мраке сколько хотите, даже из ружья палите, отберите все топоры, все мотыги, все ножи и верёвки, мальчишечья наша армия всё равно будет кормить корову и, посасывая эту корову, жить.
Караван деда с внуками двигался тем временем к дому. Были они ещё далеко — дальше Глубокой поляны и даже дальше Известняков — и быстро, пока солнце не ушло, двигались к дому. Дед летом накосил траву. Жал серпом, поскольку косой косить ему не под силу было. Потом косил косой, поскольку серпом не под силу было. Всё лето дед косил, но работы тут всего-навсего на час было. Настоящий работник, он бы сел, съел барана, встал и скосил всё это ровно за один час. А дед всё лето косил… но ведь скосил же. На своём старом, своём сочном мягком покосе в Каменюках — одно только название Каменюки, а поищи — и семи камушков для детской игры не найдёшь, — там-то и кряхтел дед всё лето. Дед ещё сказал — Андраник, Симон, Акоп… где вы, не одолею никак…
За то, что мучает детей, дед ждал с неба соответствующей кары, но вязанки всё же связал крепкие, надёжные. И, пустив вперёд Валодика, сказал: волки когда на промысел выходят, впереди всех дорогу в снегу пробивает мальчик, потом сестрички его следом идут, а уж после, в хвосте старый дед плетётся. Э, сказал дед, персидского шаха караван точно тем же манером идёт — впереди детёныш, после сестрёнки, а позади старая, ни к чему не пригодная верблюдица, которой не сегодня завтра сдохнуть пора… А что, сказал дед, и я про шаха всё знаю, думаете, я в школах не учился, а ну-ка: вэ — Валодик, е — Елена, эс — Сохак, дэ — дед…
Дед покряхтел, связывая вязанки, но над хилостью Валодика не стал плакать, потому как, для того чтобы горевать, тоже свои условия нужны, вот и пускай горе идёт к тем, у кого эти условия есть. Дед сказал детям: идите, что встали. Дед нёс лёгкие, деревянные, за шестьдесят лет отполированные в руках вилы о двух зубьях, дед опёрся на них, захотел посмотреть, что там впереди помешало детям идти, дед опёрся на вилы, но поскользнулся, снова опёрся и снова поскользнулся… опёршись на вилы, как на посох, дед поднялся повыше, посмотрел и вдруг сплюнул. С лицом, затерявшимся в бороде, он приложил палец к губам — молчи!
Валодик потом дома сказал: тот всё равно как пьяный медведь… Грайр испугался и сказал: а какой он бывает, пьяный медведь? А это когда голова между ног болтается, он идёт-идёт, а голова с шеи так и хочет слететь… Арменак ему сказал: ты видел такое? Валодик отвёл глаза и сказал: не-а. И Арменак сказал: ты видел, вы видели, я знаю.
Через одну весну и одно лето, осенью его убили, но дед с Валодиком, когда про это узнали, переглянулись, а сказать ничего не сказали. Сохак к тому времени уже вышла замуж и ничего про это не помнила, она вспомнит об этом, когда будет рассказывать сказки детям, Елена та с матерью и тётками ткала свой нарядный свадебный ковёр, мужские эти дела её не интересовали, а дед с Валодиком переглянулись и ничего не сказали. Чтобы изловить его, не раз уж направлялся в лес отряд милиционеров, но его поймал Мурад, небрежный, неряшливый, щедрый и весёлый Мурад, тот, который и поесть любил, и поплясать, и ругался смачно, не стесняясь ни женщин, ни детей, этот самый Мурад со словами «твою кровь… да разве ты сам себя не жалеешь, со страхом в душе живёшь» подбил его на дереве, и он свалился, а во рту у него был пресный домашний сыр, тот, что, как верёвка, плетёный, а потом его везли на телеге. Мурад сказал: «Столько лет подыхаешь от страха, разве ж это жизнь», — и выстрелил. Мурада арестовали, подумали, что их там много и Мурад тоже один из них и убил его, чтобы замести следы. Но суд одно только выяснил: что Мурад небрежен и расточителен, когда дело чужих жизней касается, а свои тюремные денёчки очень даже оплакивает… ничего другого суд не обнаружил.
Этой же самой осенью дед купил лошадь у дсехца, лесника Алхоенца Адама. Крепкую, добрую тёмно-гнедую лошадку, которая обижалась, когда её пускали рысью, к иному потому как привыкла, должность лесника обязывала к грозной, стремительной скорости — из Цмакута в Дсех, из Дсеха в центр. Армик сказал: как лошадь зовут? А так и зовут, сказал дед, лошадь, она у нас работать будет, Валодик с Армиком будут учиться, а она работать. И тогда Валодик удивился, совсем как дед: вуэй, так и скажи тогда, что имя её Алхо.
А спустя ещё немного времени пленных освободили, отпустили из туманяновского леса, и ещё больше даже, чем сами они, облегчённо перевёл дух отец. С Алхо вместе отец ушёл на заработки и вернулся с пшеницей и ячменём. Запахло хлебом. Ещё немного, ещё немножечко, и из полной, глухой безвестности вернулся старший дядя. О том, где был, ничего нам не рассказал, просто вернулся. Так в нашем квартале Мнацаканянов заглаживались, можно сказать, следы войны, на склонах Медовой Груши резвились ягнята, козлёнок нашёл камушек и встал на него, сестра отца, вышедшая замуж в Дсех, приехала к нам погостить, младший дядя прислал из армии письмо и фотокарточку, и лицо его на этой карточке было по-армейски серьёзное и по-мнацаканяновски милое… была ясная светлая весна, и сын старшего дяди, Валодик, рассказал…
…Медведь шёл-шёл и ронял голову, шёл-шёл, а голова у него почти уже по земле волочилась. Беглый человек приближался к нему — штыком прикончить медведя, а медведь рычал и грыз штык. И снова медведь шёл и ронял голову. Такое, чтобы медведь грыз штык, дети с дедом один только раз видели, но было яснее ясного, что позорную эту дорогу он прошёл именно так: медведь всё поворачивался, чтобы задушить его, а он, подыхая от страха, штыком царапал медведю морду, и ни разу за это время не прогрохотал его могучий карабин, потому что прогрохочет — и что тогда?.. Мол, вот он, я здесь, идите берите меня, так, что ли? Зажатый между двумя страхами — перед людьми и перед медведем, — он не имел права пальнуть из своего карабина. Его огонь для шашлыка не мог уже заполыхать — медвежье мясо он должен был глотать сырым, да, сырым, а потом молча корчиться от колик. Он ел снег и приставил палец ко рту — тише, мол, меня здесь нет, вы меня не видели. Приподнявшись на цыпочки, опёршись на вилы, дед поглядывал на окровавленную дорогу: а как же, мол, дорога-то от самой Калкары, от дубняка до Кошкара? А он поднял глаза к небу, — может, дай бог, ещё снег пойдёт и заметёт наш позорный путь. Медведь шёл-шёл и хватал ртом снег, и человек тоже, зажав в кулаке снег, жадно сосал его.
Дед сказал — жизнь, она на тысячу ладов бывает, у этого она такая вышла. Свободно, вольно поёт родник, тучу молния прошивает, и ветер выбегает из-за скал и пригибает к земле деревья, и вековечный тысячелетний дуб, не постеснявшись, оплакивая себя, гибнет… Валодик тогда сказал — вуэй, жизнь, она же не музыка, это музыка на разные лады бывает, свирель. А дед сказал — свирель, но его свирель больше не запоёт, не вскрикнет, не заиграет.
Их усталый караван пришёл домой. Тихо шелестело сено, и было слышно, как ударяются о землю дедовы вилы. Они молча, чтобы коровы не услышали и не стали бы ждать корма, поместили сено в хлеву на чердаке, и во мраке не разглядеть было, много они принесли сена или совсем ничего и мучения их ради чего были. И боженька деда и бабки не увидел, надо полагать, во мраке, как дед нагрузил-навьючил своих девочек-внучат, как верёвка стёрла им шеи, как она им в плечи врезалась, потому, что, сколько девочки ни подкладывали сена под верёвку, всё равно верёвка нещадно врезалась в их девчоночью нежную кожу и царапала, и натирала, и щипала, и раздирала им плечи, а слово стариков гласит: девушка сколько в доме отца солнышка видела, то и видела, в мужнем доме ей всё одно жизни не будет.
Но всё же сено лучше, чем грабовые ветки, сено всё же мягче, когда сено, от верёвок только больно и ещё если в сене бурьян есть с его почти металлической сердцевиной, но в скошенном дедом сене колючек и бурьяна быть не могло. И потом от сена спине тепло бывает. А ветки граба, может, и нагреваются от твоей спины, но сами спину не греют. Холодные, твёрдые, как твои рёбра, ветки граба царапают тебе спину, с какой-то чисто детской изворотливостью ты ёрзаешь, укрываешь позвоночник от острых сучьев, но те снова находят твой позвоночник. Ты уже большой, тебе одиннадцать лет, и если ты смог так приладить вязанку к спине Жорика, что сучья не впиваются малому в спину, то хорошо, а сам ты уже большой, ты и потерпеть можешь, если больно.
Медленно пробираясь во мгле, Норик с Жориком приближали свои вязанки к дому. Печка их остыла, никто их не ждал, никто не мог их похвалить, никто не должен был взять в свои руки их озябшие пальцы и растирать их и отогревать — их мать была в больнице, Овик промышлял возле сараев, а отец ушёл на заработки в Кры.
С ведром в руках Грайр вышел из дома, из раскрывшейся на минутку двери дохнуло печёным картофелем, Грайр подошёл к мальчику и попросил его шапку, и, когда он отошёл и был уже порядочно далеко, мальчик заметил, что брат дал ему картофелину. Мальчик размахнулся и бросил картофелину брату в спину, попал он или нет, но тот вдруг вскрикнул и побежал, громыхая ведром. Вот так, не переставая кричать, он добежит до родника и будет кричать, пока ведро не наполнится. И, возвращаясь, он будет кричать. Он говорит, что не от страха кричит, а чтобы спугнуть холод. На дороге к роднику у него есть свои особые места, он опускает ведро на землю и кричит, ведро он несёт, согнувшись в три погибели, но по воду всё равно он идёт, особенно если воду будет пить мама.
В доме зажглась лампа, и мальчик увидел, как сестричка припала к окну и высматривает его. Когда мать зажгла лампу, девчушка потеряла из виду брата, окно было запотевшее, она ручонкой расчищала чистое место и прижималась к этому месту носиком, но стекло от её дыхания тут же снова запотевало.
Брат вернулся, поставил ведро на балкон и пришёл отдать мальчику его шапку. Мальчик шапку взять не захотел, но брат подумал и решил надеть шапку мальчику на голову. Мальчик шапку с головы стянул и хлоп оземь. Брат поднял шапку и посмотрел на мальчика, совсем как собака — подбородок в сторону, взгляд то ли снизу, то ли сбоку, не поймёшь.
Свету в лампе прибавили, и мальчик с братом оба поняли, что идёт отец. Шапка теперь была в руках мальчика… Но ещё раньше матери, мальчика, брата и девчушки присутствие отца почувствовала тётка Шушан. «И-и-и, — прокляла она их громко, — кто моей птице ногу переломил, пускай того… — И замолчала, и прислушалась. Она пока только разведку производила, от дверей своего дома она слышала мужские шаги у Медовой Груши, но не совсем ещё была уверена, что отец там. — Ахчи, — посетовала она, — ногу моего гусака перебили, ещё и смеются, сжарьте, говорят, съешьте, а то, говорят, нам дайте, мы сжарим. — На улице никаких таких «ахчи» не было, это она так отцу мальчика рассказывала о случившемся, потом она замолчала, подождала ответа с той стороны склона. — Оглохли, — сказала она, — не слышат, не человек будто с ними говорит, понятное дело, женщина без хозяина, презирают».
Отец молчал, потому что нельзя, ну, нельзя было находиться в этом вдовьем селе и уж тем более нельзя было говорить: «Вот он я». Пройдёт ещё много лет, пока отец поймёт, что этих сирот не он лишил отцов и этих вдов не он лишил мужей, что не он погубил своих товарищей — война, и перестанет стесняться того, что жив.
«Нету их, — взвилась Шушан, — сгинули, перевелись вмиг, оглохли, не слышат ничего».
Мать, по всей вероятности, открыла окно со стороны Шушан и собиралась отвечать ей. Но не ответила, так же молча затворила окно.
«И-и-и, чтоб вот так вот и онеметь вам навеки, — прокляла их тётка Шушан, — так чтоб и сидели, как в тюрьме, да боялись на свет божий показаться».
«Что случилось, ахчи, — не выдержала, снова открыла окно мать, — ты что с ума сходишь, разоралась что?»
«Запирайтесь, — сказала тётка Шушан, — закрывайтесь и наслаждайтесь, огонь в очаге горит, дети все целы, муж как стена, о несчастных обделённых ты подумаешь разве, счастливая!»
«Милости просим к нам», — сказала мать.
Покорный своей судьбе и своей ноше, как вьючная лошадь, которая только и знает тропу к дому, как глухой лемех, который задыхается в земле, как шея вола в тесном ярме, отец прошёл сквозь ругань этих женщин, пронёс свою вязанку, впихнул её в хлев и сел. И так молча и сидел, не двигаясь, не развязывая верёвок, молча и глухо сидел так.
Мать вышла на балкон с водой и полотенцем в руках, но он из хлева не выходил, он, казалось, не человеком был, а лошадью, которая доставила груз на место и смиренно ждёт, когда её разгрузят.
Мать на балконе дёрнулась было нетерпеливо, но продолжала ждать. За запотевшим стеклом в жёлтом свете керосиновой лампы лицо девчушки было неподвижно, как изображение на фреске. В жёлтом окне к девчушкиному лицу присоединилось лицо брата.
Мать забеспокоилась. Казалось, отец вовсе и не приходил, казалось, всё это им привиделось. Незаметно, как наседка на яйцах расправляет крыло, мать шевельнулась на месте и сказала, словно не сказала, словно подумала: отец. По стеклу с той стороны катились капли остывшего пара, казалось, девчушка плачет.
И в это время в хлеву зашелестело сено — отец высвободил одно плечо от верёвок. Подождал чего-то, забыл, вспомнил, ещё раз вспомнил и опять забыл, что хотел высвободить и другое плечо тоже. И продолжал сидеть.
Мальчик услышал «отец» и не понял, у него в сердце это прозвучало или же голос матушки был. Мальчик заплакал. Мальчик не всхлипывал, не захлёбывался - молча давился слёзами. Мальчик плакал и вспоминал их восхождение на гору: отец шёл, и он шёл, отец ногой швырнул снега на голую землю, он и отец вместе засмеялись над одноруким, отец так разделал граб, что ствол даже не дрогнул, как равные, как братья, они с отцом разглядывали след беглого, потом ветер хлестал, прямо-таки раздирал на отце кожанку, а красное облачение мальчика переместилось на ослепительно белый, освещённый солнцем склон. Мальчик недостоин был нести в себе эти картины. Было бы честнее, если бы мальчик шаг за шагом прокрутил бы про себя своё бегство, но его существо ничего от этого бегства не взяло, мальчик никак не мог вернуть себя к этому.
Отец прошёл к дверям, и сладкий запах сухого сена и разгорячённого потного тела коснулся мальчикова лица. Но это тоже, это тоже не принадлежало мальчику, не его было, мальчик был недостоин всего этого, и он затаил дыхание, чтобы не вобрать в себя эти запахи.
Мать распахнула перед отцом дверцу на террасе, но он на полпути остановился и на террасу не поднимался. Он медленно, с трудом, словно воловью шею скручивал, словно дуб к земле пригибал, вот так вот он выгнул руки и попробовал снять с себя кожанку. Он забыл или не смог это сделать, кожанку с него мать сняла, и даже она с трудом сняла, кожанка словно пристала к его спине.
Он взял с перил воду для умывания, закинул голову и стал пить. Его запах заполнил всё — от дверей дома до дверей хлева и от хлева и до… да что говорить, всю неделю должен был стоять этот дух здесь, а он, глухой и слепой к материному запрету, высасывал, пил воду для умывания, и мальчик не смог сдержать рыданий.
Потом он умывался, мать лила ему воду на руки, мальчик мысленно видел его одеревеневшие пальцы, пальцы эти не удерживали воду, вода проливалась сквозь пальцы, и он тёр влажными, без воды руками шею и лицо.
Он уже вытирал лицо — медленно водил по лицу полотенцем, а мать обметала ему ноги берёзовым веником, развязывала шнурки его армейских ботинок, но он едва ли чувствовал, что с его ботинок счищают снег и что на них развязывают шнурки; он стоял, широко расставив ноги, забывшись.
Они вошли в дом. У самой двери о чём-то зашептались, вернее, эта женщина шептала и думала, что человек этот, окутанный глухим войлоком усталости, в состоянии слышать какой-то там шёпот. Но она всё равно решила во что бы то ни стало обратить его внимание на мальчика, она толкнула его, но он по-прежнему не понимал, чего от него хотят, и снова она шептала-шептала, и даже как будто засмеялась.
Этот шёпот был о мальчике, о том, чтобы загнать его домой, гордость мальчика для этой женщины была ничто, не существовала. Этого победителя-трудягу мать посылала растоптать маленькую мальчикову гордость… Мальчик возненавидел предательский шёпот и смех этой женщины. «Шепчешь там ему в самое ухо, — надулся мальчик, — шшитаешь… шшитаешь, што одна ты на свете и есть».
Переступив одной ногой порог, отец стоял в дверях, и от спины его поднимался пар. На счастье мальчика, отец не понимал, чего хочет эта женщина. Если бы понял, и пришёл, и слегка подтолкнул мальчика к дому или если бы даже не подошёл к мальчику, а только бы шагнул к нему, мальчик тут же повиновался бы, пошёл бы в дом и возненавидел отца, в мыслях мальчик уже подчинился и уже возненавидел его и его тяжёлое присутствие, которое, как нога вола, вот-вот должно было растоптать слабый росточек мальчиковой гордости… но мальчику повезло: окаменев, отец стоял в дверях, и от его спины поднимался пар, потом отец зашёл в дом.
— Отец твой зовёт тебя, — сказала мать.
На что мальчик ответил:
— Зовёт, так и иди.
— Тебя ведь зовёт, — сказала мать.
— Не зовёт, — сказал мальчик, — поди скажи, чтоб позвал.
Эта женщина молчала, она, может, сожалела о своём предательстве, а может, и не понимала, что плохо поступила, словом, она вдруг взбунтовалась:
— А что же, я виновата, что ты грамотный, а я нет!
— Отправь корову в Дзорагех, а потом поди пригони обратно, — сказал мальчик.
Девчушкино лицо снова возникло за стеклом.
— Долго мне тебя ждать? — спросила мать.
Мальчик решил оглохнуть.
— До каких пор будешь стоять тут, скажи, чтобы знала, — сказала мать.
Мальчик не ответил.
— А чахотку схлопочешь, что я тогда буду делать? — повысила голос мать.
Мальчик попятился, ещё попятился, но голос этой женщины всё равно доносился, в дом она, видно, уходить не собиралась.
— Всё, всё, всё, начиная с платья, всё из-за тебя, — вспыхнул мальчик.
— Чтоб ты подох! — крикнула эта женщина, но в дом всё равно не ушла. Она отвела калиточку, прошла вперёд и растерянно остановилась, и в это время мальчик сказал:
— Оставлю всё и уйду отсюда.
— Сено тащить не твоё было дело, — мирно сказала мать.
— Моё.
— Тоненький, как былинка, ребёнок, — сказала она. — Не твоё.
— Да, — мальчика прорвало, — а этот человек — батрак ваш, раб, идите, добивайте его, ешьте!..
— Пусть будет аферистом, как другие, пускай не мучается, я не виновата, — рассердилась мать, но в ту же минуту пришло спасение.
Тётка Шушан спасла мальчика. Она вышла из-за дома как-то сразу, неожиданно. Видно было, что стояла, прислушивалась к спору матери и сына и поняла, что и в этом доме, где есть хозяин, имеются свои нелады, и была своему открытию весьма рада.
— Ануш, милая, — сказала она вроде бы даже просительно, — вашу добычу вам принесла, ощипала, выпотрошила, принесла вот. Свинью когда разделаете, вспомните про нас, а нет, так и нет, с вами ваша совесть, хотя совести у вас, сколько я знаю, нет.
Но не в гусе было дело, если б только гусь, отдала бы его и ушла, не заходя в дом; она хотела отца мальчика видеть: её муж был другом мальчикова отца, когда-то давным-давно, в славные времена стояли небось возле изгороди усталые, переговаривались, перед тем как разойтись по домам, поджидая мужа, она со своего двора слышала их голоса, но слов не различала и почувствовала тоску по тому летнему и тёплому вечеру, полному усталости, и захотела войти в дом к мальчику и понять, как это случилось, что был муж и нет его… О том вечере она бы не стала говорить и просить мальчикова отца починить её развалившуюся дверь тоже не собиралась, она не поглядела бы даже толком ему в лицо, даже в сторону тахты, куда он прилёг отдохнуть, она бы не посмотрела; она бы замялась, как маленькая растерявшаяся девочка, встала бы у стены, потупившись, а Грайр и девчушка разглядывали бы её от своего окна. Вот так бы она постояла немного, на отца бы мальчикова не взглянула бы, не расслышала бы, что он ей говорит, пожалуй, только его дыхание бы смутно уловила и то, как от него пахнет, и убежала бы вдруг в слезах, сорвавшись с места, словно её в этом доме обидел кто. А пока она стояла перед дверью этого удачливого дома и, как милостыню, разрешения спрашивала у счастливой мальчиковой матери.
Мать силой втолкнула её, провела в дом, словно Шушан сама того не хотела. Лицо девчушки отодвинулось от желтоватого окна. Из дома Данеланцев вынесли малого ребёнка пописать и подбодрили его: какой он, дескать, храбрый, от одного только его голоса и волки, и медведи замерли в своих логовах, а ну-ка пусть он крикнет… крикни-ка разочек… Пронзительный крик ребёночка ударился об чрагтатовскую чащу и воротился эхом назад, а потом остались на свете молчаливые звёзды в небе и озябший мальчик.
Из хлева доносился горячий храп, к окну снова приплюснулось девчушкино лицо, за чрагтатовским лесом упала звезда, и на свете остался один только мальчик.
Тётка Шушан пулей выскочила из их дома, она забыла про мальчика, что он на улице, и громко чертыхнулась: «Чтоб тебя, муж у меня, говорит, есть, не говорит небось, что развалина, — и пошла, быстро-быстро, снег поскрипывал под её ногами, она спустилась в овраг и, не успев ещё дойти до своего дома, уже затосковала по всему, что видела: — Чтоб твою счастливую головушку».
На мгновение окно потемнело, мать, значит, горячей воды налила в корыто, чтоб ноги отцу помыть, и окно охватило паром. Девчушки больше не было видно, наверное, спустилась с тахты и крутилась возле корыта, — может, мать разжалобится и позволит, чтобы дочь помыла отцу ноги. Вдовые женщины приходят посмотреть на этого мужчину, все в доме хотят мыть ему ноги, женщины на зимовье с сожалением увидели, что он кончил чинить ворота, уже прилаживает их, сейчас уйдёт, значит.
Потом мать вынесла грязную воду, выплеснула её и молча вернулась в дом. Лицо девчушки снова объявилось за стеклом, которое снова немного потемнело. Ага, на середину стола, значит, в большую зелёную миску вывалили дымящуюся, сваренную с солью картошку и сверху посыпали сушёным тимьяном. Грайр, конечно, уставился на разваренную, почти рассыпающуюся картофелину, если отец не возьмёт её, Грайр всё равно не возьмёт тоже, потому что подумает, что отец специально для него её оставил, так они и будут оставлять её друг для друга, так никто и не съест эту картофелину — ни мать, ни девчушка, ни Грайр, ни отец.
В далёких ущельях, тех, что за Чрагтатом, а может, внутри у мальчика провыл волк, поведал о пустом желудке и одиночестве. Долго и горестно выл. Замолчал. Подождал и снова провыл над холодными безлюдными пространствами. Он не стеснялся, свой зов голодного одиночки он посылал другим таким же голодным одиночкам. Потом от Кошакара к Чрагтату и от Чрагтата к Касаху должен был прогреметь их мощный хор голодных одиночек… А-у-у-у-у-у-у, — сказал про себя мальчик и прислушался, знал потому что: сейчас откуда-нибудь донесётся это — ауууууу…
Эта старая усталая земля под Млечным Путём от холода пошла трещинами, каждый выполнил свой долг перед другим и теперь в своём маленьком очажке лелеял свой маленький союз.
Окно замёрзло, и даже дыхание девчушки — будто бы тайком от матери и отца — бессильно было растопить быстро затвердевающий лёд, и девчушкина ладошка уже не расчищала мутное стекло, на стекле оставался только маленький чистый кружок, который быстро уменьшался и делался мутным, и девчушкин ноготок, будто бы тайком от матери, не сколупывал больше иней. Девчушка вглядывалась в кружочек, и снаружи к её глазу приближался чужой мутный глаз, она с трудом удерживалась, чтобы не закричать от страха, с трудом вспоминала, что это её собственный глаз, отражение, и тут же про всё забывала.
Мальчику она мешала. Мальчик, его худая спина, всё существо его давно уже знали: как заговорённый, незаметно для себя самого он очутится возле отцовой вязанки в сеннике и, прикорнув, задремлет в отцовском тепле. Мысленно мальчик уже был там, уже прижимался спиной к сену, но девчушка мешала, не давала ему уйти, и он удерживал себя на улице ради девчушки.
Жизнь сделала своё. Обманывая самого себя, мол, сестричка всё равно уже его не видит, понимая, что обманывает себя, и снова уговаривая себя и не поддаваясь этим уговорам, он как-то забыл и про сестричку и про самого себя и вдруг увидел, что стоит на пороге сенника и что его рука и колено толкают дверь. Дверь не была заперта на задвижку, будь она закрыта на задвижку, мальчик бы и тут простоял вечность, но дверь распахнулась перед ним с тяжёлым прерывистым скрипом… пусть дома слышат этот скрип, пусть успокоятся.
В темноте мальчик задел салазки. «А ну тебя», — мальчик отшвырнул салазки ногой. Потом мальчик стоял возле сена, прижимался к нему и ждал, когда согреется. Он не сразу понял, что сено отца успело остыть. Мальчик увидел, что кружит вокруг сена, ищет, куда бы приткнуться, и всхлипывает без слёз. «Тише, ни звука, ни звука, — приказал он себе, — тихо».
Тёплое дыхание скотины ударило ему в лицо, и он понял, что входит в хлев. «Если ты человек, не ходи туда», — сказал он себе, но вошёл и с ног до головы окунулся в тепло. Мысленно он ещё ссорился с сеном. «Не хочешь согреть, и не надо», — говорил он вязанке.
Поверх перегородки на него смотрели молчаливые глаза козы, из складок жира, из дрёмы и довольства умиротворённо хрюкнула свинья. Свинья, значит, ещё была, ереванский жулик, который то и дело облизывал губы и улыбался, ещё не объявился и не обманул их, не наплёл, что он прямо из банка, что в декабре 47-го деньги не поменяются, он ещё не дал отцу пачку старых, никому уже не нужных бумажек и не унёс их свинью и щедро, не переставая улыбаться, не кинул матери старую кожанку, наврав, дескать, её красный комиссар в своё время носил. «Износу не знает, — сказал ереванский жулик, — намажешь салом, как новая будет». За эту пачку денег в селькопе им дали кусок мыла и кило сахару. Но что же в таком случае было надето на отца? Отец, нет, не раздетый был, когда пошёл через снег, чтобы срезать граб, и когда стоял на солнце перед тем, как им расстаться, и когда снял с себя вязанку и зашёл в дом, засыпая на ходу, он не был раздетым, вовсе нет, на худощавой широкой спине отца была какая-то одежда… не шинель солдатская, отец вернулся с фронта в летней военной рубахе, ни на себе, ни в карманах ничего с войны не принёс, одни только свои большие руки да высоко вздёрнутые плечи…
Коза. Свинья. Третьим существом в хлеву была корова, четвёртым — телок, пятым — мальчик. Ещё телёночек в животе у коровы. Мальчик пробрался и устроился между телком и коровой, он ткнул ноги телку под живот, и телок вздрогнул и поёжился от холода, спиной он прижался к корове, руки сунул себе под мышки, и в это время тот, который был ещё в животе матери, шевельнулся. Он совсем уже обжился в животе матери, мать принадлежала ему безраздельно, он играл в животе матери, а рядом были — грелись и задрёмывали — мальчик и бычок. Корова повернула голову, принюхалась и позволила, чтобы так оно и было. У мохнатого большеголового серого бычка в верхнем углу хлева было своё собственное место и своя привязь, но он не любил это место и, сорвавшись с привязи, приходил, ложился рядом с матерью. Дома думали, что он тайком потягивает молоко у матери, но он не сосал мать, просто ложился рядом с матерью, которая уже не его была, а того, другого, что в животе у неё сидел, и всё же его тоже. О ленивом, большеголовом этом, лохматом бычке, который любил тереться лбом о ноги мальчика, отец говорил, что он вырастет и станет красавцем, а мальчик никак не мог себе этого представить. От бычка пахло серой. Мешаниной из масла и серы мальчик сам смазал ему лоб и за ушами помазал, потому что это он, мальчик, заметил, что у бычка какая-то чесотка, потом в школе от его рук пахло серой, и математичка поморщилась однажды, почувствовав это.
Бычок был в их хлеву, лежал рядом с их коровой и думал, что он их бычок, и брат с сестричкой тоже думали, что это их бычок, но он не их был. Однажды осенью бычка повели к конторе и заставили подняться на весы. Грайр тогда заплакал, но, оттого что кругом был народ, осёкся и замолчал, потом, когда они с бычком возвращались домой, он снова заплакал, и, поскольку брат плакал, подросток по имени Армо, Армик, Арменак Мнацаканян не позволил себе разреветься, но вдруг всё показалось ему безобразным, даже односельчане, которые ржали и скалили зубы, потешались над телками, и над их хозяевами, и над собой заодно… В мальчике росла злость к этим весам, на металлическом помосте которых дрожал их бычок, и в мальчике росло презрение к этому бычку, который дома, в хлеву рядом с матерью — спокойное и неторопкое существо, а оказавшись на весах, чуть не дух испускал на виду у всего честного народа. Бычка взвесили, ровно 75 килограммов весил, его верёвку кинули мальчику. «Ну что стоишь кислый, пошевеливайся давай». Но почему-то после всяких подсчётов-расчётов бычка не погнали на бойню. Точнее, председатель колхоза, улыбаясь, поскольку думал, что надувает инспектора, дал для бойни быка в полтонны (500 килограммов) и взял обратно, уберёг семь бычков общим весом 500 килограммов, на один год вернув этих бычков их хозяевам, до следующих мясозаготовок. Одним из семи телят был этот. Следующей осенью его снова должны были водрузить на весы и погнать — в лучшем случае в колхозное стадо.
От коровы каждый год 75 килограммов мяса берут, то есть по телку, который рождается с болью, за которым смотрят и ходят с любовью, и девчушки к его хвосту ленту привязывают, а мальчишки ему на шею колокольчик вешают, и вот осенью его отрывают от коровы и от детей. И это больно…
Так что телок, в общем-то, не мальчика был.
А вот коза его была, коза — да: когда в последний раз приходил инспектор и вот-вот должен был пройти в хлев, мальчик прополз в хлев раньше него и шапкой закрыл козе глаза. И коза не мемекнула и — уцелела.
Его — это быть рядом с козой, с телком, деревом, коровой. Быть здесь.
Абрикос. (армян.)
(обратно)Стихотворение Ованеса Туманяна «Зелёный братец». Перевод Б. Ахмадулиной.
(обратно)Мутака — продолговатая, круглая, как валик у дивана, подушка.
(обратно)Стихотворение Ованеса Туманяна «Взятие крепости Тмук». Перевод В. Карпа.
(обратно)

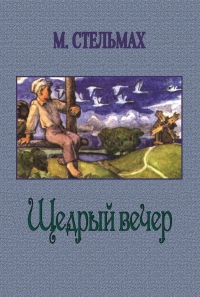
Комментарии к книге «Тогда, зимою», Грант Игнатьевич Матевосян
Всего 0 комментариев