Владимир Алексеевич Солоухин (1924-1997) Славянская тетрадь
ЭТЮД ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
С Болгарией мне как-то не повезло. Сейчас постараюсь объяснить, в чем дело. Дело-то, собственно, в том, что не было страны, в которой мне так же сильно хотелось бы побывать, как в Болгарии. Всему причиной скорей всего болгарские друзья, учившиеся вместе с нами в Литературном институте. Они так красиво, так вдохновенно рассказывали нам о своей Болгарии, пели такие задушевные песни, что не могли не растрогать, не заразить и нас.
Однако первая моя поездка была не в Болгарию… Проплывая мимо болгарских берегов, пароход остановился на полдня в Варне, и нам разрешили сойти на берег. С какой жадностью вглядывался я в каждое болгарское лицо, в каждый болгарский дворик, в каждую вывеску на магазине. Особенно взволновали меня пропыленные автобусы. Они брали пассажиров, чтобы увезти их в глубину болгарской земли, в какие-то деревни и города, неведомые, как бы даже сказочные и оттого еще более страстно манящие.
Действительно, сесть бы сейчас в автобус и ехать я бродить по прекрасной земле, среди радушных прекрасных людей: виноград, молодое вино, кукурузные желтые лепешки.
Помнится, я даже написал тогда стихи о своей мимолетной встрече с Болгарией, настолько мимолетной, что в стихах я вовсе, хотя бы и на несколько часов, не вступаю на болгарскую землю, а смотрю издали.
Вдоль берегов Болгарии прошли мы, Я все стоял на палубе, когда Плыла, плыла и проплывала мимо Ее холмов прибрежная гряда. Волнистая – повыше и пониже, Красивая, не надо ей прикрас. Еще чуть-чуть: дома, людей увижу, Еще чуть-чуть и… не хватает глаз. Гряда холмов туманится, синея, Какие там за нею города? Какие там селения за нею, Которых я не видел никогда? Так вот они, неведомые страны! Но там живут, и это знаю я, Мои друзья – Георгий и Лиляна, Димитр и Блага – верные друзья. Да что друзья, мне так отрадно верить, Что я чужим совсем бы не был тут. В любом селе, когда б сойти на берег, И хлеб, и соль, и братом назовут. Ах, капитан! Торжественно и строго Произнеси командные слова. Привстанем здесь, пред дальнею дорогой, В чужой Босфор легко ли уплывать! Корабль идет, и сердце заболело, И чайки так крикливы надо мной, Что будто не болгарские пределы, А родина осталась за кормой. Вдоль берегов Болгарии прошли мы, Я все стоял на палубе, пока Туманились, уже неразличимы, Быть может, берег, может – облака…Вторая встреча была еще мимолетнее. И тоже с парохода. Мы плыли тогда по Дунаю из Будапешта в Измаил и остановились в болгарском городе Русо.
Наконец, в 1956 году мне предложили в одном иллюстрированном журнале поездку в Болгарию на целый месяц, а я как на грех собрался идти пешком по родной владимирской земле, не ради прогулки, разумеется, а ради дела. К походу готовился всю зиму, сидя в Ленинской библиотеке, и откладывать его не было никакой моральной возможности – пришлось переложить на осень поездку в Болгарию.
После владимирского похода меня на две недели послали на целину, да еще неделю я писал целинные очерки (а владимирский-то материал лежит и остывает, как железо, вынутое из горна и положенное на наковальню).
После целины наконец произошла долгожданная встреча с Болгарией.
Как сейчас помню, маршруты всех поездок по Болгарии составлял для нас (для меня и для фотокорреспондента Н. Козловского) замечательный болгарский поэт, этакий патриарх болгарской поэзии, седовласый красивый старик Ламар. Он пешком исходил всю свою родину и знает каждый уголок, каждую тропинку. На составление маршрута он попросил три дня.
Через три дня несколько страниц плотного печатного текста были у нас в руках.
– Ну вот, – шутили болгарские друзья, – то, что Ламар сумел увидеть за шестьдесят лет, вы теперь должны будете объехать за две недели.
В ламаровской разработке имелись даже и примечания. Так, например, в пункте о городе Казанлыке значилось: «Тука сидит Чудомир». В спешке мы не успели тогда заехать в Казанлык, и Чудомир остался для меня загадкой, прямо-таки таинственной личностью. Лет пять спустя около гостиницы «Украина» в Москве увидел я автобус с болгарскими туристами, услышал болгарскую речь, подошел, чтобы разговориться. Первым болгарином, к которому я обратился (высокий, худощавый старик), был Чудомир из Казанлыка. Ничего таинственного в нем не было, он оказался юмористическим писателем и большим приятелем Ламара.
Впопыхах, смотря на все глазами тонкого иллюстрированного журнала (а владимирский-то материал лежит, остывая, как железо, вынутое из горна, и положенное на наковальню), проехали мы всю Болгарию, побывав и в Родопах – на родине Спартака, и на Балканах, и во Фракийской низменности, и в Рильском монастыре… По горячему следу я составил план будущих очерков, чтобы хоть как-нибудь разложить по порядку сумбурные, одно на другое нагромоздившиеся впечатления. План по случайности сохранился.
1. Первые впечатления. Центр Софии. Двадцать четыре пункта. Гостиница и экран.
2. Партизанское шествие.
3. Правительственный прием и вопрос с автомобилем.
4. Улица Ивана Аксакова.
5. Маршрут Ламара. Бай Кристю и ковшичек. Витоша и скалы.
6. Город Димитров. Первая домна. Стамен Монасиев. Шопы. Канатная дорога на цементный завод. Разговор с крестьянками. Красивые ли русначки в Мариуполе?
7. Яблоки и плодохранилища. Священник на ослике. Как сушить яблоки.
8. Рильский монастырь. Монах-филателист.
9. Якоруд. Помаки и Помачки. Консервация расы, языка, обычаев.
10. Язовир Васил Коларов и каскад.
11. Велинград и история партизана. Баня. Табак. Живица. Смолокурня. Военная тайна.
12. Пловдив. Международная выставка. Смешение языков. Извозчики.
13. Перуштица. Первенец и его председатель.
14. Родопы. Родина Спартака. Райково и ресторан с музыкантами. Холодно.
15. Рудозем. Шахта и фабрика. Помаки.
16. Димитровград. Сварщик. Станка из Димитровграда.
17. Дорога в Старую Загору. Перец. Ярмарка. Цены на ишака и лошадь.
18. Бургас. Осенние пляжи.
19. Созополь. Рыбаки и частники.
20. Ропотамо.
21. Котлинские ковры. Основатель музея.
22. Тырново. Улочки. Раскопки на Царвеце.
23. Ночлег в Троянском монастыре. Пиротехника и горшки.
Вот какие были благие намерения. А владимирский-то материал все лежит и все больше и больше остывает. Пока он не совершенно остыл, нужно было ковать. Я и начал ковать и ковал несколько месяцев без передышки и назвал то, что получилось, «Владимирские проселки». И не жалею о том, что ковал. Зато, когда кончилась горячая работа, и немножечко отдохнул (надо было ведь немножечко отдохнуть) и пошел ворошить болгарские записки и планы, было поздно. Глазами вижу – написано: «Язовир Васил Коларов и каскад». Знаю, можно вычитать про этот каскад в какой-нибудь книге, уточнить, оживить, вспомнить. Или ярмарка, или первая домна. А перо, как все равно онемело, одеревенело, не хочет двигаться по бумаге. Материал умер, ороговел. Горячие капилляры больше не достигали ороговевших клеток. А жаль, правда, жаль!
Например, вижу в плане двадцать четыре пункта. Так ведь это вот что за пункты: Лиляна Стефанова – болгарская поэтесса, прожившая пять лет в Москве, рассказывала мне двадцать четыре пункта пожеланий, то есть что бы она хотела посоветовать Москве на примере своей столицы Софии. Помнится, в одном из самых первых пунктов значилось: «Ввести униформу для кондукторов трамваев, троллейбусов, автобусов». Это пожелание, интересное само по себе, пожалуй, немного устарело. Теперь троллейбусы ходят все больше без кондукторов.
Или шел разговор о сладкарницах. Это такие заведения (в Болгарии они на каждом шагу), открывающиеся в пять часов утра, где можно быстро, дешево, вкусно и питательно позавтракать. В продаже главным образом молоко и сласти. Но молоко в разных видах: и «млеко кисло», и «млеко пресно», и горячее, и холодное, и по-всякому. То же и сласти. Главное же – буза. Этакий густой, похожий на хлебную гущу, действительно хлебный напиток, какой-то уж очень повышенной калорийности и полезности. Дешевый. Безалкогольный. Вкусный и сытный. Его пьют и дети, и старики, и молодежь. Пуще же всего кормящие матери. Представляете теперь, сколько всего полезного было бы во всех 24 пунктах Лиляны Стефановой!
Что резко врезалось в мою зрительную память и держится до сих пор, так это партизанское шествие.
Мы стояли на гостевых трибунах, слева от мавзолея Георгия Димитрова, и, приподымаясь на цыпочки, старались то поверх голов, то в просветы между головами смотреть на происходящее. Впрочем, старались мы только первое время. Внимание вскоре ослабло. Ну, парад как парад. С протяжными командами, с перекатистым ура, с отчаянным битьем подошвами о жесткую брусчатку, с жуткими линиями чуть подрагивающих штыков. В общем, все как на Красной площади. Случалось нам и самим проносить помянутые штыки мимо нашего ленинского Мавзолея.
Вот пронеслись над центром Софии реактивные истребители. Вот проскрежетали танки, вот проехали мимо молчаливые пушки.
Сейчас должна по идее начаться демонстрация. Колонны нарядных людей с лозунгами, транспарантами хлынут на площадь. Наступила пора прислушаться, не доносится ли отдаленный гул праздничной толпы, но все было тихо слева. Площадь опустела, подготовив себя для чего-то нового, торжественного, необыкновенного. Вдруг, как порыв ветра по мокрой осенней листве, по гостевым трибунам прокатился рокот одобрения, дружный шум, а затем и аплодисменты.
Без всякого строя, вразброд, рассредоточась на пятнадцать-двадцать шагов друг от друга, не то ленивой, не то усталой походкой вступили на площадь люди. Они были одеты не по форме, как солдаты, и не празднично, как демонстранты. Один – в грубой брезентовой куртке, другой – в рубахе с засученными рукавами, третий – в лыжном костюме… Преобладали в одежде защитные тона, и даже были костюмы, разрисованные пятнами камуфляжа.
У некоторых болтаются прицепленные к поясу гранаты, у некоторых из-за пояса торчат пистолеты. Свое оружие эти люди несли тоже кто как, но больше всего наперевес, в правой, опущенной вниз руке. На головах у некоторых были пилотки, у некоторых – береты, а некоторые были и вовсе простоволосы.
Шли и пожилые люди, и юноши, и молодые женщины.
Время от времени и тоже вразброд люди поднимали оружие – винтовку, карабин или автомат – и, потряхивая им над головой, приветствовали таким образом стоящих на Мавзолее руководителей государства.
Постепенно я понял их походку. Она была вовсе не ленивой. Она была независимой, полной достоинства и глубокой сдержанной силы. Это шли хозяева города, победители, шел народ. Нет боязни, что собьешься с ноги или потеряешь строй. Нет и стремления как можно выше поднять ногу, как можно сильнее ударить ей о брусчатку, как можно резче повернуть голову в сторону генерала. Идет себе пожилой человек, идет под тысячами глаз, идет, как ему удобно, как ходил он по тайным балканским тропам. Оружие при нем. Он поднимает его для приветствия. Идут его друзья. Их много. Они в редком шахматном порядке заняли всю площадь. И если любую воинскую часть можно одной командой повернуть направо, налево или даже кругом, то как повернешь этих людей, каждый из которых есть отдельный характер, отдельная личность, а все вместе они объединены идеей, они – сила, партизаны, в конечном счете народ.
…Смотришь теперь, спустя восемь лет, на план ненаписанной книги, и не всегда даже вспомнишь, что означает та или иная фраза. Например, я долго недоумевал, к чему у меня записано: «Красивые ли русначки в Мариуполе?»
Потом-то вспомнилась яблоневая (как если бы в райском саду) дорога. Груды яблок по сторонам. Ветви, отягощенные плодами. Яблоки падают прямо на асфальтированное шоссе и раскалываются при падении. Иной раз яблоко стукнется о верх машины или упадет на капот. Сады одной деревни сливаются с садами другой, охватывая всю Кюстандильскую котловину. Ни заборов, ни сторожей, ни собак, ни воришек. Груды яблок, яблони, осыпанные плодами, асфальтовое шоссе, пробегающее через грандиозный, на десятки километров раскинувшийся сад.
Мы подошли к крестьянкам, убирающим яблоки, и разговорились. У одной молодой болгарки (надо ли говорить, что у нее черные большие глаза, черные волосы и яркий румянец сквозь смуглую кожу) муж уехал в Советский Союз, в Мариуполь, не то на практику, не то на курсы по сталелитейному делу. И вот уж живет там, в Советском Союзе, третий месяц. Болгарка, вроде бы шутя, но с затаенной тревогой раза три переспрашивала у нас: красивые ли русначки в Мариуполе? Мы постарались убедить ее, что рядом с ней померкнет любая русначка. Но не знаю, добились ли успеха, потому что, когда прощались, она еще раз захотела уточнить: светло-русые ли русначки живут в Мариуполе или тоже все больше темные, как здесь, в Кюстандильской котловине?
Или вот еще два слова: «Собиратель музея». В городе Котеле попали мы в необыкновенный музей. Народный учитель Василий Георгиев (когда мы были, ему исполнился 81 год) еще в молодости увлекся собирательством. Страсть собирательства у него не сузилась до одного, целенаправленного, так сказать, пучка или луча, когда человек собирает либо марки, либо старинную утварь, либо живопись, либо мало ли еще чего.
Василий Георгиев собирал все. Насобирал в конце концов столько, что коллекцию пришлось оформить как городской музей, и теперь все это доступно для обозрения. Василий Георгиев в музее директор.
Ископаемые наконечники стрел и копий, тысячи насекомых, гербарии, грандиозная коллекция птичьих яиц, сотни чучел птиц, рыб и животных – вся местная фауна, образцы горных пород и руд, то есть попросту камни, подобранные в окрестных горах.
Особую линию занимают всякие несообразности и отклонения от нормы. Тут собирателем владела психология кунсткамеры, и он шел у нее на поводу.
Ягненочек о двух головах, ягненочек о восьми ногах. Цыпленок о двух головах, галка о трех ногах, крыса о двух хвостах… На совсем особом месте стоит плавающее и спирту женское сердце, пронзенное широким кинжалом.
Дело в том, что все женщины в Котеле раньше были заняты ковроделием. Мужчины же, напротив, уходили па всю зиму с отарами овец к морю. За долгие зимние месяцы, значит, появлялись, накапливались поводы для мужской ревности. В результате – пронзенное ножом сердце в музее Василия Георгиева.
О внешности собирателя у меня записано в старой тетради: «Седой ежик». Значит, в то время мне хватило бы этой детальки, чтобы восстановить весь облик человека. Теперь этот «седой ежик» для меня пустые, мертвые слова. Ничего не вижу я за «седым ежиком».
Все же поездка у меня была – не развлечение, а, напротив, деловая командировка, и я должен был кое-что обязательно написать по горячему следу. Я записал несколько встреч с людьми разных профессий на дорогах Болгарии. Всего получилось 10 зарисовок.
Для того чтобы закончить с этой поездкой и чтобы можно было получить представление о характере зарисовок, я рискну возвратиться хотя бы к трем из них.
СТАМЕН СТРОИТ ДОМНУ
Болгар, живущих по деревням вокруг Софии, зовут шопами. Это не племя, конечно, как не племя наши, например, пошехонцы. Но так же, как у пошехонцев, есть у шопов в характере черточки, которые выделяют их. Прежде всего, шоп во всем сомневается. Если ему предлагают какую-нибудь переустройку, он дольше других будет скрести в затылке и прикидывать, что к чему. Но это не из осторожности: все скажут, что шопы храбрые солдаты. Шоп сделает такой вид и так поведет себя в разговоре, что подумаешь сначала: а может, у него не все дома? Но вскоре заметишь, как светится в глазах яркий огонек лукавства и смекалки. У шопов с прочим населением установились иронические отношения. Большинство болгарских анекдотов о шопах. «Увидел шоп еще в старое время царского министра в высоченном цилиндре и спрашивает, с удивлением показывая на цилиндр: «А там у него всё голова?»
Если же придется вам обедать в болгарском ресторане, спросите салат по-шопски. Когда вы отправите в рот первую порцию, в затуманенных глазах ваших сразу встанет шоп в черной бараньей шапке. Он будет лукаво улыбаться, спрашивая: «Ну, каково?» Оказывается, в помидоры вам с чисто шопским остроумием настругали самого лютого красного перца.
При всем том добродушном юморе, с которым воспринимались шопы болгарами-горожанами, был, наверное, и элементик превосходства в отношениях к ним. Ну, точь-в-точь как у нас раньше к упомянутым пошехонцам. Вот почему было несколько неожиданно для нас впервые познакомиться с шопами не за плугом, не за пастьбой овец, а на строительстве первой в Болгарии доменной печи.
Шоп предстал перед нами в виде мужчины лет тридцати пяти – рыжие усики, нос с горбинкой, защитная кепка, сбитая на затылок.
– Вот это он и есть. Стамен.
– Да, мы есть Стамен, – и мужчина с рыжими усиками по-хозяйски гостеприимно перевернул валявшийся тут ящик более чистой стороной. – Садитесь.
Интервью наше началось.
– Мы из села Побиткамень, – охотно отвечал Стамен. – До Югославии от нас чуть подальше, чем вон до прокатного цеха. Земля наша тонкая, а под ней песок, родится только рожь. А всего ее, земли-то, у отца четырнадцать декаров. На четырнадцать декаров восемь ртов. Многовато. И пошли мы, значит, работать на сторону.
Нужно понимать, что одни Стамен пошел, потому что шопы говорят о себе во множественном числе.
– Сколько же лет было вам?
– Да уж пятнадцать. Младшие мы в семье. Ну, а строительстве сначала известку таскали, кирпичи, доски. Год таскали, на второй взяли в руки молоток. Госбанк в Софии кто строил? Мы. Телеграфную палату тоже мы. Концертный зал «Болгария» после бомбежки – тоже мы. Только нашей работы не видно.
– Как так?
– А так. Положит каменщик кирпич, и лежит тот кирпич на месте. Через десять лет приходи его поглядеть, он все лежит. А мы опалубщики. Городим, городим, колотим-колотим, а потом зальют нашу городьбу цементом. Сами же мы ее и ломаем, и остается работа каменщика, бетонщика, цементщика, а нашей совсем не видно.
– Но здания-то стоят, тот же Госбанк.
– А как же?! ТЭЦ вон стоит, дымит, это посерьезней всех госбанков с телеграфными палатами. На ТЭЦ мы впервые к индустрии приобщились.
– Все говорят, что ваша бригада очень дружно работает. И вот уж десять лет никто ее в Болгарии обогнать не может. От чего это зависит? От вас, бригадира, или, может, люди подобрались?
– Что ж, и люди. В сорок шестом году бригада наша образовалась. Она, конечно, то побольше станет, то уменьшится. Но ядро в ней постоянное и твердое.
– Кто же в этом ядре?
– А мы там, шопы. Три моих брата, два зятя, двоюродный брат, шурин, свояк да земляков человек шесть. Теперь посудите, можно ли нас обогнать.
Пожалуй, это был тот редкий случай, когда семейственность со стороны бригадира пошла на пользу делу, а не во вред ему.
– А здесь, на комбинате, ваша бригада давно работает?
– Приехали мы сюда на грузовике, а вокруг не то что стены какой, забора и то не было. Вон там, где мартеновский цех дымится сейчас, один старик овец пас, поправее кустики были. Нашей бригаде поручили заложить первый камень.
– Ну и как?
– Заложили, а чего не заложить, мы – люди привычные. И вот сколько здесь зданий видите вокруг, на каждом из них наша бригада побывала. Сначала жилые дома, потом гараж, потом цеха: мартеновский, прокатный… – И тут Стамен неожиданно рассмеялся.
– Вы что?
– Да как же. Рассказываю отцу, что дом построил, который семнадцать декаров земли занимает, а отец не верит. Ведь у него все поле четырнадцать декаров. Приехал смотреть. Шагами мерил. И так постепенно дошли мы до домны, – и Стамен показал туда, куда смотреть нужно, придерживая шапку на затылке, а то упадет. Там наверху, в причудливых переплетениях стальных конструкций виднелись уменьшенные расстоянием портреты Ленина и Димитрова.
Пока мы разговаривали, «железное ядро» бригады: братья родные, да брат двоюродный, да зятья, да шурин, да свояк, да земляки, – все собрались вокруг. Видя, что беседа наша кончается, что мы уходим, бригада зашумела. Члены бригады напали на своего бригадира:
– А ты почему молчишь о том, как Героя получил? Почему не рассказываешь, как в Москву ездил?
– Ах, вы и в Москве были? Расскажите, что вам больше всего понравилось?
И когда про себя я уже стал гадать, что же назовет он: Третьяковскую галерею, Кремль, университет, Большой театр, Сельскохозяйственную выставку, ГУМ, Садовое кольцо или, может быть, улицу Горького, – Стамен ответил:
– Больше всего нам в Москве понравилось крупноблочное строительство…
РАССКАЗ МОЛЧАЛИВОГО ПОПУТЧИКА
Время от времени машину нашу останавливали прохожие с просьбой подвезти их немного. Мы были рады этому: каждый новый человек что-нибудь да расскажет. Первый пассажир подошел к нам, когда мы все (а нас было пятеро) высыпали из машины посмотреть и, может быть, сфотографировать на память священника в длинной черной одежде, под черным зонтиком, едущего верхом на осляти.
В автомобиле стало не только тесно, но и шумно. Пассажир болтал безумолку. В первые три минуты мы узнали, что ехать ему три километра, что работает он по производству пульпы, а ходил в село за деревянной пробкой. Тут он вынул эту пробку из кармана и показал ее каждому из нас.
– Что же это за пульпа такая?
– Мы режем яблоки, ого, сколько у нас яблок! Кладем их в деревянные бочки и заливаем таким раствором, чтобы они не портились, а то ведь их не успеешь съесть, и они сгниют. Вот сейчас подъедем, я покажу вам, как мы делаем пульпу…
Но тут выяснилось, что, увлекшись разговором, он на целых два километра проехал дальше своей деревни.
– Ну, ничего. То было три километра, а стало два. Зато вы знаете теперь, что такое пульпа. – И он весело помахал нам вслед.
Второй попутчик был молчалив и задумчив. Он был одет в зеленую стеганку, в зеленую фуражку и зеленые штаны. Все же удалось узнать, что работает он начальником снабжения в местном леспромхозе. Ну ясно, что интересного может рассказать начальник снабжения. Чаще всего у них не очень-то яркие биографии.
– Вот здесь меня и расстреляли, – произнес вдруг наш попутчик. – Видите холмик-могилу, это было здесь.
Значит, мы очень подозрительно посмотрели на парня после его слов, он смутился и замолчал снова. Местность, куда он показал, была такая: сразу у дороги кустарничек, потом крутой обрыв, а под ним где-то внизу река. За рекой поднимался в гору лес. Слишком заинтриговало нас внезапное и странное признание начальника снабжения, чтобы мы не попытались выспросить у пего, как же было дело. И что, собственно, означает фраза: «Вот здесь меня и расстреляли».
Петер, так звали парня, рассказывал долго и подробно. Суть же дела была такова.
Во время фашистского режима 1942 года семнадцатилетний юноша Петер Орозов, член рабочего молодежного союза, попросту говоря, комсомолец, работал связным. Его квартира была явочной квартирой. Здесь скрывались партизаны, зачем-нибудь спускавшиеся в город с лесистых гор. Петер приобретал и переправлял в отряды одежду, продовольствие. В полукилометре от города, в корне большого старого бука было дупло. Петер клал в дупло разные сведения: кто из товарищей схвачен, куда и как передвигаются жандармы, что они затевают и многое другое. Находиться в стане врага одному куда опаснее, чем в партизанском отряде. Нужно сказать, что Петер много раз просился в отряд, особенно, когда в мае 1944 года в город прибыла карательная экспедиция. Но партийные руководители говорили, что он здесь нужнее.
Однажды в четыре часа утра Петер Орозов был схвачен. Его отвезли в здание гимназии, где он когда-то учился. Там сидело уже человек 150 комсомольцев и членов партии. Как иногда случается, один из 150-ти не выдержал допроса и выдал товарищей. Выдал он, конечно, и связного.
29 мая (как было не запомнить это число!) в двенадцать часов ночи к арестованным вошли три жандарма. Один из них стал читать список: «Олен Кушев…» – и Олен Кушев, поднявшись с пола, встал на ноги. «Константин Кулин…» – поднялся и Кулин. «Константин Левинов…» Один за другим поднимались товарищи. Когда выкликнули Петера Орозова, тот стоял уже на ногах. Он все понял. Всего было выкрикнуто четырнадцать человек, таких же молодых, как и Петер, парней. Им связали руки и, кроме того, привязали друг к другу за руки, повыше локтя. Жандармский капитан произнес речь. Он говорил этим парням, что их обманули, что в Советском Союзе, на который они смотрят, все не так, как написано в книгах, что люди там умирают с голоду и что ему очень жаль бедных молодых людей. Священник тоже сказал несколько слов, в частности посоветовал проститься с гимназией, которая учила своих питомцев не тому, чем они стали заниматься.
После этого можно было понять, к чему идет дело. Но пока человек жив, он надеется. И люди надеялись, что, может быть, их просто переводят в другое место. По узкой дощечке, положенной наклонно, связанные пары поднялись в кузов автомобиля. Даже когда грузовик выехал из города и когда Петер стал шепотом предлагать соседу как-нибудь распутаться и в случае чего бежать, сосед все еще надеялся и говорил: «Наверное, только попугают». Говорят, что приговоренные к смерти надеются до последней доли секунды: а вдруг что-нибудь произойдет. Петер Орозов не надеялся, и в этом было его преимущество. Кое-как ему удалось о какую-то железку па борту кузова перетереть веревку. Ехали в темноте. Охранники ничего не замечали. В гимназии Петер не успел зашнуровать башмаки и теперь сбросил их. Потом автомобиль остановился. Людей стали выкидывать из кузова. Связанные попарно, они барахтались на земле. Их сводили к реке и разрешили последний раз напиться, а потом снова велели подняться на обрыв. Могила была готова. Жандарм подошел к каждому и электрическим фонариком проверил, у всех ли связаны руки. Петеру пришлось кое-как замотать веревку, чтобы обмануть жандарма. Солдаты подняли автоматы, и несколько человек закричали: «Смерть фашизму!», «Да здравствует партия!» – в это же мгновение Петер упал в яму. На него навалилось несколько человек. Теплое потекло за воротник. Кто-то заплакал. В нескольких местах (потом оказалось в четырех) Петер почувствовал тупое онемение: четыре пули задели его. Сейчас будут зарывать, нужно выбраться из-под низу. И он стал выбираться.
– Стой, есть живые! – раздался голос над самым ухом, и Петер увидел, что жандарм склонился над могилой. В мозгу сверкнула молния: раз у могилы жандарм, стрелять не будут. Петер почувствовал, что он кубарем катится с обрыва, попадая головой то на камень, то на колючий куст.
Сзади застрочили автоматы. Прожектор ударил совсем близко, осветив свежий пень, даже колечки на пне успел запомнить Петер. В мозгу сверкнула вторая молния: там, куда летят пули, не должно быть охранных постов, значит, бежать нужно по направлению пуль, и он побежал…
Через пятьдесят пять дней Петер нашел отряд. Он уже не мог идти или даже ползти. Так что правильнее – партизанский отряд нашел Петера. Пятьдесят пять дней без обуви, без хлеба, без оружия, с гниющими ранами… Нечем было поживиться и на полях: дело происходило в мае.
…Первым движением нашим было выйти и посмотреть братскую могилу, где остались лежать товарищи Петера. Но пока Петер рассказывал, мы, оказывается, уехали очень далеко от нее.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДАРКА
Когда один из пловдивских журналистов узнал, что мы собираемся побывать в селе Первенец, он усмехнулся и сказал:
– Между прочим, обязательно спросите у председателя, какой он послал в прошлом году подарок в Советский Союз и что из этого вышло.
В кабинете председателя сельскохозяйственного кооператива имени Георгия Димитрова было полно народу. Из северной Болгарии, с Дуная приехали делегаты из разных кооперативов посмотреть, поговорить с опытным и умелым руководителем, поучиться у него, а может быть, что-нибудь и подсказать. Разговор шел чисто деловой: сколько раз за лето опрыскиваются химикалиями виноградники, сколько винограду идет на экспорт, а сколько на переработку, какое есть в кооперативе животноводство, сколько парников, сколько торфяных горшочков. Так что уж из этих разговоров нам стало ясно, что кооператив очень большой, выращивается здесь виноград, табак, помидоры, перец, шпинат, кукуруза. Разводятся коровы, свиньи, овцы, птица, а также рыба.
Председатель, видимо, привык к посещению села разными делегатами, корреспондентами, туристами. Как только крестьяне вышли из кабинета и мы с председателем остались одни, он сразу предложил нам бумаги, сказав: «Вот здесь все контрольные цифры по хозяйству», – а сам занялся своими делами: начал звонить но телефону то в одно, то в другое место. Это был человек лет пятидесяти, с совершенно седым бобриком на голове и черными бровями и усами на смуглом мясистом лице. Стоит ли говорить, что из-под черных бровей глядели черные живые глаза.
– Хорошо, мы посмотрим и цифры, а вы рассказали бы нам о каком-то таком прошлогоднем подарке.
Лицо председателя сразу оживилось. Он лукаво подмигнул нам и велел бухгалтеру принести «дело о подарках». Через две минуты па столе лежала папка, открыв которую, мы обнаружили аккуратно подшитые десять-пятнадцать листочков. Но сначала о сути дела. В прошлом году, как только началась уборка винограда, председатель кооператива внес предложение – первый вагон отборного винограда послать в подарок рабочим Горьковского автомобильного завода. Кто-то из членов правления спросил: почему, дескать, именно на этот завод?
Председатель разъяснил:
– Потому на этот завод, что грузовики, выпущенные в Горьком, прекрасно работают на полях нашего кооператива. И (это же все знают!) оказывают нам большую помощь.
Сказано – сделано. Вагон ушел, но был где-то перехвачен экспортными организациями, которые еще чуть-чуть и направили бы его по обычной экспортной дорожке. Тогда в папке и появились первые документы – переписка с Плодэкспортом. Потом все затихло месяца на два, и вдруг… Вот оно, письмо, пришедшее через два месяца: «Болгария. Пловдивской области. Председателю объединенного трудового кооперативного земельного товарищества имени Г. Димитрова. От имени коллектива автозавода города Горького благодарим вас, дорогие товарищи, за теплые поздравления, теплые пожелания и подарок.
Желаем вам, как и всему болгарскому народу, больших успехов в благородной борьбе за построение социалистического общества. Посылаем вам для хозяйственных нужд объединенного товарищества два автомобиля ГАЗ-51.
Примите, дорогие товарищи, наш подарок, горячий привет и наилучшие пожелания трудиться на благо вашей родины».
Подписали письмо директор завода, секретарь партийной организации и председатель завкома.
Вскоре пришли и сами автомобили. Вот в папке квитанция, описательный лист, упаковочный лист. Кстати, пойдя на маленькое нарушение правил, горьковчане погрузили машины, уже заправленные бензином. Здесь первенецким водителям осталось нажать только стартеры, и грузовики своим ходом пошли в село.
– А больше никому вы не посылали подарков?– поинтересовались мы.
– Как же! После этого мы послали вагон помидоров в Чехословакию. Тоже на автомобильный завод. Письмо пришло еще быстрее, чем из Горького.
«Дорогие товарищи, друзья! Горячо благодарим вас за щедрый подарок – вагон помидоров. Надеемся, что этот подарок послужит дальнейшему укреплению дружбы между нашими братскими народами. С коммунистическим приветом… (подписи)».
– И все?
– И все, – засмеялся председатель.
Когда мы собрались уходить и прощались в дверях, председатель вдруг спросил у нас как бы невзначай:
– Вы не знаете, где делают МАЗы?!
– В Минске, конечно, потому они и называются МАЗы.
– Бухгалтер, запиши! В Минске! – И, обращаясь к нам, доверительно добавил: – Только боюсь вот, очень уж тяжелые эти МАЗы, пожалуй, не выдержат их наши мосты!..
* * *
Шесть лет спустя, в конце, значит, 1962 года мне посчастливилось снова съездить в Болгарию. При этом могло быть два решения – либо ехать по старому следу, по старому ламаровскому маршруту, все вспоминая, оживляя, сравнивая, узнавая, либо стремиться в новые, незнакомые для меня места.
И с точки зрения взгляда на вещи. Тогда, в первый раз, я, помнится, все больше лазал по лесам строек, по кирпичам и бетону, меня водили по цехам металлургических и азотнотуковых заводов, а также по шахтам и забоям.
Теперь, значит, можно было обратиться к чему-нибудь другому. Если я уж имею представление о чем-либо, зачем же я коротенькие деньки поездки буду расходовать на то же самое? В моем случае это, правда, немного эгоистично. Но если разобраться, тут вовсе нет никакого эгоизма, напротив, – хлопотливая забота о читателе. В конце концов заводы и шахты у разных народов больше похожи друг на друга, чем, к примеру, обычаи и песни тех же самых народов.
ЭТЮД ЛИТЕРАТУРНЫЙ
Маленький «Москвич» темно-вишневого цвета. За рулем – болгарский писатель (с военным уклоном), бывший партизан, имя которого известно в народе, – Станислав Сивриев. Он небольшого роста, круглолицый, чернявый, что естественно для болгарина, разговорчивый, хорошо говорит по-русски. Незначительные ошибки делают его речь всего лить более привлекательной, я бы сказал, более трогательной. Например, он вместо того чтобы сказать «не так уж много» пли «не та!; уж писатели, как художники», всегда говорит: «не уж так много», «не уж так писатели, как художники».
«Москвич» его собственный, водит он его отлично. Кроме того, уроженец Родопов, он превосходно знает и любит этот край. Значит, когда у Союза болгарских писателей появляется иноземный гость, обращаются к Станиславу Сивриеву. Если он свободен в это время, то дело улаживается быстро. Иноземный гость увидит Родопы так и с такой стороны, с какой не увидел бы, будучи туристом или если бы путешествовал один на своей машине. Станислав рассказывает:
– В последний раз со мной ездил по Болгарии Константин Георгиевич Паустовский. Он сидел там, где сидите вы, на этом самом месте. Ну а я, конечно, на своем – за баранкой.
Время от времени Станислав заводит разговор, который заставляет меня задуматься. Например:
– Вы знаете, когда мы ехали с Паустовским, он сказал: «Можете называть меня плохим писателем, можете называть меня тупицей, но не говорите, что я плохой рыбак. Этого я не прощу».
Немного погодя, снова:
– Паустовскому очень понравилось слово «шума». Так называют у нас, в Болгарии, осеннюю листву на деревьях. Константин Георгиевич даже несколько раз повторял вслух: «Шума, болгарская шума, шума».
Километров через десять – новый рассказ о Паустовском:
– Вы знаете, почему Константин Георгиевич не побывал в Родопах? Мы были в Созополе и собирались ехать в Родопы. Однажды ночью, около отеля, раздался женский крик о помощи. Паустовский, побежал. У дороги лежала женщина, видимо, с сердечным приступом. Она из магометанок, как потом выяснилось. Из подобострастия и раболепия побоялась будить ночью мужа и пошла в больницу одна. Естественно, что приступ по дороге усилился, и вот она в канаве.
Паустовский стремглав побежал в отель, в верхний этаж отеля, за валидолом. Лекарство он принес, но сам свалился в сильнейшем приступе асгмы. Вот почему он не побывал в Родопах.
Так и продолжалось весь первый день: «Паустовский сказал, Паустовский говорил, Паустовский рассказывал».
Вот я и задумался. Паустовский, конечно, яркая личность. Ревновать тут нечего. Но все же в следующий раз, если Станислав будет путешествовать с кем-нибудь по Болгарин, скажет ли он хоть однажды: вот здесь, мол, сидел Солоухин, Солоухин говорил, Солоухин рассказывал, у Солоухина была поговорка…
Как важно, как нужно, как хочется оставить после себя добрый след в человеческом сердце! И как это не просто…
ЭТЮД ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
Предстояло провести ночь в курортном местечке Помпорово, в первоклассном отеле, рассчитанном на летних иностранных туристов, а теперь, в поздние дни осени, совершенно пустом. Впрочем, кажется, и зимой съезжаются сюда любители горнолыжного спорта. А теперь вот – бессезонье, желтая болгарская шума, частые дождички, волглая земля, крепкие осенние запахи с явственной примесыо свежей прели.
Стемнело рано.
Бессмысленно было бы сидеть весь вечер в комнате. Я предложил Станиславу прогуляться. Тут еще новое дело. Пока мы разбирали чемоданы и умывались с дороги, на Помпорово вместе с вечерней мглой опустился туман. Он был настолько плотен и густ, что даже в темноте угадывалась, как бы слегка светилась сама собой его молочная белизна.
Место вокруг – горы, заросшие высокими елями, особенно не разгуляешься, тем более в гуманный вечер. Все же мы пошли по дорожке и отошли от гостиницы настолько, чтобы не просвечивало, портя ночь, ни одного огонька, не примешивалось к туманной горной ночи ни одного постороннего звука.
Мы присели на большой волглый камень у дорожки и стали слушать ночь. Я надеялся, что, может быть, откуда-нибудь издалека, из долины, когда мы совсем затихнем, пробьется к нам либо журчание горного ручья, либо заглушенный расстоянием шум горного водопадика.
Однажды я так же вот ночевал в коренном дагестанском ауле. Днем, пока мы суетились и разговаривали, обедали и пели песни, ничего не было слышно, кроме обыкновенных для аула звуков: крик осла, скрип и звяканье, смех ребятишек, пенье петуха, шум грузовика или автобуса и вообще дневной шум, когда даже и не различаешь один звук от другого и не обращаешь никакого внимания на шум, потому что и сам, по мере сил, участвуешь в его создании. Как там сказано у славного польского поэта: «Я мог бы многое услышать в мире, но, к сожалению, сам все время шумел».
Так вот в том ауле ночью я вдруг явственно услышал шум реки, хотя около аула ее не было, и никакого речного шума днем мы не слышали. Но река шумела все явственнее, все громче, все более властно, одна царствуя теперь во всех угомонившихся притихших окрестностях. Я слушал ее как чудо (не было ведь днем никакой реки), пока она не подняла меня на мягкую добрую волну и не закачала в сладком освежающем сне. А днем опять – скрип и звяк, смех и говор. Я спросил у местного жителя:
– Где река?
– Какая река?
– Та, что шумела ночью?
– В соседнем ущелье, вон за той горой.
Так и здесь, в Помпорове, посреди болгарских Родопов, в туманной темноте, мне хотелось прислушаться до такой степени, до такой топкости и ясности, что если с елок капали бы редкие капли, то различить и услышать. Или, может быть, чешма поблизости, или ручеек, или водопадик, а по-болгарски – прыскало.
Напрягаться, или, как иногда пишут в романах, превращаться в слух («я весь превратился в слух»), нам не пришлось. Как только мы остановились и перестали разговаривать, так и услышали эту слабенькую, но чудесную в обстановке ночных гор музыку – не очень далеко от нас бродили три маленьких разноголосых серебристых колокольчика.
Я вот сказал – «разноголосых». Точно, что каждый из них разговаривал по-своему. Мы даже разобрали, что их именно три. Но они вовсе не создавали впечатления разноголосицы. Как-то очень уж ладно они дополняли один другого.
Над журчанием ручья, слушая его, я могу сидеть часами, а тем более вечером. До этой ночи я думал, что на земле не бывает звуков светлее, чище и не надоедливее, чем пение ручья. Три колокольчика, бродящие поодаль, были для меня как новое откровение. Я почувствовал, что не двинусь с места, никуда не уйду с этого волглого камня, пока не наслушаюсь досыта незатейливой, но родниковой чистоты песенки Родопских гор.
Один говорил поглуше, и цвет звука у него был какой-то густой-густой, вроде бы темно-вишневый; другой – по густому темно-вишневому фону рассыпался золотистым солнечным горошком, этакими прыгающими блестками, осколочками, зайчиками; третий был прозрачен и светел, как хрустальные палочки, ударяющие друг о друга.
То нам казалось, что это не такие уж маленькие колокольчики, но что это далеко, может быть, на склоне другого холма, ходят три коровы; то, напротив, воображение, сбивая с толку, говорило, что совсем рядом, но в пятидесяти ли шагах от нас, с тремя миниатюрными колокольчиками пасутся овцы. Настроишься на близких овец – ну да, овцы, за соседней елкой. Настроишься на далеких коров – не может быть сомнения, издалека доносится разговор колокольчиков.
В конце концов завороженные и сбитые с толку, мы пошли па звук, круто спускаясь по травянистому склону холма.
Иногда было нужно останавливаться, чтобы прислушаться. Далеко идти нам не пришлось. Когда колокольчики были еще не близко, нас окликнул пастух (по-болгарски овчар). Мы прошли было мимо него, не заметив, а он сидел на камушке, в трех шагах от нашей тропинки.
Тотчас Станислав с ним разговорился и узнал в первую очередь, что его зовут Коля Михайлов.
– То есть как же его называть Колей, – воспротивился я, – ему, наверно, за пятьдесят?
– Седьмой десяток. Но это ничего. У нас отчества не полагается, а зовут его действительно Коля.
Итак, Коля Михайлов, худощавый, как и полагается чабану, смуглый, с маленькими усиками, пас овец, среди которых три были с колокольчиками. Вообще Коля Михайлов всю жизнь пас овец. Сначала у него были свои овцы, сто штук, как, впрочем, почти у всех крестьян и Болгарии, так что не нужно нам считать, что в прошлом он злостный собственник. Тем более, что сто овец в старой Болгарии считалось ну не то чтобы бедностью – обыкновением. Бывали ведь и тысячи и десятки тысяч.
Теперь Коля нанялся пасти кооперативных овец. Записывают ему два трудодня в сутки. На трудодень полагается один лев шестьдесят стотинок, то есть, значит, всего три двадцать, что вовсе неплохо.
Оказывается, за еловым леском, в низине, у Коли Михайлова своя пастушья хижина. Строил еще владельцем стоголовой отары, но пользуется ею и теперь. Мы получили приглашение позавтракать в хижине овчара, если не проспим, а встанем в 7 часов утра, чтобы к восьми быть на месте.
Весь вечер в гостинице мы разговаривали про колокольчики, и Станислав рассказал мне немало интересного.
Конечно, для дела хватило бы и маленьких колокольчиков, так, примерно, с чайную чашку, но шли века, и постепенно выработалась своеобразная традиция, своеобразная игра, когда один крестьянин не хотел ударить в грязь лицом перед другим. Не только не ударить в грязь лицом, но и превзойти и похвастаться. Постепенно выработалась и создалась гамма колоколов – 12 основных и 5 подголосков. Полностью весь основной набор называется «дизие» – от «дюжины». А вообще колокола в Родопах зовут «ченове». Один колокольчик – «чен».
Разные мастера, разные и ченове. Да и у одного мастера, наверно, не все ченове одинаковы. Чен с глухим звуком, не певучий, как бы задерживающий звук в самом себе, одним словом, не звучный чен, называется – тунук. О замкнутом, вечно сердитом, вечно нахмуренном человеке тоже говорят – тунук.
А бывают чены открытые, звучные, певучие. Блямкнешь раз – звук живет долго-долго, и как-то именно легко вылетает из колокола, выливается весь, до последней капельки. Вот именно открытый чен. Про него говорят уж не «тунук», а «очик». «Очик-гез» – называют в Родопах человека с открытым взглядом, с открытым сердцем, с открытой, доброй, певучей душой.
Чтобы ченове были звучнее, мастера добавляют в них серебра. Это как и у нас раньше в колокола. С серебром – малиновый звон, известно каждому.
Подобрать гамму, чтобы чен от чена звучал все выше и выше, и не просто выше, а на какую-то там определенную толику, не просто. Мастера умели подгонять колокола путем нагревания и подпиливания напильником.
Будто бы у скотины – у овец и коров – вырабатывался даже рефлекс: нет колоколов, нет и аппетита. С колокольчиками едят охотнее. Надо ли собрать разбредшееся стадо, звонят во все колокола. Стадо бежит со всех сторон сломя голову. Вот название каждого чена в полном основном наборе, от самого большого до самого маленького:
1. Докузинжи-деве.
2. Секизинджи-деве.
3. Единжи-деве.
4. Алтынджи-деве.
5. Бекинджи-деве.
6. Дертюнджи-дево.
7. Ючунжу-деве.
8. Икизинджи-деве.
9. Биринджи-деве.
10. Каба.
11. Стамбол.
12. Индже.
Дальше идут тонкие – жюри. Их обычно бывает около пяти. Значит, и получается в полном наборе 17 колоколов.
С маленькими колокольчиками пасут овец каждый день; большие раньше надевали в торжественных случаях, когда нужно прогнать отару через всю деревню, или в праздник, или в горах взгрустнется пастуху в одиночестве, тогда надевает он тщательно подобранные ченове, берет гайду (вроде волынки), и – вот симфония: звенят колокола, блеют овцы, шумит горная речка, ганда ведет свою длинную старинную песню про храбрых гайдуков.
Станислав в детстве бегал в нижнее помещение дома, где висели ченове, и, разнообразно звеня ими, как бы воссоздавал движение отары. Отец за это давал ему либо пряник, либо конфетку, либо денежку на пряник. Потому что больше всего на свете отоц Станислава любил будто бы слушать колокола. Под конец обязательно прослезится. Он даже ездил нарочно в горы, к чабанам, чтобы слушать. И слушал, и плакал настоящий родопец, отец Станислава Сивриева.
– В прошлом году, – рассказывал дальше Станислав, – был в Родопах праздник песен. Решили показать на празднике весь комплект колокольчиков, надев их на козлов. Большой чен тяжело носить даже и козлу, не то что барану. Через каждые два часа козла подменяют – не выдерживает.
Хвать-похвать, не так-то просто стало собрать козлиное стадо. Ездили по Родопам на автомобилях, собирали по одному козлу. Наконец своеобразный оркестр был укомплектован. Погнала козлов в Рожен, к месту праздника песен. По пути попадались пастушьи деревни. Люди в этих деревнях выбегали на улицы, и мужчины, и женщины, и ребятишки, и все плакали, – вот что такое полный набор колокольчиков.
А вот еще случай, – продолжал Станислав про колокола. – Один крестьянин давным-давно уехал в город, да там и затерялся. Про него все забыли. Но он-то, видно, не забыл своей деревни. Однажды беглец появился, но зачем бы вы думали? Затем, чтобы устроить и послушать эти самые колокола. Снарядил чью-то отару, по договоренности с хозяином, и погнал ее по улицам деревни. Как водится, все в деревне будто бы слушали и плакали вместе с затейником, которого, однако, вызвали в милицию. В милиции ему поставили в вину, что он-де проводил агитацию против сельскохозяйственного кооператива.
Когда на другой день мы в 7 часов утра (ночью туман рассеялся, и утро вставало ясное, как хорошо отстоявшаяся вода) шли к пастушьей хижине Коли Михайлова, меня вовсю грыз червячок собирателя и коллекционера. Дело в том. что у себя, в России, я действительно собираю всевозможную крестьянскую утварь: деревянные ковши, резные солоницы, берестяные табакерки, туеса и прочую этнографию, или, проще сказать, бытографию. В числе прочего, а может быть, в первую очередь, я собираю русские поддужные колокольчики. Те самые, что вешали под дугу к почтовым тройкам, или просто к тройкам, и если свадьба, и просто так – редко выезжали без колокольчика; те самые, что «Слышу звон бубенцов издалека», или «Однозвучно гремит колокольчик», или «И колокольчик, дар Валдая, гремит уныло под дугой», или «Колокольчик однозвучный утомительно гремит», или «Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил», – короче говоря, те самые русские колокольчики, что прославлены в десятках песен и чей звон еще не так давно был непременным украшением русских равнин.
Есть у меня и колокольчики с надписью «Дар Валдая», есть и с надписью, что сделан, мол, в селе Пурихе Нижегородской губернии, а на одном витиевато начертано: «Купи, не скупись, с ним езди, веселись».
После нашего вечернего разговора со Станиславом и завелся у меня в душе червячок: не пополнить ли коллекцию еще и болгарскими ченами. Ну не так чтобы все 17 или всю дюжину основных – парочку для коллекции.
А вдруг придем сейчас в хижину пастуха, а у него полхижины завалено колоколами, и все они ему не нужны, и все их можно у него купить и увезти в Москву. Отчего же это невероятная мечта? Может быть, это очень даже вероятно и правдоподобно?
Когда прошли еловый лес, открылась лощинка, на другой солнечной стороне которой, вся освещенная солнцем, ждала нас хижина. Солнце только сейчас выглянуло из-за горы. У основания хижины, заполняя дно лощинки, лежала прохладная влажная тень. На крыльце, по колени в тени, стоял Коля Михайлов и махал нам рукой – мы опаздывали на четверть часа.
Завтрак по-чабански был следующим. В глубокой сковороде старик растопил бараньего сала, причем натопил его много, целую сковороду, а если бы слить в банку, наверно, не меньше литра. Немного погодя в сало он высыпал два стакана красного молотого перца и все тщательно размешал и еще раз прокипятил. Подучился яркий горячий соус. Этим соусом повар облил картошку, которая грелась в жаровне. Картошка сделалась темно-оранжевой, как ломтики апельсина, и мы втроем съели ее всю, не потратив на это и тридцати минут. Тогда Коля Михайлов принес в хижину из чулана трехведерную кастрюлю, полную кислого молока. Ложками мы брали дрожащее, режущееся молоко и клали к себе в тарелки. Молоко и в тарелке оставалось крепкими желтоватыми кусками, а не расплывалось в жижицу. Оно было холодное, как если бы из погреба, со льда.
В убранстве хижины хозяин исходил, видно, из единственного соображения – целесообразности. А целесообразность проверялась десятилетиями. Жесткое ложе, очаг, стол, скамья. Удобная грубая одежда на гвозде, Над очагом, на полке, медная кухонная утварь. Желаемых мною колокольцев, увы, в хижине не было видно. Мало того, Коля Михайлов в ответ на тонкий, наводящий вопрос Станислава сказал, что вряд ли сейчас можно где-нибудь увидеть чены, разве что в Райкове в музее.
Теперь мне хотелось бы на четверть часа опустить из рук главную ниточку рассказа и вставить слово о Московском этнографическом музее.
Ну нет, сначала надо все же о Райковском. Райково – небольшой городок в южной части Родопских гор. Собственно, тут три городка, слившиеся один с другим и вытянувшиеся в длинную цепочку: Райково, Устово, Смолян. Раньше эти три города, как бы нанизанные на одну нитку, называли (под турецким магометанским влиянием) родопскими четками. Теперь их стали называть по-светски – родопское ожерелье. Впрочем, на карте 1962 года я не нашел обозначений трех городов. Там нарисован один кружочек покрупнее и написано Смолян. Значит, один из трех постепенно побеждает.
В Райкове есть дом, выдержанный в прекрасном стиле старинной болгарской архитектуры. Его-то и заняли под музей. Экспозиция музея оригинальна. Не нужно идти мимо бесконечных стеклянных стендов с разложенными мелкими экспонатами или смотреть на бесчисленные экспонаты, развешанные по стенам, когда глаза разбегаются по сотням предметов, боясь задержаться на каком-нибудь одном: всегда ведь куда-нибудь торопишься, всегда не хватает времени.
Торопились мы куда-то и на этот раз, но организаторы музея все продумали заранее. Вы входите именно в старинный дом, в ту обстановку, которая существовала нем некогда, в атмосферу того времени, погружаясь в неторопливое, несуетное его течение.
Теперь вот нужно рассказывать, что такое черги и что такое халиште.
Черга – это вроде наших домотканых половиков, те: что ткали из простеньких разноцветных тряпок. Но выглядели они потом как украшение, особенно если постелить на свежевымытые белые доски.
Болгарские черги делаются гораздо шире наших половиков, часто квадратные и несравненно ярче, разнообразнее, смелее по сочетанию цветов, наряднее и праздничнее. Впрочем, я ведь сравниваю с современными русским половиками (иногда привозят ярославские колхозницы на московский рынок или увидишь в иной деревенской избе). Не будем скрывать от самих себя, что это искусство увяло в России.
А казалось, чего бы. Болгария тоже цивилизованна; развитая промышленная страна. Однако в Софии, в самом центре, едва ли в ста шагах от мавзолея Димитрова (разве чуть-чуть подальше, чем у нас от Мавзолея до ГУМа) есть магазин художественных изделий. Вместе со всем другим в нем продаются такие великолепные черги, то есть домотканые половики, что иностранные туристы с вкусом, особенно итальянцы и французы, не берут ничего другого, кроме как нарядные болгарские черги.
Кстати сказать, не так давно мне посчастливилось побывать в гостях у английского писателя Джемса Олдриджа. Так вот, у него в гостиной, посреди комнаты, постлана настоящая болгарская черга.
– София? – спросил я.
– О, да, да, София. – И уже по улыбке можно было понять, как нравится ему София, а заодно и память о ней – великолепная черга.
Стоит заметить также, что в Софии, когда я был, показывалась выставка черг (то есть тряпичных половиков), которая пользовалась большим успехом. Потом выставка поступила в магазин и была раскуплена за полдня.
Халиште – почти ковер. Это уже не из тряпок, а из чистой козьей шерсти. Что-то есть тут от ковра, что-то есть и от дикой и еще кочевой (киргизской, допустим) кошмы. Это нечто мохнатое, мягкое и очень-очень разноцветное. Чаще всего цвета идут и чередуются широкими полосами, как у радуги.
Бывают халиште продолговатые (постлать в коридоре), бывают квадратные, чтобы занять весь пол в комнате, от краешка до краешка.
Когда мы вошли в дом-музей в Райкове, невольно первое время пришлось любоваться одними лишь чергами и халиште (не знаю, право, склоняется ли это слово). Разноцветные, разнообразные, они устилали и лестницы, и лестничные площадки, и покои, а уж в гостиной, в гостиной – настоящая выставка черг и халиште, как в музее… Впрочем, что я, ведь мы и пришли в музей. Как вспомню, до сих пор в глазах стоят красные, желтые, черно-желтые, желто-красные, красно-черные сочетания тонов.
Целый ряд небольших комнат в доме использован музеем так: в одной комнате восстановлена обстановка мастерской ремесленника-медника. Тут и его инструменты, и те изделия, которые ремесленник производил. Это, конечно, своеобразная выставка медных изделий. Но то, что это не за стендом, а расставлено непроизвольно, как в быту, придает музею интимный домашний характер.
В другой комнате воссоздана мастерская ремесленника-ювелира. В третьей – хижина пастуха, со всей пастушьей утварью. В четвертой – обыкновенная водяная мельница. В пятой – обстановка хижины, где пастухи делают сыр. В шестой – просто обстановка крестьянской избы. В седьмой – обстановка избы, где ткали вот эти самые черт и халиште. Все это воссоздано умело, любовно, с мельчайшими деталями быта. Уж если кухня, так со всеми характерными кухонными атрибутами.
Разумеется, все в меру типизировано, обобщено, на то и музей.
В Софии этнографический музей шире, обстоятельнее. В Райкове – интимнее.
В Софии зато шире показаны разнообразные национальные костюмы Болгарии. Тут и македонские костюмы, мужские и женские, и родопские, и придунайские, и фракийские, и балканские, и приморские, и каких только нет. Много резьбы по дереву, все больше потолки. Керамика, художественная ковка по железу и меди, пиротехника – всякий вид ремесла нашел себе место в этнографическом музее в Софии.
Случилось так, что между днем, когда я осмотрел музей в Софии, и днем, когда я сел о нем писать, мне удалось заглянуть в Британский музей в Лондоне и, разумеете в первую очередь в его этнографические залы.
Это все равно, как я плавал бы по небольшому озеру и описывал бы его ширь и глубь, а потом очутился бы среди океана.
Тут не может быть ни обиды, ни ревности. У англичан в течение веков были преимущественные возможности создать уникальную этнографическую коллекцию. Недаром теперь, путешествуя по залам Британского музея, единственного по богатству и масштабам в целом мире, мы читаем таблички: «Этнография Соломоновых островов»; «Этнография папуасов»; «Этнография Австралии»; «Этнография Бермудских островов»; «Этнография Полинезии», ну и т. д.: Гвинея, Канада, Аляска, бесчисленные африканские племена…
Доподлинные пироги, бумеранги, маски африканских вождей, оружие, наряды, утварь, искусство всех племен (теперь я имею в виду не статуи Греции, не скульптуру древней Ассирии и Египта – это там тоже есть, но именно народное искусство): умопомрачительные женские украшения из кораллов, раковин и медвежьих клыков, деревянные божки, глиняная посуда в древнейших орнаментах. Быт американских индейцев один мог бы занять пространный музей. А здесь это не более чем штрих, незаметный штришок, яркая капля в разливанном море Британского музея.
Ну вот, хотел завести разговор о Московском этнографическом музее, а пока что речь идет о Райковском этнографическом музее, о Софийском этнографическом музее и даже об этнографических залах Британского музея. Не слишком ли окольный заход?
Но все дело в том, что, как ни странно, как ни невероятно покажется на первый взгляд, в Москве нет русского этнографического музея. Ни общесоюзного этнографического музея, ни какого бы то ни было этнографического музея вообще!
Можно встретить, конечно, резной фронтон крестьянской русской избы в музейчике села Коломенского, или резную дугу там же, или вологодское кружево в музейчике народного творчества на улице Станиславского. Есть немножко этнографии в Историческом музее, на выставке народного искусства (Петровка, 12). Есть музейчик русских игрушек в Загорске, да и то его сейчас не то собираются ликвидировать, не то уж ликвидировали. Приходилось встречать великолепные этнографические отделы в областных музеях, например в Вологде или даже в районном музее в Тотьме. Есть этнографический музей в Ленинграде, да и то с упором на экзотику, а не на Россию. Все это так. Однако почему бы не быть большому, богатому, уникальному в своем роде Московскому этнографическому музею. И чтобы он так и назывался: Московский этнографический музей.
Ну прежде всего российская этнография. Нарядный костюм рязанской девушки отличался от костюма костромички, или орловчанки, или женщины из ярославской деревни. Я уж не говорю про Сибирь. Я уж не говорю про север России – Архангельск, Вологду, Ладогу, Карелию. Я уж не говорю о поморах с Мезени, Онеги или Белого моря. Я уж не говорю о таких своеобразных в этнографическом отношении местах, как низовья Печоры с Усть-Ижмой и Усть-Цильмой, где и до сих пор секретарша, допустим, директора замшевого завода тюкает одним пальчиком на пищущей машинке, а сама в сарафане шестнадцатого столетия.
А можно ли увидеть тип одежды русских переселенцев с Нижней Печоры в Москве? Смешной и наивный вопрос. А тип утвари? Деревянные, художественно оформленные ковши, солоницы, прялки, окна светелок, резные ворота, карнизы, изделия из бересты? Где можно увидеть тип почтовой кибитки XIX века, той самой, в которой ездили на перекладных из Петербурга в Москву Пушкин, Гоголь и еще раньше Радищев? Неужели не интересно посмотреть бы, какова была эта кибитка. Одежда ямщиков тех времен, сбруя, обстановка почтовых станций или постоялых дворов, или тип тарантаса времен Антона Павловича Чехова, или цеп, которым на протяжении веков молотила Русь? А люлька, в которой качались на поскрипывающих пружинах и Кольцов, и Сперанский, и Есенин, и Шаляпин… Да что герои – народ, огромный народ вышел в жизнь из деревянной люльки.
Пастуший рожок и старинные гусли; деревянная колотушка ночного сторожа и расписные изразцы; туеса и корзины; сундуки и безмены; замки и ключи; разрисованные ложки и деревянные корыта – все это тоже история народа.
К тому же (в плане возможного Московского этнографического музея) мы – государство многонациональное.
Бытография Украины, Грузии, Узбекистана, Армении, Прибалтики, дагестанских горцев, киргизских кочевников, ненцев-оленеводов; бытография мордовского народа или башкир; якутов и гольдов, эвенков и бурятов; чукчей и камчадалов… Это мог бы быть едва ли не самый интересный музей в целом мире, потому что если этнография всегда немного экзотика (местный колорит), то все иностранные туристы утверждают, что самая экзотическая (читай – этнографически разнообразная) страна на земле – Россия.
В Софии есть этнографический музей, в родопском городишке Райкове есть этнографический музей. В Москве нет этнографического музея. Поневоле вспомнишь крокодильские рубрики: «Невероятно, но факт!» или «Нарочно не придумаешь!»
Но вернемся к нашим баранам, а точнее, к колокольчикам, которые к баранам подвешивают.
В Райкове в музее я наконец-то увидел эти расписанные мне Станиславом колокола, или ченове.
Они висели на длинных толстых палках в несколько рядов. Значит, здесь было несколько полных законченных комплектов. Каждый ряд начинался большим и кончался маленьким колокольчиком. Все, и большие, и маленькие, колокольчики имели форму ну, что ли, стакана, только с узким донышком. В самый большой, если его повернуть и превратить в стакан, вошло бы, наверно, два литра воды. В самый маленький – полстакана – такая разница. Стенки довольно толстые, вместо языка, или «била», подвешен внутри колокола меньший колокол, колокольчик, который одновременно заставляет звучать и своего «старшого» и в тон ему звенит сам.
У большого колокола било могло бы быть самостоятельным колокольчиком, притом не самым маленьким. У маленького колокольчика било величиной чуть побольше наперстка.
Значит, если звенят все 17 колоколов, то фактически их звенит 34. Внутри каждого колокола свой маленький колокольчик. Это и создает необыкновенный разгул, почти вакханалию звуков.
Снаружи на каждом колоколе обозначены этакие условные елочки, которые, однако, сразу же выразительно напоминают о сумрачных родопских еловых лесах: ведь среди еловых лесов главным образом гремят колокольные симфонии,
Экскурсовод музея тряс палки, чтобы звенели сразу все колокола, и даже тряс три палки с колоколами одновременно. Но мне больше нравилось осторожно, пальцем пробуждать звук то в одном колокольчике, то в другом. Звук вылетает из медного гнезда и тотчас взвивается вверх. Он летит все выше и выше, как жаворонок в весеннем поднебесье (хотя, казалось бы, потолок) и замирает в такой уж вышине, что не услышать, бы и жаворонка, не увидеть бы большую птицу. Ударишь в другой колокольчик, свежий звук устремляется вверх, чтобы догнать тот замирающий, предыдущий, и догоняет его в вышине, и тогда они сплетаются крепко-накрепко, чтобы замереть вместе, но тут им вдогонку вылетает новый птенец из соседнего медного гнезда. А потом экскурсовод снова тряс палку, и звуки выпархивали, как стаи птиц, испуганные ружейным выстрелом.
Достать болгарские колокола, чтобы купить и увезти в Москву, присоединив к своей коллекции, оказалось делом не только нелегким, но почти невозможным. Был период, когда эти музыкальные инструменты, украшавшие быт и труд скотоводов (а это именно музыкальные инструменты, по-другому я не хочу их называть), собирали центнерами и увозили как металлолом на переплавку в большие города. Чтобы удобнее перевозить (в целях транспортировки), клали их кучами под пресс. Не знаю, успевал ли звякнуть при этом хоть один колокольчик или уж и не успевал.
Я бы не задевал колокольчиков только ради того, чтобы они звенели; я бы тем более не задевал болгарских колокольчиков, если бы дело не касалось и нас самих, и даже в первую очередь.
Как же так? У нас ведь никогда не подвешивали овцам и коровам колокольчиков. А если и подвешивали, то глухари, этакие шарообразные бубенцы, не столько звенящие, сколько рокочущие или воркующие. Их и называли еще воркунами. А колокольчики были только поддужные, вешались под дугу. К тому же ни глухари, ни поддужные колокольчики (пусть даже и «дар Валдая») не достигали такой степени совершенствования (чтобы семнадцать штук подбирать по тональности), как в Болгарии.
Но дело не в одних колокольчиках. Кооперирование земледельческого труда (у нас коллективизация) ведет к перестройке хозяйства, к коренному изменению не только самой структуры сельскохозяйственного производства, но и к изменению сознания людей, их психологии, их духовной жизни.
Задачи были поставлены грандиозные. А тут еще перед страной, перед народом в целом иные грандиозные задами по индустриализации страны: заводы, гидростанции, каналы, самолетостроение, а позже ракеты и космические корабли. За тридцать, допустим, лет наделано столько, сколько не было наделано за предыдущие триста лет. Это все верно.
Но за решением грандиозных, величественных, колоссальных, гигантских задач мы немножко проглядели (некогда было об этом думать), как из жизни тружеников деревни, ну, или, скажем, из их быта, а можно взять еще уже – из их труда, ушел этакий элемент красоты, ничем пока не восполненный.
Что же плохого было в том, что пастухи, живя в глухих горах, оторванные от людей, услаждали себя музыкой, музыкальным разговором десятков и сотен колокольчиков; что плохого в том, что каждый овчар старался подобрать себе самые лучшие колокольчики? Что плохого в том, что он прекрасно умел играть на гайде? И заслушивались его целые Родопы, особенно на вечерней или утренней заре.
– Главное – план, – мужественно отвечали мне болгарские скотоводы. Но неужели вовсе нельзя сочетать план и обычай; цифру и песню; труд и красоту?
Я ничего не говорю, многое уходит в прошлое безвозвратно, и смешно было бы за это цепляться, чтобы удержать. Но надо чем-нибудь заполнить место ушедшего, этот (модное теперь словечко) образовавшийся вакуум.
Тяжелым был труд крестьянина. Вот он и старался украсить каждый шаг, каждый элемент своего бытия. Трепала (нелегкая работа трепать лен) висят по музеям как оригинальные произведения народного творчества, дуга, расписанная и разрисованная, дом, украшенный резьбой, вышитые полотенца, праздничные женские наряды, скатерть, похожая на жар-птицу, песни, которыми теперь заслушивается весь мир, хороводы по тридцать человек, а в хороводе женщины и девушки в венках из луговых цветов.
Или, скажем, свадьба. Едва ли не самое главное событие в жизни каждого человека. Веками продумывался я складывался свадебный обряд, длинный, строгий спектакль, где и зрители, и актеры – одно. Спектакль с интермедиями, с сольным и хоровым пением, с хореографическим элементом, с отдельными сценками, полными символического значения.
Ушло – не будем жалеть? Но чем бы заменить? То, что «молодые» распишутся в сельсовете,– в этом красоты еще нет, а потом сразу за стол – студень, водка, соленый огурец. Выручаются на криках «горько». Одно это, пожалуй, и осталось от большого и нужного обряда.
Недавно я прочитал, как жених за невестой приехал, на чем бы вы думали? – на самосвале. Вот так. Вместо свадебного поезда с разноцветными лентами в гривах лошадей и с колокольчиками (опять эти колокольчики!) – обыкновенный колхозный самосвал. И грустно тут не то, что не нашлось иной машины, – можно было бы поискать и найти, а то, что жених, и невеста, и все вокруг считают это в порядке вещей.
Мы строим коммунистическое общество – самый красивый образ жизни из всех существовавших когда-либо на земле. Зачем же пускать красоту в переплавку, предварительно сплющив ее многотонным прессом. Не разумней ли сохранить, сберечь и передать потомкам?
Путешествуя по Болгарии, мы в конце концов набрели на лавчонку старьевщика-медника, у которого ченове висели на палке почти как в Ранковском музее. С той разницей, что здесь их можно было купить. Я вцепился в самый большой чен, который гудел почти как набат.
– Сколько же стоит? Скажите мне скорее, сколько стоит этот красавец?
– Сейчас свешаем, – спокойно ответил хозяин лавочки. – Это мы продаем на вес, как медь. Одну минутку. Ваш красавец весит три кило сто.
В общей сложности я унес из лавочки хорошо упакованными в бумагу и шпагат двенадцать килограммов семьсот пятьдесят граммов колоколов. Их была дюжина. Самый маленький весил граммов полтораста.
Вас, конечно, интересует, почем же в Болгарии ходит килограмм колоколов. Но я не рискую об этом написать… Во-первых, вы мне все равно не поверите; во-вторых, жена, оставшаяся без сувениров, до сих пор не знает, что у меня были в Болгарии кое-какие карманные деньги.
Зато у меня единственная в целой Москве коллекция родопских ченов. Может быть, нет такой коллекции в самой Софии.
Наконец, нужно заметить, что слово «ченове» и все эти дюкизинджи-деве, алтынджи-деве и т. д. – все эти названия турецкого происхождения известны главным образом в Родопах. Когда я стал, рассказывать о них друзьям в Софии, они не сразу поняли, о чем идет речь, а потом обрадованно воскликнули: «А, так это же звонци! Обыкновенные звонци!»
Нетрудно понять и русскому человеку.
ЭТЮД ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ (продолжение)
Точно такая же путаница (ченове-звонци) произошла и с другим словечком. Есть в Болгарии понятие – «чешма». Пока мы ездили по стране, в гуще народа, особенно в Родопском крае, всюду слышали и сами говорили «чешма». А потом друзья объяснили, что на подлинно болгарском языке «чешма» – это «водолей». Практически, конечно, бытуют оба слова, и пришлое от турок, и отечественное, так же как у нас, к примеру, есть одновременно порт и пристань, парк и сад, прихожая и вестибюль, шоссе и дорога, аэроплан и самолет, пилот и летчик.
Правда, в случае с чешмой. я думаю, не только слово пришло от турок, но и само понятие, и сама чешма, как таковая.
Дело в том, что точно такие чешмы я во множестве встречал в Албании, тоже находившейся некогда в составе Оттоманской империи. Говорят, много их в Греции и Югославии. И в самой Турции, разумеется. У нас встречаются в землях, соседствующих с турецким востоком: в Армении, в Азербайджане и даже в Грузии.
Может быть, все дело в цене воды в тех местах, которые я только что перечислил. В цене не базарной, но для путника, застигнутого на каменистом пути в полдневном иссушающем зное.
Теперь, когда мы едем по дороге со скоростью 70 километров в час, имея в автомобиле термос с ледяной водой, чешмы попадаются нам через каждые полчаса езды. Они не имеют для нас вроде бы никакой цены, хотя все равно приятно остановиться возле родниковой струи, охладить лицо, руки, сменить воду в термосе.
Надо представить себе путников, едущих в лучшем случае на лошадях, а чаще всего либо на осликах, либо идущих пешком; надо представить себе, что не ходили но дорогам путники вовсе уж налегке, но обязательно мешок за плечами. И дорожная пыль, и южный зной, и жаром пышущие раскаленные камни, и одежда, прилипающая к телу, и пот, струящийся по лицу, и щекотание глаз, и до боли, до ожогов натруженные ноги… и вдруг – чешма! О! Пожалуй, это была самая большая радость, которую человек встречал в пути.
У нас в Средней России тоже немало ведь родников, выбивающихся из-под земли, а потом струящихся ручейками. Зеленая жирная осока вокруг такого родничка, топкое местечко. Та же осока укажет, вытянувшись полосой, в которую сторону сочится, течет по земле родниковая вода. Иногда, если нет поблизости реки или колодца, и у нас обделают родничок, облагородят его, обнесут срубом, хотя бы в три венца, или обложат камнем-голышом, но не везде и не часто. В наших в общем-то влажных и прохладных местах нет такого культа воды, как в южногористых странах.
Там, если невдалеке от дороги бежит ручеек (пусть даже и вдалеке от дороги), то его подводят к дороге, заключив в трубу. На дороге ставят на ребро каменную плиту, иногда и мраморную. Около плиты – каменное или мраморное корытце. Из плиты, из двух или трех отверстий льются струйки воды, толщиной так примерно с палец. Они падают в корытце, наполняют его. Из корытца, через край, вода переливается на землю. Ручеек, совершив невольный зигзаг и предложив свои услуги усталому путнику, продолжает незамысловатое путешествие по планете. Каменная плита с водой, струящейся из нее, и есть чешма, или водолей.
Если человек под старость скопил немного денег, то он высшим благом и долгом почитает соорудить чешму на дороге, чтобы люди пили и помнили о нем вечно, пока течет по земле вода и ходят по дороге люди.
А чтобы лучше помнили, надо сделать чешму красивой, оригинальной, еще лучше оставить, вырубив на камне какую-нибудь надпись. Один напишет свое имя, другой присовокупит к этому пожелание: «Пейте на здоровье!», третий начертает начальные слова песни: «Русские встали на Рожене, птица не пролетит. Пейте во здравие моих родителей, которые любили эту песню!»
В деревне Жеравне, знаменитой своей старинной народной архитектурой, около церкви стоит беломраморная чешма. На ней в две колонки начертано стихотворение, датированное 1767 годом. Вот о чем говорится в стихотворении как бы от имени самой чешмы:
На вершине старой горы С вечных времен Течет обильный родник. От того щедрого источника Вылчо Хаджи Ненов Привел меня сюда Сто пять лет назад. Через пятьдесят лет подновили меня Его три сына: Пенко, Васил И Теодор – старший сын. Потом их сыновья: Дмитрий, Стефан И Переклий Провели третий путь На память о своем гордом отце и дедушке. Награди их, господь, За добрые дела, Достойные похвалы!На горе Витоше я видел чешму, которую устроил некий Крыстя. Устроив, оставил и медный ковшик на тонкой цепочке. На ковшике написал: «Кто принесет этот ковшик к себе домой, того постигнет страшная болезнь».
Так и висит ковшичек, может быть, сорок лет, может быть, пятьдесят.
Одним словом, каждый старается, как может. В одном селении на чешме написаны имена сельчан, вышедших в люди: тот доктор, тот художник, тот профессор, тот полковник или генерал.
Попадаются совсем новые чешмы, сооруженные из серого бетона. На них либо изображена звезда, либо написан какой-нибудь лозунг, например, призывающий к соревнованию с соседним районом, либо к повышению производства мяса, табака, винограда, кукурузы. Каждое время кладет свою неизгладимую печать.
Станислав признался мне, что он скопил деньжонок и тоже хочет устроить свою чешму. Место облюбовано давно, по дороге на Смолян. Нужно будет пригласить архитектора, художника, садовода-декоратора. Вся чешма с художественным оформлением обойдется будто бы в пятьсот рублей, если перевести на наши новые деньги.
Какая прекрасная, какая благородная традиция!
ЭТЮД ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ (продолжение)
О человеческие ремесла! Почему, спрашивается, я люблю больше всякую ремесленную, кустарную вещь, чем изделие, сошедшее с точнейшего современного станка? Потому, что я знаю: эту ремесленную вещь сделали непосредственно человеческие руки.
Ну, конечно, разумеется, станок или самая сложная аппаратура – тоже дело рук человеческих, тоже произведение его ума, выдумки, изобретательности, хитрости, ловкости. Но все же изобретенная им самим машина отделила его руки и от материала, и от изделия. Он хватается своими руками в лучшем случае за рукоятки машины, а то и вовсе нажимает кнопки. И вот текут, скатываясь в рулоны, тысячи километров ткани; выстреливаются, как из автомата, штампованные женские украшения; громоздятся керамика и хрусталь, разноцветные шерстяные нитки как бы сами собой сочетаются в разноцветные (бухарские ли, персидские ли?) ковры.
И вдруг невдалеке от Троянского монастыря, где мы провели ночь, я вижу гончарный круг. Надо признаться, вижу впервые в жизни.
Троянская керамика попадалась мне на глаза либо у людей, приехавших из Болгарии, либо в художественных магазинах в Софии, либо в музеях на стендах, либо в быту болгарских друзей. Между прочим, с троянской керамикой у меня был тот случай, когда я не мог представить себе, как это сделано. Иной раз видишь вещь и понимаешь, что тебе самому такую не сделать, например Венеру Милосскую, но все же вполне представляешь, что был резец и были руки мастера, и его гениальность, и вдохновение, и были краски у Рафаэля, и были тончайшие кисточки у расписывателя китайского или сервского фарфора. Нам так не сделать, но как это сделано, мы вполне понимаем.
Как не вертел я в руках чашку, или блюдце, или графинчик, или сахарницу, сделанные в Трояне, не мог вообразить, как они расписаны столь причудливым образом. Не может быть, чтобы кисточкой от руки. Но если не кисточкой, то чем же?
Рассказывают в Сибири, будто черт однажды решил освоить все человеческие профессии. Научился и портняжному, и сапожному, и всякому прочему ремеслу, и вдруг попал ему в руки валенок. Поразился и посрамился черт – не мог понять, как это сделано, ни шва, ни начала, ни конца.
Однако я заговорил о гончарном круге. Мастер, сам смуглый, как троянская глина (значит, подчеркнута седина волос), на моих глазах взял бесформенный ком хорошо перемешанной глины и шлепнул его на гончарный круг, который, и правда, есть не что иное, как круг, деревянный, ровный, так примерно полметра в поперечнике. Круг начал быстро вращаться, и ком глины тоже. Так они вращались бы хоть час, хоть день, но мастер приставил к глине свои длинные, как у хорошего музыканта, чуткие, как у опытного хирурга, свои мудрые человеческие пальцы, и ком глины от мгновения к мгновению начал преображаться. Он то вытягивался кверху, то раздавался в стороны, сделался полым, и стенки его все утоньшались и утоньшались.
Задуман был кувшин. Но я насчитал по крайней мере десять промежуточных форм. Может быть, мастер для нас, для зрителей, блеснул своими руками. На каждой промежуточной форме мастер мог остановить свой круг, и вот текучая форма застыла бы и закостенела бы на века уж не в виде кувшина, как было задумано, а либо в виде горшка, либо в виде узкогорлой вазы, либо в виде древнегреческой амфоры, либо в виде самого экстравагантного модернистского сосуда. Все зависело от мастера, от его воли, от его рук. Но ком глины, побывав в древних амфорах, в обыкновенных крестьянских горшках, в узкогорлых вазах, в модернистских сосудах, в конце концов начал приобретать очертания кувшина, как и было задумано мастером.
Текучесть формы заворожила, околдовала меня. Я понял, что, конечно, есть для гончара вполне установившиеся формы, но все же есть оттенки, когда линия едва-едва меняет изгиб, а изделие сразу звучит иначе, приобретает изысканность вместо туповатой тяжести, благородство – ранг искусства. Я понял, что вдохновение при беспрерывной текучести формы также нужно гончару, как любому другому творцу, включая поэта. Я понял также (лишний раз), что и поэт может лепить туповатой тяжести вполне стандартные, вполне бездушные горшки, хотя бы они и назывались стихотворениями. Я понял, наконец (хотя зная об этом еще в 5-м классе средней школы), что гончарный круг – величайшее изобретение человека и (об этом уж не было в пятом классе) что любое творчество, если бы даже захотели сотворить новую планету или новую солнечную систему, – есть гончарный, круг.
С разрисовкой троянской керамики произошел парадокс. Я представляю, как сделать Венеру Милосскую, но не способен сделать ее; я не представлял, как расписывается троянская керамика, а оказалось, что достаточно, хотя бы и мне, трехмесячных производственных курсов. Правда, творческий элемент возможен и тут. Что же касается текучести формы, то здесь буквально все течет и нужно успеть сообразиться. Не знаю, сумею ли рассказать по порядку и внятно.
Чашку ставят на маленький круг, который будет вращаться наподобие гончарного, но медленно. Перед мастерицей расположен набор жидких красок, все они в небольших резиновых аптекарских грушах. До недавних пор вместо резиновых груш применяли рог буйвола. Отпиливали острый кончик, вставляли узкую трубочку (соломинку), по которой из рога вытекала краска.
К медленно вращающейся чашке (или вазе) подставляют кончик резиновой груши. На чашке возникает обильный жидкий красочный ободок. Повыше его или пониже ложатся один за другим новые разноцветные ободки по мере того, как мастерица подставляет к чашке новые и новые груши с красками.
Потом на верхний ободок наносят тяжелые, из густой краски, равномерные капли. Капли стекают вниз и стаскивают, сволакивают ранее нанесенные живописные ободки, получаются живописные рясы, вилюлины, зигзаги. Соломинкой мастерица в некоторых местах поднимает ползущие вниз ободки обратно кверху. Причудливость достигает границ. Когда все высохнет и закалится в печке, нельзя вообразить, что все было так просто и затратили на все каких-нибудь пять – десять минут.
Между прочим, троянская керамика широко экспортируется из Болгарии в западные страны. Особенно ее любят почему-то в Англии.
Глина мягка и податлива, мни и делай, что хочешь. Зато, наверно, легче ошибиться. Чуть тронул – и уже не то. Или, напротив, чуть тронул, и вот уже легкость, недоступная посредственному ремесленнику.
Впрочем, дело не в материале. Можно создавать бездарные тупые вещи из воска и великолепные, нежные, тонкие вещи из обыкновенного черного неуклюжего железа. Допустим, знаменитая решетка Летнего сада.
В Болгарии с давних пор существует искусство, которое так и называется «кованое железо». Я не знаю материала, в котором изящество и легкость могли бы так удачно сочетаться с эдакой средневековой, рыцарской, замковой, одним словом, железной суровостью.
Главный секрет в том, что поверхность железа делают неровной. Вся она в мелких вмятинах (как если бы по воску постучали маленьким закругленным молоточком). Железо сразу теряет свою железную неотесанность, но дальше все зависит от характера изделия и от мастерства.
Одна из комнат на даче у поэта Младлена Исаева оформлена изделиями из кованого железа. Делал мастер из города Самокова.
Люстры, торшеры, подсвечники, пепельницы, дверные ручки, дверные навески – все в одном стиле и, конечно, производит, как говорится, неизгладимое впечатление.
Но мастер был несколько сентиментален для обращения с железом. И вот железо (подумать только – железо!) производит впечатление некоторой, я бы сказал, слащавости, сладковатости. Слишком нежно. Чуть-чуть чересчур изящно. В чем-то перетончено. Значит, и железо требует осторожного обращения.
Я не говорю, что некрасиво. Мало того, о сентиментальности самоковского мастера я смог судить только после того, как побывал у Страхила Кокурова – лучшего болгарского мастера по кованому железу.
Дело в том, что в Софийском этнографическом музее я увидел старинный тройной подсвечник, сделанный из железа, который опроверг все мои установившиеся представления о красоте подсвечников.
Я забыл сказать, что как бы там ни было, но все равно изделия из кованого железа смотрятся главным образом силуэтно, на просвет. Ну, как и решетка Летнего сада. Значит, красота линий выходит на первый план. Искусство кованого железа – это прежде всего искусство линии. Четкая тень от изделия производит почти такое же впечатление, как и само изделие. Объемность – второстепенна и почти не играет роли.
Так вот, я увидел в музее подсвечник, у которого линии стремились в высоту с легкостью, не соответствующей тяжелому грубому материалу.
Мы разговорились о старинном искусстве со Станиславом Сивриевым, и он мне сказал:
– Хочешь, познакомлю тебя с лучшим болгарским мастером?
Страхил Кокуров живет не то чтобы на окраине Софии, но никак не скажешь, что в центре. Улица из небольших каменных, двухэтажных домов-особнячков. Садик-дворик, как и полагается в Болгарии.
Перед домом Страхила к тому же – самый старый в целой Софии дуб. Одну его могучую ветвь – хватило б на целое дерево – отпилили, потому что мешала дому над крышей; другую его могучую ветвь отпилили – мешала соседям; третью его могучую ветвь убило молнией, но и того, что осталось, хватает произвести впечатление. На верхушке дома крохотный скворечник, скорее всего для синичек.
Пятидесятилетний художник, выглядящий на тридцать пять, от силы на сорок лет, встретил нас у калитки садика. Домик, который мог бы быть музеем, открылся перед нами. Уличный фонарь перед дверьми в дом, перила внутренних лестниц, рама для зеркала, люстры, бра, столик журнальный, стол рабочий, чернильный прибор, шкатулки, подсвечники, дверные ручки – все, на что ни посмотришь, все сделано руками хозяина, каждая вещь – законченное произведение искусства.
Картину дополнил альбом фотографий, где собраны прежние работы Страхила Кокурова, проданные, увезенные за границу, сделанные в подарок или такие, что делались сразу, на месте их назначения: дворцовые грандиозные мосты, дворцовые каминные решетки, дворцовые ворота и двери… Любимое изделие всякого мастера по железу – подсвечники. Страхил Кокуров – не исключение.
В каждом подсвечнике – намек, условное изображение, без назойливых деталей, символ, как сказал сам Страхил какого-нибудь животного, растения, предмета. Подсвечник-змея; подсвечник-птица; подсвечник-всадник; подсвечник – заяц, цветок, осел, женщина, подснежник. Подснежник из железа! И сколько нежности!
А вообще Страхил Кокуров – суровый мастер, без сюсюканья, без декадентства, с этаким средневековым, рыцарским колоритом. То есть, значит, он уловил, усвоил главный колорит своего искусства, возникшего как искусство скорее всего именно в средние века.
Но вот какая проблема. Я-то лично сталкивался с ней не однажды, интересуясь нашими кооперативными художественными артелями во Мстере, в Палехе, в Семенове, где хохлома, в Федоскине и т. д., и т. п.
Страхил Кокуров – теперь уж не мастер сам по себе, а мастер кооперации. Значит, во-первых, он не может, не имеет права принять заказ от кого бы то ни было, сообразуясь с желаниями и, может быть, со вкусом заказчика, но должен делать то, что спустит ему по плану руководство кооперации. Во-вторых (пока что это не последнее дело), его месячный заработок ограничен, кажется, полуторастами левов. Это, конечно, приличный заработок, по раз он определен и ограничен, то и не несет в себе функции материальной заинтересованности. То есть Страхилу Кокурову более или менее безразлично, что делать в течение месяца – ширпотребовские простенькие железки или уникальные художественные изделия. Более того, ширпотребовские железки ему делать проще, удобнее и легче: не изощряйся, не мучайся над сложным рисунком, а деньги те же самые, как если бы он создавал нечто единственное и неповторимое в своем роде.
Страхил Кокуров говорил обо всем этом с видимой сердечной болью. Причем видно было, я это отчетливо понял, что боль тут не за личную материальную корысть, а за судьбу древнейшего, истинно национального ремесла. Мы со Страхилом Кокуровым встречались дважды. Во время первой встречи я упомянул мельком о понравившемся мне в этнографическом музее старинном подсвечнике.
Во время второй встречи точно такой подсвечник я уж держал в руках. «На спомен», – коротко, без желания продолжать разговор на эту тему, сказал Страхил Кокуров.
ЭТЮД РЫБОЛОВНЫЙ
В Родопах стояла сухая золотая осень. Она здесь скорей не золотая, а темно-медная или даже бурая. Но все равно, если смотреть на лиственный склон горы, то среди медно-красной листвы там и тут светятся золотые древесные кроны. А трава еще зеленая, как будто молодая, а камни – голубоватые, а меж голубоватых камней, среди зеленого и золотого, мчатся синие, как небо, горные родопские реки. Они местами синие, местами белые, потому что дробится вода о камни, превращаясь в брызги, насыщаясь воздушными пузырьками, которые главным образом и придают воде белый цвет. Но это ведь не мутная, не тусклая белизна.
Омывая камни, вода сверкает на изгибах, как полированная. Падая с высоты, просвечивается солнцем. В тихих заводинках приобретает темный, черный почти цвет, медленно кружит опавшую листву. В стеклянной синеве стремящегося потока осенние листья мелькают возле дна, как будто мчатся там по каменистому ложу стаи вертлявых золотистых рыб.
Мы со Станиславом в этот день выбрали для завтрака поляну возле реки, прогретую ровным, не жарким в это время солнцем.
Близко и «Москвичок», если что-нибудь понадобится из автомобиля, близко и река – умыться и набрать воды в пригоршню и выпить ее, осеннюю, студеную, как если бы самое драгоценное в мире вино.
Завтрак наш состоял из крупного белого винограда и мягкого белого хлеба. Оказывается, вприкуску одно с другим, особенно если на траве под теплым небом, – необыкновенно вкусно.
После завтрака Станислав полез в багажник, и тут меня ждал сюрприз. Постепенно на траве появились удочки, пока что разобранные, коробка с крючками и поллитровая банка с красной икрой, которую мы называем кетовой а в Болгарии почему-то считают, что это икра семги.
Мне приходилось рыбачить на самых разнообразных водоемах, начиная с ручейка, где, однако, наловишь ведерко пескарей, или крохотного прудика, откуда удавалось выудить золотого красноперого карася, кончая… Ну, чем кончая? – Волгой, например, или Печорой, или Черным морем, где уж не пескарь с карасем, а, допустим, мраморный окунь, или морской дракон, или скарпена, или морской петух, или зеленушка, или морская ласточка, или сильная благородная кефаль.
Только одного мне как-то все не удавалось испытать в рыбной ловле – форель в быстротекущих горных реках теперь предстояло, значит, ликвидировать еще одно «белое пятно» на разноцветной яркой карте моей бестолковой жизни.
В самом деле, сидеть бы сейчас в дождливой осенней Москве, Заканчивая давно уж полунаписанную книгу, а я вот собираюсь заняться в общем-то баловством – уженьем форели на Боровской реке в Родопах. Между тем Станислав, вставляя коленце в коленце, собрал удочки.
В эти дни несколько раз приступали мы к ужению форели в разных местах Родопов, на разных реках. Поэтому я соберу в одно те немногие впечатления, которые у меня остались.
Нужна проводочная удочка с катушкой, чтобы можно было пускать крючок по течению все дальше и дальше, оставаясь на том же месте. Крючок небольшой, но крепкий. Насадка – одна красная икринка. Это лучшая насадка на форель на всем земном шаре. Поплавка, разумеется, не нужно.
Однако все равно, хотя бы и проводочную удочку, как ее забросишь в кипящий, пенящийся, едва ли не гремящий камнями поток? Да полно, может ли уцелеть в таком потоке какое-нибудь живое существо? Его, конечно, изобьет о камни, измочалит и унесет течением, и, пока уносит, все еще будет бить и мочалить,
Но простого бурления воды Станиславу показалось мало. Мы пошли вверх по речке в поисках водопада.
В одном месте вода срывалась с валуна величиной с дом и, пролетев около пяти метров, сначала уходила на дно самой же ею вырытого котлована, а потом вздыбливалась оттуда округлыми клубами, бурунами, чуть ли не фонтанами, ревела и рычала, пытаясь растечься вширь, но, стесненная каменными берегами, ложилась наконец в русло и с еще большим остервенением, чем до водопада, устремлялась вперед по дну ущелья. Собственно, она не текла, а летела, едва касаясь каменного ложа, скользя над ним, не забывая перекручиваться, перевиваться, завихряться, вздыбливаться, проваливаться во впадины и обрызгивать прибрежные камни.
Мы встали над водопадом (оказалась площадочка на валуне) и смотрели вниз. Я бросил щепку в поток, но щепка куда-то так мгновенно исчезла, что я не успел проследить за ней глазом. Тонны воды, падая с высоты, сами по себе могут, наверно, убить, если подвернется какая бы то ни было живность, а тут еще круговерть и острые камни.
Я подумал, что Станислав хочет подшутить надо мной, предлагая мне бросить удочку вниз, в самый котел, в самое отчаянное клокотанье. Я смотал с катушки достаточный конец и, наклонив удилище, положил икринку на воду. А потом еще немного наклонил конец удилища. Икринку подхватило течением, закружило, завертело из конца в конец, замотало в камнях, и я, поняв насмешку Станислава, хотел поднять удочку обратно, как вдруг заметил, что удочка не поднимается, и не только не поднимается, но вроде бы и меня тянет вниз сильными, властными рывками. Я потянул сильнее, и вот из синей струи, облегченно, как хорошая пробка из бутылки, даже и со щелчком, выстрельнула серебряная рыбина.
Любящая студеную быстрину, преодолевающая водопады, форель так сильна, что, когда схватываешь ее, чтобы снять с крючка, она не просто выскальзывает из руки, но кажется, даже разжимает пальцы и ладонь своей гибкой мускульной силой.
Вскоре мы покинули водоем и пошли поискать более удачного места. Технология состояла в том, чтобы точно забросить удочку в относительно спокойное место. Например, если вода с двух сторон огибает большой камень, то струи за камнем сходятся не сразу, не вдруг, образуя этакий треугольник, затишье, этакую тихую зону, куда и нужно кидать наживку. Правая рука держит удилище, а левая «слушает» леску, идущую от катушки вдоль всего удилища. Левая-то рука и слышит первый, нетерпеливый, гневный рывок форели. Тогда вступает в дело правая рука. Подсечка. Нужно выводить пойманную форель. Стоит прозевать, промедлить две-три секунды – и все пропало; форель обязательно забьется под камень. Придется обрывать леску, прощаться с крючком, с грузилом, а заодно в с добычей.
Особенно волнующим было это сочетание: быстро летящей воды и лески, звенящей от напряжения.
После такой рыбалки едешь в автомобиле вдоль берега реки, а глаза невольно замечают каждую заводинку каждый водопадик, каждую затишинку, отмеченную обыкновенно более густым, синим цветом. Знаешь точно, если кинуть туда крючок с икринкой, то вот уж в следующую секунду и зазвенит струна, и рука испытает сладостную потяжку и дрожь.
Закончились все наши рыбалки следующим эпизодом. Испортился наш «Москвич». Станислав поставил его на яму в глухой деревне Широкая Лука. Освободилось часа два времени. В этой деревне мы были раньше, осмотрели ее досконально. Значит, оставалось бездельничать. Между тем призывно шумела вдоль всей деревни протекающая река.
Я взял удочку, икру, отошел шагов сто, выбрал местечко под навесистым камнем и сделал первый заброс.
Дальше пошла механическая работа. Не успевал я забрасывать, как нужно было снимать рыбу с крючка.
Так я проработал около часу, набросав десятка четыре форелей, которые, правда, здесь были мельче, нежели в горах во время предыдущих рыбалок.
Меня удивляло полное безразличие к реке местных жителей. В самом деле: у них под окнами течет река, в реке кишит рыба, а они ходят мимо и не ловят. Да у нас бы не только с удочками: тотчас набежали бы с разными вершами, наметками. Ну, допустим, верши и наметки не годятся для горной реки. Уж нашли бы, уж придумали бы какой-нибудь хитрый способ. Уж приспособились бы, не позволили бы, не допустили подобного безобразия: чтобы полно рыбы и не ловить.
Тут я заметил, что сверху, с камня за мной кто-то внимательно наблюдает. Я обернулся и увидел мальчонку в школьной форме. На полуболгарском языке (не на «полу», конечно, а на одну шестнадцатую часть на болгарском языке) я тотчас завел разговор с мальчиком. У него, как выяснилось, русский отец из эмигрантов, он имел в запасе горсточку русских слов.
– Зачем вы ловите? – строго приступил ко мне мальчик. – Нельзя. Запрещено.
– А что будет? – спросил я как можно спокойнее, хотя слова мальчика, вполне для меня неожиданные, поразили меня в самую душу. Значит, мы все эти дни в сущности браконьерствовали? Значит, Станислав шел на риск и на нарушение закона, чтобы только угостить меня ловлей форели. Очень мило, конечно, с его стороны и очень гостеприимно…
– Как что будет? Сейчас придет лесничий, составит акт и – готово!
В чем будет состоять «готово», я не стал уточнять у мальчика, а поскорей смотал удочку,
Станислав искренне обрадовался моему улову и опять ни словом не обмолвился о запрещении ловить рыбу. Когда мы тронулись, я завел разговор и стал упрекать моего друга, что он поставил меня в неловкое положение.
– Не беспокойся, – ответил Станислав. – У меня есть специальное разрешение. Мне его выдали как старому партизану.
Скорее всего он хотел таким образом успокоить мою совесть. И правда, успокоил. Хотя я и до сих пор не очень-то верю в это его специальное разрешение.
ЭТЮД ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
В еде хоть немного, по тоже выражается характер народа. Англичане, например, независимо от состояния, с утра едят свой поридж, овсяную кашу-размазню с молоком. Миллионер, который мог бы себе выписывать омаров из Греции или черепах из Океании (впрочем, омарами он успеет полакомиться вечером), ест непременную овсянку.
Когда я рассказал своим олепинским жителям об этом обычае, мужики качали головами: а мы овсянкой-то брезгуем, думаем, лошадиная еда. А оно вон как – миллионеры!..
– А что, мужики, зря смеетесь, – заключил наконец мой сосед Федорыч. – Я считаю – это очень даже растительно.
Однажды мы ехали мимо заболоченных прудов в северной части Болгарии (только что отъехали от Дуная) и увидели рыбаков, таскающих небольшой бредень. Ловились карпы.
Главное наше внимание привлек старик рыбак, сидящий на корточках у костра. Он взял средней величины карпа, надел его, наткнув вдоль на обструганную палку, ножом сделал на его боках по десятку поперечных глубоких насечек. Палку с приготовленной таким образом рыбиной старик воткнул около костра, сантиметрах в двадцати от пламени, именно около пламени, а не над ним. Карп не то чтобы жарился или вовсе обгорал, а исподволь прогревался. Из насечек стекали на землю обильные капли рыбьего сока. Можно было предположить, что карп будет готов через час, не раньше. А может быть, через час он будет готов лишь с одной стороны.
Желая щегольнуть знанием болгарского словечка, я сказал старику:
– Очень уж бавно (медленно).
Старик поглядел на меня с недоумением:
– Бавно, да славно.
Мы поехали своей дорогой, не дожидаясь видимых результатов в столь оригинальном приготовлении нищи, зато в другом случае пришлось дотерпеть до конца.
Конечно, все организовал Станислав. Он накануне рассказывал мне, что когда люди в Родопах собираются в одно место на праздник, то зажигается несколько сот костров. Людей собираются тысячи и десятки тысяч, но не на каждого же свой костер. И вот тогда начинаются «каверме». Иногда готовят одновременно четыреста каверме, можете вы себе представить?
Я не мог себе ничего представить, потому что не знал, что такое каверме, а Станислав отказался объяснять и рассказывать: рассказать будто бы невозможно, как хорошее стихотворение. Надо знать самому. Однако я понял все же, что дело связано с бараниной.
Ну что мне было сказать? Я ел строганину на студеных берегах Карского моря, правда, из оленя, а не из барана. Мясо звенело под ножом, как камень, а под языком таяло, как кусочек сливочного масла.
В горах Тянь-Шаня, в киргизских кочевых юртах, усевшись вместе с аксакалами в тесный кружок вокруг казана, мы наслаждались бишбармаком. Жир, на этот раз уж бараний, стекал по нашим рукам до локтей. Лица наши лоснились от жира. Хорошо было аксакалам, можно вытирать руки о бороды, каково бритым, нам?! Шурпа в пиале (то есть бараний сироп) вобрала в себя, кажется, аромат всех существующих на земле баранов.
Как раз перед поездкой в Болгарию я путешествовал по Дагестану, будучи в гостях у Расула Гамзатова. Молодые отварные барашки (особенно те части, где ребра) будут сниться мне и на смертном ложе. Если уж, теряя сознание, я все же найду в себе сил пошевелить рукой, как бы прося чего-то, то, значит, я прошу молодого бараньего ребрышка, какое было в ауле Цада.
Вдоль и поперек я проехал Грузию. Что такое грузинское застолье, я знаю не из рассказов очевидцев. Шашлык по-карски, шашлык на ребрышке, шашлык-бастурма – все это нам доподлинно известно. И ткемали к шашлыку, и сочная, зеленая гора цицматы, и кинзы, и молодой барбарис, и главное – парок, когда разрежешь напополам зарумянившийся кусок мяса.
Можно ли было меня удивить теперь рассказами про баранину, если бы даже она и называлась «каверме»? Видимо, что-то такое недоверчивое проскользнуло у меня в интонации или во взгляде, что задело за живое Станислава Сивриева.
Короче говоря, мы остановились ночевать около одинокой избушки лесничего в горах над шумной родопской рекой. Поговорив с хозяином избушки, Станислав сообщил мне, что будет настоящее родопское каверме.
Все же я думаю теперь, что каверме было запланировано заранее. Когда я подошел к старому родопцу, что-то энергично делавшему в отдалении, разделка овечьей туши подходила к концу. Нельзя было бы сообразиться так быстро без предварительного уведомления.
Строго говоря, это не было разделкой туши. С яловицы, недойной, значит, овцы, содрали шкуру, освободили тушу от внутренностей. Жир, который накопился на кишках, положили обратно в полость и все ловко зашили гибким прутиком. Не менее ловко надели тушу на длинный кол толщиной с оглоблю.
Оказывается, существуют тонкости. Надо, чтобы костер был, во-первых, бездымен; во-вторых, не очень жарок; а в-третьих, в полном безветрии. Нависшая над зеленой поляной скала и деревья по сторонам создали укромный уголок – лучшего не придумать.
Рядом с костром, в полуметре от него, забили в землю две основательные прочные рогульки. На них положили кол с тушей яловицы. Теперь наша задача состояла в том, чтобы беспрерывно, я хотел бы подчеркнуть, – беспрерывно, не останавливаясь ни на одну секунду, поворачивать кол, а значит, и тушу.
В первое время мы смотрели, как это делает старик родопец. Если бы все закончилось за полчаса, нам не пришлось бы узнать тонкостей его искусства.
Старик, поджаривающий карпа на палочке, вспомнился мне теперь, здесь, в родопских горах. Если прогреть насквозь карпа, так, чтобы он… Не знаю, какое подставить: испекся, или поджарился, или, одним словом, был готов, требовалось около часу, то за сколько же времени прогреется и приготовится целая овца?
Старик взмок, беспрерывно вращая кол, а бока овцы не начали даже и румяниться. Мне стало совестно стоять над работающим стариком, и я занял его место.
Я думал, что крутить овцу будет тяжелее. Но кол был выбран с таким изгибом, что до половины поворачиваешь его силой, а дальше он поворачивается сам под тяжестью овечьей туши.
В конце второго часа туша начала равномерно румяниться. Тогда Станислав намотал на палку жир, оставшийся от кишок, создал нечто вроде помазка и беспрерывно стал водить жирным помазком вдоль всей туши, в то время как я ее поворачивал. Жир на палке стал плавиться и хорошо смазывал тушу.
Старик следил за костром. Напротив овечьего паха он держал огонь поменьше, а напротив груди и задних ляжек – побольше – здесь туша толще, ее труднее прожарить.
Временами мы со Станиславом менялись местами: он садился крутить, я вставал водить помазком ио туше. Жир раскручивался у меня на палке, списал клочьями. Я снова захлестывал его на место и снова водил и водил.
Пообедали мы давно. Может быть, поэтому способ приготовления каверме показался мне несколько замедленным. Надо сказать и то, что мы крутили овцу около огня беспрерывно, с равномерностью хорошего механизма четыре часа двадцать минут и столько же времени смазывали ее жиром, намотанным на палку.
Снаружи образовалась ровная, темно-коричневая, как потом выяснилось, хрустящая, прямо-таки ломающаяся корочка.
Чтобы узнать готовность блюда, старик, исполняющий у нас роль шеф-повара, надрезал мясо около шеи треугольником, как делают пробу на арбузе. Затем точно так же получившийся треугольничек наколол на кончик ножа и показал нам. Кусок вырезанного мяса курился паром, и несколько капель сока упало с него на горячий пепел.
Теперь, после киргизского бишбармака, дагестанского отварного барашка, шашлыка и вообще всевозможных бараньих блюд (бок с гречневой кашей, баранья отбивная и т. д.), то есть после самых цивилизованных блюд, приготовленных с множеством трав и специй, я должен признаться, что до каверме я не знал, что такое баранина и что такое вкусное мясо вообще. А ведь это самый первобытный способ приготовления. Обитатели пещеры «Магура», может быть, готовили себе пищу таким же образом.
Сочная, как апельсин, впитавшая в себя ароматы родопских трав и сохранившая их в себе во время готовки баранина производила впечатление самого тонкого, самого изысканного блюда. Правда, Станислав признался, что за свою жизнь он участвовал в десятках таких вот каверме, но это, пожалуй, самое удачное.
У лесничего были гости. Они сели с нами в один кружок. Рядом со мной оказался молодой инженер-горожанин. Пока мы все ели, он несколько раз покачивал головой и говорил, что с точки зрения медицины нельзя есть мяса больше двухсот граммов в сутки. Оно, может быть, и так. Но рядом с целой овцой это правило казалось смешным и наивным. Стоило ли крутить тушу четыре часа двадцать минут, чтобы потом отрезать от нее маленький аккуратный кусочек и съесть его при помощи ножа и вилки? Больше подходило к случаю – взять в руки целую лопатку или ногу, а уж сколько она потянет – килограмм или полтора – что за счеты?
Когда мы кончили трапезу, костер догорал. Над Родопами взошла луна. Шум реки сделался явственнее. Заглушая его, болгары пели протяжные родопские песни, дошедшие из тьмы веков.
После карпа и яловицы, поджаренных на наших глазах, легче понять, что такое болгарская скара.
В обеденных карточках ресторана скара еще не значится. В обед легче получить фасоль с мясом и вообще всевозможные яхнии, иногда даже попскую яхнию, то есть яхнию по-поповски, или яхнию по-монастырски, пожалуй, самую вкусную. Яхния – это вот что. Представьте себе кусок тушеного мяса, плавающий в обильном соусе, а вокруг него на тарелке – тушеные целиком головки чеснока и лука. Болгары едят также в огромном количестве то, что у них называется праслук, а по-нашему, лук-порей. Он вырастает у них как средней урожайности кукуруза – каждый стебель толщиной едва ли не с руку. Осенью в городах и в деревне всюду увидишь связки, груды, возы этого лука, целые грузовики, нагруженные им.
Скара начинается с шести часов вечера. Скара – понятие обобщающее. Это еда, приготовленная на металлической решетке над углями. Приготовить же на решетке можно все: помидоры, мясо, печенку, рыбу, ну и, конечно, всенепременные во всех уголках Болгарии кебабчаты.
Вся Болгария после шести часов ест кебабчаты. Столичная интеллигенция и туристы – в дорогих ресторанах; жители небольших городов или, напротив, больших деревень – в провинциальных и деревенских ресторанчиках, которые лучше было бы назвать корчмами, или духанами, или по-старорусски – трактирами. Напомню, что кебабчаты – это такие маленькие, с палец, сочные палочки, приготовленные из крупного мясного фарша с разными специями.
Есть одна специя, общая для всей Болгарии. Если ехать осенью по болгарским деревням, все равно где: в родопских горах, около Рильского монастыря, на равнине у Старой Загоры, по Фракийской низменности, около Пловдива, по Балканам у Котела или Трояна. вдоль Дуная, от Видена к Русе, у моря, возле Варны или Бургаса – всюду осенью в Болгарии крестьянские дома увешаны гирляндами красного перца. Не то чтобы одна-две гирляндочки, а именно увешаны по всем наружным стенам, особенно с солнечной стороны. Большие, сочные, мясистые стручки сладкого болгарского перца и маленькие, коротенькие стручечки, таящие в себе огненную лютую жгучесть. Эти стручечки зовутся по-болгарски «люты чушки».
Вспоминаю, как однажды на виноградниках в Перуштице нас угостили ракией, а пить было не из чего. Отрезали у сладких перечных стручков концы, и получились изящные, красивые даже сосуды. Между прочим, сосудами и закусили.
А еще вспоминается, как тогда же, в первый мой приезд в Болгарию, заехали мы на большой завод под названием «Витамин» в местечке Кричим, недалеко от Пловдива.
На комбинат поступает сырье. Но какое это сырье! Яблоки, груши, вишни, виноград, помидоры, лук, перец, черешня, брусника, земляника, клубника, персики, абрикосы, огурцы, чеснок, фасоль, горох, сливы, баклажаны, дыни… Конечно, здесь нельзя встретить одновременно раннюю черешню и позднюю дыню. Но все перебывает на комбинате в течение длинного болгарского лета.
Из десятков видов сырья комбинат вырабатывает десятки видов продукции. Разнообразные маринады, пасты, пюре, соки, желе, сушености, варенье, сиропы, повидло, джем, изюм. Сладкое и душистое производство. Пчелы и осы во множестве летают в цехах.
Поскольку комбинат называется «Витамин», мы поинтересовались у хозяев комбината, все ли витамины остаются в овощах и ягодах, или часть их улетучивается во время производства.
Директор комбината сначала выразительно свистнул, показав глазами вверх, а потом уж и сказал: «Следы остаются».
Он скаламбурил, конечно: на экранах страны в то время шел фильм о шпионах, именно под таким названием. Больше того, мы, живя в гостинице «Славянская беседа», должны были смотреть этот фильм ежедневно по три сеанса, потому что окно номера выходило как раз на экран летнего кинотеатра. Под конец мы знали наизусть каждый кадр, если даже не смотрели в окно, а просто так, по звуку. «Вот сейчас он перепрыгивает через забор, – говорил мне мой напарник, лежа на койке. – Вот сейчас выглядывает из-за угла».
– Значит, следы остаются. А где же сами витамины? Директор еще раз показал глазами наверх и смущенно улыбнулся.
– Впрочем, – вдруг заговорил он горячо, как бы в стремлении оправдать все эти помидоры, черешни и смородину, не умеющие сохранить в себе витамины, проходя, через огонь, воды и медные трубы, – впрочем, есть у нас одно сырье, которое, что бы с ним ни делали, не теряет ни одной капельки своих витаминов.
– Несмотря на огонь, воды и медные трубы?
– Несмотря ни на что. Его можно сушить, кипятить, толочь в порошок, травить уксусом… Наверно, вы догадываетесь, что это перец, обыкновенный красный перец, либо сладкий, либо лютый.
Перца в Болгарии едят очень много. В нескольких домах, где перец нам особенно понравился, я по своей всегдашней дотошности спрашивал у хозяев рецепты приготовления. Из нескольких рецептов, очень похожих друг на друга, в моем представлении сложился способ, которым я хочу поделиться.
Спелые стручки сладкого перца немного обжаривают на сухой сковороде или плите, чтобы кожица прикипела и запеклась. Теперь стручок очень легко очистится от кожицы. Очищенные от кожицы и от семян стручки заливают холодным раствором: одна часть растительного масла, две части уксуса. Соль, сахар по вкусу, чеснок. Держать в растворе одни сутки. Потом вынимать, отряхивать от раствора, укладывать в стеклянную посуду и доверху заливать растительным маслом. Сохраняется в течение года, до петрова дня, говорила хозяйка. Но, конечно, у вас до петрова дня он не достоится, вы съедите его гораздо раньше.
Жгучий, или будем говорить по-болгарски, лютый, перец заготовляют таким же образом. Он теряет немного своей лютости, и его едят за обедом, вприкуску с мясными блюдами. От семян и веточек его не очищают, именно за веточку-то и берут во время обеда.
Я сначала откусывал по миллиметрику и ужасался, когда мои болгарские друзья отправляли в рот целый стручок. Это мне казалось вроде фокуса в цирке, когда глотают шпаги, горящую паклю, пьют горящий керосин и т. д. К концу поездки я сам сделался таким фокусником и не мог уж съесть ни обеда, ни ужина, не попросив себе шесть-восемь стручков лютого маринованного перца.
ЭТЮД АРОМАТИЧЕСКИЙ
Когда турки завоевали столицу Византийской империи – Константинополь, им в руки достался и первый по значению православный храм – знаменитая Святая Софья. Они, магометане, при их абсолютной нетерпимости к другим религиям, особенно к христианской, должны были срыть этот храм с лица земли да еще и провести борозду плугом на месте, где он стоял.
Но турки решили сохранить великолепное здание, переосвятив его в мечеть. Султан, между прочим, приказал омыть все здание розовым маслом, чтобы, значит, уж вовсе не пахло никаким православием. Где-нибудь можно найти (я теперь забыл), сколько бочек или тонн понадобилось для этой санитарно-символической процедуры.
Я вспомнил об этом на опытной станции под Казанлыком, после того как сотрудница станции на прощание дала мне лоскуток бумажки величиной с ноготь мизинца, капнув на него (вернее, помазав стеклянной палочкой) розовым маслом.
Бумажку надлежало спрятать в карман, чтобы в течение нескольких дней там, в кармане, держался драгоценный аромат. Восточная пословица гласит: «Имеющий мускус в кармане не кричит об этом: запах мускуса говорит за него».
Именно бумажка-то, чуть-чуть помазанная розовым маслицем, и натолкнула меня на сопоставление. Если уж такая капля розового масла кажется драгоценной и чуть-чуть перемаслить бумажку считается расточительством, каков же был размах у турецкого султана, омывшего маслом самое грандиозное здание Константинополя.
У каждой страны при всем богатстве или, скажем, при всем разнообразии богатств и ярких особенностей всегда найдется какая-нибудь особенная особенность. Ну там, допустим, русская икра, французское вино, чешское пиво, австралийская шерсть, исландская селедка, голландский сыр, греческие маслины, швейцарские часы, финские лыжи, норвежские рыболовные крючки, немецкая оптика, венские вальсы, неаполитанские песни.
Для Болгарии – розовое масло. Оба раза я был в Болгарии осенью (в последний раз на грани осени и зимы) и, разумеется, знаменитой Розовой долины в ее полном, цветущем, благоуханном блеске не видал. Больше того, когда мы спустились с Шипкинского перевала вниз, к городу Казанлыку, долина оказалась припорошенной первым (очень временным, впрочем) снежком. Какие уж тут розы! Все же нельзя было совсем не поинтересоваться, проехать мимо.
Вот сотрудница опытной станции и показала нам неоглядные дали, занятые под розовые плантации. Кусты растут ровными, убегающими вдаль рядами, как, скажем, чай в Грузии или как росла бы черная смородина.
Надо заметить, что пышно цветущие, декоративные розы, так сказать, розы-аристократки (а их ведь сотни сортов), почти совсем бесполезны с точки зрения розового масла. Казанлыкская роза – роза-скромница, роза-труженица. Так ведь очень часто бывает в жизни – либо красота, либо польза. Напоминая об этом, я вовсе не хочу принизить какую-нибудь одну сторону. Каждый из нас ни разу, может быть, не видел, не держал в руках ни грамма розового масла и не страдал от этого, но зато десятки и сотни раз наслаждался красотой цветов. Мне, во всяком случае, легче представить мою жизнь без зеленоватой жидкости, заключенной в стеклянный сосуд, чем без мудрого разнообразия цветов на земле, без их великой облагораживающей красоты. Отдавая должное весьма полезной казанлыкской розе, не будем упрекать желтые, чайные, махровые, черные, белые и прочие розы за то, что «недостаточно эфироносны», за то, что существование их на земле в некотором роде попахивает тунеядством и пора бы-де заставить их производить розовое масло.
Страничкой раньше я сказал про розу: «кто» вместо «что», то есть как если бы про одушевленный предмет. Это я под влиянием сотрудницы, провожавшей нас, под влиянием ее отношения к розе. Сотрудница, например, говорила:
– Когда роза цветет, она хочет, чтобы было много влаги в воздухе. Особенно ей нравится туманное утро. Поэтому наша казанлыкская роза цветет с конца мая до двадцатого июня. Свои бутоны она раскрывает рано утром. Надо обрывать лепестки до восхода солнца. Потом масло начнет улетучиваться. Вы же знаете, как пахнут розы на солнце.
Обрывают розовые лепестки только руками, никакая механизация невозможна. С одного гектара мы собираем две с половиной тонны розовых лепестков (вот это сырье!); из трех тонн лепестков мы получаем один килограмм масла, один килограмм масла стоит пять тысяч левов (около шести тысяч рублей на наши новые деньги). Розовое масло идет исключительно на экспорт. В 1917 году в Болгарии было 9 тысяч гектаров розовых плантаций. В 1944 году – пять гектаров. Теперь около трех с половиной тысяч.
Сначала производили исключительно розовую воду. Она идет в медицину, в кондитерскую промышленность, в косметику. Потом заметили, что на розовой воде плавают капельки масла. Теперь вода – вторичный продукт.
Опытная станция изучает болезни, вредителей, агротехнику. Собственно, две главных половины вопроса: во-первых, зачем и где образуется масло и, во-вторых, каким способом получать его побольше. Я не уточнял, но, сдается, что вторая половина вопроса решается успешнее первой.
Аппаратура несложная, перегоночная: котлы, трубы, пар, его охлаждение, капельки драгоценной жидкости.
Когда происходило вручение упомянутого мной лоскутка бумажки, разговор расширился, захватив краем эстетическую сторону розового цветка. Я вспомнил о том, что садоводы, как ни бьются, не могут вывести голубого сорта розы. Сотни, многие сотни оттенков и сортов, а голубой не дается в руки, разжигая азарт, возбуждая энергию любителей.
– У нас есть голубая роза, – возразила мне девушка.
– Не может быть! – Почва подо мной заколебалась. Дело в том, что на этой голубой розе, вернее, на невозможности вырастить ее, я построил одно свое стихотворение. Зачеркивать его было очень жалко.
– Ну да, – убеждала девушка, – есть голубая роза.
Мы подошли к кусту. Но роза теперь не цвела, и наш спор никак не мог бы решиться. Но тут вспомнили, что на станции есть альбом. Скорее раскрыли его на нужной странице.
«Вздох облегчения вырвался из моей груди», – как написали бы в старинном романе. Роза была вовсе не голубой, а сиреневой, лиловой, скорее даже фиолетовой.
ЭТЮД ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
Михаил Михайлович Пришвин однажды написал, что долгое время в его жизни был небольшой пробел: все не удавалось вместе с археологами покопаться в земле. Ну там курганы, древние захоронения, черепки, кости…
У каждого из нас, наверно, есть такие пробелы. Каждый человек умирает, не увидев на земле большую часть того, что есть, не прикоснувшись к большей части дел, которыми занимаются люди.
Мне, например, не приходилось до сих пор бывать в настоящих пещерах. Читал в книгах про сталактиты и сталагмиты, подземные озера и реки, про заманчивые путешествия в глубь земли. В книжках, читанных в детстве, все эти пещеры были связаны с тайнами, с кладами, с таинственным исчезновением людей, со скелетами, находимыми в глубине пещер. Красота пещер была между прочим.
Люди живут на земле, редко думая о том, что у них под ногами, под деревнями, лугами, пашнями, рощами, реками или даже морями скрывается что-то такое, что может быть интересным или даже красивым. Полезные ископаемые – это понятно. Где-то внизу залегают каменный уголь, нефть и железные руды. Но чтобы сказочные дворцы…
Правда и то: находясь в настоящей пещере, забываешься и с трудом представляешь, что наверху суетятся в изнурительной суете миллиарды живых существ, руководящихся в своем поведении все больше минутными да часовыми стрелками. Иногда поглядывают даже и на секундную.
Здесь своя мера времени. С каменного свода, с высоты, допустим, двадцати метров падает капля. Через некоторое время (не имеет значения, через какое) она упадет вновь. Можно поручиться только в одном – промежутки между каплями абсолютно одинаковые. Капли падают восемнадцать миллионов лет. В ней, крохотной капельке воды, растворена крупица (ну какая там крупица, молекула!) извести. Упала капля на каменный пол подземного зала, разлетелась вдребезги, растеклась в мокрое пятно. Так бы и не было навеки ничего, кроме мокрого пятна. Но, чу, точно на это же место падает новая капля. Не было бы ничего и теперь, упади хоть сто капель, хоть тысяча. Разве что продолбилась бы со временем в камне маленькая ямка, исходя из пословицы – мала капля, но камень долбит.
Происходит нечто противоположное. На месте падения капли появляется беленький бугорок. Микроскопическая частица извести, растворенная в капле, умудрилась зацепиться за камень, остаться на месте падения капли. Торопиться некуда, если, допустим, восемнадцать миллионов лет. И вот посреди серого, черного даже, каменного зала вырастает ослепительно белая, как бы вся в инее каменная сосна высотой и размахом ветвей с настоящую земную сосну, выросшую на отшибе от леса на солнечном и ветровом приволье.
В том месте, откуда капля падает, тоже начинает расти причудливое образование вроде сосны, но только острием книзу.
«Кап да кап» работает время-зодчий, куда ему торопиться. Здесь по-новому осмысливается выражение, которое я однажды услышал от профессора-геолога: «За последние 7—8 миллионов лет, – сказал профессор, – на земле ничего существенного не произошло».
Снаружи обыкновенный каменный холм серого тона, редкая трава. Узкого, треугольного хода внутрь земли сразу и не заметишь. Пригибаемся и пролезаем в темноту. Ноги слышат резкий, скользковатый уклон вниз. Впрочем, вот ступеньки. Пещера благоустроена для посещения туристов.
Испокон веков люди отправлялись в пещеры с факелами. Говорят, совсем другое дело, когда факелы и красные отблески, пляшущие на белых причудливых колоннах подземных дворцов, в то время как своды и все впереди и все позади тонет во мраке, устоявшемся за миллионы лет. И тишина здесь тоже устоявшаяся, и совершенно неподвижный, миллионы лет неподвижный воздух, всегда одной и той же температуры – 13 градусов (для той пещеры, в которой мы были, разумеется). Попадалось и пещерное озеро, по-новому играли в нем черно-красные факелы.
Говорили, что можно было попросить устроителей экскурсии, и они могли бы устроить прогулку с факелами. Но мы не догадались попросить, путешествовали вполне современно и цивилизованно.
Экскурсовод, шедший рядом с нами, шарил рукой впотьмах, ища переключатель, впереди раздавался легкий гулкий щелчок, как бы крохотный взрывик, и вдруг, именно вдруг, как может быть только в сказке, из кромешной (на этот раз уж безо всякой метафоры кромешной) тьмы возникало волшебное царство, которое ни в сказке рассказать ни пером описать: дворцовый зал метров тридцать, а то пятьдесят в длину, метров пятнадцать-двадцать в высоту.
Лампы были устроены так, что их самих вовсе не было видно. Они лишь подсвечивали то стены пещерного зала, то наиболее красивый сталагмит. Иногда они подсвечивали сталактиты и сталагмиты сзади, причудливые образования виделись силуэтно.
Когда мы миновали один зал, свет в нем гас. На некоторое время мы оставались в полной пещерной темноте и тишине. Потом опять гулкий щелчок, и вот новое царство, новая фантастическая красота. И так на несколько километров вглубь и вдаль под землей.
То опускается сверху донизу тяжелый складчатый театральный занавес, то струится, обтекая вроде бы на своем пути округлые валуны, из белого камня изваянный водопад. То, как я уж говорил, выросла натуральная каменная сосна, то свисают гигантские каменные сосульки, то свисают пышные каменные люстры, то весь потолок – грандиозные пчелиные соты; то дальняя стена – ни дать ни взять – орган, на котором играть бы великану, то настолько уж все замысловато, витиевато и причудливо, что не знаешь, на что и похоже.
В причудливом и бесформенном всегда можно узнать нужные тебе формы. Поэтому экскурсовод добросовестно показывает образования, похожие на монаха, на трех монахинь, на влюбленную целующуюся пару, на магометанский город с минаретами, на старушку, на всадника, на медведя, на убийцу с ножом, на цветущую розу.
В путеводителях обыкновенно про пещерные залы пишут: «Каменные симфонии». При всей видимой банальности очень точно сказано, если вдуматься в первоначальный подлинный смысл этих двух слов.
Потрясли меня более всего летучие мыши, прилепившиеся к потолку дружной колонией. Я не сразу понял даже, что темное пятно на сводах очень высокого зала (метров восемнадцать) – живые существа. Потом заметил, что пятно шевелится. В первое мгновение у меня была мысль, что мышам тоже пятнадцать (или сколько там) миллионов лет. Лишь опомнившись, я осознал всю нелепость моего первого предположения. Это все потому, что очень они сливаются, срастаются, гармонируют с камнями пещеры. Труднее было предположить, что их когда-нибудь, хотя бы и миллионы лет назад, не было.
– Постойте, – вдруг спохватился я, – а как же они находят отверстие, выход наружу, здесь столько поворотов и так далеко, полная темнота?
Пришлось выслушать маленькую лекцию о том, что у летучих мышей существует ультразвуковой аппарат, гораздо тоньше и совершеннее изобретенных человеком радиолокаторов. Летучая мышь во время полета излучает пятьдесят тысяч колебаний в секунду. Эти ультразвуковые волны, натолкнувшись на препятствие, возвращаются к своему источнику, к мыши, воспринимаются ею. И, между прочим, она успевает изменить направление полета. Рассказывают, что летучую мышь сажали в темный ящик, в котором так и сяк струнами были натянуты провода с током высокого напряжения. Летучая мышь летала в темпом ящике меж проводов и ни разу не зацепилась ни за один провод.
В холодных пещерах летучие мыши на зиму оледеневают. Сердце бьется два-три удара в минуту. Но это там, внутри, а снаружи округлый ледяной комок.
Мне тем более было странно увидеть летучих мышей, что я не допускал для себя никакой органической жизни в пещере, в абсолютной миллионолетней темноте. Оказывается, в пещере обитает более двадцати видов живых существ. Пять видов жуков, которые гибнут, если их вынести на дневной свет; водяные блохи; пещерная сороконожка, простейшие…
Пещера, которую мы осматривали первой, некогда, в доисторический период, была обитаема. Здесь находили приют неандертальцы.
Они обитали в самых ближних залах, не забираясь в глубь ходов и переходов. Были найдены здесь скелет медведя и человеческие скелеты рядом с ним. Может быть, тут шла борьба.
Но самое бесценное, что осталось от ранних обитателей пещеры, – рисунки на камнях. Техника оригинальная. Не яичная темпера, не акварель, не масло, не пастель, не даже уголь. Рисунки сделаны пометом летучих мышей, накопившимся за тысячелетия. По виду они как все равно сделаны густым дегтем, горелой смолой, черные и поблескивают. Человечки, страус, жираф – это в северной части Болгарии, недалеко от Дуная.
Жаль, что изящные творения неведомого доисторического гения (он творил пальцем) испортили варвары XX века. Среди многочисленных туристов попадаются эти, видимо, в каждой стране существующие, с позволения сказать, люди, которые испещряют своими именами скалы и деревья, скамейки в парках и памятники старины.
Но одно дело испортить скамейку в парке или скалу над горной рекой, а другое дело рисунки, которым много тысяч лет.
Рядом с человечками и страусами тем же мышиным пометом начертаны имена, число, месяц, год, неизбежные «Петя плюс Марина».
И это полбеды. Хуже, что рядом с подлинными человечками и страусами теперь уж нарисованы такие же человечки и животные. Конечно, тому, доисторическому художнику, трудно было искать непривычные для него формы выражения фантазии. Он должен был быть гением. Теперь же, спустя несколько тысячелетий, любой школьник нарисует жирафа, особенно если есть с чего скопировать.
Иногда посетители тайком обламывают сталактиты и уносят на память. Произошел и курьезный случай. В пещере было крохотное светленькое озерко, скопившееся по капельке, может быть, за миллион лет. Прошел слух, что, во-первых, кто из старых людей отопьет хоть один глоток – помолодеет; во-вторых, если напьется школьник, не будет получать двоек.
Озерко выпили начисто, до дна. Теперь, конечно, вовсе нельзя безобразничать в пещерах, даже войти нельзя без экскурсовода. Но жди теперь, когда снова наполнится хрустальное доисторическое озерко.
Пещера «Ледник» считается более красивой, чем «Магура». Но то ли первое впечатление всегда бывает сильнее, то ли дело вкуса – «Магура» мне понравилась больше.
«Ледник» – пещера, несомненно, более причудливая. Ее можно сравнить с комнатой, в которой поставили очень красивую мебель, но поставили ее в пять-шесть раз больше, чем было бы нужно. «Магура» обставлена сталактитами и сталагмитами в меру, со вкусом. Много простора. Ее интерьеры, так сказать, полны воздуха. «Ледник» буквально загромождена и походит, если дальше продолжать мебельное сравнение, скорее даже не на комнату, а на мебельный склад или, еще точнее, на антикварный мебельный магазин. Сталактитов из «Ледника» хватило бы на оформление по крайней мере десяти пещер, и в каждой было бы захватывающе красиво. В «Леднике» тесно от сталактитов не только глазу, но и буквально. Приходится то протискиваться боком, то пробираться чуть ли не ползком. А вот и объяснение разницы двух пещер.
Оказывается, «Магура» – пещера молодая, а «Ледник» – пещера старая, больше того,– умирающая.
– Как так умирающая? Что может случиться с пещерой?
– А то, что рано или поздно ее пустота до последнего сантиметра зарастет, заполнится сталактитами и сталагмитами. Вот что может наделать капля воды, несущая в себе мельчайшую крупицу извести.
– Но сколько времени она еще проживет, эта пещера?
– Миллионов на пять лет ее еще хватит. А потом – конец. Она в сущности обречена.
Бедная пещера «Ледник»!
Пещера «Панура» еще не обследована, а тем более не благоустроена. Она начинается узкой, островерхой расселиной в скале. Нижняя часть расселины уходит в пещерное озеро, так что в «Пануру» можно пробраться только на лодке. А потом, оказывается, своды делаются низкими, почти соприкасаются с водой, а потом вовсе нужно нырять, чтобы пробраться в следующий зал пещеры. Находились смельчаки, ныряли в водолазных костюмах, но очень уж холодна подземная вода.
Там, внутри, будто есть уж не каменные, а настоящие водопады, настоящие большие озера, а не такие, что могут выпить старики и школьники.
Когда «Панура» будет благоустроена для туристов, это будет по красоте и своеобразию едва ли не первая пещера в мире.
А еще рассказывают про пещеру «Змеиная нора». В ней цветные, а не белые образования. Например, так: ярко-красная стена, густо-синее озеро около стены; в озере, как цветок, снежно-белый сталактит с красным посредине.
Когда выходишь из пещеры к солнцу, во-первых, все-таки испытываешь чувство невольной радости, а во-вторых, только что увиденное начинает казаться не то приснившимся, не то как если бы вышел из кинозала после увлекательного, но вполне фантастического фильма.
ЭТЮД ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ (продолжение)
В моей памяти постепенно складывается коллекция уникальных пейзажей. Впрочем, не только в памяти: стараешься ведь и записать.
Коллекции иногда поражают оригинальностью и фантазией собирателя. Доподлинно известно, что Леонид Максимович Леонов в отдельную тетрадь выписывает из книг короткие ли, подробные ли описания русской бани. Ну, например, у Твардовского в «Василии Теркине» прекрасно дана русская баня или, еще лучше, у Мельникова-Печерского в его многотомной эпопее о старообрядцах.
А уж если так, то почему бы не брать на заметку уникальные пейзажи?
Дело ведь в том, что почти всегда, если вы много путешествовали и много видели, один уголок земли напомнит вам своим видом какой-нибудь другой уголок, горное ущелье в Альпах или на Кавказе будет похоже на горное ущелье Памира или Тянь-Шаня. Родопские горы похожи на горы Албании; морские пляжи около Варны, наверно, найдут себе близнецов ну хоть у нас, на Черном море, или, может быть, где-нибудь в Америке, или на Филиппинах. Если человека с закрытыми глазами привести в Сахару, то он, открыв глаза, может быть, спутает Сахару с Ливанской пустыней или даже с Кара-Кумами. Американские прерии, наверно, чем-нибудь похожи на наши российские степи.
Но в том-то и дело, что есть пейзажи единственные в своем роде. Где бы вы ни ездили по земному шару, нигде не найдете ничего подобного. Это редчайшие, уникальные пейзажи. Для примера вспомню из моих запасов залив Спустившегося Дракона во Вьетнаме. Павел Антокольский о нем писал:
«Надо взять наше кавказское черноморское побережье, помножить его на Южный берег Крыма и сумму возвести в кубическую степень, чтобы представить себе эту мощную красоту. Но сказать «красота» – это еще ничего не сказать.
Это – колыбель красоты, существовавшая задолго до того, как началась история людей, придумавших прилагательное «красивый». Здесь могли жиреть на солнце, класть яйца, ласкать своих самок ихтиозавры и птеродактили. Это – молодость нашей планеты, ее необузданное веселье, черновые варианты ее работы, оставленные в дальнейшем без разработки за отсутствием большой надобности, своего рода архитектурные излишества природы».
Представьте себе обширную морскую бухту, наполненную, как полагается, синей морской водой и раскинувшуюся под синим солнечным небом. Теперь надо набрать несколько тысяч (кто говорит – три тысячи, кто говорит – пять) наиболее причудливых, наиболее острогранных, черных, как антрацит, камней разного размера, но все же такого, чтобы каждый камень годился стать островом и раскидать их в темную голубую воду в самом непринужденном порядке, вернее, без всякого порядка. Можно их просто высыпать с высоты. Где какой упадет, пусть там и лежит. Так и легенда рассказывает, что это рассыпался над заливом спустившийся с гор дракон, и три тысячи островов есть не что иное, как обломки туловища дракона.
Если бы островки были плоские, пологие, то будь их хоть пятьдесят тысяч, они не создали бы такой неповторимой картины, какая существует теперь. Но нет, каждый остров – огромная, с отвесными стенами скала. В каждой скале зияют пещеры и гроты, расселины и уступы, трещины и карнизы. Цепкий кустарник и небольшие деревья. Как маскировочной сеткой, плотно опутывают каждую скалу, минуя только самые вертикальные места.
Прилив и отлив, прибои во время ветров и тайфунов к за веком подтачивали основания скал, поэтому многие острова похожи на каменные грибы.
Издали сливаются все острова в сплошную гряду, синюю от расстояния.
Но вот все уменьшается и уменьшается наш катерок, и мы вместе с ним, и превращается, наконец, в игрушку, в мусоринку у подножия великана.
Первые два острова расступаются, как будто раздвигается каменный занавес, и катерок вплывает в бесконечный лабиринт, в котором нетрудно я заблудиться.
Причудливый, фантастический, сказочный лабиринт. Голубые извилистые коридоры с темными стенами и синим потолком. Впечатление все время раздвигающихся занавесей не оставляет, пока плаваешь по лабиринту, ибо плавание в том и состоит, чтобы вплывать в протоку между островами. Вот протока кажется узкой щелью, вот приближается, расширяется, острова расходятся в разные стороны, пропускают катер и сзади него сходятся вновь, только что не лязгают друг о друга.
Только впервые попав на другую планету, будут люди с такой же жадностью вглядываться в каждый камень, изглоданный морской водой, в каждую пальму, торчащую из щели, в каждую обезьянку, мелькнувшую в зелени.
Необыкновенное чувство восторга (словно во сне, словно в сказке, словно в заманчивом приключенческом романе, но в то же время ведь наяву) овладевает вами и не покидает, несмотря на то что за четыре часа во всех возможных вариантах, во всех возможных сочетаниях предстали перед вами лишь скалы, вода и небо.
Болгария с пейзажной стороны очень красивая страна. Но не на каждом шагу подберешь по дороге к себе в тетрадку пейзаж, который был бы наверняка уникальным.
Взять хотя бы Фракийскую низменность. Казалось бы, что может быть красивее. Однако смотришь, смотришь и вдруг вспомнишь Алазанскую долину в Грузии. Точно так же Фракийская долина лежит глубоко под вами, расстилаясь вдаль и вширь. Точно так же, непосредственно под вами, из зелени проглядывают красные черепичные крыши домов. В одном случае Пловдив, в другом – Телави. Точно также долина заполнена, как морской водой, легкой голубоватой дымкой. Впрочем, про эту голубизну нельзя сказать – дымка, потому что она вполне прозрачна. Он не мешает вам видеть игрушечный городок километрах в двадцати, серебряную ниточку реки или дороги. Точно так же, ближе к сумеркам, к вечеру, голубизна становится сиреневой, лиловой, фиолетовой, черно-бархатной, если нет луны. Если есть луна, долина наполняется изумрудным зеленым светом.
Конечно, архитектура, вписанная в пейзаж, неповторима. Нет в мире второго Рильского монастыря, что на склоне горы Рилы. Но архитектура пока не в счет. В Болгарии мне встретились два вполне уникальных пейзажа.
В район Белоградчиских скал я ехал, разъедаемый легким скепсисом: «Знаем мы эти туристические достопримечательности!» Да и немало пришлось повидать разнообразных скал. Какие могут быть новости? Или это интереснее семи кроваво-красных гигантских щитов в ущелье Джеты-Огус? Как будто семь быков, каждый трехсотметрового роста, встали в рядок на передние колени, чтобы напиться из зеленой струи обильного горного потока.
…Постепенно я стал внимательнее глядеть по сторонам. Потом мы въехали… Вот опять никак по-другому не скажешь, потому что въехали мы в фантастическое волшебное царство.
Главным скульптором здесь был, по-видимому, ветер. Торопиться ему было некуда, к тому же попался благодарный голубого цвета материал. Теперь освещение было такое, что скульптуры казались густо-голубыми, даже синими.
Я думаю, если бы на зеленую траву наставить обыкновенных скульптур разного размера, подыспорченных землетрясением, чтобы остались только общие контуры и силуэты, наставить их в беспорядке, побольше, а потом пустить бы между ними путешествовать лилипутиков ростом в пять сантиметров, то эти лилипутики и были бы мы с вами среди знаменитых Белоградчиковых скал.
Групповая скульптура бредущих монахов (каждый монах стометрового роста), мадонна, всадник, задевающий головой за плывущее облако, влюбленные, обнимающиеся на виду далеких окрестностей, медведь, сосна, групповая скульптура «Сплетницы».
Не обходится без легенд. В монастыре жила послушница необыкновенной красоты. Люди издалека ходили в монастырь, чтобы взглянуть на нее, ибо смотреть на красоту – великая радость, данная человеку.
Пастух не ходил в монастырь – он каждую ночь играл на свирели недалеко от стен святой обители. А свирель рассказывала о любви. Однажды ночью красавица пришла на зовущий голос свирели.
От любви родился ребенок. Строгие монахини бросили ребенка со скалы. Мать спустилась вниз, подобрала трупик, обернулась к монастырю и прокляла его материнским проклятием. В один миг все окаменело вокруг: сама красавица с ребенком, и монахини, и пастух, и всадник, ехавший мимо, и сплетницы, и влюбленные, и даже одна сосна…
Другой редчайший пейзаж повстречался в Родопах. Строго говоря, это даже и не пейзаж, а причуда природы. Мы ехали в район Триградских скал в Родопах. Колорит становился все суровее и мрачнее. На вертикальных пепельных каменных плоскостях, вздымающихся до неба, растут (вертикальные, разумеется) сосны. Как они умудрились зацепиться за скалу, где берут соки, чтобы жить? Какая неутомимая жажда жизни! Сосны кажутся приклеенными к серому картону, как цветочки в школьном гербарии.
Постепенно ущелье стало сужаться, дорога пошла вверх, нарастал смутный отдаленный гул, но не такой, как от горной реки, а как если бы вода падала в глубокую пустую бочку.
Я не разгадал причины гула, пока мы не подъехали, а потом уж не подошли, карабкаясь по камням, вплотную к его источнику.
Вполне приличная и ничем дотоле не интересная река, мчащаяся по камням, падала в округлую черную дыру на глубину (впрочем, кто знает, какая там глубина, может быть, сто, может быть, триста метров) и утекала куда-то под землю, становилась невидимой подземной рекой.
Прежде чем упасть на дно фантастического колодца, вода ударялась о его стены, о выступы, дробилась, разбрызгивалась, распылялась. В верхней части колодца, перекрещиваясь друг с другом, дрожали радуги. Они гасли на глубине, поглощаемые серой мглой. Потом начинался мрак. Там-то, во мраке, и гудело, и клокотало, и гремело, как в бочке.
Между прочим, по легенде именно здесь, в Родопах, Орфей спускался в ад. Не эта ли дыра, не эти ли мрачные ворота в глубь земли, послужили ему входом в подземное царство? Много ли воображения нужно было человеку в старинные времена, чтобы считать такую вот прорву кратчайшей дорогой к Люциферу? Тем более, что круглые глыбы ниспадают сначала не отвесно, а вот именно образуя гигантские каменные ступени.
У нас, конечно, теперь иное (я бы не сказал, правда, что более интересное) понимание мира. На обратном пути мы обсуждали всего-навсего, водится ли там, в подземной реке, форель. Или, может быть, какая-нибудь другая рыба?
ЭТЮД ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ (продолжение)
Созополь, несомненно, самый своеобразный городок на всем побережье Черного моря. На берегах Кавказа и Крыма, Румынии и Болгарии, на противоположных Анатолийских берегах нет ничего подобного Созополю.
На черноморских городах лежит обыкновенно отпечаток праздничности, яркости, южной неги. Суровость присуща более городам Севера. Созополь суров, как обветренные лица его рыбаков, как их быт, как скалы, на которых лепятся друг к дружке созопольские дома.
Зимние штормы с тысячеверстого разгона бьют в окрестную высокую скалу, и тогда брызги, подобно картечи, летят по улицам городка. Они оставляют оспинки на домах и вышибают стекла, поэтому созопольцы обшивают наружные стены домов дранкой, которая серебрится и похожа издали на рыбную чешую.
Кроме этой дранки, тут вокруг все камень да камень. Узкие, причудливо извивающиеся улочки похожи на траншеи, вырубленные в скале.
Мы довольно долго шли по таким улочкам, поднимаясь вверх и уходя все дальше от моря, а когда открыли окно в номере гостиницы и заглянули вниз, увидели, что внизу о подножие скалы разбиваются голубые валы прибоя.
Говорят, что летом Созополь наводняют курортники, то есть не то чтобы курортники, а отдыхающие, приехавшие провести отпуск у Черного моря. Яркими костюмами и лицами пестрит тогда суровый рыбачий городок.
Теперь была осень, и гостиница пустовала. Созополь не был целью нашей поездки. Мы надеялись пробраться отсюда в устье реки Ропотамо и по возможности подняться вверх по ее течению.
Книги по географии и туристские справочники, друзья и случайные знакомые твердили нам, что Ропотамо – один из самых красивых и диких уголков Болгарии. Говорилось даже, что это не что иное, как миниатюрная игрушечная Амазонка.
Капитан Петер, в котором суровость моряка, избороздившего море в погоне за дельфиньими стаями, сочеталась с добродушием пожилого толстяка, охотно согласился потерять сутки и прокатить нас на своем рыбачьем боте.
Оставалось решить продовольственный вопрос: ведь на Ропотамо нет ни кафе, ни закусочных, ничего, на что можно было бы рассчитывать. Да и команде рыбачьего бота (состоящей, правда, из трех человек) не голодать же из-за нас целые сутки. Тогда мы решили дать капитану Петеру денег с тем, чтобы он уж обо всем позаботился.
Когда мы по неопытности отсчитали ему несколько крупных купюр, едва заметная тень удивления промелькнула на капитанском лице, но тут же и исчезла: моряки ведь, с одной стороны, привыкли ничему не удивляться, а с другой, сдерживать и скрывать свои чувства. «Наверно, такой уж у них размах и аппетит», – может быть, подумал про нас капитан Петер.
Вечером этого дня любопытные созопольцы могли наблюдать, как вереницы людей по гнущимся сходням тащили на рыбачий бот бутылки, оплетенные прутьями, арбузы, корзины с рыбой, мешки с хлебом, закатывали некие бочки.
Проснувшись задолго до восхода солнца, мы услышали, что прибой под окнами хлещет сильнее и ритмичнее, чем он хлестал с. вечера. На рассвете и летом бывает зябко, теперь, в сентябре, было холодно. Только что не заморозок. Совершенно круглая луна, заливая все таким ярким светом, какой может литься от луны только на юге, как бы еще добавляла холоду.
По пустынным каменным улочкам Созополя, где черные, как тушь, тени резали на причудливые куски поле лунного света, мы, ежась от зябкости и кутаясь в легкие плащи, шли к пристани. Шаги наши (такая уж стояла в Созополе тишина), наверно, слышны были во всех концах городка, но городок ничем не отзывался на грубые нарушения предутренней тишины, даже ни одна собачонка не тявкнула нам вслед.
На пристани мы увидели, что далекий горизонт зарделся тонким ровным румянцем. Всю зарю мы, однако, видеть не могли, потому что созопольская скала с зубиками домов на ней приходилась между зарей и нами.
Только обогнув мыс, мы очутились лицом к заре, не было теперь перед нами ничего, кроме зари да моря. Утренний румянец неба был, однако, не так еще ярок, чтобы окрасить волны, и вокруг бота по-прежнему плескалась зелено-желтая лунная жидкость.
Из красной зари вылетали, неслись над морем навстречу нам черные птицы. Словно там, за горизонтом, раздували гигантский горн, а хлопья сажи и пепла разлетались далеко в разные стороны. Птицы летели стремительно, и чем ближе подлетали, тем больше утрачивали черноту свою, становясь красными от купания в потоках обильной, бьющей фонтаном зари. Это были чайки. Превращение черных силуэтов в красных птиц было неожиданно и сказочно, а горн раздувался все сильнее и ярче. Но и теперь не хватало еще силы зари окрасить море.
Вдруг заря начала меркнуть и проступили на ее месте пепельные облака. Вот так и потухает костер, покрываясь пушистым белым пеплом. Но потухла заря не вся. Один уголочек ее, возле самого слияния воды и неба, раскалился еще огненнее. Это было похоже на уголь, когда на него дуют. Уголь не только ярчел, но и рос, поднимаясь из-за воды, и вдруг проглянул, брызнул светлыми искрами и вдоль по морю, и вверх во все стороны.
Капитан Петер весело кивнул нам из своей рубки, дескать, проснулся, вышел великий повелитель природы, первопричина всего живого, что есть на земле.
Тут и легла на море малиновая дорожка. С одной стороны гребни волн оставались темно-синими, почти черными, а с другой – зарумянились. Заплескались в море кровавые блики. Белая пена на гребешках волн порозовела, а по временам отдавала сиреневым.
По правому борту на отдалении громоздился берег. Расстояния до него хватало, чтобы стушевались, стали недоступными глазу мелкие береговые подробности. Ни дерева, ни дома нельзя было разобрать нам, находящимся на боте. А может, там и не было ни домов, ни деревьев.
В одном месте зиял в гористой береговой гряде черный пролом ущелья, из которого стекало на морскую гладь густое молоко тумана. Там и можно было предположить устье реки Ропотамо. Действительно, суденышко наше изменило курс и устремилось к туману, до которого не доставали еще (мешала гора) лучи восходящего солнца.
Острогранные черные камни цепью рассыпались перед входом в устье реки. Но мы искусно проскочили между камнями, и вместо пестреющего белыми барашками моря мертвенная, застекленная гладь окружила нас. То ли от тумана, то ли от того, что вплыли в тень горы, стало заметно холоднее. Нос суденышка ломал застекленную поверхность, раздвигая и взбаламучивая сонные воды, но на хруста, ни звона не слышалось при этом.
Берег раздвинулся скупо, так что боту нашему и не развернуться без заднего хода, так, что каждая травинка видна и на правом, и на левом берегу реки. Что и говорить, не очень широка Ропотамо. Не широка, но сказочно красива. Еще и потому она должна быть знаменита в Болгарии, что все остальные реки бурны, кипящи, стремительны, мутны, узловаты, каменисты, одним словом – горные реки, которые, и разливаясь по долинам, не утрачивают горного своего темперамента.
А эта, тихая задумчивая красавица, прозрачная, как бы даже не текучая, прихотливо извивается среди джунглеподобной зелени. Деревья, подобные кучевым облакам, отражались бы в зеркальной воде сразу же от подножия, если бы не мешалась яркая зеленая полоса прибрежного камыша. Приходится деревьям приподниматься на цыпочки, чтобы дотянуться и заглянуть в светлые струи. Сквозь древесную зелень проглядывают коричневые скалы, поднимающиеся куда выше первого ряда деревьев.
Четкие отражения деревьев и скал ломались и змееобразно извивались, равномерно покачивались в волнах, оставляемых нашим судном, А перед носом его, по тихой, не тронутой еще глади, веером разбегались стремительные бороздки. Это испуганная рыба спасалась от шумного чудовища, вторгшегося в розовое речное утро.
То рыбачья хижина показывалась на берегу, то лодка, привязанная к дереву, то небольшой причалик, но людей не было видно. Так плыли мы вверх по реке Ропотамо. А потом капитан Петер подвел бот к удобному месту, и все сошли на землю. Здесь решено было сделать привал с тем, чтобы пешком побродить по окрестностям.
Не успели мы высадиться, как на поляну выскочили из чащи два некрупных кабана, черных, щетинистых, злых. Они недоуменно поглядели на новоявленных Робинзонов и скрылись в зарослях зонтичных трав, похожих скорее на деревья.
Удивительно разнообразные уголки сочетались здесь друг с другом. Взять хотя бы эти зонтичные. Высотой почти с телеграфный столб, толщиной с добрую оглоблю, они поднимались непроходимой стеной, заставляя вспоминать забытые, прочитанные в детстве, научно-фантастические книжки.
А рядом свисают с деревьев зеленые веревки лианоподобных растений, и яркие птицы прыгают по ветвям.
А поодаль вдруг набредете вы на озерко, заросшее белыми лилиями, ни дать ни взять где-нибудь под Солотчей в приокской пойме.
А перевалив за гребень одного холма, ни с того ни с сего вы попадаете в песчаные дюны. Пейзаж настоящей пустыни с чахлыми кустиками колючих трав, даже с лошадиным черепом, полузанесенным песком, окружают вас. Здесь смело можно было бы снимать фильм, место действия которого была бы пустыня. И все это на берегу реки, в которой первозданно кишит и речная и морская рыба.
Любуясь всем этим, мы пробродили по берегам Ропотамо полдня, а в это время экипаж суденышка, оказывается, не терял времени даром.
Была разостлана парусина и были разложены на нее все те припасы, погрузку которых мы наблюдали с вечера. Вот уже третий час капитан Петер, не подпуская никого ближе, чем на пять шагов, священнодействовал и колдовал над ухой по-созопольски. Таинство совершалось в большой эмалированной кастрюле. Крышку с нее капитан приподнимал так, будто боялся, чтобы не заглянули под нее даже и деревья. Но успевало и за это мгновение вырваться из-под крышки сложное, непередаваемое благоухание.
Бутыли, оплетенные прутьями, будучи широкими в поперечнике, опорожнялись медленно, алый, как заячья кровь, сок чистого маврута не столько опьянял, сколько приносил веселящую легкость.
За шумным разговором никто и не заметил, как на Ропотамо появилась лодка. Ее увидели уже совсем близко, когда легко можно было прочитать написанное на борту: «Николай Синицын».
– А, ропотамский Робинзон, – крикнул капитан человеку, сидящему на веслах. – Бросай якорь, иди за наш стол.
К костру, к нашей скатерти-самобранке подошел мужчина лет шестидесяти. Когда он снял кепку, открылись седеющие волосы, слипшиеся от пота в жидкие пряди. Одна прядь прилипла ко лбу, но человек так и не поправил ее. Он не носил ни бороды, ни усов, но побриться ему полагалось бы дня четыре назад. Щетинка – волос черен, волос сед – серебрилась на щеках и подбородке человека.
Пиджачишко и штаны, во многих местах заплатанные довольно аккуратно, готовы были в любом месте и в любую минуту образовать несколько новых прорех.
– Как рыбка? – спросил капитан у нового члена компании, когда тот по-турецки сел на траву и оказался за одним столом со всеми.
– Не ловил я нынче. Понадобилось к устью съездить, вот, еду. А так вообще-то ловится рыбка.
– Э, брось храбриться, – перебил его капитан. – Много ли ты один наловишь, шел бы к нам, в артель. Так и помрешь кустарем-одиночкой.
От Маврута кустарь-одиночка отказался и попросил чего-либо покрепче. Ему налили стакан шестидесятиградусной раки.
Уж очень как-то по-русски он и опрокинул этот стакан, и понюхал согнутый палец, и потянулся за хлебушком.
– Почему лодка у него называется «Николай Синицын», – спросили мы у капитана. – В честь кого? Кто такой был Николай Синицын?
– Николай Синицын он сам и есть. Это, значит, его фирма: сам пью, сам гуляю! Не хочет идти в артель, и все тут. Да что я рассказываю, вы сами с ним поговорите, он же русский. Эмигрировал от вас в давние годы.
Узнав, что мы из России, ропотамский рыбак оживился. Да и ракия сделала свое дело.
– А-ах! Россия! Тамбов, я – Тамбов, Кишинев тоже жил, Молдавия ходил, из Молдавии Румыния ходил.
За долгие годы он отвык чисто говорить по-русски и теперь говорил, перевирая слова, путая окончания.
– Что же держит вас здесь, на Ропотамо? Ехали бы домой, в Россию.
Лицо эмигранта стало жестким.
– Ропотамо – красива, много красива. Туристы глядеть ездят, вы тоже приехал, а я тут живу. Нравится Ропотамо. Сам себе хозяин. Хочу вверх плыву, хочу – вниз. Воля, много воля!
После очередного тоста болгары запели песню. Это была хорошая песня о том, как гайдуки уходят в горы, чтобы биться за свободу земли. В самом ритме песни ощущалось движение конского войска.
Хмелея все больше, старик Синицын подпевал, уронив голову на грудь. Вдруг он резким движением руки оборвал песню, глаза его ожили, пояснели, весь он как-то собрался:
– Я хочу петь. Один. Много хороша песня.
Половину слов старик забыл, другую половину перевирал. Но пелось у него с кровавой болью и, наверное, картина за картиной русской земли вставали в воображении, для того и зажмурил глаза:
Бродяка Пайкал переходит, Рибарская челну возьмет. Тяжелую песню заводит, О родину горько поет.Он пел, стоя на коленях, держа в руке стакан, из которого выливалась на брезент желтоватая ракия, и не стыдясь слез, обильно текших по небритым щекам из-под плотно закрытых век.
В двенадцати шагах дремала на ропотамской воде утлая лодчонка – все, чем обладал старик. Что ж, и лодка – вещь, тем более, что она, как-никак, кормит человека. Но если бы к ней еще и родину!
Это все было в мой первый приезд в Болгарию, осенью 1956 года. Теперь, шесть лет спустя, я в Доме журналиста разговорился с газетчиком из Созополя и поинтересовался, не знает ли он такого-то и такого-то человека на Ропотамо.
– Как же, – ответил корреспондент. – Знаю. Он однажды не вернулся с моря. Наверно, не справилась со штормом его утлая рыбацкая лодка.
Какие российские берега привиделись ему в последнее трагическое мгновение?
ЭТЮД АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
Так уж получилось у нас на земном шаре, что самые красивые, самые торжественные сооружения – храмы. Собор Парижской богоматери, Кельнский собор, Собор Петра в Риме и Павла в Лондоне, Парфенон, храмы Египта, храмы древней Индии, храмы Грузии, пагоды Китая, сказочный Самарканд и, наконец, византийская, а вслед за ней русская культовая архитектура, Святая Софья, Покров на Нерли, Дмитриевский собор, ансамбли Ростова Великого, Суздаля, Пскова, Новгорода, Московского Кремля, село Коломенское, Василий Блаженный, Исаакий, бывший храм Христа Спасителя на месте нынешнего плавательного бассейна «Москва»…
Путешествуя по чужой стране, невольно станешь приглядываться к архитектуре, и особенно к старинной архитектуре, и будешь искать, разумеется, самое красивое и обратишь внимание на храмы. Но если в Самарканде все просто, ибо храмы пышно возвышаются над плоским уровнем глинобитных крыш, если в Грузии сразу увидишь суровые, но и торжественные, похожие больше на замки Мцхети или Джавари, если минареты в любом магометанском городе сразу покажут, где нужно искать старинную архитектуру, то в Болгарии есть своя особенность.
Турки разрешали порабощенным христианам строить церкви, но так, чтобы эти постройки не возвышались над кровлями остальных домов, а уже тем более не затмевали бы мечетей и минаретов. Поэтому все болгарские церкви снаружи ни дать ни взять низкие, продолговатые, каменные сараи под черепицей, будничные, ничем не бросающиеся в глаза, одним словом, именно каменные продолговатые сараи. А то маленькие каменные избушки вроде наших деревенских бань или амбаров. На коньке прикреплен невзрачный железный крест. Он-то и укажет, что тут не складское помещение, не какой-нибудь пакгауз, а церковь.
Сюрприз ждет при входе. Крутые ступени ведут вниз, и главный интерьер церкви вовсе не производит впечатления придавленности. Болгарские церкви строились не за счет высоты, а за счет глубины.
Наружную скромность церквей болгары восполняли не только тем, что зарывали часть церкви в землю, но и в первую очередь внутренним убранством. Причем и здесь мы встречаем своеобразие.
Правда, у нас в России каждая церковь представляла как бы своеобразный музей, где один перед одним старались мастера следующих художественных ремесел: живопись (иконы и фрески), резьба по дереву (иконостас), художественное шитье (плащаницы и ризы), златокузнецы, ювелиры, сусальщики, филигранщики (серебряные и золотые оклады, всевозможные цепочки, лампады и кресты), наконец, хоровое пение и архитектура. Особое искусство требовалось при отливке колоколов и для самого колокольного звона на разные лады и манеры. Все это правда. Но все же мы можем из всего этого выделить одно искусство, которое развилось глубже (ну, или выше) других и принесло и до сих пор хранит и унесет в века славу о России. Я имею в виду искусство русской иконописи. Архитектура и музыка, конечно, вполне конкурируют с ним, иной раз даже задумаешься, что выше. Но мгновенные колебания пройдут, когда снова и снова обратишься к шедеврам Рублева, Феофана Грека, Дионисия, Ушакова…
В Софийском этнографическом музее я осмотрел несколько залов, где выставлена старинная живопись. Стены в этих залах задрапированы черным бархатом. На этом глубочайшем фоне сверкающая красками живопись смотрится особенно эффектно. Две иконы поражают своей красотой: Георгий – на синем коне и Дмитрий Солунский – на красном. В Тырнове, в церкви Сорока мучеников… Но про это стоит рассказать чуточку подробнее.
Сам город Тырново, несомненно, один из красивейших городов Болгарии. Берег реки поднимается вполне отвесными высокими скалами. Так вот, дома на скалах кажутся их продолжением, кажется, что дома выросли из скал или высечены из скал догадливым скульптором. Река к тому же изгибается вместе с береговыми скалами, делая вид на город еще более фантастичным и привлекательным.
Церковь, о которой я хотел сказать два слова, напротив, ничем не выделяется с внешней стороны. Она не действует, как и большинство церквей в современной Болгарии. Ключи нам вынесла женщина лет пятидесяти пяти, с добрым, мягким и грустным лицом. Ее зовут Величка.
Величка сначала молча водила нас по церкви, но по мере того, как мы восхищались то одним, то другим, оттаяла и разговорилась. Она стала рассказывать, что любит читать исторические романы из эпохи болгарского Возрождения.
– Я читаю,– говорила Величка, – и плачу. И гордо мне от того, что я болгарка, болгарка!
Женщина даже ударила себя в грудь и действительно прослезилась.
Я не собираюсь, разумеется, описывать в подробности всей церкви, но два предмета стоят хотя бы краткого внимания. Посреди церкви стоит каменный столб, привезенный откуда-то с Придунайской равнины. На нем начертаны письмена: «Великий хан Омортаг, оставаясь в старом своем доме, построил величественный дом на Дунае и, измерив расстояние между двумя великолепными домами, воздвиг на середине холм, и от самой середины холма до старого моего дома всего 20 тысяч оргий и столько же до Дуная. Самый холм величествен. И, измерив землю, положил эту надпись. Человек умирает и тот даже, кто живет хорошо. А другой рождается. И позже рожденные, увидя эту надпись, пусть вспомнят о том, кто воздвиг холм. Имя вождя – Омортаг, великий хан. Да удостоит его бог дожить до ста лет».
Как ни листал я историю, ничего не нашел о том, удалось ли хану дожить до ста лет, да и о нем самом – кратенькое упоминание. Хорошо, что вовремя догадался он поставить каменный столб с этой более наивной, нежели торжественной надписью.
Теперь о том, ради чего я затеял отступление о Тырнове. Как человек, интересующийся древнерусской живописью, я немного (очень немного), но все же разбираюсь в иконографии. Например, я знаю, что при виде очень старой иконы нужно смотреть сначала главным образом на доску, на обратную сторону доски, а потом уж на живопись. Дело в том, что в течение веков (пяти, семи или даже десяти) на подлинную живопись накладывались слои позднейшей живописи, а именно до семи слоев. И, значит, чтобы увидеть подлинник, тот истинный древний шедевр, нужно сначала хитроумными способами снять несколько слоев краски. Точь-в-точь, как у Пушкина: «Художник, варвар, кистью сонной картину гения чернит». Впрочем, и промежуточные слои (допустим, XV века) могут быть гениальными.
Но если нельзя сразу увидеть подлинную живопись и оценить ее, то доска, обратная сторона доски, расскажет все. Печать времени лежит на ней. Я не стану теперь распространяться, как по доске распределяется время. Это целая наука, тем более, что я подробно пишу об этом в другой своей работе. Скажу только, что в любой церкви я обязательно рассматриваю и оборотную сторону иконостасов. Обычно не видишь ничего особенного – доски XIX, в лучшем случае XVIII века. Тем более в Болгарии. Ведь убеждали же меня в одном месте, что вон та икона-де очень древняя, она-де написана в 1838 году! Наши зазнавшиеся собиратели и слушать не стали бы про такую икону.
Так вот, зашел, значит, я по другую сторону иконостаса и вдруг обмер: мороз по коже и вроде бы даже волосы зашевелились на голове. Смотрю – огромная доска XI иди XII века, а может быть, даже и X. Просто трудно поверить глазам. Вот и сбавляешь невольно два столетия. Побежал смотреть лицевую сторону. Богородица. Но живопись гораздо моложе доски. А что скрывается под ней, под этой поздней живописью, – неизвестно. Может быть, неведомый никому шедевр вроде нашей Владимирской божьей матери того же примерно времени, а может, все осыпалось в свое время, и новые художники писали по обсыпавшемуся – ничего неизвестно. Икона, нет сомнения, привезена из Византии, из Царьграда.
Встретившись впоследствии с одним из членов болгарского правительства, я в течение часа советовал взять икону в Софию, в музей, исследовать, раскрыть, отреставрировать, подарить людям, может быть, новую Сикстинскую мадонну. Владимирскую-то божью матерь я ценю повыше, чем гениальное творение Рафаэля. Собеседник мой обещал заинтересоваться.
Я отвлекся ради того, что в Болгарии встречаются замечательные редкостные иконы. Но это не опровергает главного наблюдения: лучше всего и больше всего здесь развилась резьба по дереву. Искусство украшения храмов ушло в эту сторону, ну, правда, достигло, как говорится, недосягаемых высот. Резной иконостас в городе Самоково, например, одно из чудес света. Не восьмое, наверно, потому что слишком много я встречал именно восьмых чудес, но то, что чудо, нет никаких сомнений. Оно, правда, в Самокове был центр художественной резьбы по дереву. Сейчас самоковское «чудо» усиленно консервируют от шашеля.
Итак, заговорив об архитектуре, я начал с того, что болгарская культовая архитектура снаружи не представляет ровно никакого интереса. Но, конечно, не вся. Прежде всего, два замечательных сооружения в Софии: собор Александра Невского и так называемая Русская церковь. Далее, недалеко от Софии сохранилась жемчужина древней архитектуры – Боянская церковь. Она для болгар то же, что для нас Покров на Нерли, но есть и преимущество – уцелели фрески. Мало того, под фресками XIII столетия обнаружены фрески XI века. Значит, получается, что открыть одни сокровища можно, только уничтожив, соскоблив другие сокровища. Пока что (когда мы там были) художники копировали боянские фрески – везти их на выставку в Москву. Боянские фрески изданы альбомом, альбом этот продается на улице Горького в книжном магазине, и, значит, нет нужды писать о них более подробно. Да и можно ли написать!
Другим сокровищем старины является Бачковский монастырь у въезда в родопские горы со стороны Асеновограда.
В Асеновограде у моего друга Станислава оказался приятель – директор крупного винодельческого завода. Естественно, вместо предполагаемых пятнадцати минут мы пробыли в кабинете директора около двух часов. За приятной беседой, разумеется. Специалитет Асеновоградского завода – натуральная, густая, душистая, черно-красного цвета малага. Мудрено ли, что мы опоздали в монастырь к вечернему песнопению. Это песнопение нам очень хотелось услышать. Оно дошло непосредственно от Византии, не изменившись за долгие века. Значит, когда киевский князь Владимир Великий ездил выбирать для Руси религию, он слышал в Константинополе именно такое церковное пение.
Службу правило семеро монахов. В церкви толпились у входной двери туристы: молодые юноши, девушки в модных брюках и с модными пышными обесцвеченными волосами. Им, как и нам, все тут было в диковинку. Монахи стояли в этаких пряслицах, чтобы облокачиваться. По очереди пели. Один монах (совсем уж дряхлый старик) не сумел вытянуть ноту, уронил голову на пряслице, может быть, заплакал.
Игумен, архимандрит Филарет, сорокалетний чернобровый красавец, угостил нас у себя в покоях водкой, настоянной на ягодах с дерева, единственного во всей Болгарии. Тем и славится сейчас Бачковский монастырь. Спроси у любого болгарского писателя, или художника, или другого интеллигента, он ответит:
– А, Бачковский монастырь. Это где водка на ягодах с единственного в Болгарии дерева… Ну, как же, знаю…
По-болгарски названия дерева никто не знает, тем более невозможно догадаться, как оно называется по-русски. У него узкие опущенные листья, плоды с наш лесной орех. Теперь они были розовато-желтые, потом будто бы почернеют. Обладают, по уверению игумена, несомненными целебными свойствами. И то сказать, как узнаешь, что дерево это единственное во всей Болгарии, сразу проникнешься уважением и трепетом.
Утром показали нам древнюю церковку. Изнутри она вся в надписях туристов, даже иконы. Несмотря на то, что висит таблица: «Штраф пять тысяч левов», то есть пять тысяч рублей на наши новые деньги. Значит, какова же сласть оставить свое имя, начертанное гвоздем на древнем камне.
Монастырь, как ни странно, основали в XI веке два грузина – братья Бакуриани.
Здесь, в монастыре, нам показали костницу – огромное количество человеческих костей, хранящихся в каменном помещении. Постепенно это начало нас удивлять: в Пдевне – кости, в Перуштице, в церкви – сундуки с костями, теперь вот опять.
Несколько позже, в Златограде, дело прояснилось, как мне кажется, окончательно. Мы осматривали небольшое, этакое уютное, чистенькое городское кладбище. Как зашли за белую каменную ограду, так и поразились: прибрано, словно в хорошей просторной комнате – ни мусоринки, ни щепочки, ни взлохмаченного куста, пи примятой травы. Ровная зеленая травка, посредине белая церковка. На каждой могиле крест, в кресте шкафчик со стеклянной дверцей. В шкафчике лампада и бутылка с маслицем.
Хорошие кладбища нужны не мертвым, разумеется, а нам, живым, всем, кому предстоит еще умереть. Александр Трифонович Твардовский рассказывал про одного старика. Жил старик в поселке лет пятьдесят или шестьдесят. Детей вырастил. Сад развел. Сам корнями в землю врос. И вдруг на восьмом десятке все продал: и дом, и сад, и огородишко и переехал, в село по соседству, купив там плохой домишко, можно сказать завалюху.
– Дедушка, как же ты решился, зачем? Ведь вся жизнь прожита?
– То-то, прожита. Очень уж там, где я жил, кладбище скучное. Как подумаю, что тут и мне лежать, – тоска берет. Вот и переехал. А здесь ничего, гоже. Деревья старинные, грачи кричат. Церковь деревянная. Ничего.
Любя красивые кладбища, я полюбовался и этим, златоградским, а потом спросил, отчего на такой, сравнительно немаленький городок очень уж крохотное, прямо-таки камерное кладбище.
Тут-то мне все и рассказали. Оказывается, есть обычай. Покойники лежат в земле три года. Потом могилу раскапывают, собирают кости и складывают их либо в мешочек, либо в фанерный ящик, точь-в-точь в каких мы отправляем посылки. На каждом ящичке, на каждом мешочке ярлык, кто, что, фамилия и имя, когда преставился. Кости хранят в складе, называемом костницей. Если костой накопится слишком много, совершают торжественное захоронение их, но уж в одну общую могилу. Вот, оказывается, каков здесь обычай.
Златоград – очень колоритный болгарский городок в четырех километрах от греческой границы. Что касается архитектуры, то здесь встретились влияния греческое, турецкое и собственно болгарское. В результате получилось очень своеобразно и красиво.
Последнее дело – браться описывать архитектуру. Попробуйте описать кому-нибудь ну хоть Василия Блаженного или даже Ивана Великого со звонницей. Придется чертить на бумаге, показывать руками, изображать.
Улочки в Златограде узкие, витиеватые, почти все идут в гору (ну, и с горы, если пойдешь обратно). Они от стены до стены аккуратно замощены камнем, земли, значит, нет, камень под ногами, камень по сторонам. В белых стенах – черные дубовые калитки с коваными навесками и дверными кольцами. Все, как в музее. Нам посчастливилось побывать за двумя или тремя калитками.
Входишь во дворик умопомрачительной чистоты. Мостовая побелена мелом, наподобие того, как украинки белят свои хаты. Желание либо разуться и ходить в носках, либо попросить тапочки. Деревянные лестницы устланы чергами и халиште. Перила черные. Вообще в ансамбле участвуют два цвета – ослепительно белый каменных стен и дубово-черный деревянных частей: перил, перекладин, оконных косяков и живописных деревянных решеток на окнах. Крыши – из черной черепицы.
Во внутренних покоях тоже везде сверкающая чистота, везде пышные, ярко-красные, ярко-желтые халиште, нарядные черги, резные деревянные потолки.
Каждый дом – крепость. Колодец устроен так, что воду черпают не выходя из дома (в одной из комнат – люк и колесо). Под умывальником наклонная мраморная плита – вода утекает на улицу. В каждом доме много потайных помещений, двойных стен, загадочных люков, скрытых дверей. Дома соединяются между собой потайными ходами. Говорят, можно пройти весь город, не выходя на улицу, не показываясь людям. Это все от турок, совершавших время от времени грабительские налеты.
Утварь тоже вся как в музее. Фонари для свечей, луженая посуда, очаги, даже тряпочки прихватывать горячую сковородку имеют свою форму, красиво вышиты.
Внутренние покои, весь дом располагают к неторопливой жизни, без суеты, без беготни, без нервотрепки. Спокойно трудись, спокойно отдыхай, просторно, тихо, все под руками. Кроме того, все красиво, и не просто красиво, но отвечает твоему установившемуся вкусу.
Хозяйка (тоже красивая) угощала нас экзотическими сластями, приготовленными из разных фруктовых и ягодных соков. Нечто вроде повидла, мармелада. Все домашнее, все с орехами, все необыкновенно вкусно.
В Златограде зашли мы и в кофейню. Приходят сюда только мужчины. Они сидят подолгу, играют в кости, рассказывают друг другу прошлое, курят, пыот кофе, смеются, поют песни.
Кофе варит здесь будто бы лучший кофевар на всем Балканском полуострове. Я понаблюдал за его манипуляциями. У него множество медных кружечек на длинных черенках (вроде бы, значит, глубоких ковшичков, может быть, даже их лучше называть тиглями). Перед кофеваром на плите куча горячей золы, с проблескивающими в ней золотистыми угольками. Над кучей золы куб с кипятком. Тигли с кофе и сахаром хозяин заливает кипятком и сует в горячую золу. Слава его зависит в дальнейшем от интуиции – в которую секунду взять ковшичек из золы, уловить ему одному ведомое мгновение.
Сам кофевар убеждал нас, что все зависит от того, как поджарить кофе. «Сначала зерна стреляют так: пук-пук-пук. Снимать их еще нельзя. Если снимешь – кофе будет кислить. Впрочем, многим это нравится. Я жарю до тех пор, пока зерна начнут стрелять так: пэк-пэк-пэк, тогда кофе готов».
Конечно, я сильно сомневаюсь, чтобы на всем Балканском полуострове не было кофевара лучше и опытнее. Но от сознания, что это так, кофе мужчинам из Златограда кажется в несколько раз крепче, душистее и вкуснее.
ЭТЮД ИСТОРИЧЕСКИЙ
Оставим в стороне Куликовскую битву или изгнание армии Бонапарта. Из всех других войн, которые вела Россия, не было другой, столь же популярной, столь же понятной народу, столь же священной, нежели русско-турецкая война 1877 года.
В XIV веке Болгарию захватили турки. От царствования последнего болгарского царя Ивана Шишмана осталась лишь светлая, как бы даже золотая песня с повтором: «Милая моя матушка», которую я целиком приведу в одном из последующих этюдов.
Ночь затопила землю. Песни вместо золотых стали багряно-черными, как кровь посреди пожарища, как осеннее балканское небо в тревожном зареве. А потом и этих песен не стало слышно на болгарской земле. 200 лет татарского ига, испытанных Русью, – тяжело и много. Пятьсот – в два с половиной раза больше, чем двести. Да и оккупация была более цивилизованная, более продуманная, прочная, душная. Был исторический момент, когда болгары стали забывать, что они болгары.
В 1742 году монах Халендарского монастыря, отец Паисий (год назад болгары торжественно отметили его юбилей) выпустил в свет невинную на первый взгляд книгу о болгарской истории, о болгарской национальной культуре. Что тут страшного для оккупантов?
Но цель у Паисия была одна – напомнить болгарам, что они болгары, что у них была своя родная болгарская культура. И было солнце, и были песни, – и все это было болгарское, то есть, значит, была свобода.
Вот почему смиренный Паисий с его незатейливой книгой считается (так оно и есть) первым борцом за освобождение Болгарии от турецкого ига. Его книга стала тем комочком снега, пущенным с крутой горы, на который накручиваются все новые и новые слои, и вот уж рушится вниз огромная многотонная глыба, и становиться на ее пути не просто рискованно, но опасно. В горах, например, она может сорвать с места дремавшую до сих пор снеговую лавину.
То есть, значит, я представляю теперь сердце болгарина Паисия крохотным огоньком среди всеобщего мрака.
От огонька, от единой свечечки то тут, то там пошли загораться новые, пока еще крохотные, пока еще разрозненные робкие огоньки. Попадет огонек на сухое, приготовившееся к вспышке место, вспыхивает, освещая окрестную тьму. Говорят – вспышка, бунт, восстание.
Если вдуматься, какое древнеславянское, какое торжественное слово – восстание. Не просто вставание (с колен, из лежачего пресмыкающегося положения), но восстание. Обильно полилась в пересохшую знойную землю праведная болгарская кровь.
В середине XIX века окончательно прояснилось: своими силами не освободиться, не приподнять, не сдвинуть, не отвалить гнетущего камня. Тем героичнее представляется каждая новая, самоотверженная, отчаянная даже попытка.
Христо Ботев высадился с горсткой храбрецов, переплыв Дунай около Козлодуя, в надежде, что вспыхнет сразу все, даже земля, даже горы Балканы, даже вода в Марице. Ничего не вышло. Крестьянин, у которого храбрецы попросили волов, вместо того чтобы и волов отдать, и самому присоединиться к отряду, начал будто бы торговаться за несчастных волов, и будто бы великий поэт, патриот и воин, воскликнул с горечью в сердце, что крестьянин, торгующийся-де за волов, не достоин свободы. Впрочем, может быть, это и легенда.
На самом деле все было сложнее. Иго как бы трупным ядом отравляло души людей, делало их вялыми, безразличными, отнимало веру в победу.
Тем чаще и пристальнее смотрели болгары в сторону великой России. Только на нее и можно было рассчитывать и надеяться. Не все-то глумиться бусурманам. Погодите, ужо придет на выручку православный царь.
В 70-х годах в Болгарии вспыхнуло очередное восстание. Рассвирепевшие турки решили утопить повстанцев в собственной крови, в крови их детей, жен, матерей, сестер и невест. Кровавые события в Перуштице и Батаге потрясли Европу. Великие гуманисты того времени подняли голос против турок. В защиту болгар выступили Виктор Гюго, Чарльз Дарвин, Оскар Уальд, Лев Толстой, Федор Достоевский, Д. И. Менделеев, В. М. Гаршин, В. В. Верещагин. Иван Сергеевич Тургенев в те дни писал: «Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные чувства: они только и живут во мне, и, коль этому нельзя помочь иначе, как войной, ну так война!»
Русское общество забурлило. Иван Сергеевич Аксаков в послевоенной уж, правда, речи (за которую его сослали, впрочем, в имение родственницы) говорил: «Никогда никакая война не возбуждала такого всеобщего на Руси сочувствия и одушевления, не вызывала столько животворящей любви, не заслужила в такой полной мере названия народной, как именно эта война, благодаря именно этой священной задаче».
А вот воззвание болгарского Центрального революционного комитета в самый день объявления долгожданной войны: «Мы несли мученический крест, но, несмотря на неописуемую неволю и страдания, у нас теплилась надежда, которая крепла. Этой надеждой, ни на минуту не оставлявшей нас, была православная великая Россия. Братья мы не напрасно ожидали ее помощи… Вот она идет требовать ответа за пролитую кровь наших мучеников. Скоро русские победоносные знамена взовьются над нашим отечеством.
Русские идут бескорыстно, как братья. Болгары, мы все должны, как один, подняться и по-братски встретить наших освободителей, всеми силами оказывать содействие русской армии».
Итак, Россия пошла. Мне попались в руки две строевые песни тех времен, которые распевались на маршах солдатами гвардейского полка. Интересно взглянуть, как идея освобождения Болгарии преломлялась в сознании солдат, приобретая незамысловатые, наивные формы солдатского фольклора:
Ой за морем, ой за синим По степи растет бурьян. Ой за морем, ой за Черным Расплодился мусульман. Там растет бурьян богатый, Машет красной головой. Мусульман качает важно Разноцветною чалмой. Взяли бабы косы в руки И пошли бурьян косить. Наши храбрые гвардейцы Стали турок сильно бить. Накосили бабы сена, Извели в степи бурьян. А гвардейцы настреляли, Словно птицы, мусульман. Взяли бабы и руками Опололи степь кругом. Так и турок, братцы, надо Из Европы с корнем вон.Тут, как видите, все: и строевой задор для поднятия духа и даже физических сил во время похода, и политбеседа на нужную тему, и стратегическая установка. Впрочем, задача иногда бралась и более узкая, более конкретная. Выглядело это, к примеру, так:
В семьдесят седьмом году Пришли к турке, ко врагу русские войска. Шли сюда мы не гулять, Пришли турок побеждать русскими штыками. Повстречался мусульман, Без похмелья стал он пьян. Что он, ошалел? Как под Горным Дубняком Мы валили их рядком, знатно разнесли. А из Дольня Дубняка Турки задали дерка в Плевну убрались. Там задачей задались Нас не допускать, за стеной сидят. Мы задачи их решали, Не такие стены брали, эту, брат, возьмем!И взяли, конечно. Но не так все было легко, как в наскоро сочиненной походной песне. Достаточно сказать, что только под самим генералом Скобелевым несколько раз убивало коня, а саблю его, которой он показывал путь на вражеские редуты, перешибло пулями, настолько густ был турецкий огонь. Шесть тысяч человек легло на склоне холма. Это много даже для современной войны, а ведь теперь иные масштабы. Когда был взят основной редут, турки на время вернули его снова. Суздальского полка майор Горталов не счел возможным для своей части покинуть завоеванный и уж облитый русской кровью клочок земли. Его подняли на штыки с саблей в руках. Подвиг его в то время потряс Европу.
На помощь осажденным в Плевне туркам из южной части Болгарии, через Балканский хребет рвались отборные войска Сулеймана-паши. Они рвались через Шипкинский перевал. В том-то и состоит великое значение Шипки, что не пустили Сулеймана-пашу, не позволили ему оказаться в тылу, не дали возможности со спины ударить По идущим на штурм редутов войскам генерала Скобелева.
Существует подробное описание Шипкинской эпопеи, поставлен большой советско-болгарский фильм «Герои Шипки», Верещагин – участник и очевидец кровопролитных боев – оставил нам потрясающие полотна, в которых высокое искусство сочетается с документальностью фронтового репортажа.
Схема была проста и понятна. На горе сидят русские солдаты и болгарские ополченцы. Несколько дней подряд, в сущности беспрерывно, на эту гору лезут с трех сторон турки – целая армия против нескольких сот человек.
Майор Гиляев воззвал к сражающимся: «Братцы! Неприятель окружил нас со всех сторон. Следовательно, пути отсюда нет. Будем держаться, пока придет помощь. А если помощь не подоспеет, мы все ляжем костьми за освобождение Болгарии, Итак, молодцы, будем драться до последней капли крови и умрем героями!» После этого он запел песню – гимн болгар:
Шуми, Марица, окровавена, Плаче, вдовица, люто ранена.Генерал Гурко отдал приказ по отряду болгарских ополченцев: «К вам обращаюсь, болгарские дружины. 19 под Старой Загорой вы привлекли против себя 15 неприятельских таборов, то есть почти в 4 раза сильнейшего неприятеля с многочисленной артиллерией, против которой вы могли выставить четыре горных орудия. Это было первое сражение, в котором вы вступили в борьбу с врагами, и в нем сразу показали себя такими героями, которыми вся русская армия может гордиться и может сказать, что она не обманулась, послав в ваши ряды самых лучших офицеров. Вы – ядро будущей болгарской армии. Пройдут годы, и эта будущая болгарская армия скажет: «Мы – потомки славных защитников Старой Загоры».
Сохранилось и обращение к ополченцам генерала Столетова: «После битвы под Старой Загорой Царь и вся Россия смотрят на вас как на храбрых и самоотверженных воинов. Я уж послал донесение, и вскоре к нам придет помощь из Тырнова. Помните, молодцы, что Царь и вся Россия возлагает на вас защиту шипкинских позиций, а Болгария ждет вашей помощи для своего освобождения».
23 августа (по новому стилю), в самый критический день, осажденные выдержали четырнадцать атак отборных турецких войск. Муллы и ходжи, находясь среди войск, разжигали религиозный фанатизм солдат, воодушевляли их на священную войну с гяурами. Сулейман-паша безжалостно бросал в бой все новые и новые полчища фанатиков. С протяжным криком: «Алла!» карабкались они на скалу, устилали трупами ее крутые склоны и все же беспрерывно, упорно, безостановочно карабкались вверх.
Осажденные отбивались камнями, бревнами, даже трупами убитых товарищей. И вот я вычитал в одном месте, что же решило в самый роковой момент исход ужасного, на несколько дней растянувшегося сражения.
Некто майор Павел Николаевич Попов проскочил под градом пуль намертво простреливаемое пространство, чтобы скакать или бежать бегом за немедленной помощью. Лошади у него не было. По другую сторону скалы он нашел ординарца с офицерской лошадью. Ординарец не хотел отдавать коня. Попов наставил наган и отобрал лошадь. На этой лошади он прискакал к генералу, который вел подмогу. Но люди были истощены длительным горным переходом и не могли двигаться дальше:
– Видите, лежат без ног, ступайте и скажите это.
– Если теперь не помочь, будет поздно. Шесть батальонов турок возьмут шоссе.
– Возьмите казаков.
– Казаки есть на Шипке. Их прибытие не убедит и не вдохновит защитников. Нужно показать, что пришла настоящая помощь. Не найдете ли, ваше превосходительство, лучшим посадить на казачьих лошадей батальон стрелков!
– Встать! – скомандовал генерал.
Стрелки вскочили на казачьих лошадей (по двое на лошадь) и понеслись на Шипку.
Казалось, еще бы минута, и Шипка была бы взята. Оказалось, этот именно батальон, соскочив с лошадей и бросившись в штыки, и решил все дело в самую последнюю, самую роковую секунду. Вот что значит инициатива и настойчивость одного человека даже в такой неразберихе и буче, которые царили на Шипке.
Между прочим Шипка, если перевести это слово на русский язык, означает не больше, чем обыкновенный мирный шиповник.
Четыреста сорок памятников воздвигла Болгария в разных местах русской доблести, русскому бескорыстному братству. Памятники разные и по характеру и по величине. Ну, во-первых, собор Александра Невского в центре Софии. Самое красивое и самое грандиозное здание в столице Болгарии. Памятник Александру Второму на площади перед входом в Народное собрание; парк генерала Лаврова около Плевны; парк Скобелева на том холме, где погибло шесть тысяч штурмующих. В центре города – парк освободителей Плевны. Оригинально устроена решетка этого парка: вместо коренных столбов врыты в землю стволы орудий. Вместо частокола поставлены винтовки со штыками. В основаниях винтовок – снаряды. Участвуют также в загороди и казачьи пики, и сабли. В парке – бюсты Александра Второго, Скобелева, Гурко, Тотлебена…
В музеях (и в самом городе, и в парке Скобелева) личные вещи солдат и офицеров: котелки, хохломские мисочки, медные образки с изображением Георгия Победоносца, складни, пули, добытые впоследствии из братских могил (то есть, значит, уж выпавшие из трупов после нетления), волосы ребенка, найденные в братской могиле в солдатском ранце, черепа с дырками и зарубинами, кости с дырками, знамена, изорванные в лоскутки. Я не говорю про образцы оружия, само собой разумеется, оно представлено в изобилии.
И все же больше всего трогают не боевые реликвии, не вещи, не знамена даже, овеянные огненной славой, а длинные списки нижних чинов, офицеров и генералов, лежащих то тут, то там в поистине братских могилах.
Этот этюд у меня составляется из торжественных обращений да приказов. Вот еще слова болгар, вырубленные на мраморе в центре города Плевны: «Они – богатыри необъятной русской земли, вдохновленные братскими чувствами к порабощенному братскому народу, перешли великую славянскую реку Дунай, вступили на болгарскую землю, разбили полчища врагов, разрушили турецкую тиранию, сломали цепи пятивекового рабства. Своей героической кровью они напоили болгарские нивы, своими богатырскими костями усеяли поля брани. Они дали самое дорогое – свою жизнь – за наивысшее благо болгарского народа – за его свободу.
Освобожденный ими болгарский народ в знак вечной признательности, идущей из глубины души, воздвиг им этот храм– памятник свободы».
Написано все это довольно лаконично, хотя и торжественно. Автор другой надписи, а именно над входом в братскую могилу в парке имени М. Д. Скобелева, был настроения более романтического и, может быть, даже более сентиментального. Сравните сами: «Они, орлы северных небес, чада великой русской земли, вдохновленные духом гуманности, правды, свободы, водимые гением победы, перелетели леса и поля, реки и моря и смело опустились на прекрасные гордые Балканы. Здесь, в порабощенной веками болгарской земле, они пронзили своими пиками, своими штыками турецкую тиранию, острием меча разрубили они вековые оковы, а своими пушками разрушили до основ пятисотлетнюю крепость тяжелого рабства. В кровавой борьбе, бушевавшей на болгарской земле, они беззаветно пролили свою кровь, легли костьми на братской земле за свободу, за благо болгарского племени, забытого историей, царями, богами и сильными в то время народами.
В знак глубокой признательности и великой благодарности освобожденный ими болгарский народ воздвиг им этот памятник свободы, выросший из глубины души, как фиалка в лесу».
Итак, где храм, где обелиск, где крест – 440 памятников стоят в Болгарии. Чтобы покончить с мемориальными надписями, мне осталось переписать маленькое стихотворение. Я встречал его на обелисках в двух или трех разных местах. Сочинил его, вероятно, какой-то безвестный фронтовой поэт, который сложил скорее всего свою голову где-нибудь в Карпатах, а может быть, жив и здравствует. Может быть, даже эти стихи сложил не самоучка, а поэт-профессионал, один из тех, что были прикреплены к дивизионным фронтовым газетам. Вызвали, наверно, в политуправление: «Родина требует, надо немедленно сочинить…» – «Есть, сочинить!» и бегом в свою родную дивизионку. Вот это стихотвореньице:
Героям Плевны от частей 3-го Украинского фронта победоносной Красной Армии:
Вдали от русской матери-земли Здесь пали вы за честь отчизны милой, Вы клятву верности России принесли И сохранили верность до могилы. Вас не сдержали грозные валы, Без страха шли на бой святой и правый. Спокойно спите, русские орлы, Потомки чтут и множат вашу славу. Отчизна нам безмерно дорога, И мы прошли по дедовскому следу, Чтоб уничтожить лютого врага И утвердить достойную победу. Сентябрь 1944 года.На Шипку мы поднимались во второй половине дня, скорее даже к вечеру.
Прекрасное шоссе вело зигзагами все выше и выше в горы, заросшие в этих местах старым породистым лесом. Деревья по склонам гор сверкали на солнце ослепительным инеем. Точнее, это был не иней. Накануне шел обильный мокрый снег. Он облепил каждый сук, каждую ветку, потом его слегка схватило морозцем. Снег сделался хрупким, кристаллическим, засверкал. Он бы, конечно, Давно осыпался, если б хоть маленькое движение воздуха, хоть легкий ветерок, хоть тихое сотрясение. Но безмолвно и неподвижно было окрест в горах, сверкающих свежим чистейшим снегом.
С перевала открывается неоглядный вид на другую сторону Балканских гор, на знаменитую розовую Казанлыкскую долину. Нам из царства сверкающего снега странно было видеть зеленое лоно долины. Именно оттуда, от Казанлыка, и шли, и ползли на Шипку, и штурмовали ее тогда войска Сулеймана-паши.
На перевале теперь благоустроенная гостиница (разумеется, модерн), но туристов в зимнее время мало, они приезжают сюда все больше летом, когда тепло, а в долине, у подножия Шипки, расцветают розы.
Постояв с обнаженными головами у каждого креста, у каждого памятного обелиска, мы поехали вниз, в начинающие сгущаться сумерки. И тут нас ждала неожиданность. Наш глаз привык к болгарской красночерепичной архитектуре, и вдруг из черноты дерев, из синих сумерек, в голубое еще, светлое еще небо поднялись пять ослепительно золотых куполов-луковок, как в какой-нибудь из лучших русских сказок.
Подъехав ближе, мы увидели русскую церковь (храм-памятник в селе Шипке – так именуется она) неописуемой красоты. Изящная, построенная в прекрасных традициях XVII столетия, она лежит, как драгоценный камень, как жемчужина, в оправе зеленых Балканских гор.
Совсем стемнело. И мы уже потеряли надежду увидеть церковь внутри или хотя бы крикнуть кого-нибудь, кто мог бы рассказать о ней. Но тут на тропинке показался старичок, этакий сухонький, седенький, озирающийся на палочку. Про таких говорят обыкновенно: божий одуванчик.
– Вы попросите отца Иосифа, – посоветовал нам старичок. – Отец Иосиф – душевный человек, он вам откроет.
Пройдя в указанную мне дверь, я некоторое время шарил в темноте коридора руками и наконец нашарил дверную ручку.
В теплой, хорошо обставленной комнате сидели отец Иосиф (нетрудно догадаться по бороде) и еще один мужчина с пышными усами под Александра Второго (освободителя). Они мирно ужинали, попивая домашнее красное винцо. Слышать не захотели, чтобы не выпил с ними и я, хоть было некогда и неизвестно еще, что за компания. Тут вышла и матушка с чаркой на подносе по древнему русскому обычаю. Некоторое время спустя отец Иосиф повел ценя показывать церковь.
Оказывается, это самый большой и пышный памятник русским войскам на Шипке. Построен он по инициативе Ольги Николаевны Скобелевой – матери полководца, а также друга болгар графа Игнатьева на сбор пожертвований. В 1881 году был конкурс на лучший проект. Верх получил проект академика Томишко. Под общим руководством профессора Померанцева строил церковь архитектор Смирнов. Закончили строительство в 1902 году. Иконостас липовый, изумительной резьбы, с позолотой. Есть несколько замечательных икон старинного русского письма. Но самое главное, конечно, тридцать две мраморные доски с именами павших сынов России. На колокольне 17 колоколов – прекрасный малиновый звон. Как бы симфоническая музыка разносится на всю Казанлыкскую долину, особенно зимой в тихом морозном воздухе.
ЭТЮД ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
Он позвонил ко мне в гостиницу в десятом часу утра.
– Можно ли к вам сейчас? Мне очень нужно с вами повидаться. – И как бы боясь, что я откажу, торопливо добавил: – Я звоню от портье, я уже в гостинице. Я могу подняться?
– Но кто вы?
– Я русский человек, переводчик. – И опять торопливо: – Не сомневайтесь. Меня знают ваши друзья, болгарские писатели. – Он стал называть имена. – Я перевожу их на русский язык. Они меня хорошо знают.
Я разрешил ему подняться ко мне в номер.
Пока он поднимался, у меня было время посоображать, кто он и зачем. Ясно, что русский эмигрант. Мне никогда не приходилось иметь дела с эмигрантами. Но все же я никогда не обобщал их в своем сознании, не сводил к некоему общему представлению, которое могло бы укорениться благодаря слухам, газетам и собственным измышлениям. Как-никак, эмигрантами же были Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Куприн, великая балерина Павлова.
Говорят, некоторые, особенно из молодых, позволяют себе либо хулиганские, либо провокационные выходки по отношению к советским людям, приезжающим за границу. Но хулиганы попадаются у нас и дома. Кроме того, этого уж никак не может быть в Болгарии на исходе 1962 года.
Зачем он идет? Я твердо знаю: каким бы ни был эмигрант: политическим, отъявленным, лояльным, нищим или миллионером, – ни одному из них не уйти от тоски по родине, по России. Это так же закономерно, как закономерно то, что всякому человеку не уйти от собственной смерти.
Значит, идет, наверно, поговорить с человеком «оттуда», облегчить душу, порасспрашивать. Зачем же еще?
Вошел высокий человек в легком поношенном пальто, поношенном берете, в поношенных туфлях. Немного нужно было иметь наблюдательности, чтобы понять, что и сам он сильно изношен в житейских бурях, хотя черты былой красоты и былого благородства, в виде обломочков и крупиц, проглядывают сквозь теперешний прямо-таки болезненный облик.
– Вы знаете, я прочитал в газете… Очень, очень рад. Вы знаете, я сам в некотором роде… имею отношение… перевожу. И оригинальное тоже! У меня до освобождения Болгарии вышло даже два сборника стихотворений… Вы знаете, я уже двадцать пять лет не разговаривал с русским человеком.
«Зачем же он врет, – подумалось мне, несмотря на мою врожденную непоправимую, вредящую мне доверчивость. – Не может быть, чтобы литератор, живя в Софии, при малейшем желании не встречался бы с людьми, приехавшими из России. Столько делегаций, столько туристских, столько индивидуальных писательских поездок!»
Да и в разговоре (а говорил он много и быстро) сквозило что-то заученное, готовое на данный случай, используемое не в первый раз.
Потом, когда я поинтересовался, мне рассказали, что у этого человека была слишком уж тяжелая жизнь, со всевозможными, в том числе и фашистскими, лагерями. Но главное в том, что он в результате сломался. И не только сломался, его измочалило, не оставив живого места, не оставив той сердцевинки, которая все же может поддержать в критический момент, и вдруг снова встанет – выпрямится человек. К тому же, как мне потом уж рассказали, депрессирован алкоголем.
Но во время встречи с ним я ничего этого не знал, старался быть как можно внимательнее, вежливее во всяком случае. Не придал я значения и тому, что он предложил по рюмочке коньячку. Через десять минут принесли коньяк и маслины.
Опять-таки впоследствии прояснилось, что ему было нужно. Он хотел, чтобы я помог ему напечататься в каком-нибудь московском журнале. Ему хотелось знать, понравятся ли его стихи у нас в Москве и, может быть (но это уж в самой глубокой затаенности), могут ли они прокормить его, если бы он вздумал вернуться.
Узнал я впоследствии и то, что он не пропускает ни одного приезжего из Москвы писателя, чтобы получить эту вот своего рода консультацию.
Ну так бы и сказал. И поговорили бы по-мужски, тем более, что как-никак оба русские.
Но он все время юлил (привык юлить в изгнанническом унижении), грубую, отвратительную лесть мешал с грубым же бахвальством. И все это торопливо, боясь, что я прерву и, может быть, выгоню (привык, наверно, к тому, что и выгоняли).
И это все бы ничего. Я завел речь о нем, желая рассказать о его главном козыре.
Чтобы расположить меня к себе как можно более, чтобы доказать мне, что он в сущности мой (то есть советский) единомышленник (а он знал обо мне только то, что я приехал из Москвы, не более), этот человек вдруг начал ругать все русское, все, что так или иначе связано с Россией.
Я не знаю, с кем из москвичей он встречался до меня, на ком он мог выработать и проверить свою тактику. Но во мне вдруг вспыхнуло острое чувство противоречия:
– Ну что же Россия… бездарные и продажные генералы. Офицеры – без чести и совести…
– Позвольте, неужели так уж все бездарные и продажные? К тому же без чести и совести? Не будем брать ну там Суворова, Кутузова, Нахимова, Макарова, Корнилова. Это – хрестоматия. А храбрость Багратиона, а мужество и удаль Дениса Давыдова, а Тушин в описании Льва Толстого, да и сам Лев Толстой – офицер Севастопольской кампании. Вы живете в Болгарии, наверно, вы знаете, что здесь существует парк Скобелева. Вы знаете, что, когда Скобелев вел войска на приступ, у него вражескими пулями перешибло саблю. Притом он всегда на белом коне… А морские офицеры «Варяга». Говорят, они вели себя мужественно и подавали пример… Напротив, мне казалось, да и из литературы известно, что существовали понятия о чести, может быть, слишком даже жестокие…
Собеседник глядел на меня, явно ничего не понимая. Видно, слишком уж непривычно и неожиданно было ему слышать такой отпор его огульному охаиванию России. Но он решил не сдаваться:
– Ну да, конечно, но общее гниение культуры в конце XIX, в начале XX…
– Позвольте, позвольте… Это кого же вы хотите записать в «гниющие»… Впрочем, давайте по областям. Музыка: Чайковский, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Скрябин, Рубинштейн, Рахманинов; живопись: Репин, Суриков, Васнецов, Серов, Кустодиев, Поленов, Коровин, Левитан, Врубель, Рерих, Грабарь, Нестеров; театральная исполнительская деятельность: Собинов, Держинская, Нежданова, Шаляпин, Станиславский, Немирович-Данченко; литература: Достоевский, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Толстой, Чехов, Горький, Куприн, Бунин, Александр Блок. Мне сдается, напротив, что русская культура этого времени вела за собой и оплодотворяла всю мировую культуру: возьмите влияние Толстого, или Чехова, или Достоевского, Станиславский дал миру современный новый театр.
По мере того как я говорил, глаза моего гостя становились все шире. Потом в них мелькнул ужас:
– Вы меня разыгрываете. Вы меня провоцируете, – закричал он.
– Почему же? Разве я говорю неправду? Тогда опровергните меня. Вычеркните эти имена из русской мировой культуры. Если расцветают гении, что же тогда гниет? Они-то ведь и есть сама культура!
– Нет-нет, этого не может быть, – испуганно твердил собеседник. – Я не верю своим ушам.
– То есть чтобы человек приехал из Москвы и не ругал русского? По крайней мере не поддакивал, когда его ругают? А почему я должен быть несправедливым? Вы говорите, что было сплошное мракобесие. А я возражаю, хотя бы в том пункте, что не сплошное. Хотя бы в том, что не сплошное, могу я возражать?! Болгарию освободили от пятисотлетнего турецкого ига – это тоже, по-вашему, мракобесие? Купец Третьяков галерею основал… Лучший в мире балет… Да что я вам говорю, неужели вы всего этого без меня не знали?
Но бедняга совсем был сбит с толку, да и коньяк начал делать свое извечное дело.
– Нет-нет, – твердил мой собеседник. – Что-то тут не так. Не может быть.
Потом он поднял глаза, в которых появилось осмысленное и чуткое, и вдруг сказал:
– Какая грусть. Встретились два русских человека, разговаривают более двух часов и не верят ни одному слову друг у друга.
На другой день портье передал мне конверт. Там была фотография моего вчерашнего посетителя. Он был сфотографирован в рост все в том же берете на берегу моря. На обороте карточки стихи:
И мысль одну я с радостью приемлю, Одну лишь мысль, волнующую грудь, Что на твою потерянную землю Сумею я ступить когда-нибудь.Я еще раз вспомнил наш разговор. Конечно, я горячился. И во мне кричало чувство противоречия, может быть, слишком раздраженное. Но где он взял, кто дал ему повод каждого приезжающего из Москвы считать ненавидящим свое же собственное, свое же родное наследие? Как тут было не горячиться.
ЭТЮД МУЗЫКАЛЬНЫЙ (Заключительный)
Тут я должен резко, извинительно оговориться: об этом мне не хотелось бы говорить, рассказывая о Болгарии, о Софии, о первой встрече со старинным болгарским другом.
Правда, что мы пришли в ночной бар, и, как говорится, из песни слова не выкинешь. Но разве можно сказать, что ночной бар в Софии (он называется «Астория») так уж характерен для ночных баров вообще, чтобы его описывать как образец? Напротив, сдается мне (и думается, я не обижу этим жителей Софии), что вовсе это скромненький барчик по сравнению с подобными учреждениями, находящимися в Марселе, Париже, Сан-Франциско, иди даже Будапеште и Варшаве.
Что касается Варшавы, то мне вспоминается один вечер (ну, или одна ночь), проведенная отнюдь не в баре, а в каком-то огромном, помещении, где собрался бал-маскарад артистической молодежи польской столицы. «Артистической» здесь нужно понимать не в узком смысле слова: дескать, молодые артисты, а в широком старинном смысле, когда все еще помнили, что «арт» по-французски означает искусство вообще.
Пожалуй, на упомянутом бале-маскараде больше всего было художников-живописцев, а потом уж музыкантов, актеров, литераторов. Я никогда не видел такого большого собрания столь разнообразных, столь оригинальных костюмов. Выдумка и вкус подали здесь друг другу руки, а задор молодости скрепил их союз.
Вот настоящий пират. Рыжие космы из-под красной косынки, рыжая щетина на щеках и на подбородке. Татуировка на руках и груди – остальное скрыто морской полосатой рубашкой. Настоящий старинный пистолет; настоящий старинный кинжал; медная мерочка на цепочке – отмерять порох – болтается привязанная к поясу; кошелек со звякающими там монетами – наверно, гульдены или пиастры. Подробностями достигается достоверность.
А вот здоровенный угрюмый детина, одетый единственно в медвежью шкуру с доисторической палицей, которую держит на плече. Только сейчас вышел из своей пещеры.
А вот настоящий Иисус Христос. А вот настоящие три мушкетера. Шпаги при них. Остальные при появлении мушкетеров ведут себя прилично, не задираются.
Раненый партизан. Наполеон. Рыцарь в железных доспехах. Дама XVIII века, портовая проститутка (нигде на ней не написано, но никто не ошибется в определении ее костюма), монахи и монашки, Гомер, гладиаторы, Клеопатра, карманный воришка, крупный бандит и жулик, ангел с мечом и крыльями в ослепительно белых одеждах… Впрочем, всего не перечислишь, потому что собралось человек пятьсот или шестьсот. Столько же было и костюмов.
Сначала были игры, представления вроде нашего студенческого капустника, присуждение премий за самые остроумные и удачные костюмы. В соседних залах стояли столы, где можно было немного выпить, закусить, взять кофе.
Но вот в главном зале раздались столь характерные для середины XX века, скрежещущие, взвизгивающие и откровенно визжащие звуки, и начался шабаш.
Да, я и тогда не мог найти и теперь не могу подобрать никакого другого слова, чтобы точнее определить начавшееся. Именно шабаш! Подозреваю даже, что патриархальным, старомодным обитательницам Лысой горы следовало бы в плане обмена опытом бывать иногда там, где происходит нечто подобное.
Были внутренние лестницы на антресоли, так что, если подняться повыше, взгляд охватывал целый зал, от конца до конца, ну и те шестьсот и пятьсот человек, находившихся в зале.
Вот стройные юноша и девушка. Только что они были людьми, с вертикальной постановкой юных своих тел, с осмысленностью во взглядах, с улыбкой на лицах, с человеческими словами на устах.
Но скрежещущие звуки уже ударили их по нервам. Юноша и девушка отступили друг от друга на шаг, согнулись, опустив руки почти до земли, а колени подвернув внутрь одно к другому (походка обезьяны), взгляды их вдруг обессмыслились, стали стеклянными, как у ярко выраженных идиотов, с лица ушло все человеческое, гомеровское, рафаэлевское, шекспировское, бетховенское, остались бездушные жуткие маски, и вот безвольные, в кошмарном гипнотическом состоянии, эти два человека судорожно задергались, задрыгали коленками, затряслись, заерзали, и по мере того как они дергались и тряслись, на лица их все увереннее ложилась жуткая звериная гримаса.
Дергалось, терлось друг о друга то животами, то задницами одновременно пятьсот или шестьсот человек. Многие взвизгивали, издавали нечеловеческие вопли и как бы стоны сладострастия, но отдельные визги и стоны заглушало сатанинское хохотание джаза. Картины жутче, ужаснее я не видел давно, да, наверно, и не увижу.
Я понимаю, допустим, что это был ритуальный танец какого-нибудь людоедского племени. Но такое сейчас, в XX веке!..
Возникает лишь два вопроса. Во-первых, почему цивилизованное, казалось бы, человечество – человечество, познавшее тончайшего Шопена и нежного Штрауса, могучего Бетховена и железного Вагнера, бурного (от слова «буря») Листа и чистого, как чистое небо, Чайковского, почему вдруг все человечество, скучившись в больших городах (и обезумев, что ли, от этого скопления?), взяло на вооружение музыку и танцы наиболее отсталых диких племен?
И вот уж нет французских национальных, норвежских национальных (о Григ! о Сольвейг!), итальянских национальных (о Паганини!), венгерских национальных, польских национальных, германских национальных музыки и танцев, а есть одинаковый для всех, как если бы эсперанто-джаз.
Были времена, когда французское музыкальное искусство или австрийское национальное искусство становились любимыми другими европейскими народами. На балах гремели мазурки, полонезы, котильоны и вальсы. Но это означало прежде всего, что, допустим, французское музыкальное искусство, равно как и французская культура вообще, шло тогда впереди других европейских культур и тем, и только тем, на время покоряло вкусы других народов, совершенствуя их.
Но чтобы народы Масснэ и Вагнера, Шуберта и Пуччини, Верди и Берлиоза, отказавшись от своих цивилизаций, поддались вдруг все первобытным ритмам – это удивительно!
Я с величайшим уважением отношусь ко всякому народному искусству, в чем бы оно ни выражалось: в деревянных скульптурках, в узорах и горшках, в песне или танце.
Но, во-первых, все равно мне было бы странно, если бы люди всей земли, всех стран вдруг начали бы танцевать либо исключительно лезгинку, либо исключительно комаринского; а во-вторых, мы все же встречаем у отдельных племен обряды и обычаи, которые, может быть, не следовало бы сразу из хижины где-нибудь на Полинезийских островах переносить во все залы, во все дворцы Старого и Нового Света.
И мне захотелось встряхнуться, как бы очнуться от кошмарного наваждения и вспомнить, что были же, были же у людей и медленный вальс, и Рахманинов с Шопеном. Что если уж очень хочется чего-нибудь чрезвычайно темпераментного, есть замечательный венгерский чардаш, есть испанские танцы, где присутствует страсть, может быть, даже буйство страсти, но где это не ушло от человека, от человеческой красоты, где все же танец, кроме тоги, и искусство, духовная категория, а не только физическое упражнение.
Ведь тут именно нужно отряхнуться от наваждения и взглянуть на все первозданными просветленными глазами.
Мы сидели за столиком: я, мой друг болгарский поэт Георгий и его друзья. Понемножку отхлебывая, можно сказать, пригубливая золотисто-пахучую ракию, подбирая с розеточек фисташки с острыми крупицами соли на каждом ядрышке, мы и слушали истерическую, сошедшую о ума музыку и смотрели на истерически, как бы в припадке сумасшествия, танцующих молодых людей.
Постепенно я начал разлагать нашу компанию.
– Эх, вы, – говорил я болгарам. —У вас такая яркая, такая самобытная культура. Какие танцы я видел в ваших деревнях, какие хороводы. А какие песни. Эх, вы! Стоило освобождаться от турецкого ига, проливать за это кровь, чтобы теперь попасться в плен этой нелепой, как бы негритянской, а на самом деле выхолощенной, ничейной, космополитической «музыки»? И это где? В Софии! Вот я был недавно в маленьком болгарском городке Петриче, знаете, там, около греческой границы… – И я рассказал им уж кстати, как я был в Петриче. Мы приехали в городок вечером, нарушив программу нашего путешествия, так что место в отеле забронировано не было. Не было их на самом деле. Табличка гласила: «Лягла няма». Искать городское начальство вечером трудно. Но болгарские спутники мои не унывали:
– Сейчас пойдем на площадь, все и образуется.
Квадратная площадь, вымощенная крупной брусчаткой, была сплошь заполнена народом. Народ на площади не был неподвижен, как если бы в ожидании митинга или какого-нибудь зрелища, но медленно вращался по часовой стрелке. Мне показалось даже, что вращается не толпа, а сама площадь, наподобие механической сцены в современном театре.
Я и раньше наблюдал эти явления, именно как бы явления, обязательные, как иное явление природы, что люди города, вечером, в строго определенный час, все вдруг выходят на главную улицу и прохаживаются по ней некоторое время, гуляют, а потом вдруг расходятся по домам, и главная улица пустеет так же быстро, как перед этим заполнилась.
– Все очень просто, – говорили мне болгарские спутники. – Сейчас мы найдем кого только нам нужно. Все здесь на площади: и секретарь горкома, и председатель исполкома, и все, все, кто бы нам ни понадобился.
Действительно, через четверть часа из медленного кружения толпы был выужен секретарь горкома, и вопрос с ночлегом разрешился благоприятным образом.
(По улочке, где мы ночевали, прошел музыкальный оркестр из народных инструментов: волынки, дудочек, скрипки. Оркестр вел небольшую процессию. Оказалось – свадьба. Утром в шесть часов, когда весь город спал, оркестр вдруг заиграл с новой силой. Это значит, объяснили мне, невеста оказалась непорочной, сохранила свою девическую честь до замужества, и вот музыканты с радостью оповещают об этом жителей Петрича.)
Итак, ночлег был устроен, оставалось поужинать. Мы зашли в корчму, недалеко от главной площади. Посетители, главным образом мужчины, занимая все столики (многие столики сдвинуты для компании), смачно ели непременные вечером в Болгарии кебабчаты, сдабривая их маринованными стручками жгучего красного перца и запивая легким красным вином. Это не мешало разговаривать всем одновременно. Надо учесть и темперамент болгар вообще, македонских в особенности (Петрич населен македонцами, тоже по существу болгарами, но с диалектом и с некоторыми этнографическими особенностями).
Оркестранты в малиновых куртках после македонских песен заиграли вдруг что-то вроде твиста (их попросил об этом один юноша), и вот две пары молодых людей, может быть, студентов из Софии, решили показать провинциалам, как танцуют теперь «передовые», вполне культурные, вполне современные люди.
Из-за нашего столика хорошо было видно, что танцевали они в сущности неумело (куда им до варшавского бала-маскарада!), но все же вся корчма, повернув головы и вытянув шеи, заинтересовалась зрелищем.
Мирное созерцание длилось недолго. Мужчины, сидевшие за одним столом (шесть человек), вдруг встали, обхватив друг друга за плечи, образовав таким образом круг, и пошли, разворачиваясь в стремительном четком хороводе.
Из-за других столов повскакали, оторвавшись от кебабчатов, другие мужчины. Они дружно присоединились к хороводу, столы отодвинули к краям, хоровод раскручивался все центробежней. Бедных любителей твиста, как вихрем, откинуло к стене. Но все это происходило пока вопреки оркестру. Хороводники пели свою песню, а оркестр играл свою. Наконец, оркестр должен был признать свою нетактичность. Оркестранты остановились на минуту и вдруг заиграли нечто совсем другое. Тогда остановились и танцующие, как если бы заиграли гимн. Не танцевавшие посетители тоже все вскочили на ноги. И вот все, сколько тут было народу, хором, дружно, красиво подняли могучую песню, у которой был часто, почти через строку повторяющийся припев:
Вставайте, братья, не спите! Ма-ке-до-ния!Пропоют что-то, улыбаясь, положив друг другу руки на плечи. И снова:
Вставайте, братья, не спите! Ма-ке-до-ния!А для меня – это одно из ярчайших впечатлений от всей поездки.
Так вот теперь, сидя в софийском баре под названием «Астория», я рассказал об этом эпизоде из городка Петрича.
– Неужели вам, – говорил я, – болгарам, обладающим яркой национальной культурой, не стыдно смотреть, как кривляются под дикую, нелепую, почти людоедскую музыку молодые болгары же. Кто им дорог, этим дергающимся в твисте: Паисий, Вазов, Ботев, Багряна – черта с два! Один Пикассо им дороже всей болгарской культуры. И то не потому, что они его хорошо знают и что он им действительно дорог, а потому, что так уж модно. Так-де в Париже и Лондоне.
Но радирующие центры с этой «глобального» характера заразой уже иссякают. Я был в Лондоне. Зал, где давали «Тоску», был полон молодежи. Лондонцы начинают стыдиться своих ночных клубов. Ладно, не будем обольщаться.
Но если твисты грохочут где-нибудь в Нью-Йорке, то нам-то что. Неужели мы не можем подняться поперек этой духовной интервенции, и как там, в маленькой петричевской корчме, дружно провозгласить, положив друг другу руки на плечи:
Вставайте, братья, не спите! Ма-ке-до-ния!Самым восприимчивым и темпераментным оказался Георгий. Правда, нельзя сказать, что он певец. Но все же можно было надеяться, что на второй строчке его поддержат. И точно, поддержали:
От кога з е мило моя майнульо Зора зазорила. Оттогаз е мило моя майнульо Войска преварвяла,Это одна из самых красивых песен на земле. Когда ее поют, перед глазами начинают вдруг мерно колыхаться ряды всадников, ибо самый ритм песни это именно ритм движения большого, растянувшегося с холма на холм конного войска:
Конь до коня мила моя майнульо Юнак до юнака…Немного погодя мне придется говорить о возможностях перевода с одного языка на другой. Но скажу и теперь: как переведешь на другой язык такое, например, сочетание слов: «зора зазорила»? Конечно, можно сказать, что заря загорелась, заиграла, засветилась, занялась, забрезжила, появилась, проступила, зарумянилась, закраснелась, зарозовела, вспыхнула, залучилась, засияла… или даже так: улыбнулась, зарделась… Ну и так далее, и так далее. Но все же, разве это можно сравнить с подлинным: «зора зазорила»?
Перескажу слова этой песни по-русски, исходя из их буквального смысла и, конечно, разрушив музыку:
Когда, милая моя матушка, Заря загорелась, Тогда, милая моя матушка, Войско в поход вышло. От коня до коня, милая моя матушка, От героя до героя! Шлемы у них, милая моя матушка, Как темное облако. Копья у них, милая моя матушка, Как густой лес, Сабли у них, милая моя матушка, Как ясное солнце. В бой идут они, милая моя матушка, С турками биться. С турками биться, милая моя матушка, За болгарское имя. За болгарское имя, милая моя матушка, За христову веру. И ведет их, милая моя матушка, Сам царь Иван Шишман.Этой песне более пятисот лет. Она, конечно, незамысловата, как и все народные песни. «Мы по бережку идем, песню солнышку поем», – подумаешь, какое интригующее драматическое содержание! Однако когда поет Федор Иванович Шаляпин да еще если хор на поддержке, то кажется, уж не может быть песни и лучше и богаче.
Песню про Ивана Шишмана мы спели хором, и так как тут все-таки была борьба, этакий протест, то песня звучала очень по-боевому, как если бы и впрямь шли биться за болгарское имя.
Расчувствовавшись, Георгий вторую песню пел сольно, потихонечку, проникновенно, предупредив нас, что это уж его песня, то есть его любимая:
Умер батька Георгий. Он умер не от болезни, а сошел с ума. Где увидит он хорошее село, Хочет, чтоб село было его. Где увидит он хорошую ниву, Хочет, чтобы нива была его. Где увидит он хороших волов, Хочет, чтоб волы были его. Где увидит он молодую невесту, Хочет, чтобы невеста была его. Умер батька Георгий, Он умер не от болезни, а сошел с ума.Третья песня была коронная. В Болгарии ее знают и стар, и мал, и министр, и простой крестьянин. Рассказывают, как группа поэтов из Софии приехала в провинцию читать стихи. Ну, вечер как вечер. Потом объявили, что сегодня выступит местная самодеятельность. Вышел юноша и стал, как стихотворение, читать слова этой песни. Будто бы поэтам сделалось немного совестно и неловко, будто даже немножко померкло их творчество перед образцом поэзии, родившейся в глубине народа. По-болгарски первая строфа (или, скажем, куплет) выглядит так:
Даваш ли, даваш, Балканжи, Йово, Хубову Яну до турска вяра? Море, воевода, главу си давам, Яну не давам до турской вяра.Вот и опять встает вопрос о переводе на другой язык.
«Даваш ли, даваш…» буквально значит «отдаешь, отдаешь ли…». Но, во-первых, тотчас нарушается размер песни и спеть ее уж будет нельзя. А во-вторых, получается по звучанию, по музыке более вяло, невыразительно, пропадает этакая требовательность в интонации воеводских слов. Если же поставить: «Даешь, даешь ли?», чтобы сохранилась метрика, то ведь «даешь» у нас сразу ассоциируется с кличем конников в гражданскую войну «Даешь!». Даже песня была: «Даешь Варшаву, дай Берлин, уж врезались мы в Крым».
Или, например, выражение «Море, воевода». Оно, значит, по смыслу несколько презрительное, дескать, и говорить-то не стоит: «Оставь, воевода!» или «Брось, воевода!» Но первое – недостаточно энергично. А второе – слишком фамильярно. Придется писать просто: «Нет, воевода!» Но в «нет» нет уж презрительного оттенка. Нет оно и есть нет.
А как легко звучат, например, с точки зрения музыки слова «Главу си давам». А ведь по-русски придется ставить обыкновенное: «Отдам тебе голову!» или «Возьми мою голову!»
Я об этом говорю подробно, воспользовавшись удобным примером: текст оригинала более или менее понятен русскому читателю. Значит, можно сопоставить и убедиться, что адекватности перевода стихотворения или песни быть не может. Когда перевод сделан с английского, или с японского, или с таджикского, или с монгольского, или с якутского, вовсе уж невозможно проследить, как там обстоит дело с сохранением той или иной интонации, того или иного тонкого оттенка чувств. Чаще всего получается, что переводчики пишут новые стихи по-русски на ту же примерно тему, на которую написан оригинал. В этом случае оригинальный поэт (таджик, якут, монгол) никак уж не может выглядеть талантливее, интереснее своего переводчика. Способность переводчика в этом случае – потолок способности и самого поэта, будь он хоть семи пядей во лбу. Его задача сводится к тому, что он дает своими стихами темы, на которые и пишутся приблизительные, чаще всего бездарные стихи.
Французы и итальянцы, я слышал, давно уж отказались от так называемых переводов стихотворений на свой язык. Они поступают честнее: они пересказывают смысл стихотворения и этим как бы говорят: «Вот о чем написано это стихотворение Блока». А если вы хотите насладиться музыкой блоковского слова, тонкостью интонационных переходов, то учите русский язык и читайте поэта на его родном языке. Это единственный способ познать и оценить поэта.
Однако мы все еще сидим в ночном баре «Астория» и поем болгарские народные песни. Вот о чем была самая коронная песня, спетая нами:
– Ну, отдаешь ли, балканец гордый, Красавицу Яну в турецку веру? – Нет, воевода, отдам тебе голову, Сестру не отдам в турецкую веру! Набросились, руки ему отрубили, А отрубивши, снова спросили: – Ну, отдаешь ли, балканец гордый, Красавицу Яну в турецкую веру? – Нет, воевода, отдам тебе голову, Сестру не отдам в турецкую веру. Набросились, ноги ему отрубили, А отрубивши, снова спросили: – Теперь отдаешь ли, балканец гордый, Красавицу Яну в турецкую веру? – Нет, воевода, отдам тебе голову, Сестру не отдам в турецкую веру. С ножом набросились, ослепили. И в этот раз ничего не спросили. Уводят, уводят красавицу Яну С гор, через поле в турецкую веру. – Оставайся с богом, брат мой Йова! – С богом прощай же, милая Яна! Ног моих нету – тебя проводил бы, Рук моих нету – тебя обнял бы, Глаз моих нету – тебя увидеть. Уводят, уводят красавицу Яну С гор, через поле в турецкую веру.Не то чтобы, как это было в Петриче, в корчме, все вдруг встали и запели вслед за нами – как-никак столица. И публика в ночном баре другая, нежели в простонародной корчме. Но все же не могла не пронять песня даже и эту публику. За соседними столиками подпевали. Поодаль слушали одобрительно и просветлев. Джаз замолчал на это время. Человеческий смысл, человеческий дух хотя бы на пять минут восторжествовал даже в таком вертепе, каким является всякий ночной бар, где бы он ни был: в Софии, в Будапеште или Марселе.
Снова, в который уж раз я убедился, что, пока существует народная культура: песня ли, вышитое ли полотенце, резной ли потолок в жилом доме, старинный ли храм, воздвигнутый народом, – неизбывная твоя любовь к родине, пока все это существует, абстрактная живопись, абстрактная музыка, абстрактная поэзия, абстрактное, в конечном счете, отношение к родине не смогут победить народ.


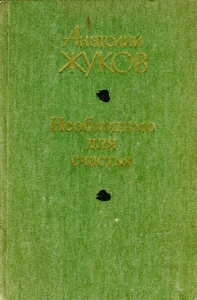


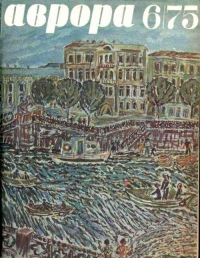

Комментарии к книге «Славянская тетрадь», Владимир Алексеевич Солоухин
Всего 1 комментариев
Роман Владимирович Максимов
16 июн
Отличная книга!!! Рекомендую!!! Победа за нами!!!