Михаил Афанасьевич Булгаков Дом Эльпит-Рабкоммуна
Рассказ
Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась ста семидесятые окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. И зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на плече все лето гляделась томно в кругло-бездонное зеркало. Зимой же снежный венец ложился на взбитые каменные волосы. На гигантском гладком полукруге у подъездов ежевечерне клокотали и содрогались машины, на кончиках оглоблей лихачей сияли фонарики-сударики. Ах, до чего был известный дом. Шикарный дом Эльпит[1]...
Однажды, например, в десять вечера, стосильная машина, грянув веселый мажорный сигнал, стала у первого парадного. Два сыщика, словно тени, выскочили из земли и метнулись в тень, а один прошмыгнул в черные ворота, а там по скользким ступеням в дворницкий подвал. Открылась дверца лакированной каретки, и, закутанный в шубу, высадился дорогой гость.
В квартире №3 генерала от кавалерии де-Баррейн он до трех гостил.
До трех, припав к подножию серой кариатиды, истомленный волчьей жизнью, бодрствовал шпион. Другой до трех на полутемном марше лестницы курил, слушая приглушенный коврами то звон венгерской рапсодии, capriccioso, — то цыганские буйные взрывы:
Сегодня пьем! Завтра пьем! Пьем мы всю неде-е-лю — эх! Раз... еще раз...До трех сидел третий на ситцево-лоскутной дряни в конуре старшего дворника. И конусы резкого белого света до трех горели на полукруге. И из этажа в этаж по невидимому телефону бежал шепчущий горделивый слух: Распутин здесь[2]. Распутин. Смуглый обладатель сейфа, торговец живым товаром, Борис Самойлович Христи[3], гениальнейший из всех московских управляющих, после ночи у де-Баррейн стал как будто еще загадочнее, еще надменнее.
Искры стальной гордости появились у него в черных глазах, и на квартиры жестоко набавили.
А в № 2 Христи, да что Христи... Сам Эльпит снимал, в бурю ли, в снег ли, каракулевую шапку, сталкиваясь с выходящей из зеркальной каретки женщиной в шеншилях. И улыбался. Счета женщины гасил человек столь вознесенный, что у него не было фамилии. Подписывался именем с хитрым росчерком... Да что говорить. Был дом... Большие люди — большая жизнь.
В зимние вечера, когда бес, прикинувшись вьюгой, кувыркался и выл под железными желобами крыш, проворные дворники гнали перед собой щитами сугробы, до асфальта расчищали двор. Четыре лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы... В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов... Ковры... В кабинетах беззвучно-торжественно. Массивные кожаные кресла. И до самых верхних площадок жили крупные массивные люди. Директор банка, умница, государственный человек с лицом Сен-Бри из «Гугенотов», лишь чуть испорченным какими-то странноватыми, не то больными, не то уголовными глазами, фабрикант (афинские ночи со съемками при магнии), золотистые выкормленные женщины, всемирный феноменальный бас-солист, еще генерал, еще... И мелочь: присяжные поверенные в визитках, доктора по абортам...
Большое было время...
И ничего не стало. Sic transit gloria mundi!{1}
Страшно жить, когда падают царства. И самая память стала угасать. Да было ли это, Господи?.. Генерал от кавалерии!.. Слово какое!
Да... А вещи остались. Вывезти никому не дали.
Эльпит сам ушел в чем был.
Вот тогда у ворот, рядом с фонарем (огненный «№ 13»), прилипла белая таблица и странная надпись на ней: «Рабкоммуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд[4]. Пианино умолкли, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое белье. Примусы шипели по-змеиному, и днем и ночью плыл по лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерно мрак. В нем спотыкались тени с узлом и тоскливо вскрикивали:
— Мань, а Ма-ань! Где ж ты? Черт те возьми!
В квартире 50 в двух комнатах вытопили паркет. Лифты... Да, впрочем, что тут рассказывать...
___________
Но было чудо: Эльпит-Рабкоммуну топили.
Дело в том, что в полуподвальной квартире, в двух комнатах, остался... Христа.
Те три человека, которым досталась львиная доля эльпитовских ковров и которые вывесили на двери де-Баррейна в бельэтаже лоскуток: «Правление», поняли, что без Христи дом Рабкоммуны не простоит и месяца. Рассыплется. И матово-черного дельца в фуражке с лакированным козырьком оставили за зелеными занавесками в полуподвале. Чудовищное соединение: с одной стороны, шумное, заскорузлое правление, с другой — «смотритель»! Это Христи-то! Но это было прочнейшее в мире соединение. Христи был именно тот человек, который не менее правления желал, чтобы Рабкоммуна стояла бы невредимо мышастой громадой, а не упала бы в прах.
И вот Христи не только не обидели, но положили ему жалованье. Ну, правда, ничтожное. Около 1/10 того, что платил ему Эльпит, без всяких признаков жизни сидящий в двух комнатушках на другом конце Москвы.
— Черт с ними, с унитазами, черт с проводами! — страстно говорил Эльпит, сжимая кулаки. — Но лишь бы топить. Сохранить главное. Борис Самойлович, сберегите мне дом, пока все это кончится[5], и я сумею вас отблагодарить! Что? Верьте мне!
Христи верил, кивал стриженой седеющей головой и уезжал после доклада хмурый и озабоченный. Подъезжая, видел в воротах правление и закрывал глаза от ненависти, бледнел. Но это только миг. А потом улыбался. Он умел терпеть.
А главное — топить. И вот добывали ордера, нефть возили. Трубы нагревались. 12 градусов, 12 градусов! Если там, откуда получали нефть, что-то заедало, крупно платился Эльпит. У него горели глаза.
— Ну, хорошо... Я заплачу. Дайте обоим и секретарю. Что? Перестать? О, нет, нет! Ни на минуту...
___________
Христи был гениален. В среднем корпусе, в пятом этаже, на квартиру, в которой когда-то студия была, табу наложил.
— Нилушкина Егора туда вселить[6]...
— Нет уж, товарищи, будьте добры. Мне без хозяйственного склада нельзя. Для дома ведь, для вас же.
В сущности, был хлам. Какие-то глупые декорации, арматура. Но... Но были и тридцать бидонов с бензином эльпитовским и еще что-то в свертках, что хранил Христи до лучших дней.
И жила серая Рабкоммуна № 13 под недреманным оком. Правда, в левом крыле то и дело угасал свет... Монтер, начавший пить с января 18-го года, вытертый, как войлок, озверевший монтер, бабам кричал:
— А, чтоб вы издохли! Дверью больше хлопайте у щита! Что я вам, каторжный? Сверхурочные.
И бабы злобно-тоскливо вопили во мраке:
— Мань! А Ма-ань! Где ты?
Опять к монтеру ходили:
— Сво-о-лочь ты! Пьяндрыга. Христа пожалуемся.
И от одного имени Христи свет волшебно загорался.
Да-с, Христи был человек.
Мучил он правление до тех пор, пока оно не выделило из своей среды Нилушкина Егора, с титулом «санитарный наблюдающий». Нилушкин Егор два раза в неделю обходил все 75 квартир. Грохотал кулаками в запертые двери, а в незапертые входил без церемонии, хоть будь тут голые бабы, пролезал под сырыми подштанниками и кричал сипло и страшно:
— Которые тут гадют, всех в двадцать четыре часа!
И с уличенных брал дань.
___________
И вот жили, жили, ан в феврале, в самый мороз, заело вновь с нефтью. И Эльпит ничего не мог сделать. Взятку взяли, но сказали:
— Дадим через неделю.
Христи на докладе у Эльпита промолвил тяжко:
— Ой... Я так устал! Если бы вы знали, Адольф Иосифович, как я устал. Когда же все это кончится?
И тут:, действительно, можно было видеть, что у Христи тоскливые стали, замученные глаза. У стального Христи.
Эльпит страстно ответил:
— Борис Самойлович! Вы верите мне? Ну, так вот вам: это последняя зима. И так же легко, как я эту папироску выкурю, я их вышвырну будущим летом к чертовой матери. Что? Верьте мне. Но только я вас прошу, очень прошу, уж эту неделю вы сами, сами посмотрите. Боже сохрани — печки! Эта вентиляция... Я так боюсь. Но и стекла чтобы не резали. Ведь не сдохнут же они за неделю? Ну, может, шесть дней. Я сам завтра съезжу к Иван Иванычу.
В Рабкоммуне вечером Христи, выдыхая беловатый пар, говорил:
— Ну, что ж... Ну, потерпим. Четыре-пять дней. Но без печек...
И правление соглашалось:
— Конешно. Мыслимо ли? Это не дымоходы. Долго ли до беды.
И Христи сам ходил, сам ходил каждый день, в особенности в пятый этаж. Зорко глядел, чтобы не наставили черных буржуек, не вывели бы труб в отверстия, что предательски-приветливо глядели в углах комнат под самым потолком.
И Нилушкин Егор ходил.
— Ежели мне которые... Это вам не дымоходы. В двадцать четыре часа.
___________
На шестой день пытка стала нестерпимой. Бич дома, Пыляева Аннушка[7], простоволосая, кричала в пролет удаляющемуся Нилушкину Егору:
— Сволочи! Зажирели за нашими спинами! Только и знают — самогон лакают. А как обзаботиться топить — их нету! У-у, треклятые души! Да с места не сойти, затоплю седни. Права такого нет, не дозволять! Косой черт! (Это про Христи!) Ему одно: как бы дом не закоптить... Хозяина дожидается, нам все известно!.. По его, рабочий человек хоть издохни!..
И Нилушкин Егор, отступая со ступеньки на ступеньку, растерянно бормотал:
— Ах, зануда баба... Ну, и зануда ж!
Но все же оборачивался и гулко отстреливался:
— Я те затоплю! В двадцать четыре...
Сверху:
— Сук-кин сын! Я до Карпова дойду! Что? Морозить рабочего человека!
Не осуждайте. Пытка — мороз. Озвереет всякий...
.................................
...В два часа ночи, когда Христи спал, когда Нилушкин спал, когда во всех комнатах под тряпьем и шубами, свернувшись, как собачонки, спали люди, в квартире 50, комн. 5 стало как в раю. За черными окнами была бесовская метель, а в маленькой печечке танцевал огненный маленький принц, сжигая паркетные квадратики.
— Ах, тяга хороша! — восхищалась Пыляева Аннушка, поглядывая то на чайничек, постукивающий крышкой, то на черное кольцо, уходившее в отверстие, — замечательная тяга! Вот псы, прости Господи! Жалко им, что ли? Ну, да ладно. Шито крыто.
И принц плясал, и искры неслись по черной трубе и улетали в загадочную пасть... А там в черные извивы узкого вентиляционного хода, обитого войлоком... Да на чердак...
.................................
Первыми блеснули дрожащие факелы Арбатской... Христи одной рукой рвал телефонную трубку с крючка, другой оборвал зеленую занавеску...
— ...Пречистенскую даешь! Царица небесная! Товарищи!!. — Девятьсот тридцать человек проснулись одновременно. Увидели — змеиным дрожанием окровавились стекла. Угодники святители! Во-ой! Двери забили, как пулеметы, вперебой...
— Барышня! Ох, барышня!! Один — ох — двадцать два... восемнадцать. Восемнадцать... Краснопресненскую даешь!..
...Каскадами с пятого этажа по ступеням хлынуло. В пролетах, в лифтах Ниагара до подвала.
— По-мо-ги-те!.. Хамовническую даешь!!
Эх, молодцы пожарные! Бесстрашные рыцари в золото-кровавых шлемах, в парусине. Развинчивали лестницы, серые шланги поползли как удавы. В бога! В мать!! Рвали крюками железные листы. Топорами били страшно, как в бою. Свистели струи вправо, влево, в небо. Мать! Мать!! А гром, гром, гром. На двадцатой минуте Городская с искрами, с огнями, с касками...
Но бензин, голубчики, бензин! Бензин! Пропали головушки горькие, бензин! Рядом с Пыляевой Аннушкой, с комнатой 5. Ударило: раз. Еще: р-раз!
...Еще много, много раз...
А там совсем уже грозно заиграл, да не маленький принц, а огненный король, рапсодию. Да не capriccio, а страшно — brioso. Сретенская с переулка — дае-ешь!! Качай, качай! А огонь Сретенской — салют! Ахнуло так, что в левом крыле во мгновение ока ни стекла. В среднем корпусе бездна огненная, а над бездной как траурные плащи-бабочки, полетели железные листы.
Медные шлемы ударили штурмом на левое крыло, а в среднем бес раздул так, что в 4-м этаже в 49 номере бабке Павловне, что тянучками торговала, ходу-то и нет! И, взвыв предсмертно, вылетела бабка из окна, сверкнув желтыми голыми ногами. Скорую помощь! 1-22-31!! Кровавую лепешку лечить! Угодники Божий! Ванюшка сгорел! Ванюшка!! Где папанька? Ой! Ой! Машинку-то, машинку! Швейную, батюшки! Узлы из окон на асфальт бу-ух! Стой! Не кидай! Товарищи!.. А с пятого этажа, в правом крыле, в узле тарелок одиннадцать штук, фаянс буржуйской бывшей, как чвякнуло! И был Нилушкин Егор, и нет Нилушкина Егора. Вместо Нилушкиной головы месиво, вместо фаянса — черепки в простыне. Товарищи! Ой! Таньку забыли!.. Оцепить с переулка! Осади! Назад! В мать, в бога!
Током ударило одного из бесстрашных рыцарей в подвале. Славной смертью другой погиб в бензиновом ручье, летевшем в яростных легких огнях вниз. Балку оторвало, ударило и третьему перебило позвоночный столб.
С самоваром в одной руке, в другой — тихий белый старичок, Серафим Саровский, в серебряной ризе. В одних рубахах. Визг, визг. В визге топоры гремят, гремят. Осади!!. Потолок! Как саданет, как рухнет с третьего во второй, со второго в первый этаж.
И тут уже ад. Чистый ад. Из среднего хлещет так, что волосы дыбом встают. Стекла последние, самые отдаленные — бенц! Бенц!
Трубники в дыму давятся, качаются, напором брандспойты из рук рвет. Резерв даешь!! Да что — резерв! Уже к среднему на десять саженей не подходи! Глаза лопнут...
.................................
В первый раз в жизни Христи плакал. Седеющий, стальной Христи. У сырого ствола в палисаднике в переулке, где было светло, хоть мелкое письмо читай. Шуба свисала с плеча, и голая грудь была видна у Христи. Да не было холодно. И стало у Христи такое лицо, словно он сам горел в огне, но был нем и ничего не мог выкрикнуть. Все смотрел не отрываясь туда, где сквозь метавшиеся черные тени виднелись пламеневшие неподвижные лица кариатид. Слезы медленно сползали по синеватым щекам. Он не смахивал их и все смотрел да смотрел.
Раз только он мотнул головой, когда Эльпит тронул за плечо и сказал хрипло:
— Ну, что уж больше... Едем, Борис Самойлович. Простудитесь. Едем.
Но Христи еще раз качнул головой.
— Поезжайте... Я сейчас.
Эльпит утонул среди теней, среди факелов, шлепая по распустившемуся снегу, пробираясь к извозчику. Христи остался, только перевел взгляд на бледневшее небо, на котором колыхался, распластавшись, жаркий оранжевый зверь...
...На зверя смотрела и Пыляева Аннушка. С заглушенными вздохами и стонами бежала она тихими снежными переулками, и лицо у нее от сажи и слез как у ведьмы было.
То шептала чепуху какую-то:
— Засудят... Засудят, головушка горькая...
То всхлипывала.
Уж давно, давно остались позади и вой, и крик, и голые люди, и страшные вспышки на шлемах. Тихо было в переулке, и чуть порошил снежок. Но звериное брюхо все висело на небе. Все дрожало и переливалось. И так исстрадалась, истомилась Пыляева Аннушка от черной мысли «беда», от этого огненного брюха-отсвета, что торжествующе разливалось по небу... так исстрадалась, что пришло к ней тупое успокоение, а главное, в голове в первый раз в жизни просветлело.
Остановившись, чтобы отдышаться, ткнулась она на ступеньку, села. И слезы высохли.
Подперла голову и отчетливо помыслила в первый раз в жизни так: «Люди мы темные. Темные люди. Учить нас надо, дураков...»
Отдышавшись, поднялась, пошла уже медленно, на зверя не оглядывалась, только все по лицу размазывала сажу, носом шмыгала.
А зверь, как побледнело небо, и сам стал бледнеть, туманиться. Туманился, туманился, съежился, свился черным дымом и совсем исчез.
И на небе не осталось никакого знака, что сгорел знаменитый № 13 — дом Эльпит-Рабкоммуна.
Комментарии. В. И. Лосев
Дом Эльпит-Рабкоммуна
Впервые — Красный журнал для всех. 1922. №2. С подписью: «Мих. Булгаков». Затем в сб.: Булгаков М. Дьяволиада. Рассказы. М.: Недра, 1925.
Печатается по тексту журнальной публикации.
Речь в рассказе идет, конечно, о знаменитом доме по Большой Садовой, 10, который до революции принадлежал «табачному королю» Илье Давидовичу Пигиту. Булгакову пришлось жить в этом доме уже при другой власти и в других условиях. Однажды, в октябре 1921 г., он даже сочинил стихотворение:
На Большой Садовой Стоит дом здоровый. Живет в доме наш брат Организованный пролетариат. И я затерялся между пролетариатом, Как какой-нибудь, извините за выражение, атом!..Авторские сноски
{1}
Так проходит мирская слава! (лат.)
(обратно) (обратно)Полотенце с петухом
1
Ах, до чего был известный дом. Шикарный дом Эльпит... — Интересные воспоминания об этом доме оставил В. Левшин (Манасевич), детский писатель, проживший в доме Пигита много лет. Вот некоторые фрагменты из его воспоминаний: «Сначала дом не предназначался для жилья — богач Пигит строил табачную фабрику. Но в самый разгар строительства пришло запрещение возводить фабрику внутри Садового кольца. Пигит не растерялся, и промышленное здание быстро превратилось в жилое. Фабрика „Дукат" выросла по соседству, в Тверском-Ямском переулке... До реконструкции Садового кольца, еще не стиснутый громадами каменных соседей, дом выглядел внушительно. Шикарные эркеры, лепные балконы... Нарядный, полукругом выгнутый палисадник отделял здание от тротуара... Бельэтаж с длинными балконами на улицу занимал сам Пигит. Компаньон его, владелец гильзовой фабрики Катык („Покупайте гильзы Катыка!"), разместился на четвертом этаже... Директор Казанской железной дороги Пентка... Управляющий московской конторой императорских театров... фон Бооль (это про него шаляпинское: „Я из него весь „фон“ выбью, одна „боль“ останется!"). А одно время обитал тут даже миллионер Рябушинский — в огромной художественной студии, снятой якобы для занятий живописью, а на самом деле для внесемейных развлечений...
В 1910 г. вместе с женой Ольгой Васильевной и детьми Наташей и Мишей сюда въехал Петр Петрович Кончаловский... К Кончаловским потянулись со всех сторон люди искусства: Шаляпин, пианисты Боровский, Игумнов, Орлов, скульптор Коненков. Живал здесь (и подолгу)... Василий Иванович Суриков (отец Ольги Васильевны)... Многие знаменитости перебывали и в студии Кончаловского: Качалов, Москвин, Гельцер, Голованов и Нежданова... Сергей Прокофьев, Алексей Толстой... За столом собиралась группа живописцев, известная под названием „Бубновый валет". Кроме самого Кончаловского туда входили такие первоклассные художники, как Фальк, Лентулов, Куприн, Рождественский, Осьмеркин...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 168—171).
(обратно)2
...горделивый слух: Распутин здесь. — Личность Распутина интересовала Булгакова чрезвычайно, особенно же — отношения «старца» с царской семьей. В письме к матери от 17 ноября 1921 г. он раскрыл свой замысел: «...передайте Наде... нужен весь материал для исторической драмы — все, что касается Николая и Распутина... Лелею мысль создать грандиозную драму в 5 актах к концу 22-го г. Уже готовы некоторые наброски и планы. Мысль меня увлекает безумно...»
(обратно)3
Борис Самойлович Христи. — Как пишет В. Левшин, за этим персонажем стоит колоритная фигура караима Сакизчи, управлявшего домом при Пигите и «оставленного в той же должности после революции по причине своей полной незаменимости».
(обратно)4
...надпись... «Рабкоммуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. — Из воспоминаний В. Левшина: «Перемены, которые принесла революция, не могли не коснуться и дома Пигита. Постановлением районного Совета из дома выселены „классово чуждые элементы". Взамен исчезнувших жильцов появились новые — рабочие расположенной по соседству типографии... К этому времени относится знаменательное событие в послереволюционной истории дома: он становится первым в Москве, а может быть, и в стране домом — рабочей коммуной. Управление, а частично и обслуживание переходят в руки общественности...» (Там же. С. 172).
(обратно)5
...сберегите мне дом, пока все это кончится... — Мысль о том, что скоро «это кончится», не покидала Булгакова многие годы, особенно в начале и середине 20-х гг. Он полагал, что «возвратная операция» в России возможна.
(обратно)6
— Нилушкина Егора туда вселить... — И этот персонаж не был загадкой для В. Левшина. Он вспоминал: «А Нилушкин Егор — представитель домовой общественности, облеченный титулом „санитарного наблюдающего"? Спросите старожилов, и вам сразу же скажут, что это известный всему дому Никитушкин, личность комическая, чьи грозные предупреждения („Которые тут гадают, всех в 24 часа!") не испугали бы даже ребенка» (Там же. С. 181).
(обратно)7
Бич дома, Пыляева Аннушка... — Реально существовавшая в доме Пигита Аннушка Горячева, ставшая в произведениях Булгакова фигурой нарицательной. Писатель не случайно так часто показывает ее в самых различных ситуациях, ибо видел в таких аннушках беспросветную русскую темноту и дикость. Порода аннушек и шариковых оказалась чрезвычайно живуча.
(обратно) (обратно)




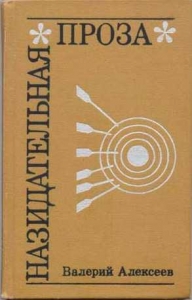
Комментарии к книге «Дом Эльпит-Рабкоммуна», Михаил Афанасьевич Булгаков
Всего 0 комментариев