Анатолий Иванов Повитель
XX век в изображении Анатолия Иванова
В советской литературе второй половины XX столетия творчество Анатолия Степановича Иванова — явление по-своему уникальное. Писатель вошел в литературу уверенным шагом человека, твердо знающего, что у него есть что сказать людям и сказать так, как до него не говорили другие. Попробовав свои силы в жанре очерка, приобретя какой-то опыт создания речевых характеристик в работе над небольшими рассказами, он обратился к главному, что волновало его, смело попытавшись сразу же развернуться в полную силу таланта. Уже через год после публикации первого рассказа, в 1955 году, он начинает работу над большим романом «Повитель».
Произведение создавалось начинающим писателем во внутренней полемике с более опытными собратьями по перу, не один из которых вдруг проникся скептическим отношением к так называемым «родимым пятнам капитализма в сознании и психике» людей нашей страны. Кое-кто брал в кавычки такие понятия, как «собственность», «классовость», представляя в идиллическом свете прошлое, всепрошлое. Появились произведения, восславлявшие «кондовое» как стержень души неповторимо прекрасных людей, словно вопреки самым сильным историческим бурям остающихся неизменными и только поэтому действительно прекрасными. Крылатым сделалось утверждение, будто благодаря им стоит и село, и край, и вся наша земля. Писатели, в той или иной степени разделявшие подобные мнения, порой вступали в спор с изображением основных этапов развития советской действительности, как она запечатлелась в «Чапаеве» и «Мятеже» Д. Фурманова, «Железном потоке» А. Серафимовича, «Поднятой целине» М. Шолохова, «Русском лесе» Л. Леонова, гипертрофировали неизбежные при коренной социальной ломке отрицательные проявления великого процесса пробуждения и исторической самодеятельности отдельных слоев народа. Кое-кто заново воссоздавал критически этот процесс на материале жизни и деятельности российских окраин или Сибири, где, как утверждалось, общепризнанные применительно к Центральной России социальные закономерности если и действовали, то совершенно по-иному. В это-то время на пороге храма советской литературы и появился неторопливый, среднего роста, коренастый русоволосый человек с добродушным, но твердым лицом, с голубыми зоркими глазами. Чуть растягивая слова, он раздумчивым, спокойным, невысоким голосом расстановисто сказал: «Я тоже знаю, как много прекрасного в старине, в прошлом. Но есть и другая старина, не та, которую надо оберегать, а та, что до сих пор подстерегает нас. Вот тут я написал о ней. Вернее, писал я о нашей сегодняшней жизни. Но как-то так получилось, что, рассказывая о нынешнем дне, вынужден был заглянуть в теперь уже отдаленное прошлое». И положил на стол свой первый роман — «Повитель».
Все дальнейшее произошло так, как виделось когда-то С.Н. Сергееву-Ценскому. «Представьте не такой уж и длинный стол, за которым плечом к плечу, очень тесно сидят писатели-художники, которых не так и много, — фантазировал крупнейший мастер советской литературы. — И вот в дверь комнаты, где они сидят, осмотрительно входит некий молодой человек с явным намерением усесться за стол. Кажется, что за столом нет места! „Как так нет места? — улыбается вошедший. — А это разве не место?.. Это отличное место. И это мое место“. И он садится за переполненный писателями стол, и все видят, что для него вопреки законам физики очистилось просторное место, и он усаживается на нем прочно. Так, на мой взгляд, входят в литературу талантливые люди. Они входят уверенно, и только те, которые входят в нее таким именно образом, остаются в ней всерьез и надолго»[1].
Не все талантливые писатели и не всегда именно так входили и входят в литературу. Но многие входили так. Среди них Анатолий Степанович Иванов. Зрелость автора «Повители» как художника поразила и читателей, и литературных критиков. Но первое крупное произведение не было создано писателем в одночасье. Оно рождалось в длительных и тяжких муках человека, прошедшего суровую жизненную школу и не первый год державшего в руках перо. Роман увидел свет, когда автору исполнилось тридцать лет. Село Шемонаиха Восточно-Казахстанской области, где он родился 5 мая 1928 года и рос до семнадцати лет, по образу жизни, укоренившимся нравам и обычаям мало чем отличалось от сибирских сел и деревень. «Там по укладу жизнь сибирская, и люди сибирские», — скажет он сам о родном селе после того, как в течение нескольких лет поколесит по Сибири. Мать писателя, рано потеряв мужа, осталась с тремя детьми, но не растерялась, бралась за любую работу, лишь бы можно было кормить, одевать, обувать и учить детей. Отвечая на вопрос автора этой статьи, есть ли в его личной жизни нечто, послужившее исходным материалом для создания образа Володьки Савельева («Вечный зов»), на хрупкие плечи которого уже перед войной обрушилась огромная тяжесть, а в годы войны он, его сверстники вместе с матерями стали чуть ли не основной силой, снабжавшей фронт всем необходимым, Анатолий Иванов рассказал: «Колхозниками мы никогда не были, жили в райцентре. Отец умер в 1936 году от какой-то болезни. Ему было всего 34 года. Работал он тогда заведующим райотделом „Союзпечать“. Но в колхозах я работал много в дни школьных каникул, было много родственников в колхозах, таких парнишек, как Володька, видел много, дружил с ними. Вот все это и послужило… Мать у меня — неграмотная, после смерти отца работала уборщицей в разных учреждениях славного села Шемонаихи, в годы войны — в сельском клубе, я бесплатно ходил в кино и на концерты, приобщался к искусству, что тоже, наверное, послужило…»[2]
Окончив в 1945 году среднюю школу, Анатолий Иванов, к тому времени загоревшийся мечтой стать газетчиком, журналистом, из-за отсутствия средств не смог сразу поехать учиться дальше и только год спустя поступил на факультет журналистики Казахского государственного университета имени С. М. Кирова в городе Алма-Ате. Читал все, что попадалось под руку, и, по его словам, во время практики «много писал всяких газетных материалов». После окончания университета в 1950 году работал сначала литературным сотрудником сельскохозяйственного отдела, а затем заместителем ответственного секретаря редакции газеты «Прииртышская правда» (г. Семипалатинск). Призванный в следующем году в ряды Советской Армии, начал службу на Дальнем Востоке как солдат, потом направили в военную газету. После демобилизации в чине младшего лейтенанта запаса решил возвратиться в Семипалатинск, но по пути случайно задержался в Новосибирске, получил здесь предложение стать редактором районной газеты «Ленинское знамя» (Мошковский район Новосибирской области). «И благодарю тот день и час, — признается он участникам обсуждения „Повители“ в 1959 году, — когда дал согласие, потому что это мне, в частности для романа, дало очень и очень много. Работал в этой районной газете и разъезжал по колхозам. Вот тут у меня и зарождались первые замыслы, которые я попытался передать в своих рассказах. Написав первый рассказ „Дождь“, послал его в журнал „Огонек“. Там его не опубликовали, а почему-то переслали в журнал „Крестьянка“, где он был напечатан в 1954 году». Успех первого рассказа настолько ободрил писателя, что в следующем году, когда «Крестьянка» объявила конкурс на лучший рассказ, он согласился принять в нем участие. С присущим Анатолию Иванову умением смотреть на собственные неудачи в прошлом юмористически, он позднее так опишет этот эпизод из своей жизни: «Я подумал: приму и получу первую премию! И написал „Алкины песни“. Но… первую премию получил Ю. Рытхэу… А мне спустя много времени рассказ вернули с гневом: героиня моя, писали мне, девушка пошлая, отбивает мужа у чужой жены, наглая; рассказ весь сюсюкающий и т. д. А после, когда я писал „Повитель“, этот рассказик кормил меня до-олго! Мне Новосибирский ТЮЗ предложил по рассказу написать пьесу. Я написал, она лет пять шла в этом театре с громом… Потом даже опера была поставлена на этот сюжет по моему либретто (в Новосибирске)»
Было и еще одно «потом»: опубликованный в 1956 году на страницах журнала «Сибирские огни», рассказ «Алкины песни» вместе с рассказами «Дождь». «Без утайки» (напечатан в 1956 году в «Крестьянке») и другими (всего семь) составил первую книгу Анатолия Иванова и дал ей название. К этому следует добавить, что именно в рассказе «Алкины песни» впервые, пусть еще робко, но ощутимо проявилась способность автора отыскивать в жизни характеры интересные, цельные, а в разработке их прибегать к смелым до неожиданности поворотам, не приглушая драматизма жизни. Никакой пошлости в главной героине рассказа нет, как нет и сюсюкания в повествовании. Есть же удивительная чистота и величие прекрасной даже в страдании души человека, предпочитающего обречь себя на пожизненную муку, чем обездолить, лишить радости других, в особенности детей. Все остальные произведения, вошедшие в первую книжку писателя, воспринимаются как недурные зарисовки, не более того.
Всего этого было чересчур мало, чтобы работа над первым романом далась Анатолию Иванову сама собой. «Я работал в районной газете, — рассказывал он мне о том, как возникал, формировался замысел „Повители“, — случайно в колхозе одном встретил человека, сидящего в сенокосную пору в холодке. Смотрю — пьяненький, что-то рассказывает двум трезвеньким. Потом узнал, что это заместитель председателя колхоза (были тогда и такие должности), что он вообще пьяница, фамилия его — Бородин, что у него полдеревни родни, они-то его на отчетно-выборных собраниях и выкрикивают в заместители председателя и проводят голосованием. Колхоз же! Человек этот был злой, обиженный чем-то, плохо жил с женой (бабник), с сыном.
Я решил написать о нем, об этой семье небольшую повесть — конфликт сына с отцом. Что-то я написал, отнес в «Сибирские огни». Там почитали и спросили — а в чем, собственно, суть конфликта у них?
Вот этот конфликт я долго пытался изобразить, не помню уже, что придумывал. Повесть росла в объеме, из современности все больше углублялся в ранние годы Советской власти, а конфликта не было. Раза четыре я показывал повесть в «Сибирских огнях», и все мне ее возвращали для переделок, для разработки этого конфликта.
И вдруг я в газете прочитал сообщение (в «Советской Сибири»), что на свалке в одной из сибирских деревень нашли выброшенный кем-то ржавый кулацкий обрез. Вот тут-то меня и осенило — кто хранил до сего времени, зачем хранил, почему решил разоружиться? Повествование пошло еще более в глубь времени, началось с 1915 года».
Писатель докопался до социальных основ увлекшего его воображение конфликта. И сразу раздвинулись жизненные рамки, позволив сблизить на первый взгляд явления далекие друг от друга, такие, как, с одной стороны, собственничество, стяжательство, карьеризм, с другой — общественная апатия, инертность, антиобщественное поведение, пьянство. А это, в свою очередь, наталкивало на смелые социально-философские обобщения, создавая прочную основу для глубокого художественного проникновения в сущность изображаемых явлений. «По-моему, — размышлял писатель, — противоречия нашего общества гораздо глубже и серьезнее, гораздо сложнее, чем мы порой объясняем это в своих книгах, и причины существования многих и многих отрицательных героев надо искать в противоречиях социального плана».
Так в ходе работы над первым романом кристаллизовалась одна из главнейших особенностей всего последующего творчества писателя — ясная социальная обусловленность всего, что он изображает. Это тем важнее отметить, что и «Повитель», и «Тени исчезают в полдень», и первая книга «Вечного зова» создавались автором в период, когда в советской литературе проявилась тенденция, о коей М. Алексеев, выступая с докладом о прозе российских писателей, вынужден был с горечью сказать: «.. С некоторых пор социальное, гражданское, народное и партийно-классовое начала в нашей литературе, всегда имевшие решающее значение, в творчестве отдельных наших писателей, несколько приглушились, стали проявляться не столь страстно и взволнованно, их все чаще стали заменять иные звуки, скорее интимные, камерные, обращенные прежде всего к собственному изысканному вкусу, к своей утонченно-эстетской душе»[3].
Когда журнал «Сибирские огни» опубликовал роман «Повитель», наиболее авторитетный из критиков того времени А. Макаров напечатал в журнале «Знамя» обширную, выдержанную в хвалебных тонах статью; в первом же абзаце ее роман квалифицировался как «необычный в современной литературе». И хотя в ходе конкретного разбора романа авторитетный критик указывал на отдельные просчеты, но при всем этом считал «роман положительным и незаурядным явлением в нашей литературе». Рецензенты и критики, писавшие о романе на страницах «Коммуниста» и «Нового мира», «Звезды» и «Вопросов литературы», «Урала» и «Дальнего Востока», разделяли подобную оценку «Повители». Неудивительно, что роман принес автору всесоюзную известность, сразу же был замечен за рубежом, переведен на болгарский, чешский, словацкий, румынский, французский и другие иностранные языки.
В «Повители», так же как во всех последующих произведениях, основное внимание Анатолия Иванова приковано к современности. Если он обращается к прошлому, то лишь постольку, поскольку туда уходят корни волнующих его явлений. Однако в современности не все интересует его в равной мере.
Одну из своих излюбленных мыслей крупнейший писатель нашей эпохи Л. Леонов в последний раз выразил так: «Каждый большой художник сам по себе является носителем личной, иногда безупречно спрятанной проблемы, сложный душевный узел которой он развязывает на протяжении всего творческого пути. Недаром говорят, что существует проблема Гоголя, проблема Толстого, проблема Горького»[4]. Есть все основания утверждать, что существует также проблема Шолохова, проблема Леонова. Из новейших писателей к такому же выводу подводит изучение творчества Юрия Бондарева, Виктора Астафьева, Василя Быкова, Валентина Распутина…
Существует и проблема Анатолия Иванова. К ней он возвращается на все более высоких витках своего художественного развития и в романе «Повитель», и в эпическом повествовании «Тени исчезают в полдень», и в романе-эпопее «Вечный зов». Жизненное явление, ею охватываемое, слишком значительно, многоствольно и многоветвисто, с беспримерно глубоко и широко раскинувшимися корнями, чтобы вместиться в одном слове. Быть может, вернее говорить даже не о жизненном явлении или явлениях, а об одном из двух начал бытия, в конечном счете сливающемся с тем, что с давних пор именуется «злом», «тьмой», в противовес другому, сливающемуся с понятиями «добро», «свет», «человечность». Речь идет прежде всего о том, что экономисты называют «частнособственническим началом», в процессе исторического развития превращающимся в силу, разрушающую самые основы человечности на Земле. Подрубленное в нашей стране под корень, это начало не засыхает сразу. Одну из опаснейших его разновидностей Анатолий Иванов метко сравнил с сорняком, вдруг, почти необъяснимо высовывающимся рядом с бледноватыми стеблями человеческих посевов. «Он коварно выжидает время. Когда растения немного разовьются и окрепнут, он осторожно высовывает наружу свое бледноватое тело.
Несколько дней они спокойно растут рядом. Враг, кажется, не обращает внимания на зеленое растение. Потом начинает тянуться к молодому стебельку, обвивается вокруг него раз, другой, третий, впивается бесчисленными присосками и теряет связь с землей. Теперь молодое растение кормит его своими соками. А само постепенно чахнет, желтеет…
Этот враг именуется повиликой. Жители Локтей зовут его несколько иначе — повитель.
Наиболее зараженные повителью участки посевов колхозники выкашивают раньше, чем созреют семена повилики. Другого выхода очистить поля от этого сорняка нет».
Вот к этому началу и приковано внимание Анатолия Иванова во всех до сих пор написанных им произведениях. Берется и изображается оно в бесконечно разнообразных видах, неизменно в непримиримых схватках с другим, противоположным началом, показывается тотально, как выражение мировых катаклизмов, и вместе с тем предельно конкретно. В результате читатель ощущает в очень колоритных, ярких сценах обычной сибирской жизни отражение социальных гроз и ураганов, потрясающих в XX столетии весь мир. Кроме прямого смысла, рисуемые Анатолием Ивановым картины несут в себе еще и гигантские обобщения, вернее, поднимаются до таких обобщений, отчего часто воспринимаются как грандиозные символы.
Глубоко социальные, так сказать, органически социальные по своему смыслу произведения Анатолия Иванова захватывают нас диапазоном своего общечеловеческого наполнения. Писатель рассказывает о жизни сибирских крестьян, вернее, о жизни выходцев из сибирского крестьянства. Однако обуревающие их чувства, страсти, их вожделения оказываются характерными для самых разных социальных слоев в эпоху перехода от капитализма к социализму и коммунизму.
Возвратившись к эпохальным закономерностям и социальным конфликтам, исходя из которых или на основе которых М. Шолохов, А. Толстой, Л. Леонов, А. Фадеев строили свои произведения о гражданской войне и созидании первого в мире социалистического государства, рассмотрев под тем же углом зрения всю последующую нашу жизнь, Анатолий Иванов обнаружил в самых острых социальных явлениях колоссальный общечеловеческий потенциал, что позволило ему создать крупные, взволновавшие миллионного читателя характеры как строителей новой жизни, так и смертельных врагов ее. При этом с редкостной смелостью, а часто просто дерзостью он использовал право искусства на художественное сгущение, преувеличение, обострение, заострение и жизненных ситуаций, типических обстоятельств, в которых действуют изображаемые им лица, и самих действующих лиц, поскольку такое преувеличение, заострение не искажает правды жизни, но делает ее рельефнее, эстетически убедительнее.
Обратившись к творчеству Анатолия Иванова, мы погружаемся в мир необычайно острых конфликтов, предельно напряженных ситуаций, самых яростных интеллектуальных, нравственных, физических столкновений. Здесь кипят страсти, сшибаются люди разных убеждений, пуская в ход пушки, пулеметы, автоматы, обрезы, наганы, кулаки, зубы. Дыхание смерти тут ощущается почти с такой же силой, как дыхание жизни. Здесь нет людей равнодушных, безучастных, ибо рушится один мир и создается другой. Люди гибнут в исторических битвах, часто не сознавая этого полностью, уносятся социальными вихрями в небытие. И рождаются новые люди, растут, крепнут, строят жизнь на принципиально иных основах, перевоспитывая миллионы себе подобных, родившихся в другом мире и зараженных его идеологией, его предрассудками и предубеждениями. К каждому писатель подходит с самым крупным масштабом, ставя перед ним вопросы: «Кто ты? Зачем живешь?» И это вопросы, диктуемые самим временем, крутым поворотом в историческом развитии человечества. Большинство встает на новый путь, но немало и таких, кто пытается до конца противостоять историческому напору новых социальных сил и их устремлений. Схватки между ними беспримерно жестоки не только в тех случаях, когда старый мир, выступая в облике белогвардейщины, фашизма, милитаризма, пытается сломить новую силу, но и тогда, когда, как ржавчина, разъедает те человеческие души, что поражены тысячелетним микробом частной собственности.
Художник, как сказано, сознательно идет на предельное укрупнение, заострение и жизненных ситуаций, и художественных характеров. Изображаемые им защитники «собственного хозяйства, собственных амбаров и лавок» в ненависти к Советской власти, к новому строю жизни не знают удержу, не останавливаются ни перед чем. Писатель тоже не сдерживает их ни в чем, подробно рассказывает об изуверстве и страшных истязаниях, которым они подвергали в годы гражданской войны и коллективизации коммунистов, комсомольцев, а в эпоху Великой Отечественной войны, поступив на службу к фашистским оккупантам, — советских военнопленных и мирных жителей на территории, временно подпавшей под иго гитлеризма. Кое-кто упрекает Анатолия Иванова в перенасыщении повествования сценами купеческих разгулов, белогвардейских и кулацких зверств, фашистских изуверств. Никто, однако, не спорил с тем, что такие сцены опираются на реальные факты жизни, в свое время преданные гласности самими купцами, белогвардейцами, фашистскими генералами и их прислужниками. Некоторые из реальных фактов привлекали внимание литературы и раньше. Достаточно назвать в прошлом «Рассказ о необыкновенном» М. Горького, повесть «Перегной» Л. Сейфуллиной, роман «Два мира» В. Зазубрина, а в наше время «Я из огненной деревни» А. Адамовича, Я. Брыля и В. Колесника или вспомнить о леденящей до сих пор нашу кровь казни фашистами советского генерала Карбышева. В творчестве Анатолия Иванова эта правда о старом мире выступает выпукло, в предельной художественной концентрации. По глубокому убеждению писателя, только так можно по-настоящему донести до современного читателя беспримерную жестокость, бесчеловечность, изуверство, посредством которых мир эксплуататоров, издыхая, пытается продлить свое пребывание на исторической арене. Более того, писатель тем самым внушает читателям, что ни Освенцим, ни Маутхаузен, ни индонезийская резня 1965 года в этом отношении не являются пределом бесчеловечности старого мира, что подлость его не имеет и не будет иметь границ. Жесткость, даже жестокость реализма Анатолия Иванова определяется тем материалом жизни, с которым он имеет дело. Суровость писателя — суровость самой изображаемой им правды жизни, о чем еще М. Горький памятно говорил: «Как всякая правда — художественная правда жестока, она даже более жестока, чем всякая иная. Это так и следует»[5]. Что же касается сгущения, преувеличения, заострения, то они всегда были обязательными в подлинном искусстве. «Dichtung ist Verdichtung»[6], — говорил Гёте. Настаивая на этом праве художников XX столетия в особенности, М. Горький писал, что «подлинное искусство обладает правом преувеличивать, что Геркулесы, Прометеи, Дон-Кихоты, Фаусты — не „плоды фантазии“, а вполне закономерное и необходимое поэтическое преувеличение реальных фактов». Поднимаясь к теоретическим обобщениям, он доказывал, что социалистический реализм «должен мыслить гипотетически, а гипотеза-домысел — родная сестра гиперболе преувеличению…»[7]. Возникает вопрос: в какой мере и до какой степени художник имеет право на преувеличение, заострение, сгущение, концентрацию жизненных явлений в искусстве? В той мере и до той степени, пока не нарушается то «чуть-чуть», что заставляет читателя неотрывно следить за каждым шагом основных героев писателя. Впрочем, читатели легко прощают писателю «издержки» гиперболизации ради той большой правды, которую неизменно заключают создаваемые им характеры, тем более что вместе с автором вынуждены каждый раз докапываться до нее. Анатолий Иванов умеет заинтриговать читателя не столько сюжетом, сколько тайной характера героев, искусством рисовать людей так, что мы долго не можем догадаться, кто же перед нами на самом деле, что за человек и чем движим в жизни своей. В повествовании «Тени исчезают в полдень», в романе-эпопее «Вечный зов», в повести «Жизнь на грешной земле» это проявилось в особенности. Проявилось еще и потому, что для самого писателя почти каждый человек — загадка, каждый по-своему интересен и многогранен, если можно так выразиться, не одна страница, которую можно сразу охватить взором, а целая книга, порой для прочтения требующая колоссальных усилий.
Как бы то ни было, созданные Анатолием Ивановым характеры привлекли к себе всеобщее внимание, породили неутихающие споры и среди читателей, и среди литературных критиков. Когда начался показ созданного по роману-эпопее «Вечный зов» многосерийного телефильма, посыпались столь противоречивые отзывы, что руководители телевидения прервали демонстрацию картины. Немало им потребовалось времени, чтобы заново просмотреть каждый кадр и, убедившись в его жизненной бесспорности, продолжить демонстрацию. Надо сказать, что перерыв в показе вызвал не меньший поток писем телезрителей с требованием продолжить показ фильма — явление все-таки редкостное в наше время, несмотря на то, что в последние десятилетия, кажется, не появилось ни одного крупного произведения, которое бы не экранизировалось.
Разожженные показом телефильма, споры зрителей взволновали литературных критиков, ученых, поставив ряд серьезных вопросов. В них, в этих спорах, наряду с признанием недюжинной талантливости Анатолия Иванова высказывались, чаще всего в форме вопросов, сомнения, а прав ли писатель, сосредоточивая главное внимание на отрицательных явлениях нашей жизни. Не нарушает ли он принципов социалистического реализма, до предела заостряя в характерах такие тенденции, как всепоглощающее чувство частной собственности или ненависть к новому миру? Не преувеличивает ли жестокость жизненного развития? И вообще, не лежит ли жестокость в основе и его мироотношения, и его таланта? Отвечая на эти сомнения и вопросы, критики и литературоведы, почти единодушно признавая, что писатель любит «замешивать» свои произведения «круто», создает их на «жестоких контрастах света и тени», рисует «сильные характеры, вовлеченные в стремительные и трагические события», склонен к резким, часто изломанным фабульным линиям, угловатым ситуациям, неожиданным поворотам в человеческих судьбах, пользуется «сильнодействующими художественными средствами», что для его произведений показательна «динамичность повествования», «трагедийная напряженность действия», «накал страстей»[8], единодушно отвергали упрек в жестокости таланта. «Суровый, порой жестокий мир произведений Анатолия Иванова основан на подлинной доброте»[9], — справедливо утверждал Б. Леонов. Доброта писателя исключает все подлое, низкое, грязное, фальшивое (вплоть до благополучных стереотипов в литературе), и потому-то она такая суровая. Еще одно тому доказательство критики находили в написанной Анатолием Ивановым в просвете между первой и второй книгами «Вечного зова» превосходной повести «Жизнь на грешной земле». Как бы отвечая тем, кто говорил, что писатель не всегда бывает экономным на слово, Анатолий Иванов написал ее предельно экономно, почти конспективно, отчего внутренний динамизм приобрел предельную напряженность, не помешав писателю совершенно реальный конфликт между Павлом Демидовым и Денисом Макшеевым разработать многолинейно, так что он, этот конфликт, не теряя своей обыденности, выступает как олицетворение ожесточенной борьбы двух миров. Человек драматической судьбы, Павел Демидов на безумно извилистых путях своего бытия сумел сохранить веру и в нашу жизнь, и в наших людей, в то, что «на земле должно быть как можно больше людей со светлыми глазами». Даже когда почти невмоготу ему было ходить по земле, он верил все-таки, что «не вся земля в подлецах, слишком большая она для этого». Открывая приемному сыну Гриньке глаза на красоту и доброе отношение земли к человеку, он говорит: «Ты запомни, сын, два закона, может, самых главных в этом мире. Земля любит человека. И второе — человек тоже должен любить ее, землю. Запомнишь?.. Тогда легко жить тебе будет. Тогда-то и не остынет у тебя душа… Какую бы подлые люди ни сделали тебе подлость».
Автор «Повители», «Вечного зова» обладает завидным умением воплощать емкое социальное и вместе с тем общечеловеческое содержание в колоритных, многогранных характерах, будь то жаждущие разбогатеть отец и сын Бородины, деревенский лавочник Лопатин, староста Гордей Зеркалов и его сын Терентий или медленно, но неотвратимо втягиваемые ссыльным революционером Федором Семеновым в борьбу за создание жизни на совершенно новых основах деревенские труженики Андрей Веселов и его невеста, а потом жена Дуняшка, Павел и Анна Тумановы, Тихон Ракитин, Степан Алабугин, Федот Артюхин из «Повители»; братья Меньшиковы, Устин Морозов, Серафима Клычкова и противостоящие им Марья Воронова, Захар Большаков, Филимон Колесников из эпического повествования «Тени исчезают в полдень». Анатолий Иванов рисует их образы широкими мазками крупной кисти, до предела заостряя доминанты в характерах; ставя героев в острые, порой исключительные ситуации, заставляет их совершать самые ошеломляющие поступки, порождающие у читателя ощущение: «Они еще и не на такое способны…»
Можно спорить о том, сумел или не сумел передать «внутренние бездны», отличающие многих героев Анатолия Иванова, художник Николай Усачев, одним из первых попытавшийся иллюстрировать произведения «Повитель» и «Тени исчезают в полдень». Но нельзя не понять, почему на всех иллюстрациях герои этих произведений, воссоздает ли художник образы Григория Бородина или Андрея Веселова из «Повители», Устина Морозова, Фрола Курганова или Захара Большакова, Филимона Колесникова из «Теней», изображаются людьми дюжими, широкими в плечах, обутыми в сапоги. Внутренняя добротность, прочность, упорство, неотступность отличают на рисунках Марью Воронову, Евдокию Веселову, Петьку Бородина, Федьку Морозова, Иринку Шатрову. Даже постоянная погруженность Фрола Курганова в мучительные думы, попытка уловить все время ускользающую мысль, от которой зависит его жизнь, не расслабляют все-таки его богатырской фигуры. И это одна из самых важных особенностей творческой манеры Анатолия Иванова.
2
Снедаемый жаждой разбогатеть, Петр Бородин-старший зарубил в лесу цыгана из-за мешочка с золотом. Тем же топором, не закричи жена Арина, он мог прикончить и сына Григория, чтобы избавиться от свидетеля. Он отказывается отвезти тяжко больную Арину в больницу. «Ей в больницу, а нас с тобой в тюрьму! Слыхал, что она в горячке мелет?» — сказал отец Григорию. И когда лишенная помощи жена умирает, сын думает: «Однако он правильно рассудил, батя-то…»
Уже из этой детали видно, что, несмотря на постоянные стычки между отцом и сыном, всегда угрожающие жизни то того, то другого, люди эти одного поля ягоды. Сын твердо усваивает наставления отца, повторяющего, что «человек — зверь», «люди — волки лютые», а в жизни самое главное — взять свое: «разбогатеть, возвыситься над людьми», чтобы командовать ими, втаптывая в грязь неугодных. С присущим Анатолию Иванову умением находить по видимости очень простые, по содержанию очень глубокие, поливалентные сравнения и характеристические детали, часто становящиеся лейтмотивными, о Петре Бородине говорится: «Мысль „выбиться в люди“, разбогатеть, стать крепким хозяином сидела в Петре, как гвоздь в бревне. Глубоко кто-то загнал этот гвоздь в дерево, по самую шляпку, приржавел он там, и уж не вытащишь его никакими клещами. Шляпку сорвешь, а гвоздь все-таки останется внутри. Разве вот расколоть бревно надвое…»
Эта же черта доминирует и в характере Григория Бородина. Она является как бы врожденной, что хорошо передается такой меткой художественной деталью: у Григория длинные тонкие руки, кончающиеся широкими, как лопата, клешнястыми, но цепкими ладонями, которые он во все критические минуты инстинктивно то сжимает, то разжимает. «Что уж возьму — намертво. Никто не выдернет, не отберет», — похваляется он.
«Этот мрачный образ „человека из подполья“, его семейное и бытовое окружение — большая удача А. Иванова»[10], — писал В. Дорофеев, одним из первых достойно оценивший талант писателя. Так же как отец, Григорий Бородин видит смысл жизни в том, чтобы стать богатым, жениться на полюбившейся ему соседской дочке Дуняшке и зажить «хорошо, удобно, уютно». Сначала, казалось бы, все шло к этому, отец быстро «набирал землю», прикупал скот; Григорий «ходил по деревне не торопясь, вразвалку, спрятав руки в карманы». Полным ходом шло строительство нового дома, а потом и лавки. Но грянула революция, и все полетело под уклон. Пытаясь «повернуть на старое», Григорий идет в тайное услужение к колчаковцам, выслеживает по их заданию партизанский отряд Андрея Веселова, а в годы коллективизации вместе с Терентием Зеркаловым поджигает колхозные постройки, покушается на жизнь колхозных активистов, надеясь, как подсказывает ему однодумец, подрубить под самый корень дерево новой жизни. Ему энергично помогает отец, которого теперь уже боится и все яростнее ненавидит Григорий как свидетеля собственных преступлений. Вот почему, когда умер отец, Григорий не испытал ничего, кроме облегчения. И с беспримерной жестокостью убрал другого свидетеля — Терентия Зеркалова. Григорий Бородин тем более жесток, что от природы труслив, да и о силе его когда-то правильно сказал ему Андрей Веселов: «У тебя вся сила в руках, как у рака в клешнях… А ударь тебя по лбу — ты с копыт долой…»
Но сущность Бородина-младшего не исчерпывается ни трусостью, ни наглостью, ни жестокостью. По-своему, например, он верен первой и единственной любви к Дуняшке. Он где надо увертлив, где надо осторожен и предусмотрителен. Поражают упорство, настойчивость, с какими, проходя через неудержимые исторические вихри, он пытается осуществить главную свою мечту, а убедившись в безнадежности затеи, изобретательно мстить тем, кто, как он считает, сломал ему жизнь. Хитро ведет он к развалу колхоза, пробуждая, подогревая, раздувая в людях желание получить за собственный труд побольше, а когда и это не удается, готов уничтожить собственного сына, чтобы тот не достался строителям нового мира. «Жизнь прожита, а что нажито? — говорит он про себя. — Ничего. Умру — и не останется от меня следа… Петька вот только, сын… Все взяли, сволочи, все. А сына? Ну нет, сына-то уж не отдам…» И он делает все, чтобы сломать волю сына, сделать его послушным волчонком. Однако вне дома на Петра влияют противоположные силы. Критик А. Макаров считал Петра самой интересной фигурой в романе. «Это так, — писал он, — потому что Петр — фигура в литературе новая. Ни сходных ему по поступкам, ни каких-то даже отдаленных аналогий этой фигуре мы не найдем»[11].
Умение Анатолия Иванова создавать выразительные характеры людей, насмерть пораженных идеей частной собственности, не раз заставляло критиков вспоминать «Поднятую целину» М. Шолохова. Надо добавить, что запоминаются и встающие со страниц произведения талантливого писателя характеры строителей новой жизни, например первого председателя колхоза Андрея Веселова, его жены Дуни.
Безупречно, с искусным использованием опыта русской классики, в частности опыта Л. Леонова, вычерчивается в романе «Повитель» психологическая кривая взаимоотношений Григория Бородина и Евдокии Веселовой. Влюбившийся в нее раз и навсегда, Григорий на коленях упрашивал Дуню выйти за него замуж, обещал носить ее на руках, но был отвергнут. Она предпочла бедняка Андрея Веселова. Долго надеялся Григорий, что Дуня передумает или же обстоятельства жизни вынудят ее прийти к нему. Не дождавшись I ни того, ни другого, стал проникаться к ней ненавистью. На посту председателя колхоза он использует любой повод, чтобы унизить, оклеветать, сломить ее.
На мой взгляд, психологические поединки Григория Бородина и Евдокии Веселовой — самое лучшее, что есть в романе. Энергично, с редкой целеустремленностью разрабатывая главный конфликт в произведении, придавая ему предельную остроту и исключительную динамичность, Анатолий Иванов не ограничивается его сольной партией, а реализует в многоветвистом сюжете, подключая как можно больше дополнительных мелодий и вариаций. Да и развитие центральной мелодии предрешается, сопровождается, осложняется множеством лейтмотивов, рефренов, сцен-ретроспектив, повторяющихся ситуаций, пейзажных зарисовок и целых картин, заключающих в себе глубокий символический смысл, но выполненных неизменно в добротной реалистической манере.
В романе «Повитель» есть отличное сравнение поведения Григория Бородина с повадками лисицы, преследуемой собаками, но вновь и вновь возвращающейся к хищничеству, едва ослабевает преследование. Отпечатываются в памяти многозначные картины-запевки, открывающие третью и четвертую части романа. При исключительной внутренней весомости, даже тяжеловесности, глыбистости, что ли, всего, что и как изображает Анатолий Иванов, оно обладает совершенно своеобразной красотой и поэтичностью, подкупая читателя обилием точно увиденных деталей, несущих опять таки в себе самые широкие обобщения. Для примера можно сослаться на описание пробуждающейся земли в четвертой части «Повители» (когда земля «начинает тихонько, незаметно для человеческого глаза, шевелиться»), заканчивающееся цитированным выше рассказом о том, как к нежным растениям начинает тянуться повитель. Конкретно этой «увертюрой» предваряется драма Петра и Поленьки Веселовой, порождаемая отношением Григория Бородина к сыну. Но в глубинах своих картина содержит и главный смысл всего повествования. Не случайно именно слово «повитель» оказалось вынесенным отсюда в название произведения.
И наконец, «лица не общее выраженье» автору «Повители» придает язык его персонажей. Мало сказать, что герои говорят ярким, сочным языком, что диалоги и монологи насыщены всегда к месту употребляемыми пословицами, поговорками, блещут оригинальными афоризмами. В их речах много корневого, идущего из самых глубин жизни и потому очень мудрого.
Отрицательные персонажи у Анатолия Иванова тоже обладают каждый своим неповторимым, часто сжатым, как пружина, языком. С ними не соглашаешься, но многие их фразы, целые монологи навсегда застревают в памяти.
Авторская речь уже в «Повители» изобилует оттенками, начиная от сурово-обличительных, резких, порой грубоватых и кончая нежными, почти застенчивыми, как вот в этом описании приближающегося вечера: «Солнце, насветившись за день вовсю, где-то за горизонтом неторопливо готовилось к заслуженному отдыху. Оно, невидимое уже людям, посвечивало там устало, чуть-чуть, только для себя. Но и этот свет, поднимаясь с земли, окрашивал небольшой кусочек неба прозрачной желтоватой краской.
Молодое облачко, никогда в жизни не видавшее еще, где и как устраивается на ночь солнце, торопливо подплыло к освещенному краешку неба и с любопытством глянуло вниз, на землю. Облачко, кажется, не могло еще отдышаться и было розоватым, как лицо ребенка после быстрого бега…»
3
Возвращаясь к волнующей его проблема в следующем произведении — «Тени исчезают в полдень» (1963), Анатолий Иванов, во-первых, придает ей глобальный масштаб, заглядывая далеко за горизонт, показывая, как переплетаются корни чуждых нашему строю элементов с корнями самых темных сил капиталистического мира, во-вторых, находит новые смелые повороты как в освещении многих жизненных ситуаций, уже испробованных в первом романе, так и в углублении характеров, разработанных в «Повители». И создает много новых. Некоторые из них, например характеры Серафимы-Пистимеи, Фрола Курганова, Анисима Шатрова, — настоящие художественные открытия. «Мне хотелось проследить, — раскрывал замысел произведения „Тени исчезают в полдень“ сам автор, — как трансформируется классовый враг в условиях современного социалистического общества. Религиозная же среда — это та среда, в которой, как мне кажется, моим отрицательным героям было бы легче укрыться и удобнее всего действовать. Разумеется, сами они не верят в бога… Я убежден, что Пистимея в романе как раз такая, какой была задумана, то есть неверующая. Ее даже нельзя отнести к сомневающимся. С ранней юности ей ясно, что бога нет… Революция разрушает ее мечты, лишает баснословного состояния. Воля, ум, все помыслы Серафимы теперь направлены на одно — схоронить ненавистную ей народную власть, а если сокрушить не удастся, то, по крайней мере, мстить, сеять зло среди тех, кто эту власть поддерживает».
И в другой раз: «Если Бородин — враг нового общества стихийный, что ли, не очень-то сознательный, то ведь есть, и немало, врагов сознательных, не примирившихся с нашей идеологией ну никак, — то есть враги очень уж фанатичные. Кто они, как дожили до нашего времени, где, в какой среде живут, что делают? Вот одну, только одну из этих сред я попытался показать, один, только один тип врагов, доживших до начала 60-х годов. А религиозная среда — там, где я жил в детстве и юности, — ее было достаточно. Многих из описанных людей я видел в том или ином обличье, многое, конечно, взял из документов областной организации по делам религии и всяких сект, я знакомился с этими материалами. Вот сцена встречи Сидора Фомичева и Федора Морозова вымышлена, но все факты и случаи из жизни сект, описанные в романе, — реальные, все они происходили в том или другом месте в то или иное время (50-е годы)».
Защитники и апологеты старого мира, «жестокие, изощренные», оперативно меняют одно оружие на другое, так же как средства прикрытия своей деятельности. Когда из их рук были выбиты пулеметы, а их армии рассеяны, они взялись за обрезы и принялись изводить Советскую власть исподтишка, умело шантажируя людей, допускавших ошибочные шаги в годы открытых классовых боев, используя слабости одних, предрассудки других, не брезгуя ни клеветой, ни сплетней. Сын заволжского хлеботорговца и организатора шайки, стремившийся «под корень вырубить большевистскую заразу», Костя Жуков проходит выучку в банде сибирского богатея Фильки Меньшикова, дав клятву всю жизнь мстить тем, из-за кого «черным густым дымом уплыл в небо стоявший на самом волжском берегу большой, просторный, на каменном фундаменте, двухэтажный дом, в котором вырос он, Костя Жуков, уплыли амбары и завозни. Все это их собственные батрачишки облили керосином и подожгли». Не один год возглавляемые Филькой Меньшиковым, Костей Жуковым да несостоявшимся лавочником Тарасом Звягиным банды «темными ночами, а иногда и днем врывались в села и поселки, стреляли детей и женщин, рубили стариков, кидали гранаты в окна, поджигали дома и скакали прочь». Они «гуляли» по Заволжью, и в предгорьях Южного Урала, и за рекой Белой. Не раз, зажатые в тиски красноармейскими частями, Филька, Костя коварно отправляли на смерть всех своих сообщников, лишь бы самим уйти от погони воровскими тропинками. Уже в те дальние годы их ненавистью руководила дочь богатейшего уральского купца и промышленника Клычкова Серафима. Потеряв все свои богатства, она сначала укрылась в монастыре, а позднее вошла в доверие к сектантам и, от поры до поры внося поправки в свои религиозные «верования», главенствовала и над хлыстами, и над баптистами, и над пятидесятниками, используя их для нанесения удара за ударом по тем, кто лишил ее золотых приисков и возможности повелевать людьми. Это с нею неизменно советовался Филька Меньшиков, замышляя жестокие преступления или попадая в безвыходные ситуации. Быть может, всего один раз он поступил самостоятельно, когда отправился в родные места и там вместе с братом Демидом, воспользовавшись почти невменяемым состоянием Фрола Курганова, выманил из дому первую председательницу коммуны Марью Воронову. Филипп и его брат выдавили ей глаза, а затем убили на утесе. Демиду удалось бежать и даже едва не убить еще одного деревенского активиста — Захара Большакова, а Филипп был схвачен, посажен под арест, откуда его выкрал Анисим Шатров и совершил над ним суд беспощадный. Заняв место Филиппа в банде Серафимы, Демид со своими сподручными убивал, сжигал живьем на кострах активистов новой жизни, их жен, детей. Банда бесчинствовала до тех пор, пока не попала в огненное кольцо. Но и на этот раз, спровоцировав всех своих сообщников на самосожжение, Серафима Клычкова, Демид Меньшиков и Костя Жуков сумели уйти от возмездия. На заранее условленном месте их уже ждал новоиспеченный нэпман Тарас Звягин.
Где бы ни был Костя Жуков, какие бы испытания ни выпадали на его долю, он неизменно помнил «о своей усадьбе над Волгой, о добротных амбарах, доверху засыпанных тяжелой, холодной пшеницей. Вспомнив амбары, он вспоминал всегда почему-то Фильку Меньшикова, который оставил ему половину своей веры. Вспоминал и ясно чувствовал: он, если не подохнет сейчас с голоду, будет мстить за эти амбары с зерном вдвое, втрое беспощаднее и яростнее, чем мстил до сих пор, потому что.. потому что деревце, выросшее из Филькиного семечка, не сломалось, не засохло. Оно разрослось, оказывается, за последнее время еще гуще, ветви стали еще крепче. Кровь и огонь, очевидно, были хорошим удобрением для деревца, а последняя зима, мыканье по лесу, ужасная ночь на островке и качающаяся льдина — все это закалило его ветви, превратило их в упругие стальные прутья. И теперь никому никогда не обломать их. Никогда! Разве вот по одному кто сумеет перекрутить их да повыдергать. По одному… И тем самым засушить все деревце, а потом вывернуть наружу подгнившие корни…»
Так он думает и в годы нэпа, и в годы коллективизации, и после того, как, убив переселенцев и воспользовавшись их документами, становится Устином Морозовым, Серафима — его женой Пистимеей, а Тарас Звягин — односельчанином Ильей Юргиным. По указанию Демида Меньшикова они поселились в его родном селе Зеленом Доле. «Значит, живя там, и будешь Захарке Большакову свеженькой соли под хвост ежедневно подсыпать, — говорил Демид, отставляя на траву жестяную кружку. — Я не хочу, чтобы он сразу подох, как Марья Воронова. Не-ет… Это просто повезло Марье благодаря моей молодости. Неопытный я был. Сейчас — не-ет… Пусть он всю жизнь стонет и корчится от боли, как та сельсоветская дочка на горячих углях. Он будет выползать из горячей сковородки, а ты его обратно. И пусть он хотя и безбожник, а взмолится богу о ниспослании ему скорой смерти. А смерти не будет. Действовать будешь не самолично, а через Фролку Курганова. Есть там такой… Я тебе скажу, как ключи к нему подобрать… И еще — Наталья там Меньшикова есть. Моя сродственница, к ней и ключа не надо. По обязанности должна везти в паре с Фролом… В общем, все это и будет теперь твое главное дело…» И добавил: «Но… еще раз повторяю — без шуму теперь придется. Без шуму большого дела не сделаешь? Что ж, будем маленькими заниматься. Горячее обжигает, холодное морозит. Улавливаешь?
Он, Костя, не улавливал.
— Тогда поясню. От холода людям тоже не сладко. Будем отравлять им жизнь помаленьку. Кто засмеется — будем тушить этот смех и заставлять плакать. Кто заплачет — надо постараться, чтоб зарыдал…».
Воистину незабываемый образ ненавистника Советской власти, в изворотливости не уступающий шолоховскому Якову Островнову, нарисовал Анатолий Иванов. Устин использует любой предлог, чтобы восстанавливать людей против старого коммуниста, бессменного председателя колхоза «Рассвет» Захара Захаровича Большакова, искусно держит в руках настоящего богатыря Фрола Курганова, не позволяя развернуться его недюжинным творческим силам.
В отличие от «Повители», повествование в которой развертывается хронологически последовательно, начиная примерно с кануна первой мировой войны и кончая серединой нашего столетия, «Тени» автор воздвигает на очень сложной платформе времени. Снова охватывая в конечном итоге жизнь полувека, но, однако, главное внимание сосредоточивает на событиях, происходящих в течение нескольких месяцев начиная с июля 1960 года. Повествование предваряется очень динамичным прологом. Он переносит нас в душное лето 1915 года. То, о чем рассказывается в прологе, долгое время будет казаться не связанным с последующим повествованием, и только в конце все захлестнется мертвым узлом. Прочитав тринадцать глав из тридцати одной, мы так же, как Захар Большаков и Филимон Колесников, не можем ответить самим себе, что за люди Анисим Шатров, Фрол Курганов, Устин и Пистимея Морозовы. Каждый стоит особняком Каждый как будто что-то прячет в себе от людского глаза. Их манера держаться нередко настораживает людей. Сообщники они? Как будто нет. Скорее Фрол и Устин недолюбливают друг друга, Пистимее, занятой молитвенным домом, нет дела ни до того, ни до другого, Анисим же, напротив, взял как бы всех их под прицел, не вступая, однако, ни в какие отношения с ними. И так чуть не до середины романа. В отношении Фрола и Устина в лучшем случае мы готовы согласиться с тем, что о них говорят Большаков и Колесников:
« — Понимаешь, Филимон… Не кажется тебе: есть в Морозове что-то такое., чего не видим мы…
— Так и в Курганове Фроле есть, — проговорил Филимон. — Тот вообще… глаза от людей воротит. Везти везет, а голову всю жизнь набок, как пристяжная. Черт его разберет, почему! С чудинкой человек…»
Вспоминая о том, что в прошлом у М. Шолохова, а в самое последнее время у В. Шукшина чудинка неизменно оборачивалась положительными качествами человека, мы готовы бы успокоиться, если бы не тревога, проявляемая и Большаковым, и Смирновым, и Шатровым: «Да, — шевельнулся Захар, — у каждого из нас своя чудинка. Иначе тихая жизнь была бы, как стоячее болото. Только, когда непонятно, что за чудинка, отчего она, — беспокойно как-то».
В умении рисовать людей в их подлинной сложности, заинтриговав читателя этой сложностью, несомненное достоинство Анатолия Иванова как писателя. Почти убедив нас в том, что и Фрол, и Устин, и Пистимея — люди как люди, не без недостатков, но и не лишенные несомненных достоинств, он все чаще разрывает повествование о текущих днях и событиях ретроспекциями — экскурсами автора и самих героев в их прошлое. И перед ошеломленным читателем раскрываются Анисим Шатров в подлинном благородстве и величии его души, Фрол Курганов в неповторимом драматизме его судьбы, а Устин Морозов в беспримерном зверстве его существа. Происходит это не вдруг, не сразу. Сначала автор приоткрывает завесу в драматическое прошлое Фрола Курганова, многого, самого главного пока недоговаривая. Затем о своем прошлом рассказывает Анисим Шатров, тоже кое-что утаивая пока. В результате того, что Фрол и Анисим пропускают собственное прошлое перед своими глазами, читатель получает возможность глубже вглядеться в их внутренний мир, ощутить движение, развитие его, борение разных, порой противоположных мыслей и чувств. А то, что ни герои, ни автор не говорят самого главного, держит читателя до конца произведения в напряжении. С раскрытием характеров Фрола Курганова и Анисима Шатрова связаны наиболее сильные по своему драматизму сцены в романе, в частности, сцена гибели Марьи Вороновой, попытки Демида Меньшикова растерзать Захара Большакова и полностью проявляющая образ Анисима Шатрова сцена самосуда, учиненного им над Филиппом Меньшиковым.
Если Фрол Курганов и Анисим Шатров раскрываются главным образом через обращение их к своему прошлому, то образ Устина Морозова складывается из подробного авторского рассказа о его поведении начиная с приезда в Зеленый Дол, о работе в колхозе, отношении к нему колхозников и всех, кто с ним сталкивается. Что-то не позволяет никому из них до конца поверить Устину, на каждого из них от него «холодом несет». Но каких-либо прямых улик никто привести не может до тех пор, пока не сдают нервы у самого Устина Морозова. Уподобив в развернутом сравнении его волку, попавшему лапой в капкан, писатель заставляет наконец самого Устина оглянуться на свое прошлое. В психологическом отношении здесь делается немало интересных открытий. Чувствуя, как вокруг него сжимается кольцо, Устин Морозов видит и свое прошлое в форме уплотняющихся кругов. Привыкнув взвешивать каждое слово, помнить каждое слово, вслушиваться в слова окружающих, запоминая их навсегда, он теперь вновь и вновь вспоминает, повторяет про себя при каждом новом круге воспоминаний и сказанные прошлым летом слова Большакова о «тех, которые сумели уволочь переломанные ноги, забились в самые темные и узкие щели», и зловещее предупреждение Илюшки Юргина: «Кладка через речку качается-качается, да придет время, переломится», и его же намекающую фразу: «Ниточку от клубочка если потеряли где… хоть в гражданскую войну, хоть в эту… да если она в руки кому попалась…», и вчерашнее обещание Большакова Смирнову: «…с Устина теперь глаз не спустим». Как в вспышках магния, с предельной резкостью, без какой-либо растушевки выступают в романе основные звенья беспримерного по жестокости прошлого Устина Морозова, в прошлом Кости Жукова, а в годы последней войны немецкого старосты Сидора Фомичева. Если бы автор не прерывал эти воспоминания, возвращая время от времени читателя в текущий день, в их жуткой атмосфере можно было бы задохнуться.
В страшной ленте, запечатлевшей все кровавые дела Устина Морозова, крупным планом дана его попытка сломить волю собственного сына еще в детстве, превратить во врага Советской власти, заставив его «мыслить, как я, делать то же, что я». Попытка закончилась тем, что, так и не сломив сына, Устин Морозов, перебежавший на фронте к гитлеровцам и ставший их старостой в деревне Усть-Каменке, в последний раз попытался поставить на колени сына, захваченного тяжело раненным в плен. Не добившись своего, Устин Морозов застрелил Федора.
Еще М. Горький подсказывал писателям, что подобная коллизия содержит в себе исключительные политические и психологические ресурсы и порождается спецификой развития человечества в двадцатом веке. Смело введя эту коллизию в свое эпическое повествование, Анатолий Иванов выявил новые грани в образе, разрабатывавшемся и до него многими писателями, и одновременно сумел показать полную бесперспективность старого мира, от которого уходит все человечное.
Трагический образ Федора Морозова играет в романе вспомогательную роль. Он призван оттенить всю меру падения, полного озверения Устина Морозова, лишенного каких-либо перспектив а жизни. Но он запоминается и как олицетворение того светлого, солнечного начала, за которое борется новый мир и которое отвоевывается у старого мира всюду и везде.
Однако после убийства сына Устину Морозову удалось уйти от возмездия, вернуться в Зеленый Дол и приняться за старое.
Теперь он действовал еще более осторожно и изворотливо, но в душе неудержимо нарастал страх, пока не загнал в западню. Перебирая свою жизнь, Устин не раскаивается ни в одном преступлении и если воет, то только от сознания безнадежности и еще от догадки, что всю жизнь был простым орудием в руках сначала Серафимы, а потом Демида Меньшикова. Он хватается за револьвер, прикладывает к уху, нажимает на курок и — от страха — теряет сознание (заржавевшее оружие не выстрелило). А на другой день встречается с Демидом Меньшиковым, сумевшим после успешной «деятельности» в Освенциме, Бухенвальде, Маутхаузене занять высокий пост в международном центре Общества свидетелей Иеговы. Всеми силами Демид стремится поднять веру Устина в то, что «Советской власти придет конец», что западногерманские реваншисты и американские милитаристы не остановятся и перед атомной бомбой. «Может, и мы сгорим, — говорит он Устину, — я не знаю. Но, по мне, лучше уж сгореть, чем так вот, как сейчас… Пусть я сгорю, но пусть вместе со мной и все остальное пеплом возьмется, все. Все!!!»
Написанная в почти откровенно публицистической форме, встреча Устина с Демидом Меньшиковым не совсем органична в психологическом повествовании, связанном с показом распада личности Устина под прессом раздавливающего страха, но в ней заключено чрезвычайно актуальное для XX столетия предупреждение человечеству о маньяках, готовых ради сохранения своих «домов и амбаров», «если им удастся начать новую войну, если они возьмут верх в этой войне», сжечь и отравить в атомных «душегубках миллиарда полтора, а то и два» людей.
Устин Морозов, несмотря на полное крушение его надежд, не разоружается, сохраняя до конца верность беспримерной жестокости.
Не менее многогранны образы Ильи Юргина, Серафимы-Пистимеи, Антипа Никулина. При создании последнего из них проявилось очень своеобразное юмористическое дарование Анатолия Иванова.
Тут мы вплотную подходим к разговору о ведущем художественном приеме, с помощью которого писатель утверждает победную правду нового мира. К ее утверждению он идет, говоря языком математиков, от противного. Выдвигая и в «Повители» и в «Тенях» на первый план убежденных противников Советской власти, Анатолий Иванов неотступно следует за ними, пока они не потерпят полного крушения. Попав в огненное кольцо, завывая и от страха, и от нестерпимой боли, «как тот волк, которому намертво прищемило лапу», Устин Морозов просматривает перед смертью звено за звеном свою жизнь и убеждается, что круг его единомышленников неостановимо редел, сук, на котором сидит Большаков, подрубить так и не удалось, дерево же, выросшее из Филькиного семечка, быстро теряло одну ветку за другой, их повыдергали, а корни сгнили.
Когда-то М. Шолохов, определяя специфический ракурс, избранный им в «Тихом Доне» для показа неизбежности всех попыток контрреволюции поворотить колесо истории вспять, сказал: «Правильно говорили, что я описываю борьбу белых с красными, а не красных с белыми. В этом большая трудность». Аналогичным ракурсом и определяемым им главным художественным приемом в значительной мере пользовался и М. Горький, показывая в «Жизни Клима Самгина» неизбежность Октябрьской революции. Этим же приемом охотно пользуется Анатолий Иванов в романах «Повитель», «Тени исчезают в полдень», утверждая бесповоротную победу правды социализма на Земле.
Направляя почти весь свет в темные углы мира, Анатолий Иванов обладает способностью поддерживать у читателя ощущение реального соотношения периферийных явлений действительности с главным течением жизни. Образ-символ не поддающегося никаким бурям могучего осокоря на Марьином утесе, образы первой председательницы коммуны Марьи Вороновой, бессменного председателя колхоза Захара Большакова, редактора районной газеты Смирнова, рядовых колхозниц Клавдии Никулиной, Натальи Лукиной и особенно представителей молодого поколения — Иринки Шатровой, Ксении Лукиной, Федора Морозова, к которым в конце романа присоединяются из старшего поколения Анисим Шатров и Фрол Курганов, а из младшего Дмитрий Курганов и Варвара Морозова, делают это соотношение незыблемо прочным. В сущности, являясь исходным в творчестве писателя, оно позволяет Анатолию Иванову, рассказывая о самых негативных фактах современной жизни, никогда не попадать к ним в плен. Есть в романе «Тени исчезают в полдень» такая сцена: Захар Большаков, как-то сказавший Смирнову, что мы не в раю живем, а на грешной земле, смотрит с Марьиного утеса на медленно, но неостановимо изменяющуюся родную деревню, и сердце его наполняется человеческой гордостью за великий труд неприметных с виду односельчан.
С такой же высоты в свете подвига вот этих людей и видит советскую действительность сам Анатолий Иванов. Больше, чем какой-либо другой писатель, он помогает своими произведениями выскребать грязь и мусор из всех уголков нашего дома. После М. Шолохова и Л. Леонова, сохраняя предложенную ими масштабность, он продолжает мужественный рассказ о всех тех трудностях, которые делают столь драматическим движение вперед народа, пролегающего дорогу всему человечеству к подлинному счастью. Бесстрашно воссоздавая самые сложные драмы и трагедии, он неколебимо верит, что у человечества нет других альтернатив. В изображении Анатолия Иванова наш путь суров, но благороден, труден, но человечен, исполнен драм, но героичен. Голос писателя своеобразен, но звучит в согласном хоре советской литературы. Напомню, что «Повитель» и «Тени» писались одновременно или вскоре после выхода в свет «Судьбы человека» и второй книги «Поднятой целины» М Шолохова, «Русского леса» и «Евгении Ивановны» Л. Леонова, на одном историческом этапе с повестями «Батальоны просят огня» и «Последние залпы» Ю. Бондарева, повестью «На Иртыше» и романом «Соленая Падь» С. Залыгина, романом «Вишневый омут» и повестью «Карюха» М. Алексеева, наиболее реалистическими произведениями В Быкова, Ч. Айтматова, А. Нурпеисова..
Композиционно роман «Тени исчезают в полдень» построен более искусно, нежели «Повитель». Складывается конструкция, что будет повторена и в следующем произведении: после эпилога идет динамическое повествование об одном периоде современной жизни (в «Тенях» вторая половина 1960 — начало 1961 года), но с просмотром ее до самых глубочайших корней и обширный эпилог с исчерпывающим и даже излишне подробным рассказом о судьбе всех героев.
По-прежнему писатель щедр на художественные детали, многие из них повторяются, становясь своеобразными лейтмотивами: глаза Марьи Вороновой, прожигающие врагов и преданные друзьям, «из тех, что лучше закроются навеки, чем обманут»; скрываемый под окладистой бородой подбородок Устина Морозова, похожий на кирпич, на правильный четырехугольный брусок, и его же взгляд, всегда упирающийся в пол; холодные, жесткие пальцы Серафимы-Пистимеи, словно раскаленные морозом железные прутья… Некоторые из этих деталей становятся отличительным признаком персонажей, другие исходной точкой в психологической разработке характеров.
И по-прежнему писатель любит возвышать отдельные картины, сцены, пейзажи до значения глубочайших символов. Особенно емок образ могучего осокоря на гранитной верхушке утеса над Светлихой, по утрам горящего золотом. Он проходит с первых страниц произведения до последних, превращается в олицетворение мощи, силы и неколебимости Советской власти, нового мира. Неспроста Устин Морозов как бы в противовес ему тоже пытался олицетворить свою ненависть в образе дерева с железными ветвями-прутьями, но в конце концов сам же признал, что дерево его сгибло на корню.
Крепнет языковое мастерство Анатолия Иванова. Язык его персонажей переливается все большей многокрасочностью. Писатель не стесняется демонстрировать неисчерпаемость своих закромов. Не раз в авторской речи даются такие подробности: «Скрылось, словно провалилось в бездну, солнце, и начал падать на землю сеногной — мелкий-мелкий дождичек. Его еще называют „мокрец“ или „сеянец“. Он шел день, другой, неделю..»
4.
Главная проблема, постоянно волнующая Анатолия Иванова как писателя, художественные принципы ее разработки, композиционные приемы, стилевое своеобразие, собственный почерк, выявляющиеся в творческих исканиях, связанных с созданием «Повители» и «Теней», получают наиболее отчетливое выражение в новом произведении писателя — «Вечный зов» (кн. первая — 1970 г., кн. вторая — 1977 г.). Анатолий Иванов сумел с такой глубиной и широтой захватить жизнь, что «Вечный зов» вырос в роман-эпопею и по праву поставил автора в первый ряд крупнейших советских писателей.
В цитированном уже письме находим следующие подробности, относящиеся к замыслу романа «Вечный зов», к самому началу работы над ним: «Вечный зов» сразу задумывался таким, как есть, в 2-х книгах. Но писался тоже интересно. Сначала я написал финал, если можно так сказать, — рассказ «Случайная встреча». Конечно, там другие фамилии персонажей, но рассказ был сразу прицелен как финал романа, ибо меня мучил тот тип, который воплощен под именем Полипова. Я знал и чувствовал, что этот персонаж будет большим по объему, сложным и серьезным, а как с ним кончить, к чему его привести?
А потом я решил обратиться к самому началу будущего произведения, но… в виде пьесы. И написал пьесу под названием «Баллада о пылающем факеле» — о времени создания первых подпольных организаций РСДРП и революция 1905 года. Пьеса шла в Новосибирске — а я уже полным ходом писал «Вечный зов». Пьеса… самостоятельная, в роман из нее вошло немного, но Полипов — его конец — уже намечен в рассказе, а истоки — в пьесе».
Не теряя из вида мир, породивший Полипова и ему подобных, Анатолий Иванов выдвинул, однако, в новом повествовании на первый план положительные силы нового, рожденного Октябрьской революцией мира, изобразив важнейшие из последующих исторических событий, и прежде всего вторую мировую войну, рассмотрел в свете ее эти события как продолжение всемирной битвы правды и зла, света и тьмы, справедливости и варварства, человечности и звериной злобы, как решающую схватку новых начал, поднятых к свету революцией 1917 года, со всеми силами мировой реакции. Об этом масштабе, избранном писателем, вернее, данном ему самой эпохой для измерения всех происходящих на земле событий, не однажды говорится в романе-эпопее устами самых дорогих писателю героев, начиная с рядовой работницы Марьи Фирсовны, продолжая секретарем райкома партии Поликарпом Кружилиным, председателем райпотребсоюза Василием Засухиным, заведующим райфинотделом Данилой Кошкиным и кончая старым коммунистом-подпольщиком, секретарем обкома партии Иваном Михайловичем Субботиным.
Писатель передает своим доверенным героям, героям-единомышленникам собственную философию жизни, понимание тех сложных, порой и трагических путей, которыми человечество пробивается к подлинному счастью. Одновременно он отвечает на самые трудные вопросы, с неотложностью встававшие перед многими советскими людьми в середине 50-х годов, после XX съезда КПСС. Он определяет единственно верные, на его взгляд, критерии оценки всех главных событий XX столетия. В конце романа-эпопеи один из самых трагических героев — Яков Алейников — до предела сжимает главные мысли большинства положительных персонажей «Вечного зова», бросая в лицо лютому врагу социализма: «Один умный человек мне объяснял когда-то, что добро и зло извечно стоят друг против друга. Это — великое противостояние, говорил он. И между светом и тьмой, истиной и несправедливостью, добром и злом идет постоянная борьба — страшная, беспощадная, безжалостная… Не очень как-то тогда и дошли до меня эти слова. Обычная и общая, мол, философия. Но постепенно стал понимать и понял в конце концов — не обычная и не общая… Словно прозрел я и увидел — борьба эта между добром и злом идет постоянно и во всех формах, большей частью скрытых. А с лета сорок первого началась в открытую, врукопашную… Началась война не простая. Не просто очередная война… Не просто фашистская Германия воюет с нами. Все мировые силы зла и тьмы решили, что пришел их час, и бросились в бой… Обрушили на нас всю свою мощь… И ты, Валентик, — один из зловещих солдат этой злобной и мрачной силы… Но рано или поздно всей вашей силе… всем вам придет конец… Придет конец!»
В свете этого главного конфликта XX столетия и изображается в романе-эпопее «Вечный зов» жизнь России в годы войны. В отличие, скажем, от Ч. Айтматова, вопреки его собственным теоретическим построениям прибегающего в своих художественных произведениях и к сказке, и к мифу, и к аллегории, Анатолий Иванов, как всегда, в обостренно реалистических, жестко правдивых формах показывает на конкретных судьбах героев необычайную сложность нашей эпохи, для которой действительно характерны коренные сдвиги во всех сферах жизни, полное переустройство ее. В романе-эпопее это выражается в самых неожиданных судьбах героев, в завязывании психологических узлов, кажущихся почти фантастическими.
Автор стремится воссоздать героизм сибиряков, проявленный в годы Великой Отечественной войны. Первая часть двухтомного многопланового произведения начинается с описания раннего утра 22 июня 1941 года. Мы переносимся в сибирское село Шантару и, в сущности, остаемся здесь до конца войны. Жизнь села, района, области, Сибири, страны, всего континента видится отсюда отчетливо в ее непосредственной зависимости от хода событий на фронте. Писатель предпочитает рассказывать о событиях в хронологической последовательности, позволяя себе пристально, порой до предела замедленно рассматривать одни из них, преломление их в психологии людей, и лишь вскользь упоминать о других, не забывая, однако, и об их «осадке» в душах солдат, офицеров, колхозников, партийных руководителей. Вся первая часть романа-эпопеи посвящена рассказу о том, как восприняли сообщение о начале войны жители Шантары, среди них те, что станут главными героями произведения. Вторая часть начинается фразой: «Сентябрь был тихий, теплый и, на счастье, без дождей». Фраза эта контрастирует с внутренним драматизмом рассказа о самом трудном для советского народа периоде войны. Третья часть развертывается хронологически между декабрем 1941 и июнем 1942 года, а следующая, четвертая, предваряется ремаркой: «Война шла уже почти два полных года…» В ней так же, впрочем, как и в следующей, заключительной, главные текущие события развертываются вокруг битвы на Курской дуге. Первая фраза эпилога: «Лето 1947 года началось в Шантаре молодыми грозами».
Если такое построение в романе-эпопее платформы времени заставляет вспомнить о «Тихом Доне» М. Шолохова, то внутренние своды возводятся не без влияния на Анатолия Иванова «Русского леса» Л. Леонова: последовательность развертывания событий во времени не мешает автору «Вечного зова» постоянно прибегать к смене временных планов, к ретроспекциям в форме ли «воспоминаний» героев о детстве, юности, или в виде прямых экскурсов, даваемых от автора. Иногда ретроспекции вмещаются в нескольких абзацах, в других случаях занимают десятки страниц. Нигде они не имеют самодовлеющего значения. И все прочно смыкается с предпосланным роману прологом, который состоит из трех отличающихся острейшим внутренним драматизмом, выписанных с предельным лаконизмом фрагментов. Один относится к 1904-1912 годам, второй к временам белочешского мятежа 1918 года, третий связан с партизанской войной против колчаковщины в 1919 году. Как в свете молнии, в этих фрагментах перед нами на мгновение вырисовывается прошлое ведущих героев, их поведение в решающие моменты истории, «коловерть» их судеб, роковые просчеты и решающие прозрения. Повествование в фрагментах ведется от автора.
В «Вечном зове» описываются начальный и переломный годы последней войны. Но по мере развертывания событий автор постоянно возвращается к прошлому своих героев или заставляет их самих вспоминать о нем. В результате возникает большое — глубинным срез целой эпохи, — так сказать, романное время, а произведение перерастает в эпический рассказ о всей нашей жизни, о наших победах и просчетах, радостях и горестях по крайней мере за полвека. Роман превращается в эпопею, оставаясь в то же время повествованием о неповторимых индивидуальных судьбах коммунистов и беспартийных, рабочих и крестьян, женщин и детей, втянутых в водоворот величайших исторических событий и в конечном счете определяющих ход этих событий.
Война до предела обостряет все. Но началось это значительно раньше — в 1917 году, когда замешивалась новая жизнь, замешивалась круто, на крови, когда каждый человек оказывался перед решающим выбором, каждому рано или поздно предстояло, по мнению писателя, ответить прежде всего самому себе на «вопросы коренные, вопросы духа». От того, каков был ответ, зависела вся дальнейшая судьба человека.
В романе-эпопее «Вечный зов» даже самый худший из людей, если он не до конца растерял в себе человеческое, с неизбежностью встает перед вопросами: Зачем рождается человек? Зачем живет? В чем смысл жизни? Где правда, истина, а где ложь?
С неотразимой художественной убежденностью в романе-эпопее показывается, что правильно ответить на «вопросы коренные, вопросы духа», превращенные беспримерным социальным взрывом в совершенно конкретные и неотложные, удавалось не всегда и не каждому еще и потому, что круговерть революции, гражданской войны, коллективизации и Великой Отечественной войны ставила людей в беспримерные ситуации, оборачивающиеся самыми неожиданными поворотами в индивидуальных человеческих судьбах. Так, в частности, случилось с тремя сыновьями Силантия Савельева из деревни Михайловки, что в Шантарской волости близ Новониколаевска. Сам Силантий, как говорили о нем в деревне, был «беднее поповой собаки». Старший сын Антон рано отправился к родственнику в Новониколаевск и через него активно включился в подпольное революционное движение Средний сын Федор, одно время находившийся в услужении у местного богатея Михаила Лукича Кафтанова, раз и навсегда заразился завистью «к веселой и разгульной жизни хозяина», попытался зацепиться за его богатство (через женитьбу без любви на дочери хозяина — Анне), чтобы самому пожить так же, пожить-погулять, покуролесить, поизгаляться безнаказанно над людьми, когда же революция разбила его надежды, затаил против нее ненависть, несмотря на то, что в гражданской войне оказался среди партизан, а потом вплоть до Отечественной войны ходил в передовиках производства. Младший, Иван, действительно любил Анну и оказался в чуждом ему лагере только потому, что Кафтанов обещал выдать за него дочь. Он рано спохватился, что «запутался как рябчик в силке». Коловерть в его мозгу началась чуть ли не сразу после того, как он попал в банду Кафтанова «.. Коловерть началась, другим ли каким словом можно было назвать то, что с ним происходило, но происходило, Иван Савельев это чувствовал давно..
Впервые он сказал об этом вслух тому кружилинскому партизану, которого повел расстреливать, а потом отпустил. Партизан рысью убежал в лес. Иван для порядка, чтобы услыхал Кафтанов, выстрелил вверх, потом сел на пеньке и долго думал, как же так оказалось, что плюгавенький мужичонка этот в партизанах, брат Федор там, у Кружилина Поликарпа, и Анна, и даже сын одноногого михайловского старосты Демьяна Инютина Кирюшка?! Им-то двоим как раз надо было быть у Кафтанова, а ему, Ивану, у Кружилина. А все перепуталось, все вышло наоборот…. И за что воюю-то здесь? Богатство Кафтанову отстоять помогаю. Что мне с того, если удастся отстоять, допустим? Опять в конюхи к нему идти? Анна, что бы ни случилось, все равно с Федькой останется. Да и, по всему видать, не отстоять теперь свое богатство ни Кафтанову, никому другому, расколошматят скоро его отряд, перестреляют всех, погибать так и так мне. А за что?» Спасая Анну, Иван убивает Кафтанова и доставляет его тело партизанам, а потом за участие в банде отбывает наказание. Тем не менее вплоть до Отечественной войны брат Федор упорно обзывает его «контриком» и вторично, по навету, «засаживает» в тюрьму, откуда тот выходит в первый день войны.
Бесконечно изобретателен автор в изображении путей, какими движутся по жизни бесчисленные герои романа-эпопеи, чтобы рано или поздно встать перед теми же вопросами о смысле человеческого назначения. Предателя Свиридова на них натолкнула беспримерная стойкость настоящего революционера Антона Савельева и его семьи. Перед Федором Савельевым их ставит нелюбимая жена Анна, догадавшаяся о заветном желании мужа. Легкомысленную Анфису столкнул с ними незадачливый муж Кирьян Инютин, убегающий, как мальчишка, на фронт. Он же, оказавшись без ног, заново решает те же вопросы для самого себя, когда говорит старой нянечке Глафире Дементьевне:
— Не в сладости дело, бабка. А в смысле. А где теперь смысл?
— Ну это штука непростая. Иной и с руками, с ногами, со всем телесным прикладом жизнь проживет, а смысла того так и не уразумеет, — отвечает ему старуха.
Подлинное величие человека, по убеждению писателя и его героев-единомышленников, измеряется тем, когда тот начинает осознавать, кто он и зачем живет на Земле. Осознать все это в ураганной атмосфере XX столетия не каждому легко.
Иван Савельев, пытаясь объяснить случившуюся о ним трагедию — как он попал во «враги народа», говорит своему малолетнему сыну; «Видишь, в чем тут дело, однако… Жизнюха-то наша, сынок, так закружилась, что, барахтаясь в ней, и не разберешься, что к чему,. А ты подрастешь, и как бы со стороны тебе все ясно и понятно будет». «Конечно, — сказал в одном интервью Анатолий Иванов, — есть люди, которые даже очень сложные социально-исторические явления понимают как-то сразу. Но ко многим истина приходит только в результате серьезных переживаний и потрясений. А бывает и так, что для постижения истины человеку приходится платить самой высокой мерой — собственной жизнью».
Самому писателю внести такую ясность помогает взгляд на жизнь с той высоты, какой является победа советского народа над фашизмом и питавшими его мировыми силами зла. Война же квалифицируется как открытое и решающее противостояние двух миров. Победителем выходит новый, социалистический мир. Именно поэтому война против фашизма, по наблюдению мудрой старухи Глафиры Дементьевны, «всему другую цену определила». С беспощадной и неустранимой прямотой война обнажила подлинное начало в душах людей, каждого поставив на положенное ему место. Фашистским прислужником оказывается Федор Савельев, тайным агентом международной контрреволюции остается в своей истинной сути Петр Полипов, олицетворяющий все то темное, что уцелело в нашей жизни от старого мира и отнюдь не умирает само по себе.
Надежными защитниками родной земли, нового строя жизни являются Иван Савельев, Кирьян Инютин, Данила Кошкин, Яков Алейников, сыновья Федора Савельева, воспитанные их настоящим отцом — советским народом. Не покладая рук все годы войны обеспечивают фронт необходимым колхозники Анна Савельева (дочь бывшего богатея Кафтанова), Агата Савельева и ее сын Володька (жена и сын Ивана Савельева), Антон Савельев — директор эвакуированного в Шантару бывшего завода сельскохозяйственных орудий, выпускающего здесь теперь снаряды и минометы, Поликарп Кружилин — секретарь райкома партии. Удивительные и вместе с тем закономерные метаморфозы под влиянием войны происходят со многими героями. Даже сын белого полковника Зубова, пройдя через фронт, становится человеком. Преображается Анфиса Инютина, наконец-то увидевшая красоту души своего мужа. Трезво оценивает собственную деятельность Яков Алейников, человек беспримерной судьбы, по верному определению одного критика, «навылет пронзенный самим острием классовой борьбы своего времени, а потому доходящий до высокой трагедии», подвергнутый страшной смерти бандеровцами. В легенду уходит Семен Савельев, нелюбимый сын Федора.
Тяжкое испытание выдерживают не все из тех, на кого мы готовы были надеяться. Его выдерживают Иван и Агата Савельевы. Его выдерживает больной, вконец изношенный войною Панкрат Назаров. Его выдерживает сын Кружилина Василий, четыре года проведший в фашистских концлагерях. Но его не выдерживает сын Панкрата, капитан Назаров, надломившийся на фашистской каторге и согласившийся там стать надсмотрщиком.
Хотя в центре романа-эпопеи находится последняя война, определяющая так или иначе все, о чем рассказывает писатель, эпизоды фронтовой жизни занимают в произведении сравнительно небольшое место. Это не потому, что Анатолий Иванов по возрасту не был на фронте и не видел сражений собственными глазами, не являлся их участником. Описание боя на реке Сан, которым руководит капитан Назаров и в котором волею случая довелось принять участие Антону Савельеву, описание танковых боев под донским хутором Вертячим и особенно на Курской дуге, где с такой впечатляющей силой раскрываются во всем их величии сибиряки: старший лейтенант Дедюхин, командир орудия сержант Алифанов, стрелок-радист Вахромеев, водитель танка Семен Савельев и заряжающий Иван Савельев, — позволили прошедшему всю войну с боями М Н. Алексееву сказать «Вероятно, каждый, кому дан талант и кто был опален огненными крыльями войны, даже если не участвовал в боях, способен воссоздать ее с убеждающей правдой». Ошеломляют художественной силой страницы, рассказывающие о том, как ведет в атаку штрафную роту капитан Данила Кошкин. Мало того, что Анатолий Иванов первым в советской литературе коснулся этой темы. В разработке ее он проявил исключительную смелость Последнее вообще отличает его и тогда, когда он создает сцены далекого прошлого, например, кафтановского разгула, картины гражданской войны в Сибири, и когда погружается в душу человека, теряющего разум, а затем приходящего в себя (Елизавета Савельева), и в эскизах, отражающих кошмары фашистских лагерей смерти, и, повторяю, в зарисовках войны, доносящих до читателя громы, запахи и пламя величайших сражений. Иначе говоря, Анатолий Иванов умеет создавать художественно убедительные батальные сцены, но их немного в его романе-эпопее потому, что писатель ставит перед собой задачу дать в «Вечном зове» не летопись войны, а ее художественную квинтэссенцию, рассмотреть ее в цепи других беспримерных событий XX столетия, начиная с самого беспримерного — Октябрьской революции.
Одну из самых блестящих страниц в историю мирового искусства вписали советские мастера культуры, создавшие неповторимою художественную летопись Великой Отечественной войны советского народа против фашизма. Она открывается величественно-призывной песней «Вставай, страна огромная», продолжается «Наукой ненависти» М. Шолохова, «Нашествием» Л. Леонова, «Фронтом» А. Корнейчука, «Василием Теркиным» А. Твардовского, увенчивается «Молодой гвардией» А. Фадеева, «Повестью о настоящем человеке» Б. Полевого, романом «Русским лес» Л. Леонова, микроэпопеей «Судьба человека» М. Шолохова, за которыми следуют все новые художественные достижения. Читателя волнует и будет неизменно волновать все, что переживают герои военных произведений в том значении этого термина, когда почти все внимание приковывается к поведению, мыслям человека, непосредственно ведущего бой, погибающего в сражении либо возвращающегося с фронта на развалины родного дома. Но рядом с такими произведениями в советской литературе создавались и будут создаваться романы, повести, в которых война изображается так, что она видится во всем, чем жили четыре с половиной года Советская страна в целом, весь народ. Выдающимся произведением в этом плане явился роман «Русский лес» Л. Леонова. В этом ряду находится и роман-эпопея «Вечный зов» А. Иванова. В последние годы многие русские писатели сумели показать вторую мировую войну во всех ее токах, под высочайшим напряжением пронизывающих весь народ, ее фантастическую разветвленность и многоветвистость, показать, что в свою обжигающую атмосферу она втягивает всю страну, до последнего человека. Убили солдата, а боль отдается душераздирающей судорогой во всех концах нашей земли — рыдают осиротевшие дети, замертво валится на пол овдовевшая жена, молчаливо глотают слезы престарелые родители. Сама земля от горя седеет. Удивительную по ее многозначительности легенду о ковыле как седине земли рассказывает в «Вечном зове» бывший райкомовский конюх Евсей Галаншин. Оплакивая дорогого ей человека, земля, по убеждению этого старика, выбрасывает беловолосый ковылек-горюнок. «Горе да утраты голову человека забеливают, — говорит он председателю райисполкома Хохлову. — И на лике земли то же происходит. Все мы у нее сыны да дочки. Всех жалко ей… Седых ковылей на матушке-земле все прибавляется…» И тут же, как то свойственно человеку массы, органически ощущающей свое бессмертие, добавляет: «Но и народ тоже убытку не терпит». Что, впрочем, не облегчает бедствий, беспрерывно обрушиваемых на него войной.
Изображаются они, эти бедствия, Анатолием Ивановым с подлинным бесстрашием. Подобно тому как от брошенного в водоем камня беспрерывно разбегаются по воде к самым дальним берегам круги, так и последняя война, события на фронте в изображении писателя ежедневно взрываются то неутешным горем, то обнадеживающей радостью в каждом доме, в каждой семье, на всем пространстве нашей страны. «Война — это страшно, — писал один из прославленных героев ее, — и нечего скрывать правду: война — это неизмеримые страдания и гибель миллионов ни в чем не повинных людей»[12]. Такой она и выступает в мужественном изображении Анатолия Иванова. Мы почти физически ощущаем это, ибо вместе с героями «Вечного зова» не только видим бои подо Львовом, у Сталинграда, на Курской дуге, пытаемся вместе с Василием Кружилиным убежать из фашистского плена, но и, оказавшись вдали от фронта, в сибирском селе Шантаре, каждый раз переживаем озноб, когда видим письмоносца с перекинутой через плечо сумкой. Вместе с колхозниками изо дня в день недоедаем, стараясь каждое зернышко, каждую каплю молока отдавать фронту. Вместе с ними оплакиваем погибающих от ящура коров. Вместе ходим на земляные работы, стремясь в невозможно короткий срок пустить завод, который будет изготовлять снаряды… Встаем за расставляемые под открытым небом станки и, поливаемые холодным осенним дождем, засыпаемые снежной крупой, вытачиваем детали для снарядов… Работаем из последних сил. Валимся с ног… Вот она какая, война, на самом деле.
Ни об одной реальной трудности, связанной с войной, да и со всей нашей предвоенной жизнью, не умолчал Анатолий Иванов, сумев рассказать о них так, что, вместе с героями романа-эпопеи проходя через величайшие испытания, многие из коих пострашнее адовых, мы все-таки находим время и для любви, и для шутки, и для песни. И ни на минуту не сомневаемся вместе с ними в правоте нашего дела, в победе его.
Незабываемые характеры советских людей сумел создать Анатолий Иванов. Наряду с образом Федора Савельева образы Ивана Савельева, плотогона Филата Филатовича, его первой любви — Акулины Тарасовны Козодоевой, Данилы Кошкина, Якова Алейникова являются настоящими художественными открытиями. Многие десятки советских людей всех рангов, возрастов, склонностей выходят на страницы романа-эпопеи, в единстве составляя образ народа-победителя. Образ этот тем неотразимее, чем глубже погружает нас писатель в стихию народной жизни, показывая людей, бесконечно интересных в своих чувствах и поступках. Особенно умны, сердечны самые простые люди, хотя почти каждый из них с какой-либо закавыкой. Не раз выручавший в годы гражданской войны отряд Кружилина, преследуемого полковником Зубовым, Филат Филатович в то же время прятал маленьких детей Зубова и Кафтанова. Признавшись в этом Кружилину, он спрашивает: «А выведал бы, так что ж, прикончил дитев бы?» Он же по достоинству оценивает слова Кружилина: «Человек, Филат Филатыч, всегда нужен людям». Акулина Тарасовна, не простившая Филату того, что тот укрывал сына ее смертельного врага, ушедшая от него, вместе с тем не позволяет Наташе отзываться о нем отрицательно. Данила Кошкин, пройдя самую страшную проверку на фронте, добровольно остается командиром штрафной роты. Он же говорит, что советский человек, если он действительно советский, способен вынести все. «Человек — он своих сил еще не знает». Когда-то несправедливо бросивший Кошкина в тюрьму Яков Алейников, встретившись с ним на фронте, признается: «Завидую я тебе. Всей твоей судьбе…
Командир штрафной роты смотрел на Алейникова прямо, в его темных глазах не было ни удивления, ни насмешки, хотя Яков ожидал все это увидеть. Только уголки обветренных губ чуть шевельнулись.
— Я верю тебе, Яков, — сказал Кошкин тихо и грустно».
В самих этих и подобных людях, в их существовании содержится ответ на вопрос, откуда страна берет силы для победы. Образ народа-победителя в изображении Анатолия Иванова — это по преимуществу такие советские люди, как Поликарп Кружилин, Иван Субботин, Панкрат Назаров, Данила Кошкин, Иван Савельев, Акулина Козодоева, Агата Савельева и многие другие, включая безымянную старуху из заводской землянки.
Советские люди в романе «Вечный зов» всегда выступают в богатстве их связей друг с другом, с родным селом, районом, страной, ее историей. Василий Кружилин твердо стоит на земле еще и потому, что, где бы ни находился, всегда остро чувствует, «как и чем земля родная пахнет, этот ветер, это небо». Неразрывна связь Ивана Савельева со своим селом, его людьми, его дымами. Отбыв шестилетнее наказание, он снова пришел в родную Михайловку, где его ждали Агата и дети. Смотрел Иван на родную деревню, которой не видел шесть лет, и ему «захотелось вдруг, не заходя домой, спуститься по тропинке к лугу, низко поклониться людям. Здравствуйте, мол, вот и я вернулся… А потом взять косу и косить, косить молчком до самого вечера. А после, надышавшись вволю родимым луговым воздухом, поужинать, сесть к костру и слушать, слушать, как кричат где-то коростели, ухают, просыпаясь в чащобе, совы, похохатывают парни и девки, обсуждая свои молодые дела. И за один вечер вычеркнуть из памяти эти долгие шесть лет, позабыть их навсегда, позабыть так, будто их никогда и не было…»
В этом источник подлинной силы и непобедимости русских людей. В этом и еще в том, что в критическую минуту в них доминирует коренное, исподвольное, так что каждый начинает ощущать свою страну во всей ее незыблемой широте и бездонной исторической глубине. В самом конце романа-эпопеи есть знаменательный диалог, происходящий между Панкратом Назаровым и Поликарпом Кружилиным:
« — Немец снова, значит, на Киев прет? — неожиданно спросил Назаров, все глядя в окно.
— На Киев, — коротко откликнулся Кружилин, думая еще о своем.
— Да-а… Никогда я не был в этом Киеве, — заговорил почему-то Назаров. — Вот по истории учат детишек — в Киеве Русь зачиналась, а?
— Да… там, — сказал Кружилин, не понимая, зачем Назаров заговорил об этом.
— Так, может, немцы и вдолбили себе — там зачиналась, там и кончится? Потому так и лезут в какой раз на этот город?
Такая мысль самому Кружилину никогда в голову не приходила. И он поразился тому, что сказал Назаров: ведь вполне могла эта бредовая идея гвоздем сидеть в башке какого-нибудь фашистского идеолога или теоретика! Вполне. Они, немцы, любят всякие символы. И он сказал:
— Может быть…
— Только Русь-то сейчас — она вон какая! — продолжал Назаров. — И тут у нас Русь, в соседнем с нами Казахстане, в Грузии, в Армении. Во всех республиках в смысле, да?
— В этом смысле — да.
— В Громотуху вон Громотушка впадает, другие многие речки и ручейки вливаются. Потому она и не мелеет. И в тебе она, и во мне — Русь. В украинцах, татарах, во всех… разве же все это может кончиться?..»
Сознание это делает Русь, Советский Союз непобедимым, в нужную минуту пробуждая в каждом «ту великую и таинственную силу, вечно и неодолимо живущую в человеке, которая в трудные, самые критические минуты заставляет человека поворачиваться к жизни самой сильной, самой благородной, самой справедливой своей стороной».
Так, опираясь на знакомый ему до мельчайших подробностей материал сибирской жизни, Анатолий Иванов создал образ советского народа-победителя, перерастающий в стереоскопический образ Руси, Советской России, многонационального Советского Союза.
Неотъемлемой частью этого образа является наше будущее. О нем постоянно думают все герои романа-эпопеи, так же как враги социализма, планирующие вместе с Лахновским сокрушение нашей страны в XXI столетии. Заглядывая вперед, защитники социализма думают о том, как надо строить дальше жизнь, не допуская ошибок и просчетов.
Вообще герои Анатолия Иванова — люди напряженной мысли. Они держат в памяти весь путь, пройденный нами после Октября, умеют смотреть правде в глаза и говорить только правду себе и людям. Порой им приходится вести нелегкие споры друг с другом. Они не боятся затрагивать самые больные вопросы нашей жизни. Вспомним прямой разговор Поликарпа Кружилина с Василием Субботиным и Яковом Алейниковым о том, почему в конце 1930-х годов в нашей стране допускались нарушения законности и кто в них повинен, или беседы того же Кружилина с Наташей Мироновой о ее репрессированном отце. В романе-эпопее, как небо в океане, отражается вся жизнь нового мира со всеми основными его радостями и горестями, спорами, обретениями и утратами. Самый сложный, «эпохальный» спор ведут Федор, Иван и Анна Савельевы. Он не прекращается на протяжении десятилетий. Временные его решения приводили к трагическим оборотам в судьбах каждого из этих героев, к тяжелым психологическим драмам, раскрытым Анатолием Ивановым с убеждающей художественной силой.
Иногда изображение их требует от писателя очень сложных поэтических средств, и он находит их. В третьей части романа-эпопеи есть превосходный в психологическом отношении эпизод. Федор Савельев сидит в красном уголке на собрании механизаторов по поводу «усиления темпов ремонта и подготовки машинно-тракторного парка к севу». Он слушает доклад Поликарпа Кружилина, одновременно продолжая в душе спор с женой Анной, вспыхнувший с новой силой перед самым собранием. Она сказала Федору: «Господи, как я проклинаю то время, когда замутил ты мою голову! И вот выпил ты всю кровь из меня, все соки… Все, все правильно Иван сказал про тебя: не любишь ты никого — ни меня, ни детей, ни жизнь эту, ни власть, — никого. И себя, должно, не любишь. Зачем тогда ты живешь-то? Зачем?.. И на мне ты хотел жениться из жадности к отцовскому богатству… чтобы… чтобы развратничать потом на заимке, как отец.
— Вовсе интересно, хе-хе!.. — Смешок его, хриплый, глухой, походил на кашель. — Женился-то я в девятнадцатом на тебе, когда в партизанах был. К тому времени от богатства вашего один дым остался.
— Это уж так получилось, что в девятнадцатом… А я говорю — хотел раньше. Любил-то Анфису, жил ведь тогда еще с ней, а жениться хотел на мне… А что от богатства нашего дым один остался, это тебя и точит всю жизнь, как червяк дерево.
— Замолчи… об чем не зняешь! — тихо, с тяжелым стоном попросил он.
— Знаю! — упрямо продолжала Анна. — И отца моего ты жалеешь, которого Иван застрелил. А брата своего за это и ненавидишь… за то, что опомнился он, Иван, тогда, перешел к партизанам, понял, где правда… Ты мстишь ему за это всю жизнь, потому что больше-то никому не в силах мстить… али боишься другим-то! Вот… Этаким никто тебя не знает, а я знаю… Теперь… теперь… тебя и он, Иван, раскусил… Теперь он тебе и вовсе смертельный враг».
В памяти Федора неотвязно звучит все до последнего слова, сказанное Анной, а перед мысленным взором проходят взаимоотношения с прихвостнем богатея Кафтанова Демьяном Инютиным, вспоминается беседа с Поликарпом Кружилиным в разгар гражданской войны. Один временной план сменяется другим, картины собственной жизни разрезаются, как ножницами, беспощадно точными фразами Анны (в печатном тексте выделяемыми и графически). От этих фраз Федор не может отделаться даже тогда, когда выступает на собрании и когда, сказавшись больным, покидает собрание. В уши ему «барабанят» слова Анны: «А что от богатства нашего дым один остался, это тебя и точит всю жизнь». Они страшны для него, ибо выносят на свет «тайное тайных» его всегда остававшейся собственнической, индивидуалистической души. Они доводят его до галлюцинаций. В виски с обеих сторон долбит и долбит безжалостное: «За-чем тогда живешь? За-чем тог-да жи-вешь?»
Оказавшись на фронте и в первом же бою, под Пятигорском, устрашившись немецких автоматов, Федор Савельев истошно закричал. «Я хочу вам служить! Честно… честно служить!» И стал им служить, хотя в душе сознавал, что «немцам русских не одолеть». Служил потому, что «не любил он Советскую власть и всех, кто за нее боролся, кто принял эту власть, не любил».
До значения грандиозного символа поднимает Анатолий Иванов сцену надвигающегося на Федора справедливого возмездия. Убегая от преследующего по пятам отряда Алейникова, Федор кричит: «Живьем не возьмете, сволочи!» — и вдруг слышит спокойный голос брата Ивана: «Почему же, Федор? Возьмем!» Федор строчит по нему из автомата, а Иван, невредимый, осыпаемый пулями, но невредимый, надвигается на него. Иван говорит, что он, Федор, не имеет права и никогда не имел права ходить по земле, что он «ее обгадил» И, как бы в подтверждение слов Ивана, тот начинает поливать грязью собственного сына, жену Анну, плюется такими словами, каких, наверное, не произнес бы сам Кафтанов. «В мозгу Ивана что-то немыслимой болью вспухло и разорвалось. Закрыв глаза, он нажал на спусковой крючок, автомат задергался, сильно и больно заколотил прикладом в живот. Он все прижимал спусковой крючок, пока диск не кончился и автомат не перестал реветь».
Необычна эта сцена у такого бескомпромиссного и жесткого реалиста, каким является Анатолий Иванов. Но в данном случае он сознательно идет на нарушение правдоподобия, стремясь придать символический смысл заслуженному возмездию: это сама история уничтожает все чуждое новой жизни, затаившееся в ее щелях, уничтожает бесчеловечный мир собственничества, который так ненавидит писатель и в конечном поражении которого на всей Земле не сомневается.
* * *
Один из критиков, анализируя роман «Вечный зов», писал: «Историзм определяет главные достоинства этого романа, в котором панорама народной жизни дана от начала века до шестидесятых годов… Показывая, как глубоко затронули социальные перемены века корни народа, Анатолий Иванов продолжает шолоховские традиции»[13].
Эта мысль справедлива по отношению и ко всему творчеству писателя. Исследуя главные стороны социальной и духовной жизни общества в самый революционный период, показывая героическую борьбу народа за идеалы коммунизма, утверждая «мир социальной новизны», Анатолий Иванов своими произведениями существенно пополняет сокровищницу великой советской литературы
Александр ОВЧАРЕНКО, доктор филологических наук
Часть первая
Глава первая
Маленькая речка, густо заросшая по берегам тальником и низким осинником, в самом центре деревушки круто заворачивает влево, образуя почти прямой угол. Оттого, видимо, и деревня называется Локти.
С трех сторон опоясывает ее неширокой лентой сосновый бор, а с четвертой, с северной, раскинулось большое озеро Алакуль.
За бором, прижавшим деревушку к самой воде, поблескивают на солнце плоскими лысинами редкие холмы. Выбегая из деревни, пробиваясь сквозь зеленый заслон, вьется между ними, свинцово отсвечивает пылью единственная дорога.
Весной отлогие склоны холмов распахивают, и тогда, если взойти на самый высокий из них, кажется: на старую, застиранную прошлогодними осенними дождями, вылинявшую под солнцем, до блеска заглаженную ветрами землю наложены новые черные заплаты.
А дальше за холмами начинаются непроходимые леса и болота. Они тянутся на много километров. Среди лесов попадаются иногда небольшие, домов в пятьдесят-семьдесят, деревеньки, жители которых задыхаются летом от болотных испарений. Эти испарения, если дует южный ветер, доносятся и до Локтей. Тогда в домах плотно закрывают окна и говорят:
— Задышало Гнилое болото. А ведь и там люди живут… Господи…
Локти — селение тоже небольшое, всего в несколько безымянных улиц. Но крайние дома так далеко разбрелись по берегу речки, что от одного конца до другого будет километра четыре. К этим домам протоптаны тропинки. По бокам тропинок растет высокий бурьян. К середине лета его выкашивают, — потому что после утренних рос или дождя пробраться к домам, не вымокнув по пояс, нельзя.
Главная улица деревни, широкая и пыльная, засажена тополями. Одним концом она упирается прямо в озеро, другим — в стену соснового бора.
В этих лесных и болотистых краях днем с огнем не сыщешь камня. Зато отлогий берег озера, там, где впадает в Алакуль речушка, щедро завален мелким галечником. А справа и слева от речушки, в полкилометре от устья, беспорядочно громоздятся угрюмые, голые скалы. Живший в Локтях ссыльный студент Федор Семенов называл почему-то галечник на берегу и эти скалы «шуткой природы». Часто он, пошевеливая густыми, черными как смоль бровями, подолгу любовался, как искрятся гранитные глыбы под лучами солнца. Жителям это казалось странным, а сам ссыльный чудаковатым человеком. «Скалы и скалы — эка невидаль». Они привыкли к скалам, как привыкли к озеру, к лесу, к болотам, к повседневной своей нелегкой жизни.
На берегу всегда веером рассыпаны лодки. Они похожи на громадных черных рыб, которые выплыли из пучины, приткнулись головами в мокрые камни и теперь с любопытством наблюдают, что происходит в деревне.
Около лодок целыми днями барахтаются в воде ребятишки. Зато под скалами никто никогда не купается, потому что там очень глубоко и тяжелые зеленоватые волны угрожающе плещутся, разбиваются о гранит даже в тихие дни.
Дремучий лес еще не так давно покрывал всю возвышенность за деревней. Но год от году деревья вырубали, жгли, по метру отвоевывали землю под пашни. И наконец засвистел по скользким, лоснящимся от жира холмам упругий ветер.
А узкая полоска леса за околицей так и осталась нетронутой, отгораживая деревню от пахотных полей, от небосклона, от всего мира.
До ближайшего крупного поселения было верст пятьдесят. Говорили, что есть где-то далеко, за озером, большой город. Но где именно — знали только староста Гордей Зеркалов, два-три работника локтинского богатея Алексея Лопатина, возившие оттуда товары для его лавки, да сам Лопатин. Добраться до города можно было лишь зимой, когда устанавливалась дорога по озеру.
Лениво текла по деревне небольшая речушка, в мелкой и мутной воде ее плавали полусонные пескари. Так же лениво и сонно текла жизнь в Локтях.
С тех пор как началась война, деревня и вовсе будто вымерла. Ссыльный студент куда-то исчез. Говорили, что сбежал. Мужиков взяли на фронт, А те, что пока остались, старались не показываться на улице, будто боялись потревожить застоявшуюся над Локтями тишину.
Но за год войны эта тишина нет-нет да и нарушалась. Случалось это обычно в дни доставки почты. То одна, то другая баба, ничего не видя перед собой, сжимая в кулаке страшную, только что полученную бумажку, бежала от дома старосты Гордея Зеркалова, завывая:
— А-а-а-а-и-и-и!
И все знали: осталась жена без мужа, дети без отца, семья без кормильца.
Крик постепенно захлебывался и стихал, придавленный висевшей над деревней тишиной.
* * *
День распалился вовсю.
Старый бородатый цыган с большой серьгой в левом ухе медленно ехал по улице Локтей в скрипучем, расшатанном ходке и, поворачивая голову по стороаам, лениво и певуче выкрикивал:
— Коновалить кого есть?.. Есть кого коновалить?..
Иногда из какого-нибудь домишка выходили и молча махали рукой. Цыган-коновал останавливал ребристую, лохматую, как и сам, лошаденку, бросал ее прямо на улице и, захватив с собой обшарпанную кожаную сумку с нехитрыми инструментами, шел за хозяином в сарай. Лошаденка, мотая от жары головой, терпеливо ждала его возвращения.
Проехав из конца в конец улицу, цыган свернул в переулок и поехал, как обычно, к Бородиным. Их низенькая избенка с двумя тусклыми оконцами стояла на самом краю Локтей, упираясь огородом в стену леса. Была похожа она чем-то на подгулявшую старушонку, которая, вывалявшись в грязи, теперь сидела, согнутая, на земле, непонимающе посматривая на мир выцветшими глазами.
Хозяин дома Петр Бородин, сухой, желтый старик с поредевшей бороденкой, завидев в окно цыгана, выскочил во двор, испуганно огляделся по сторонам в, впустив коновала в избу, усадил его подальше от окон. Он торопливо и угодливо суетился вокруг гостя, избегая смотреть ему в глаза.
Цыган расстегнул рубаху, достал из-за пазухи тяжелый кожаный мешочек, такой же обшарпанный, как и сумка, долго его развязывал. Петр Бородин нервно облизывал сухие губы. В бесцветных глазах его вспыхивал и гас, вспыхивал и гас огонек, крючковатые руки начинали трястись. Цыган брезгливо усмехнулся, кинул Бородину смятую разлохмаченную бумажку.
— На…
— Нету… Теперь уже не занимаюсь, нет… За это, знаешь, теперь что? Того и гляди тюрьма… Поволокут — только ногами застучишь…
И он снова опасливо глянул в окно.
Коновал достал из мешочка еще одну радужную бумажку.
— Попадись тебе в ловком месте — убьешь. Убьешь ведь, а?
— Господи, Христос с тобой! — побледнел Петр Бородин. — Мы — люди ведь… А ты… э-э…
Старый Бородин говорил длинно и сбивчиво, словно оправдывался. Цыган сидел на лавке у порога, покачивая головой, задумчиво мял в толстых грязных пальцах деньги. Наконец он бросил старику вторую бумажку. Петр Бородин спрятал ее в карман холщовых штанов и быстро засеменил к выходу.
Через несколько минут возвратился, держа в руках отпотевшую, облепленную мякиной бутылку с синеватой жидкостью.
Цыган молча, стакан за стаканом, выпил весь самогон, вытер рукавом влажные толстые губы.
— А я вот убивал, — сказал он, возвращая пустую бутылку. Бородин только торопливо перекрестился. — При… приходилось. Ну, ну, ты… не трясись. Убивал… которые… попадались иной раз в лесу… ночью. Дело такое — наконовалю так вот за недельку, за две… Иные позарятся, ну и… Или тебя, или ты…
«Много уж ты наконовалишь, — подумал Бородин. — Не с этого у тебя золотишко-то водится».
— Оружие, стало быть, есть? — осторожно спросил он и тут же пожалел: цыган полоснул его черными, острыми как нож глазами, но ничего не ответил, только похлопал огромной волосатой рукой по карману широченных шаровар.
— Ну да, ну да, как же… всякие людишки болтаются по лесам, — торопливо замотал головой Бородин.
Цыган, пошатываясь, вышел из избы, сел на заскрипевший под ним ходок и поехал, негромко затянув непонятную песню. Его долго сопровождали улюлюкающие деревенские ребятишки.
Ходок давно скрылся за поворотом, а старик все еще стоял у окна, словно видел, как коновал, покачиваясь, едет по лесу, мимо болот, через глухие, пустынные места. Бородин не шевелился, только заскорузлые пальцы чуть дрожали да приподнимались и опускались кустистые белесые брови. Он не заметил, как со двора вошла жена. Вытирая платком слезящиеся глаза, она села на табуретку и закашлялась. Чахоточный румянец на ее щеках проступил еще ярче.
— Много дал-то? — спросила она, растирая рукой плоскую грудь.
— Сколько дал — все наши, — ответил Петр, отходя наконец от окна.
— В больницу бы мне, — тихо проговорила жена. — Кровью вон кашляю.
— Легко сказать — в больницу. — Старик скривил губы, поскреб всеми пальцами в затылке. — А платить чем? Болотной мяты попей вот…
— Пропаду я с твоей самогонкой — тогда все тебе останется, — с горечью сказала женщина. — В бане гниль, чад… Я ведь на пятнадцать годов тебя моложе, а кто поверит?
Бородин прошелся по комнате, покряхтел, стиснул рукой в кармане влажные бумажки.
— Бог терпел, Арина Маркеловна, и нам велел. Вот если бы… Через месяц, поди, опять приедет цыганишка-то… Тогда бы и в больни…
Старик запнулся на полуслове, попятился под взглядом жены.
— Ты! Ты опять за свое! — с отчаянием вскрикнула Арина, приподнялась, шагнула вперед, но тотчас остановилась. Она смотрела широко открытыми глазами, но не на мужа, а куда-то поверх его головы.
— Так что ж? Жить надо ведь… А ему что? Пропьет. А мы бы… Э-э! — бормотал Петр Бородин торопливым, свистящим шепотом. Шепот этот будто обезоружил женщину, отнял у нее все силы. Она тяжело опустилась на прежнее место и опять долго и тяжело кашляла.
— Я с твоей курилкой… будь она проклята, света белого, не вижу. Все боюсь — вдруг дознаются. А ты еще… Господи, дай хоть помереть спокойно. Ведь меня обдирает всю, как подумаю: в себе-то чего носишь?..
— Ну ладно, ладно. Бог с ними, в деньгами. Я к тому, что без нужды они ему.
Июльское солнце, казалось, насквозь прожигало ветхую избенку Бородиных. Прямые полосы света косо падали из маленьких окон на сучковатый, некрашеный пол и расплывались там желтоватыми масляными пятнами. Старик Бородин почему-то осторожно обходил их, словно боялся поскользнуться.
Арина долго еще сидела на табуретке не шевелясь.
— Ну, чего? — спросил Петр, останавливаясь возле нее. — Иди.
Вздрогнув, она поднялась, пошла к двери.
— Мы пропадем — один конец. О Гришке-то хоть подумай, пожалей. Ему ведь жить, — сказала Арина, оборачиваясь в дверях.
— Да сгинь ты с глаз, чтоб тебя!.. — взорвался вдруг Петр. — Я же сказал: бог с ними, с деньгами. Пусть пропивает их хоть в три цыганских глотки. — И тут же добавил тише, спокойнее: — А то не думаю я об нем… Гришке жить-гулять недолго осталось — солдатчина на носу. Вот и поразмысли сама…
К чему было сказано это последнее: «Вот и поразмысли сама», — Арина не поняла.
* * *
Мысль «выбиться в люди», разбогатеть, стать крепким хозяином сидела в Петре, как гвоздь в бревне. Глубоко кто-то загнал этот гвоздь в дерево, по самую шляпку, приржавел он там, и уж не вытащить его никакими клещами. Шляпку сорвешь, а гвоздь все-таки останется внутри. Разве вот расколоть бревнр надвое…
Мечта была, но денег от того не прибавлялось, сколько ни экономил Петр от заработков жены, сына, своих собственных. С горя заходил иногда в деревенскую лавку Алексея Лопатина, приторговывавшего потихоньку водочкой, напивался.
Но однажды, когда Петр Бородин спросил по привычке бутылку водки, лавочник только угрюмо усмехнулся.
— Что, нету? — недоверчиво переспросил Петр.
— Есть, да не про твою честь. Запрещено теперь. Строго насчет этого.
«Тебе, черт пузатый, и раньше никто не разрешал торговать ей», — подумал Бородин, а вслух спросил:
— Почему запрещено?
— Война, — коротко ответил лавочник, будто Бородин сам не знал об этом.
Несколько дней Петр Бородин ходил молчаливый, что-то соображая. Потом начал гнать в бане самогон.
Однако капитала на этом нажить было тоже нельзя. Видя, что затея пустая, Петр хотел уже разбить аппарат, тем более что жена ныла день и ночь: «Дознается — пропадем. Сына-то пожалей…» Но тут появился в их доме цыган-коновал со своим кожаным мешочком. Краем глаза видел как-то Петр, что не только деньгами набит мешочек; колючим ослепительным огоньком блеснуло однажды между грязных пальцев цыгана золото — не то часы, не то кольцо… И Петр тотчас смутно подумал: «Нет, не надо разбивать пока аппарат. Не будет самогонки — не заглянет больше цыган ко мне в дом…»
А сейчас, сидя у окна, Петр размышлял, что цыган снова приедет…
Через дорогу напротив, у самой стены дома, расплавленным золотом горели под солнцем битые стекла, кололи, заставляли слезиться глаза. Но Петр Бородин смотрел на них не отрываясь, не мигая и, казалось, ни о чем не думая…
2
Цыган действительно приехал через месяц.
Петр Бородин кинулся в сараюшку, где заранее припрятал бутылку самогона для коновала, а рядом с ней небольшой пузырек с темной жидкостью. Торопливо разрыл трясущимися руками солому. Бутылка была на месте, пузырек исчез.
С минуту Петр сидел на соломе растерянный, красный, пытаясь что-то сообразить. Потом тихо, потеряв неожиданно голос, позвал:
— Арина!.. — И погромче: — Ари-ина!!
Жена вошла в сарай с огорода. Завидев ее, старик молча встал, медленно, не разгибаясь, будто крадучись, пошел к ней. Глаза его сделались круглыми, остро поблескивали в полумраке. Молча он схватил жену за горло крючковатыми пальцами. И уже потом прошипел:
— Ты?.. С-стерва!..
— Брось… все… брось… Я его… в озеро… пузырек-то… от греха, — задыхаясь, шептала Арина.
Казалось, Петр с трудом выдавливает из нее по одному слову
— Ах ты!.. Сука старая!.. А вдруг цыган не приедет больше? А?
— Проп… пропадем ведь!..
— Где?! Задушу сейчас, коли правда в озеро кинула!..
— Правда…
— У-у-о!.. — глухо завыл Петр Бородин и, не помня себя от охватившей его злобы, уже изо всех сил сдавливал жене горло. Она, обмякшая, посиневшая, опустилась на колени.
— Вон там, на средней полке, — прошептала Арина почти без сознания.
Только теперь Петр разжал пальцы. Жена мягко, без стука упала на пол и, открывая рот, стала жадно глотать сырой, пахнущий навозом воздух.
Петр Бородин перешагнул через нее, подошел к шкафчику, прибитому в углу сарая. Там валялись на полках гнутые гвозди, старые гайки, ржавые железки, стояли банки с дегтем, колесной мазью. Бородин торопливо шарил руками по средней полке. Нащупав пузырек, зажал его в кулаке, облегченно засмеялся и пошел за бутылкой. Но отчего-то неожиданно почувствовал слабость. Резко закружилась голова. Он опустился на солому возле жены, посидел с полминуты.
Вдруг ему показалось, что он сидит тут уже давно-давно, несколько часов, и цыган, не дождавшись его, уехал. Он вскочил, схватил бутылку, выдернул пробку, сдельную из дряблой морковки, и налил в самогон из пузырька несколько капель.
Пока спешил к избе, в голове тупо колотилось одно и то же слово: «Уехал, уехал…»
Цыган сидел на прежнем месте, на табурете возле печки. Повернув навстречу Петру коротенькую смоляную бороду, спросил:
— Что долго?
Глаза Петра застилало черным туманом, в ушах что-то гудело, и он едва расслышал голос коновала.
— А-а… — растерянно заморгал глазами Петр и замолчал. — Э-э… с женой худо случилось… схватило в сарае, лежит там… Вот… — и протянул бутылку.
Цыган, ни слова не говоря, выпил весь самогон прямо из горлышка, помотал головой и вышел из избы. А Петр вытер холодный пот со лба. Когда сел на лавку и прислонился к стене, почувствовал — спина тоже мокрая и по всему телу ползет озноб…
Не сразу до его сознания донеслись удаляющиеся крики ребятишек. Значит, цыган поехал из Локтей! Петр глотнул сухим ртом воздух, метнулся к двери, схватил у порога топор.
В комнату, пошатываясь, вошла жена.
— Пропали мы… Господи… — простонала она. Опустившись на табуретку у печки, уронила голову на грудь.
— Не вой, сказал… — И добавил как-то плаксиво и жалобно: — Из-за ва-ас же…
Огородами Петр Бородин торопливо побежал к сосновому бору и нырнул в него. Он не замечал, что ветви хлещут по лицу, что ноги путаются в траве.
Когда увидел дорогу — цыган ехал уже между холмов. Лошадь плелась шагом. Коновал сидел на ходке как-то неестественно прямо. Широкая спина его тихо покачивалась из стороны в сторону.
Дорога делала здесь большой крюк. Петр смотрел вслед коновалу и часто-часто крестился. Потом пригнулся и, сокращая путь, побежал напрямик, по бездорожью, к чернеющим за холмами деревьям.
Где-то еще не кончился день, а здесь, в лесу, густились вечерние сумерки. Старик, тяжело дыша, прислонился к толстой сосне. Колени его подгибались, в горле першило. Донесшийся скрип колес словно подрезал Бородина, и он рухнул на землю, усыпанную старой ржавой хвоей, ощетинившимися сосновыми шишками. Сквозь придорожный кустарник увидел проезжающий мимо ходок. Цыган сидел по-прежнему прямо, точно в него воткнули железный стержень, и все так же тихо покачивался.
Когда скрап колес стал почти замирать, Петр Бородин, не выпуская топора, с трудом поднялся и заторопился следом. Но едва впереди, за поворотом, показался ходок, Бородин отпрянул в сторону, за кусты, терпеливо ждал, пока коновал удалится, шепча: «Господи!.. Не понес бы черт кого навстречу…»
Солнце садилось. Из глубины леса потянуло гнилой, болотной сыростью.
На одном из поворотов дороги Бородин, осторожно выглянув из-за кустов, не увидел ходка: скрип раздавался дальше, где-то за деревьями. Задыхаясь, Бородин тяжелой рысцой побежал вперед и вдруг запнулся за что-то большое и мягкое. Поперек дороги лежал цыган.
Когда Петр перелетел через него и плашмя упал на плохо уезженную дорогу, коновал пошевелился и тяжело приподнялся на локте. Несколько секунд они смотрели друг на друга, не поднимаясь с земли. Да один из них и не мог подняться. Он понял все и уронил голову.
А Петр Бородин, лежа на земле, торопливо шарил вокруг себя, ища выпавший из рук топор. Потом сел на корточки и так застыл: коновал опять приподнимался.
Равнодушный, погружающийся в густую холодную темень лес молчал, точно ожидая, что же будет дальше. Сквозь ветви сосен, почти сомкнувшихся над дорогой, осторожно проглядывала бледноватая распухшая луна.
Наконец Бородин, не разгибаясь, пододвинулся к цыгану. Слабо блеснуло лезвие топора и тотчас погасло, но цыган, очевидно, догадался, что это за блеск, и застонал — негромко, страшно, не разжимая губ.
— Ты прости Христа ради… Великий грех-то на душу — легко ли? А жизнь-то такая… Ты пойми, пойми… — приближаясь, шептал Бородин.
Услышав голос, цыган опять застонал, чужими, негнущимися пальцами принялся расстегивать старую черную рубаху. Пуговицы не поддавались. Тогда он рванул ворот, снял с груди тяжелый кожаный мешочек, собрав последние силы, бросил Бородину и, уткнувшись лицом в землю, захрипел:
— На бери… Только меня… не надо.., Отдышусь, может… никто не узнает.
Мешочек не упал на землю, старик подхватил его на лету и, почувствовав в руках тяжесть, беззвучно рассмеялся.
Но это была секунда. В следующее мгновение Бородин сунул мешочек за пазуху, поднялся во весь рост и уже твердым шагом подошел к цыгану.
— Не узнают, говоришь, людишки-то? — спросил он, чуть нагибаясь к лежащему у его ног коновалу. Спросил тихо, но властно, с таким чувством, будто стал теперь владельцем не только заветного кожаного мешочка, но и Локтей, и всей земли. — Оно верно: не узнают!
И, неторопливо размахнувшись, ударил коновала топором по голове.
А удар пришелся будто по его собственной. Петр Бородин даже ощутил, как лезвие топора — не то горячее, не то холодное — прошло сквозь череп и застряло там. В ушах зазвенело, а перед глазами, в темноте, как и полчаса назад, когда он бежал за телегой, поплыли оранжево-зеленоватые круги.
… Сколько времени просидел Петр Бородин на дороге — он не знал. Кругом стояла темень. Не было уже ни луны, ни звезд — небо, очевидно, затянуло тучами. Казалось, кругом на много верст нет, кроме него, никого живого.
Бородин сунул руку за пазуху, вытащил кожаный мешочек, подержал в руке, пытаясь зачем-то разглядеть его в темноте, и спрятал обратно.
Потом нагнулся, взял цыгана за плечи и потащил с дороги в кусты.
3
Локтинские парни, рубившие лес для постройки церкви (старая сгорела нынешней весной от несчастного случая), обедали на примятой сочной траве. Пообедав, молча закурили. Разговаривать никому не хотелось.
Гришка Бородин, костлявый, остроплечий, с рыжими, торчащими во все стороны вихрами, встал, сделал несколько шагов, сильно размахивая руками.
Странные это были руки. Длинные и тонкие, они кончались широкими, как лопаты, мозолистыми ладонями. Страшная сила таилась в них. Гришка легко завязывал в узел гвозди, вызывая восхищение и зависть локтинских мужиков.
Взяв в правую руку палку, он левой обхватил ствол дерева и проговорил, обращаясь к сидевшим парням:
— А ну, двое кто-нибудь, которые посильнее, держите. Выдернете — рубль отдаю. А нет — с вас по полтине.
Принять вызов Гришки Бородина никто не торопился. Наконец двое поднялись, поплевали на ладони. Но сколько ни дергали — ничего не добились. Казалось, палка была зажата не в руке Григория, а в клещах.
— А ну, третий еще! — торжествующе крикнул Гришка, поблескивая круглыми, как у отца, близко посаженными глазами.
И втроем не могли ничего сделать, только ладони ободрали о сучки. А Григорий насмешливо скривил губы, отбросил палку и вытер пот с маленького лба.
— Вот так! — проговорил он. — Что уж возьму — намертво. Никто не выдернет, не отберет.
— У тебя вся сила в руках, как у рака в клешнях, — заметил Андрей Веселов, рябоватый парень с густыми и жесткими, как конская грива, волосами. — А ударь тебя щелчком по лбу — ты и с копыт долой. Только в воздухе ногами брыкнешь.
— Я те ударю, — вдруг зло огрызнулся Григорий.
Его небольшие круглые глаза недобро поглядывали откуда-то из глубины, из-под нависшего плоского лба, ноздри раздувались, а нижняя челюсть неестественно выдалась вперед.
— Что же, попробовать можно, — лениво отозвался Веселов.
— Я те попробую, — тем же тоном проговорил Григорий, но, видя, что Веселов поднимается, трусливо сделал несколько шагов назад. — Но… ты… рябой дьявол.
— Охота тебе, Андрей, с таким связываться… — проговорил один из парней, коренастый, плотный, как камень, Тихон Ракитин — первый силач в Локтях. — Не тронь ты его, а то к речке стираться побежит.
— Я тебя схвачу где-нибудь… в узком месте поперек глотки, — отойдя в сторону, пробормотал Григорий, вытащил огромную, увесистую руку из кармана и показал Веселову. — Тогда попробуй вывернуться… Пискнешь только…
Андрей отвернулся, лег на мягкую траву спиной к Григорию.
— Что вы все как кошка с собакой? — спросил у Андрея Ракитин.
Веселов не отозвался. Ответил Ракитину долговязый, быстрый, как вьюн, Федот Артюхин.
— Известно, что… Дуняшка промеж них проскочила.
Григорий тоже растянулся на траве. В задумчивости он сжимал и разжимал свои огромные руки-клешни.
Андрей перевернулся, заложил руки за спину и стал смотреть в высокое небо над лесом. Там истаивали небольшие ватные облачка да кружился вокруг них степной коршун, неведомо как залетевший в эти лесные края.
— Федька Семенов рассказывал, — тихо проговорил Веселов, — будто люди скоро по небу, как птицы, будут летать… Правда это или нет, как думаете?
— Знамо дело — врет, — откликнулся Артюхин. И пустился в рассуждения: — Птица, она почему летает? Потому что легкая. А человек-то — ого! Особенно некоторые… — Артюхин покосился на Гришку, — …у кого этого самого внутри много… И потому что крылья у птицы есть. И кости опять же у птицы легше воздуху, пустые внутри…
Поковыряв в зубах, будто ел мясо, Артюхин взял с бревна сушившиеся портянки и начал обуваться. Потом спросил:
— И опять же — откуда у человека крылья возьмутся?
— Я тоже слышал от него, что будто построили где-то уж эти самые машины, на которых летают, — промолвил Тихон Ракитин.
Артюхин быстро поморгал круглыми глазами и уставился на Ракитина.
— Ч-чего?!
— Машины. По имени — аэропланы.
— Из чего это их изделали?
— Не знаю. Про это Федька не говорил.
— То-то… Врет — и весь сказ! — торжествующе заключил Артюхин.
— Недаром — ссыльный, — вставил Григорий. — Ишо сбежал, гад.
— Тебе-то что? — поинтересовался Ракитин.
— Ништо. Не любил я его, — неопределенно ответил Григорий.
Облачка уже растаяли, небо было синим, ласковым и зовущим. Коршун, совсем не махая крыльями, все плавал и плавал в вышине широкими кругами. Андрей все смотрел на него, не шевелясь, не мигая, словно завороженный.
Жара немного опала, потянул ветерок.
— Ну, айда работать, — бросил Тихон Ракитин и тоже стал обуваться. — Лесин пяток завалим еще до вечера.
Андрей, не спуская глаз с птицы, проговорил:
— А я с охотой полетел бы на той машине, про которую Федька Семенов рассказывал.
— Чего, чего? — опять заморгал Артюхин. — И брякнулся бы с неба-то! Как пить дать. Хе-хе, вот бы Гришка-то обрадовался. Да и зачем тебе летать?
— Посмотреть бы, как люди на земле живут, — ответил Веселов. — Рассказывал Семенов, что есть на свете такая страна, где нету богачей-мироедов, вроде нашего Лопатина или Гордея, нету горя. Помнишь, Тихон?
— Помню. Там все пашут сообща, хлеб сеют. Только сказки это. Нету такой страны.
— Ну как нету, когда Федька говорил, что есть, — возразил Андрей.
Ракитин ничего не ответил. Вместо него опять подал голос Григорий:
— Набрехал да сбежал. Одно слово — ссыльный…
— Верно говорит Тихон — нету, — вмешался Артюхин, уже расхаживающий по траве. — А кабы была — богачи уж прибрали бы ее к рукам. Ты на этом самом.. как его… лететь туда хошь, а наш Лопатин быстрей тебя пешком бы туда прибежал да заграбастал все. Ты прилетел, а он тебе — кукиш.
Андрей Веселов поднялся с земли, молча взял свой топор.
— Ну а ты чего разлегся, как барин! — крикнул Ракитин Григорию. — Вставай.
Григории молча поднялся, но пошел не к парням, которые уж валили столетнюю красавицу сосну, а совсем в другую сторону.
— Вот паскуда, — услышал он за спиной, но не обернулся, ничего не ответил.
* * *
Часа полтора просидел Гришка Бородин над омутком спокойной, уснувшей, казалось, навеки лесной речки, смотрел на свое отражение в воде, о чем-то думал, крепко стиснув зубы, отчего нижняя челюсть опять сильно выдавалась вперед.
Возвращался домой Григорий еще засветло. Выйдя из леса на дорогу, снял разношенные, хлябавшие на ногах тяжелые сапоги и зашагал по мягкой прохладной пыли.
Неожиданно взгляд его упал на продолговатый предмет, напоминающий топорище, торчащий впереди из придорожного кустарника. Подойдя поближе, он увидел, что это в самом деле топор.
«Какой-то разиня ехал да потерял, — подумал Григорий, нагибаясь. — Стоп, да ведь наш топор-то. Разиня, выходит, батя».
А подняв топор, несколько секунд тупо смотрел на лезвие, чувствуя, как холодеет в животе. Весь топор был в черной засохшей крови. Местами кровь запеклась сгустками, и к одному из них прилип черный клочок не то волос, не то шерсти.
«Что он, скотину, что ли, рубил?» — изумился Гришка, переворачивая в руках топор, и немного успокоился. На ум пришла мысль: «Может, батя увидел отставшую от стада корову, да и… Ведь вчера я лег спать поздно, а его все не было дома…»
Парень огляделся. Кустарник возле дороги был немного помят, некоторые веточки сломаны и уже успели призасохнуть. Значит, сломаны они были утром или прошлой ночью.
Гришка несмело перешагнул через кустарник и осторожно пошел по лесу. Там, между деревьев, трава тоже была примята — по ней волоком протащили что-то большое и тяжелое.
Он в нерешительности остановился. Дальше идти становилось страшно. Но, постояв и подумав, сделал еще несколько шагов вперед.
Сделал — и вдруг на секунду замер, а затем отпрянул в сторону. Хотел бежать Гришка прямо через лес в деревню, подальше от этого места, но не мог: ноги подкосились, он свалился на землю… И совсем рядом с ним лежало тело цыгана, чуть закиданное сухими ветками и вялой травой, вырванной с корнями, с землей. Голова коновала была окровавлена, рубаха на груди разорвана, черная борода торчала дыбом, пальцы рук судорожно скрючены. В одной руке цыган сжимал комья земли вместе с травой: будто он сам закидывал себя, умирая, и завалил бы совсем, да не успел — смерть прервала работу.
Опомнившись, Гришка пополз прочь. А выйдя на дорогу, остановился, пораженный неожиданной мыслью: «А если поедет кто мимо да найдет… его?..»
Идти назад и прятать мертвое тело было страшно. Может быть, Григорий и не решился бы на это, но вдруг услышал, что где-то недалеко стучали по корням, приближаясь, колеса телеги. Ему казалось, подвода приближается так быстро, что вот-вот будет рядом. Григорий нырнул в кусты. Гулко колотилось сердце, и он старался не дышать, чтобы как-то унять этот стук.
Когда телега проехала, Григорий осторожно приподнялся и, пригнувшись зачем-то, медленно двинулся к тому месту, где лежал цыган. Шел, стараясь не хрустнуть сучком под ногами, опасаясь задеть ветку дерева… А подойдя, не ощутил уже прежнего страха. Деловито отбросив сучья, накиданные на мертвое тело, он приподнял цыгана, с трудом взвалил его себе на плечи и, покачиваясь под его тяжестью, пошел в глубь леса, подальше от дороги.
В диком и глухом месте Григорий сбросил тело с плеч, присел отдохнуть. Не отдышавшись как следует, поспешно вскочил и начал рубить топором землю. Комья сырой, холодной земли, пахнущие болотом, перемешанные с корнями трав, мелкими желтоватыми корнями деревьев, выгребал широченными руками-лопатами.
Выкопав яму, Гришка столкнул туда цыгана, засыпал его землей, закидал прелыми прошлогодними листьями…
4
Солнце, скользнув последний раз по дырявым крышам домишек, по оконным стеклам, по рябоватой глади озера, скрылось за лесом. А из леса выползал сыроватый сумрак, струился по улицам, скрадывая, растворяя очертания предметов.
Гришка, поужинав, вышел во двор и несколько минут смотрел в сторону озера, заложив руки в карманы измятых холщовых штанов. Локти его острыми углами торчали за спиной.
Григорий видел, как из лесу вышел отец и, чтобы сократить путь, свернул с дороги к своему огороду, перелез сквозь изгородину и пошел к дому между грядок. В руках у него была лопата.
Подойдя, Петр бросил лопату в открытую дверь дощатой сараюшки, сел на выщербленную чурку для рубки дров, опустил голову, не обращая внимания на сына. Видно было, что старик бродил где-то по лесу, продирался сквозь густые и цепкие заросли. Узловатые, высохшие руки его были исцарапаны, рубаха в двух местах порвана. В спутанной бороде застряла сухая игла от сосновой ветки. «По земле полозил…» — подумал Гришка и спросил:
— Куда это ходил с лопатой?
— На кудыкину гору, — зло ответил отец.
Григорий помолчал, чуть насмешливо осмотрел отца с головы до ног. Почувствовав на себе этот необычный, какой-то обдирающий взгляд, Петр Бородин беспокойно повернулся к сыну:
— Ты чего?
— Я-то? — Гришка уже откровенно усмехнулся. — А может, топор в лесу искал?
В одно мгновение старик оказался на ногах. Он что-то хотел сказать, но только беззвучно шевелил губами. Наконец вымолвил еле-еле:
— Так…
— Вон он, топор-то, в углу. Возьми.
Отец, ни слова не говоря, послушно повернулся, прошел в угол двора, где лежали заготовленные на зиму сухие сучья. Шел мелкими шажками, устало и тяжело волоча ноги. Поднял топор, валявшийся возле сушняка, послюнил зачем-то палец и попробовал лезвие на остроту.
— Что, не затупился? — издевательски спросил Гришка.
И тогда случилось неожиданное. Старик, не выпуская топора, сверкнул налитыми кровью глазами и стремительно бросился к сыну. Тот, растерявшись, отскочил и невольно юркнул в первое попавшееся на глаза убежище — в сараюшку. Петр вбежал туда же, захлопнул за собой дверь, прижал ее спиной и, задыхаясь, прохрипел:
— Ведь я и тебя, сукин ты сын, если только…
Григорий в первые секунды даже не понял толком, что же произошло, метнулся из угла в угол, потом обернулся, увидел перед собой в полумраке отца с топором в руке, прилип спиной к стене. И только тогда зазвенело, забилось под его узким невысоким лбом: «Ведь убьет! Убьет! Ему что!..»
И в этот же миг за дверью раздалось:
— Гри-и-ишенька-а!..
Арина, увидев в окно, что муж кинулся за сыном с топором, растрепанная, обезумевшая, выскочила из избы, со всего разбегу ударилась мягким, дряблым телом в дверь сараюшки, которую Петр изнутри подпирал спиной, и осела на землю, заголосила тонко, пронзительно:
— Люди добрые! Решит мальчонку, помо…
Петр распахнул дверь, и Арина ввалилась в сарай, упала на унавоженный пол. Петр опять захлопнул дверь, опять прижал ее спиной и крикнул:
— Не реви, дура! — И уже тише проговорил: — Вы что? В кандалы меня захотели?
— Очнись, окаянный! Душегуб ты…
— Да замолчи ты! — Не соображая, что делает, Петр пнул жену ногой в лицо.
Она вскрикнула, зажала лицо руками и, не поднимаясь, тонко, жалобно завыла.
Гришка понял, что самое опасное миновало, что к отцу возвратился разум.
Однако он еще боялся пошевелиться. Стоя у стены, он переводил широко открытые глаза то на отца, то на мать.
Отец часто и глубоко дышал, сильно вытягивал шею. Потом размахнулся и бросил топор в другой угол сарая. Глотнув слюну, Григорий примиряюще проговорил:
— Зачем же, батя, так-то?..
Опять начала подвывать Арина.
— Эх, жизнь-то такая… — тоскливо сказал вдруг Петр Бородин и медленно начал оседать на землю, скользя спиной по двери.
— Вот, Гришенька, дожились мы — зашепталаАрина. — Господи, подумать только — человека решил из-за денег… Ведь он зельем опоил его сперва, а потом добил где-то…
Петр сидел, странно поглядывая на жену, прислушиваясь. Но не перебивал, будто и не о нем шла речь.
Пошатываясь, Арина стала подниматься с земли. Побрела в угол сарая, закрывая одной рукой разбитое лицо, подобрала топор и пошла к выходу.
— Посторонись ты, дьявол.
Петр послушно отодвинулся. Сделался он вдруг каким-то податливым, безучастным уже ко всему. Даже когда Арина обернулась в дверях со словами: «Пусть судит бог, коль не вытерплю и расскажу все людям», — он только усмехнулся да качнул головой.
Когда Арина ушла, отец и сын помолчали еще немного. Наконец Петр спросил:
— Зачем зарыл… его?
— Мать-то вот докажет, тогда что? — вместо ответа произнес Гришка.
— Мать?.. А ты не докажешь?
И снова не ответил Гришка, положил руки в карманы и вышел из сарая на свежий воздух.
* * *
Ночью Арина, лежа на скрипучей деревянной кровати, натужно, с кровью, кашляла, бормотала что то в бреду. Петр, спавший на лавке, поднялся, зажег лампу.
— Чего, батя, не спится? Или мерещится что в темноте? — насмешливо спросил Григорий, приподнимая голову с овчинного тулупа, расстеленного на полу.
— Дурак ты, чего зубы скалишь?!
— Много ли денег разжился?
— Сколько есть — все мои…
— Твои? — Григорий сел на полу и еще раз переспросил: — Значит, все твои?
Отец быстро повернулся к сыну всем телом. Но Григорий как бы не заметил этого беспокойного движения отца, лениво зевнул, лег на свое место, положил руки под голову и спросил:
— А если в самом деле люди дознаются? Ведь до смерти будешь кандалами звенеть.
Отец сорвался с места, закружился по избенке, выкрикивая:
— На! Бери!.. Чем с живого жилы тянуть!.. — Выхватив из-за пазухи кожаный мешочек, швырнул его Григорию точно так же, как цыган кинул ему. И продолжал метаться из угла в угол. — А то иди докажи! На отца родного… Чего меня стращать? И буду звенеть железом в каторге!.. За вас буду!.. Вот… Волк ты, Гриш-ка-а-а-а!.. Вырастил я тебя…
Но едва Григорий протянул руку, чтобы поднять мешочек, Петр ястребом кинулся на сына, с силой отбросил его к самой стене, схватил обеими руками деньги.
— Не грабастай, ты, змееныш!..
Григорий больно ударился затылком о стену, но не вскрикнул.
— Иди! Доказывай! — не унимался отец. — А то я доберусь до тебя как-нибудь пораньше, я тебе расколю головешку, попомни…
На кровати металась Арина. Петр, кивнув в ее сторону, продолжал плаксиво:
— Вот и мать, старая ведьма… Выдаст ведь, знаю… А я что? Для себя, что ли?.. Задавить бы вас обоих в один час…
— Ты разум, батя, потерял там… на дороге, — проговорил Григорий, потирая ушибленную голову. — Кто тебя выдавать собирается? Зачем бы мне тогда закапывать цыгана?
Петр Бородин удивленно слушал сына, часто моргая слезящимися глазами.
Гришка лег на тулуп, повернулся к стене, проговорил:
— Туши свет, чего людской интерес привлекать на огонь.
Арина до самого утра билась на кровати в жару, задыхаясь от духоты, бормотала что-то. Ни муж, ни сын не подошли к ней.
5
Был воскресный день.
Лето подходило к концу. С утра на почерневших огородных бурьянах, на прибрежных гальках, на придорожной траве лежала щедрая, дымящаяся роса. Поднявшееся из-за озера негорячее солнце долго сушило их, над землей струился жиденький, еле заметный парок. Земля и воздух нагревались медленно, но в полдень ребятишки, предводительствуемые хлипким, длинношеим Ванькой Бутылкиным и толстощеким Гошкой Тушковым, бегали по улицам уже босиком.
Григорий Бородин в новой синей рубахе не спеша шагал по улице, держа по обыкновению руки в карманах. От него попахивало самогонкой. Под мышкой торчал небольшой сверток.
В самом центре деревушки белел сруб строящейся новой церкви. Поп Афанасий, подоткнув полы длинной рясы, бродил возле стен, трогая желтоватые бревна, а потом нюхал пальцы.
Григорий не любил попа и хотел было свернуть в переулок, но отец Афанасий подозвал его жестом.
— Благослови, батюшка, — смиренно нагнул голову Григорий, подходя.
Поп перекрестил его и опять понюхал пальцы.
— Ты вот что скажи отцу духовному — почему на работу перестал ходить? Я новый дом хочу строить себе, лес нужен, а валить почти некому. Андрея Веселова не сегодня-завтра в солдаты берут…
— В солдаты? — живо переспросил Григорий.
— И Тихона Ракитина, и Федота Артюхина…
— Вон что?
— А ведь лес-то мне нужен. Я заплачу и отпущу все смертные и несмертные грехи твои, и отца твоего, и матери твоей.
При упоминании смертного греха Гришка невольно отшатнулся от попа, и отец Афанасий тотчас нагнулся и вкрадчиво шепнул в ухо:
— Есть, стало быть, за душой грешок тяжкий?
— Что ты, что ты, батюшка… Нету такого.
Поп сурово глянул, отступил на один шаг.
— Ну, запомни на будущее: всякий rpeх отец святой отпустить волен… Так пойдешь завтра в лес?
— Пойду, батюшка, — ответил Григорий.
«Черта с два теперь буду тебе лес рубить, старый сыч, как же, жди… — думал он. — А Андрюху, значит, забирают… Так-так!.. Вон какие дела…»
И Григорий пошел не оглядываясь.
Скоро он свернул с дороги и едва приметной тропинкой вышел на окраину к побеленной избушке. Здесь жила Дуняшка со своей бабушкой, давно ослепшей и настолько дряхлой, что казалось, подует ветерок — упадет она и больше не поднимется.
Дуняшке шел семнадцатый год. Это была невысокая черноволосая девушка с тихим голосом, с какой-то совсем детской, всегда виноватой улыбкой.
Своих родителей Дуняшка не помнила. Они умерли от холеры, когда ей не было еще и трех лет. С тех пор Дуняшка и живет с бабушкой, ведет нехитрое хозяйство, ходит мыть полы, стирать белье и полоть огороды к старосте Зеркалову, лавочнику Алексею Лопатину, отцу Афанасию.
Когда Григорий стукнул дверями в сенях, Дуняшка, убиравшая со стола, быстро обернулась на звук, в серых глазах ее несмело блеснул радостный огонек, засветилась улыбка. Но едва увидела входившего, потушила эту улыбку, бросила растерянный и встревоженный взгляд на бабушку, сидевшую на кровати, словно ища защиты.
— Здравствуйте, — проговорил Григорий, перешагнув порог.
— Милости просим. Проходи, гостем будешь, — прошамкала старуха беззубым ртом, вглядываясь в пришедшего невидящими глазами. Потом повернулась к внучке: — Кто это, Дунюшка? Не могу узнать по голосу-то…
Девушка промолчала.
— Вижу — лучше в горло кость, чем такой гость, — хмуро усмехнулся Григорий.
Прошел, сел на некрашеную табуретку, спросил у старухи:
— Живешь еще? Я думал — померла уже…
— Это Гришка, что ли, Бородин?.. Помереть-то мне пора, да смерть никак не идет… Заплуталась где-то…
В сенях опять стукнула дверь.
В комнату вошла нищенка лет пятнадцати, грязная, оборванная. Робко прижалась к косяку, протянула тонким голоском, готовым каждое мгновение оборваться:
— Ради праздничка… подайте корочку…
Григорий Бородин пошарил в кармане, достал смятый рубль, бросил нищенке.
— На… Убирайся только…
Деньги упали на пол, к ногам девочки. Нищенка не поднимала их, только широко открытыми синими глазами испуганно смотрела на Григория.
— Ты чего? Бери, коль дают.
— Не… Мне бы кусочек хлебца… и ладно. А деньги не надо. Ведь спросят — где взяла столько? Украла, скажут…
Григорий встал, поднял деньги и протянул девочке. Та попятилась, замахала руками.
— Нет, нет… Нету хлебца — и ладно.
— Тьфу, — сплюнул Гришка, положил деньги себе в карман и сел на прежнее место.
Дуняшка, стоя у печки, молча и удивленно наблюдала и за незваным гостем, и за нищенкой. Потом достала из шкафа ломоть хлеба:
— На, возьми…
Худенькой, давно не мытой рукой нищенка схватила хлеб, тотчас спрятала его в свои лохмотья и хотела уйти, но старуха, тяжело поднимаясь с кровати, проговорила:
— Ты постой, доченька…
Перебираясь по стене, старуха подошла к совсем оробевшей нищенке, стала ощупывать восковыми, просвечивающими, казалось, насквозь руками ее голову, замотанную рваной тряпкой, худые плечи…
— Ты откуда, доченька? — спросила старуха.
— Так… — ответила негромко девочка, — хожу по деревням…
— Звать-то как?
— Аниской.
— Отца-матери, стало быть, нет?
— Нету… Мы приезжие были. Из-под Смоленска, — чуть осмелев, рассказывала Аниска.
— Однако… есть, поди, хочешь, доченька?
— Нет… Не сильно… Я вчера ела… Мы жили в деревне на той стороне озера. С отцом жили… Потом он потонул пьяный в озере, а мать еще дорогой померла, когда сюда ехали…
Григорий, сидя на табуретке, поглядывал то на старуху, то на девочку-нищенку, то на Дуняшку. Он положил сверток на колени, но не разворачивал, словно ожидая, когда его попросят это сделать.
— Сиротинушка ты моя, — жалостливо говорила старуха, поглаживая Аниску по голове. — Бездомная…
— Летом-то ничего. Зимой вот плохо. Иногда попрошусь к кому-нибудь ночевать. Пускают мало кто — боятся, что обокраду.. По субботам хорошо, — продолжала Аниска, — бани топят. Когда все вымоются — зайду и сплю. Тепло. И на другую ночь ничего, терпеть можно. А потом выстывает… А то еще во дворе можно, со скотиной. К овце прижмешься, она теплая, как печка. Только закрывают многие дворы-то на ночь… — Голос Аниски иногда прерывался, тогда она часто моргала, хмурила лоб, будто вспоминая, что еще рассказать этой ласковой слепой старухе.
— Врешь ты все, — сказал вдруг Григорий.
Аниска вздрогнула и замолчала, вытянув длинную худую шею в сторону Григория. Старуха тоже повернулась к нему:
— Кого обижаешь, варнак ты этакий? Грех бы вроде.
Григорий усмехнулся, поерзал на табуретке.
— Ничего… Отец Афанасий сейчас сказал: все грехи отпущу тебе…
Старуха пожевала ввалившимся ртом, сказала, обращаясь к Дуняшке:
— Собери-ка там чего на стол, покорми скиталицу… Да и помыть бы ее. Поди, грязная.
— Я сейчас… Воды вот, бабуся, нету. Я мигом сбегаю на озеро…
Дуняшка торопливо сорвалась с места. Когда пробегала мимо Григория, тот схватил ее за руку:
— Ведь я к тебе пришел. Поговорить бы… А ты бежишь…
— Пусти!
— Ну ладно, пущу, — покорно сказал Григорий, встал и вышел следом в сенцы.
Взяв в сенях ведра, Дуняшка сняла со стенки коромысло и повернулась. Григорий придержал ногой дверь, которую Дуняшка хотела открыть.
— Ну, чего ты? — негромко спросила девушка, отступив на шаг. — Хочешь, чтобы коромыслом огрела?
— Зря ты, Дуняшка… Я ведь по-хорошему…
— Я тебе давно сказала, и тоже по-хорошему — не ходи за мной, и все.
Опустив голову, Григорий помолчал.
— Говорила… Я что, слепой? Вижу — не меня ждала, Андрея.
И вдруг перешел на шепот, заговорил торопливо, будто боялся, что она опять перебьет его:
— Ну а что мне делать, что делать, если… не могу я собой владеть?.. Вот и пришел… вот и хожу… Я… не ручаюсь за себя… И убью его, если…
Дуняшка негромко вскрикнула и зажала себе рот ладонью:
— Что ты мелешь? Что ты мелешь, опомнись!..
— А тебя — скажи слово — на руках носить буду, — продолжал он, подходя к Дуняшке. — Одену тебя, как картинку… Вот, тебе принес…
Гришка быстро развернул сверток. Лучи солнца, падавшие сквозь щелястую крышу сенок, заиграли на добротном розоватом сатине, который Григорий протягивал Дуняшке.
— Возьми, на платье… Андрей — тот не подарит…
Дуняшка стояла, не трогаясь с места, смотрела на материю. Потом подняла глаза на Григория, усмехнулась:
— Вижу — богатый стал… Нищенке целый рубль подать хотел, мне сатину на платье…
— А что? Ты не смотри, что я… такой… сейчас. Мы еще заживем, Дуняшка, я тебе правду говорю… Не хуже лавочника Лопатина заживем или там Гордея Зеркалова… Только ты скажи… одно слово…
— Скажу, — промолвила она. — Уходи отсюда!.. Сейчас же…
— Дуняшка!..
Григорий еще хотел сказать что-то, но не успел. Дверь в сенцы отворилась, на пороге стоял Веселов.
Увидев Дуняшку и Григория, Андрей в первую секунду опешил.
— Так…
Дуняшка хотела выйти, но Веселов загородил собой двери…
— Нет уж, погоди… Тут разобраться надо…
— Чего разбираться? Видишь — человек на платье дарит мне…
Дуняшка оттолкнула Андрея, выскочила из сенок, перекинула коромысло через плечо и пошла к озеру. Андрей посмотрел ей вслед и повернулся к Григорию. Тот торопливо комкал шуршащий сатин, стараясь завернуть его снова в бумагу.
— Что уставился? — буркнул он.
— А вот что… Она говорила тебе, чтобы ты забыл сюда дорогу?
— Не помню что-то… А вот как приглашала в гости — помню…
— Приглашала? — переспросил тяжело Андрей. — В гости?
— Был такой случай…
— Врешь! Врешь все, рак клешнятый!.. — загремел вдруг Веселов, надвигаясь на Гришку.
Бородин попятился. Не успев завернуть сатин, он уронил его на пол и угрожающе выставил вперед свои огромные руки:
— Н-но, ты… Попробуй тронь!.. Зажму в кулак — только хрустнешь…
Андрей и без того знал, что если Григорий удачно схватит его, то уж намертво. Знал также он, что трусости у Григория не меньше, чем силы в руках.
— Ах ты! — воскликнул Андрей и неожиданно кинулся на Григория. Григорий отскочил и очутился на крыльце. Пятясь задом, он оступился и упал, но тотчас поднялся с земли. Веселов бросил ему сверток из сеней прямо в лицо:
— Забирай!.. И увижу еще раз тебя здесь — пеняй на себя…
Григорий повернулся и торопливо пошел прочь.
* * *
А ночью, когда над озером, над деревней, над лесом разлилась черная глухая темнота, возле маленькой саманной избушки, на куче хвороста, приготовленного для растопки, сидели Дуняшка и Андрей Веселов. Дуняшка, в стареньком платке, тихо всхлипывала, прижимаясь лицом к широкой, теплой груди любимого. Одной рукой Андрей обнимал девушку, другой поглаживал ее вздрагивающее плечо.
— Ты не плачь, — тихо утешал он, всматриваясь в темноту над озером. — Не всех же убивают на войне. Вернусь…
— Боюсь я — не дождаться мне тебя… — промолвила Дуняшка.
— Ну, ничего, дождешься, если… будешь ждать.
— Господи, о чем ты? — с горечью, с тяжелым упреком воскликнула Дуняшка.
— Гришка Бородин ведь не отстанет, я знаю…
— Да на черта мне он, такой… — Больше Дуняшка не нашла слов.
— Ну, ну… верю. Да и ему гулять недолго. Он ведь чуть помоложе меня.
Потом они долго молчали. Дуняшка всхлипывала все реже.
Андрей прижался губами к ее голове, вдыхал теплый запах волос. Сегодня они пахли почему-то сухим душистым сеном.
Андрей долго думал, чем же это она вымыла голову, пока не рассмеялся.
— Ты что?
— Да так. Лопатины сенокос начали. Ты не у них работаешь?
— Два дня уже.
— Вот-вот.
— Чудной ты.
Тяжело пропели спросонья вторые петухи, а Дуняшка и Андрей все сидели обнявшись, все молчали Наконец Андрей проговорил:
— По земле хоть поезжу, посмотрю, где какая жизнь. Федька Семенов рассказывал…
— Да нету, Андрюшенька, нету такой жизни на земле! — воскликнула Дуняшка, уже не раз слышавшая от Андрея о чудесной неведомой стране. — Ты только приезжай живой-здоровый. Уж как нибудь в моей или твоей избушке проживем. Руки-ноги, слава богу, есть у обоих… были бы у обоих, — поправилась она на ходу, вспомнив, куда уезжает Андрей.
— В избушке… Да я знаешь какой домище отгрохал бы тебе, кабы лес был…
Дуняшка ничего не сказала на это, только крепче прижалась к нему.
Начала заниматься заря, синевато просачиваясь сквозь уголок черного неба.
— Ну, прощай пока, — проговорил Андрей, поднимаясь. — Надо хоть часок соснуть перед дорогой.
— Буду ждать тебя, — просто сказала Дуняшка.
— Если чего случится со мной — тогда, конечно… Только чтоб не за Гришку Бородина…
— Ни за кого, кроме тебя, — прошептала она…
Андрей ушел, а Дуняшка не шевелясь сидела на куче хвороста почти до рассвета.
* * *
Так никто и не узнал в Локтях, куда девался бородатый цыган. Через месяц в деревню заявился новый коновал — юркий старичонка с деревянной ногой.
Старосте Гордею Зеркалову надо было выхолостить кабана и молодого жеребчика. Заслышав крики коновала, он вышел на улицу, оглядел одноногого.
— А где этот… ну, тот… с серьгой в ухе? — спросил староста, обдавая нового коновала пьяным перегаром. — Не слыхивал?
Одноногий старичонка, уловив дразнящий запах самогонки, торопливо закрутился вокруг телеги, постукивая по земле деревяшкой.
— Это про кого изволите? Прежний коновал, что ли? А бог его знает! Цыган, известное дело — бродяга. Можа, и в Россию подался из Сибири-то. Ищи ветра в поле. Куда идти-то?..
— Сюда, — указал Гордей на дверь конюшни.
Через полчаса коновал кончил работу, сложил инструменты в кожаную, как и у цыгана, сумку, бросил ее в телегу. Получив деньги за работу, потоптался возле старосты, потом вздохнул:
— Эхма! Как говорится: не пить, не гулять — куды деньги девать! Верно гуторю? А теперича, если увидишь бутылку в лавке, то с постным маслом, а либо со снадобьем от поноса…
— Ишь ты, — ухмыльнулся Зеркалов. — Запрокинуть, что ль, охота?
— Оно не то чтоб охота, а… для безвредности. Вишь, с чем валандаться нашему брату приходится…
— Ну, спроси там у кого-нибудь… — махнул рукой вдоль улицы Гордей, хотел пояснить: «У Бородина, мол…», но вовремя опомнился: «Ведь он, староста, должен зорко следить, не варит ли кто самогон в деревне», — и строго взглянул на коновала: — Ну, ну, у нас днем с огнем не найдешь самогонки… Я строго насчет этого…
Увидев подходившего к ним зажиточного мужика Демьяна Сухова, староста поспешно ушел в дом.
— Заворачивай-ка, мил человек, ко мне на двор, — сказал коновалу Сухов. И, щелкнув себя пальцем по горлу, прибавил: — А насчет этого — врет староста. Можно найти… Я укажу тебе адресок.
Когда коновал кончил работу и у Сухова, тот сказал ему, опять щелкнув пальцем по шее.
— К Петру Бородину ступай. Во-он домишко, на том конце улицы, возле избы Бутылкиных…
— Это который Бутылкин? Не тот ли, у которого я утресь коней лечил? Сынишка еще у него, Ванюшкой звать?..
— Он, он… Один у нас в селе Бутылкин.
— Тогда знаю, знаю, — закивал головой коновал. — Пацан вертелся все у моих ног, денег выклянчивал. Ох и въедливый!.. Ну, прощай пока, добрый человек.
— Прощай, прощай… — ответил Сухов, закрывая ворота за коновалом.
Через несколько минут одноногий старичонка остановил лошадь возле Бородиных, зашел в избу и спросил, нет ли чего для сугрева.
Петр, притащив бутылку, осторожно поинтересовался о прежнем коновале. Старик ответил ему примерно то же, что и Зеркалову.
— Вот ведь жизнь-то… — сказал зачем-то Бородин и прибавил: — Я к тому, что заезжал, бывало, ко мне цыганишка-то…
— Ну и ляд с ним, — отозвался пьяный уже коновал. — А теперича я вот заезжать буду…
На этом и забыли в Локтях про старого цыгана. Был, да сплыл…
Глава вторая
1
Петр Бородин месяца полтора никому не показывал, что водятся у него деньжонки, медлил из осторожности. А в начале зимы, когда на твердую, как кость, землю посыпались первые снежинки, неожиданно пришел к Лопатину, который когда-то отказался продать ему водки, и сказал:
— Вот что, Лексей Ильич… Продай-ка несколько десятинок земли.
Конечно, землю купить можно было бы и весной — ведь ни пахать, ни сеять зимой не будешь, — но это ждать еще несколько длинных-длинных месяцев. А у него млело сердце при мысли, что он, Бородин, — хозяин облюбованного участка земли, принадлежащего пока лавочнику. Где тут утерпеть до весны!..
Лопатин посмотрел на Петра круглыми глазами, выставив вперед широкий лоснящийся подбородок.
— Продать тебе? Земли?! — переспросил лавочник. — Да ведь пустошь есть. Подавай властям заявление — и запахивай.
— Черта ли там вырастет, на гальке? Хорошие земли вы с Гордеем позахватывали. Ты мне за речкой продай.
— Та земля не по твоему карману, — сказал Лопатин и отвернулся. — Там ведь, с краешку, строевого леску немного… Не укупишь…
— А это не твоя уж забота… — вдруг с вызовом бросил Бородин и только потом, когда брови хозяина настороженно взметнулись вверх, понял: «Не надо бы так-то.. А то заломит цену…»
— Вот как! — воскликнул лавочник. — Ну что же, садись тогда к столу, потолкуем…
На другой же день весть о неожиданной сделке разнеслась по селу. Посыпались вопросы:
— Где денег взял?
— Лохмотья, что ли, продал?
Маленький, вконец забитый нуждой мужичонка Авдей Калугин выкрикивал:
— Ишь, жук навозный. В дерьме рыл носом, да питался, видать, не одним просом..
— Самогонщик! — поддержала его солдатка Марья Безрукова. — Другого засадили давно бы, а у него вдруг дружба с Зеркаловым объявилась.
Зажиточные мужики Игнат Исаев, Кузьма Разинкин, Демьян Сухов и другие с завистью толковали меж собой.
— Вот тебе и Петрушка Бородин!.. Шагнул!
— Нечистое дело тут, однако…
— А хоть бы какое!.. Деньги, они не пахнут…
Бородин не обращал внимания на пересуды, отвечал всем с усмешечкой:
— Жизнь-то такая, якорь ее, если, конечно, так сказать…
Алексей Лопатин, поняв теперь, что все-таки продешевил, сказал Бородину:
— Ты не прикидывайся дурачком, плати еще по красенькой за десятину, а то…
Бородин не растерялся, буравя лавочника маленькими глазками, спросил:
— А то — что?
— Гм… Смел ты стал! Не по себе дуги гнешь. Полюбопытствовать можно, чем ты вдруг разжился, чем баба твоя в бане занимается…
— Поинтересуйся лучше, чем твоя баба занимается, когда тебя дома нет… Понял? — отрезал Петр Бородин.
Лопатин, и без того красный, как самовар, побагровел, но не мог вымолвить ни слова. Смелость Бородина испугала лавочника: не сказал бы так старый хрыч, коль не чувствовал за собой силы.
И в самом деле, завернул через несколько дней в лавку Гордей Зеркалов, во внутренней комнатушке выпил полбутылки смирновской водки и проговорил, как бы между прочим делом, разглядывая золотое колечко на пальце левой руки:
— А к Бородину ты, Алексей Ильич… это самое… зря. Чего он тебе?
— Землишку-то, по всему видать, продешевил я.
— Э, тебе ли жалеть? На одном деле прогадал, на двух выгадал… — И щелкнул ногтем по бутылке. — Тоже ведь… поторговываешь все-таки. — Зеркалов встал. — Ну, прощевай пока. Спасибо за угощение. А насчет Бородина… Земля большая, всем места хватит…
Конечно, не зря Гордей Зеркалов взял под свою защиту Петра Бородина. Всему на свете есть причина. Была причина и этому.
Давненько уже локтинский староста похаживал к Бородиным, попивал самогонку. А недавно Гордей Зеркалов засиделся у Бородина до полночи. Наконец, раскачиваясь, пошел к выходу, долго шарил по двери, ища скобу. И при тусклом свете пятилинейной лампы увидел, как желтовато поблескивает у него на пальце золотое кольцо. Зеркалов опустился на скамейку, стоявшую возле двери, долго рассматривал кольцо, соображая, кто и когда надел его ему на палец.
— Это… что? — спросил он, поднимая кверху палец.
— В знак благодарствия… и уважения, Гордей Кузьмич, — заюлил Петр Бородин, подбегая к Зеркалову. — Тоже ведь, люди мы, так сказать. Торгуем вот… зельем-то. А от вас плохого не видывали, не слыхивали… Это еще материно, заместо обручального было… Единственное богатство в доме… Голодал с семьей, а его хранил… как лериквию. Для хорошего человека — не жалко… Уж возьми, Гордей Кузьмич, не обидь смертно…
Староста еще посидел, засмеялся, встал, погрозил пальцем и ушел…
Едва захлопнулась дверь, Петр Бородин твердо прошелся по комнате, будто и не пил наравне с Зеркаловым. Подошел к печке, где лежал Гришка, проговорил:
— Видал? Из-за тебя отдал. Да кабы все! Это затравка только.
— Зачем из-за меня?
— Зачем!.. Узнаешь скоро зачем…
И Гришка узнал.
Гордей Зеркалов через день опять пришел к Бородиным. Едва староста показался в дверях, Петр угодливо засеменил навстречу, расплылся в улыбке:
— Милости просим, дорогой гостенек…
Но Зеркалов вдруг сурово сдвинул лохматые брови:
— Но, но… Ты, Бородин, без этого… Я те не гостенек, а служебное лицо. Не забывай…
У старика похолодела спина, зашлось сердце… «Значит, обиделся за подарок… Или спрос наведет сейчас, откуда, мол, золотишко… Господи, пронеси…» Он рассмеялся неповинующимися губами, забормотал:
— Так ведь, Гордей Кузьмич… Как сказано: люби ближнего, уважай старшего… Мы — что же? Свое место знаем… От всей души ведь я за доброту твою… разъединственное…
Но Зеркалов грузно уселся на стул, не обращая внимания на болтовню старика, снял шапку, пригладил расчесанные на обе стороны волосы, расстегнул на груди полушубок и проговорил:
— Ты, Бородин, перестал бы молитву читать… Я их от отца Афанасия слышу каждый день… Дал бы лучше чего выпить…
Петр даже захлебнулся от неожиданности. Потом крикнул:
— Арина! Неси-ка нам чего… Гришка! Груздочков солененьких достань… Да получше там, с-под низу выбери… — И к Зеркалову: — Сейчас, сейчас, Гордей Кузьмич…
Когда Гришка открыл дверь, возвращаясь с солеными груздями, Зеркалов уже ставил на стол пустой стакан. Не разжимая рта, поманил пальцем Григория от порога: скорей, мол…
— Да шевелись, дьявол! — прикрикнул на сына Петр. — За смертью тебя посылать только!..
Зеркалов взял из принесенной Григорием чашки гриб и сунул себе в рот. Жевал, ни на кого не глядя, сильно двигая огромными челюстями. Прожевав, вытер мокрые губы, крякнул и проговорил:
— А сын у тебя — ничего… Пожалуй, последние дни гуляет… вот что… Предписание уже есть…
Случайно или не случайно староста заговорил об этом — Петр Бородин не знал. Но он решил, что более удобного случая не будет, и решился.
— Ты пей, Гордей Кузьмич, пей… А это верно, отгулялся Гришуха. Эвон, кто постарше его на год — Веселов, Артюхин, Ракитин — давно служат. Убили, поди, кого уж… не слышно?
— Нет пока… бумаги нету, — зевнул староста.
— Единственный он у меня, вот что, Гордей Кузьмич. Кормилец ведь. Может, льгота ему выйдет, а?
— Какая льгота тебе, — грозно сказал Зеркалов. — Война ведь… Не до льгот…
— Куда я без него, если… Подохну с голоду…
— Ты-то?! — усмехнулся Зеркалов.
Петр Бородин подвинулся поближе:
— Я давно хотел поговорить с тобой, Гордей Кузьмич…. Все бумаги через тебя проходят… Опять же, волостной старшина — твой родной брат…
— Ну? — насторожился Зеркалов. — Брат, допустим…
— Вот и… Гордей Кузьмич, благодетель!.. Э-э… чего там…
Петр торопливо, отрывая пуговицы, расстегнул рубаху на груди, сорвал с шеи что-то и протянул Зеркалову.
— Вот… — воскликнул Бородин и тяжело задышал.
На его вздрагивающей ладони, поблескивая, лежал массивный золотой медальон. Зеркалов тупо смотрел большими глазами на горевший кусок металла в руке Бородина.
— Может, тыщу стоит. Я не знаю, — еле выговорил Бородин.
— Э-эм-м… — промычал Зеркалов. — Ну-ка…
Но едва староста сделал движение, ладонь Бородина тотчас захлопнулась, и рука исчезла со стола так быстро, словно ее и не было там.
— Ты пей, Гордей Кузьмич.
Зеркалов послушно выпил. Закусить забыл, только вытер рот рукавом дубленого полушубка…
— Именно… Золото ведь… А тебе чего? Ты сбавь там, в бумагах, Гришкины годы… Гордей Кузьмич! И через посредство брата как-нибудь…
Зеркалов откинулся на стуле, обвел сузившимися глазами комнату, долго осматривал зачем-то сидевшего у дверей Григория с головы до ног. Повернулся и сказал хрипло:
— Лей…
Но стакан был полон.
— Али еще что придумай… Покажи в бумагах — помер, мол… А то ногу, мол, сломал. Локти — глушь, медвежий угол… Кто проверять вздумает? Век бога за тебя молить буду, — быстро шептал Бородин.
— Годы-то в церковных книгах записаны, — проговорил Зеркалов.
— Да они ж вместе с храмом божьим сгорели. А коли сохранилось что невзначай, я с батюшкой Афанасием как-нибудь… Не твоя забота…
С Бородина градом катился пот. Сидели они оба красные, разопревшие, будто только из бани.
— А говорил на днях — единственное богатство в доме, — хрипло начал было Зеркалов, поднимая руку с золотым кольцом на пальце, но тут же понял, что не к месту об этом, уронил кулак на колени и попытался улыбнуться. — А ты — гусь, Бородин. Люди и не подумают, что у тебя… это самое… водится…
— Зачем им думать-то, Гордей Кузьмич! Знаем ты да я… Нам ведь жить… И надо как-то половчей…. Так как же, Гордей Кузьмич?.. — шептал Бородин, перегнувшись к старосте через весь стол, залитый вонючим самогоном, купал в нем широкие смятые рукава ситцевой рубахи и редкую бороденку.
Зеркалов молчал, сидел, покачиваясь, на стуле. А старик ерзал на своей табуретке, вздрагивал.
— Ты, Бородин, понимаешь, что я… это самое… как служебное лицо, могу тебя… — начал наконец Зеркалов, приподнимая голову.
Но старик не дал ему договорить, трясущимися руками стал совать в широкую ладонь Зеркалова плоский тяжелый медальон.
— Господь с тобой, Гордей Кузьмич! Возьми и… с богом… Я — что? Понятия, конечно, не имею большого… А только хотел… И тебе ведь жить надо…
И сразу замолчал Бородин, когда почувствовал, что пальцы Зеркалова дрогнули и крепко зажали его подарок…
После ухода Зеркалова Петр молча бросил на лавку тулуп, подушку и лег, отвернувшись лицом к стене.
Арина гремела посудой, убирая со стола. Вздохнув, она проговорила:
— Господи… Пропадем мы… Выдаст он тебя, староста-то…
Петр Бородин тотчас перевернулся на лавке, сбросил ноги на пол.
— Чего каркаешь? Ну!
— Не ори, душегуб… Вот спросят у тебя — где взял…
— Спросили бы уже, кабы… Зеркалов не дурак, чтоб… спрашивать. Какая ему корысть?
Гришка свесил голову с печки, посмотрел на отца, потом на мать и снова лег.
— И нам корысти-то с фигу. Вон сколько ему опять отвалил… — проговорил он, натягивая на себя старый зипун.
— Ты — указывай мне! — прикрикнул отец. — Забрался на печь, да голову еще под зипун. А ну, как туда, где Андрюшка Веселов… А теперь, может, так и пролежишь…
— Обманет он тебя, вот что, — буркнул Гришка.
— Не должно… Совесть он имеет али нет? Я ему еще серьги в карман сунул незаметно. Дома найдет, подумает кой-что… Сказано ведь: данное людям тебе же отдастся… Спи давай…
Надеялся Петр Бородин, обдумывая свои планы на жизнь, что жадный до денег Гордей Зеркалов не только поможет избавиться Григорию от призыва в армию. Будет староста ему самому какой-то защитой от людской молвы, любопытства и зависти, которая неминуемо поползет по Локтям, едва он начнет разворачиваться… И не ошибся.
Дома Зеркалов долго разглядывал золотой медальон и серьги, которые обнаружил в кармане. Ему казалось, что он видел эти серьги раньше, но где — припомнить не мог.
Ночью, ворочаясь в постели, староста вдруг приподнялся на кровати: «Стой!.. А не цыганские ли… Вот тебе и Бородин!..»
Зеркалов соскочил с кровати, достал спрятанные уже в сундук серьги и, низко согнувшись, стал рассматривать их, перекатывая, как горячие угли, с ладони на ладонь. «Нет, вроде не те… — перевел дух староста. — В ухе коновала всегда болталась какая-то большая круглая серьга, наверное, фальшивого золота, а эти маленькие, тяжелые, с камнями… А все-таки… Не потому ли исчез цыганишка-то?.. Если поднять шум да рассказать брату, в два счета можно вывести Бородина на чистую воду, узнать все точно…»
Но через минуту думал уже другое: «А хоть бы и цыганские — какая мне выгода, если подниму шум?.. А так, может, еще что перепадет от Бородина. Ну, погоди, зажму я тебя, старый хрыч… А насчет Гришки… Может, и вправду поговорить?..»
И староста спокойно уснул.
2
Зима тянулась и тянулась, и Гришке казалось, что это одна из самых долгих зим, которые когда-либо бывали. Почти каждый день дули ветры. Перед избой Бородиных, ютившейся у самого леса, снег выдувало и уносило. Съежившись от холода, избенка стояла на виду у всех, будто раздетая. И это вызывало у Гришки смутное беспокойство.
— Ничего, сынок… К той зиме новый домишко поставим где-нибудь в затишке… — сказал отец, будто угадав мысли сына. — А то здесь… уюту нет, как в трубе воет и на виду все. Каждый глаза в окна пялит…
Григорий ничего не ответив. С тех пор как отец чуть не зарубил его найденным в лесу окровавленным топором, он больше молчал. Нахмурив узкий лоб, постоянно думал о чем-то. Случалось, подолгу наблюдал за отцом, но, едва тот оборачивался, отводил глаза в сторону. И никогда не заводил речи о том, что случилось. Только однажды проговорил:
— Дай-ка, батя, красненькую…
— Но! — удивился Петр. Давно уже сын не просил у него денег. — Ишь ты! А зачем?
— Тебе что? Может, пропью…
— Ах ты молокосос!
Гришка сузил глаза, проговорил спокойно, не разжимая зубов:
— Ну ты, не лайся… теперь-то… Давай, сказал… Твои они, что ль?..
Старик застыл с открытым ртом. Потом покорно полез в карман:
— На… Вижу, зря я Зеркалову… за тебя…
— Ты, батя… дурак, вот кто, — усмехнулся Гришка.
Петр Бородин вздохнул, покачал головой и хрипловато произнес:
— Спасибо, сынок… А только не советую тебе так со мной… — И неожиданно сверкнул желтоватыми глазами. — Понял, сукин сын?! Не советую… А то…
Гришка невольно отскочил: «Он такой… Ему что — отравит. И — поминай как звали…»
— Что ты, батя! — сдавленно проговорил он и протянул обратно деньги. — Возьми назад, я ведь так… спытать хотел… Возьми…
Отец принял деньги, зашептал в самое ухо, щекоча Гришку бородой:
— Так, сынок… Это — так… Надо всегда по-хорошему… Ты да я — и больше никого нет на земле… А мне для тебя ничего не жалко…
Но с этого дня Гришка больше никогда не просил денег у отца.
Не просила теперь мужа и Арина свозить ее в больницу, даже не жаловалась на болезнь, хотя чахотка все больше и больше съедала ее. Она мыла, стирала, готовила, часто и подолгу кашляла, отворачиваясь от мужа и сына. Едва удавалась свободная минута, Арина принималась молиться. Когда молилась, быстро шептала бескровными губами, часто крестилась.
Зато среди ночи Григорий несколько раз слышал, как мать что-то кричала во сне о цыгане, об отце, о нем — Гришке.
Петр Бородин тоже слышал, потому что каждый раз вставал и тряс жену за плечо:
— Что мелешь, что мелешь ты!.. Очнись, якорь тя… Ведь этак, чего доброго… если бы слышал кто…
Однажды разбуженная Арина крикнула прямо в лицо мужу:
— Не вытерплю я, пойду к людям и… облегчу душу — расскажу все…
Петр закрыл ей рот ладонью, растерянно посмотрел на Гришку. Тот притворился, что спит. В тишине потрескивала керосиновая лампа, которую не тушили теперь всю ночь…
Так и прошла зима.
Весной Петр Бородин вгрызся в землю, как изголодавшийся пес в краденую кость.
Отдельные участки купленной земли действительно были немного залесенными. Кончив пахоту и сев, Бородины втроем принялись корчевать деревья. Дневали и ночевали в поле. Сосны подкапывали, валили их, возили в деревню и складывали штабелем. Те, которые поменьше, таскали на себе, чтоб не платить лишние деньги за перевоз.
— Свой лесок, слава те господи, — говорил Петр. — Немножко еще прикупим — и, бог даст, новый домишко поставим.
— Тяжко их таскать мне, внутри саднит, — сказала как-то жена. — Нанял бы уж, чтоб заодно все на лошадях вывезли.
— Нанять и дурак может… Тому деньги не жалко.
— Чего их жалеть… такие-то?
Петр вроде не рассердился, не закричал, сказал тихо, успокаивающе:
— Бог зачтет на том свете, матушка. А деньга хозяина не любит и без того норовит в чужие руки. Ты потерпи уж, подходит наше время… Бери-ка тот конец, потоньше.
И, видя, что жена не решается подойти к бревну, ощерил черные изъеденные зубы:
— Бери, сказал!.. Ну?!.
На пути Арина оступилась и упала. Бревно тяжело ударило ее по спине. Когда Петр подошел, перевернул жену кверху лицом, она не издала ни звука, только широко открывала рот, хватая воздух, да смотрела на мужа страшными глазами. Правая рука ее была сломана и висела как плеть.
Арина медленно закрыла глаза и потеряла сознание.
Очнулась она уже ночью, застонала, попросила пить и обратилась к сыну, а не к мужу:
— Гришенька, сынок… в больницу бы, а? А то помру…
— Батя… а? — тихо и неуверенно проговорил Григорий.
— Ее в больницу, а нас с тобой в тюрьму! Слыхал, чего она в горячке мелет?..
Утром Петр Бородин, собираясь в поле, окликнул Гришку:
— Ну а ты чего расселся? Праздник, что ль? Бери вон топор, веревки.
— Так ведь… мать…
— Ну, что мать? Сидеть теперь около нее? Положь рядышком на табуретку хлеба, картошки… водицы поставь. К обеду вернемся, коли уж так. Время не ждет… — И зашептал: — Не жилица она, сынок. Ей больница без надобности теперь,.. Не жилица… Пошли, пошли.
В обед отец спокойно уселся под деревом, кинув на сырую землю мелких сосновых веток, развязал на коленях узелок с едой.
Гришка растерянно топтался рядом, бросая взгляды на деревню. Но постепенно спокойствие отца, неторопливо, аккуратно раскладывавшего на старенькой застиранной тряпке хлеб, сморщенные соленые огурцы, желтоватое застаревшее свиное сало, — это страшное спокойствие передалось и ему. «Однако он правильно рассудил, батя-то…» — подумал Гришка.
Когда они вечером вернулись домой, Арина была мертва.
3
Где-то шла война, а здесь, в Локтях, текла жизнь по-прежнему сонная, тихая. Повоет разве только баба, получившая похоронную, пошумит иногда Алакуль, посвистит тоскливо в трубе ветер. Но на все это не обращали внимания.
Староста Гордей Зеркалов и лавочник Алексей Лопатин получали газеты, в которых расписывались победы русских войск на фронте, высокий боевой дух солдат, сражавшихся «за веру, царя и отечество». Эти газеты Зеркалов и Лопатин охотно давали читать желающим. Но таких находилось мало — редко кто умел читать.
Однако со временем, неведомо какими путями, все больше и больше доходило до Локтей известий с фронта. То полз из дома в дом, леденя души женщин-солдаток, слух, что немцы в пух и прах разбили русскую армию, заняли чуть ли не пол-России, всех пленных солдат угоняют в Германию на работу в рудники. То говорили, что война чуть ли не кончилась, потому что русские и немецкие солдаты не захотели воевать, побросали винтовки и вечерами ходят друг к другу пить чай и самовольно уезжают с фронта домой.
— Господи, да хоть бы!.. — вздыхали локтинские бабы и крестили плоские груди. — Наши-то мужики чего глядят? Взяли бы да приехали домой…
— Но, но, приехали! — раздавался предостерегающий голос какого-нибудь зажиточного мужика. — Это дезертирством называется. А таких-то сейчас ловят по деревням…
Это, очевидно, было правдой, потому что однажды глубокой ночью к Марье Безруковой ввалились староста Зеркалов, его брат, волостной старшина, такой же кряжистый и угловатый, как и Гордей, мужик, двое военных. Насмерть перепуганная Марья Безрукова стояла перед ними полураздетая и ничего не могла сказать.
— Накинь хоть на плечи, бесстыжая, — сказал ей Гордей, сдернув с гвоздя полушубок.
Брат Гордея и военные внимательно осмотрели избенку, заглянули под кровать, слазили даже в подпол.
— Да что это, господи?! — выдавила наконец из себя Марья.
— Муж-то пишет? — вместо ответа спросил брат Гордея Зеркалова, оглядывая Безрукову цепкими глазами.
— Пишет… редко только…
— У нас в деревне, господа, дезертирующих нет… — сказал староста Гордей, обращаясь к военным. — Если появятся, я и сам… А неожиданная проверка… да, нужна… Слежу строго, с усердием… А все ж таки можно и не углядеть… Потому благодарствую за помощь…
Гордей говорил, заметно волнуясь, противно изгибаясь перед людьми с погонами, беспрерывно оглядываясь на брата, как бы ища поддержки.
Один из военных, тощий и желтый, как высохшая селедка, все время морщился от слов Гордея, дергал рыхлой щекой, потом сказал раздраженно:
— Да не мешайте же, прошу вас… Благодаря вашему «усердию» ссыльный Семенов сбежал…
— Виноват, недосмотрел… Но ведь тих, покорен был, исполнителен… Кто бы мог подумать!.. О побеге я в тот же день доложил. И о дезертирах, если такие появятся… будьте покойны…
Военный прижал ладонь к щеке, словно у него заболели зубы, и отошел от Гордея.
Утром деревня гудела. Оказывается, не у одной Марьи Безруковой побывали ночные гости.
Понемногу волнение, вызванное ночным обыском, улеглось. И снова над Локтями установилась тишина.
* * *
Похоронив жену, Петр Бородин ходил по земле прямо и молодо, будто сбросил с плеч гнувший к земле груз.
— Так-то, сынок… Теперь возьмем свое… — сказал он Гришке, возвращаясь с кладбища.
И начал брать…
На несколько дней старик уехал из Локтей. Вернулся в новых запыленных сапогах из толстой юфти, в добротной суконной паре. Пиджак висел на нем, как на колу, и тоже пропылился насквозь. В новую, купленную где-то бричку-пароконку были запряжены два свирепых, точно звери, жеребца. Третья лошадь шла позади, мотая головой, пытаясь оборвать ременный повод.
Когда ехал по деревне, провожали Бородина завистливые, изумленные взгляды, тихо переговаривались меж собой бабы и старики:
— Смотри-ка! Землю купил, а теперь вот… Неужели с самогона разжился?
— Теперь гадай с чего…
— Гордей Зеркалов, поди, знает! — ввернула Марья Безрукова и, не стесняясь, по-мужицки выругалась.
— Чего лаешься? — заметил ей Демьян Сухов, поплевывая подсолнечной шелухой под ноги женщин. — Может, еще поклониться придется Бородину, как подопрет нужда.
— Вот, вот… Уж и защитники у него объявились!.. Все вы сволочи, — сказала женщина и снова выругалась. — Пес пса не тронет, только обнюхает да порычит… А поклониться — кому я не кланялась? Нужда заставит и ноги ему целовать. Жрать-то надо…
Однако никто, кроме Алексея Лопатина, не осмелился подойти к Петру, выпрягавшему лошадей возле своей избушки.
— Где таких купил? — спросил Лопатин, кивая на лошадей.
— Где купил, там уж нету их…
— Н-да… Ничего коняшки… Кровь играет… Только где держать будешь? Твоя изба и под конюшню не годится…
— Ничего, твоя подойдет. Куплю… для коней. А для себя дом построю.
— Ну, ты! — воскликнул Лопатин. — А говорил — на землю еле наскреб, до смерти долги платить будешь. Хитер!..
— Какая хитрость? Покойница Арина — она хитрее была… и умнее… Кубышку завела и утаить сумела до самой смерти…
— Ври поскладнее, — попросил Лопатин.
— Я тебе не поп Афанасий… Не веришь, так нечего со словами лезть, — отрезал Бородин, но тут же смягчился, спросил: — Что ты все на меня, Лексей Ильич? Теперь времена какие!.. Человек за человека держаться должен, а ты… Зайди лучше, обтолкуем кой-что…
— О чем это мне толковать с тобой? Земли продажной нет у меня больше.
— Ну… все-таки… Может, и найдем о чем…
Лопатин просидел у Бородина допоздна. Когда уходил домой, Гришка, все еще крутившийся возле лошадей, услышал его разговор с отцом.
— Ты, Петр, мужик с таланом, верно… Но уж шибко злющий… — говорил Лопатин тихо, поучающе. — Ну, собаку по злости ценят, а человек должен быть всегда с приветливостью… Так-то лучше, способней… А то наживешь недругов… А зачем они тебе? К человеку если с приветом, так он вспомнит обиду, вздохнет, да не выскажет людям…
— Благодарю, Лексей Ильич, на добром слове… Истинно: к людям с улыбкой, и они с добром. Как вот мы с тобой… — заискивающе бормотал отец. Гришка даже поморщился, подумал: «Сапоги еще оближи ему, как Зеркалову…»
— Земли тебе я еще уступлю, коли потребуется, — продолжал Лопатин. — И лесу на домишко продам. А вот насчет лавки — зря твои планы. Я добрый совет говорю… Ты пойми: зачем две лавки в Локтях, когда у меня одного покупателей нет? Ну, откроешь лавку, потратишься… А выгоды ни тебе, ни мне… Убыток — и все. Понял? Да и чем сейчас торговать? Товару нет.
— Как не понять… Верно, пожалуй, — согласился отец.
Оставшись вдвоем с Григорием, отец кивнул в сторону, куда ушел Лопатин:
— Видал, сынок? Лавку-де не открывай… Хитер бобер! Ан ничего! Как-нибудь прижмем тебя… Дай только срок.
— Планы у тебя, батя…
— Подходящие, сынок, планы. Развернемся…
* * *
… Быстро, как бурьяк после дождя, начал подниматься, набирать силу Петр Бородин. Чувствуя, что Зеркалов да и Лопатин стали вроде бы как своими людьми, он уже не боялся людского любопытства, повел себя так, будто сроду водились у него деньжата. К осени на берегу озера отстроил просторный двухэтажный сосновый дом на каменном фундаменте. Вверху стал жить сам с сыном, а внизу подумывал все-таки открыть со временем лавку.
Рядом с домом старики плотники, нанятые Бородиным, достраивали завозню. А еще немного погодя эти же старики вместе с молодыми солдатками стали возить сюда тяжелые мешки с пшеницей первого урожая на купленной у Лопатина земле. Петр Бородин в эти страдные дни, кажется, не ел и не спал, бешено мотался от тока, где лошадьми молотили пшеницу, до завозни. Зорко следил, чтобы ни одна горсть зерна не просыпалась, не попала в карман работников.
— Видел, сынок?.. Собственный хлебушек-то! И себе и продать хватит, — говорил старик Григорию, погружая обе руки до локтей в зерно, засыпанное в сусеки. И голос его дрожал от жадности, от радости…
«Оборотистым оказался Петр Бородин, сумел вывернуться из нужды, взял верх над жизнью», — так говорили теперь про него в Локтях.
А Петр, помня, очевидно, совет Лопатина, сделался вдруг ласков да угодлив с любым. Приходили просить денег взаймы — он тотчас доставал кошелек. И, отказываясь от благодарности, говорил:
— Что ты, что ты!.. Свои люди, как же… Отдашь, когда будут, а то поработай денька два-три у меня. Сено вон надо мне вывезти…
А некоторым отвечал так:
— Отдавать не вздумай, обижусь… Вон свиньюшка у тебя… Забьешь по морозцу, с полпудика сальца принесешь лучше… И в расчете. А копейку — где тебе взять копейку-то?
Давал Петр Бородин взаймы и хлеба, если просили.
Чаще всего за помощью обращались солдатки. Однажды пришла к Бородиным Анна Туманова, невысокая крутоплечая женщина со спокойными бесцветными глазами. Остановилась в дверях, переступая с ноги на ногу.
— Собаки у вас… чуть не порвали, — несмело начала она, пряча красные от мороза руки в карманы пальтишка.
— Чего тебе? — хмуро спросил Григорий.
— К батюшке твоему. Может, думала, даст мучки… немного.
— Как не дать, как не дать, коль нуждается человек, — проговорил старик, выходя из соседней комнаты. — Ты проходи, Анна…
— Наслежу…
— То верно, полы-то у нас мыть некому. Старушонку взяли вон одну — Дарыо-бездомную — варит, кормит нас. А полы не может мыть…
— Я говорил тебе — выгони, другую возьмем, помоложе, — подал голос Гришка.
— Выгони… Человек — не собака. Жалко ее. Куда ей идти, если…
— Я могу прийти когда помыть полы и постирать. Мне что — не тяжело… — проговорила Анна. — Только не откажите мучки… С пудик хоть… Мать ведь у меня… его, мужа, мать… помирает.
Петр Бородин кивал головой, думая о чем-то.
— Как не дать, дадим, — опять повторил он. — Мужик пишет?
Анна кивнула головой.
— Пишет. Семенова Федьку, ссыльного этого, который от нас сбежал, встретил, говорит, недавно…
Григорий поднял голову, усмехнулся, не разжимая губ, и проговорил:
— Не будет бегать. Поймали — да в солдаты забрили. Ясное дело.
— А еще что пишет? — спросил Петр.
— Да всякое. Я уж не помню всего. Вроде Андрея Веселова ранило…
— Ранило? — быстро переспросил Гришка.
— Ага. В ногу, пишет… Увезли его куда-то, Веселова. А мой Павел ничего, живой пока…
— Это когда он тебе писал?
— Да вот сегодня письмо пришло.
Гришка больше ничего не спросил, отвернулся от Анны, засунул руки глубоко в карманы черных суконных штанов, стал смотреть вниз, во двор, где Авдей Калугин, Марья Безрукова и еще три солдатки, тоже попросившие когда-то взаймы денег, сметывали привезенное сено.
И Анна Туманова каждый день стала ходить к Бородиным. Сначала мыла только полы и стирала белье… Потом старый Бородин попросил ее подоить коров, почистить в хлеву… Каждый день чуть свет она бежала к дому Бородиных, работала дотемна за тот пуд ржаной муки, да объедки, да ласковые, утешающие, сочувствующие слова старого хозяина.
Когда установилась дорога по озеру, несколько стариков, нанятых Бородиным, нагрузили целый обоз пшеницей, собираясь везти ее в город.
— Сам я поеду с ними, а ты хозяйствуй тут… — сказал на прощание отец Григорию. — Тебе бы ехать-то… Надо ведь привыкнуть к делу, да боязно тебя пускать, продешевишь. Съезжу сам сперва, посмотрю, что и как.
После отъезда отца Гришка растерялся: шутка ли, такое хозяйство на руках осталось: одна лошадь (остальные ушли в город), коровы, овцы…
Как-то он забыл дать скотине на ночь корма, и утром во дворе стоял рев. Григорий сорвался с постели, воскликнул:
— Черт! Где же Анна? Дрыхнет до обеда…
И в ту же минуту Анна, завязывая на ходу платок, торопливо вбежала во двор Бородиных, схватилась за вилы, стала таскать в сарай сено. Рев голодной скотины сразу же умолк. Григорий сошел вниз и, хмурясь, проговорил:
— Дрыхла бы до обеда…
— Так ведь, Григорий Петрович… Старуха у меня больная… Пока провозишься с ней, накормишь чем-нито, напоишь… Господи, помирала бы уж скорей…
В первый раз Гришку назвали по имени-отчеству. И он не слушал уже, что дальше говорила Анна Туманова, а думал: «Григорий Петрович… ага, Григорий Петрович…» — и испытывал неведомое ему доселе радостное чувство.
Чтобы отблагодарить за него Анну, он сказал ей мягко:
— Ладно, ладно, Анна… Только утрами пораньше приходи. А сейчас, как уберешь скотину, зайди в дом. Я муки тебе маленько, сала дам…
И то, что он может сам дать теперь кому-то муки и сала, было приятно Гришке.
Через несколько дней в дом Бородиных зашел старик Алабугин с малорослым сыном Степаном. Опираясь одной рукой на костыль, другой долго крестился.
— Здорово ночевали вам. Батька-то не приехал?
— Нет еще, — проговорил Гришка, не отвечая на приветствие. — Чего вам?..
— Так вот… Хотел попросить батьку, не возьмет ли Степку моего в работники. Ну, раз нету хозяина дома — пойдем, Степашка!..
— А я кто? — крикнул Гришка, но тут же понял, что получилось это у него неумело. Чтоб скрыть свое замешательство, прибавил: — Только куда ему в работники! Жидковат пока, вилы, поди, не поднимет.
— А ты не смотри, что… не смотри, что… Ему семнадцать годов скоро… Мы, Алабугины, сызмальства к работе привычны. Ладно, зайдем, когда батька приедет…
Григорию захотелось доказать все-таки этому старичишке, что он тоже хозяин. Обойдя вокруг Степана, сказал:
— Ладно, беру.
— Чего? — не понял старик.
— Беру, говорю, в конюхи твоего сына.
— Ну и с богом, раз так, ну и с богом, — обрадованно закивал старик Алабугин. — А все ж таки… Насчет платы мы с отцом потолкуем, когда приедет… Все ж таки надежнее…
Гришка вспыхнул, хотел сам назначить плату. Но потом подумал: «А черт его знает, сколь платить… Да и как еще батя посмотрит на такого работника. Ладно, подожду его…»
— Ну что же, оставайся, Степашка, служи… — сказал старик Алабугин сыну, опять перекрестился и вышел.
Вернулся Петр Бородин через полмесяца, привез два новых плуга, веялку. Одна подвода была до половины нагружена мешками с галантерейным товаром, остальные пришли пустыми.
— Здравствуй, сынок! — бодро проговорил Петр, по-молодому спрыгивая с воза. — Встречай купцов. Как живешь?
— Живу. Конюха вот нанял.
— Конюха? Молодцом. И я, брат, не зря съездил… Ну, присмотри, чтоб сгружали аккуратно. А я побегу в тепло, продрог.
Вечером, сидя за пузатым, отфыркивающимся самоваром, Петр говорил Григорию:
— Нам, сынок, Лопатин не указ бы насчет лавки… Только правильно он, дьявол, насчет товару говорил — нету галантереи в городе. Из-под полы торгуют ей, сволочи, дерут втридорога. Я туды-сюды, хотел оптом закупить — где там! Вот и явился почти пустой. Придется, видно, с лавкой погодить… А пшеничку хорошо продал. На хлебушке, брат, сейчас озолотиться можно. И решил я: на следующий год еще землицы прикупим. Эвон, видел, плуги привез да веялку? Ну и… пока ладно, хватит, на большее нам не подняться пока… А там посмотрим… А?
— Угу, — буркнул Гришка, дуя на блюдце с чаем.
— Что «угу»? Не «угу», а покажем мы еще! Конюха вот ты взял — это правильно. Малолетний, правда, он, ну да ладно. Меньше платить будем. Урожаишко бы вот только на будущий год вышел, как нынче…
И отец заходил по комнате, размахивая руками.
— Тут ведь, в Локтях, можно как развернуться? Озеро — вот оно, под окном. Лопатин словно не видит его… Хотя что, Лопатин — дурак. А из озера можно деньги почти руками гресть… Рыбешки в нем — не выловить… Полдюжины лодок, десятка два сетей да коптильню маломальскую… Город хоть и далеко, но доехать можно… А там рыбка копченая — я посмотрел — в цене… Играет, брат, рыбка то… Одно вот только горе: стар я, помру ведь скоро. Пожить бы еще годков двадцать…
Долго еще Петр Бородин шагал из угла в угол, развивая планы на дальнейшее… А между тем истекал 1916 год.
4
Жизнь отца кончалась, а Гришкина только-только начиналась. Григорий понял это в тот вечер, когда отец ходил из угла в угол и говорил о лодках, о сетях, о рыбе. Григорий невольно прикрыл глаза, и представилась ему почему-то лесная лужайка, где сидят и обедают возле сваленной сосны Андрей Веселов, Федот Артюхин и другие мужики. Вокруг стоят могучие деревья, а сквозь них просвечивает синеватый, бескрайний простор, стелется под высоким небом ровная, как озеро в тихую погоду, земля. И ему, Григорию, идти и идти по этой земле, идти как хозяину…
Григорий даже почувствовал: разливается у него по животу легкий приятный холодок, как у человека, застигнутого врасплох неожиданной великой радостью, и засмеялся тихо.
— Ты, Гришка, чего? — удивленно спросил отец, останавливаясь.
— Да так… В общем, правильно ты, батя, говоришь…
И Григорий будто сразу повзрослел.
На другой же день, рано утром, он обошел все хозяйство. Смотрел прищуренными глазами на дом, на завозню, на двух черных свирепых псов, бегавших по двору. В только что отстроенной конюшне, в которой сосновый запах перебивал еще запах конского пота, сказал Степке Алабугину:
— Ты, немытая рожа… Смотри у меня за конями получше…
Сказал потому, что хотелось сказать что-то властное, хозяйское.
За завтраком Григорий говорил отцу:
— Анна чего прохлаждается? Уж день, а ее нет… зря хлеб жрет…
Петр быстро вскинул глаза на сына, но ничего не сказал.
Вылезая из-за стола, Григорий, не глядя на отца, промолвил:
— Я сейчас в завозне был. Овса маленько осталось… Попридержать бы его, ведь пахать весной…
— Так, сынок, так… — с удовлетворением произнес отец.
— Что — так? — не понял Григорий.
— По-хозяйски, говорю, рассуждаешь… Вот ты и… распорядись. Привыкай, сынок. Твое ведь все…
— А бабку-стряпуху, как ее? Зря ее все-таки держим, — сказал Григорий. — Анна перешла бы к нам совсем… Молодая, чего ей… Управилась бы одна…
— Можно и так… Только платить Анне надо будет… Ты подумай-ка, сынок. — Помолчал и добавил: — А старуха — что? Много ли съест она? А все-таки… копошится, кормит вовремя нас. Не украдет ничего — куда ей, одна на земле! Пусть уж…
— Ну ладно, пусть, — нехотя произнес Григорий, чувствуя, что отец прав. — А что лавку не думаешь открывать — зря.
— Это как? — не понял отец.
— Война что — вечно будет? Кончится она — и товаров станет сколь тебе надо.
— Ну?
— Вот тебе и «ну»! Товары будут, а об лавке у нас — одни разговоры. Строить ее загодя надо, пока есть на что.
— Внизу дома тогда и откроем.
Григорий поморщился, как бы дивясь непонятливости отца:
— Сюда, на край деревни, кто придет? В середке надо где-нибудь строить. А пока хлеб в нее сыпать. Завозня-то мала.
— А ить верно, ешь тебя волк! Скумекал. А мне, старому дураку, подумать бы сразу… А теперь — новый расход на постройку лавки. Вот ведь, а? — стонал старик до самого вечера.
С этого дня Петр Бородин делал вид, что фактическим хозяином в доме является Гришка. Между ним и отцом установилось полное согласие. Петр Бородин даже заметил как-то, в минуту откровения:
— Вишь, Гришенька, как все у нас с тобой — по-ладному, по-родски… А ведь был ты как волчонок, — по шерсти, бывало, не гладь!.. И с язвецой…
— Ну, вспомнил… — поморщился Григорий.
— А что? Ведь зарубил бы тебя тогда в сердцах я… Вот и думай. Я хоть и отец, да человек… А человек — зверь. Зачем сердить его да наперекор открыто лезть? Надо всегда так… по согласию, по выгоде… Да-а!
В другой раз Петр Бородин заговорил, пряча от сына глаза:
— А что этот… Старик одноногий, новый коновал… Не видно его что-то с тех пор, как мы в новый дом перешли. Разлюбил сивуху он, что ли…
Григорий тоже почувствовал неловкость от речей отца, зябко, испуганно поежился, ответил глухим голосом:
— Брось ты, батя, это… Раз сошло, так…
— Дурак ты, — беззлобно сказал отец. — Старичонка гол как сокол. Я к тому, что… Выпил с человеком — он тебе уж кум и брат… В черный день может и пригодиться.
После долгого молчания Петр Бородин добавил:
— Коль увидишь его, спроси, что не заезжает…
Григорий промолчал.
5
Хорошо, удобно, уютно чувствовал теперь себя на земле Григорий Бородин. Ходил по деревне не торопясь, вразвалку, спрятав руки в карманы тужурки. Но замечал: если идет кто ему навстречу, обязательно постарается свернуть в проулок, будто дорога до того узка, что нельзя разминуться. Понимал Григорий, что не любят его односельчане. Хмурил узенькую полоску лба и думал с угрюмой злостью: «А ты говоришь, батя: к людям с лаской — и живи без опаски… Как же! Зазевайся только — в землю втопчут».
Никогда у Григория не было друзей. А сейчас сошелся он с сыном Гордея Зеркалова — Терехой, бледнолицым, остроносым парнем с черными густыми волосами, с вечно обсыпанными перхотью плечами. Выпив самогонки, Тереха лез целоваться, радостно выкрикивал:
— Гришка, черт!.. Мы с тобой друзьяки, как хошь!.. Мы с тобой… Вот что, Гришка, — вдруг переходил на шепот молодой Зеркалов. — Дочка попа Афанасия — Мавруха — какова?! Как арбуз налитая: помни ее — так же треснет…
— Да знаю, сто раз говорил ты о ней, — с досадой отвечал Григорий, сбрасывая руки Зеркалова со своего плеча. Тереха не обижался, только тряс гривастой головой и выталкивал из себя слова по одному:
— Ну, как хошь, как хошь… Только… она, Мавруха, боится меня одного. А вдвоем бы вызвали погулять ее, ну и… Поп — чего он сделает нам? У моего бати все — вот где… У нас ведь не только в волости сила, где дядя сидит, а и в городе…
Тереха долго вертел перед носом Григория кулаком. Потом подносил к своему, рассматривал со всех сторон и говорил:
— А то еще Дуняха… Эх, полторы жизни отдать можно.
— Ну-ка, ты… Заткнись, — тотчас обрывал его Григорий.
Тереха Зеркалов поджимал узкие губы и качал головой:
— А зря ты… Для кого берегешь ее? Для Андрюшки… Бабье сказывает — лечится где-то Веселов, скоро приедет… И спасибо тебе скажет — сберег…
— Болтун ты… иди спи, — говорил Григорий, вставая из-за стола.
После таких разговоров с Терехой Зеркаловым Григорий делался мрачным, ходил по комнатам, по двору злой как черт, кричал на Анну Туманову, прибиравшую в комнатах, на Степку-конюха…
Дуняшка жила в его мыслях постоянно, хотя с того дня, когда Андрей Веселов выбросил его из сенок, он больше с ней и не виделся, если не считать двух-трех случайных встреч на улице. Но Дуняшка быстро проходила мимо, опустив голову, даже не отвечая на его приветствия.
«Ну, погоди, погоди, — думал Григорий, провожая ее взглядом. — Мы вот скоро… не так еще покажем себя. Поласковее будешь, сама придешь… А Андрюху, пожалуй, и не увидишь больше…»
Однажды Григорий успел даже крикнуть Дуняшке:
— В любое время, Дуняшка… приходи, как надумаешь… В тот же час хозяйкой станешь… Не пожалеешь…
Но сколько ни «показывали себя» Бородины, сколько ни ждал Григорий Дуняшку, она не приходила Гришка еще надеялся на что-то, пока не пошли слухи, что Андрей скоро приезжает домой.
Вскоре у Дуняшки померла бабушка. В это время Григорий был один дома — отец уехал в город продавать пшеницу.
Узнав о смерти старухи, Григорий послал Анну к Дуняшке помочь обмыть и собрать покойницу. Потом спустился вниз и сказал конюху:
— Поди… сними мерку и гроб сделай. А то… — Григорий усмехнулся. — На что им купить-то?..
Степка, однако, быстро вернулся, заявив:
— Она сказала — ничего не надо ихнего, даже гроба. И… это…
— Что? — стиснул зубы Григорий.
— И Анну, которая от нас… тоже погнала. А она — я, дескать, сама по себе пришла помочь, помимо хозяина.
Григорий повернулся к работнику спиной, стоял, покачиваясь, не вынимая рук из карманов.
— Вот, значит, — потоптался Степка, не зная, можно ли ему идти.
— Пошел, — тихо, сквозь зубы, процедил Григории не оборачиваясь.
Примерно через неделю после похорон Григорий все-таки не вытерпел, пошел к Дуняшке. Было утро морозное, розовое, снежок звонко похрустывал под сапогами, желтогрудые жуланы суетились в кустах палисадников, обклевывая мерзлые почки. «Батя не застрял бы в городе. Того и гляди оттепель ударит…» — подумал Григорий.
Солнце, еще по-зимнему бледноватое, большое, стояло уже высоко над землей, обливая ее мягким прозрачным холодноватым светом. И земля, притихшая, покрытая крепким, утрамбованным снегом, отдыхала, чтобы потом в несколько дней сбросить его, зазеленеть всходами, зашуметь деревьями, расцвести пышным разнотравьем, пахнущим медом и знойным солнцем.
… Когда он постучал в тонкую дверь сенок, Дуняшка, не открывая, спросила:
— Зачем ты?
— Открой, чего боишься, — тихо попросил Григорий.
Дуняшка несколько секунд помедлила, как бы соображая, что ей делать.
— Погоди, выйду сейчас. — И через минуту действительно вышла, завязывая на ходу платок. — Что надо? — Она стала на низком порожке спиной к двери, смотрела на него прямо и смело, чуть-чуть сузив глаза. Где-то там, в глубине ее глаз, была спрятана не то насмешка, не то едва заметная искорка презрения. Григорий заметил все же эту искорку и опустил голову.
— Значит, так… не хочешь даже в избу пустить?… — спросил Гришка
— И тут хорошо… На виду у людей спокойней.
Григорий втянул голову в поднятый воротник тужурки, оглянулся, поворачиваясь всем туловищем, и спросил:
— Почему человека отослала обратно тогда? Я ведь думал помочь… Гроб бы сделал… Доски у нас свои.
— Гроб? — переспросила Дуняшка. — Гроб?
И что-то страшное почудилось Григорию в ее голосе, в этом слове, дважды произнесенном Дуняшкой.
А она смотрела на него все так же прямо, открыто, и та же искорка проблескивала в ее глазах.
Еще глубже Григорий втянул голову в воротник. И заговорил, боясь поднять глаза:
— Ты знаешь, я к тебе всегда по-хорошему. И сейчас вот… зову — пойдем ко мне… Заживем — на зависть всем…
— Ну?.. Как картинку оденешь? — насмешливо спросила Дуняшка.
— Что ж… и одену.
— И на руках носить будешь?
— Буду, — тихо сказал Григорий, голос его дрожал. — Смейся, ладно… не понимаю, что ли? А… буду… — Неожиданно Григорий подступил к ней вплотную, схватил за руку и зашептал: — Ты пойми только, жизнь у тебя впереди… И у меня! Ты одна осталась — куда податься? Андрея нет. Помер, может, где… А и придет — что тебе за жизнь? Что тебе в нем? Согнет вас нужда обоих.
Но Дуняшка уже сильно отталкивала его обеими руками, отталкивала молча, крепко сжав побледневшие губы.
— Ну, и толкай, ну, ударь меня. Бей!.. Хочешь, на колени стану перед тобой, — быстро говорил Григорий, цепляясь за ее старенькое пальтишко. Громко, с булькающим звуком проглотил слюну и, замолчав, впервые поднял влажные глаза на Дуняшку. Верхняя губа его, на которой пробивались редковатые рыжие волосы, подрагивала. — Я, неприглядный из себя, знаю… Тем пуще беречь тебя буду… И… вот…
Григорий быстро оглянулся — не идет ли кто по улице — и упал на колени, не сводя уже с Дуняшки заискивающих, преданных по-собачьи глаз. Она отскочила как ужаленная и хотела бежать, но остановилась, прижалась спиной к изгороди из березовых тонких жердей и тяжело задышала. Григорий, помедлив, поднялся и опять растерянно осмотрелся вокруг.
— Не подходи! — крикнула наконец Дуняшка, хотя Григорий стоял на прежнем месте. И повторила уже тише, почти шепотом: — Не подходи…
— Я не подхожу… — промолвил жалобно Григорий, пряча голову в воротник.
Так стояли они молча несколько минут. Наконец Дуняшка проговорила:
— Отойди-ка от дверей.
Григорий покорно сделал два-три шага в сторону. Тогда Дуняшка осторожно, не спуская глаз, с Бородина, опасаясь, что он может неожиданно кинуться на нее, стала подвигаться вдоль изгороди к дверям. Потом стремительным рывком бросилась к дому и, чувствуя себя в безопасности, остановилась на пороге, готовая каждое мгновение юркнуть в сенцы и захлопнуть дверь. Но Григорий неподвижно стоял на прежнем месте.
— С любимым-то и нужду легче переносить, — промолвила Дуняшка, поглаживая покрасневшими от холода руками дверную скобку. — А твоего богатства не надо мне… — Помедлив, добавила еще: — Люди и так говорят про вас — с чего это разжились вдруг?
Ипоспешно скрылась в сенцы, стукнула дверью, потому что Бородин стал тяжело и медленно поднимать голову…
А Григорий еще постоял, тупо глядя на то место, где только что была Дуняшка. Медленно повернулся и так же медленно пошел прочь, поняв, что здесь ему больше делать нечего.
Шагая по улице, Григорий ни о чем не думал, в голове было пусто и гулко звенело, как в дырявой, рассохшейся бочке.
Подойдя к дому, он увидел, что у окна стоит нищенка с грязной заскорузлой на морозе сумкой из мешковины через плечо.
— Что тебе тут? — : не думая, спросил Григорий.
— Подайте милостыньку ради Христа, — проговорила нищенка.
И Григорий узнал ее.
— А-а… Аниска. Ты опять забрела к нам…
— Опять… подайте…
Но договорить Аниска не успела. Вдруг Григория захлестнула страшная, ничем не сдерживаемая злоба на эту оборванку, на самого себя, на весь мир.
— Я тебе подам!.. Я тебе сейчас подам! Взять ее! Ату!
Подбежал к крыльцу, спустил с цепи собак и сразу успокоился, обмяк. Присел на ступеньку и стал смотреть, как собаки кинулись на Аниску, как нищенка, отбиваясь, упала на дорогу и из ее сумки вывалились и раскатились камнями мерзлые куски хлеба.
Потом мимо Григория по ступенькам крыльца мелькнули чьи-то ноги. Он увидел, как Анна Туманова, раздетая, с подоткнутым подолом, побежала к нищенке и мокрой половой тряпкой стала разгонять собак.
* * *
После обеда Григорий сидел в кухне и смотрел на Анну. Стоя к нему боком, она стирала белье в большом, почерневшем деревянном корыте, время от времени вытирая фартуком потное, раскрасневшееся лицо. Григорий раньше никогда не обращал внимания на Анну. А сейчас ему бросились в глаза ее крутые полные плечи, туго обтянутые ситцевой кофточкой, оголенные выше локтей руки, большая рыхлая грудь. Он встал, подошел к ней и начал молча ощупывать ее, как хороший хозяин ощупывает лошадь, прежде чем купить.
— Да ты что, Григорий Петрович? — проговорила Туманова, выпрямляясь. С рук ее капали вода и хлопья мыла.
— Ну-ка, иди… в ту комнату, — кивнул головой Григорий. И, не давая ей опомниться, добавил, чуть повысив голос: — Да иди же…
Анна стряхнула над корытом руки.
— Господи, дай хоть руки вымыть.. В мыле ведь…
…А потом Григорий почему-то долго думал о том, что, хоть Анна и вымыла руки, они все равно пахнут мылом.
— Вот ты какая, оказывается… Не знал, — проговорил он наконец, чтобы отогнать неотвязчивую мысль.
— А что же? — отозвалась Анна. — Ведь не покорись тебе — прогнал бы. А жить надо… Может, и отблагодаришь когда…
— Пошла вон! — вдруг с раздражением сказал Григорий.
И Анна покорно вышла, принялась за стирку.
Григорий, сидя на кровати, опять смотрел на Анну в открытую дверь. Смотрел и думал: «Перед этой незачем становиться на колени… Эх, Дуняшка, Дуняшка!..»
Глава третья
1
После того, что случилось у дома Дуняшки, Григорий несколько недель глушил тоску самогоном. Напившись, посылал Степку Алабутина за Анной Тумановой.
— Тьфу! — плевался отец, которого Григорий уже нисколько не стеснялся. — Срамота-то какая! А коли мужичонка ее из солдат вернется? Убьет ведь обоих вас…
— Ты молчи, батя, — рычал на него Григорий. Отворачиваясь, добавлял: — Особенно насчет убийства…
— Что! Ах ты!.. Вырастил тебя!.. — прыгал вокруг сына Бородин, как петух, однако быстро утихал.
Однажды Терентий Зеркалов, встряхивая головой, из которой все сыпалась на плечи перхоть, сказал Григорию:
— А зря ты, Гришка… Надо с Дуняшкой — как с поповой Маврухой…
Дочку попа Мавру Григорий с Терентием все-таки заманили как-то в сосновый бор, заткнули рот и изнасиловали.
И пригрозили, если скажет кому — завяжут в мешок и бросят в озеро.
— Что ты понимаешь? Спрашиваю, что па-ни-ма-ешь!!! — Григорий смотрел на Тереху мутными глазами и усмехался. — Как Мавруху!.. Кабы так все просто…
— Очень даже, — облизнув тонкие губы, опять затряс головой Зеркалов. — Мавруха теперь… Свистну вечером под окном — идет как теленок. И Дуняшка бы так же… А Андрюха Веселов приедет, не посмотрит на нее после… этого.
Григорий схватил Зеркалова за отвороты пиджака своими огромными ручищами и, притянув к себе, закричал в перепуганное лицо:
— Она и так придет!.. Придет! Потому что… Не могу я без нее. Понял?
Зеркалов, пытаясь оторвать его руки от себя, зло проговорил:
— Но, ты!. Пиджак-то новый… Распустил слюни. Да пусти ты, дьявол!
… А через несколько дней, торопясь в лавку Лопатина за солью, Григорий, едва пройдя сотню шагов от дома, почувствовал, будто в ледяную воду свалился: навстречу ему, чуть прихрамывая, шел в солдатской шинели без ремня Андрей Веселов.
— Ты?! — задохнулся Григорий.
— А это — ты? — спросил, в свою очередь, Веселов. — Вон ты какой стал!
Но Григорий не заметил или не хотел замечать насмешки в голосе Андрея. Как ни в чем не бывало промолвил вроде даже радостно, возбужденно:
— Я и не знал, что ты приехал… Когда же?
— Сегодня ночью. Отвоевался вот.
— Ага, — сказал Бородин и быстро пошел дальше.
Вечером Григорий вытолкал из комнаты на кухню Анну Туманову, бросил ей в лицо смятое платьишко, заорал на весь дом:
— Уходи ты, стерва!.. Совсем уходи, чтоб духу твоего не было у нас… Переступишь порог — убью, насмерть исполосую… — В нижнем белье бегал по кухне, тряс плетью.
— Обожди, соберусь вот. Не так же пойду, — тихо, не выказывая ни удивления, ни страха, проговорила Анна. И своим спокойствием, своей покорностью обезоружила Григория.
Он тяжело опустился на табуретку, бросил плеть и попросил:
— Да растолкуй мне — что ты за человек?!
Анна, видимо, не поняла, чего он хочет. Взялась за дверную скобку и толкнула плечом дверь…
* * *
В тот же вечер Андрей Веселов, прихрамывая, расхаживал по Дуняшкиной избушке.
— В общем, досыта я погулял по России, — говорил он. — Думал — не увижу ли ту землю, про которую Федька Семенов рассказывал… Ну да ладно… Как жила-то? Перестань, чего же теперь плакать?
Полчаса назад увидев входящего в избушку Андрея, Дуняшка без крика поднялась со скамейки и окаменела. Только глаза в одно мгновение наполнились радостными, облегчающими сердце слезами. С тех пор они не высыхали.
— Я не плачу, Андрюша… Это от радости. Ну, рассказывай, рассказывай.
— Да что — все равно не перескажешь всего.
— Ну хоть немножко. Самое главное.
Андрей приостановился, ласково глянул на Дуняшку. Потом усмехнулся:
— Кто его знает, что главное, что неглавное… Как забрали нас — месяца три обучали военному делу. Потом вместе с Тихоном Ракитиным приписали к части — и на фронт. Суток двадцать тряслись в телячьих вагонах. На двадцать первые объявили — завтра утром станция выгрузки… Да не дожили многие до завтра.
Дуняшка молча, со страхом смотрела на Андрея.
— Ночью поезд сошел с рельсов. Почти половина вагонов разбилась в щепки, — объяснил он. Помолчал и продолжал: — Очнулся я и не могу понять, где нахожусь. Так же покачивается вагон, так же стучат внизу колеса. Но попробовал подняться — и… в общем, голова у меня была пробита да сломана рука. Еще дешево oiделался. Голова зажила быстро, но рука что-то все гноилась. Возили меня из лазарета в лазарет, из города в город, хотели даже отрезать руку.
Дуняшка побледнела, а Веселов поспешно сказал:
— Ну, нет… лучше уж подохну, думаю, а руку отрезать не дам. Но все-таки отрезали бы, да, на счастье, снова перевели в другой госпиталь. А там то ли лечили лучше, то ли врачи меньше ковырялись в ране — рука быстро стала заживать. Через месяц выписали, а через два — уже в окопе лежал, рядом с Ракитиным.
— С Тихоном! — невольно вырвалось у Дуняшки.
— С ним, — кивнул Андрей. — Тоже удивился я. «Ну и чудеса, — говорю, — ведь сколь мыкался с рукой по разным городам — и опять мы вместе с тобой». А он отвечает: «Тут чудес много. К примеру, Федька Семенов тут где-то. Тот ссыльный, что у нас жил…»
Вообще Тихон сердитый был все время. Почему, думаю, он такой? Рассказал я ему о своих мытарствах. Он послушал-послушал и отрезал: «Зря тебя вылечили. Все равно тут добьют. — И усмехнулся: — А ты не нашел землю ту… сказочную?»
Веселов устало опустился на табуретку возле Дуняшки.
— Ну а потом разное было… Я все думал: встречу Федьку Семенова — спрошу, где эта самая страна. Да не успел. Встреча наша, понимаешь, была короткая. Увидел я его ночью. Сижу в мокром окопе, слышу — хлюпает какой-то человек ко мне. Увидал меня и быстро юркнул обратно. «Семенов, — кричу, — Федька. Не узнал, что ли?»
Тогда он подбежал ко мне, схватил за плечи и встряхнул: «Тише, Андрей! Понимаешь, не шуми…» — «Да что ты? — спрашиваю. — Прячешься здесь от нашего Гордея, что ли? Все равно Гордей далеко…»
Вместо ответа Семенов прижал меня к стене, в тень, и сам прижался.
Посидели мы с минуту молчком. Что, думаю, за человек этот Федька? Наверное, из тех, что по ночам появлялись у нас в части, вели разговоры с солдатами о какой-то революции. И точно — только подумал, Семенов спрашивает: «Ну, как тут у вас? Что солдаты о войне думают, о революции?» — «Да что, — отвечаю, — не понимаю я, что это за революция, где она произошла». — «Не произошла еще, Андрюша, — говорит он, — но произойдет. Царь последние дни доживает. Клокочет все в стране. А в армии, сам видишь, что делается…» — «А что? Ты растолкуй понятнее», — попросил я его. «Растолкую, я частенько буду теперь бывать у вас… Но ты и сам, Андрюша, приглядывайся ко всему, прислушивайся… А сейчас я пойду, прости, светает уже, хватятся меня в роте. Голову не подставляй под пулю, она еще пригодится. Да смотри не проговорись, что меня видел…»
Поднялись мы. Только-только я хотел спросить у него, где, мол, все же та страна, о которой ты рассказывал нам в Локтях, а в это время и рвануло неподалеку… Раз, другой… Упали мы на дно окопа. Сначала снаряды рвались саженях в двадцати. Потом все ближе и ближе. Слышу, по спине заколотили комья земли. И вдруг враз все стихло: ни звука, ни голоса. Только чую — сверху надо мной словно кто поставил большую воронку, потому что комья земли ударяли теперь в одно место: в ногу, чуть повыше колена…
Андрей замолчал. И проговорил совсем другим голосом:
— Ну вот и все. Остальное — не помню. Правда, еще голос Семенова услышал как из-под земли. «Не уберегся все-таки, Андрей. Санитар! Санитар!» Потом сплошная ночь, густая, без луны, без звезд…
Дуняшка молча уткнулась горячей головой в грудь Андрею. Он поглаживал рукой ее вздрагивающее остренькое плечо, обтянутое тоненькой, насквозь простиранной кофточкой.
— Еще слава богу, что пришел… — воскликнула она. — Господи, какая же я счастливая!..
Андрей задумался, глядя в окно.
— Вот так и дослужился, — тихо проговорил он. — Когда из госпиталя домой пробирался, в городе Петербурге чуть не две недели сидел. Город, знаешь, такой, что.. Может, самый большой город в мире. Поездов нет и нет. Вышел как-то на улицу — народ с заводов толпами валит, с красными знаменами. Солдат в городе полно. Увидели эти знамена и к ним с криком: «Ура! Долой войну!» Потом песню запели какую-то. И полиция ничего, не видит будто. Потом высказываться многие от рабочих и солдат начали. Слушаю — против царя говорят…
— Неужели против царя?! Что же это будет? — испуганно спросила Дуняшка.
— Не знаю я, Дуняша. А что-то будет, ей-богу. — Помолчал и сказал то, что слышал в армии от агитаторов: — Должно, царя все-таки свергнут… Ну, то есть с престола сбросят.
— Что ты говоришь-то, Андрей! — вскрикнула Дуняшка. — Ведь тогда… Господи, еще услышит кто! — И она бросилась запирать дверь.
— А что? Если все сразу поднимутся, то оно, может, и хорошо будет, — проговорил Андрей, не то отвечая Дуняшке, не то рассуждая сам с собой. Он присел на краешек кровати. — Семенова вот нет, тот все растолковал бы нам. Может, погиб где…
Дуняшка, закрыв дверь, вернулась к Андрею. Тот встал с кровати, надел шинель.
— Ну, пойду я, Дуняша. Поздно уже. Как все-таки жила-то? Гришка Бородин как тут?
— Да что — жила… Гришка на коленях передо мной стоял, да я… День и ночь ведь о тебе думала.
Она подняла глаза, полные слез, и снова опустила их. Андрей крепко прижал к себе Дуняшку.
— Верю я, верю… Вижу, что думала. Потеплеет — свадьбу сыграем. Ладно?
— Ладно, — прошептала Дуняшка. — Столько ждала, а тут уж… чего уж…
— Нога к тому времени совсем подживет.
— Да хоть и без ноги бы… Андрюша!
— Тогда, может… Пойдем сейчас ко мне… Навсегда.
Горячее Дуняшкино тело вздрогнуло в его руках. Но едва Андрей пошевелился, она через силу оторвалась от него, закрыла пылающее лицо обеими руками:
— Нет, нет… Чтоб по-хорошему все, Андрюшенька… Как у людей.
* * *
Февраль 1917 года был морозным и вьюжным. Каждую ночь Локти заметало почти до труб. С высоты второго этажа своего дома Григорий любил смотреть утрами, как люди откапывают домишки от снега. «Старайтесь, — думал он с каким-то непонятным самому себе злорадством, — а к завтрашнему утру опять доверху замурует ваши лачуги».
— Слава те господи, хоть сенцо скотине до погоды вывезли, — чуть не каждое утро говорил старый Бородин, вставая с постели и выглядывая по привычке в окно. — Все дороги ить с верхом забутило, ни пройти, ни проехать.
А в конце месяца ударила неожиданно оттепель. Снег сразу осел, размяк, начал плавиться. Воздух сделался синеватым, прозрачным, остро и волнующе запахло хвоей. К полудню начиналась капель, а чуть позже — перезвон падающих сосулек.
Ночами, однако, по-прежнему подмораживало. Снег схватывало прочной ледяной коркой, и тогда по певучему насту можно было идти, даже ехать на лошади в любую сторону.
После долгого перерыва в Локти пришла наконец почта. Григорий, проходя утром по улице, видел, как усатый кряжистый почтарь передал Гордею тоненькую пачку писем и бумаг, несколько газет и, крикнув вознице: «Заворачивай!» — стал натягивать на форменную тужурку огромный дорожный тулуп.
Этот почтарь не прочь был иногда завернуть в дом Бородиных и выпить на дорогу стакан-другой самогонки, поболтать. Поэтому, едва староста скрылся с почтой в руках за дверью, Григорий смело подошел и проговорил:
— Быстро ты ноне, дьявол.
— Ну-ка, отвороти с пути, — сурово двинул бровями усач и сел в сани.
— Что так? Неужто побрехать неохота? Или язык об угол вон почесал?
Почтарь молча ткнул кучера в плечо: гони, мол. Тот дернул вожжами.
— А то завернул бы к нам, — продолжал Григорий. — Батя самогонки наварил — горячей огня…
— Горячей огня, да, видно, не для меня, — скороговоркой ответил почтарь.
— Что так? Обезденежел, что ли? — удивился Григорий и сморщил, как старик, узкий острый лоб.
— Было время — попили. А с похмелья встали да бутыль разбили, — опять как-то торопливо, непонятно ответил почтарь.
— От режет, дьявол! — воскликнул Григорий. — Значит, проснулись — и разбили?
— Именно… А вот вы спите тут еще… Ну, ничего, разбудят… Трогай!
Возница замахал длинным кнутом, а почтарь обернулся к Григорию, сверкнул из-под незапахнутого тулупа пуговицами форменной тужурки и проговорил:
— Теперь уж разбудят…
Почтарь уехал. Григорий проводил его взглядом, заложил руки в карманы, постоял еще немного и пошел дальше. Но неожиданно в доме Зеркаловых стукнула дверь. Григорий обернулся и увидел, как Терентий, соскочив с крыльца, торопливо побежал во двор, вывел оттуда верхового коня. Через минуту из дома вышел сам староста, вскочил в седло и понесся по улице.
«Куда это он как очумелый?.. — подумал Григорий. — Ага, поворачивает на дорогу через озеро. В город, значит. Черт, гонит что есть духу, изувечит коня».
Узнав о прибытии почты, к дому старосты уже подходили бабы — нет ли писем от мужей с фронта? Они окружили высокое крыльцо, стучали в закрытую дверь. Терентий долго не открывал. «Что он, не слышит, что ли?» — подумал Григорий. Это снова показалось ему подозрительным, и он решил посмотреть, чем же все кончится.
Наконец Терентий открыл дверь, заорал во всю глотку:
— Чего ломитесь? Берите! — и швырнул им письма прямо в снег.
Григория охватило вдруг нехорошее предчувствие, он испугался, сам не зная чего. «Не стал бы ведь Гордей коня зря гробить, не помчался бы очертя голову, кабы…»
Подождав, пока женщины ушли, он крикнул:
— Тереха!
Терентий, собиравшийся войти в дом, нехотя остановился.
— Куда это… батя твой? — спросил Григорий, подходя.
— По делам, стало быть, — бросил Зеркалов, поворачиваясь к Бородину спиной.
— А-а… вон что…
Терентий хлопнул дверью.
В марте неожиданно приехал домой Тихон Ракитин. Когда Дуняшка прибежала к Андрею, чтобы сообщить ему об этом, она долго не могла перевести дух, потом вымолвила только одно слово:
— Тихон!
— Что? Что случилось?! — испуганно спросил Андрей и шагнул к ней, схватил за плечи. Голова Дуняшки запрокинулась, смеющиеся глаза поблескивали.
— Тебя обрадовать бежала… Только что Тихон Ракитин приехал…
— Так что ж ты молчишь-то?! — закричал Андрей, схватил шинель и кинулся на улицу.
Друзья столкнулись в темных сенях Тихонова домишка. Ракитин крикнул беззлобно:
— Угорелый, что ли! Несется как на пожар…
— Тихон!
Вместо ответа Ракитин схватил в темноте Андрея, прижал до хруста к себе.
— Тише ты, черт. Осталась еще сила… — задыхаясь, проговорил Веселов.
— А я ведь к тебе тороплюсь. Ну, айда в дом…
Скинув шинели, друзья снова обнялись. Потом стали разглядывать друг друга.
Андрей был бледен, худ. Ракитин выглядел не лучше. Через всю щеку его протянулся глубокий синеватый шрам.
— Та-ак… красавец, — промолвил Андрей. — Где это тебя? — показал он глазами на шрам.
— В Галиции. Подлечили — и опять в пекло. На другой же день снова башку чуть не оторвало… Ну, проходи к столу, Андрей. У меня бутылка самогону есть. И вот… — Ракитин высыпал на стол несколько луковиц, положил черствую краюху и кусочек заветренного сала. — Ну, рассказывай, ты-то как? Что про революцию тут говорят?
Веселов, начавший было шелушить луковицу, медленно повернул голову к Ракитину.
— Про что?
— Царя ведь в Питере того… с престола сбросили. Да ты что смотришь так? Не слышал, что ли?
Андрей бросил луковицу, встал. Но потом снова сел. Ракитин сказал:
— Я лежал в больнице. А как услышал — домой заторопился: может, думаю, земли богатейские делить будут…
— Так… — промолвил Веселов, и Ракитин не понял, то ли он выражал удовлетворение по поводу того, что произошла революция, то ли подтверждал насчет дележа земли.
Помолчав немного, Ракитин хотел уже спросить Андрея, как же им теперь быть, что делать, но Веселов сам проговорил:
— Что же, Тихон, нам теперь делать, а?
* * *
С этого дня загудели Локти, как потревоженный улей. Из дома в дом засновали люди, передавая необычайные вести.
— Слыхали, о чем Тихон Ракитин болтает? Царя-де скинули, революцию устроили.
— Какая такая революция? Как же Россия-матушка без царя?
— Нам что с царем, что без царя… Налоги все едино платить кому-то придется.
Молчаливый и робкий работник Бородиных Степан Алабугин спрашивал то одного, то другого:
— А вот революция — об чем она говорит? И как это — «царя скинули»? Кто?
Ему отвечали:
— Ракитин с Веселовым сказывают — народ, рабочие.
— Да кто его, народ-то, к царю допустил? Там, поди, охрана? — допытывался Степан Алабугин.
— Айда к Веселову, пусть разъяснит нам! — кричали мужики.
Кузьма Разинкин, оглядываясь на стоявших в толпе Игната Исаева и Демьяна Сухова, предостерегающе говорил:
— Идите, идите… Приедет Гордей Зеркалов — Андрюшку с Тихоном возьмет за жабры. И вам хвосты поприжмет.
— Не пугай раньше времени. Может, революция эта с пользой для нас произошла, коли в самом деле царя скинули, — отрезал Авдей Калугин.
— С пользой?.. Скинули?.. — петухом налетал то на одного, то на другого Петр Бородин. — Побойтесь бога, мужичье! Глотку заложит после таких слов, как жрать будете?
— Ничего, нам и без того жрать нечего, — ответила ему Марья Безрукова.
«Вон, оказывается, зачем в город поскакал Гордей Зеркалов!» — обеспокоенно думал теперь Григорий Бородин.
Но в разговоры не вступал, отмалчивался.
Когда стаял снег и начала просыхать земля, отец и сын Бородины принялись готовить плуги к пахоте, наверстывая упущенное.
Деревенские бедняки в эти дни пуще прежнего захороводились вокруг бывших фронтовиков, собираясь то у Веселова, то у Ракитина. Пока лежал снег, мужики, грызя семечки, дымя самосадом, рассуждали о революции так и эдак, а теперь, когда наступило время полевых работ, поставили перед Веселовым, которого почему-то считали более сведущим, вопрос прямо: что делать?
Андрей переглядывался с Тихоном, неловко топтался перед односельчанами.
— Да что вы, мужики, у меня-то… Я бы рад сказать вам, да сам…
— Ну, ты все же пограмотней нас, хоть расписываться умеешь… А мы — совсем темнота.
— Ты же как объяснял? Революция — значит, царя-кровопийцу сбросили, оружие народ повернул против богачей… А мы что — не народ? Надо и нам поворачивать.
— В общем-то это так, но… Повременим еще маленько, может, прояснится что…
Но ничего не прояснялось. Газеты в Локти теперь совсем не доходили. Что делалось за глухой стеной соснового леса, никто не знал.
А мужики все настойчивее требовали ответа. И Веселов, еще не зная, правильно это или нет, сказал:
— Ну что ж… Должно быть, раз революция, землю кулацкую нам промеж собой разделить надо…
Голытьба хлынула в поле. Но зажиточные мужики, жавшиеся все время к Лопатину, не ждали этого дня, не ждали Зеркалова, который все еще был в городе, — что-то, мол, он привезет, — они заранее стали потихоньку распахивать свои участки. Увидев это, мужики остановились в нерешительности, опять обступили Андрея. Тот, подумав, проговорил:
— Айда на зеркаловские пашни.
До вечера мужики размеряли землю, втыкали колышки. А вечером неожиданно появился среди них сам Гордей, молча прошел сквозь расступившуюся толпу и спокойно, деловито начал выдергивать колышки.
— Ты что же это, а? — кинулся было к нему Андрей. — Ведь революция…
Гордей Зеркалов выпрямился, спросил спокойно:
— Ну так что? Законы, что ли, кто отменил? В городе тоже революция, а фабрики у владельцев никто не отбирал.
— Врешь!
— Поди узнай… Ишь обрадовались. Марш отседова! Завтра сам пахать начну.
Если бы Зеркалов кричал и матерился, ему не поверили бы. А за его спокойным тоном чувствовалась правота, уверенность, какая-то сила. Мужики, сплевывая с досады на зеркаловские земли, стали медленно расходиться.
— Вот те и революция, ядрена вошь. Богачей, должно, никакой революцией не сковырнешь. Женись, Андрюха, хоть напьемся с горя на твоей свадьбе…
Когда Зеркалов остался один, к нему тотчас же подошли зажиточные мужики, наблюдавшие за всем со стороны.
— Ну, как там, в городе? Или взаправду царя-батюшку, а? Ты-то как, при должности али тоже сняли?
— Не то чтоб сняли, а вообще… — неопределенно ответил Гордей, повернулся и пошел в деревню.
Петр Бородин, узнав о приезде Зеркалова, на другой день к вечеру забежал к нему. Староста — какой-то смятый, невыспавшийся, заросший густой сизоватой щетиной — сидел за столом.
— Правда, что ли, Гордей Кузьмич? — спросил Бородин, едва успев поздороваться.
— В каком смысле?
— Тьфу!.. Да вон, народишко болтает…
— Мало ли чего… — опять неопределенно ответил Зеркалов.
— Ты все-таки бумаги получаешь… В городе был… Может, там разъяснили тебе — что да как… И как дальше нам быть? А? Землица-то вот-вот подойдет, сеять надо. А людишек нанять — не найдешь… Сам-то хвораю, а сын…
— Ты поищи, — вяло посоветовал Зеркалов.
— Поищи… — обиженно тянул Бородин и жаловался: — Я что, не искал, думаешь? Все одно говорят: «Посмотрим еще, наниматься ли. Революция ведь… Отгуляем вот, тогда приходи, поговорим…»
Зеркалов вопросительно поднял брови.
— Андрюшка Веселов женится, — торопливо объяснил Бородин. — Нашел время, дьявол, жениться! Вся голытьба у него собирается гулять. И наш конюшишко Степка Алабугин — туда же. Тоже свадьба — в складчину…
Зеркалов встал и молча ушел в другую комнату, давая знать, что разговор окончен.
* * *
Григорий тоже знал, что Дуняшка выходит замуж за Андрея Веселова.
Почти целый день, заложив руки в карманы, Бородин стоял у окна и смотрел на ровную, словно отполированную гладь озера. В небе висели рыхлые ватные комья, отражаясь в воде, отчего озеро казалось прозрачным и бездонным. Скользили иногда невдалеке от берега рыбачьи лодки. Лодки не оставляли следов, и казалась Григорию, что они плывут не по воде, а по воздуху, между двух слоев облаков.
В открытое окно доносились от дома Веселова шум, крики, пьяные песни. Григорий слушал, намертво сжав кулачищи, будто хотел раздавить свои собственные ладони.
… Свадьба у Веселова была многолюдной, шумной! На ней собралась вся беднота. Маленький дощатый домик Веселова не мог вместить всех гостей, столы пришлось вынести во двор, под старые корявые березы.
Идя на свадьбу, каждый что-нибудь приносил с собой: десяток яиц, бутылку самогону, краюху хлеба, вареную курицу. И столы если не ломились от закусок, то выглядели довольно богато. Тихон Ракитин принес даже банку рыбных консервов с иностранной этикеткой — диковинку, не виданную еще в этих краях.
Дуняшка, принимая продукты, краснела до слез, что-то невнятно бормотала в ответ.
— Господи, чем же мы их отблагодарим, Андрюшенька? — спрашивала она, прижимаясь к его груди.
Андрей, бледный, тоже взволнованный не меньше ее, отвечал:
— Ну чем… Может быть, придет время — отблагодарим чем-нибудь… — Андрей останавливался, не зная, что говорить дальше. — Очень уж охота мне увидеть счастливыми всех этих людей.
Дуняшка понимала, что Андрей мучается, не видя пока способа помочь этим людям стать счастливыми, говорила:
— Ничего, Андрюшенька… Мы уж найдем как…
— Семенов приедет сюда, вот увидишь, — вдруг убежденно проговорил Андрей. — Или кто из тех, что на фронте беседы по ночам вели.
Когда сели за стол, Дуняшка, в новом ситцевом платье, припасенном для этого дня почти полгода назад, первая подняла стакан мутноватого пива:
— Спасибо вам, люди добрые… Спасибо… — И больше не могла вымолвить ни слова, заплакала на виду у всех, не стесняясь, засмеялась сквозь слезы, растирая их ладонью по лицу.
До глубокой ночи царило веселье на тесном дворе Андрея Веселова. Мужики, забыв о своей нужде, о неудавшейся попытке распахать жирные земли Гордея Зеркалова, пели бесконечные песни, яростно плясали, выбивая траву, поднимая целые облака пыли, по десять раз подходили к Дуняшке и Андрею, обнимали их, говоря:
— Живите, чтоб вас, хорошие наши… А? Может, и правду жить будете… Не то что мы. Эх!..
Отгуляв, мужики на другой же день вернулись к своим прежним мыслям, — что же делать дальше?
— Царя сбросили там, в Питере, — так. А у нас тут богатеи живут себе припеваючи, как в прежние времена. Лопатин вон по улице расхаживает как ни в чем не бывало. Зеркалов из города воротился… Что с ними делать; а, Андрей? Революция, что ль, не дошла до нас? Ведь ребятишки дома жрать просят…
Действительно, у каждого была семья, которую надо было кормить. Посоветовавшись так и этак, мужики решили: наняться пока, как и прежде, к богачам на время сева, а там видно будет.
Тихон Ракитин, Андрей Веселов и еще несколько мужиков пошли работать к Бородиным. Григорий, который не мог теперь даже видеть Андрея, заявил отцу:
— Кого хошь бери, а Андрюшку гони к чертовой матери.
— Что ты, что ты! — замахал руками отец. — Сейчас ведь каждый работник — божья милость. Отказать легко, а где другого взять?..
— Тогда сам сей, а я лавку строить буду.
Старик поморгал сухими веками, подумал и махнул рукой: «Ладно, строй».
Отсеялись Бородины благополучно.
— Теперь до сенокоса, ребятушки, — ласково говорил Петр Бородин работникам. — А раньше — где работы взять? Рассчитал вас честь по чести — и с богом…
— Проживем мы на твои деньги до сенокоса… благодетель ты наш, — угрюмо проговорил Андрей, получая замусоленные бумажки.
— Еще и останутся, в чулок жинка лишние положит, — сказал Тихон Ракитин. — Вон как щедро отвалил, куда девать столько, — добавил он и, сплюнув, громко выругался.
— Так ведь, ребятушки… Лопатин вон меньше дает. Как ведь договаривались… — крутился Петр Бородин. — А в сенокос приходите. Договоримся по цене, что и Лопатин дает, а потом я потихонечку накину по рублику за недельку. Приходите. И бабам вашим найдется, что делать…
Григорий в расчетах не участвовал, хотя отец настойчиво заставлял его выдавать работникам деньги.
— Ну а теперь за лавчонку вплотную браться надо, — говорил на другой день Петр Бородин сыну, дуя в фарфоровую чашку с чаем. — Как там, красят прилавок?..
— Должно, — неопределенно ответил Григорий.
Отец вскипел:
— Как должно! Ты хозяин или нет? Ты что всю весну делал?
— Чего орешь?
— Ты на кого этак-то? — задохнулся старик. — На батьку родного?.. — Потом протянул жалобно: — Опять ты как телок сонный… Человеком становился вроде.
— Да отстань ты… Сказал — красят… Чего тебе? — сдвинул брови Григорий.
— Сказал, как связал… Долго ли сохнуть-то будешь? Знаю ведь, чего тебя зацепило! — воскликнул отец. — Ну и пусть она лохмотьями трясет… Вчера Андрюха принес ей капиталу, как… блоху в кулаке. Пальцы разжал — блоха прыг, и пусто.
Григорий сидел за столом, молча рассматривал свои крючковатые, как и у отца, руки.
— А уж коль надо ее было, так… не хлопал бы ушами… Тереха Зеркалов тебе правильно говорил. Куда бы она делась… Анну-то вон… сумел.
Шея и лицо Григория стали медленно наливаться кровью, багроветь. Но он ничего не сказал, только сжал кулак и, закусив губу, вдруг со всей силы трахнул им по столу и тотчас встал на ноги. Звякнула посуда. Один стакан с чаем опрокинулся на клеенку, покатился и упал…
Петр Бородин, не на шутку испугавшись, пулей вылетел из-за стола, уронив фарфоровую чашку.
— Тебе, батя, что убить человека, что… — раздельно произнес Григорий и замолчал, не находя нужного слова.
— Тьфу, — в сердцах плюнул старик и вышел из кухни, где пили чай.
Безмолвная бабка Дарья стала подбирать с пола осколки.
Когда Петр Бородин вернулся в кухню, Григорий все еще сидел за столом, хотя вся посуда была с него убрана.
— Ну, остыл? — спросил отец. — Плеснуть водицы на тебя — зашипело бы…
— Ты не утешай, батя… — попросил Григорий. — Я сам отойду.
— Жениться тебе надо, вот что, — проговорил отец. — Тогда и отойдешь скорей. Но, зыкни еще раз на отца! — добавил он, видя, что сын поворачивается к нему.
Григорий усмехнулся.
— На ком же посоветуешь, батя?
— Еще зубы скалишь! По мне — хоть на той побирушке, которую, сказывала Анна, собаками травил, лишь бы на человека стал похож… Хозяйство ведь на руках у нас… у тебя, можно сказать…
— Спасибо за совет.
— На здоровье. Ты хотел не краше взять, так чего уж…
В этот день Петр Бородин еще раз завел разговор о женитьбе Григория.
Вернувшись к обеду из лавки, он довольно потер руки:
— Зря я утром на тебя… Ведь покрасили уже, почти высохло. Я замотался тут… с посевом. Думал, ты и в самом деле прохлаждался, не подгонял старичишек да баб… А у тебя уже все готово…
Григорий подождал, пока отец замолчит, и скривил губы:
— Старался…
— Это хорошо. А вот насчет женитьбы, Григорий, раскинь мозгами. Подыщи кого-нибудь… Чего тебе так… а? Ведь откроем когда-нибудь лавку, надо будет торговать кому-то. Приказчиков нынче нанимать нельзя — все воры. А тут бы свой человек…
Григорий ничего не ответил на это.
2
Как-то, года два назад, Григорий был на сенокосе. Он уже совсем собрался поддеть на вилы маленькую ярко-зеленую копешку лугового сена и бросить ее на волокушу, но остановился, пораженный необычным зрелищем: куча сена была мокрой, и разноцветные капельки воды дрожали чуть ли не на каждой травинке, переливаясь под лучами солнца.
Григорий стоял, пытаясь сообразить, почему не высохла на этой копне сена утренняя роса. Но вдруг среди полнейшей тишины и безветрия налетел вихрь, бешено закружился над копешкой. Григорий невольно отскочил в сторону и удивленно смотрел, как у него на глазах быстро таяла куча сена. Вихрь со страшной силой беспрерывным веером втягивал в себя травинки, уносил их куда-то к небу, а потом приподнял оставшийся тонкий пласт сена, перевернул и со злостью швырнул обратно на землю.
Вихрь унесся так же стремительно, как и налетел. Оставленный им пласт сиротливо чернел под солнцем среди свежей зелени. Оказывается, копешка лежала на маленькой мочажине и снизу вся сгнила, сопрела. Григорий поковырял вилами ржавые стебли и отбросил их в сторону.
… Открыть лавку, о которой столько мечтал старый Бородин, так и не пришлось.
Пахнущий свежим тесом и краской магазин вспыхнул среди ночи, осветив полдеревни. Горел долго и ярко, стреляя искрами в собравшийся вокруг народ. Петр Бородин, в расстегнутой рубахе, взлохмаченный, обезумевший, метался среди людей, выкрикивал:
— Господи! Люди добрые!! Помогите Христа ради… Что же стоите, ведь горит все! По миру мне идти теперь…
Однако люди стояли молчаливые и безучастные, как нависшая над Локтями ночь. Только огонь отсвечивал на их хмурых, окаменевших лицах.
Через толпу протиснулся Григорий, только что вставший с постели, несколько минут смотрел, как струи пламени бьют из-под крыши, рвутся изнутри сквозь тяжелые ставни, наискось опоясанные железными болтами. Он не метался, не кричал, как отец, только одна щека его нервно подергивалась да пальцы левой, не засунутой в карман руки сжимались и разжимались.
Среди полнейшего молчания ухнула крыша, взметнув к небу снопы крупных искр.
— Вот! Во-от! — застонал Петр Бородин и, обессиленный, присел на землю.
— Ничего, — проговорил Андрей Веселов, будто желая утешить старика. — Скоро все сгорит…
Григорий молча повернулся и ушел.
Когда Петр перед рассветом, закопченный, в прожженной рубахе, приплелся домой, Григорий сказал ему:
— Лопатин… удружил тебе…
— А? — вздрогнул старик всем своим маленьким щуплым телом.
— Забыл, что ли?.. — Григорий усмехнулся. — Он тебя по-всякому отговаривал: и народу мало, покупать, мол, некому, и товар возить издалека надо… Пашни свои предлагал даже по дешевке… А ты не послушался…
— Ага… ну да… — мотал головой отец, пытаясь понять, что говорит Григорий.
Едва рассвело, старик решительно встал и пошел к Лопатиным. Вернулся, однако, очень скоро, бросил в угол костыль, плюхнулся на лавку.
— Уехал, говорят, хозяин три дня назад по делам в соседнюю деревню… Хитер тоже, а? Люди — волки лютые… Ну, погоди… Мы тебя… погоди-и… — И Бородин потряс в воздухе высохшим кулаком.
— А может, и Андрюха это… — сказал вдруг Григорий. — Тот еще лютей волка, однако…
Старик ничего не мог говорить, сидел жалкий, придавленный.
Но беда, как говорят, не ходит одна.
Однажды завернул к ним Гордей Зеркалов. Войдя, закрыл за собой дверь на крючок.
— Чтоб не помешали, — объяснил он. — Разговор серьезный будет.
— Именно!.. — кинулся ему навстречу Бородин. — Ты проходи, садись, Гордей Кузьмич.. Лопатин-то что со мной сделал, а? Кто ж мог подумать?
— А что? — поднял Зеркалов глаза, в которых светилась плохо скрываемая неприязнь.
— Как что? Магазинишко-то…
— Ну?
— Он ведь, Лопатин… Поперек горла я ему… И спалил-таки…
— Чем ты докажешь? — сухо и холодно спросил Зеркалов.
— Что доказывать? Он все ходил тут, хвостом землю мел… зачем, мол, ты…
Но Зеркалов не стал слушать, поморщился и перебил его:
— Нашел о чем… Сейчас другая забота… Пропадем мы… И ты и я, если…
— Господи, да что еще? — промолвил старик упавшим голосом.
Зеркалов помедлил и начал:
— Вот что, Петр… как там тебя дальше? Забыл. Насчет Григория… Я все делал, пока, знаешь, можно было… Потому как по-дружески к тебе относился.
— Вон что! — протянул Петр, и руки его затряслись…
— Да… А теперь дозналось начальство… Ну и… сам понимаешь. За такие дела могут и меня, и… особенно Гришку…
Зеркалов замолчал, давая возможность Бородину осмыслить все сказанное. Повернулся к нему спиной и стал ждать.
— А… не шутишь? — робко, с бледной тенью надежды спросил Бородин. — Люди болтают, вроде ты не при власти теперь, потому-де… И начальство, говорят, новое сейчас в городе…
Зеркалов покусывал с досады губы: на этот раз с Бородина, очевидно, ничего не удастся сорвать. Но на всякий случай бросил на него гневный взгляд, пригрозил:
— Ну и… оставайся тут, жди, когда приедут за Гришкой… Узнаешь потом, старое или новое начальство в городе. Я-то вывернусь как-нибудь…
И шагнул к двери. Бородин догнал, повис у него на руке:
— Да ты подожди, Гордей Кузьмич… Я ведь так, сдуру… Надо уж как-то вместе… Твой-то, Терентий, тоже… В один год с Гришкой ведь родился…
Зеркалов стряхнул Бородина:
— Ты не болтай, чего не знаешь!.. У Терентия отсрочка, по закону… Как выхлопотал я — не твое дело… А по закону! Понял ты?
— Понял, Гордей Кузьмич, понял… Прости великодушно. Неужели ж так-то теперь… и нельзя никак? — завыл Бородин, опять хватая его за рукав и усаживая.
Гордей Зеркалов не особенно сопротивлялся, сел, вытащил из кармана большой платок и неторопливо вытер лоб.
— Можно, конечно, — сказал он немного погодя. — Заткнуть надо кое-кому рот… Там…
И кивнул головой на окно. Петр присел на лавку, опустил голову.
— Если в раньше… А теперь-то чем? Погорел ведь я… Сам нищий стал…
— Коней продай, — подал голос Зеркалов.
Бородин вскочил, замахал руками:
— Что ты, что ты? А сам с чем останусь? Хозяйство развалится.
И вдруг закрутился по комнате, точно в припадке:
— Ну и пусть!.. И пусть приходят, забирают Гришку, засудят, в солдаты законопатят, мне с него толку — с комариную холку… Вырос он моими заботами да на мое же горе.. У других дети как дети, а у меня в сучки срос… Все, что было, на ветер из-за него пошло…
— С ветра и пришло… — перебил Зеркалов.
Старик от неожиданности встал посреди комнаты как вкопанный. Руки его тяжело обвисли.
— А откуда же? — продолжал Зеркалов. — Клад в земле нашел, что ли? Их уже до нас все повыкопали… Думаешь, мало я жалоб на тебя в печь побросал? Народишко давно-о интересуется: с чего разжился…
— Вот… И ты как Лопатин… — побледнев, еле выговорил Бородин.
— Я к тебе всегда по-дружески, — ответил Гордей. — Да вижу — не собрался с мыслями ты… Пораскинь умом… Ладно, в другой раз потолкуем.
— Что толковать? — грустно откликнулся старик. — Кроме скотины и дома, у меня ничего нет. А лошадей кому продашь?
— Давай я сам продам… Тебя чтоб не беспокоить. Я полагаю, двух хватит, чтоб мне уладить дело. Не всех же тебе коней лишаться…
— Бери, — безразлично и устало махнул рукой старик.
Григорий, узнав о потере двух лошадей, вымолвил негромко:
— Та-ак! Обдирают нас… Щиплют как дохлых кур — по перышку…
И в голосе его, звенящем как туго натянутая струна, прозвучало злобное предостережение кому-то.
— Хороши перышки, — простонал отец. — Этак глазом не успеешь моргнуть — голым местом засверкаешь… Ведь ничего у нас не останется… Подавился бы он конями…
— Ну ладно, чего теперь выть? Не поможешь этим…
— Эх, сынок, не отстанет он от нас теперь, жирный боров, пока не доконает… Ишь завел: «Жалобы», «с чего разжился»… Не отстанет. — Старик вздохнул.
Однако и это было еще не все.
Через неделю или полторы, поздним вечером, когда Бородины ложились уже спать, к ним прибежал поп Афанасий. Остроносый, растрепанный, с круглыми горящими гневом глазами, он напоминал какую-то хищную птицу — не то сову, не то ястреба. И полы его тяжелой рясы тоже махали, как крылья птицы, когда он заметался по комнате.
— Да ты что, батюшка! — встревоженно спросил Петр Бородин.
Поп ничего не мог вымолвить, не в силах был раскрыть жирных трясущихся губ. Подбежав к Григорию, он поднял над его головой обе руки, точно хотел обрушить на молодого Бородина что-то невидимое и тяжелое.
— Вв-а… вв-а… — несколько раз взвизгнул поп, трясясь над Григорием. — В ад бы тебя, антихриста, чтобы горел на вечном огне, дьявол, аспид, с-сатана-а… — И, захлебнувшись, упал на табурет.
— Бабка, воды… скорее! — заревел Петр Бородин на кухню, где шаркала ногами по полу старуха.
Но поп Афанасий уже снова метался по комнате.
— Воды?! Ты спроси лучше, что сынок твой с Маврушкой моей сделал! Ты спроси его, антихриста… Ну, что молчишь? Спроси, спроси…
— Господи, господи, — растерянно крутил головой на тонкой шее Петр Бородин, нервно крестясь. — Да ты что, батюшка?
— Не поминай бога, не поминай! — краснея от натуги, ревел поп — Опозорили седины мои… Ведь Маврушку-то он, сынок твой… Понесла она… Все таилась, таилась, пока глаз мой не замечал, а сегодня после ужина выложила все, он, Гришка твой, да Гордея сынок… Господи, неужели переживу!. Куда я с ней? — И повернулся к Григорию: — Бери ее теперь!
Петр Бородин оттолкнул очутившегося возле его кровати попа, встал и выбежал в кухню. И уже оттуда ринулся на Григория, сжимая в руках короткую железную кочергу.
— Ах ты… кобель! — срывающимся голосом крикнул Петр, наступая на сына. — Ах ты кобель! Что наделал, что наделал!.. Терпел, видит бог, да лопнуло мое терпение… Маленького тебя разорвать бы надо!.. На одну ногу наступить, а за другую дернуть!!
Таким Григорий еще никогда не видел отца. И он второй раз в жизни испугался его, хотя сейчас у отца в руках был не топор, а обыкновенная кочерга.
Григорий до того растерялся, что не сообразил даже выбежать в кухню. Несколько секунд они, пригнувшись, кружили по комнате, сторожа, как лютые враги, друг друга, забыв о прижавшемся в углу священнике. И пока кружили так, Григорий немного опомнился, пришел в себя. Когда отец бросился на него, он отскочил в сторону и в тот же миг сам неожиданно кинулся сбоку к отцу, намертво вцепился ему в кисть руки, сжал ее, не жалея, изо всей силы. Петр Бородин глухо вскрикнул от нестерпимой боли, кочерга упала на пол. Подняв ее, Григорий сильно толкнул отца на кровать. И проговорил, переводя дыхание:
— Старый ты пес… Убил бы ведь! Шутки тебе?!
— Вот, вот… видел, батюшка? — скрипуче протянул Петр Бородин. — Батьку псом называет… Это как?
— А ты, поп… — повернулся Григорий к священнику, — чего тут икру мечешь? Ты бы… дочку-то получше стерег. Не набегала бы тогда…
Отец Афанасий, изумленный тем, как с ним говорит молодой Бородин, только безмолвно открывал и закрывал рот.
— Ну, чего? Дай ты ему воды, бабушка… Видишь, зашелся, — сказал Григорий старухе и бросил в кухню кочергу.
— Ты… ты… — Поп сделал судорожный глоток и боднул головой воздух — Да я же тебя! Ах ты поганец.. Да ведь стоит мне… сказать про метрику…
— Которую ты отцу продал, что ли? — спросил Григорий, усмехаясь.
— Кто продал, чего плетешь?
— Э-э, не боюсь я твоих угроз, — махнул Григорий рукой и пошел к своей кровати — И ты, батя, не бойся. Зеркалову двух коней отвалил. А зря, вот что! Пугать они горазды. А рыльце-то в пуху. Пусть попробует что-нибудь теперь! Сами себя на свет вытащат. Да и время-то сейчас такое… Кем они пугают? Не теми ли, кто сам напуган?..
Григорий разделся и лег в кровать, не произнеся больше ни слова.
* * *
Петр Бородин увел попа в другую комнату. Там они долго о чем-то говорили. Наконец Григорий услышал, как стукнула внизу дверь.
Поднявшись наверх, отец ходил по комнате, покряхтывая, почесываясь. Наконец проговорил:
— Спишь, Григорий?
Спросил таким голосом, будто в этот вечер ничего не произошло между ними.
— Нет. Чего тебе?
— Так, говоришь, зря они пугают нас?
— Конечно.
— Так-то так, а все же… боязно мне. Неизвестно, как еще все повернется. Лучше уж в мире жить со всеми. Бог с ними, с конями. И попу я наобещал сейчас… кой-чего. Он ведь жадюга, глаза завидущие, руки загребущие.
— Ну и зря, — проговорил Григорий, по-прежнему не оборачиваясь.
— Обещать — еще не дать. Обещанного три года ждут. А вот с Лопатиным не поладили мы… Возьми теперь его… Не дал за землицу-то доплаты ему — и озлился. Все-таки корчевал ее он, распахивал. А тут еще с лавкой полез наперекор ему. Ты спишь?
— Сплю уже… И ты спи.
Петр Бородин лег в кровать, такую же скрипучую, как и он сам. Полежал немного и спросил:
— А может, и в самом деле… возьмешь Маврушку?
— Ребенок-то у нее от Терентия, должно…
— Ну-к что? Я бабке нашей скажу — выживет. Хозяйка была в все-таки. Кого же тебе брать? Он ведь, отец ее, поп все же… Не последний человек в деревне.
— Отстань, батя, спи давай… — недовольно пробурчал Григорий.
Отец вздохнул, тяжело перевернулся со спины на бок.
— Вот дела… Теперь, почитай, все сызнова начинать надо… Разорились. Вся надежда на урожай.
Григорий не отозвался. Отец подождал немного и проговорил со вздохом:
— А ты кобель все ж таки. Эх, угораздило… Мало тебе, Григорий, других баб. Вон Анна Туманова, куда уж ни шло…
Старик долго ворочался, вздыхал, шептал что-то, раздумывая и о сгоревшей — не открытой еще — лавке, и об отданных задаром конях, и о том, как бы нащупать опять любую тропинку к богатству. Любую! Хотя бы и вроде той… первой…
Но чувствовал, что сам он уж, во всяком случае, не успеет этого добиться. Вот Гришка бы…
Такие думы гнули Петра Бородина к земле. По деревне он ковылял, уже тяжело опираясь на палку.
3
Лето с каждым днем разгоралось все жарче и жарче. Приближался сенокос.
— Так-с… Житуха, значит, продолжается. Опять надо прикидывать, в какой хомут шею пихать — в зеркаловский, лопатинский или этот новый, бородинский, — зло говорили мужики, собираясь вечерами у Андрея.
— Лучше уж к Лопатину. Новый хомут шею всегда сильнее трет.
— Враки, значит, про революцию, что ли, а? Сколь недель прошло, а ничего не видно, не слышно.
Действительно, Локти словно кто отрезал от всего мира — ни один слух не просачивался сюда, ни одно слово не долетало.
Деревенские богатеи уж несколько раз просили Гордея «поприжать» Андрюху, запретить у него сборища голытьбы.
— А не до того теперь, — отмахивался Зеркалов.
— Так ведь озвереют да начнут рвать…
— Они еще не знают, с какого боку рвать-то… До зимы, бог даст, вряд ли кто доберется сюда. А там, может, еще бог даст… и перевернется все в обратную сторону, по-старому.
Однажды Андрей поправлял в огороде изгородь. Прибивая жердину, услышал голос Дуняшки от крыльца:
— Андрей, тебя тут спрашивают.
— Сейчас, — откликнулся Андрей. Думая, что пришел Тихон или кто-нибудь из мужиков, продолжал возиться с жердиной. Потом не спеша пошел к дому, осторожно перешагивая через грядки. Пройдя несколько шагов, поднял голову, увидел человека, стоящего у дверей, и невольно остановился. И уж затем побежал, не разбирая дороги, топча морковные и огуречные грядки, ломая разлапистые, набиравшие цвет подсолнухи.
— Федька?!
У дверей стоял Федор Семенов, посмеивался.
— Федька! — снова крикнул Андрей, схватил в охапку, приподнял с земли и будто никогда не собирался больше ставить его обратно. — Черт, Федька! Вот уж гость! Да ты ли это, а?!
— Ты отпусти… Да отпусти же, ради бога, — взмолился Семенов, упираясь ему кулаками в грудь. Андрей увидел на обеих кистях его рук какие-то вмятины.
— Это что у тебя с руками? Да как ты у нас оказался, а?
— Это от кандалов еще… Не отошло. А у вас…
— Ты что, с каторги? — невольно отступил от него Веселов.
— Не бойся, не беглый, — пошутил Семенов.
— Да когда же ты успел… на каторгу?
— Ну… Много ли время для этого надо? Как у вас тут жизнь-то?
— Да что, живем вот… Про революцию немного слышали… Ну и все. А что ж она и в самом деле… Черт, да что же я! Дуняша, давай там чего на стол…
Дуняшка, стоявшая поодаль и наблюдавшая за мужем и Семеновым, кинулась было в избу, но Андрей остановил:
— Стой! Сбегай сначала к Тихону, собери мужиков. А я сам тут… — И обернулся к Семенову: — Ну и заждался я тебя. Мужики с ножом ко мне подступают: что революция да как? Как, мол, жить дальше? Будто я больше их знаю…
Андрей бегал от стола, стоявшего под корявыми березами, в избу и обратно, расставлял стаканы, чашки, раскладывал ложки. Семенов опустился на скамеечку в тени от березы.
— Так. Значит, о революции в Локтях почти не слышали? — проговорил он и помолчал. — Что ж, мы в Совете так и предполагали.
— В каком Совете?
— В Совете рабочих и крестьянских депутатов. Газеты приходят сюда?
— Какие газеты! У нас тут и раньше-то их…
Семенов встал, бросил прутик, который вертел в руках.
— Понимаешь, Андрей, бывшие царские чиновники, кулачье — словом, наши враги — всячески скрывают от народа известия о революционных событиях в стране, держат народ в неизвестности. Особенно в таких вот глухих селах, как ваше… Меня тоже ведь только полмесяца назад рабочие рудника освободили, когда наконец дошли туда вести о Советской власти.
— Да как же ты к нам-то?
— Ну как знакомые места не навестить! — рассмеялся Семенов. — Вторая родина. На лодку — и поплыл через озеро.
— А коли в ветерок?! Ведь чуть не сутки плыть!
Во двор вошел Ракитин, следом за ним еще несколько человек. Скоро двор наполнился гулом. Почти все помнили Семенова, здоровались, иные шумно и радостно, некоторые мрачно, с опаской. Потом отходили в сторону, садились кто на вытащенную из дома табуретку, кто на ступеньки крыльца, на завалинку, многие — прямо на землю.
— Что ж, все собрались? — спросил Семенов. — Давайте поговорим тогда.
— Да ты поешь с дороги-то, — попросил Андрей. — Тем временем еще народ подойдет.
— Я не особенно голоден, Андрей. А опоздавшие сами поймут, что к чему, ты растолкуешь потом.
Семенов взял от стола табурет, поставил его в самую гущу народа, сел.
— С чего начнем?
— А ты с самого начала…
— Я приехал к вам по постановлению уездного комитета партии большевиков, — проговорил Семенов. — Комитет по всем селам Сибири разослал сейчас своих представителей, чтобы разъяснить крестьянам сложившуюся обстановку, помочь им создать органы Советской власти. Вот привез вам большевистские газеты, кое-какие листовки. Почитаете потом.
Семенов передал Веселову пачку бумаг. Тот принял их молча.
— Это что же за большаки такие? — послышался голос от крыльца.
— Большевики — это люди, которые борются за интересы простого народа, за ваши интересы, за то, чтобы лучше жилось рабочим и крестьянам. Большевики объединены в партию, которой руководит Ленин. Эта партия в феврале подняла рабочих Петербурга на свержение царизма. Произошла революция…
Несколько часов Семенов терпеливо и доходчиво разъяснял мужикам, что такое Временное правительство и Советы рабочих и крестьянских депутатов, почему образовалось такое двоевластие, какую политику проводят те и другие. Его рассказ то и дело прерывался возбужденными возгласами. А когда Семенов заговорил о том, что во многих уездах и селах местные Советы производят конфискацию кулацких земель и передачу ее в бесплатное пользование крестьянам, все повскакали с мест, зашумели враз, заволновались.
— Черт! Выходит, правильно мы хотели насчет Зеркалова?
— Как же это, Андрей, а?
— Он, Зеркалов-то, в морду сам законом ткнул: дескать, не отменял их никто…
— Следующей весной не ткнет уж…
— Ты скажи, Федор, что нам делать теперь?
Семенов еле успокоил расходившихся мужиков. Когда все сели по своим местам, продолжал:
— Я думаю, надо установить вам в Локтях свою власть — Совет крестьянских депутатов. Тогда сами будете решать все свои дела.
— И законы сами… того, устанавливать?
— И законы, — улыбнулся Семенов.
Снова зашумели мужики, замахали руками.
— Тогда что же — давайте этот самый Совет…
— Андрюха, смещай старосту…
— Первый закон — насчет земель зеркаловских…
— Так он и отдаст их! Драться полезет. Вон все богачи кучкой, как волчий табун…
— Мы тоже вместе будем! Нас больше, поди…
— Что делать, Федор, если богачи не отдадут добровольно землю?
На этот раз, чтобы успокоить мужиков, пришлось вмешаться Андрею. Он встал и замахал руками. Сразу все стихли. Семенов с удовлетворением отметил это.
— Что делать? — переспросил Семенов. — Видите ли, товарищи, действовать нужно всегда смотря по обстановке. Конечно, Зеркалов вам так просто свои земли не отдаст. Но если вся сила будет на вашей стороне, если большинство жителей Локтей будет за Советскую власть, — что Зеркалов сделает? Зарычит, конечно, но укусить не посмеет. А почувствует, что сильнее вас, — тогда уж вцепится в горло, чтобы разом задушить…
Семенов обвел всех взглядом и продолжал:
— Я рассказал вам, какое положение сейчас в стране. Революция не кончилась, она продолжается. Проще сказать так: победит Временное правительство — значит, все останется по-старому, по прежнему у вас в Локтях будут хозяйничать Зеркалов с Лопатиным. Победят Советы — земли будут ваши, Зеркаловым придется убраться с них. Вот и думайте, кого поддерживать вам, за кем…
— Да что тут думать тогда?
— Мы же сказали — Совет нам свой надо… — раздались голоса.
Семенов кивнул и закончил свою мысль:
— …за кем идти. Если все так, как вы, будут поддерживать Советскую власть, то Временному правительству придет конец. Этому правительству править будет некем… А с ним и конец Зеркаловым.
— Да это еще когда придет! Может, сегодня же отобрать у них посевы? Чего смотреть на них, а, Федор?
Семенов подошел к нетерпеливому мужику, положил руку ему на плечо.
— А если Зеркалов огрызнется да зубами за глотку? Разбежитесь ведь все?
— Мы-то? Да я… мы то есть… — вращал глазами мужичонка, пятясь назад.
— Не время сейчас, товарищи, особенно у вас в деревне, так с кулаками расправляться. Они еще сильны, сомнут вас. Организоваться вам надо пока, окрепнуть. Совет должен следить за тем, чтобы кулачье не драло, как прежде, семь шкур с мужиков, чтобы наемным рабочим платили за труд сполна. А там сами увидите, что делать…
Почти до вечера толковал Федор Семенов с мужиками, отвечая на самые различные вопросы, порой серьезные, порой наивные. Весь двор был заплеван семечками, закидан окурками.
Когда стало темнеть, мужики разошлись, потребовав собрать завтра собрание села и решить там насчет Совета.
Дуняшка стала подметать двор, а Семен сказал Андрею:
— Ну а теперь корми, Андрюшка. Умираю с голоду.
После ужина Семенов сразу же попросил устроить ему где-нибудь ночлег.
— Почти трое суток не спал, — виновато проговорил он, и тут только Андрей увидел, что глаза Семенова слипаются.
— Чего где-нибудь… Давай в избу, ложись на нашу кровать.
— Да нет, лучше бы где в другом месте. Черт его знает, как кулачье у вас… И вам с Дуняшкой не надо бы сегодня дома ночевать.
Едва разлилась темнота, Андрей взял тулуп, одеяло, две подушки и повел Семенова в огород. Там, в самом конце, где на оставшемся невскопанном кусочке буйно разросся дикий конопляник, Андрей разостлал шубу, положил подушки. Дуняшку он отправил на ночь к Ракитиным.
Семенов снял сапоги, пиджак, вынул из кармана наган, осмотрел его и сунул под подушку. Перехватив взгляд Андрея, сказал:
— Всяко случается, Андрюша… За последнюю неделю семеро наших ребят в деревнях погибло. И все ночью, днем пока не решаются…
— Пока? Значит, скоро и днем будут?
— А ты как думал? Борьба только разгорается, Андрюша. А как начнем прижимать кулачье — ощерятся… Оружие у вас есть у кого?
— Да так, кое у кого из фронтовиков.
— Доставать надо потихоньку. Я помогу тебе в этом.
Они легли, укрывшись одним одеялом. Черная тихая ночь плыла над деревней. Иногда прилетал откуда-то слабый-слабый ветерок. Тогда жесткие листья конопляника несмело и сонно шуршали, нагоняя дрему на самих себя.
Семенов закрыл глаза, с удовольствием вдыхая густой, чуть горьковатый запах конопли, который, как дурман, заволакивал сознание, бросал тело в какую-то пустоту. Но неожиданно уловил, что пахнет еще чем-то. Потом различил, что сквозь плотный маслянистый конопляный застой пробивается холодноватый запах мяты, и сказал об этом Андрею.
— А речка тут рядом. За изгородиной.
— Ага, — сказал Семенов, совсем засыпая. Но, подумав, что Андрей обидится, если он уснет так скоро, промолвил через силу: — Ну как ты после того, как тебя… После госпиталя сразу домой или снова на фронт?
— На фронте не был больше. А по госпиталям снова всласть поскитался.
Усмехнувшись, Андрей прибавил:
— По многим городам проехал. Все думал: не найду ли ту страну, о которой рассказывал ты когда то…
— Какую страну?
— Забыл, что ли? Там нет богачей мироедов. Там все пашут и сеют сообща… А я вот помню все время твой рассказ.
Семенов приподнялся и сел. Спать ему уже не хотелось.
— И не нашел? — спросил он негромко.
— Нет. На фронте спросить тебя хотел — где же эта страна. Да не успел… — Андрей тоже приподнялся. — Знал, что это — сказка. А вот верил, искал…
— Это не сказка, — помедлив, ответил Семенов. — Это уже быль. За такую страну вот и деремся сейчас, кровь проливаем, головы кладем. — Семенов потер кисти своих рук, добавил: — За нее и на каторгу шли, Андрюша.
Веселов смотрел на Семенова молча. Только что взошедшая луна отражалась у него в глазах двумя маленькими звездочками.
Потом Андрей лег и также молча стал смотреть в небо, подложив руки под голову. Молчал и Семенов.
Через несколько минут Андрей сказал одно только слово:
— Так…
Семенов понял состояние Андрея, тот смысл, который он вкладывал в это слово, проговорил:
— И долго еще драться будем. Жестоко. Но победим.
Еще немного помолчав, Андрей глубоко и шумно вздохнул и, точно оставив там, за этим вздохом, свои сомнения, неуверенность, спросил:
— Выходит, не случайно ты у нас снова оказался?
— Не случайно. Нас, бывших ссыльных и каторжан, партия направила для революционной работы сюда, в Сибирь, так как мы лучше знаем здешние условия. Я теперь частенько буду к вам наведываться.
Семенов взбил подушку, собираясь ложиться.
— Завтра проведем собрание, а вечерком поеду дальше. На обратном пути заеду еще к вам.
— Федя, — сказал Андрей, когда Семенов снова лег. — Я знаю, ты спать хочешь. Но… расскажи мне поподробнее… о партии этой самой… А?
В голосе Андрея прозвучало волнение. Уловив это, Семенов сам почему-то разволновался, отбросил одеяло. Нащупал в темноте руку Веселова.
— Слушай, Андрюша. Слушай, друг мой, — проговорил Семенов прерывающимся голосом.
Коротки летние ночи. А эта была, казалось, совсем короткой. Вроде только минуту назад Семенов стал рассказывать Андрею о партии большевиков, а уж засинел восток. Но Андрей не в силах был прервать рассказ, слушал и слушал, не перебивая, не задавая вопросов, почти не дыша…
* * *
На другой день в Локтях состоялось собрание жителей села.
Высказывались преимущественно те, кто был вчера во дворе Андрея.
Под конец образовали сельский Совет, куда вошли Веселов, Ракитин и еще несколько человек.
Зеркалов, Лопатин, Петр Бородин на собрание не пошли. Когда один из зажиточных мужиков прибежал к Гордею и сообщил о результатах, тот только сплюнул на жирный крашеный пол:
— Теперь везде митингуют. Глотку им не заткнешь.
— Так ведь организовали…
— Чего? — рявкнул Гордей.
— Этот… Совет.
— Плевал я на Совет. Подчиняйся, коль хочешь. Ну, чего глазами хлопаешь? Проваливай…
После собрания почти все перешли во двор Веселовых. Плохо выспавшийся Семенов опять отвечал на вопросы мужиков, объяснял, убеждал, советовал…
Григорий Бородин все эти дни отлеживался в самый зной в нижних, прохладных комнатах. На улицу он не выходил уже несколько дней, поэтому не знал, что происходит в селе. Правда, вчера, когда вечером пошел купаться на озеро, Степан Алабугин, убирая коня, сообщил ему о приезде какого-то человека. Но он не обратил внимания на слова работника, тупо подумав: «С фронта кого-то еще черт принес. Может, Павла Туманова…»
Сегодня же, когда спал зной, Григорий отправился бесцельно бродить по улицам. Навстречу ему изредка попадались люди. Отойдя, оглядывались, и Григорий, угрюмо шагая дальше, чувствовал на спине их взгляды.
Проходя мимо Веселовых, Григорий заметил между деревенских мужиков, сидящих возле дома, Федора Семенова. Бывший ссыльный студент, поблескивая из-под мохнатых бровей глазами, толковал мужикам о Временном правительстве, о войне, о каких-то Советах. «Ишь гусь какой объявился… А я думал, с фронта кто… Глазищи так и бегают…» — подумал было Григорий. Но в это время из сеней появилась Дуняшка и стала разносить чай — кому в стакане, кому в глиняной кружке. Едва Григорий взглянул на нее, улыбающуюся, сильную и гибкую, как по сердцу его кто-то опять чиркнул бритвой. Боль от прежних ран и без того не затихала, а тут как бы появилась еще одна, совсем свежая. И не было уже Григорию дела ни до Семенова, ни до его речей…
Встретиться с ним Григорию пришлось в тот же день. До вечера он просидел на берегу озера, а когда стемнело, неведомая сила снова потянула его к дому Веселовых. В пустынном переулке он столкнулся с бывшим ссыльным. Оба невольно остановились. Григорий заметил, как Семенов не торопясь положил в карман правую руку. Прямо в лицо ему светила луна. Но глаз Семенова Григорий не видел — их закрывала тень, падающая на лицо от огромных бровей. Однако Григорий все равно чувствовал, что глаза Семенова цепко впились в него, стерегут его малейшее движение.
— Че… чего ты? — вымолвил наконец Григории, чувствуя, как мороз ползет по коже.
— Проходи… Вот по этой стороне, — сказал Семенов. Голос его был глуховат, словно простужен…
Григорий постоял еще немного, повернулся и зашагалобратно. Идет ли за ним Семенов, Григорий не знал, шагов его позади не слышал. Но обернуться почему-то боялся.
* * *
Работников на время сенокоса Бородины так и не могли найти. Когда Петр Бородин пытался было завести с мужиками речь об этом, они заломили такую поденную плату, что старик невольно присел, да только и выговорил:
— У-у… Крест-то носите ли? Или побросали уж?
— Невыгодно — коси сам, — посоветовал Тихон Ракитин Бородину, спокойно досасывая толстую самокрутку. — Демьян Сухов вон сам с бабами своими на луг выехал.
— Вон вы какие стали… — крикнул в сердцах Петр Бородин. — Да ведь жрать-то надо вам!
— Ничего… Ты не дашь столько — Лопатин даст, — так же спокойно ответил Ракитин за всех.
И Григорий, слышавший разговор отца с мужиками, понял, что все дело тут в Веселове, который молча, не вмешиваясь, стоял позади других, посматривал на отца. А может, даже не в Веселове, а в Федьке-ссыльном, который недавно был в Локтях.
Лопатин действительно дал столько, сколько с него запросили. Узнав об этом, Степан Алабугин, работник Бородиных, потребовал расчет и тоже ушел на лопатинские луга. Бородиным пришлось косить самим.
Бородинские покосы примыкали к лопатинским. Там дело шло веселее. Григорий с отцом не выкосили и третьей части, а на соседнем лугу запестрели уже бабьи платки. Жены помогали мужьям сгребать накошенное
Среди женщин Григорий давно заметил Дуняшку. И однажды, уже вечером, когда они с отцом собирались уезжать домой, услышал, как Андрей сказал жене
— Ты, Дуняша, иди вперед, приготовь там чего поужинать. А я следом, только на речку обмыться сбегаю.
Григорий сел на телегу, и они с отцом поехали. У поскотины он передал вожжи отцу и соскочил на землю.
— Ты езжай, батя, а я… пройдусь, подышу холодком, — сказал он.
Отец молча принял вожжи и поехал дальше. А Григорий пошел по тропинке вдоль поскотины, сшибая кнутом, который забыл отдать отцу, головки белых ромашек. Но, отойдя шагов сорок, сел на землю за кустами.
Здесь, по этой тропинке, должна возвращаться домой Дуняшка.
Вечер был теплый и тихий; серый сумрак, сгущаясь, проглатывал пространство, но темнота ползла по земле, а вверху, над головой Григория, разливался еще голубоватый, успокаивающий свет.
Скоро Григорий услышал женские голоса, смех и вдруг с тревогой подумал, что Андрей, может быть, уже выкупался и теперь идет вместе с женой. Поднявшись с земли, Григорий отошел на всякий случай в кусты.
Дуняшка, подойдя к поскотине, попрощалась с женщинами и свернула в сторону своего дома. Григорий вышел ей навстречу из кустов, произнес тихо:
— Здравствуй…
— Ой, кто это? — вздрогнула Дуняшка, останавливаясь.
— Свои…
Видя, что Дуняшка пятится и вот-вот бросится назад догонять женщин, он поспешно добавил:
— Ты не бойся, я… так, по-хорошему.
Подойдя к ней поближе, Григорий ударил черенком кнута по сапогу, спросил:
— Ну, как живешь?
— Ничего, хорошо живу…
— Какой там… Посуды даже нет. Я видел: чай из глиняных кружек пьете…
Дуняшка стояла перед ним прямая, стройная, пахнущая солнцем, сухим душистым сеном и еще чем то таким, от чего пьянел Григорий и готов был снова упасть к ее ногам, плакать, просить, умолять, чтобы она шла сейчас с ним, в его дом, или наступила бы ему на горло ногой и стояла так, пока он не задохнется.
— Чего тебе надо-то? — недоумевающе проговорила Дуняшка, снова оглянувшись беспокойно назад.
— Да мне ничего, — промолвил Григорий.
— Пусти тогда…
Она сделала шаг в сторону, чтобы обойти Григория. Но он схватил ее за руку у плеча и зашептал:
— Ты пойми, Дуняшка… Я — я знаю, ты не можешь… сейчас. Но если что случится… через год ли… когда ли… ты приходи… возьму тебя… Завсегда возьму…
Он шептал ей в самое ухо, она уклонялась, пытаясь одновременно вырвать руку. Не помня себя, Григорий вдруг обнял ее — впервые в жизни обнял Дуняшку — и, чувствуя, как она, горячая и сильная, бьется в его руках, тихо засмеялся, приподнял с земли и так стоял несколько мгновений.
— Пусти, дьявол!.. — хрипло закричала Дуняшка, упираясь ему в грудь руками, откидывая назад голову, с которой упал на плечи мягкий ситцевый платок. — Да пусти же! Андрей!!
И в самом деле где-то близко послышался глухой топот ног. Кто-то бежал к ним по тропинке. Но Григорий не мог сейчас ни о чем думать. Поставив Дуняшку на землю, он правой рукой пригнул к себе ее голову и поцеловал в мягкие, теплые губы.
— Ах ты, сволочь!.. — раздался совсем рядом голос Андрея. Григорий повернул голову на крик и увидел в полутьме, как Веселов бежит к ним вдоль изгороди. Потом хрястнула под сапогом Андрея поскотина, и в руках Веселова оказался кол. Но и это не заставило бы, пожалуй, Григория выпустить из рук Дуняшку, если бы она не вывернулась все-таки сама.
— Ах ты… гнида! — И Андрей, подбежав, — гхы-к — изо всей силы опустил кол ему на голову.
И убил бы! Да трухлявый оказался обломок поскотины. Изъеденный червями, разлетелся он в щепы. Только тогда опомнился Бородин.
— Андрюха!! Убью!! — задохнулся он и, нагнув, как бык, голову, грузно пошел на Веселова. Свистнул в воздухе кнут, обвился вокруг руки Андрея. Он дернул к себе кнут с такой силой, что Григорий застонал: вывихнул, видно, руку.
— Мразь ты этакая… — тяжело хрипел Андрей, наступая на Бородина, полосуя его кнутом. Григорий, закрыв голову руками, пятился назад. Потом повернулся и побежал прочь, низко нагибаясь к земле.
Бежал не оглядываясь, рывками, как заяц по глубокому снегу.
4
На другой день пьяный Григорий ходил по деревне с новой плетью в руках, плевался и грозил отомстить Андрею Веселову, хлестал направо и налево женщин и дедок, если они не успевали свернуть с его пути.
Как-то Григорий очутился возле поповского дома. Отец Афанасий, направившийся было в церковь, остановился и заговорил с Григорием:
— Не к нам ли идешь?
— Пошел к черту, — коротко отрезал Григорий.
Поп не обиделся, схватил Григория за руку, зашептал:
— Бабка-то ваша — мастерица… Ты зайди к Маврушке — поправляется она…
— Ты что меня уговариваешь… волосатый дьявол? — угрожающе спросил Григорий.
— Так ведь мы условились с твоим батюшкой, что…
— Ну?..
— Что возьмешь ты Маврушку… И она согласилась за тебя.
— Вон что! А за батю она не согласная? — нахально спросил Григорий.
Поп только замахал руками.
— А что? — продолжал Григорий. — Раз с ним условились, за него и выдавай. Батя — он возьмет ее. Он ведь вдовец…
Не в силах больше вынести издевательства, поп махнул широким рукавом рясы и ударил Григория мягкой ладонью по лицу.
— Подлый ты совратитель!.. Сатанинская морда! Задушу, нечестивец…
Григорий с минуту смотрел, как поп неуклюже прыгает вокруг него, потом не спеша протянул руку, схватил отца Афанасия за рясу и бросил в сторону. Когда поп упал, Григорий принялся молча хлестать его плетью, стараясь попасть в голову. Поп закрывал ее руками и только повизгивал.
Стал сбегаться народ.
— Господи! Батюшку ведь он… Батюшку!!
— Ну да, попа лупит, — спокойно подтвердил Авдей Калугин, раньше других подбежавший к Григорию и попу.
Однако стоял, не вмешиваясь. Наконец подскочивший Игнат Исаев молча огрел Григория выдернутой из плетня палкой.
Григорий обернулся, но ничего не сказал. Дернув рыжеватыми, редкими пока еще усиками, он сплюнул и, пошатываясь, пошел своей дорогой.
Когда Петр Бородин узнал, что сделал Григорий с попом, схватился руками за свою маленькую голову, застонал и осел на лавку.
— Ну вот, ну вот! Берег тебя от солдатчины, а ты в тюрьму напросился… Ведь закуют тебя за попишку…
— Не каркай, батя… Мне все одно теперь… Только вот успеть бы еще одному человеку башку свернуть…
— Андрюшке, что ль? Как бы тебе наперед головешку не оторвали…
— Но, но!.. — Григорий, опухший от самогона, растрепанный, быстро, испуганно повернул к отцу почерневшее лицо. — Ты о чем это?
— Девок-то зачем хлещешь плетью? Ведь озлил всех, на тебя глядят, как на собаку бешеную. Пристукнут как-нибудь — и не знаешь кто…
Не зря предостерегал отец Григория. Через несколько дней в глухом переулке ему накинули на голову мешок и избили до потери сознания.
Очнулся Григорий от холода. Открыл с трудом глаза и увидел над собой лоснящееся при лунном свете лицо Терентия Зеркалова.
— Били? — коротко спросил Зеркалов.
Григорий не ответил.
— Так, — промолвил утвердительно Зеркалов. — А кто, не припомнишь? — И опять, не дождавшись ответа, продолжал: — А я иду, смотрю — лежишь… Думаю, били Гришку. Не то совсем убили!..
С Терентием Зеркаловым Григорий после того, как староста отобрал у них двух лошадей, не встречался. И теперь, рассматривая наклонившееся к нему лоснящееся лицо, думал: «Может, ты и бил, сукин сын».
Но тотчас вспомнил недавний разговор с отцом и решил: «Нет, не он, с какой бы стати…» Попытался приподнять с земли голову, но тут же вскрикнул от жгучей боли во всем теле.
— Вон как… они меня. Ну ладно, ну ладно… — тяжело, со свистом втягивая в себя воздух, простонал Григорий.
— Да, они тебя хорошо отделали, — согласился Зеркалов. — Ну, давай руку…
Не обращая внимания на стоны Григория, Терентий взвалил его на плечи и понес.
— Вот, получай своего ненаглядного сынка, — сказал он Петру Бородину, выскочившему на шум из дома. — Если к утру не отдаст богу душу, то отойдет. Тогда из благодарности поставит мне бутылочку…
Григорий проболел до конца октября. Наконец понемногу начал вставать. Часто, завернувшись в одеяло, садился у окна и подолгу смотрел на пустынную гладь озера. Отец тоже молчал, по комнатам ходил осторожно, боясь скрипнуть половицей. Бабку-стряпуху и раньше не было слышно, а теперь она и совсем притихла на кухне, даже не гремела посудой. В доме будто никого и не было.
Днем еще доносились с улицы кое-какие звуки, а ночью все мертвело.
И казалось Григорию, что на всем свете нет ни одного живого существа. Иногда только слышал Григорий, как шептала в кухне свои молитвы старуха и сдержанно вздыхала.
— Покойник, что ли, в доме? — спросил Григорий отца.
— Вроде того, — отозвался угрюмо отец. — Весь мир, должно, помирает…
Григорий не понял отца, но переспрашивать не стал. По ночам опять слушал бабкины вздохи и думал о том, что отец стар, скоро помрет, и он, Григорий, останется один на всем белом свете. Ему ведь надо жить, а как жить? Чем?
И вдруг Григорий с ужасом подумал, что жить ему будет нечем. Ведь отец… отец человека загубил, чтобы «выйти в люди», поставить крепкое хозяйство да зажить припеваючи. Даже мать… не пожалел. Мать умирала, а им с отцом было не до нее. Старались быстрее засеять купленную землю. И вот… вот теперь опять ничего нет у них. Лавка сгорела… Двух коней — да каких! — увел Зеркалов. Но если бы только коней! Сколько отец передавал ему золота? Кабы не это, еще бы можно было подняться… И Дуняшка… Помыкала бы горе с Андреем, да и… Уж он, Григорий, сумел бы отобрать ее.
Оживали в памяти события за поскотиной, душила ненависть к Андрею Веселову. «Ну, погоди, погоди, я встану!.. — шептал он, не разжимая зубов. — Расплачусь с тобой, уж сумею как-нибудь, дождусь своего часа, дождусь…»
А потом опять принимался думать о хозяйстве, о своем будущем. Да, все разваливается, правильно отец сказал: скоро засверкаешь голым задом. Неужели ничего нельзя теперь поправить? Посевы вон неплохие. По-хорошему-то убрать давно надо было. Осталась лошадь, есть веялка. Есть плуги, бороны… Дом вон какой, с завозней. Сена накосили и на корову и на лошадь… Да ведь черт! Есть еще кое-что, и если взяться — все наверстать можно… Работник вот ушел — жалко…
А старуха в кухне все вздыхала, шептала молитвы, мешала Григорию думать. Он морщился, как от зубной боли, и ворочался с боку на бок. «Зачем отец держит старую каргу! Ведь говорил ему: взял бы помоложе кого — толку больше…»
Худой и желтый, Григорий ходил по комнатам, по двору, заложив в карманы огромные руки, заглядывая во все закоулки, точно проверяя, что еще осталось от их хозяйства.
— Как там поп? — спросил однажды у отца будто невзначай, останавливаясь посреди двора.
— Ага… — протянул отец, встряхивая головой, и в голосе его прозвучали почему-то злорадные нотки. — Ага, вспомнил, значит?
— Пьяный я был ведь, батя, — покорно проговорил Григорий. — Он что, пожаловался?
— Уж должно быть… Жди гостей, сынок…
— А чего ты радуешься? — буркнул Григорий. — Ну, засудят… А как ты с хозяйством один?
— Э-э… где оно, хозяйство-то? — Старик оглянулся кругом. — Было, да сплыло… Ты хвораешь, урожай мне одному, не под силу убрать, осыпается ведь, а работников теперь нанять — золотую рыбку из озера вытащить… Того и гляди белые мухи полетят. Пропали мы…
— Ничего… Выправимся, батя. Завтра убирать начну. Только… сходил бы ты к попу, а? Согласен, мол, Гришка жениться… Может, отойдет поп… а?
— А дальше? — сощурил глаза старик.
— Ну, там видно будет… Ты сам говорил: обещать — еще не дать.
— Тьфу, — плюнул со злостью старик и растер плевок сапогом. — А ты не крути, женись — да все тут. Тогда я пойду, может…
Григорий молчал.
— Да ведь, сынок, чего тебе? — подступил к Григорию отец, хватая его за пиджак. — У попа водятся деньжонки, потрясем его. Время, правда… неспокойное. Да, может, уляжется все. Я ли тебе зла желаю? Женись, сынок…
— Ладно, сказал же — там видно будет… — неопределенно ответил Григорий и пошел в дом, но обернулся и промолвил: — И вообще, батя, рано опускать руки. Мы еще встанем. И возьмем свое. Про рыбокоптильню не забыл? Я помню. Погоди, всему свое время. Так что сходи к попу. И Анну Туманову встретишь — позови. Не потому что… а так… работы вон сколь в доме!..
В тот же день Петр Бородин сходил к попу Афанасию.
— Ну что? — спросил Григорий, когда отец вернулся. — Уговорил?
Старик бросил в угол костыль, вместо ответа громко выругался.
— Что? Не уговорил? Или… успел жалобу настрочить? — не на шутку испугался Григорий.
— Куда ему жаловаться-то? Опоздал он, вот что… Там, — махнул старик за окно, где плескалось озеро, — там, в городе, говорят, такое творится — все вверх дном стало!
Григорий, пытаясь сообразить, в чем дело, опустился на стул, уперся руками в колени, стал смотреть себе под ноги, покачивая головой.
— Ну ладно. Может, еще… — неуверенно проговорил наконец Григорий. — Нам-то все равно… Что терять осталось?
— Что терять? — переспросил старик. — Теперь уж видно что… Опоздали и мы, однако, сынок, со своим хозяйством, как поп с жалобой. А поп не наврал. Лопатин вон грузит добришко да в лес подводу за подводой… Чует, подлец, какой ветер дует… Такие дела! Э-э… — Старик махнул рукой и поплелся в кухню.
Вечером к Бородиным завернул Терентий Зеркалов. Тряхнув по привычке косматой головой, проговорил:
— Ну, отошел, стало быть? Я и то думаю — пора. Полагаю, бутылка самогонки за тобой…
— Садись, — кивнул Григорий на стол и ногой пододвинул табуретку.
Старик сам принес бутылку крепкого первача, поставил перед Зеркаловым, спросил:
— Что отец-то говорит?
— Всякое. Выпьет — матерится, а трезвый — молчит больше.
— Ну, не прикидывайся дурачком. Пей давай.
Зеркалов сам налил себе в стакан, потом хотел налить Григорию, но тот закрыл стакан ладонью.
— Что так? — спросил Зеркалов, не выказывая особого удивления.
— Слаб еще после… после болезни, — ответил Григорий.
— Ага. Ну, поправляйся, набирайся сил.
Опьянел Терентий быстро, после первого же стакана. Встряхивая головой сильнее обычного, спросил Григория:
— Слыхал, Маврушка-то? Пришла в себя… Теперь бы самое время опять под окном у нее посвистеть, да… некому. Уехали…
— Как уехали?! — даже привстал со стула Петр Бородин. — Когда, куда? Я ведь сегодня только у них был!
— Куда — не знаю. А когда — могу сказать. Только что сундуки склали на подводу — и Митькой звали. Попик, брат, не промах, раздумывать не любит. Чемоданчики заранее приготовил.
— Врешь? — задохнулся Петр Бородин.
Зеркалов усмехнулся, посоветовал:
— Сбегай к их дому, посмотри, коль не веришь. Остались мы без попа.
— Значит… что же это делается на земле? Он ведь говорил мне, что в городе… того, началось. А я еще — верить, не верить… Значит, пропадем? А?
— Ну-у! Зачем так скоро? Мы еще посмотрим… — Терентий замолчал, глянул вначале на неподвижно сидящего Григория, потом на его отца и проговорил: — Ты, папаша, вот что… Поди-ка отсюда, мы поговорим с Гришухой… по одному делу.
— Так ведь что же… — начал было старик, но Зеркалов встал, взял Петра Бородина за плечи. Старик, не сопротивляясь, поднялся и вышел.
Возвратясь к столу, Зеркалов опять налил из бутылки себе и Григорию, прошептал:
— Я тебе вот что хочу сказать… Тебя знаешь кто разделал в переулке?
— Ну? — приподнял голову Григорий.
— Андрюха Веселов.
Григорий резко повернулся к Зеркалову, и тот сразу замолчал.
— Ну, говори, — задыхаясь, попросил Григорий.
— Что говорить? Я подбежал на шум — Андрюшка с компанией трудятся вокруг тебя. Тогда я… вот так…
Терентий сунул руку за пазуху — и в руке у него холодно блеснуло лезвие ножа. Григорий впился в него сузившимися глазами, и тонкие ноздри его стали едва заметно подрагивать.
— Это, знаешь, штука! — проговорил Зеркалов, играя ножом. — Они и сыпанули от тебя, как горох… Вот что, брат… А то бы замолотили.
Зеркалов еще повертел в руках нож и хотел спрятать, но Григорий схватил Терентия за руку:
— Дай сюда!..
— На… — тотчас проговорил Зеркалов и наклонился к самому уху: — Это ты правильно. Только верни потом.
Через несколько минут они вышли на пустынную улицу.
На небе не было ни луны, ни звезд. Огней в домах люди почему-то тоже не зажигали. Казалось, деревня притаилась на берегу огромного озера в ожидании чего-то необычного. Над крышами кое-где маячили темные пятна тополей. Время от времени в ветвях деревьев возились спросонья неуклюжие, отъевшиеся за лето галки, но быстро затихали. И опять устанавливалось над деревней полнейшее безмолвие.
Григорий, чуть нагнув голову, широко и твердо шагал по улице в ту сторону, где жил Андрей Веселов. Терентий семенил рядом, забегая то с правой, то с левой стороны.
— Ты только, Гришуха, не теряй времени… Выйдет Андрей, ты р-раз — и маху в лес, — шептал он то в одно, то в другое ухо. — Тебе это потом зачтется… в заслугу. Ты уж поверь — зачтется, раз я говорю.
— Отстань, — сквозь зубы цедил Григорий, почти не слушая его.
Но Зеркалов не унимался:
— Главное — чтобы без шума… и быстрее. А то — Ракитин напротив живет. Понял?
— Понял. Отстань ты…
— Э-э, ничего ты не понял! — досадливо воскликнул Зеркалов. Но когда Григорий очутился перед домом Веселова, Терентий куда-то исчез.
Несколько секунд передохнув, Григорий нагнулся и вытащил из-за голенища сапога нож… Потом грохнул ногой в дверь:
— Вылазь!.. Должок пришел отдать…
Но за дверью было тихо. Григорий, еще помедлив немного, нажал на нее плечом И в ту же секунду кто-то схватил его за шиворот и отбросил прочь.
Не поняв толком, что случилось, Григорий тотчас вскочил на ноги, сжимая рукоятку ножа.
— Ты вот что.. Поворачивай отсюда, понятно? — услышал он слева от себя голос Тихона Ракитина и, вздрогнув, резко обернулся. Ракитин стоял у палисадника в тени деревьев.
— Ты!.. Чего мешаешься? — крикнул Григорий, подскакивая к Ракитину. Но в то же время скрипнула дверь, и Григорий невольно обернулся на звук. В дверях, закутанная в большой платок, стояла Дуняшка.
Потом она не спеша спустилась с низенького крылечка и подошла к Григорию, придерживая рукой сползающий с плеч платок. На Григория пахнуло теплом молодого, свежего, разогретого сном женского тела, и у него закружилась вдруг голова, мелко задрожали ноги, отказываясь сдвинуться с места.
— Дай мне ножик, — спокойно потребовала Дуняшка и протянула руку.
Григорий покорно отдал ей нож и стал оглядываться по сторонам, точно недоумевая, как здесь оказался.
Дуняшка, пряча нож под шаль, сказала негромко и властно:
— Уходи отсюда сейчас же…
Григорий поднял глаза на Ракитина, точно спрашивая: «Уходить или нет?» — повернулся и, сгорбившись, зашагал обратно, так и не вымолвив больше ни слова.
Едва отошел на несколько шагов от Дома Веселова, как откуда-то из темноты вынырнул Терентий Зеркалов, рванул его за плечо:
— Ты-ы… слюнтяй!.. Надо бы хоть Ракитина… И тем же поворотом — в избу. Застал бы Андрюху в одних подштанниках. А ты… раскис перед бабой…
Григорий остановился, прохрипел:
— Ничего… ничего. Я еще отомщу… Он еще от меня… — И пошел дальше, нагнув голову.
Глава четвертая
1
Хлеб Бородины все-таки успели убрать и составить в суслоны до снегов. Вечером, лежа в постели, Григорий чувствовал, как дрожат от перенапряжения ноги.
Едва закончили уборку, повалил снег. Потом, как обычно, до самого нового года дули северные ветры, заметая дороги, леса, деревушки.
Слушая вой ветра за стеной, Григорий все время думал почему-то о том, как хлестал его плетью Андрей, как бежал он от него, низко пригибаясь к земле. И в который уж раз у него в мозгу билось одно и то же: «Ну, погоди, погоди…»
Много смысла вкладывал Григорий в это «погоди». Звучала в нем не просто ненависть к Андрею. Не-ет, убить Веселова, просто прийти к нему и зарезать, как советовал Терентий Зеркалов, — этого мало. И хорошо… что вышла тогда Дуняшка, а не сам Андрей. Надо его живого втоптать в грязь, смешать с землей, отобрать Дуняшку, увести ее к себе в дом на его глазах. И надо сделать так, чтобы жизнь или смерть Андрея зависела от его, Григория, желания…
И сделать это можно. Нужно только время. Надо поднимать хозяйство, стать в десять, в сто раз богаче Лопатина и Зеркалова, вместе взятых. Ведь богатство — власть, сила… Ну, погоди, погоди…
Это желание разбогатеть, возвыситься над людьми появилось у Григория давно. Но сначала оно маячило далеко и смутно. А после того дня, когда стоял он на коленях перед Дуняшкой, мысли о богатстве овладели им без остатка. И, как ни странно, они разгорались тем сильнее, чем больше доходило вестей о грозных революционных событиях в городе.
Казалось Григорию, эти вести словно птицы приносили теперь на хвостах из-за озера. И чуть что — сразу собрание в Локтях, митинг, на стол залазит Андрюха и начинает высказываться. Мужики смотрят ему в рот, ловят каждое слово, окружают плотным кольцом. Так потом и провожают до дому словно на руках несут. «Даже ночью охраняют, сволочи», — думал Григорий, вспоминая свою неудачную попытку отомстить Веселову.
Несколько раз Григорий видел в деревне Федора Семенова. Бородин почему-то боялся его и каждый раз спешил свернуть в сторону, думал раздраженно: «А Гордей Зеркалов чего смотрит? Взял бы да и стукнул его промеж бровей-то…»
А потом дома размышлял, тяжело ворочаясь с боку на бок: «Стукнешь, пожалуй… Мужичье тогда в клочья разорвет. Когда-то были тише воды, ниже травы, а теперь власть свою организовали, вместо старосты Андрея выбрали. Может, у каждого обрез в рукаве».
И с каждым днем Григорий теперь все острее и отчетливее понимал: сколько зря, совсем зря потеряно времени и возможностей! И в иные минуты подкрадывалось откуда-то: а не опоздал ли он в самом деле? Невольно поднимался тогда по всему телу легкий озноб, подкатывал к сердцу липкий, неведомый доселе страх, веяло на него сырым холодом, будто стоял он на краю глубокой темной ямы и заглядывал вниз. Среди ночи часто просыпался, смотрел в темноту широко открытыми глазами и никак не мог понять: то ли в самом деле приснилось, что стоит на краю могилы, то ли подумал об этом только сейчас, проснувшись.
И все-таки теплилась в груди малюсенькая, но цепкая надежда, что если даже и на самом деле произошла где-то эта самая революция, то заброшенных в глухомани Локтей она не коснется, пройдет стороной. Помитингуют мужики, поиграют в свою власть, позабавляются в Советы, как котята с клубком ниток, да все и останется здесь по-прежнему. Жрать-то Совет не даст, на жратву заработать надо, а работа у кого?
Но и эта малюсенькая надежда исчезла: как-то утром, выглянув в окно, Григорий увидел: над лопатинским домом развевался красный флаг.
Сузив глаза, Григорий долго молча стоял у окна. Сначала только сердце стучало: «Опоздал, опоздал…» Потом ему почудилось, что он, Григорий, качается в теплой мыльной воде и вдруг неосторожным движением задел внизу ледяную струю. Колючий, пощипывающий холодок сковывал все тело, мутил голову.
Ветер гнал на улице, крутил у мерзлых ворот жидкую поземку, сдувал с лопатинского дома снежную пыль…
И окатила Григория новая волна отчаянной злобы на Андрея Веселова, на Федора Семенова, на весь мир…
Накинув полушубок, Григорий побежал к Терентию Зеркалову. Больше ему идти было некуда. Долго стучался в двери, дергал ее покрасневшими на морозе руками, пока не услышал за спиной:
— Чего ломишься? — Сзади стоял Терентий. Он вышел через заднюю дверь во двор, а оттуда к Григорию. — Пойдем, — снова коротко сказал Терентий, не дожидаясь ответа Бородина. Повернулся и пошел во двор. Григорий соскочил с крыльца.
Дом Зеркаловых был пуст. В комнатах в беспорядке валялась старая одежда, мешки из-под муки, стулья, пустые сундуки. «Вот оно что! — подумал Григорий. — И Зеркаловы увезли добришко!»
— Вы что же это? А я думал: только Лопатин да поп… — И Григорий обвел руками пустые комнаты.
— Не мешало бы и вам, — ответил Зеркалов. — Лопатина вон грабят, Веселов раздает мужикам все, что не успел вывезти Алексей Ильич.
Григорий только усмехнулся:
— Нас раньше еще… — Он хотел сказать «ограбили», но, заметив, как раздулись тонкие ноздри Терентия, запнулся. — А теперь что же… Сегодня смотрю в окно — флаг…
— Раньше не решались, а теперь вывесили, сволочи, — кивнул головой Терентий. — Революция, говорят, произошла где-то там…
Этого Григорий уже не понимал. Повертев головой, он спросил:
— Так сколько их, этих революций, будет? Ведь, по слухам, была уж одна.
— Я почем знаю! — заорал вдруг Терентий, затряс головой так, словно раз и навсегда решил вытрясти из нее всю перхоть. Однако добавил: — Говорят, то была какая-то буржуйская революция, теперь эта… как ее? Булькающее такое слово… пролетарская.
— Как же теперь, а? Что же будет?
— Раз пришел — выпьем, что ли? — вместо ответа проговорил Терентий. — Батя в отъезде, понимаешь, один я…
Григорий равнодушно посмотрел на стакан самогонки, который подсунул ему Терентий, потом снова обвел глазами пустые комнаты.
— В отъезде? — переспросил он, выпил одним духом самогон и прохрипел: — Сволочи!
Пока Терентий соображал, кого Григорий назвал сволочами — тех, кто вывесил красный флаг, или их, Зеркаловых, Бородин вышел.
… До вечера бродил Григорий по улицам, прислушивался к разговорам. Мимо него мужики несли лопатинское добро — посуду, одежду, зерно. Помедлив, Григорий двинулся к дому лавочника. Навстречу бежали неразлучные Ванька Бутылкин и Гошка Тушков. Гошка тащил узел какой-то одежды, прижимая к животу обеими руками, а Ванька Бутылкин — круглое блюдо, ведро и два ухвата.
— Ухваты-то зачем взяли, черти? — не удержался Григорий от удивленного возгласа.
— А что? Пригодятся, — буркнул Ванька. — А то продадим…
— Ты иди, иди скорей туда, — мотнул Гошка головой назад. — А то все растащут. Черт, побежали, Ванька, а то не успеем больше…
Все двери лопатинского дома были открыты настежь. Оттуда валил пар, беспрерывно выходили люди с узлами, с набитыми чем-то мешками. Много народу толпилось и во дворе. Здесь раздавали чай, сахар, ситец и другие товары, вытаскивая все это прямо из лавки. Некоторые из страха отказывались.
К удивлению Григория, не кто иной, как Федот Артюхин, убеждал:
— Берите, берите, потому — Советская власть. Сейчас повсеместно буржуйское добро простому народу раздается.
Старики позажиточней недружелюбно посматривали на разглагольствующего Федота. Однако вели себя пока осторожно, держались кучкой.
— Может, и нас зачнут трясти после Лопатина? — тревожно смотрел Игнат Исаев на Демьяна Сухова и других стариков.
— Не должно, — ответил ему Демьян Сухов. — Лопатин вечно в кабале народ держал, а я, к примеру, все своим горбом нажил. У меня за всю жизнь работников не было.
— Глядите, глядите, старики… А то, может, правильный пример батюшка Афанасий указал нам, а?
— Да куда мы поедем с родной деревни-то? Куда? — спрашивал Кузьма Разинкин. — Мне, к примеру, некуда… Может, ничего, может, обойдется…
— Ну, ну, глядите сами, — не унимался Игнат Исаев.
Григорий окликнул Федота. Тот вскинул голову, улыбнулся ему, как старому знакомому.
— А, Бородин!.. — И выбрался из толпы. — Здорово, Гришка!
Григорий на приветствие не ответил, хмуро спросил:
— Ты откуда объявился?
— С того света, Григорий, и без пересадки — в Локти. Прострелили ведь мне немцы окаянные легкое на фронте… А потом доктора чуть не замучили. Третьего дня я и прибыл к женке…
Григорий повернулся и пошел прочь, будто только и приходил, чтоб поговорить с Федотом.
Терентий Зеркалов в новом, туго затянутом широким ремнем полушубке с пышными сизоватыми отворотами тоже болтался среди возбужденно шумевшей толпы, сдвинув на затылок шапку, прохаживался во дворе лопатинского дома. Подойдя однажды к Андрею Веселову, спросил, нехорошо усмехаясь:
— Та-ак-с… Грабите?
— Конфискуем кулацкое имущество, — ответил Веселов.
— Ну, ну… — И отошел, посвистывая.
Тихон Ракитин проводил его взглядом, спросил у Андрея:
— Чего он ходит тут? Отец скрылся, а сынок ходит по деревне, высматривает что-то. Не нравится мне это, неспроста. Может, арестовать его? Ведь тоже… элемент.
— Отца-то надо бы, точно. А сына… Приедет Семенов — посоветуемся, — ответил Веселов.
— Может, мы и с Лопатиным неправильно, а? — засомневался Ракитин вдруг. — Может, опечатать бы пока имущество да караул поставить?
— Ну, здесь все по закону, — сказал Веселов. — Постановление Совета было? Было. Вот опоздали только, дали сволочам главное-то добро упрятать.
Прошел день, два, неделя. Возбуждение, вызванное в. народе известием об Октябрьской революции, немножко улеглось. Из города пока никто не ехал. О Семенове тоже ничего не было слышно.
Андрей Веселов, Тихон Ракитин и другие члены Совета теперь допоздна засиживались в лопатинском доме, прикидывая, что же делать дальше.
Часто заходил сюда Федот Артюхин, не снимая шинелишки, грелся у печки. А отогревшись, вступал в разговор:
— Чего нам думать? Власть Советская установилась? Установилась. Теперь — заживем!..
— Так ведь надо как-то… по-другому теперь, — высказал однажды мысль Авдей Калугин.
— Чего по-другому? — вскидывал голову Федот. — Пахать будем весной да сеять на лопатинских, на зеркаловских землях… Вот тебе и заживем!
— Э-э, замолчи тогда… — махал рукой Степан Алабугин. — Вот нам, к примеру, на чем пахать и сеять? Не на чем. И семян нету у нас. Вот и выходит мне продолжение гнуть спину на Бородина.
Степан пошлепал по горячей печке-голландке красными от холода руками и, взглянув на Калугина, закончил:
— Не-ет, Авдей правильно говорит: по-другому надо теперь как-то. А как?
— Семян дадим тебе, Степан. И плуг выделим, — говорил Андрей. — А вот лошадь — тут подумать надо. Нет у нас лошадей, кулачье угнало своих. Но ты не горюй, из положения выйдем. Я думаю так, товарищи… Всем безлошадным отведем землю в одном месте. Зажиточных мужиков обяжем по одной лошади на время сева выделить. Вот и вспашете.
Андрей останавливался, думал.
— Вот так… А может, еще что придумаем. Власть наша теперь. Без пашни не оставим никого, Степан.
* * *
До конца зимы Григорий редко показывался на улице. Зато отец его каждый день бегал «по новости». Возвращаясь, сбрасывал заскорузлый на морозе полушубок, со звоном кидал в угол палку, вытирая слезящиеся глаза, и говорил одно и то же.
— Чего им, сволочам. Жрут лопатинский хлеб.
Затем отец стал приносить более подробные новости: вчера исчез, уехал куда-то Терентий Зеркалов, сегодня состоялось собрание жителей всего села, и беглый Федька Семенов высказывался прямо со стола…
— Какое собрание? О чем? — спросил Григорий.
— А бес их знает! — зло ответил отец. Но, походив из угла в угол, проговорил: — Андрюшка Веселов тоже высказывался: все вы, говорит, должны поддержать Советскую власть.
А недели через три принес откуда-то газету и швырнул ее в лицо Григорию:
— Читай. Сказывают, про то собрание тут напечатано.
Газета называлась «Революционная мысль». Григорий долго рассматривал ее со всех сторон, пока отец не ткнул пальцем в газетный лист:
— Ты здесь читай…
Григорий прочитал заголовок, подчеркнутый тонкой линейкой: «Голоса из деревни». И ниже, крупными буквами: «Крестьяне поддерживают Советскую власть».
Дальше шли резолюции, принятые на собраниях сел и деревень уезда. Каждая начиналась словами: «Мы, граждане села Бураевка…» «Мы, жители деревни Ново-Михайловка…» И, наконец, Григорий прочитал: «Мы, крестьяне села Локти, обсудив вопрос о Советской власти, считаем, что Советы есть истинный наш государственный орган, который защищает интересы трудового народа. Мы выражаем полное доверие Советской власти и будем всеми силами поддерживать ее. Председатель сельского комитета Веселов».
— Где взял? — только и спросил Григорий, бросая газету.
— Где?.. Веселов народу раздает их…
Ночами по-прежнему свистел ветер за стеной, гонял снежную поземку по обледенелой поверхности озера, по черным глухим улицам села, громко хлопал красным флагом на крыше лопатинского дома…
2
Весна 1918 года пришла в Локти вместе со слухами о страшном голоде, который гуляет по России.
— Бог — он все видит, он не простит, — зловеще поговаривали мужики позажиточней. — Голод — еще цветочки, того и гляди мор зачнется… Узнает народишко, как на царя руку поднимать…
— Сказывают, у всех мужиков будут хлеб отбирать, чтоб большевиков кормить.
— Андрей Веселов уже бумагу получил, в которой приказано у всех начисто сусеки выгресть.
— Чего болтаешь, а сеять чем будем? И до осени чем питаться?
— Жрать теперь необязательно, молитвой сыт будешь. А поскольку так — зачем сеять?
Андрей действительно ходил по деревне мрачный, озабоченный.
А вскоре объявил общий сход.
— Вот какое дело, товарищи, — тихо начал он, когда народ собрался.
— Нашел товарищей…
— Они у тебя, поди, по лесу рыщут, волками зовутся… — раздался голос Петра Бородина.
Бледнея от клокотавшей в груди ярости, Андрей, чтобы как-то сдержаться и не двинуть Бородину прямо в рожу, сунул руки в карманы, отвернулся и стал смотреть на запутавшихся в ветвях невысокого тополя воробьев. Толпа смолкла, напряженно замерла в ожидании.
Справившись с собой, Андрей ответил Бородину, так и не вынимая рук:
— Мои товарищи — вот они стоят, вокруг меня. Мои товарищи там, в Москве и Петрограде, борются за Советскую власть. Многие мои товарищи головы свои сложили за эту власть, но завоевали ее. А оставшихся в живых буржуи хотят с голоду уморить. По лесам-то рыщут твои товарищи, Бородин, вроде Зеркалова да Лопатина. Они попрятали там, в лесах, хлеб, пожгли его, засыпали им колодцы. Вот почему голодают рабочие Москвы и Петрограда…
Андрей говорил медленно и негромко. Но люди стояли не шелохнувшись. Поэтому каждое слово отчетливо печаталось в полнейшей тишине.
Петр Бородин повертел головой из стороны в сторону, как сова при ярком свете, и стал проталкиваться из толпы.
— В общем, от нас, крестьян, зависит сейчас многое, — продолжал Веселов. — Зависит судьба Советской власти. Голод — не тетка, и если мы не поможем…
Вперед тотчас же выступил Кузьма Разинкин и, перебивая Андрея, закричал, чуть ли не плача:
— Да ведь у нас самих сеять нечем!.. Нечем!..
— Это у тебя-то нечем? Амбар от пшеницы ломится…
— В амбаре есть, да не про твою честь…
— Взять у него, как у Лопатина!..
— Я тебе не Лопатин, я своим горбом хлеб выращивал… Тронь попробуй! — заявил Кузьма, невольно стихая, прячась за спины мужиков.
— Тронем! Подумаешь, девка стыдливая — не прикасайся к ней.
Веселов еле успокоил расходившихся мужиков, достал из кармана газету.
— Вот послушайте, что пишут нам, сибирякам, рабочие Петрограда: «Товарищи сибиряки! На вас…»
— Постой, так и пропечатано: «Товарищи сибиряки»?! — воскликнул вдруг Федот Артюхин, питавший особое доверие к печатному слову: — Покажи!
Взяв газету, Федот долго, по слогам, вслух складывал слово: «то-ва-ри-щи…» И, засветившись от удовлетворения, вернул газету Веселову:
— Верно ить, чтоб их козел забодал… Так и пишут. Читай-ка, Андрей.
— «Товарищи сибиряки! — снова прочитал Веселов. — На вас вся надежда красного Петрограда. Юг у нас отрезан изменниками — калединцами, в северных же губерниях хлеба для себя не хватает, так что нам здесь, петроградцам, приходится вести двойную борьбу — с буржуазией и с голодом…»
— Видали! — обернулся Федот к народу. — С буржуазией, то есть с такими, как Лопатин наш… да еще кое-кто. И с голодом…
— «Борьба становится страшно напряженной, — продолжал читать Веселов, — и ваша товарищеская поддержка нам необходима. Голод — это страшное орудие в руках буржуазии, и от вас, товарищи сибиряки, зависит не дать буржуазии воспользоваться этим орудием и восторжествовать над революцией. Товарищи сибиряки, мы просим вас, как ваши братья по крови и плоти, снабдите красный Петроград — это мозг и сердце великой русской революции — хлебом, и тогда дело свободы русского народа будет обеспечено…»
— Понятно, чего там… Красно написано, да только не для нас… — крикнул, не вытерпев, Игнат Исаев.
— Как не для нас, как не для нас?! — замахал руками Федот.
— Ясно все, Андрей. Сколь можем — поможем… — отчетливо сказал Авдей Калугин.
— Говори, по скольку пудов с каждого двора положено…
— С кого положено — пусть берут. А у меня нету хлеба… — не сдавался Исаев.
Андрей еще подождал, пока немного улягутся страсти. Потом проговорил:
— Нам надо собрать двести пятьдесят пудов. Мы распределили тут, кому сколько сдать… У кого только на семена осталось — брать не будем…
Последние слова Андрея потонули в поднявшемся гвалте. Кричали преимущественно зажиточные, и громче всех — Игнат Исаев:
— Видали — они уже распределили…
— А ты считал, сколь у меня хлеба?
— Вот те и Советы — грабят народ…
Демьян Сухов, молчавший до этого, вдруг сказал неожиданно для всех, обращаясь к Исаеву:
— Да ведь слышал же ты, Игнат Дементьевич, — люди в Петрограде голодают.
— А по мне хоть повсюду пусть подохнут… Ишь ты, жалостливый какой нашелся!..
Веселов закричал, перекрывая все голоса:
— Ти-хо! Спокойно, говорю!..
Шум медленно пошел на убыль. Не дожидаясь, когда он стихнет окончательно, Андрей проговорил сурово:
— Насчет хлеба разговор не шуточный у нас…
Петр Бородин не стал дожидаться конца собрания, побежал домой. Он с таким грохотом швырнул свою палку в угол, что Григорий, привычный к таким возвращениям отца, на этот раз удивленно поднял голову:
— Чего ты гремишь?
— Чего, чего… Хлеб отбирать будут, вот что! Господи, что за напасти на нас!!
— Кто будет отбирать хлеб, почему?
— Почему? Сходи на улицу. Народ расскажет тебе…
Григорий оделся и вышел.
Вечером Петр Бородин, отодвинув чашку с чаем, спросил у сына:
— Что же, Гришенька, делать будем? Может, закопаем хлебушек?
— Как ты закопаешь? Земля-то мерзлая еще.
— А как же быть тогда?
Григорий молча поднялся и пошел спать. Утром вывел из конюшни лошадь и стал запрягать.
— Куда? — высунулся было отец в двери.
— Хлеб повезу Андрюшке.
Старик только икнул и осел на пороге. Григорий краем глаза глянул на отца, усмехнулся и, сжалившись, проговорил:
— Ждать, что ли, когда сами придут к нам? Я узнал вчера, нам немного — двадцать пудов. Отвезем, чего уж… Демьян Сухов вон — тоже повез. Пусть подавятся. А остальное — спрячем куда-нибудь, как земля оттает…
Старик покорно кивал головой.
Несколько недель спустя Григорий действительно выкопал ночью во дворе яму, сложил туда мешки с пшеницей и зарыл. Сверху навалил еще кучу навозу.
Меры предосторожности Бородины приняли не зря. В течение лета Веселов несколько раз объявлял о дополнительной продразверстке. Но Петр Бородин отговаривался, что зерна у него нет, а сколько было — все сдал.
— Спрятали вы хлеб, — говорил Тихон Ракитин, не веря Бородину.
— А ты приди, поищи, — предлагал старик, а у самого сердце заходилось: «Вдруг найдут».
Приходили, искали, но безрезультатно.
— Ты, сынок, сена бы привез возика два, сметал на то место, — сказал Петр сыну как-то уже под осень. — Все-таки спокойнее было бы… Игнат Дементьич вон тоже под навоз спрятал. Нашли вчера. Как бы не навело их теперь…
Но именно сено и «навело» на бородинский тайник.
Хмурым октябрьским утром во двор ввалилась куча народу. На крыльцо в расстегнутой телогрейке вышел Григорий, сел на перила, зевнул. Достав из кармана горсть каленых семечек, начал плевать на землю, не обращая внимания на людей. Среди толпы стоял и Федот Артюхин. Сдвинув на затылок военную фуражку, он выдвинулся вперед и негромко крикнул:
— Эй, ты!..
— Ну, — коротко отозвался Григорий.
— Не нукай, не запряг еще, — огрызнулся Федот.
— Вы по какому делу? — спросил Григорий сразу у всех. — Если насчет хлеба, то зря. Нет у нас лишней пшеницы.
— А чего это сено вздумали перевозить так рано? — спросил Тихон Ракитин.
— Какое сено? — невольно вскочил с перил Григорий. Но, поняв, что выдает себя, поспешил сесть обратно.
— А вот это самое, — указал Артюхин рукой через плечо. — В прошлые годы ты всегда по первопутку возил, а то и зимой.
— В самом деле, мы проверим, Григорий, — проговорил Веселов. — Ну-ка, тащите с пяток вил.
Григорий не знал, что делать. Но когда в руках у мужиков появились вилы, сорвался с крыльца, подскочил к Веселову.
— Не дам! — закричал он в лицо Андрею. — Разворочаете замет, а кто складывать будет?
— Отойди, — спокойно проговорил Веселов. — Если ничего нет под сеном, сами сложим его в стог.
Постояв, посмотрев, как мужики быстро работают вилами, Григорий повернулся и не спеша ушел в дом. В горнице, прикладывая мокрую тряпку ко лбу, валялся отец, жалобно подвывая. Потом из окон второго этажа Григорий смотрел, как мужики, раскидав сено, копали землю, вытаскивали мешки с пшеницей, грузили их на подводы и увозили со двора.
Целую неделю, Григорий не говорил ни слова. Отец, оправившись немного от потрясения, тихим голосом просил его:
— Сметай хоть сено-то, Гришка. Того и гляди снег повалит ведь. Пропадет сено-то…
Григорий только отмахивался.
Тогда старик вспомнил об Анне Тумановой. За несколько фунтов прогорклой муки она кое-как сложила сено в кучу. И вовремя. На следующую же ночь, без ветра, без дождя, на сухую землю лег снег.
* * *
Через несколько дней Анна снова переступила порог бородинского дома. Отец куда-то ушел, Григорий был один.
— Чего тебе? — спросил он.
— Есть нечего, — тихо проговорила женщина, отворачиваясь от Григория. — Мука, которую отец дал, давно кончилась. Может, еще какая работа найдется у вас?
Григорий долго смотрел, как со старых, неумело подшитых валенок Анны Тумановой медленно стаивал снег.
— Нету работы, иди, — сказал он наконец.
Женщина продолжала стоять, снег таял у нее на ногах.
— Ну, чего стоишь? Уходи. Или еще что хочешь сказать?
— Нет, я чего же… я пойду, — покраснев, промолвила Анна. — Видела я, отец твой пошел куда то…
— Уходи ты к чертовой матери отсюда! — глухо воскликнул Григорий. И, видя, что она все еще медлит прибавил, чтоб избавиться от нее: — Вечером я сам принесу тебе муки.
Сказал — и забыл. А дня через три почему-то вспомнил. Неожиданно для самого себя он, когда наступили сумерки, в самом деле пошел к Анне, прихватив каравай хлеба. А ушел от нее уже утром.
С тех пор Григорий частенько стал бывать у Анны. Никогда ни о чем не спрашивающая, неизменно покорная, она даже чем-то нравилась ему. Может, тем, что единственная на всей земле молча признавала его силу, его власть над собой. А может быть, тем, что хоть ее мог купить он, Григорий Бородин.
* * *
Каждое утро Петр, встав с постели, подбегал к окну и торопливо окидывал взглядом озеро. Черные тоскливые волны катились из края в край, как и вчера, как и позавчера, как неделю назад. Старик, тяжело дыша, отворачивался от окна, колол взглядом бабку-стряпуху, собирающую на стол, Григория, валявшегося на кровати, но ничего не говорил.
Чай пил молча, с остервенением дуя на блюдце. Однажды в блюдце с потолка упал таракан. Этих насекомых Петр уважал, считая, что они приносят в дом богатство. «Таракашки на потолке — значит, медяшки в кошельке», — сказал он Григорию, когда они переехали в новый дом, и вытряхнул из тряпки целое стадо тараканов. Они частенько падали с потолка то в суп, то в чай, и Петр каждый раз говорил: «Дурачок-мужичок… С курицы — навар, а с тебя какой товар?» — и легонько сдувал их на край тарелки или блюдца, невозмутимо продолжая есть. Но в этот раз, увидев в блюдце таракана, вдруг взорвался, трахнул блюдце об пол и забегал из угла в угол, топча разлетевшиеся осколки.
После завтрака Петр обычно опять сидел у окна и смотрел на озеро, потом шел в завозню, пересчитывал мешки с галантереей, будто до сих пор не знал, сколько их, и снова до вечера сидел у окна.
— Чего торчишь у окна какую неделю? — спросил, не вытерпев, Григорий. — Будто озеро караулишь… Никто не украдет его.
— Э-э… — безнадежно махнул рукой Петр и поплелся, как обычно, в завозню.
Григорий оделся и вышел следом. Отец стоял возле мешков.
Не поворачиваясь, отец ткнул костылем в мешки, промолвил жалобно:
— Кровь тут наша…
Но, сразу же поняв, что сказал не то, что следовало, заорал, не давая Григорию опомниться:
— Вот и сторожу озеро, жду, когда замерзнет. В город-то летом не доберешься. А там поди эх! Каждая пуговица по рублю!
Старик сел на мешок и заплакал:
— В кого ты, дурак пустоголовый, уродился… В матку, не иначе. Та, дура тонкобрюхая, тележного скрипу боялась. А Гордей да Лопатин, поди, не побоялись, поди, в городе направо-налево торгуют, деньги обеими руками гребут. Куда, думаешь, товары-то с лавки они увезли? Вот… А мы… Эх…
— Расквасился, — поморщился Григорий. — Подмерзнет озеро — съезжу с твоими пуговицами в город, посмотрю, что там… Не ной только.
— Да ить мои разве они, Гришенька? Твои ить, твои…
С этого дня Петр стал подниматься утрами еще раньше. Сидя у окна, чуть ли не проклинал бога:
— Прости ты меня, господи… Что это за зима ноне? Тьфу! Снегу навалило, да черви в нем от тепла.
Наконец озеро стало подмерзать. «Еще немного, еще с недельку, и…» — думал с нетерпением Петр Бородин.
Но в это время поползли слухи о колчаковщине.
3
Болтали всякое. Одни говорили, будто Сибирь отошла от России в отдельное государство и повсюду будут установлены царские порядки. Другие толковали, что Колчак идет как возмездие, сжигая все на своем пути, уничтожая правых и виноватых.
— Господи, за что всех убивать?
— Враки это. Чего им нас трогать! Кое-кого, ясное дело, кокнут… Андрюху вон, например, Веселова с друзьями.
— Их надо бы под корень… Без хлеба народ оставили.
— Ну, ты-то хлеб запрятал так, что не только Андрюха — сам теперь не найдешь…
— Под Советами пожили — попробуем под Колчаком…
Однако толком пока никто ничего не знал. Ночами на улицах Локтей было тихо. И в этой тишине было что-то зловещее.
Григорий, слушая такие разговоры, никак не мог понять, что к чему. «Если Андрюху… этот самый… то хорошо, — думал он. — А если всех, как болтают…» Что, к примеру, он, Григорий, сделал этому Колчаку?
— Гришенька… Может, того… — несмело заговорил однажды отец.
— Чего?
— Да подмерзло озеро…
— Иди ты… — отмахнулся Григорий, как от досадливой мухи. — Неизвестно, что теперь будет еще, а ты… с пуговицами. Вон правых и виноватых, говорят…
Петр упал на лавку, трясясь от душившей его бессильной злобы на сына.
— В матку и есть… Навязались на меня, чтоб вас… чтоб тебя бревном где-нибудь жулькнуло, как ее… С деньгами-то завсегда правый будешь…
— А-а, понес, — раздраженно бросил Григорий. — Да не трясись ты, как придурок.
Не в силах ничего сказать, Петр смотрел на сына так, что, казалось, сейчас произойдет чудо и Григорий вспыхнет огнем от этого взгляда.
* * *
Однажды поздним вечером Дуняшка, надев на босу ногу старенькие, растоптанные валенки, накинув на плечи полушубок, побежала к озеру за водой. Когда шла обратно, с полными ведрами, замаячили впереди на дороге какие-то фигуры, фыркнула лошадь, проговорил чей-то голос. Показалось — Гордея Зеркалова. Недоброе предчувствие охватило ее. «А Андрей там, в лопатинском доме…» — метнулась в голове мысль.
Темные, неясные фигуры медленно приближались. Не зная, что делать, Дуняшка свернула к ближайшему дому и тотчас услышала:
— Стой! — И человек верхом на лошади стал быстро приближаться к ней.
Дуняшка сбросила с плеч коромысло и кинулась прочь. Забежала за угол ближайшего дома, прилипла спиной к стене, прижала руки к бешено колотящемуся в груди сердцу.
Всадник, подскакав к тому месту, где раскатились по дороге ведра, остановился в нерешительности, поджидая остальных. Вскоре Дуняшка услышала голоса:
— Оказывается, баба какая-то с водой шла, с перепугу и ведра бросила.
— Анна Туманова, должно. Ее домишко, — ответил один из подъехавших, и Дуняшка теперь ясно разобрала, что говорит Гордей Зеркалов.
— Ну, черт с ней. Айда дальше. Где, говоришь, дом Веселовых? — спросил незнакомый голос.
— Там… И Ракитин рядом живет. Не спугнуть бы. — Теперь говорил сын Зеркалова, Терентий. Дуняшка стояла ни живая ни мертвая.
Сбоку, всего в полуметре от нее, осветилось окно, и Анна Туманова, растрепанная, в одной рубашке, прижалась лбом к стеклу. Она услышала, очевидно, шум на улице и старалась рассмотреть, что за люди бродят у ее дома. Потом отошла, и в окне мелькнула мужская тень. И тотчас свет в комнате погас.
Когда всадники осторожно, стараясь не шуметь, отъехали, Дуняшка выглянула из-за угла и ближайшим, плохо укатанным переулком кинулась к дому Лопатина.
Бежать Дуняшке было трудно. Валенки болтались на ногах. И ей казалось, что она не бежит вовсе, а, задыхаясь, топчется на одном месте. А люди верхами на лошадях уже подъехали к их дому и, увидев, что там никого нет, поскакали к лопатинскому…
Не соображая, что делает, Дуняшка скинула полушубок. Пробежала еще шагов пятьдесят, ухватилась за чью-то изгородку и сбросила валенки. Сухой снег тотчас обжег голые ноги. Однако острую, режущую боль Дуняшка испытывала только какие-то секунды. Потом все прошло. Она бежала, не чувствуя ног, словно не касалась земли…
Взбежав на крыльцо лопатинского дома, застучала в дверь обоими кулаками, раскачиваясь, била в нее плечом, выкрикивала:
— Скорее, скорее… Андрей!
Когда дверь распахнулась, Дуняшка упала на чьи-то руки, прошептав:
— Гордей Зеркалов… и еще с ним… конные… сюда…
Тихон Ракитин захлопнул дверь. Когда закрывал, увидел, что во двор действительно въезжают люди. И в тот же момент раздался выстрел.
Пуля пробила дверь и ударилась в стену бревенчатого коридора, никого не задев, Ракитин взглянул на Веселова.
— Пошли через задний ход! — сказал Андрей. — Может, успеем еще, пока не окружили. Помоги жену вынести.
Дуняшка с обмороженными ногами лежала на полу, закрыв глаза. Андрей с помощью Ракитина взвалил ее себе на плечи. Они быстро прошли через все комнаты, выскочили на улицу с противоположной стороны и увидели, что полнеба освещает зарево.
Горела ли только избушка Веселовых или банда, возглавляемая Зеркаловым, подожгла заодно и домишко Ракитина — отсюда было не разобрать.
Через несколько минут Веселов и Ракитин постучались в двери Федота Артюхина.
— Господи, а я и то смотрю — зарево. Думаю… — зашептал было Федот, но Веселов перебил его:
— Вот пусть у вас Дуня побудет. Больше некуда…
— Ну-к что? И пусть, и пусть… Значит, я и подумал…
— В деревне бандиты… Айда с нами… от греха… — торопливо бросил Ракитин. И сейчас же взвизгнула жена Федота Артюхина:
— Куда еще! Хватит! И так довоевался, кровью харкает. — И, закрыв мужа не по-женски широкой спиной, со злостью глядела в лицо Ракитину.
— Так я говорю — Зеркалов… — морщась, повторил Ракитин.
— Мы ему плохого ничего не делали… А если с вами Федот хороводился по глупости — значит, задница чесалась, плетей просила… Вот и пусть всыплют…
Федот вытягивал шею из-за плеча жены, крутил головой, открывал и закрывал рот, но сказать ничего не решался.
Андрей растерянно бросил взгляд на Артюхину, оглянулся на Тихона и нагнулся к Дуняшке, намереваясь взять ее и вынести на улицу. Жена Федота, не трогаясь с места, не шевеля почти губами, проговорила:
— А ее не трогай. Пропадет с вами, с проклятыми, баба…
— Мы посмотрим, мы уж посмотрим за ней, — часто кивая головой, выдавил из себя наконец Федот. — А вообще-то я… надо бы, конечно, с вами…
— Сиди! — зыкнула на него жена, оборачиваясь.
Андрей Веселов еще помедлил в нерешительности. Ракитин осторожно тронул его за плечо.
— Ноги у нее поморожены, — бросил наконец Андрей Артюхиным, вслед за Ракитиным выскочил на улицу и побежал в сторону соснового бора.
4
Карательный отряд колчаковцев, возглавляемый бывшим локтинским старостой Гордеем Зеркаловым, несколько дней рыскал по всему селу, шарил по домам, но Андрея Веселова и Тихона Ракитина нигде не было.
Федот Артюхин, который без возражений согласился взять к себе Дуняшку, теперь только понял, чем это ему грозит. Несколько раз на день он спрашивал у жены:
— Может, спрятать ее в подпол, а? Ведь найдут — убьют нас всех…
— А коли в подполе найдут? Тогда спросят — зачем прячете? А так еще, может, пронесет бог.
— Ну, ну, — бормотал Федот, однако успокаивался ненадолго.
— А может, и я… того… — то и дело начинал он, не смея взглянуть в глаза жене.
— Ну!
— Зря не пошел с Андреем? Все-таки устанавливал…
— Чего?
— А эту… власть.
— Дурак! Чего ты устанавливал? Ты языком трепал…
— Ну, все-таки… слово, сказывают, не воробей…
— Вобьют тебе его с обратного конца… Ничего, стерпишь… Зато не разинешь больше рта…
На второй день рано утром к ним зашли двое рослых колчаковцев.
— Чей дом?
— Мой. Артюхина Федота, — еле вымолвил Федот.
Обшарив глазами метавшуюся в жару на кровати Дуняшку, колчаковец полез в подпол. «Что я тебе говорила?» — сверкнула глазами жена. Федот только закивал головой.
— А это кто? — спросил другой колчаковец и указал плетью на Дуняшку.
У Федота зашлось сердце.
— Сестра моя, болеет, — ответила жена Федота. — Дура, напилась самогону, свалилась в снег и… вот смотри. Все ноги обморозила. — И открыла Дуняшкины ноги.
— Ладно. — Колчаковец махнул плетью. Увидев висевшую у двери потрепанную солдатскую шинель, повернул к Федоту свое заросшее рыжей щетиной лицо: — Ты, оглобля… воевал, что ли? Почему дома?
— Отпустили… из лазарета… — несмело ответил Федот.
— По ранению, что ль?
Федот молча и часто закивал головой.
— В язык, должно, — усмехнулся другой колчаковец. — Ишь говорить не может. Пойдем, Зеркалов разберется. Он тут всех знает.
Когда они ушли, Федор перекрестился.
— Господи! А коли в сам Гордей зашел? Ведь он в лицо Дуняшку-то помнит.
— Не каркай, — отрезала жена, и Федот умолк.
Терентий Зеркалов, размахивая наганом, носился вместе с колчаковцами по улицам, изымал у жителей муку, сало и другие продукты. И хотя никто не сопротивлялся поборам, молодой Зеркалов орал, угрожая наганом:
— Ну, чего глаза пучишь? Для нар-родной армии это, дурак!.. Понимать должен.
— Я понимаю, что же… При Советах у нас тоже брали, только по-хорошему, объясняли все…
— При Советах!! Я тебе покажу, сволочь, Советы…
В эти дни объявился в деревне и Лопатин. Где жил все это время, что делал — никто не знал. А теперь не торопясь похаживал по улицам, заворачивал почти в каждый дом.
— Этот вон самоваришко-то — мой, — ласково говорил он и записывал в тетрадь фамилии тех, у кого обнаружил свою вещь. Пряча тетрадь в карман, добавлял: — Придется отдать самоваришко-то. Поторопился Андрюха Веселов чужое добро раздаривать.
— Так мы что? — испуганно говорили хозяева. — Нам ведь дали, мы взяли. Андрей говорил, теперь, дескать, все народное это… А зачем ты фамильишку-то нашу записал?
— Чтоб не забыть тех, кто добро мое сберег. Отблагодарю вас, уж отблагодарю! — зловеще тянул Лопатин, не повышая голоса. — Советская власть быстро установилась, да быстро и кончилась.
На второй же день колчаковцы согнали к дому Зеркалова жителей Локтей, прижали к самому крыльцу. На перилах крыльца сидел Терентий, поигрывая плеткой. Сам Гордей с забинтованной головой (видно, не бездельничал во время отсутствия, побывал уж в пекле), Лопатин и еще несколько человек стояли рядом.
— Авдей Калугин! — выкрикивал колчаковец с заросшим лицом, один из тех, что приходили к Артюхину.
Авдей в рваном полушубке, в облезлой шапке выдвинулся вперед. Гордей Зеркалов наклонялся к Лопатину, тот говорил, заглядывая в тетрадь:
— Одеяло атласное, новое… Два оцинкованных ведра…
— Двадцать плетей за одеяло. И за ведра — по десять, — говорил Зеркалов, словно назначая цену.
Авдея свалили в снег, сдергивая с него полушубок…
— Марья Безрукова!..
— Два чугуна полутораведерных… И еще платье бумазейное… И платок…
— Пятнадцать — за все!
Первого пороли при гробовом молчании. Люди смотрели на извивающегося под ударами плетей Авдея, на Зеркалова и Лопатина, все еще не понимая толком, что происходит. А когда принялись за Марью, за других, заволновалась толпа, колыхнулась, готовая расплыться во все стороны. Кто-то кричал в середине:
— Это что же нас, словно беглых каторжников?
— Скорый суд у тебя, Гордей…
— По какому такому закону?
— Чего над людьми издеваетесь?
— Молча-ать!!
Этот возглас повис над толпой, перекрыв все другие. Гордей Зеркалов угрожающе замотал над головой наганом и еще раз крикнул:
— Молчать, говорю!! — и, отдышавшись, захрипел: — А вы как думали? Обрадовались, что власти в деревне… временно отсутствовали?! Грабеж устроили!
— Советы, говорили же…
Грохнул выстрел. Испуганные, посыпались с тополей и заметались над церковной крышей воробьи. Люди, притихнув, сжались еще плотнее в кучу. Терентий Зеркалов, не вставая с перил, посмотрел на людей и, усмехнувшись, отвернулся, плюнул в снег.
Гордей сунул наган в кобуру, прокричал:
— Выйдь, кто говорил… Ну! Сейчас слова обратно в глотку вобьем…
Никто не вышел из толпы.
Тогда Терентий Зеркалов, снова усмехнувшись, сказал, не поворачиваясь:
— Федот Артюхин, выйди…
— Так а я что? Я к тому сказал, что ведь не сами люди барахлишко брали…
— Выйди, сволочь! — рявкнул Терентий, резко повернул к народу голову, а потом уж повернулся сам. Отыскав в толпе Артюхина, впился в него глазами. И Федот против своей воли вытиснулся из толпы и застыл в смертельном испуге.
— Люди, может, и не стали бы грабить, — медленно произнес молодой Зеркалов. — А кто уговаривал их на это? Кто митинговал во дворе лопатинского дома? Ну!
Это «ну» словно подстегнуло Федота, и он еще сделал резкий шажок к крыльцу.
— Так ведь я… — Федот беспомощно оглянулся, потом торопливо сдернул шапку, прижал к груди обеими руками. — Я, конечно, говорил… Постольку поскольку, мол, э-э… раз дают, мол, так и брать надо… Я что? Сейчас вот мне сказали: иди — я пошел. И в тот раз крикнули: «Айда… к Лопатину…» Куда денешься… — сбивчиво объяснял Федот, крутя головой. И вдруг увидел, что Терентий вытаскивает наган, дико закричал: — О-о-э!!
Хотел, видимо, кинуться в толпу, но словно примерзли ноги к земле, осел на снег. Народ, видя, что Терентий и впрямь собирается выстрелить, отхлынул в разные стороны. Только жена Федота, взвизгнув, бросилась к мужу, закрыла его своим телом и закричала:
— Ну, стреляй, стреляй!.. Только в меня сперва. Все равно подыхать мне с голоду без мужика…
Гордей Зеркалов что-то сказал сыну, и тот опустил оружие. Тогда Артюхина принялась пинать мужа:
— А ты, дубина стоеросовая!.. Ведь говорила: доорательствуешь, паразит такой… — И обернулась к крыльцу, сверкнув заплатой на холщовой, не гнущейся на холоде юбке. — Господи! Да всыпьте вы ему десятков восемь… Это на пользу будет, может, ума прибавится…
— Пулю бы ему в зубы… — буркнул Терентий.
— Ладно, — тихо сказал сыну Зеркалов. — Для другого она нужнее будет, побереги. — И крикнул Федоту: — Иди сюда!..
Федот вскочил на колени, помедлил и, поняв, что никто не намеревается в него стрелять, подошел:
— Ты что же это?
— Гордей Кузьмич… я…
— Знаю тебя с пеленок, а то бы… Можешь искупить свою вину — записывайся добровольцем в народную армию. Будешь у меня адъютантом…
Артюхин растерянно оглянулся на жену, но она не слыхала, что сказал Зеркалов.
— У меня легкое… того, прострелено…
Терентий многозначительно потряс наганом перед носом Артюхина, и Федот тотчас торопливо закивал головой. Терентий опять скривил губы и плюнул ему под ноги.
Разговаривая с Артюхиным, Гордей Зеркалов сошел с крыльца. Теперь он поднялся обратно и заговорил, бросая слова в гущу народа, как увесистые булыжники:
— Перепороть бы всех не мешало, да ладно… Односельчане ведь мне вы. 3а явную и тайную поддержку Советской власти обкладываю дополнительно, так сказать… по мешку пшеницы с каждого дома… Свезти в кладовые Лопатина. Зерно пойдет на нужды народной армии… — А закончил свою речь так: — Расходитесь к чертовой матери! Но пшеница к завтрему чтоб была. Уклоняющихся расстреляем по закону военного времени.
Народ хлынул в переулки. Площадь перед домом Зеркалова опустела. Только Федот Артюхин топтался на снегу.
— Так ты взаправду, что ли, Гордей Кузьмич? — осторожно проговорил он, чуть осмелев. — Ведь легкое у меня…
— Я тебе покажу — легкое! Ступай вот с ним, — указал Зеркалов на стоявшего рядом колчаковца. — Он форму выдаст. А потом бегом сюда. Дрова будешь колоть и… того… жилье содержать. Адъютант, в общем… — И пошел было в дом, но обернулся: — А жену к Лопатину пошли. Пусть прибирает у него в доме… — И повысил голос: — Чего рот разеваешь? Ступай!
Федот проглотил только слюну и опять часто закивал головой.
* * *
Прибежав домой, Петр Бородин вцепился в сына, который тоже только что вернулся с улицы.
— Видал, а? Видал, сынок, кто правый-то теперь? Ну, чего молчишь?
— Да отпусти ты! Впился как… — Григорий отодрал руки отца от своих плеч, сел за стол. — Давай жрать, бабка, чего там копаешься?
Петр угадал, что в сыне произошел какой-то перелом, и тихонько перекрестился. Теперь он был уверен, что Григорий скоро сам заговорит о поездке в город.
Несколько дней Григорий ходил по комнатам хмурый, думал о чем-то. И однажды за ужином сказал:
— Ладно, батя… Завтра-послезавтра поеду в ночь. Может, не вытряхнут мешки по дороге.
Петр только начал икать в ответ. Когда стемнело, он, ни слова не говоря, пошел, запряг лошадь и вернулся в комнату.
— Гришенька, того… Запряг. Давай погрузим.
— Я ведь сказал — завтра-послезавтра…
— Да чего уж… Чует сердце — сегодня надо. С богом, Гришенька, а?
Петр уже не просил, он умолял. Григорий чувствовал: не согласись с ним — ляжет и помрет тут же отец, не вынесет.
— Ладно, — проговорил Григорий и встал
Когда уже погрузили мешки, раздался топот конских копыт по мерзлой дороге. Григорий кинулся к забору, прильнул к щели. Торопливо уходила куда-то из деревни банда Гордея Зеркалова.
— Ну что, что там? — подойдя, прошептал отец.
— Ничего. Я сказал тебе, что послезавтра поеду, значит — послезавтра, — зло ответил вдруг Григорий и, не смотря на отца, ушел в дом.
Утром в село вступил с небольшим отрядом партизан Андрей Веселов.
5
Партизан было немного, человек тридцать, — все незнакомые локтинским мужикам, кроме разве Федора Семенова да Тихона Ракитина.
Прямо на улице, перед церковью, партизаны поставили стол, накрыли красной скатертью. Тотчас собралась толпа. Все поглядывали на хорошо вооруженных людей, на Андрея, на Тихона Ракитина, на Семенова. Семенов был в кожаной куртке с перевязанной рукой. Он стоял молча, внимательно посматривая на мужиков.
— Опять, что ли, митинг?
— Теперь кого пороть будут? — раздались голоса из толпы.
Андрей повернулся к Семенову. Тот кивнул. Веселов оправил старенькую шинель, в которой пришел еще с фронта, поднял руки, требуя тишины, и спросил:
— Значит, попробовали колчаковских плетей?
Послышался гул, потом кто-то крикнул обиженно:
— Чего смеетесь? Сами, что ли, спины мы подставляли?
— Я не смеюсь, товарищи… Колчаковская власть — это насилие, кнуты, поборы. Это власть Зеркалова. Видите, он и командиром у них. Они хотят задушить революцию, вернуть старые порядки. И вернут, если мы все, как один, не поднимемся на ее защиту. А коль поднимемся — вот им, — Веселов показал кукиш, — потому что нас, крестьян, больше.
Андрей, не привыкший к длинным речам, передохнул и продолжал:
— Вот у нас собрался небольшой отряд. Это Федор Семенов привел нам несколько человек из города. Но нас мало. Поэтому объявляется запись в отряд из числа бедняков. Запись добровольная. Кто хочет хлебнуть колчаковских плетей, тот может не запи…
— Да что ты, мать честная, длинно так агитацию держишь! — крикнул вдруг из толпы пожилой крестьянин и выступил вперед. — Пиши меня, ядрена кочерыжка…
Толпа заволновалась, плотнее обступила стол.
— И меня пиши!
— И меня с братом!
— Захарка, тебя писать, что ль?
— А как жа! — раскатисто ответил из толпы молодой голос.
Веселов едва успевал записывать фамилии. Потом всех записавшихся в отряд выстроили тут же, у стола.
— Ну вот, теперь вы партизаны, — начал было Андрей Веселов.
— А как насчет оружия? — перебили его.
— С десяток наганов, пяток шашек да три-четыре дробовика найдем. Больше нет. Сейчас все по домам разойдитесь. У кого есть ружьишки охотничьи, берите с собой, у кого нет — хоть ножи прихватите. К обеду — все сюда, разобьемся по взводам.
— Разойдемся, а вдруг Гордей нагрянет?
— Мы посты за деревней выставили. Если что — по выстрелу все на площадь.
На следующее утро ударила оттепель. Все записавшиеся в отряд вновь собрались у церкви. Оружия прибавилось немного — две-три берданы.
— Ладно, — сказал Андрей, обойдя строй. — У кого нет оружия — в бою достать. Это первый боевой приказ.
Несколько дней подряд Андрей Веселов с помощью бывших фронтовиков обучал своих партизан обращению с оружием, стрельбе из наганов и винтовок, которые еще предстояло многим достать в бою. Федор Семенов, обняв на прощанье Андрея, уехал в другие села поднимать народ на борьбу с колчаковщиной.
А по вечерам партизаны собирались перед домом Лопатина, над которым снова развевался красный флаг, толкли влажный мартовский снег, плевались подсолнечной кожурой. Казалось, никаких колчаковцев и на свете-то нет, идет обычная мирная жизнь.
Дуняша, выздоровев, пошла однажды к жене Артюхнна поблагодарить за заботу, но прилетела стрелой обратно, побелевшая, испуганная…
— Сегодня… ночью… Федот…
— Что такое? Говори толком, — тряхнул ее за плечи Андрей.
— Федот, говорю, дома. С Терентием Зеркаловым приехали…
— Ну?!
— Терентия прислали установить связи, с кем побогаче… Сегодня ночью Гордей ударит с одной стороны, Лопатин — тоже отряд у него — с другой… ну а Терентий, если соберет кого, — с третьей… Гордей Зеркалов, дескать, говорит: прихлопнем всех сразу, как мух сырой тряпкой…
Голос Дуняши прерывался не то от волнения, не то от быстрого бега.
— Так. Больше ничего не говорил Федот? — спросил Андрей.
— Нет. Он тоже торопился — на минутку к жене забегал. Опоздаю, говорит, вернуться к сроку — Терентий пристрелит. Вперед меня еще из дому выскочил.
— Куда побежал?
— Не знаю, не сказал…
Отряд Веселова приготовился к бою. В нескольких местах устроили засады. Однако ночь прошла благополучно. Неспавшие, измученные люди валились под утро с ног. И в это-то время разгорелся бой.
Вооруженные только берданками и дробовиками, люди Андрея, окруженные с трех сторон, были бы неминуемо уничтожены, если бы не засады. Большого вреда они колчаковцам не принесли, но беспрерывными выстрелами сбили их с толку. Белогвардейцы метались в разные стороны, стараясь определить, откуда же стреляют. А в это время партизаны отдельными кучками скрывались в лесу.
С того дня жители Локтей перестали понимать, что творится на белом свете. Закрутилась в Локтях коловерть. В любое время суток могла загореться перестрелка в лесу, на задах деревни, а то и прямо на улицах. Кто в кого стрелял? Партизаны ли Андрея, основавшиеся где-то в Гнилом болоте, нападали на деревню? Или колчаковцы, оставленные гарнизоном в Локтях, с пьяных глаз палили в черное ночное небо, отгоняя страх? Разобрать было трудно.
Когда в Локтях Зеркалов объявил мобилизацию в колчаковскую армию, на призывной пункт никто не явился. Сыновья зажиточных мужиков, в том числе Игната Исаева и Кузьмы Разинкина, давно уже записались по настоянию родителей добровольцами и рыскали по селу под руководством Терентия Зеркалова. А бедняки скрылись в леса, ушли к Андрею. Гордей Зеркалов, свирепый, как пес, носился по домам, тыкал в нос мужикам и бабам наган, требуя ответа на единственный вопрос: где сын или муж? И в приступе необузданной злобы расстрелял нескольких женщин и стариков.
— Что ты делаешь, Гордей Кузьмич? — не удержался Федот Артюхин. — Ведь ты всю жизнь с ними рядом прожил…
Зеркалов молча ударил его рукояткой нагана по голове. Федот повалился в холодную грязь, а отлежавшись, уполз вечером домой.
— Уйду к Андрею, — тяжело дыша, сказал он жене. Она заплакала:
— Господи! Да ведь на другой же день меня Гордей пристрелит…
И наутро, перевязав голову, Федот отправился убирать комнаты зеркаловского дома.
После расстрела мужиков земля загорелась под ногами банды Зеркалова. Утрами на улицах под плетнями находили мертвых белогвардейцев с раскроенными топором черепами, опоенных самогоном с примесью мышьяка или крепкого настоя белены. Даже Терентий, куражившийся обычно по ночам, теперь с наступлением вечера, ложась спать, рядом ставил винтовку, а под подушку клал наган.
Однажды сказал отцу недовольно:
— А все-таки зря старичишек хлопнул. Чего народ злить? Уснуть спокойно теперь нельзя. Попугал бы — и ладно.
— Их не пристрелить — в собственном дерьме задушить бы… Я вот еще до старого разбойника — Бородина — доберусь. Цыган обдирать мастер, а сынок небось тоже к Веселову сбежал.
— Гришка-то? — Терентий усмехнулся, взбивая подушку. — Не-ет. Им вдвоем не то что в Локтях, вообще на земле тесновато.
— Так что же он по мобилизации не явился? — рявкнул Зеркалов, будто перед ним на кровати сидел не сын, а Григорий Бородин. Терентий пожал плечами, скривил губы:
— Может, считает, откупились и от этого. Зеркалову, дескать, заплачено…
— Я вот завтра покажу — заплачено… — угрожающе произнес Зеркалов.
Терентий молча покачал голыми ногами, зевнул и проговорил как бы нехотя:
— А может, и не надо трогать пока Гришку.
— Почему?
— Ну, какой вояка из Гришки? А вот по-другому если, — может, и пригодится он…
— Как это по-другому? — не понимая, снова спросил Гордей Зеркалов.
— Гришка лес насквозь знает. Ведь когда-то топором добывал кусок хлеба. Церковь вон рубили, дом попу. На Гнилом болоте ягоды собирал, чтоб с голоду не подохнуть, все тропинки исходил.
— Что ж с того? — все еще не понимал Гордей Зеркалов.
— Вот и говорю — подождать, может, тебе? Я попробую с ним поговорить. Артюхина ведь не пошлешь в лес. Все знают, что он в армии. Да и… пошлешь — а вернется ли назад Федот?
Гордей Зеркалов, укладываясь спать, тоже сунул наган под подушку. Потом проговорил с раздражением:
— Все они хороши — что Федот, что Гришка Бородин.
— А все-таки я попытаюсь… Говорю же — земля им тесновата с Андрюхой. Раз я пробовал Гришку — поддается вроде. Помешали тогда только… Попробую теперь подобрать к нему ключик. Гришка — трус, а выследить логово Андрюшки может. Откажется — тогда хоть в армию бери его, хоть на месте пристрели, мне-то что…
Теперь целыми днями какие-то люди, вооруженные с головы до ног, скакали по улицам на взмыленных лошадях, проносились через деревню подводы, груженные то мешками с хлебом, то громоздкими деревянными ящиками.
— Продовольствие окрест собирают для белой армии. Ишь прут очертя голову… Скоро голодуха загуляет и по нашим деревням, — катился из дома в дом зловещий шепот.
А потом колчаковцы начали целыми группами привозить в Локти оборванных, окровавленных людей. Их запирали в пустой лавке Лопатина. Весь дом бывшего лавочника обнесли двумя рядами колючей проволоки, поставили кругом часовых и превратили в застенок. Расстреливали тут же, у стены соснового амбара. К трупам прикручивали проволокой камни, железные болванки, колеса от плугов, отвозили на берег озера и бросали со скалы в воду.
Федот Артюхин, когда удавалось забежать домой, садился за стол и сжимал голову обеими руками, говоря жене:
— Ты все бога вспоминаешь!.. А где он, куда смотрит? Не видит, что ли: озеро скоро выплеснется из берегов — столь людей в него покидали…
Жена Федота мелко-мелко крестилась и беззвучно шевелила побледневшими губами…
6
В тот вечер, когда Дуняшка, бросив ведра на дороге, стояла у стены дома, Григорий, шагая из угла в угол в темной комнате Анны Тумановой, в сотый, в тысячный раз задавал себе один и тот же вопрос: «Неужели все кончилось?» Неужели только одна Анна Туманова покорна его власти? Отец говорил когда-то: «Теперь мы свое возьмем, сынок!» Неужели Анна — это все, что он, Григорий, сумел взять?..
Отчаяние и злоба снова душили его. И когда Дуняшка, отделившись от стены, побежала в переулок, Григорий догадался, куда она побежала и что за люди подъезжали сюда.
Первая мысль была: догнать этих людей, сказать им, что не туда поехали, что Андрея Веселова сейчас предупредят и он скроется… И Григорий сделал уже несколько решительных шагов, опять прошептав: «Ну, погоди, погоди…»
И тут страх, самый обыкновенный животный страх за свою жизнь спутал ноги.
Когда ночную темень распарывает молния, в какое-то мгновение можно отчетливо рассмотреть каждый кустик в поле, каждый бугорок. Что-то подобное случилось и с Григорием. Знал он уже, что в Локтях началась борьба не на жизнь, а на смерть, знал, что если он сейчас выйдет на дорогу и зашагает направо, то налево пути ему уже не будет. Но тот страх, который просачивался потихоньку сквозь обуревавшую его злобу и ненависть, словно родничок из-под каменной глыбы, вдруг забил мощной струей, хлынул рекой, затопляя все другие чувства…
И в эти секунды думал уже Григорий Бородин не о Дуняшке, не об Андрее Веселове. Он чувствовал себя тем Григорием, который, спасаясь от топора, страшно блеснувшего в руках отца, кинулся в сараюшку и заметался там в смертельном испуге…
И в эти-то секунды побоялся он ввязаться в происходящее.
Но после расправы Зеркалова с мужиками, после слов отца: «Видал, сынок, кто правый-то теперь?» — опять застучала в голове, не давая покоя, мысль: «И в самом деле… Ведь пока только Анна Туманова признает мое право. Только Анна… Ну нет, врете! Зря тогда не сказал им, куда Дуняшка побежала… Ладно, еще посмотрим. Что же, попробую для начала в город съездить. Может, потом не только Анна признает меня…»
В порыве смелости, которой он сам в себе не подозревал, Григорий решил ехать в город. Вот уж погрузили мешки…
Но услышал топот коней Гордея Зеркалова, уходящего из села, и пропала, улетучилась, как дым, минутная смелость. А назавтра, увидев в окно Федора Семенова и Андрея Веселова, снова почувствовала над собой занесенный топор…
Григорий залег в горнице, как медведь в берлоге
Отец его, напуганный внезапным возвращением Веселова, тоже примолк.
Когда Гордей снова появился в Локтях, Петр облегченно вздохнул. По мере того как Зеркалов устанавливал прежние порядки, Петр Бородин стал увереннее ходить по дому, опять стал заглядывать в завозню. И вот однажды надел новую, чуть не до колен рубаху, жидкие волосенки смазал деревянным маслом.
— Чего вырядился? Праздник, что ли? — спросил угрюмо Григорий.
— Вроде бы… начинается… — охотно ответил отец и, подсев к сыну, тронул его за плечо: — Слышь-ка, сынок…
— Чего тебе? — сердито спросил Григорий.
— Да ничего, так… Зря все же в город-то не…
— Знаешь что, батя?! — приподнявшись на кровати, так вскрикнул Григорий, что отец пушинкой отлетел к двери и закрестился.
— Свят, свят… Лежи уж, бог с тобой. Лежачее дерево быстрей гниет.
Несколько дней старик даже не заглядывал к нему в комнату. Потом стал заходить, сперва раз в день, потом два, три. Опять садился у окна и молча смотрел на озеро.
— Не смотри, не поеду, — предупредил Григорий.
— Да уж бог с ним, с городом, — покорно соглашался отец.
«Что-то больно быстро отступился, — думал Григорий. — Не похоже на тебя. Или с какого другого боку подъехать хочешь?»
Григорий угадал.
Однажды, посидев по обыкновению у окна, Петр Бородин кашлянул и начал:
— Так-то, сынок. Время-то такое…
— Не объезжай, говори прямо.
— Дык что прямо? Тут хошь прямо, хошь криво — туда же выедешь. Люди-то вон… добровольцами пошли к Гордею…
— Так что же? Иди и ты… — буркнул Григорий.
Выцветшие брови Петра Бородина чуть дрогнули. Однако он не хотел ссориться в эту минуту с сыном, через силу улыбнулся, тоненько хихикнув.
— С меня уж труха сыплется, какой вояка… — И быстро вздохнул маленькой, бессильной грудью. — О-хо, жизнь почти истаяла, как туча на небе! А все ж таки охота бы еще леток с десяток поболтаться средь людей… Так как же, сынок?
Григорий хмыкнул неопределенно, и Петр Бородин, еще раз вздохнув, отошел.
Но постепенно старик становился все смелее, настойчивее и уже прямо требовал, чтобы Григорий вступил в «святую армию Колчака».
— Даже вон Федот Артюхин при форме… Глядишь — человеком потом станет.
Но Григорий на все домогания отца отвечал односложно:
— Не хочу. Жить пока охота.
— Тьфу ты, ирод, в кого выдался, чертяка? — плевался сморщенный, точно высохший на корню, Петр Бородин. — Добрые люди с крестом да молитвой на святое дело… Я ведь сам оберегал тебя от солдатчины, когда… А теперь… за свое, за кровное…
— А я посмотрю. Со стороны виднее, — негромко отвечал Григорий.
— Много из горницы-то увидишь… Забился, как сыч, в темный угол. К бабке вон под подол еще залезь, прости господи..
— Из-под подола вылезти можно, а из гроба не встанешь… — лениво откликался через некоторое время Григорий.
Старик тотчас подскакивал к нему, тряс маленькой острой головой, похожей на куриное яйцо, махал руками:
— Эх ты-ы! — И, подняв вдруг глаза к иконам, голосил слезно, обиженно: — Господи! У других сыновья как сыновья, а ты, господи, и здесь меня щедростью обошел своей… — Потом бежал к двери, резким толчком распахивал ее и выскакивал на улицу. Однако быстро возвращался, с грохотом бросал в угол костыль. — Так и будешь лежать? — В голосе его звучала уже откровенная ненависть к сыну.
— Полежу пока.
— Под лежач камень и вода не течет… Хозяйство-то хиреет… Один конюшишко был — и тот ушел…
— Бог даст — поправим хозяйство.
— Бог, бог!.. На бога надейся, да сам не плошай. — И тянул нудно свое: — Люди-то вон за святое дело… Сейчас Игната Исаева сынка видел. Орел…
— А вдруг Андрюха вернется? — со злостью спрашивал Григорий.
Старик опять плевался и уходил. Григорий смотрел в потолок, вспоминал почтаря. Угадал, усатый дьявол! Разбудил, да уж и не дадут теперь уснуть, видно…
7
Круто заворачивала жизнь. «А что там, за поворотом?» — опасливо думал Григорий.
… Случалось, заставала его непогодь в открытом озере. Темные, тугие волны, играючи, бросали лодку с гребня на гребень, грозя каждую минуту потопить ее.
Но Григорий знал: в такое время лучше все-таки держаться подальше от земли. Поиграют волны с лодкой, надоест — успокоятся. Надо только умело править, ловко увертываться от их ленивых ударов. А там, у берегов, словно обезумев от злобы, волны идут приступом на каменные утесы, дробятся о гранит, длинными, израненными языками, роняя клочья шипящей пены, жадно, торопливо лижут отлогие песчаные отмели. Кипит вода, нервной дрожью гудит земля, звенят стволы растущих поблизости деревьев, готовых вот-вот переломиться. Попробуй приблизиться к берегу! Первая же волна разобьет лодку вдребезги, ненасытная пучина проглотит. Проглотит шутя, между делом, не заботясь о том, что ему, Григорию Бородину, хочется жить. Проглотит и тотчас забудет о своей жертве…
Нет, лучше держаться посередине озера, подальше от кипящих, гибельных берегов. Отцу что? Он жизнь свою — сам говорит — прожил…
Когда объявили мобилизацию в колчаковскую армию, Григорий понял, что придется идти воевать. Он знал, что с Зеркаловым шутить опасно. Но, надеясь неведомо на что, медлил день, другой. Отец поглядывал на него торжествующе: теперь-то, мол, пойдешь.
И Григорий собрался уж идти к Зеркалову, когда отец, ворвавшись в дом с улицы, заорал:
— Чего ты ждешь, чего ждешь, боров вонючий?! Ведь мобилизация. На пункт вон никто не явился, дак Гордей рвет и мечет.
— Как не явился? — переспросил Григорий, чувствуя невольно какое-то облегчение.
— Не явился, да и все. Говорят, кому служить — все к Андрюхе убежали. Иди ты, сынок, к Гордею, иди, ради бога, покажи пример. Зачтется нам потом.
— А почему я должен первым лезть?
— Так ведь… Потому и не явились, что некому… А ты…
— И я подожду тогда, — упрямо проговорил Григорий.
Старик как стоял, так и сел на лавку.
— Гордей-то… тебе, дураку, неизвестно… пострелял тех сегодня, чьи сыновья не явились, а в лес убегли… Самолично по домам ходит. И к нам придет… вот те крест, придет!..
— Ну-к, что ж… Я же не убег к Андрюшке… А может, забудет да не придет…
Отец сидел, упираясь в лавку обеими руками. Потом встал и решительно сделал несколько шагов к двери.
— Не придет? Не-ет, я сам к нему пойду… Мне какой резон пропадать за тебя? Пойду да скажу: забери ты его к черту да выпори так, чтоб шкура со спины слезла… Кончилось мое терпе..
Договорить отец не успел. Григорий в несколько прыжков очутился возле него, схватил его поперек, пронес по комнате и бросил на кровать.
— Я тебе пойду! Я тебе пойду! — несколько раз повторил Григорий, тяжело дыша. И, видя, что отец поднимается с кровати, закричал на него: — Лежи давай! Пока… — И невольно сжал кулаки.
Старик несколько секунд смотрел на сына, приподнявшись на руках. Потом тяжело упал на подушку.
— Вырос — ладно… С батькой справишься — куда мне теперь до тебя, — жалобно простонал Петр Бородин. И добавил уже совсем другим голосом, не предвещавшим ничего доброго: — Не сегодня, так завтра схожу к Гордею. Не удержишь ты…
Григорий спокойно отошел в угол и так же спокойно проговорил:
— Тогда пеняй на себя!.. Пока ведь никто не знает, где кости цыганские лежат…
У отца отвисла нижняя челюсть, Григорий увидел черные, полусгнившие обломки зубов. Он ждал, что скажет отец. Но отец молчал, не в силах выговорить ни слова…
С этого дня он оставил Григория в покое.
Гордей Зеркалов пока не приходил, будто и в самом деле забыл о Григории Бородине.
А Григорий только иногда ночью выходил из дома подышать свежим весенним воздухом. Дверь отворял осторожно, чтобы не скрипнула. Садился в темном углу между стеной дома и крыльцом на врытую в землю лавочку, смотрел на темное, в беспорядке прошитое золотом небо, думал о разговорах с отцом… «Хозяйство хиреет!.. Хозяйство! На кой черт оно теперь нужно… Ныне такие, как Андрей, верх берут…»
И снова ненависть к Веселову всплывала на поверхность, прорывалась наружу. Но теперь это была не просто ненависть к человеку, который исхлестал его тогда плетью за Дуняшку. Примешивалось сейчас к оскорблению, к жгучей ревности понимание того, что Андрей Веселов отобрал не только Дуняшку. «Хозяйство хиреет. Растеребило его, разметало, как вихрем, тот пласт сена на лугу. И виноваты в этом такие, как Андрюха, как Федька Семенов…»
Однажды, размышляя так, Григорий не заметил, как через забор перемахнула тень. Вздрогнул от шагов, раздавшихся рядом, вскочил и замер, чуть пригнувшись, готовый прыгнуть на проступившую из темноты человеческую фигуру, мертвой хваткой вцепиться в горло, если что…
Но человек, не подходя близко, остановился и предупредил:
— Тихо, Григорий. Не шуми.
— Тереха?!
— Я. Иду, понимаешь, мимо. Смотрю, сидишь…
— Ишь ты, разглядел…
— Ага… Мы все видим, — не замечая ядовитой иронии в голосе Григория, ответил Терентий. — Ну и, думаю, зайду к старому другу.
— К друзьям через калитку ходят, — холодно произнес Григорий, усаживаясь на свое место.
— Э-э, для нас и так привычно. Поповская ограда повыше была, — стараясь казаться беспечным, проговорил Терентий, подошел и сел рядом с Григорием. — Ну, здравствуй, что ли. Отдыхаешь?
— Допустим, — коротко ответил Григорий, явно показывая, что не расположен разговаривать.
Терентий покусал в темноте губы, чтобы сдержать закипавшее бешенство. Ровным голосом спросил:
— Ну, как живешь?
Григорий вскочил, сунул руки в карманы, стал перед Терентием.
— Ты чего тут заливаешь? — почти крикнул он. — «Как живешь?» Говори уж прямо, чего надо…
— Тихо, ты! — властно прикрикнул Терентий, не трогаясь с места. — Что же, прямо так прямо. Садись.
Григорий сел, облокотившись на колени, нагнул голову.
— Давай прямо, — еще раз сказал Терентий. — О мобилизации слыхал?
— Откуда мне слыхать… Никакой бумаги не получал.
— Не прикидывайся дурачком. На сегодняшний день ты — дезертир. За это без разговору к стенке, по закону военного времени. — Терентий помолчал и спросил: — Дошло?
Григорий поднял голову:
— А ты?
— Что я? — переспросил Зеркалов.
— На тебе тоже погон не вижу.
— Понадобятся — надену. Но ты не кивай на других. Меня к стенке не поставят… О себе подумай… А сейчас ты мне вот что скажи: Андрей Веселов знаешь где?
— Что я, — святой дух, чтоб все знать? — насторожился Григорий. — Говорят, будто в Гнилом болоте где-то…
— Это и нам известно, что в болоте… А ты его вдоль и поперек исходил, все тропки знаешь… Вот и прикинули — повременить пока надевать тебе погоны… А то давно бы тебя за дезертирство… Понял, почему не трогали пока?
Бородин долго и тупо смотрел на Терентия, будто не понимая, что тот хочет от него. И так же, как у отца, у Григория начинала понемногу отваливаться челюсть.
— То есть, значит, должен я…
— Ну да… — мотнул головой Зеркалов. — И пришел я к тебе не днем и не через калитку… Кумекаешь?
Григорий с шумом выдохнул из себя воздух и, точно был туго надутым и тем только держался на ногах, плюхнулся на лавку. Однако, едва коснулся сиденья, тотчас вскочил, вцепился обеими руками в Терентия, закричал:
— К черту! Ишь выдумали!.. Нашли дурака… Сам иди выслеживай… А если Андрюха верх возьмет, мне что тогда останется? Ну скажи, что? А мне жить надо. Ну вас к…
Выкрикивая, Григорий тряс Зеркалова, точно хотел повалить на землю, растерзать в клочья. Зеркалов не мог оторвать от себя его рук. Наконец, изловчившись, ударил головой Григория в подбородок, отбросил к стене и выхватил из кармана наган. Сухо щелкнул курок, и вслед за тем взвыл Бородин, оседая у стены:
— В-в-а-а…
— Замолчи, сволочь! — прохрипел Терентий, поднимая наган. — Орешь на всю деревню… Еще слово — и…
Григорий теперь только тяжело дышал. Грудь Зеркалова тоже высоко вздымалась. Оба застыли на месте, не спуская глаз друг с друга, готовые к действию: один, оторвавшись от стены, — прыгнуть и вцепиться клешнятыми руками в горло, а второй — тотчас выстрелить.
Наконец Зеркалов опустил оружие, достал платок, вытер им лоб и шею. Потом сел на лавку, положил наган на колени, не выпуская, однако, из рук.
— Задача ясна? — властно спросил он.
— Уволь ты меня от этого, Терентий, — вдруг тонко и жалобно начал Григорий. — Уволь по старой дружбе. Боюсь я… Ведь если узнают люди, что я… Господи, убьют ведь где-нибудь в переулке…
— Сделай так, чтобы не узнали, — холодно посоветовал Зеркалов.
— Господи, да отец первый растрезвонит по селу.
— Коли боишься, так не рассказывай ему. Сейчас, к примеру, отец спит? А пока мы с тобой тут… беседуем по-дружески, уж можно бы туда и обратно… — Терентий махнул рукой в сторону Гнилого болота. — Ведь рядом почти… — Он спрятал наган в карман, встал, намереваясь уходить. — Так что… концы, как говорят, с тобой. Выполняй задание. И не дай бог тебе ослушаться!..
— Да ведь развезло сейчас. Не то что в болоте — в любом логу утонешь! — сделал последнюю отчаянную попытку Григорий.
— Ничего! Через день-два вода скатится. А ночью подмерзает. Что нам и важно… В общем, смотри. Шутки шутить мы не собираемся…
Терентий Зеркалов ушел тем же путем, каким и пришел. Вокруг Григория стояла густая тишина, пахло свежей мокрой землей, тянуло из леса знакомым с детства, всегда волнующим запахом лопающихся почек… Иногда, сидя здесь, Григорий слышал глухие хлопки выстрелов, доносящихся из ограды лопатинского дома. Там кого-то расстреливали. Прилипая спиной плотнее к стене, Григорий думал тогда: «Вот и все… жил — и нет. Много ли надо человеку, чтобы помереть». Сегодня же выстрелов было не слышно…
И вдруг на ближней улице послышался топот несущейся во весь карьер лошади. Раздался выстрел, посыпались стекла, и прорезал тишь предсмертный крик:
— А-а-а!..
Крик оборвался на самой высокой ноте, а эхо еще несколько секунд плутало по лесу. «Ишь человек уж убит, а крик его все плавает над землей», — мелькнуло в голове Григория. И тотчас облился холодным потом, вспомнив, как стоял против него Терентий с наганом: «Выстрелил бы ведь, дьявол!! Ему что?»
И подумал с ужасом: и его, Григория, предсмертный крик плавал бы так же над деревней… А самого бы уж не было в живых.
8
Отшумели вешние воды, помолодела земля, запестрели на лугах цветы, не заботясь о том, что расцвели напрасно, что людям сейчас не до них…
В доме Бородиных ничего не изменилось. Бабка-стряпуха по-прежнему молча варила обеды и ужины, когда приходило время, молча ставила еду на стол и, так и не вымолвив ни слова, отходила прочь. Петр молился на образа и, храня гробовое молчание, лез за стол. Потом поворачивал землистое лицо к сыну, и Григорий молча сползал с кровати.
Пойдет ли теперь отец к Зеркалову или не пойдет — Григория мало беспокоило. Другими мыслями был занят его ум.
Он помнил последний разговор с Терентием и целыми сутками ломал голову над тем, как отвязаться от него. И хотя знал, что Терентий Зеркалов не бросал слова на ветер, предупреждая: «И не дай бог тебе ослушаться!» — все-таки тянул. И когда уже зашевелилась в душе Григория надежда: «Может, не придет, может, минует…» — он однажды увидел Терентия в темноте сидящим на лавочке возле дома. Он не встал, когда Григорий подошел, даже не пошевелился. Только произнес коротко и угрожающе:
— Ну?!
— Так я… Я ждал… Договориться бы надо… А в общем, конечно… куда же денешься от вас…
— Ты не крути, сволочь!.. Может, ты думаешь, мы играем с тобой? Может, ты все еще думаешь, что в армию не призван?..
Терентий говорил, не повышая голоса, вяло и тихо, вроде совсем без гнева.
— Ты вот что, Терентий, не сволочи меня… Может, я смерти Веселова больше твоего желаю…
— Н-ну, пожалуй, поверю, — тягуче протянул Зеркалов.
Григорий сел рядом на лавочку. Терентий чуть отодвинулся.
— Я сделаю, — тихо начал Григорий. — Это только говорят, что, мол, нету пути туда, засосет любого, кто пойдет… Я все тропки знаю… почти не хуже отца… — Он помолчал, взглянул на Зеркалова и еще раз повторил: — Да, не хуже отца… Он-то вырос и всю жизнь на болоте этом, можно сказать, провел. Ночью может пройти его вдоль и поперек. Только один раз пришлось заночевать нам среди трясины. И то потому, что ливень ударил, вспухло все, водой взялось…
Зеркалов терпеливо слушал, ждал, пока Григорий сам не замолчит. Усмехнувшись, бросил через плечо:
— Куда клонишь? Отец твой по дому-то ходит теперь запинаясь…
Григорий вздохнул и опять заговорил торопливо:
— А я что? Не знаю, что ли? Я ведь к тому… — И, наклонившись к Зеркалову, зашептал еще быстрее: — Все сделаю, выведаю. И… и скажу отцу, где Андрюхины партизаны. А он уж не вытерпит, побежит. Ты не смотри, что он с костылем, он проводит вас. А мне самому нельзя дорогу показывать. Потому объявлюсь.
— Ну и что с того? — спросил Зеркалов с насмешкой, хотя отлично знал, почему Григорий не хочет объявляться. Но Григорий на этот раз не заявил прямо, что боится, помялся и вымолвил неожиданно для самого себя:
— А зачем? Может, и еще когда пригожусь так же вот… Зачем людям знать, что я…
— Ну… ладно…
Григорий шумно перевел дух.
— Тогда все, раз договорились. Завтра попробую.
— Постой! Как же отцу скажешь? Ведь говорил в тот раз: «Отец первый растрезвонит по селу»? — спросил Зеркалов, явно уже издеваясь над Григорием. Бородин опустил голову.
— Мало ли как, — неопределенно ответил он. — Может, и не растрезвонит, коли вы возьмете верх.
— Коли мы? — Зеркалов резко повернул к Григорию перекошенное злобой лицо, схватил его за грудь и, тряся головой, выдохнул в самое лицо: — Эх ты, сука! С таким возьмешь, пожалуй…
Всю ночь, весь следующий день видел Григорий перед собой страшное лицо бывшего своего дружка.
А день, как назло, тянулся медленно. Вот и солнце село, но сумерки не спешили почему-то надвигаться. А когда стемнело, отец долго не ложился спать, кашлял, возился в своей комнатушке… Наконец все в доме стихло. Григорий осторожно встал, снял с гвоздя пиджак и вышел на улицу. С озера тянул холодный ветерок. Зачем-то Григорий опустился на лавочку и посидел с минуту, как перед дальней дорогой. Потом встал, не поднимая головы, взглянул на небо, медленно застегнулся на все пуговицы и осторожно, на носках, вышел со двора…
Вернулся часа через четыре мокрый от утренней росы, грязный. К одежде прилипли высохшие хвойные иглы, прошлогодний порыжевший мох. Сняв пиджак, сунул его под крыльцо, в собачий лаз. Чтобы не разбудить отца, в дверь не пошел, а залез в окно, бесшумно распахнувшееся под его толчком. Уже лежа в постели, подумал: «Дожились… В свой дом лезешь, будто вор…» Переворачиваясь на другой бок, пригрозил кому-то: «Врешь, все равно найду…»
Дня через три сказал отцу будто невзначай:
— Андрюха-то, сказывают, в Гнилом болоте лагерем стоит… возле того места, где нам пришлось заночевать как-то.
— Откуда знаешь?! — тряхнул маленькой головенкой старый Бородин.
— Откуда? Сорока на лету сболтнула, — ответил, точно огрызнулся, Григорий. — Сказывают, говорю…
— Ага, так… так… — скрипнул старик и стал смотреть в окно.
— Что — так? Ты, батя, смотри не проговорись кому! — предупредил Григорий. — Жизнь сейчас что картежная игра.
— Ишь ты! — усмехнулся отец. — Умен! Только жизнюха-то — завсегда игра: не то выиграл, не то проиграл… Другого нету…
— В дурачках остаться — полбеды. И дурак со временем наживет ума. А сейчас не ту карту выбросишь — голову снимут.
Старик, не отвечая, залез на печь и пролежал там почти до вечера.
За ужином молча косил глаза в окно на шнырявших по улице белогвардейцев.
— Гнилое болото — оно гнилое и есть, трясина кругом, — произнес наконец старик. — Андрюха неглуп, сообразил: не подберешься к ним…
— Хитра лиса, когда охотники дураки, — лениво ответил Григорий. — Ну, что уставился на меня? Али один Андрюха знает, какими тропами через Гнилое болото ходить?
— А ты к чему это? — встрепенулся старый Бородин.
Григорий бросил на стол деревянную ложку, встал и пошел в другую комнату.
Ночью Григорий не спал, прислушивался к каждому шороху в соседней комнате. Когда чуть скрипнула дверь, Григорий босыми ногами прошлепал по крашеному, полу к кровати отца, торопливо ощупал ее. Кровать была пустой и теплой. Возвратясь, Григорий лег в постель, укрылся с головой и спокойно уснул.
Утром его разбудили далекие хлопки выстрелов. Не вставая, повернул голову к окну. В соседней комнате возился на кровати отец. Но Григорий ничего не спросил.
Старый Бородин в этот день поднялся с постели поздно, пошатываясь, устало побрел к двери, вывалился через порог. Вернулся часа через два, опять упал на кровать.
— И в самом деле, слышь, Гришуха, не один Андрюха тропы заветные знает… — тяжело дыша, отрывисто говорил Петр. Маленький острый нос его, торчащий над подушкой — самой головы не было видно, — почему-то вздрагивал.
— Ну? — равнодушно буркнул Григорий.
— Вот и ну… Напали на них сегодня. Перебили, сказывают, половину. Нагулялись, слава богу… А Андрюшка-то ушел-таки с остальными…
— Ушел?!
— Чего орешь? — рассердился вдруг старик. Потом другим голосом, тихим, плаксивым, затянул: — Именно — хитра лиса, вот и ушел… Не потому, что охотники дураки, а потому, что стары… Молодые-то трусливые нынче… Ночью бы, сонных, накрыть их! А я пока плутал по лесу — и ночь прошла.
Григорий промолчал, сделав вид, что ничего не понял. Старик приподнял голову над подушкой, желтыми и круглыми, как копейки, глазами вцепился в сына:
— Эх, ты-ы… А еще крест носишь…
Это уже было знакомо Григорию. Он повернулся и молча ушел в горницу.
В обед увидел в окно шагающего по улице Терентия. Левое плечо Зеркалова было перемотано белой окровавленной тряпкой. Ночь, видно, не прошла для него даром… А вечером Терентий снова сидел на лавке у стены бородинского дома.
— Андрюшку хорошо потрепали, спасибо тебе, — сказал Терентий, едва Григорий вышел из дома. Бородин хотел что-то ответить, но Зеркалов не дал ему раскрыть рта. — Веселов, конечно, не дурак, осторожнее теперь будет. Места для ночевок станет выбирать такие, что ни днем, ни ночью не подобраться к ним…
— Конечно… Теперь бесполезно… — поспешил было вставить слово Григорий.
Но Зеркалов сурово перебил его:
— Что бесполезно? Ты брось это… Труднее твоя задача только — и все. — И добавил мягче: — Постарайся, Григорий. Батя сказал: не забудется тебе это…
Понял Григорий: не терпится Зеркалову добить Веселова. А скажи Григорий сейчас слово против — взорвется Терентий яростью, прихлопнет его не раздумывая.
И опять целыми днями думал Григорий про усатого почтаря. Ночью бесшумно вставал, вытаскивал из-под крыльца задеревенелый от грязи пиджак, осторожно, задами деревни, крался к лесу и нырял в него, как в черный бездонный омут.
— Кхе-кхе, — дипломатично кашлянул однажды отец, поскреб в бороде и спросил, щуря слезящиеся глаза: — Не сказывают, где Андрюха-то?..
Григорий вздрогнул, точно его поймали на месте преступления.
— То есть как — не сказывают ли?
Разыгрывать удивление, конечно, было лишним: отец все знал. Будто только что поняв это, Григорий вдруг громко, не стесняясь, выругался. В крепких, забористых словах прозвучало все вместе: лютая ненависть к партизанам Андрея Веселова, злость на самого себя, оказавшегося не в состоянии выследить их, и откровенный испуг перед тем, что не только Терентий Зеркалов знал о его ночных вылазках. Правда, знал не кто-нибудь — родной отец. Но все равно Григорий почувствовал, как по спине пополз знакомый липкий озноб. Отец ли знал, кто другой ли — какая разница? Тайна, известная одному, — с ним и умрет, известная двоим — шило в мешке.
Так думал Григорий, пока снова не услышал осторожное и успокаивающее: «Кхе-кхе…» Повернувшись на кровати лицом к стене, Григорий сказал тихо, виновато:
— Лес большой да глубокий ночью. Зверя трудно выследить, а человека и того пуще… — И вдруг резко повернулся обратно, сухо и тяжело скрипнули доски. — Ты, батя, того… Ничего не знаешь, ясно? Какая будет погода после бури — неизвестно еще, понял? — И задышал тяжело, точно пробежал несколько километров.
— После бури, известно, солнышко, — спокойно ответил старик.
— В тюрьму оно еще заглядывает сквозь решетку, а в могилу — нет. Вот оно что, батя.
Старик опять почесал в бороде, посмотрел зачем-то на крашеный желтый пол, по которому были разлиты солнечные пятна.
— Н-да… Экось ты просветлил отца по всем моментам… Тьфу… — И ушел, говоря насмешливо: — А пиджак зря гноил под крыльцом… Хозяин!.. Пользуйся моим пока…
Но пользоваться отцовским пиджаком Григорию долго не пришлось. Однажды утром он услышал доносящиеся с улицы крики, ругань. Григорий вскочил с кровати, глянул в окно. Колчаковцы толпами бежали к лесу. По улице метался Терентий Зеркалов. Он был в одной смятой рубахе навыпуск, без фуражки — видимо, только что проснулся. Откуда-то доносились редкие выстрелы.
Вдруг отворилась дверь, в комнату не вошел, а как-то впрыгнул задом отец, торопливо накинул крючок и, не разгибаясь, попятился в угол, упал на лавку, закрестился:
— Гос.. бож… помил… пресвят… богоро… Окружили, говорят, красные со всех сторон… О господи!
И опять холодок прошел по спине, подкатил к сердцу. Григорий только глотнул воздух, прошептал:
— Ну, батя… смотри!..
Те, кого искал Григорий в лесу по ночам, сами явились в Локти.
* * *
… Когда Григорий Бородин наконец вышел днем на улицу, он почувствовал щемящую пустоту.
Почти неделю подряд дули страшные западные ветры. Но уже ночью ветер потерял силу, а к утру стих окончательно. Медленно успокаивались воды Алакуля.
Часть вторая
Глава первая
1
Где-то гуляла еще по лесам банда, возглавляемая Гордеем Зеркаловым. Бывших колчаковцев понемногу вылавливали, загоняли все дальше в болото. Многие мужики, призванные когда-то в колчаковскую армию, возвращались зимой с повинной в родные деревни.
В Локти одним из первых явился Федот Артюхин. Был он похож на нищего. Рваный, прожженный у ночных костров полушубок, разбитые валенки с задранными кверху носами, облезлая баранья шапка…
— Может, добро-то скинул где и вырядился для жалости, — пустил кто-то шепоток.
А Федот Артюхин сразу отправился к Андрею Веселову в недавно образованный сельсовет.
— Здравствуй, председатель, — несмело проговорил он. — Вот он я. Заявился, значит… Хоть милицию зови, хоть что… — И, увидев сидящего у стены Федора Семенова, почему-то низко поклонился ему, потом затоптался на месте и хотел выйти. Но вдруг махнул зажатой в кулаке шапкой. — Зовите, ладно, милицию…
— Зачем? — спросил Веселов, внимательно оглядывая его с головы до ног.
— Так ведь я… все-таки… — Федот кивнул в сторону леса.
— Что же, пришел — живи, — спокойно проговорил Веселов.
Тогда Федот опустился на некрашеный, лоснящийся от грязи табурет, начал торопливо объяснять:
— Я ведь что? Я кабы сам… С тобой тогда зря не пошел, вот что. Зато помои из-под Гордея потаскал… Э-эх, чего там! А теперь как мне? Думал тоже: к вам податься — сразу к стенке меня, да и Зеркалов не простит, пошлет людей — пришибут. Он достанет, руки у него пока длинные. И там оставаться — верная смерть. Не от пули, так от мороза. А у меня домишко ведь тут, хоть никакой, да и жена также…
— Кто это сказал, что мы тебя к стенке поставим? — спросил Андрей.
— Ну-у… так говорили у нас… в отряде, — неопределенно ответил Федот. — Рассказывали, будто вы Игната Исаева да Кузьму Разинкина замучили тут за то, что сыновья их у беляков воюют. А потом дошел слух: Кузьма с Игнатом живут да здравствуют… И вдарило мне в башку: «Может, пугают нас, а?» Ночами размысливал: ведь я кто? Разве я враг тебе, к примеру? Вот и припер домой после домыслил…
Андрей рассмеялся.
— Правильное домыслил, Федот.
Артюхин тоже улыбнулся, сказал:
— Ну, благодарствуем… — и направился было к двери, но вдруг остановился, оглянулся на Андрея.
— Чего тебе еще? — спросил Веселов.
— Так все же… Непонятно мне. Гордей Зеркалов как поймает кого… кто за Советы воевал, немедля в расход, без разговоров. А вы… Я вот пришел — ты говоришь: живи. Игната Исаева, Кузьму Разинкина тоже не трогаете. Чудно… Объясни поподробней.
— Так я же объяснил уж, Федот, — проговорил Веселов. — Мы различаем, кто враг нам, кто нет. Время сейчас такое, что многие семьи надвое раскололись. Пройдет еще немного времени — все, как ты вот, домыслят, что к чему.
— Это Игнат-то Исаев домыслит? Вряд ли…
— Ну, тогда пусть сам на себя пеняет… Чуть заметим, что сети против нас вьет, — раздавим. Сил теперь у нас хватит.
Когда за Артюхиным закрылась дверь, Андрей посмотрел на молчавшего Семенова с немым вопросом: может, мол, неправильно я с Артюхиным поступил? Семенов понял это, встал.
— Нет, нет, Андрей. Все правильно…
Нахмурив свои лохматые брови, Семенов прошелся по кабинету, стал застегивать неизменный, потрескавшийся за многие годы кожан. Потом проговорил:
— Ну, поеду я дальше. Учить тебя мне нечему, сам во всем разбираешься правильно. Молодец, Андрюша, окреп.
Андрей отвернулся от Семенова и стал смотреть в окно. Семенов протянул ему руку.
— Ну? Вопросы есть? Нету. Значит, до свидания.
— Счастливый путь, Федор.
Семенов шагнул к двери, остановился.
— Нет, что-то еще, вижу, есть у тебя. Выкладывай.
Поколебавшись, Андрей проговорил:
— Я уж давно думаю, Федя… Ты вот говорил — правильно я… И дрался с Колчаком не на страх, а на совесть… А все беспартийный. — И, наконец, обернулся. — Я не знаю, может, рано мне…
Семенов подошел к Андрею, молча взял его за плечи и встряхнул. Сказал глухо, будто даже сердито:
— Я давно жду от тебя, Андрюша, этих слов… И знал, что дождусь. Сам рекомендовать тебя буду в члены партии.
— Ну, спасибо. Спасибо, друг… — почти прошептал Веселов.
— Тебе спасибо, Андрюша… На обратном пути я заеду — и в комитет с тобой… Будь здоров.
Андрей Веселов еще долго стоял у окна, заложив руки за спину.
* * *
От Веселова Федот вышел бодрым шагом, громко крикнул через дорогу Тихону Ракитину, вывернувшемуся из-за угла:
— Тихон, здорово! — и побежал к нему рысцой.
— Вернулся, значит? — протянул руку Тихон. — Здравствуй. У Веселова был?
— Ага… Доложился по всем правилам. Так, мол, и так, личный постель-адъютант самого Зеркалова…
— Не испугался он тебя?
— Не-ет, — растянул Федот в улыбке заросший щетиной рот. — Господи, хоть усну сегодня в какой ни на есть человеческой постели. Ну а ты как?
— Да как? Тоже воевали… с такими, как ты.
— Именно. Я и Андрею говорил — а враги разве мы?
На другой день, когда Федот, несмотря на мороз, в одном пиджачишке колол дрова возле своего дома, к плетню подошел Григорий, постоял и проговорил:
— Ишь ты, закалился, видать, в отряде Зеркалова. Чего не оденешься?
Федот обернулся, бросил топор на снег.
— А-а, Гришка… Закалка плохая, брат, там. А ты где воевал? У Андрея, что ли, в отряде?
— Люди дерутся — чего лезть… — нехотя проговорил Григорий. — Мне защищать нечего.
— А мне есть чего? — спросил Федот.
Вопрос был правильный. Но Григорий будто не расслышал его.
Отвернувшись, глядя куда-то вдоль улицы, спросил осторожно:
— Как там дела у Зеркалова?
— Интересуешься, стало быть? — усмехнулся Федот. — Может, дорогу к нему рассказать?
— Дурак! — Григорий плюнул на снег. — Кто сейчас к нему пойдет? Последние дни, сказывают, догуливает Зеркалов.
— Это верно, — согласился Артюхин. — Разбегаются людишки от него. Скоро останутся втроем: Зеркаловы — отец с сыном да Лопатин.
— И Лопатин с ними?
— А то где же? Вроде начальника штаба…
— Так, — сказал Григорий неизвестно к чему и отошел от плетня.
* * *
Вместе с первыми теплыми днями пришло в Локти известие о том, что в Иркутске расстреляли «верховного правителя» — Колчака.
По вечерам, собираясь в сельсовете, мужики возбужденно обсуждали эту новость.
— Остался ты, Федот, без главнокомандующего теперь, — пошутил Ракитин.
Артюхин обычно к таким шуткам относился добродушно. Но тут побагровел, закрутил головой, запрыгал вокруг Тихона:
— Чего ты насмехаешься? Чего? Что я служил… Мне и так несладко пришлось… А ты…
И губы у Федота затряслись, как у ребенка, готового заплакать…
— В самом деле, Тихон… Хватит об этом, — заступился за Артюхина Веселов.
— Вот, вот — именно!.. — подхватил Федот. — Определил тоже мне главнокомандующего… Он у меня, командующий этот, тут, в деревне, дома на печке лежит…
Шутил Федот или говорил серьезно, но в прокуренной комнате грохнул хохот. Федот растерялся, потом сообразил, что сказал что-то невпопад, и рассмеялся вместе со всеми.
— Теперь Зеркалова бы так же, — сказал он, когда хохот смолк.
— Ничего, Федот, поймают и Зеркалова, — ответил Веселов.
Когда солнце съело снег и просушило пашни, локтинские мужики проржавевшими плугами ковыряли землю по склонам холмов, вручную из сит и лукошек торопливо засевали ее.
Григорий, глубоко засунув руки в карманы, молчаливо ходил по улицам деревни, смотрел на все какими-то безразличными, отсутствующими глазами.
— Люди пашут, — сказал однажды отец, подрагивая тощей, почти высыпавшейся бороденкой.
Григорий буркнул что-то неразборчивое.
— Так и нам бы… хоть с десятинку… Я-то не могу уж, Гриша… С голоду ведь подохнем.
— А чего мне спину гнуть на пашне? — огрызнулся Григорий. — Вырастишь хлеб, а его отберет Веселов.
Однако через день все же выехал в поле. Кое-как закидал пшеницей вспаханную полосу.
Чуть ли не в последний день сева замешкался на пашне допоздна. Когда стало уже темнеть, пошел в лес за конем. Привычно накинул уздечку, распутал и намеревался уже вскочить на спину лошади, когда из-за деревьев бесшумно вышел человек, негромко и осторожно крикнул:
— Эй!…
Григорий оцепенел. Лошадь, мотнув головой, вырвала у него из рук повод, отошла в сторону и стала щипать траву. Но Григорий даже не пошевелился; широко открыв глаза, он смотрел на стоявшего под деревьями Лопатина, как на пришельца из загробного мира.
Еще перед самым севом в Локтях стало известно, что банда Зеркалова уничтожена. Об этом официально объявил всем Андрей Веселов. Он рассказал, что отец и сын Зеркаловы взяты в плен, осуждены и расстреляны, Лопатин убит во время последнего боя. Григорий не поверил Веселову и спросил как-то у Ракитина:
— Правда, что ли, насчет Зеркаловых?
— На вот, читай. И про Лопатина тут…
Григорий взял смятую, потертую на углах газету, долго читал заметку о ликвидации банды Зеркалова. Молча отдал газету Ракитину, не сказав больше ни слова.
Мысль о том, что Зеркалов жив, что каждую ночь он может появиться на лавочке возле дома, все время камнем давила на плечи. Теперь эта тяжесть свалилась с него.
Беспокоило все время Григория и другое. Только двое знали, что он ночами выслеживал партизан Андрея Веселова, — Терентий Зеркалов и отец. Ну, может, знали еще Гордей Зеркалов да Лопатин. Все они теперь мертвые, в свидетели не годятся. А отец… отец тоже почти мертв…
И вот в пяти шагах перед ним стоит живой Лопатин, грязный, заросший, как зверь. Стоит и настороженно следит за каждым движением Григория, опустив руку в карман. Григорий знал: в кармане наган или нож.
Наконец Григорий проговорил еле слышно:
— Ну чего тебе? Может, есть хочешь? Так я сейчас, у меня осталось там, — и кивнул головой в ту сторону, где стояла одноконная бричка с погруженным в нее плугом и бороной.
Лопатин качнул головой, вынул руку из кармана.
— Не-ет!.. Не голоден. Добрые люди пока и кормят и поят. Иди сюда. Да иди же!
Григорию ничего не оставалось делать, как повиноваться…
Через минуту они сидели на траве, привалившись спинами к могучему сосновому стволу.
— А писали в газетах — убили тебя. А Зеркаловых расстреляли будто, — проговорил Григорий.
— Гордея в самом деле… царство ему небесное, — негромко говорил Лопатин, расчесывая пальцами бороду. — А Терентий сбежал, пока на расстрел вели. Ночь, говорит, больно темная была, помогло. А про меня, выходит, наврали. Правда, саданули меня в последнем бою из винтовки… Валялся где-то без сознания до вечера. Потом слышу: переворачивают с пуза на спину, говорят: «Бандюга Лопатин, отгулялся, сволочь… Зароем утром…» И ушли. А к утру-то я далече уполз… Врать они про нас мастера, — продолжал Лопатин. — А мы еще живем… Терентий приказ тебе дает…
— А?
Лопатин вздрогнул, по привычке рука скользнула вниз, к карману.
— Фу ты, черт! — глухо воскликнул он. — Чего орешь?
— Кто? Я? Я ничего, — пробормотал Григорий. — Разве орал? — Мысли его были где-то далеко.
— Терентий, говорю, приказывает насчет Веселова… Убрать его надо потихоньку, — вдруг сухо и строго сказал Лопатин. — Как сделаешь — твое дело. Терентий сказал: пусть не вздумает Гришка отказываться, пусть, говорит, вспомнит, куда нас отец его водил. Понял?
Григорий хотел крикнуть что есть мочи: «Сволочи! Оставите или нет меня в покое?» Но вместо этого выдавил из себя:
— П-понял… Чего там…
— Ну вот… Мое дело — приказ тебе передать. Потом пришлю надежного человека проверить.
— Ладно, — тем же безразличным голосом проговорил Григорий. Чувствовалось, что говорит он машинально, по-прежнему думая о чем-то своем. Лопатина насторожило это, он поспешно обернулся:
— Чего ладно?
— Ну… сделаю все.
— Вот так. А теперь пойду. Прощай пока.
Лопатин поднялся. Григорий остался сидеть неподвижно. Но едва Лопатин сделал первый шаг, как Григорий метнулся ему вслед, схватил за ноги и резко дернул к себе. Лопатин упал лицом вниз, ломая грудью торчащие в траве прошлогодние сухие дудки и стебли. И в то же мгновение крючковатые, заскорузлые от земли, точно железные, пальцы Григория впились в горло бывшего лавочника.
— Сволочь!.. — прохрипел Григорий в темноте. — Передай приказ лучше самому Гордею… на том свете…
В первую секунду Лопатин сумел перевернуться на спину, легко сбросив с себя в сторону Григория. Но, отлетев, Григорий не выпустил шеи. Сжимая ее, как клещами, он мигом очутился снова верхом на Лопатине. Тот хрипел, обеими руками пытался оторвать пальцы от своего горла. Поняв, что это ему не под силу, стал шарить у себя по карманам, выхватил нож и, почти не размахиваясь, ткнул им Григория в бок…
Но удар получился слабым. Лопатин уже почти задохнулся. Силы оставили его. Нож только скользнул по ребрам Бородина, не причинив ему особого вреда.
Страшная сила рук на этот раз пригодилась Григорию.
Домой Григорий вернулся далеко за полночь. Отпряг коня, зашел в свою комнату, снял рубаху, немного окровавленную, бросил ее под кровать и лег в постель. Рана в боку уже не чувствовалась. Но забылся сном только перед рассветом… И сейчас же приснилось, что в комнату кто-то вошел и полез под кровать. Григорий откинул одеяло, рывком поднялся и сел на постели.
На улице был давно день, в окна лился желтоватый солнечный свет.
В комнате стоял отец, ковыряя костылем выволоченную из-под кровати, перепачканную болотной тиной и кровью одежду Григория.
— Ты!.. Чего ты? — испуганно крикнул Григорий.
— Ничего, сынок… Кончил, что ли, посев?
Григорий в первую минуту ничего не мог ответить.
Уж слишком неожиданно прозвучал голос отца, как-то мягко, задумчиво, даже с нежностью.
— Ну… кончил, — наконец сказал Григорий растерянно.
— А это? — прежним голосом спросил его отец, тыкая костылем в одежду. — Откуда, думаю, опять болотом воняет в доме? Ишь все в земле перемазано. Смотрю — и впрямь ты не зря погрозился отцу недавно. Кости, что ль, откапывал цыганские? Куда понесешь их теперь? К Веселову?
— Замолчи ты! — громко вскрикнул Григорий, соскочил с кровати, ногой запихнул одежду на прежнее место и повернулся к отцу. — Какие кости я откапывал, чего плетешь?
— Ну, может, не откапывал… Может, наоборот, закапывал кого, тебе не впервой… Откуда кровь-то на пиджаке? И смотри-ка… На рубахе вон? Говори! — Старик поднял костыль, чуть не ткнув в бок Григория.
Григорий прикрыл локтем пораненное место. Петр усмехнулся, сел на табурет, поставил костыль между ног и положил на него обе руки.
— Ты, Гришуха, подлюга все-таки, — с обидой в голосе сказал Петр Бородин. — Кому грозил-то? Отцу… Не испугался я. Ведь мне и так помирать теперь… Но не прощу тебе обиды той, не прощу, дьявол, до самой смерти!!
И вдруг заплакал скупыми старческими слезами, вытирая их маленьким, сморщенным и сухим кулаком.
— Ведь я для кого старался? Кто думал, что оно так вот все… перевернется? А ты — отблагодарил батьку!.. А ежели я кой-чего расскажу про тебя? Ведь раздавит тебя Андрюха, как вошь на гребешке… Пиджак-то сгноил тогда…
Григорий сидел на кровати, вцепившись руками в край перины. Он был готов кинуться на отца, как бросился вчера на Лопатина, вцепиться в отцовское горло. И, может быть, сделал бы это, если бы отец сказал еще слово.
Но старик ничего не говорил, только смотрел на сына ненавидящими глазами.
2
В лесах, вокруг Локтей, на старых пожарищах, поросших высокими травами, на прогреваемых солнцем щетинистых увалах водится много лисиц. В поисках пищи они часто забредают в село, неслышно подкрадываются к курятникам.
Учуяв хищницу, налетают на нее собаки. Лисица бросается в спасительный лес, скатывается в нору, забивается в самый дальний угол, прижимается к земляным стенам дрожащим телом, пугливо поводя в темноте зеленоватыми глазами. Лежит в норе долго, иногда день, два, три… Потом осторожно, на брюхе, подползает к отверстию, нюхает воздух, осматривается по сторонам. И если не заметит опасности, выскакивает наружу и ныряет в чащобу.
Примерно так же вел себя Григорий Бородин. После разговора с отцом несколько дней не выходил из дому, настороженно следя за каждым его движением.
Старик разгадал его мысли, презрительно усмехнулся:
— Ладно, не бойся. Не выдам.
Странная, казалось Григорию, настала жизнь. Все вроде было по-старому. Весной мужики, как и в прошлые годы, ползали по склонам холмов за деревней, распахивали не совсем еще просохшие лопатинские и зеркаловские земли. Но, обмолотив урожай, везли зерно не в хозяйские амбары, а всяк себе. Это было необычным. Казалось: вот-вот явятся те, кому принадлежат земли, станут разъезжать от дома к дому, выгребая из глубоких дощатых сусеков звенящую, старательно провеянную пшеницу. Поднимется крик, вой, плач…
Но Григорий знал: уж кто-кто, а Лопатин-то не вернется…
Всю зиму выли свирепые метели. От мороза трещали стены домов, звенели под ветром жесткие, как железные прутья, ветви деревьев.
В сельсовете по вечерам собирались локтинские мужики, толковали о полыхавшей где-то войне.
— Ведь год назад свернули Колчаку голову… — высказывались мужики. — А война-то идет да идет…
— У нас Павел вон Туманов воюет, еще и другие… Может, кого в живых уже нет…
— Ты разъясни нам, Андрей, что и как. И когда оно все кончится?
Веселов тер ладонью чисто выбритый подбородок, прикуривая от стоящей на столе лампы толстую самокрутку, рассказывал:
— Колчаку свернули голову, верно… Да если в один Колчак был на свете! Много их, колчаков таких, много врагов у трудящегося народа… Недавно, в начале нынешней зимы, в Крыму придавили тамошнего Колчака, Врангеля по фамилии…
— Насмерть? — спросил кто-то из угла, куда не доставал слабый свет керосиновой лампы.
— Нет, убежать за море успел, гад, — ответил Андрей. — Кроме того, разные страны войска посылали против нас. Ну, знаете, говорил я вам, что перемололи мы их, остатки выперли обратно. Сейчас вот японцы еще цепляются за Дальний Восток. Но, по всему видать, уберутся скоро восвояси… Тогда, должно, и война кончится…
— Эх, скорей бы… Да еще хлебушек изымать перестали бы — как зажить можно! Ведь нынешний год опять, Андрей, выгребешь все у нас?
— Не все, а излишки, — строго поправил Веселов. И добавил сурово: — Коль понадобится — выгребу.
— Да мы понимаем, чего там…
Но однажды, уж в марте, Веселов сам созвал в сельсовет народ и, оглядев всех, объявил радостно и торжественно:
— Вот что… Нынче излишки хлеба изымать не буду! — и потряс зажатой в кулаке газетой. — Продразверстка заменена продналогом.
— И тот прод, и этот прод… Какая нам разница, — раздалось сразу несколько голосов.
— Чудаки вы, ей-богу, — воскликнул Веселов. — А ну, поближе к столу, сейчас объясню все…
Весной мужики запахали не только все зеркаловские и лопатинские земли, но захватили добрую половину и бородинских полей.
Перед севом вернулся в Локти Павел Туманов, мужик высоченного роста, широкоскулый, лобастый, с глазами навыкате.
Несмотря на неприветливое выражение лица и молчаливость, это был добродушный и покладистый человек.
Туманов посеял рядом с Григорием, на его земле. Бородин поглядывал на Павла косо, но прогнать его не решался.
Григорий знал, что Туманов воевал под Перекопом с Врангелем, и спросил как-то, что это за Врангель. Павел коротко ответил:
— Врангель — барон, вроде вашего адмирала Колчака.
— А-а!.. — ответил Григорий и про себя подумал: «Нашего? Жена твоя была нашей, это точно…»
Однажды Туманов сказал Бородину:
— У тебя, Григорий, пашня урожайнее, потому под самым склоном. А моя земля истощенная какая то… Как бы нам распределиться, чтоб одинаковые пашни были, а?
Григорий слушал и чувствовал, что может не сдержаться, ударить Павла. «Твоя, значит, земля? — думал он, отворачиваясь от ставшего давно ненавистным крупного лица Туманова. — Черт, зря тебя под Перекопом этим… не закопали…»
Однако ничего не ответил Туманову, продолжал пахать под склоном.
Григорий стал еще более молчаливым, замкнутым, ходил по деревне словно с зашитыми в карманы руками, посматривал на мир прищуренными, ничего не выражающими глазами.
Он ни с кем не разговаривал, и его никто не трогал. Веселов, маленький, коренастый, крепкий, при случайных встречах бросал взгляд на Григория и тоже не трогал — забыл, что ли? Нет, не забыл. Иначе не обжигал бы Григория так его взгляд, не заставлял ежиться.
Спокойно, не торопясь, проходила иногда мимо дома Бородиных Дуняша Веселова. Григорий смотрел на нее из окна и чувствовал: всплывает, поднимается, как вода во время прибоя, давняя, застаревшая злость на весь мир.
Вместе с тем в сердце, в самой глубине его, шевелилось что-то живое, похожее на прежнее чувство к Дуняше, однако прорваться наружу не могло, быстро утихало, оседало на самое дно, как мелкий песок, поднятый в стоячей воде речушки брошенным туда камнем. Дуняшка исчезала, а Григорий все стоял у окна, бездумно смотрел на улицу. Вдоль нее ветер мел опавшие сухие листья тополей, крутил их под заборами, под окнами почерневших от старости бревенчатых изб.
Часто спешила куда-то мимо дома Бородиных и Анна Туманова. Она тоже шла прямо.
«Ишь стерва… И эта выпрямилась… — думал Григорий, морщась, как от зубной боли. — Рассказать бы мужу, как жила без него… А то литовкой замахиваться…»
Это было несколько недель назад, когда убирали хлеб. Вечером, перед концом работы, Анна сказала что-то мужу, взяла косу и пошла в лес, намереваясь накосить две-три охапки травы на ночь лошаденке. Григорий, прихватив уздечку, отправился туда же, будто бы ловить коня.
Увидев меж деревьев Григория, Анна тотчас перестала косить, спокойно, выжидающе обернулась к нему. И в этом повороте, в узковатых глазах, устремленных на него, было что-то предостерегающее. Всегда покорная, податливая, стояла она сейчас на выкошенной сыроватой земле прямо и твердо, плотно сжав сухие, крепкие губы.
Григорий все-таки попытался изобразить на своем лице улыбку и шагнул к ней, проговорив:
— Ну, ну, Анна, чего ты?!
Она не отступила, только приподняла косу и промолвила:
— Иди себе…
Усмехаясь, Григорий спросил:
— Или мужа боишься? Раньше-то, помнится, смелее была.
— Раньше есть нечего было. А ты пользовался нищетой нашей, паразит.
Григорий потоптался среди высокой, начинающей сохнуть уже лесной травы. Анна снова подняла косу:
— Уходи лучше от греха…
… И вот, провожая ее из окна взглядом, он думал, что хорошо бы рассказать Павлу Туманову о том, как жила Анна без него. Но сам же понимал, что думает об этом зря, что не осмелится, побоится рассказать.
Скоро в Локтях пошли разговоры об организации коммуны. Григорий опять несколько раз видел в селе бывшего ссыльного Федора Семенова и думал: «Начальство, видать, теперь. Вишь, Андрюха вьюном вьется…»
Больше всех бегал по селу заполошный Федот Артюхин, останавливал каждого встречного, кричал чуть ли не в самое ухо:
— Слыхал, Андрей коммуну делает, а? Как ты? Я думаю — вступить безоговорочно. И Семенов Федот советует. А? Они же партийцы с Андреем, эти… большаки. Уж худого не присоветуют. Всем миром, значит, пахать и сеять будем…
— Пахать-то — миром, да не пойдем ли по миру? — отвечали иные.
Тогда Федот сердился, доказывал:
— Все-таки Советская власть, брат, коммуны эти того… не зря. Понимать надо.
Степан Алабугин говорил более определенно и убедительно:
— Мне, безлошадному, совсем трудно. Помогает, конечно, Андрей сколь может… А в коммуне и я всегда с хлебом буду. Не-ет, я за большаками пойду…
Григорий, по своему обыкновению, прислушивался к таким разговорам, но никогда не ввязывался в них. Он видел, что за «большаками» идет не только его бывший работник, но почти вся деревня. Значит, ему не по пути с ними.
В горнице на кровати валялся теперь старый и дряблый, как прошлогодняя картофелина, отец. Слег он от болезни ли, от старости, или еще от чего — Григорий не знал. Он был рад, что отец лежит пластом. Уходя из дома, запирал двери горницы на ключ и клал его в карман.
Утрами, негромко покряхтывая и охая, старик сползал с кровати, пошатываясь, шлепал к лавке у стены, неслышно опускался на нее. Отдышавшись, толкал створки окна прозрачно-восковой, дрожащей рукой. Григорий бросал на отца обеспокоенные, тревожные взгляды. Однажды заметил угрюмо:
— Простудишься у окна-то. Отошел бы…
— Подышать хоть земной свежестью…
Старик долго кашлял, дергаясь высохшим, невесомым телом. Потом повернул к сыну слезящиеся глаза.
— Не бойсь, не выпрыгну… Мне и в дверь-то теперь не выползти… Так что зря замыкаешь… тюремщик.
Григорий поднял голову, дернул губой, отвернулся.
— Не вороти морду. Правда зенки колет, что ли?
— Какой я тебе тюремщик? — проговорил Григорий все тем же голосом.
— Именно что… На дверь замок повесить можно. А вот на язык — как? Ты подумай, сынок, — желчно добавил старик.
Григорий опять быстро вскинул голову, подскочил ближе к отцу.
— Ты, батя, что? — Голос его дрогнул и сорвался. — Правду, говоришь, любить надо?.. А если иная правда мне — что нож в сердце, а? Тогда как?
— Я и говорю: на язык мне придумай замок повесить… Дверь-то крепко запираешь — я не выйду, ко мне никто не придет.. Особливо Андрюха…
— Батя! — Григорий шагнул еще ближе к отцу, сжал кулаки, побагровел. — Мне придумывать нечего… Ты вперед меня придумал, когда… мать уморил взаперти…
Петр помедлил с ответом, будто никак не мог понять, что такое сказал ему сын. Потом проговорил спокойно, потряхивая редкими спутанными волосенками на острой макушке головы:
— Отойди-ка… сукин ты сын, Гришка. Отца родного боишься, живешь, как…
Старик еще хотел что-то сказать, но закашлялся, махнул рукой и побрел обратно к кровати.
Скоро старому Бородину стало хуже. С постели он больше не поднимался. Разговаривали они теперь мало и редко. Только иногда отец спрашивал:
— Как там коммунишка-то, не распалась?
— Нет пока.
— Ага, так… Христопродавцы-и! Андрюха все верховодит?
— Он.
В другой раз старик проговорил:
— Вот что скажи мне, Гришуха… Ходишь ты по деревне, как бездомный пес, принюхиваешься который год, вижу… — Помолчал и спросил в упор: — В коммуну-то не думаешь вступать?
— А вдруг другой Колчак объявится?
— Так, так, кхе…
— Вот тебе и «кхе» тогда будет, — отворачивая в сторону глаза, тихо уронил Григорий.
День ото дня старик заметно таял, угасал, как догорающая свечка. Перед самой смертью подозвал к себе сына и спросил:
— Снег, что ли, выпал на улице?
— Снег.
— Я, Гришуха, помираю… Знаю, рад будешь…
Григорий промолчал.
— Умереть мне не страшно, пожил, слава богу, — начал опять старый Бородин, когда понял, что сын не ответит, не возразит. — Жалко вот, что ты останешься поганить грешную землю.
— Не твоя забота, — криво усмехнувшись, бросил отцу Григорий.
— Ты ведь сын мне, Григорий… А это и обидно мне. — Голос старика прерывался, дребезжал. Он широко открывал маленький беззубый рот, ловил воздух. Несильно, но часто вздымалась его плоская грудь. — Каждый живет по своей линии, топчет свои тропинки… — хрипел старик. — На земле ведь как? Сильный — прямо стоит, слабый — по ветру стелется… А ты ни так, ни этак. Болтаешься, как гнилушка в озере…
Григорий, стоя у кровати, слушал, переминаясь с ноги на ногу.
— Все, что ли, сказал?
— Нет еще… Я думал, растет сын, а вырос свин. В коммуну вступил бы, что ли, — все-таки к одному краю. Я проклял бы — так хоть знал, за что…
Петр Бородин тяжело, со свистом, вдыхал и выдыхал густой, спертый воздух горницы. Тонкая, красная шея его напрягалась, делалась еще тоньше. Сквозь морщинистую, будто истертую кожу стали проступать, вздуваться синие жилы.
С усилием проглотив слюну, старый Бородин прохрипел:
— Прахом все пошло… Хоть оградку на могилке моей из железа поставь… Все же не на ветер труды мои…
Старик задышал еще чаще, закрыл глаза.
Григорий так и не знал, когда отец умер. Утром, зайдя в горницу, почувствовал вдруг в груди кусок льда, который быстро начал крошиться, плавиться: леденящие струйки потекли по спине, по рукам, подобрались к сердцу.
Отец лежал на кровати, уронив с подушки голову, и в упор смотрел на Григория страшным остекленевшим глазом, как бы спрашивая: «Ну что, дождался? Вот и помер я… Все, что знал, — с собой унес…» Другой глаз старика был закрыт.
Не помня себя, Григорий выскочил на улицу, сел на заснеженную ступеньку крыльца. Онемевшая душа его понемногу отходила. Он увидел, что на берегу озера что-то делают мужики, различил среди них Веселова, подумал: «Вот так, Андрюха… Было в мешке шило, да обломилось. Ищи иголку в стоге сена…»
И неожиданно улыбнулся, сам еще не зная чему.
Встал, зашел в горницу, торопливо, отворачиваясь от | отцовского глаза, расстегнул рубаху у него на груди, нащупал холодный, почти пустой кожаный мешочек. Снимать его с отцовской шеи через голову не захотел, потянул к себе. Но суровая бечевка не обрывалась. Тогда Григорий рванул мешочек изо всей силы. Хилое, высохшее тело старика дернулось, приподнялось, как живое, и снова упало на подушки.
Через день хоронил отца. Могилу копал один — никто не пришел помочь, никто не выразил даже сочувствия. Подолбив мокрую, перемешанную со снегом землю, садился спиной к ветру, курил, долго о чем-то думал… Может, о том, что «шило»-то не совсем обломилось. Ведь, если верить словам Лопатина, бродил еще где-то по свету Терентий Зеркалов…
3
Похоронив отца, Григорий всю ночь не спал и напряженно прислушивался: не донесется ли снизу, из кухни, где спала бабка-стряпуха, хоть какой-нибудь шорох? Но во всем доме стояла мертвая тишина.
«Господи, померла она тоже, что ли?»
Но бабка Дарья была жива. Утром Григорий слышал, как она шаркала за дверью ногами, что-то передвигая с места на место, часто тяжело вздыхала.
Григорий до завтрака вышел во двор, почистил в конюшне, бросил пласт сена корове. Долго стоял, опершись на вилы, и смотрел, как валит с неба густыми и крупными хлопьями снег.
Вернулся в дом и прошел на кухню. Однако на столе завтрака еще не было. Старенькая, насухо вытертая клеенка скупо поблескивала, отражая зеленоватый свет, лившийся в окно.
— Ты что? — недовольно обернулся Григорий к старухе. — Проспала, что ли? Ведь пора завтрака…
Григорий не договорил. Бабка стояла возле раскрытого дощатого сундучишка одетая, замотанная дырявой шалью из белесой шерсти. В руках она держала узелок, в котором были, очевидно, собраны все ее пожитки.
— Ты что?! — второй раз воскликнул Григорий, смутно догадываясь, почему старуха одета.
— Ухожу я, — еле слышно сказала она.
И, пожалуй, Григорий в это мгновение впервые услышал ее голос.
— Чего мелешь?! Куда уходишь?
— Посторонись-ка, — так же потихоньку произнесла старуха и шагнула вперед. Григорий невольно дал ей дорогу. Но потом, когда она была уже у двери, догнал и рванул за плечо. Старуха пошатнулась и упала бы, но успела схватиться за скобу.
— Да почему ты уходишь? А как жить будем… и ты и я?
Бабка сняла со своего плеча руку Григория, покачала головой и произнесла:
— Я-то как-нибудь… Мир не без добрых людей. Да и жить мне осталось считанные деньки. А все таки не могу, когда могилой в доме пахнет. Не потому, что батюшка твой помер — царство ему небесное… Давно ушла бы, да… Боялся он тебя, говорил все: уйдешь — задушит меня Гришка… Вот и жила. А теперь — прости на прямом слове…
Говорила старуха медленно, с трудом, часто останавливаясь. Григорий слушал, опустив голову. А когда поднял ее — бабки уже не было в комнате.
И остался Григорий совершенно один в пустом доме, один и на всем белом свете.
Днями он бродил бесцельно по гулким комнатам, слушал, как завывает в трубах обиженная кем-то вьюга, — и самому хотелось завыть, раскидать по бревнышку весь дом, всю деревню. Ночами просыпался в холодном поту, невольно вскрикивал: прямо на него смотрел из темноты мутным, чуть зеленоватым глазом отец. Смотрел долго, насмешливо… Постепенно голова отца таяла во тьме, знакомые очертания лица расплывались, скрадывались мраком, а круглый огонек глаза зловеще горел и горел, как одинокая звезда в черном небе. Наконец и этот огонек увядал, превращался в маленькую светящуюся точку и гас. Тогда Григорий вставал, черпал полный ковшик холодной воды и долго пил, стуча зубами о железо.
Весной встретил как-то на улице быстроглазую, юркую, как ящерица, сиротку Аниску и сразу даже не подумал, что это она. Аниска выросла. Кутаясь от холодного ветра в сплошь залатанную одежонку, девушка испуганно поглядывала по сторонам. Завидев Григория, торопливо свернула в переулок. Григорий крикнул:
— Постой-ка… Не съем. Куда идешь?
Аниска, не останавливаясь, глянула через плечо и побежала дальше.
Григорий постоял, подумал о чем-то и повернул назад.
Дня через два снова встретил нищенку на краю села. На этот раз она никуда не могла свернуть, стояла и поглядывала на Григория, как загнанный зверек.
— Чего ты? — усмехнулся Бородин. — Я ведь спросил только, куда идешь…
— Так, хожу… Может, заработаю где что, — ответила Аниска, не спуская с него синих испуганных глаз, чутко сторожа каждое его движение.
От ее грязных, рваных лохмотьев пахло гнилью, давно не мытым телом. Григорий стал с подветренной стороны. Аниска, догадавшись, покраснела, опустила голову.
— Зиму прожила там… — Аниска махнула рукой в сторону леса. — Теперь ничего, отойду… Солнышко.
— Я вот тоже сиротой стал… Отец помер с осени, слыхала?
— Слыхала…
Аниске было холодно, она все время переступала ногами. Голова ее, повязанная вместо платка тряпкой, теперь беспокойно поворачивалась из стороны в сторону. Тяжелые пряди волос, выбившиеся из-под желтоватой тряпки, полоскались по ветру.
Вся фигура Аниски напоминала о чем-то измятом, растерзанном, выброшенном за ненужностью в грязь. Залатанная юбка, грязная кофта, что-то бесформенное на ногах вместо ботинок, тряпка на голове и, наконец, растрепанные волосы делали ее похожей на старуху. Только глаза, синие до черноты, большие, опушенные длинными густыми ресницами, были чистыми, молодыми и принадлежали, казалось, не ей.
— Есть, должно быть, хочешь? — спросил Григорий, внимательно рассматривая ее лохмотья.
Девушка ничего не ответила, нагнула голову и хотела пройти мимо.
— Ишь ты… гордость. Где нищета, там уж гордости не должно быть вроде…
— Ничего я не хочу… — тихо проговорила Аниска, оборачиваясь.
— Ну, вот что… Приди, помой у меня в доме. С ползимы не мыто. Пылищи везде — на вершок.
— Не хочу я мыть у тебя, — так же еле слышно повторила Аниска. — У вас собаки…
— Вот как… Помнишь, стало быть?! Собак-то нет давно… Я тебе юбку с кофтой дам за работу.
Девушка в нерешительности остановилась. В больших глазах ее вспыхнули недоверчивые огоньки, осветив маленькое, чуть продолговатое, почти детское лицо.
— Юбку… и кофту? Не обманешь?
Григорий зашагал в сторону, буркнув на ходу:
— Дело твое, думай…
На другой день, утром, Аниска пришла, робко переступила порог, застыла в нерешительности. Григорий лежал еще в постели.
— Ну?
— Я вот… Ты говорил… — В Анкскиных глазах заплескался испуг, беспомощность, какая-то мольба.
— Вон там ведра, таз, тряпки. Воды — полное озеро. Ну, чего уставилась?
Аниска схватила ведра и кинулась к озеру.
Пока она таскала воду, Григорий встал с грязной постели, не спеша оделся. Белье его было тоже грязное, липкое. Он поморщился, посмотрел в окно и задумался.
Вернулась Аниска с полными ведрами, поставила их на пол, засучила рукава.
— Где, говоришь, тряпки?
Григорий обошел вокруг нее молча, оглядывая с головы до ног, будто собирался купить. Девушка невольно попятилась под его взглядом, потом метнулась к двери, торопливо раскатывая рукава. Григорий усмехнулся:
— Ты вот что, Аниска… — И вдруг повысил голос: — Да что ты пятишься, как рак?
— Я… Я пойду лучше. Не надо мне никакой кофты.
— Дура! Куда ты пойдешь? Топи-ка баню лучше. Да вот… — Григорий подошел к сундуку, откинул крышку, порылся там и бросил через всю комнату кофту, потом юбку, оставшиеся еще после матери.
— Вот, вот… На!.. Все равно сгниет… А свои лохмотья — сожги.
Аниска стояла у двери, прижав к груди обеими руками ворох чистого, пахнущего прелью тряпья, не зная, что ей делать: бросить ли его и уйти или остаться. Григорий заметил ее колебание, опять прикрикнул.
— Ну, ну! Брось еще! Топи баню, сказал.. Я тоже не мылся чуть не с покрова… Потом приберешь тут в комнатах. Иди…
Через два часа Григорий ушел в баню. Когда вернулся, Аниска домывала в горнице. Сквозь протертые стекла окон лились в комнату желтовато-прозрачные полосы света.
— Ух ты, а! — невольно произнес Григорий, прищуриваясь.
Аниска выпрямилась, улыбнулась, вытирая согнутой рукой пот со лба. Но тут же Григорий, словно устыдившись, сдвинул брови. Виноватая Анискина улыбка торопливо погасла, тонкие губы плотно сомкнулись.
— Ладно, иди в баню, потом в других комнатах домоешь. Хотя вот что… Поставь сперва самовар.
К вечеру Аниска очистила от пыли и грязи весь дом, вытрясла половики и разостлала их по крашеным полам.
С работой справлялась быстро, привычно, точно весь свой век тем и занималась, что мыла полы.
Покончив с уборкой, Аниска несмело поднялась наверх и остановилась в дверях.
— Ну вот, все сделала… Спасибо тебе…
Григорий несколько минут молча, с удивлением смотрел на нее. Старенькая чистая одежда совершенно преобразила Аниску. Кофта была великовата, висела на груди складками. Но под ней угадывалось стройное, гибкое тело.
Волосы были аккуратно повязаны той же тряпкой, но теперь чистой, выстиранной в бане. Глаза, часто прикрываемые пушистыми ресницами, не казались чужими и лишними на ее смуглом лице.
— Так.., Значит, все сделала? — повторил Григорий. — Ну, а есть-то все-таки хочешь? Я жду целый день — попросишь или нет…
Аниска глотнула слюну, но промолчала.
— Ладно, иди чай пить. Ну, иди же!.. — крикнул он сердито, и Аниска подошла к столу, села на краешек стула. Григорий уже заметил ее испуганную покорность, когда он повышал голос, и скривил губы.
— Да не сломается стул, не бойся. Где живешь-то? — спросил Григорий минуту спустя, наблюдая, как Аниска, обжигаясь, торопливо глотала чай. Она отставила стакан, быстро поднялась.
— Так, где придется. Нынче зиму в соседней деревне в няньках была. Потом… выгнали. В лесу жила.
— Под деревом, что ли? Да ешь ты.
— Нет… Там землянка есть заброшенная, — тихим голосом сообщила девушка.
— И не холодно зимой было?
— Холодно, — кивнула Аниска.
— Так…
Встав из-за стола, Григорий прошелся по комнате.
— Завтра постираешь кое-что. Ночевать можешь там где-нибудь внизу. Комнат у меня много.
Аниска опять соскочила со стула, быстро проговорила:
— Нет, нет… Я пойду лучше. В землянке у меня хорошо… Сыро только. Это здесь, не так далеко…
— Ну, как знаешь…
На другой день Аниска снова пришла и целый день, не разгибаясь, стирала рубахи, простыни. Растянув веревки на росших у дома корявых деревьях, сушила выстиранное на ветру. Не справившись к заходу солнца со всей кучей грязного белья, убежала опять к себе в землянку, обещав прийти утром.
А потом Григорий попросил ее выбелить дом. Больше недели Аниска отваливала от стен отсыревшие куски штукатурки, тупой тяжелой лопатой ковыряла вязкую глину в ярах вихляющей по деревне речушки, месила ее ногами. Заново вымазав стены и потолки, старательно забеливала их, густо брызгая известью на крашеные полы.
А вечерами по-прежнему уходила в лес, в свою землянку.
— Чудно! — усмехнулся как-то Григорий. — Ей жилье предлагают, целый нижний этаж, а она…
Не знал Григорий, что пуще огня боялась Аниска этих нижних этажей кулацких домов. Хозяйка, у которой она жила в няньках, за каждую оплошность запирала ее в темную нижнюю комнату, с тяжелыми, наглухо завинченными болтами ставнями. А однажды, напившись, ввалился туда с каким-то собутыльником ее муж. Они силой влили ей в рот стакан вонючей самогонки и вдруг начали срывать платьишко.
Что было сил закричала Аниска. Сверху на шум спустилась хозяйка, вскрикнула — и схватила Аниску за волосы, выволокла на улицу, на снег, истошно завывая:
— Смотрите, люди добрые, на блудницу бесстыжую! Напилась да и платье сняла, чтоб мужика совратить! Тьфу! Плюйте ей в рожу поганую, бейте…
Бить, однако, Аниску никто не стал, только хозяйка что есть силы пинала под ребра. Потом побежала в дом, выбросила в окно ее драное платьишко и узелок с тряпьем.
— Убирайся, сука проклятая! Переступишь порог — кипятком ошпарю!
Хозяйка не платила ей полгода, Аниска и не заикалась о плате, подобрала узелок и кинулась в лес, всхлипывая по-детски и вздрагивая всем телом.
Она еще толком и не понимала, в чем обвинила ее хозяйка. Сознавала только, что обидели ее глубоко и несправедливо. А за что? За то, что стиралась, ночей не спала? Тогда вон собак в Локтях натравили… Что она плохого сделала людям?
Постепенно обиду на Григория и на хозяйку, у которой жила в няньках, Аниска распространила на всех людей и целыми неделями не выходила из найденной в лесу землянки. Только нестерпимый голод заставлял девушку время от времени покидать свое холодное и неуютное убежище. Она ставила гнутое ведерко со снегом на дымную печурку, теплой водой смывала с лица грязь, копоть и шла просить милостыню, всякий раз, однако, обходя далеко стороной и Локти и ту деревню, где жила в няньках.
Лишь весной она осмелилась зайти в Локти. Но едва показалась в деревне, судьба, как в насмешку, столкнула ее с Григорием.
Однажды, измученная работой, Аниска свалилась на только что смытый пол в бывшей бабкиной комнатушке и тотчас заснула мертвым сном. Проснулась от того, что кто-то ходил по комнате. Она испуганно встрепенулась, хотела встать, схватилась руками за подоконник и вскрикнула от острой боли в пальцах.
— Ну, чего орешь? — строго спросил Григорий, останавливаясь возле нее. За окном уже рассвело, сквозь неприкрытую форточку вливался в комнату вместе со щебетом птиц жесткий и прохладный утренний воздух.
Аниска молча показала ему руки. Из тонких пальцев, глубоко изъеденных известкой, сочилась кровь.
— Ничего, заживет. Чистой тряпочкой перевяжи… Я вот что хочу сказать… Живи-ка у меня. Дом в порядке содержать будешь — и все. Ну, корову еще убирать… Кормиться будешь — что еще надо? Тебе хорошо, и мне без забот. Чего молчишь?
— Я… боюсь я…
— Слышал уже! — рассердился вдруг Григорий. — Сказал, живи — и точка. На чердаке кровать железная валяется, тащи сюда. Постель-то есть? Ну, дам кое-что…
Так Аниска стала жить в доме Григория Бородина.
Оказалась она для него сущим кладом.
В первые дни, подоив и убрав корову, справившись с домашними делами, сразу же запиралась внизу в своей комнатушке. Сидела там тихо, словно мышь. Потом понемногу осмелела. С Григорием, правда, почти не разговаривала. Но он и не нуждался в этом. Утрами, лежа еще в постели, он слышал, как Аниска гремела внизу ведрами, хлопала дверями, а иногда что-то напевала — слушал и не так ощущал свое одиночество. Все-таки был в доме живой человек.
4
«Камень с годами обрастает мхом, человек — умом да добром». Григорий часто вспоминал эту пословицу отца, усмехаясь, думал: «Ума и дурак прикопить может. А насчет добра — ошибся ты, батя. Да и на черта ли оно, теперь, добро, если нельзя, как раньше, пользоваться им?»
И еще вспоминался Григорию хриплый голос: «Каждый живет по своей линии, топчет свои тропинки…» Какую ему, Григорию, выбрать сейчас линию, какую топтать тропинку? Не в коммуну ли?
И опять усмехнулся Григорий. Но улыбка выходила какой-то жалкой, растерянной. Стиснув зубы, он спускался из горницы вниз и срывал зло на Аниске, встречавшей его настороженными, как у лесной козы, глазами.
— Чего уставилась? Собирай завтракать. Да потуши ты свои глазищи!
Однако потом смутно всплывала у него откуда-то мысль: «Зря ведь накричал на нее. Дом содержит в чистоте, ничего, старается… За коровой ходит, как положено. Из нее хозяйка бы вроде вышла…» Всплывала — и тотчас исчезала. Была эта мысль похожа на воздушный пузырек, поднимающийся со дна неглубокого водоема. Пока поднимается, виден человеку прозрачный хрустальный шарик. Но, достигнув поверхности, моментально лопается — и нет ничего.
Занимались и медленно, как бы нехотя, гасли летние дни. Зимой время шло быстрее. Дни были короче, и Григорию казалось, торопливо мелькали они один за другим, будто надоели им до смерти морозы и вьюги, и спешат они к заблудившейся где-то весне.
Время шло, а в душе у Григория постоянно жило одно и то же чувство холодной, пугающей своей чернотой пустоты. Оно появилось впервые в тот день, когда вышел он на улицу после изгнания из села колчаковцев, да так и осталось в душе, как глубоко засаженная заноза. Иногда с горечью думал Григорий о себе: «Живу, а зачем живу? Нет у меня на земле ни одного близкого человека. Даже Аниска — ведь должна бы уж привыкнуть! — и та, если подойдешь, смотрит, как хорек из капкана. Прикрикнешь — спрячет торопливо глаза, покорится. А чуть тронь руками — рванется, пожалуй, оставит в капкане кусок мяса, а уйдет…»
Об Аниске Григорий думал все чаще и чаще. Каждый человек — загадка. Аниска — особенно. Ведь в самом деле уйдет, если что… Но почему же она боится его окриков?
И отвечал себе: «Сырая палка — в дугу гнется. Трещит, а гнется. Но перегни чуть-чуть — сломается. Так и человек…»
Однажды, уже осенью, он поехал за соломой. Возвращался поздно. От одиноких деревьев, забредших на пахотные земли, тянулись черные тени, похожие издали на длинные зияющие пропасти. Из леса, закрывавшего деревню, а может, из этих трещин в земле, тек холодок, наплывал запах свежей, только что развороченной плугами под озимый сев земли.
Неожиданно заднее колесо слетело с оси, покатилось в сторону. Когда выпала чека — Григорий не заметил. Тяжелый воз чуть не перевернулся.
Выругавшись вполголоса, Григорий спрыгнул на землю. Поднял колесо, пошел по следу отыскивать чеку. Она валялась недалеко, метрах в двадцати. Вернувшись, попробовал плечом приподнять накренившийся воз, надеть колесо. Но сил не хватало. Он опять выругался, сдвинул на затылок потертый картуз, сплюнул, отошел в сторону и стал думать, что же ему делать.
В деревне лаяли собаки, визгливо кричала какая-то женщина, плакал ребенок. Григорию казалось, что все звуки сначала долго плутали в черном сыром лесу и уже потом, обессиленные и отсыревшие, долетали к нему.
Где-то застучала бричка, и скоро пароконная подвода вынырнула из леса. Григорий поднял голову, но тотчас опустил ее, отвернулся. В бричке, помахивая кнутом, стоял Тихон Ракитин.
— Здорово! — крикнул Тихон. — Что ты — ни взад, ни вперед? И другим дорогу загородил…
— Что я загородил, объезжай стороной. — На приветствие Григорий не ответил.
Тихон Ракитин, пыльный, красный, с лицом, будто торопливо высеченным из ноздреватого кирпича, слез с брички, обошел вокруг накренившегося воза.
— А ну-ка, бери колесо… Не зевай только…
Наклонившись, Тихон подлез под воз. Лицо его из
красного медленно превращалось в темно-багровое, согнутые ноги мелко задрожали. Когда ось приподнялась над землей, Григорий тотчас надел колесо.
— Ну, вот и все… — Тихон Ракитин рукавом когда-то черного, а теперь грязновато-серого пиджака вытер со лба испарину, выступившую от напряжения, и добавил:
— Хотя помогать-то тебе не следовало.
Григорий и на это ничего не ответил, молча вставлял чеку.
— Ну, иди, что ли, закурим, — проговорил снова Ракитин, усаживаясь на краю канавы, размытой талыми водами.
Григорий нехотя подошел, взял из заскорузлых, плохо гнущихся пальцев Тихона кисет.
— Ну и силища у тебя, — промолвил Григорий, кивая на свой воз.
— Ничего, есть пока, — согласился Тихон. — Урожай обмолотил?
— Обмолотил помаленьку.
— Почем с десятины взял?
— Какая у меня десятина? — усмехнулся Григорий. — Загона полтора всего запахиваю. Может, пудов восемь-десять всего собрал. Тут не разживешься. У меня и земля-то в низине. Попрела пшеница во время дождей. Нынче самый хлеб на высоких местах.
Григорий говорил и сам удивлялся. Если бы час назад ему сказали, что он будет когда-нибудь сидеть вот так с Тихоном Ракитиным, покуривать как ни в чем не бывало и говорить с ним о хозяйственных делах, он бы только усмехнулся. Однако сидел вот, говорил. А не его ли отшвырнул когда-то Ракитин от двери Веселова, не он ли, Григорий, замахнулся тогда ножом, готовый всадить его в грудь Тихону по самую рукоятку?! И всадил бы, если бы спокойно не подошла к нему теплая, пахнущая еще сном Дуняшка и не отобрала нож.
Эта мысль мелькнула как-то неожиданно. За что же бить его, Ракитина? Вот он сидит рядом, покуривает… Может, не надо сторониться его, избегать людей? Не лучше ли держаться поближе к ним? Протоптать к ним… или рядом с ними свою тропинку? Они, конечно, не пустят к себе, если узнают, куда ходил, кого искал в лесу, в Гнилом болоте, несколько лет назад. Да как узнают теперь?
— Так, значит, пудов восемь собрал, — услышал Григорий и вздрогнул. Мысли его оборвались. Тихон, освещенный последними неяркими лучами солнца, сидел неподвижно, казалось, задремал.
— Ну, может, говорю, десять будет. Не вешал, — отозвался Григорий.
— А нам в коммуне пудов по двадцать на душу придется, наверно. Еще не распределяли.
Григорий помолчал, сунул окурок под каблук сапога, раздавил его.
— У вас земли общие. В низине — попрело, на взлобке — уродило. Лошадей опять же много у вас. А я что на одной кляче сделаю?
— Соображаешь… Артелью озеро вычерпать под силу. Один попробуй… Не-ет, одному плохо… А если друг за друга держаться — ничего, можно еще…
Солнце, глянув последний раз из-под кровавого козырька наплывающих на землю туч, скрылось.
Григорий проводил его взглядом и стал негромко, медленно ронять слова:
— Жить… конечно, везде и всяко… можно. Кот живет, и пес живет… Одному жрать в посуде дают, другому — в грязь бросают… — Помедлил и добавил: — И опять же один наелся — на горячую печь. А другой на морозе блох из шкуры вытрясает… Да и понятия у каждого разные: одному блины нравятся, другому оладьи… Кому что…
— Кому что — это верно. Но вот ты… скажи-ка, ну, кто ты есть на земле? — повернулся к нему Тихон. Григорий выжидал, не отвечая. — Кулак?
— Вам видней…
— Батька твой, правда, начал вроде влезать на мужицкую шею… — будто сам с собой рассуждал Ракитин. — Помер вовремя — его счастье. Да и твое, пожалуй…
— Ну?
— А ты, Григорий, не жалей его.
— Отец все-таки…
— Ну, жалей, ладно, — согласился Тихон. — А тропинкой его не ходи. Зачем вон батрачку завел?..
— Что?!
— А то как же? Аниска-то кто у тебя?
— Ну, живет… кормится… Полы когда смоет… Так что же? В поле же не заставляю ее работать. Один все… Один да один!
— Полы смоет? Да она же на тебя спину гнет день и ночь!
— Пусть уходит. Не держу.
— Или ты взаправду не понимаешь, или… — Тихон вздохнул, развел руками.
Бородин поднялся. Встал и Тихон.
— Вот, говоришь, восемь пудов пшеницы собрал. А жить — год до нового урожая. Не хватит. Как же дальше? Так что ты… прибивайся к нам. Тебе выгоднее, и нам польза будет.
— Какая с меня польза?
— У тебя инвентаря крестьянского сколь в завозне стоит без дела. Сам же говоришь — одному не подняться. А нам бы в хозяйстве оно сейчас очень к месту.
— Ишь ты, хитер!
— А что? Я тебе обо всем по-простому, как оно мне самому понимается. Старого зла не будем помнить, если нового не сделаешь. Ты подумай, прикинь, где тебе самому больше с руки — единолично или в коммуне…
Они пошли к своим бричкам. Григорий подобрал вожжи и обернулся:
— За помощь спасибо. А насчет коммуны зря разговор завел. Не дорога мне с вами… Ну, прощай, темнеет уже…
— Будь здоров, Григорий. Дело твое. А насчет Аниски я тебе не шутя сказал. Батрачка. Факт!
Приехав домой, Григорий принялся сметывать солому на крышу поветей. Из дверей дома выскочила Аниска, повязывая на ходу черный платок, взяла во дворе вилы и полезла на крышу. Григорий долго и пристально смотрел на нее.
— Что ты?! Кидай, укладывать буду, — удивленно проговорила Аниска.
— Иди отсюда! Сам сметаю. Приготовь ужин, — тихо ответил Григорий.
Ничего не понимая, Аниска слезла с поветей, прошла по двору, обернулась, постояла и юркнула в темный проем открытых дверей.
Несколько дней Григорий ходил по комнатам мрачнее обычного. Часто Аниска чувствовала на себе его цепкий взгляд. Вечером рано спускалась вниз, закидывала дверь на тяжелый кованый крючок. Потихоньку собрала пожитки, связала их в узелок, проверила и смазала затвор на оконном переплете. Если что — соображала она — вот эдак, в окно, и уйду…
Но дни шли — Григорий относился к ней по-прежнему. Понемногу Аниска успокоилась.
Знал Григорий: тронь только ее — и останется он снова один. Пугало его не то, что некому будет тогда мыть полы, стирать белье, готовить обеды, — нет! Слишком хорошо помнил Бородин те дни, когда умер отец, ушла бабка-стряпуха и он ходил как неприкаянный по гулким, нахолодавшим комнатам, слушал ночами, как зловеще воет, насмехаясь над ним, ветер в трубе. В те дни и понял Григорий: нет ничего страшнее одиночества.
Не забывались и слова Тихона Ракитина. Как-то после завтрака, поглядывая на Аниску, Григорий неожиданно спросил:
— Ты вчера вечером где была? Не к Андрею ли… за советом бегала?
— Я-то? — растерялась девушка. — Ты откуда узнал? За каким советом?
— Узнал, стало быть… Не в коммуну ли хочешь вступить?..
Аниска вдруг откинула голову, и Григорий увидел, как в ее быстрых синих глазах дрогнули и зажглись упрямые искорки.
— Тебе что? Может, и вступлю.. Я сама себе хозяйка…
«Вот, вот… „сама себе хозяйка“, — зло подумал Бородин.
Никогда Аниска не говорила так. Григорий чувствовал, что сейчас он, если захочет, сможет еще потушить в ее глазах не успевшие разгореться искорки. Стоит только построже прикрикнуть на нее… Сможет и в другой раз, и в третий, может быть.. А потом? Видно, пришло время действовать по другому, чтобы удержать Аниску возле себя.
— Значит, не нравится тебе у меня? — спокойно спросил Григорий. — Трудно, что ли? — Она не ответила, вышла из комнаты.
Недели через две выпал снег. Григорий наладил сани и с обеда выехал за сеном. Вернулся вечером, молча снял внизу полушубок, поднялся наверх. Через некоторое время крикнул:
— Аниска! Иди-ка сюда…
— Чего тебе? — спросила Аниска.
Он сидел на кровати босой, в нижней рубахе.
— Мне-то? Ты вот что скажи… Люди звонят, что батрачка ты у меня будто…
— А то кто же! — Аниска стояла вполоборота к нему, недоверчивая, поглядывая чуть исподлобья. — Все за кофту с юбкой отрабатываю.
— Так… Ну, а почему не уйдешь? Я не держу.
Григорий встал, прошлепал из конца в конец комнаты.
— Что ж… И уйду, пожалуй, скоро… Теперь-то есть куда мне идти. — Девушка опустила на мгновение голову, но тут же быстро подняла ее, услышав щелчок дверного замка.
Григорий стоял у двери и закрывал ее на ключ.
— Вот что, Аниска, скажу тебе, — проговорил он, медленно подходя к ней. — Давно я присматриваюсь к тебе.
Девушка сорвалась с места, с разбегу стукнулась в дверь, точно птица в оконное стекло, тяжело дыша, обернулась, на мгновение припала к ней спиной. Глаза ее метались с предмета на предмет.
— Ты не дури, послушай, — нахмурил брови Григорий, опять шагнул к ней. Она проскользнула сквозь его руки, подскочила к столу, схватила тяжелый кухонный нож, хрипло крикнула:
— Не подходи!..
— Та-ак… — Григорий остановился на секунду и вдруг рявкнул что было силы: — Брось нож! Брось, говорю!! Задушу сейчас своими руками!
И в Аниске что-то сломалось, она съежилась, мелко задрожала, выронила нож. Ей почудилось, что она, маленькая, напуганная и озябшая, стоит не в комнате, а у ворот дома, просит милостыню, смотрит на Григория и со страхом ждет: даст или натравит собак?
Но ни того, ни другого не случилось. Вместо лая собак она услышала глухой голос, казалось, Григорий говорил где-то за стенкой:
— Дура… Я по-хорошему хочу с тобой… Мне хозяйка нужна. Хозяйка. Поняла?
Потом кто-то властно взял ее за плечи и повел куда-то…
* * *
Утром Григорий проснулся поздно, сел в постели, откинул одеяло. Сжавшееся в комочек, маленькое, полуобнаженное Анискино тело вздрогнуло. Она медленно-медленно повернула голову. Григорий увидел ее глаза — огромные, мутные… и по-детски обиженные…
Аниска трудно глотнула слюну и стала, не мигая, смотреть в потолок. Тогда Григорий понял, что она не закрывала глаз всю ночь, что она ничего не видит сейчас. И что-то похожее на жалость шевельнулось в его сердце. Он прикрыл одеялом ее словно раздавленное тело и проговорил, отвернувшись:
— Ну, чего там… Вставай, коровенку надо прибрать. Не батрачка теперь.
Аниска по-прежнему не произносила ни слова, не шевелилась.
— По-хорошему-то — в церковь бы надо… А теперь в сельсовет придется… Будем жить по-новому, необвенчанные…
Григорий говорил тихо, прислушиваясь к своим словам, напряженно пытаясь что-то вспомнить. И вспомнил: сначала — как бежал от Андрея, пригибаясь к земле, потом — как Андрей хлестал его, распростертого на траве, плетью и, наконец, — как единственный раз в жизни целовал Дуняшку, прижимая к себе ее сильное, бьющееся в его руках тело…
Но эти воспоминания вызвали у него все ту же тяжелую злость на самого себя. Она искала выхода, как пар в котле. Григорий резко встал с кровати, сдернул с Аниски одеяло и крикнул:
— Кому говорю — вставай!.. Ну!..
На скулах Григория ходили крупные желваки. Кожа была натянута так крепко, что посинела и, казалось, вот-вот порвется…
Глава вторая
1
Один за другим, как волны Алакуля, катились дни, месяцы, годы. Катились, не задевая Григория, будто обходили его стороной. Он даже не старел, только поперек узкого маленького лба прорезались и прочно залегли две морщины, придавая и без того неприветливому лицу хмурое, вечно недовольное выражение. В плечах Бородин немного раздался, сделался кряжистее, будто крепче, но вместе с тем и ниже ростом.
Жизнь с Аниской у него долго не налаживалась С того дня, когда он позвал ее к себе наверх, она с месяц почти не разговаривала. Сначала Бородина бесило это молчание, а потом не на шутку испугало. «Господи, не зашелся ли разум у нее?» — думал он и стал настойчиво повторять каждый день одно и то же…
— Пойдем, что ли, в сельсовет… Я же сказал тебе тогда — по-хорошему я. Одевайся, пойдем… чтоб все… по закону было у нас.
Он старался придать своему голосу мягкость, теплоту, но это у него не получалось.
Аниска отвечала коротко: «Не хочу», — и отворачивалась. Потом ничего не отвечала. А однажды заплакала и молча стала одеваться… Григорий засуетился вокруг Аниски и даже помог застегнуть ей пуговицы на пальтишке. И это было, пожалуй, единственным проявлением его нежности к жене за всю жизнь…
Однако и придя из сельсовета, Аниска по-прежнему не раскрывала рта. По комнатам ходила торопливо и бесшумно, прятала глаза от света за длинными густыми ресницами. Что в них было, в ее глазах, Григорий не знал.
— Что же, так и будешь молчать всю жизнь? — спрашивал он иногда, теряя терпение.
— О чем мне говорить?
— Ну хоть — довольна или недовольна? Может, обратно в землянку тянет?
Аниска чуть заметно пожимала плечами и старалась уйти из комнаты.
И это движение плеч больше всего раздражало Григория. Но он сдерживался. Сдерживался неделю, другую…
А позже до конца узнала Аниска, что значит быть женой Григория Бородина. Целыми днями гонял и гонял он ее по комнатам, по двору, заставляя по нескольку раз в день чистить и без того уж чистый коровник, разметать сугробы у крыльца, колоть березовые дрова.
— Ну, чего расселась?! — гремел он, едва Аниска опускалась от изнеможения на табурет. — Работы пoлон дом. — И каждый раз повторял неизменно: — Теперь не батрачка, чай, — хозяйка…
Ночью, лежа в постели, не прикасаясь к Аниске, чувствовал, как мелко дрожит ее маленькое тело, догадывался, что она плачет, и, понимая все-таки, что зря издевается над ней, стискивая до ломоты зубы, выталкивал сквозь них:
— Не реви, корова… Не вой, говорю! На помойке родилась, теперь по-людски живешь, на мягкой постели спишь, на чистом столе ешь…
Знал, даже чувствовал, что слова его жгут Анискину душу, шаркают по ней острой теркой. Но радовался, что из-под терки брызжет кровь. Все-таки не один он страдает.
— Уйду я от тебя, — сказала однажды Аниска сквозь слезы. И потом всю жизнь жалела об этих неосторожно вырвавшихся словах.
Несколько секунд Григорий лежал неподвижно, будто не слышал того, что сказала Аниска, или пропустил ее слова мимо ушей. Но вдруг сильным толчком выбросил ее из кровати. Худое тело ее отлетело далеко в сторону, прокатилось по полу и неслышно ударилось о массивные дубовые ножки стола. Не сообразив еще толком, что же произошло, не чувствуя даже боли, она попыталась встать, приподнялась на колени… Но в это время подскочивший Григорий пнул ее голой ногой в лицо. Мотнув головой, она упала на пол и больше уж ничего не помнила…
Сколько дней пролежала в беспамятстве — Аниска не знала. Когда очнулась, первое, что увидела, — склонившееся над ней лицо Григория.
— Ожила? — спросил он, усмехаясь.
— Болит голова и… тело все, — пожаловалась Аниска и вдруг вздрогнула, будто только что разглядела того, кто склонился над ней, сделала попытку приподняться, зашептала быстро: — А уйти — уйду… Расскажу всем… и Веселову, как ты меня…
Аниска говорила торопливо, словно боялась, что не успеет всего высказать. И точно: на полуслове оборвала, обмякла, закрыла глаза… Когда открыла их, Григорий все так же смотрел на нее, усмехаясь.
— Ну, ну, выздоравливай… А потом посмотрим… — спокойно промолвил он.
И эту зловещую усмешку Аниска запомнила надолго.
Она, может, и забыла бы ее. Но когда выздоровела и стала передвигаться по комнате на не окрепших еще ногах, Григорий окликнул ее:
— Поди-ка сюда…
Аниска обернулась и обомлела: Григорий смотрел на нее с точно такой же усмешкой.
Видя, что жена не двигается, Григорий сам подошел к ней. И по мере того как подходил, усмешка таяла на лице Бородина, глаза наливались тусклым, свинцовым блеском. Не успела Аниска прийти в себя, как Григорий схватил ее обеими руками за горло и стал душить. Аниска несколько раз дернулась, задохнулась, и ноги ее подкосились. Только тогда Григорий немного ослабил пальцы, встряхнул Аниску, не выпуская из рук ее горла.
Секунд десять они молча смотрели друг на друга. Аниска — глазами, полными великого, не осознанного еще страха, а Григорий — злыми, прищуренными, пронизывающими насквозь.
Наконец Григорий разжал губы:
— Ты знай: задушу, как курицу, одной рукой, если вздумаешь…
На этот раз Григорий говорил тихо, не повышая голоса. Аниска не улавливала в нем ни злости, ни волнения, ни угрозы. Но именно потому, что голос звучал неторопливо, спокойно, поняла: задушит. Вот так же спокойно, не торопясь, как сейчас говорит.
Григорий отшвырнул жену к стене и грузно зашагал по комнате. У Аниски не было уже сил ни подняться, ни закричать. Сжавшись в комочек, она смотрела на его ноги, обутые теперь в тяжелые, пахнущие дегтем юфтевые сапоги. Губы ее по-детски дрожали, Григорий подошел почти вплотную к ней и остановился. Аниска, ожидая пинка в лицо, отстранилась, прикрыла голову локтем. Но Григорий только вымолвил:
— Не бойся, сейчас не трону… Подохнешь еще. А позже — все сполна получишь…
И Аниска получила.
Бил он ее часто, по поводу и без повода. Опоздает ли чуть с обедом, подаст ли мужу по ошибке не то, что просил, — за все Григорий бил жену смертным боем, будто поставил перед собой цель — живьем загнать ее в могилу.
Однажды Веселов, обычно не разговаривавший с Григорием, остановил его на улице:
— Вот что, Григорий… Зачем же над женой измываешься?
Бородин, стоя вполоборота к Андрею, вынул руки из карманов, внимательно осмотрел их зачем-то со всех сторон. А потом, не поворачивая головы, взглянул на Веселова, проговорил осторожно:
— Ну, чего в семье не бывает… Баба же, прикрикнешь в сердцах когда… Она уж и жаловаться побежала тебе…
— Никто мне не жаловался пока. Сам я не раз слышал ее вой, проходя мимо твоего дома…
— А может, она от радости плачет, — уже смелее огрызнулся Бородин.
— Ты брось, Григорий… У Аниски синяки не сходят с лица… Идет по улице — ветер шатает…
— Шатает, говоришь? — зло и угрюмо заговорил Григорий. — А тебе что за дело? Ты чего нос свой суешь в чужую семью?
— Ощетинился! Я же по-человечески с тобой, — попробовал возразить Веселов, но Григорий не стал его слушать.
— Суй свой нос в другое место… И живи со своей… хоть на руках носи ее, хоть на санках вози. А я уж как умею…
Дорого обошлось Аниске это непрошеное заступничество!
Немного поутих Григорий, вроде одумался после того, как у Аниски, почти в начале беременности, получился выкидыш.
— Бил бы… побольше, — тихо проговорила Аниска, когда он злобно прошипел, стоя над ней: «Эх, недотепа! Родить — и то не можешь!»
Она смотрела мимо него через окно на далекое небо, в котором качались жиденькие хлопья облаков.
— О-о!.. — простонал Григорий, грозя кому-то обоими кулаками: не то жене, не то самому себе.
После этого Григорий побои прекратил. И, словно объясняя Аниске свою милость, говорил не раз:
— Ладно, я подожду. Сына чтоб мне принесла. А будет девка — выброшу вас обеих к чертовой матери…
Аниска только ниже опускала голову.
* * *
В Локтях, как и в других селах, большинство мужиков, кто раньше, кто позже, вступили в коммуну. Но многие хозяйствовали единолично.
Григорий с Аниской каждую весну с полдесятины засевали пшеницей, садили огородишко. Летом дней за десять-двенадцать ставили на лугу небольшой стог сена с таким расчетом, чтобы хватило на зиму единственной лошаденке и корове. Если пахать и сеять волей-неволей приходилось рядом с локтинскими мужиками, с тем же Павлом Тумановым, то стог сена Григорий ставил всегда в стороне, в самом дальнем углу луга, хотя зимой и приходилось топтать к нему санную дорогу в одиночку. И жил Григорий в одиночку, сторонясь людей. За все время к нему ни разу никто не пришел в гости. И он ни к кому не ходил и Аниску не пускал.
Григорий присматривался к коммунарам, вслушивался в их горячие речи, но сам в разговоры никогда не вступал.
Только вернувшись домой, сообщал иногда Аниске:
— Вот те и коммуна! На дню у них семь пятниц. Сперва распределяли урожай поровну на каждый двор, а теперь по едокам…
— Правильно, — отвечала Аниска, помолчав.
— Что правильно? Чего ты понимаешь?
— Я не понимаю, я так, по-своему соображаю: семь человек в семье или только двое-трое — разница. Как же поровну делить?
Григорий, видимо, улавливал в рассуждениях жены верную мысль и сердился:
— Помолчи-ка со своими соображениями! Вот попомни: перерешат они скоро еще крест-накрест.
А через некоторое время торжествовал.
— Ага, что я говорил? Нынче уж не по едокам хлеб распределяют, а по списку Андрюхи Веселова. Сам, говорят, составил: тому столько-то, этому столько-то… Жи-сть!.. Ну, чего молчишь? Может, и тут соображаешь что?!
— Я кабы видела те списки… Может, кто хуже работал, кто лучше…
— Хуже, лучше… Найди у них правду! Себе-то, поди, нахапали, проставили в списке соответственно… А Ракитин еще: «Прибивайся к нам!..»
Однажды Анисья робко выговорила.
— А все-таки вместе бы… с людьми. А то живем, как… — но тотчас прикусила язык, увидев, как багровеет лицо Григория.
— Ишь ты! — прикрикнул Бородин. — Отошла?! Забыла?
Коммуна в Локтях отживала свой недолгий век. Каждую осень, при распределении зерна, у дома Лопатина, возле завозни, стоял шум. Каждый почему-то считал себя обиженным, обделенным, в чем-то убеждал Веселова, чего-то требовал. Григорий в такие дни с удовольствием втирался в толпу, слушал разговоры. Дома говорил Аниске:
— Посмотришь, весной развалится эта коммуна. Сейчас уже говорят мужики…
Но хотя некоторые, особенно беспокойные мужики вышли из коммуны, многие продолжали запахивать, как и раньше, землю сообща.
— Ну, что? — приехав в поле, кивнула головой Аниска в сторону коммуновских земель, где виднелся народ. — Говорил ведь — развалится. А они пашут…
Григорий выдернул плуг из земли, обчистил лемех, ослепительно блеснувший под весенним солнцем.
— Веселов — хитер! Трудодни какие-то выдумал. Сколько, говорит, заработает кто, столь и получит. А все-таки многие вышли из коммуны. Всех-то не обманешь! Погоди, и остальные побегут.
В этот день Григорий до вечера пахал молча, а когда, уже почти ночью, ехали на телеге домой, проговорил задумчиво:
— Чудно! Коммуна ведь — все общее: дома, кони, плуги-бороны, даже куры… Бабы вот только еще — у каждого своя… А хлебушек вырастет — не тяни лапу, не твой. Посмотрим еще, дескать, сколь заработал. А если я, к примеру, хворал все лето, тогда как? С голоду мне подыхать? Ну, чего молчишь?
— Я… не пойму, о чем ты, — виновато проговорила Аниска.
Григорий снисходительно улыбнулся:
— То-то… Вот и все твое бабье соображение. Оно в другом должно быть… Ты мне сына подавай. Забыла, что ли?
— Не забыла… — покраснела Аниска от неожиданности. — Я бы сама рада, да что сделаешь, если…
— Ты что, бесплодная, что ли? — В голосе Григория прозвучали прежнее раздражение, знакомые ей металлические нотки.
— Нет, должно быть, ты же знаешь, — произнесла Аниска и попробовала прижаться к плечу мужа. — Ты потерпи еще… может, и будет…
— А-а, отстань, — резко двинул плечом Григорий.
Аниска испуганно отшатнулась.
Во двор они въехали по-прежнему молчаливые и чужие.
2
Жизнь сложилась так, что никто Бородина не трогал, никто вроде не обращал на него внимания, не вспоминал старое.
Вел он себя тихо-мирно, ни с кем не ругался, никуда не лез. Пахал себе помаленьку да сеял. До нового урожая собственной муки никогда не хватало. Каждую зиму Григорий ездил в соседнюю деревню и прикупал несколько мешков пшеницы. Возвращался обычно ночью, чтобы никто не заметил, мешки тщательно прикрывал на санях соломой.
— На что покупаешь? Я думала, нет у нас никаких денег, — заметила однажды Аниска.
— Думала?! Ты думала, что всю жизнь будешь под окнами милостыню просить, а вот хлеб белый жрешь невпроворот, — отрезал Григорий.
Аниска осеклась и больше никогда на эту тему разговора не заводила.
Если иногда прежнее беспокойство и охватывало Григория, то он успокаивал себя: кто докажет теперь? Знал отец, да помер. Знал Лопатин еще да Зеркаловы. Из трех один только может объявиться.
Мысль о Терентии Зеркалове, о том, что жив он пока, и вызывала иногда беспокойство Григория. Но тут же он убеждал себя: «Не может быть, чтоб не нарвался Тереха на шальную пулю. А может, в тюрьме сидит?»
В последнее время Аниска стала замечать, что муж угрюмо раздумывает над чем-то, ночами долго не спит, ворочается с боку на бок.
— Неможется, что ли? — спросила она как-то осторожно.
— Не твое дело! Ты лежи да помалкивай, — буркнул Григорий. Но, однако, через несколько минут проговорил: — Вот что думаю… Сена нынче пару стогов ставить будем. Корову я другую купить надумал…
— Господи, да зачем нам? Семеро детей, что ли, по лавкам сидят?
— Семеро… От тебя одного бы хоть дождаться… Да не о том я сейчас. Я все ждал, побаивался… А чего ждать? По другим деревням вон живут мужики… И ничего. Косятся на них, а не трогают. Да и у нас вон Игнат Исаев хозяйство раздул… Одних коней сколь развел. Вот и я лошаденку еще одну погляжу где-нибудь… Хватит Павлу Туманову на нашей земле хозяйничать. Сами нынче всю засеем…
— Да не справимся ведь вдвоем! — невольно воскликнула Аниска, приподнимаясь с постели.
— Не ори, не глухой. Попробуем! А там… видно будет.
И в самом деле весной Бородин купил вторую лошадь.
Когда Павел Туманов с женой приехал на пашню, Григорий уже распахал ее на одну треть, захватив и тот участок, на котором сеял Павел.
— Ты чего это делаешь? — крикнул Павел, крепко выругался и соскочил с телеги. — Где я сеять буду?
— По мне, хоть у себя на завалинке, — ощерился Григорий, шагая за плугом.
— Да ведь я тут сколь годов сеял?! Сколь каменьев одних повыворачивал! А ты, сволочь…
Остановив лошадь, Григорий вплотную подошел к Туманову.
— Вот что, Павлуха, — обдал его Бородин горячим взглядом. — Ты не затевай греха. Земля-то моя… Иди вон в коммуну.
— Чего ты гонишь меня туда? Чего гонишь?
— А что? Трудодни теперь выдают, заживешь…
И, вернувшись к своему плугу, стал наматывать вожжи из крученого конского волоса на кулак, ухмыльнулся, глянув на Анну, которая, сидя в телеге, беспокойно переводила глаза с Григория на мужа.
— А туго будет — пусти жену на заработки. Она у тебя знает, как на жизнь заработать…
Думал Григорий, что неизвестно Павлу Туманову о его бывших отношениях с Анной, иначе не осмелился бы так сказать. Но когда понял свой промах, было уже поздно. Павел качнулся и, ни слова не говоря, двинулся к нему.
Григорий услышал, как вскрикнула Аниска, видел, как испуганно привстала в телеге Анна. Понимая, что надо обороняться, Бородин торопливо стал разматывать с кулака вожжи, но только сильнее запутал руку. И опять услышал он над своим ухом:
— А-а… Сморчок склизлявый! Воспользовался, что баба с голоду подыхала, а теперь измываешься… Думаешь, не рассказали мне люди добрые…
И сильный удар в голову оглушил Григория. Он отлетел в сторону и ткнулся в мягкую, рыхлую землю. В противоположную сторону отпрянули испуганные лошади и понеслись, волоча за собой перевернутый плуг и Григория.
В первые секунды все растерянно смотрели вслед умчавшимся лошадям. Потом Аниска повернулась и глянула на Павла Туманова. Тот растерянно топтался на месте.
— Черт… Под лемех ведь может угодить…
Пронзительно вскрикнув, Аниска сорвалась с места.
Пробежала несколько шагов в ту сторону, куда умчались лошади, остановилась, оглянулась и опять побежала.
Анна соскочила с телеги и кинулась вслед за Аниской. Помедлив, туда же пошагал и Павел.
Григорий лежал в изодранной в лоскутья рубахе на хрупкой, проржавевшей за зиму стерне, странно скрючившись, раскинув в сторону руки. Одна из них была окровавлена, вожжи, сорвавшись, начисто сняли кожу с ладони и пальцев.
Но не это было самым страшным. В левом боку Григория зияла большая рваная рана, желтовато поблескивали оголенные ребра.
Случилось то, чего боялся Туманов, — Григорий попал под лемех…
* * *
Июльское солнце быстро поднималось над землей, обваривало травы, плавило стволы сосен. С самого утра небо от края до края затягивалось дрожащим грязноватым маревом.
Бородин возвращался в Локти из больницы вместе с Тихоном Ракитиным, ездившим в район по делам коммуны. Почти всю дорогу Григорий молчал, будто обиженный, поглядывая на небо, беспрерывно снимал с наголо остриженной головы фуражку и вытирал с лица выступавший пот.
— Что у вас там? — спросил он наконец.
— У кого это — «у вас»?
— Ну, вообще, в Локтях.
Они сидели в ходке спиной друг к другу, свесив ноги почти до земли, бороздя ими по пыльной придорожной траве.
— Разное в Локтях… У Андрея сынишка помер от дизентерии…
— Сам бы лучше изошел он… этим самым… — буркнул Григорий.
Тихон глянул на Бородина, усмехнулся:
— И откуда у тебя злость такая?! Ведь из могилы еле выкарабкался, радоваться надо.
Григорий ничего не ответил. Заговорил, только когда подъезжали к самой деревне.
— Как-то поживает Павлуха Туманов, крестный мой?
— Сам ты виноват, Григорий. Павлу ведь семью кормить надо, а ты землю вздумал отбирать…
— Пусть в коммуну шел бы, у вас земли много…
— Не хочет.
— Ну!.. Почему же?
— Не нравится, стало быть…
— Он же вроде активист.
Тихон, засунув под себя вожжи, молча достал кисет из кармана. Закурив, облокотился о колени и только тогда ответил:
— Ну так что? Коммуна, она, Григорий, и меня не совсем устраивает.
Бородин всем телом повернулся к Тихону.
— Тебя?! — ехидно спросил он.
— Меня… И других многих… Что ж? Переступили уж мы, понимаешь, через это. Сейчас вот, говорят, колхозы кое-где организуют. Не слыхал?
— Где мне? В больнице не просвещали. Да и не интересуюсь. — Но тут же спросил: — Это что же за колхозы?
— Не знаю точно. Веселов рассказывал, да я не понял толком. Говорит, на манер коммуны, только каждый может отдельное хозяйство держать для себя: коровенку там, овечек, птицу… Пожалуй, так-то с руки будет, а?
— Может, с руки, да поверят вам только дураки. — И добавил без всякой связи: — Если в Пашка Туманов… Андрюху Веселова, как меня, так засудили бы, наверно…
Ракитин бросил окурок.
— Что ж, подавай и ты в суд на Туманова, коли хочешь. Кто тебе заказывает? — И тряхнул вожжами.
Лошади побежали быстрее.
… Аниска встретила мужа молчаливо. Она понимала, что надо бы ей сейчас радоваться. Там, на поле, почти два месяца назад, когда Григорий лежал в стерне с окровавленным боком, шевельнулась в ее душе жалость к мужу. А вот сейчас, едва он переступил порог, вернулось к Аниске старое: казалось ей, стал сразу мир тесным, жестким, неуютным.
Чтобы скрыть свое замешательство, засуетилась она вокруг Григория:
— Сейчас… Сейчас я накормлю тебя… Снимай пиджак. Пропылился-то, господи. Давай встряхну. Выздоровел, слава богу…
— Не сучи языком, — нахмурился Григорий, опускаясь на стул. — Будто в самом деле рада!.. Сколь провалялся в больнице — хоть раз приехала бы проведать. Муж все-таки…
Аниска замерла на месте, в бессилии опустила руки
— Хозяйство ведь такое на руках. Две коровы, две лошади, свинья… как бросишь?.. — неуверенно проговорила она. — Притом еще сено косила…
— Сено? Врешь! — привстал даже Григорий.
— Косила маленько, — повторила Аниска, не поднимая головы. — И посеяла весной, сколь могла.
— Сколь? Сотку?
— Нет, с полдесятины, может, будет… — И видя, что Григорий недоверчиво усмехается, добавила поспешно: — Не одна сеяла… Люди добрые помогли.
— Это что же за люди такие добрые объявились в Локтях? — спросил Григорий, сузив глаза, отчетливо выговаривая каждое слово.
— Павел Туманов с женой…
Григорий на несколько секунд замер, потом переспросил:
— Кто, кто?
— Туманов, говорю…
И вдруг Григорий сорвался с места, забегал из угла в угол, багровея все больше и больше.
— Туманов! Помог! А кто его просил? Кто, спрашиваю?
— Он сам… приехал на нашу пашню… — начала было испуганно объяснять Аниска.
— Сам? Он сам приехал, вспахал и посеял! — гремел Бородин, бегая по комнате. — Ишь, умный какой! Чуть на тот свет не отправил, а теперь задабривает… Нет, я не попущусь. Вон Ракитин говорит — подавай в суд на него. И подам, подам…
Однако горячился Бородин зря. Даже сейчас, бегая из угла в угол и угрожая Туманову судом, Григорий уже знал, что ни в какой суд на Павла он подавать не будет. В суде Туманов ведь обязательно расскажет, за что ударил Григория на полосе. Начнут судьи копаться при народе, когда у него в доме работала Анна, сколько платил… Нет, бог уж с ним, с Тумановым. Остался жив, и ладно.
3
Не успел Бородин окрепнуть после больницы, а коммунары уже разводили по домам обобществленный ранее скот, в корзинках и мешках несли обратно кур, гнали впереди себя важно вышагивающих гусей. Андрей Веселов, Тихон Ракитин и бывший бородинский конюх Степан Алабугин озабоченно бегали по селу, что-то кому-то втолковывали, объясняли.
Новое беспокойное время пришло в деревню.
Бывшие локтинские коммунары почти все вступили в колхоз.
Середнячки, возглавляемые Игнатом Исаевым, по-прежнему держались кучкой. Агитации против колхоза они вроде не вели, но и сами не поддавались уговорам вступить в него. Каждый раз, когда Веселов, Ракитин или Степан Алабугин пробовали заговорить с ними, Игнат Исаев, поглаживая бороду, спрашивал спокойно:
— Колхоз-то — дело добровольное али как?..
— Добровольное, конечно…
— Так об чем разговор тогда?! Мы погодим… А, верно, мужики?
— Верно, — поддерживал Исаева Демьян Сухов.
Кузьма же Разинкин помалкивал. Его сын, Гаврила, служивший у колчаковцев и все эти годы сидевший в тюрьме, недавно вернулся домой. Локтинские мужики косо поглядывали на Разинкиных. Кузьма хоть и жался к Исаеву, но вслух его не поддерживал, отмалчивался. Потом Веселову стали задавать такие вопросы:
— Вот, к примеру, колхоз и коммуна… А чем они отличаются?
Андрей Веселов спокойно, терпеливо объяснял.
— Ну, раз колхозник имеет право личное хозяйство содержать, то чем же он от меня, единоличника, отличается? — спрашивал Игнат Исаев, выслушав Веселова. — Ничем, как я смыслю.
— Как так ничем?! — отвечал уже Сухов Игнату. — Ты соображай — что за хозяйство… Огородишко там, скотинишка кой-какая. А хлеб сеять — сообща… Вот чем отличается…
— Не только этим, Демьян, — говорил Веселов. — И скот общий у колхоза должен быть, помимо того, который…
— Который… помимо!.. — прерывал обычно беседы Исаев. — Не разобрать нам такие слова. Колхоз вот помимо нас — это ясно. А все остальное не понять нам.
— Не понять, верно, — осторожно отваживался все же иногда вставить слово Кузьма Разинкин. — Вот, слышно, раскулачивают по деревням кое-кого, а? — И лицо Кузьмы выражало тревогу.
— У нас некого раскулачивать, — успокаивал его Андрей. — Имущество Лопатина, знаете, конфисковали уже, староста сбежал… А середняков, вроде вас вот, мы не тронем…
— Почему?
И на этот вопрос надо было отвечать Веселову. И он отвечал, как умел:
— Потому что мы к чему стремимся? А к тому, чтоб и все другие в колхозе жили, как вы, зажиточно…
— Тогда к чему нам колхоз, ежели мы и так зажиточные? Н-нет, мы погодим…
До самых снегов толковали на завалинках старики о колхозе, о раскулачивании, ругались мужики, спорили о чем-то бабы. А потом началось и другое: нет-нет да и раздавались по ночам гулкие, с хрипотцой, выстрелы из обрезов, со звоном вылетали стекла из окон многих мужиков, вступивших в колхоз. «Кто же это палит по ночам? — мучительно раздумывал Веселов. — Неужели Игнат с Кузьмой?»
Веселов дал задание Тихону Ракитину и Степану Алабугину тихонько приглядеться к Исаеву, Сухову и особенно Разинкину с сыном. Однако ничего подозрительного в их поведении заметить не могли.
Не один Веселов был обеспокоен ночными выстрелами. Григорий Бородин, по-прежнему не вмешивающийся в ход событий, тревожно раздумывал теперь, ворочаясь без сна в постели: «Окна бьют — полбеды. Вот стреляет кто?» И невольно приходила ему, обжигая все внутри, мысль о Терентии Зеркалове: после долгих лет молчания не он ли напоминает о себе? И когда однажды Аниска, собирая завтрак, сказала: «Третий раз у Андрея Веселова окна бьют… Господи, чего им надо?» — Григорий даже вздрогнул.
— Кому это — им? — отчетливо выговорил он, поднимая на жену узкие, колючие глаза.
— Ну… кто бьет, — промолвила Аниска, жалея, что ввязалась в разговор. Но Григорий больше ничего не сказал, стал молча есть.
Думал Григорий в это время и о другом. Выгодно или невыгодно для него, но отстоялась как-то жизнь. Многие мужики-единоличники по деревням — те, кто посмелее, — за последние годы крепенько встали на ноги, подняли свои хозяйства, А он, Григорий, долго присматривался, боясь рисковать тем, что осталось в кожаном мешочке от отца. Наконец решился… Но и тут прогадал. Видно, на роду ему были написаны одни неудачи и несчастья! Только-только купил вторую лошаденку, хотел расширить посевы, как верзила Павел Туманов чуть не отправил его на тот свет, к отцу. Провалялся больше двух месяцев в больнице, вернулся в июле. Что тут сделаешь? Сена даже не сумел накосить вдосталь. Пришлось продать одну коровенку и утешаться мыслью: «Ничего, обождем еще… Отец вон под старость начал, и если бы…»
А теперь вон какие пошли разговоры о раскулачивании. Придется, однако, вслед за коровой одну лошадь продать на всякий случай, пока не поздно.
Предлагать коня в Локтях он не решался. Надо было куда-то ехать.
— Как у нас с мукой? — спросил он у Аниски.
— Есть пока. Зима ведь только началась. Да и, может, до новой хватит, — ответила она.
— А если не хватит? Весной где достанешь? Поеду на днях, сторгую мешка четыре у знакомого мужика в соседней деревне.
— Куда в такое время ехать? Стреляют по ночам-то…
— Ничего, я днем…
И через несколько дней в самом деле запряг утром рано коней и поехал.
Пока огибал холмы за Локтями, чувствовал себя еще спокойно. Место открытое, видно кругом далеко. Да и родная деревня рядом еще. Но едва въехал в лес — сробел. Казалось ему: вот-вот щелкнет из-за дерева выстрел, свалится он на дорогу, а его коней угонит тот, кто стрелял… И случится это на том месте, где подобрал он когда-то окровавленный топор… Ударив вожжами, Григорий что есть духу погнал лошадей вперед.
Несколько дней подряд гуляла первая в эту зиму вьюга. Ветер обдул занесенные сосны и ели. Вьюга стихла, с неделю стояла теплая погода. А потом ударил мороз, и за одни-двое суток деревья покрылись обильным, пушистым инеем.
Солнце пронизывало насквозь весь лес. Проливаясь сквозь ветви, оно окрашивало взмокшие крупы лошадей, и дугу, и самого Григория в желтовато-розовый цвет. Кони мчались, задрав головы, и из их ноздрей вырывался пар, тоже розоватый…
Григорий опомнился, только когда лошади стрелой вынесли его на главную улицу села, и натянул вожжи. И тут почувствовал, как бешено стучит его сердце, будто он всю дорогу бежал следом за своими санями.
Купив на базаре муки, Григорий договорился с бородатым угрюмым мужиком о продаже коня. Бородач долго щупал мерина со всех сторон, тыкал его кулаком в бока.
— Чего там щупать? Хорош конь! — потеряв терпение, проговорил Григорий. — Бери, не пожалеешь.
— Возьмет тот, кто нуждается в нем. Пошли…
— Так это что? Не сам, что ли, покупаешь?
— Пошли, пошли, — басом прогудел мужик.
Григорий подумал и тронулся следом.
Скоро бородач подошел к дому, стоявшему на окраине, обернулся, взял коня под уздцы и завел во двор. Потом ввел Григория в дом, втолкнул в комнату с единственным оконцем, плотно закрытым занавеской, но сам не вошел. Подозревая неладное, Григорий с тревогой подумал: «Что за берлога! Зарежет еще…»
Но в это время дверь распахнулась без скрипа, и Григорий почувствовал, что все вещи в комнате странно закачались, поплыли. В голове раздался тонкий гуд, словно кто ущипнул там туго натянутую струну… Странно вытянув губы, его внимательно, с головы до ног, осматривал Терентий Зеркалов.
Григорий не решался взглянуть Зеркалову прямо в глаза и смотрел на лоснящиеся плечи, по прежнему густо усыпанные перхотью.
— Вот и свиделись. Сколько лет, сколько зим… Здравствуй, что ли, — простуженным голосом сказал Зеркалов.
— Доброго э-э… здоровьица, — неуверенно промямлил Григорий. — Коня вот… где же он, который сторговал? Для тебя, должно… э-э…
Зеркалов, чуть прихрамывая, устало прошелся по комнате, сел в углу, подальше от окна, в кресло с тяжелыми отполированными подлокотниками. Григорий, поворачивая ему вслед голову, думал: «Прижали где-то, должно, лапу… Да сумел уволочь ее, дьявол…»
— Ну, рассказывай, — проговорил Терентий, вытянув ногу вперед, и тряхнул головой с уже жиденькими, но по-прежнему длинными волосами, висевшими на затылке сосульками.
— Чего рассказывать? Конь добрый, семилетний мерин, что под седло, что для хозяйства…
— Не прикидывайся дурее себя! Я про дела локтинские спрашиваю…
Григорий вздрогнул от окрика. Пальцы его опущенных рук несколько раз сжались и разжались. Заметив, что Зеркалов пристально смотрит на его руки, Григорий спрятал их в карманы полушубка.
— Дела — что? Колхоз вон организовали. Под названием — «Красный сибиряк»…
— Ну? Вступил? — отрывисто спросил Зеркалов, будто пролаял.
— Зачем? При коммуне жили — ничего… Не пропадем, может, и при колхозе…
Терентий погладил вытянутую больную ногу, поморщился не то от боли, не то еще от чего.
— Не пропаде-ем?! Думай, что говоришь. Колхоз не коммуна, болван…
Не зная, как вести себя, Григорий поспешно и молча закивал.
Зеркалов с минуту сидел задумавшись, разглядывая что-то на полу. Но вдруг в упор посмотрел на Бородина, жестко спросил:
— Задание почему не выполнил?
— Ка… какое з-зад… — от неожиданности Григорий побледнел, выдернул руки из карманов, взмахнул ими, несколько раз глотнул воздух.
— То самое! Мое… — угрюмо бросил Зеркалов.
— Н-не знаю, не слышал.
— Лопатин тебе передавал — насчет Андрея, — не спуская глаз с Бородина, быстро произнес Зеркалов.
Но Григорий уж несколько оправился от неожиданности.
— Говорю, ничего не знаю. Никто не передавал мне. Лопатина в глаза не видел.
— Врешь! Врешь, сволочь!.. — заорал Терентий, схватился за подлокотники, приподнялся. Впервые за весь разговор он потерял самообладание. — Лопатин сам докладывал мне, что передавал…
Григорий по-прежнему стоял посреди комнаты, но теперь он посматривал на Зеркалова с едва заметной усмешкой.
— Чего докладывал, когда? Позови его, пусть он при мне скажет это…
Зеркалов опустился обратно в кресло, отвернулся к занавешенному окну, снова долго гладил больную ногу.
Потом произнес сердито и ворчливо:
— Черт, сам бы ты догадался…
— Не особенно-то скараулишь Андрюху. Ночами не ходит, взаперти сидит дома… И днем нигде не появляется в одиночку. Что я, при народе его должен? Своя шкура дорога…
Терентий слушал, кивал головой. Григорий кашлянул осторожно в кулак.
— Так уж позвольте мне… уйти. И за коня… Где же тот бирюк, что купить хотел мерина-то?.. Пора ведь мне, — обернулся Бородин к двери.
Он не замечал уже, что обращается к Терентию на «вы», говорит «позвольте». Но тот все заметил и рявкнул, поднимая голову:
— Стой! Не торопись, дело еще будет к тебе. Ночуешь тут. А за коня — спасибо.
Григорий поднял на Зеркалова маленькие недоумевающие глаза:
— А?! Как ты говоришь? — И вытянул шею, будто это помогло бы лучше расслышать ответ.
— Беру, говорю коня. Спасибо, — повторил Зеркалов.
— Ну и езди на здоровье. Не конь — огонь. А… это… деньги?
— Какие деньги? Беру — и все. — Подумал и добавил: — В счет будущего. Ступай.
Григорий что-то промычал, двинулся к двери. На полдороге остановился, оглянулся вопросительно.
— Иди, иди, — крикнул Зеркалов.
У Григория хватило сил дойти только до порога. У дверей он резко обернулся, раскинул руки, оперся ладонями о стену, точно собирался оттолкнуться и прыгнуть на Зеркалова. Терентий привычным движением выхватил откуда-то из-под рубахи наган.
— Ну, и стреляй, и стреляй, сволочь!.. Ведь последнее отбираешь! Отец твой, кровопивец, обобрал нас чуть не до нитки. А теперь ты…
— Не кричи, дурак! Ведь за версту слышно…
— И пусть все слышат… Не отдам коня тебе! И не пугай… Ну, знаю, чем стращать собираешься… Выследил я для вас, где Андреев отряд, ладно… Пошли своих людей, пусть расскажут! Пусть посадят меня! Расстреляют!.. Все равно мне теперь… Что за жизнь, коли ни гроша за душой…
Григорий выкрикивал слова, странно подвывая, точно его часто и сильно били чем-то тяжелым. Зеркалов спрятал оружие, опустил руки на колени и внимательно смотрел на него. Тогда Бородин, как когда-то давно, у дверей Дуняшкиного дома, опустился на колени и пополз к Терентию, протягивая руки, всхлипывая:
— Ведь кони — все, что осталось у меня… Заплати, ради бога, что тебе стоит… А у меня, может, вся жизнь в них… в этих деньгах…
Не поднимаясь, Зеркалов достал из кармана кошелек, порылся в нем, бросил в лицо Григория несколько смятых бумажек и тихо сказал, отвернувшись брезгливо:
— Уходи с глаз. Ночуй в другой комнате.
Григорий схватил деньги, поднялся с колен, но разогнуться во весь рост не решился, попятился задом, потихоньку кланяясь.
4
На другое утро в комнатушку, где спал Григорий, заглянул вчерашний бородач и молча кивнул головой, приглашая следовать за собой. Он провел его через какое-то темное и душное помещение, опять втолкнул в ту же комнату, что и вчера.
Терентий сидел на прежнем месте в той же позе, будто не вставал с кресла всю ночь. Однако Григорий подумал, что выстрелы из обрезов по ночам, звон выбиваемых из окошек стекол раздаются в Локтях именно потому, что Зеркалов сидит вот здесь, в этой комнате.
— Присаживайся, — кивнул он Григорию на свободный стул.
Григорий снял шапку и опустился на краешек стула, молча ожидая, что будет дальше. Зеркалов еще помедлил и спросил:
— Значит, не боишься, если… Андрею Веселову будет известно кое-что о тебе.
Григорий порывисто вскочил со стула. Но потом словно опомнился, медленно опустился обратно, облокотился о свои колени, держа шапку между ног обеими руками.
— Чем вы докажете? — буркнул Григорий.
— Ишь ты… — усмехнулся Терентий. — Доказать-то можно бы… Но не в этом дело. Не за тем я приехал сюда… в родные места, чтоб старых друзей выдавать…
Не меняя положения, Григорий исподлобья глянул на Зеркалова.
— А задание тебе, Григорий, прежнее… — И, видя, что Бородин опять вскочил с места, Зеркалов замахал руками.
— Да сиди ты! Слушай до конца… Как же, слыхал — тебе своя шкура дороже… Но… сделать так ладо, чтобы все было шито-крыто. Никто ведь не знает, что ты в Гнилое болото ходил тогда…
Григорий наконец выпрямился, легкий плетеный стул скрипнул под ним.
— Интересно, — промолвил он, положив руки на стол. — Ну, ну, слушаю.
— Не так хотя интересно, а надо.
— Чего тебе Андрей в печенки влез?
— А тебе не влез? — строго спросил Зеркалов. Потом вдруг иронически покривил губы. — Дуняшку ведь так и уволок у тебя… Ох, хор-роша девка была! А сейчас, чай, в самом соку бабенка… Зря ты меня тогда не послушал… М-да… Он, говорят, партийным теперь стал у вас?
— Как же… Большак.
— М-да.. — еще раз протянул Терентий. Прихрамывая, прошелся по комнате, подошел к висевшему на стене тускловатому зеркалу в массивной, когда-то золоченой раме.
— Эх, все ж таки годы, Гришка, идут да идут… Изменились мы, брат, с тобой, постарели. Смотри, у тебя уж усы как у настоящего мужика, возле глаз морщинки пробиваются. Да и я не помолодел. Волосы вот начинают с головы сыпаться, полысею скоро совсем. Не знаешь ли мази какой против облысения?
Григорий отрицательно мотнул головой думая: «Дьявол, еще и о красоте беспокоится. Все равно некому ее показывать, прячешься ведь от людей…»
Зеркалов подошел к Григорию, дружески похлопал его по плечу и снова повторил:
— М-да, постарели… А давно ли молодцами по деревне ходили? Помнишь, как мы с тобой Мавруху-то? Как она забилась в руках-то у нас? Как вытащенная из озера сильная рыбина…
— Хе-хе… — уронил Григорий тихий смешок и невольно заерзал на стуле. Но, словно испугавшись скрипа, тотчас затих и, не поднимая головы, промолвил: — А Веселов, что? Конечно, и мне он… А только уберешь Андрюху — Ракитин на его место встанет. Опять, что ли, убирать? Всех их не перебьешь.
— А может, и не встанет. Нам важно страху нагнать. А там посмотрим.
Бородин хмыкнул, но ничего не сказал.
— В конце концов, дело это не твое, — продолжал Зеркалов. — Так что ж, согласен?
Почувствовал Григорий, что не все еще сказал Зеркалов, и неопределенно покачал головой. Тогда Терентий выбросил на стол, поближе к Григорию, пачку денег. Она шлепнулась возле самого его локтя, как тяжелая, намокшая тряпка.
— Вот… плата…
Быстрым, жадным движением Григорий схватил деньги. Но тотчас бросил их обратно, будто обжегся. А в следующую секунду рука его опять поползла к деньгам, на этот раз медленно и несмело. Пальцы Григория дрожали, выбивали отчетливо слышимую дробь по клеенке. Лицо покрылось лиловыми пятнами, потом.
— Тут… сколько? — прошептал он.
— Хватит тебе. И главное — дело-то пустячное. Я бы и сам… да вот… — Зеркалов легонько стукнул себя по больной ноге.
— Н-ну, а… как же?.. Ты говоришь, шито-крыто, чтоб… — совсем задыхался Бородин.
— Ты сперва ответь — согласен или нет, — усмехнулся Зеркалов.
Множество мыслей крутилось в голове у Григория. «Взять, взять деньги… Ведь как зажить можно!.. Андрюшку трудно выследить, верно… Можно самому пропасть… А коль сойдет все с рук? Ведь никто же не знает про Гнилое болото… И про Лопатина тоже… Взять, а там видно будет… Может, Тереха-то жив сегодня, а завтра… Плохо его дело, видать, коль боится нос высунуть наружу…»
И сам не заметил Григорий, когда схватил со стола грязноватую, скользкую пачку и сунул за пазуху, под рубаху, к голому телу. Очнулся, услышав голос Зеркалова:
— Ну, вот и все… Пойдем завтракать. Потом договоримся обо всем…
Григорий машинально поднялся и пошел следом за прихрамывающим Терентием.
Вчерашний бородач, который сторговал у Григория коня, молча принес чугунок с лапшой. Так же молча разлил по тарелкам, высыпал на стол кучу деревянных ложек.
Если бы не вчерашний разговор на базаре, Григорий подумал бы, что бородач немой.
Позавтракав, Зеркалов и Григорий опять ушли в комнату с единственным оконцем. Терентий осторожно приподнял край занавески, долго смотрел на улицу, стоя спиной к Бородину.
— Когда лавка у вас сгорела, сколько убытку пожар принес? — вдруг резко спросил он, оборачиваясь.
— Сколько убытку? Не знаю, не считал. — Говорил Григорий медленно, пытаясь догадаться, куда клонит Зеркалов. Неспроста же завел он речь о пожаре.
Зеркалов сел на стоявшую у стены кровать.
— Они жгли нас, а мы их должны теперь… Понял?
— Так ведь… Лопатин, должно, тогда… Он все отговаривал лавку ставить.
— Лопатин? — Зеркалов усмехнулся. — Да его и в деревне не было в ту пору. А Веселов со своей компанией особенно косо поглядывал на вас… Но дело не в том, Григорий. Сейчас ты можешь вернуть с лихвой все, что сгорело. Вот…
Он вынул еще одну пачку денег, точно такую же, что дал Григорию до завтрака, и положил на кровать возле себя.
— Что получил ты — это задаток только, — продолжал Зеркалов. — Мы щедрые, не поскупимся, если ты…
— Господи, да что я должен делать? — воскликнул Григорий. — Ты скажи толком… Второй день мучаешь!
— Ну, твоя задача будет нетрудной… Веселов, говоришь, ночами дома сидит? Вот и надо… двери подпереть, облить керосином да поджечь…
Не обращая внимания на Григория, он взял с кровати пачку денег, осмотрел ее со всех сторон и медленно опустил в карман.
Бородин наблюдал за ним, не мигая.
— Так что же, согласен? — спросил Зеркалов. — Если нет, давай-ка сюда ту пачечку — и ступай с богом. Только… язык держи! А то — вместе с головой потеряешь…
Григорий встал, спрятал в карманы руки и проговорил:
— Не так легко все это, поджечь то есть… Дома снегом завалены… да и… подойди попробуй к дому неслышно! Кошка пробежит — и то снег под ней хрустит…
Зеркалов, поморщившись, поднялся с кровати, подошел вплотную, положил ему на плечи обе руки. Они были тяжелые, точно каменные.
— Это все верно… Гришка. Но такие дела не сразу делаются… Нам важно пока договориться с тобой, раз удобный случай вышел. А жарить Андрюху летом будем…
Как-то свободней, полной грудью вздохнул Григорий: «Летом, ага… До лета сколь воды утечет еще… Может, к тому времени ты в земле сгнить успеешь…»
— Ладно… — сказал он. — Тогда что же… я поеду.
— Езжай, — коротко ответил Зеркалов.
Запрягая коня во дворе, Григорий, опасаясь за полученную пачку денег, с тревогой думал о том, как поедет через лес. Он вернулся в комнату и, помявшись, спросил:
— Там, в лесу, Терентий Гордеич… Не твои людишки пошаливают?
Зеркалов, не отвечая, царапнул его глазами.
— Я к тому, значит… — смутился Григорий. — Опасно мне… с такими деньгами. К тому же на одной лошаденке тащиться буду. Дал бы обрезишко какой…
— А-а… Это можно.
Зеркалов вынул из-под перины тяжелый обрез.
— На… И с богом. Я как-нибудь дам о себе знать…
Но едва отъехал Григорий от деревни, как прежний страх захлестнул его. Прижимая локтем обрез под полушубком, он беспрерывно нахлестывал взмокшую лошаденку.
5
Зима прошла более или менее спокойно. Терентий Зеркалов не напоминал о себе, и встреча с ним в соседнем селе представлялась бы Григорию далеким сном, если бы не деньги, хранившиеся в заветном месте.
Бородин все-таки не переставал надеяться, что Зеркалов сгинет где-нибудь, не появится больше на его пути. А Веселов — черт с ним, пусть живет, лишь бы не трогал его… Андрей с колхозом сам по себе, а он, Григорий, — сам по себе. Деньги теперь есть. Сына бы вот только еще…
Но ни сына, ни дочери до сих пор у Бородиных не было, и Григорий стал заметно раздражаться, резче и чаще покрикивать на жену. Аниска только вздрагивала и опускала глаза, будто и в самом деле была виновата в чем-то.
В этом году Григорий намеревался — что бы ему ни стоило — запахать все свои земли и заранее предупредил об этом Павла Туманова:
— Ты, Павлуха, убирайся нынче с моей земли. — И добавил угрожающе: — Запреж говорю — не стой поперек мне. Второй раз наоборот получится!
— Не беспокойся, Григорий Петрович, не буду стоять, — тотчас ответил Туманов, и Григорию показалось, что в голосе Павла звучит скрытая насмешка.
Бородин быстро вскинул глаза на Туманова:
— Что-то сговорчив больно. Ведь в прошлом году чуть не убил меня…
— В колхоз я вступил, Григорий Петрович…
— А?! Ты? Врешь… Ведь в коммуну не шел? — скороговоркой выпалил Григорий, подступая к Туманову.
— Ну, то в коммуну, а то в колхоз… Разница.
И невольно задумался тогда Григорий, что вот уж третий человек — Ракитин, Зеркалов, а теперь и Туманов — говорил ему: колхоз — не коммуна. А что же такое колхоз?
До самой пахоты Григория не покидала эта мысль. Он даже чаще стал появляться на улице, прислушивался к разговорам. Но разницы никакой не видел. Говорили мужики о тех же трудоднях, о тех же скотных дворах, спорили, сколько каждый может держать у себя коров, птицы, можно ли иметь собственную лошадь… И остался при своем прежнем мнении — нет, не с руки. С тем и выехал на пашню.
Подъезжая к своему участку, с удивлением увидел, что по полю ходят какие-то люди, в стороне, под деревьями, стоят лошади, запряженные в плуги. По всему было видно, что его землю опять собирается кто-то пахать. Выругавшись, Григорий быстрее погнал коней вперед.
Не успел Бородин спрыгнуть с телеги, к нему подошел Федот Артюхин, поздоровался и сразу же выпалил:
— Не сюда завернул, Григорий Петрович… Эта земля теперь — колхозная…
— То есть? — поднял брови Григорий, хотя давно уже догадывался, в чем суть дела.
— Обобществили, так сказать, обществу всему передали… Твоя земля клином врезается меж бывших пашен Зеркалова и Лопатина. Объезжать нам, что ли, ее?
Григорий, казалось, не слушал Артюхина, смотрел куда-то поверх его головы.
— О тебе говорили в конторе — как, мол, быть с ним? — продолжал торопливо Артюхин. — И решили: не хочешь если в колхоз — паши во-он там, где пустошь. Там много земли…
Ни слова не говоря, не разжимая сухих, побледневших губ, Григорий повернулся, сел на телегу и медленно поехал обратно. Только Аниска, примостившаяся за его спиной, знала, что происходит сейчас в душе мужа, чувствовала — кипит, клокочет все у него внутри, и с ужасом думала о той минуте, когда останется с ним наедине…
Против ее ожидания Григорий и дома не вымолвил ни слова. Он заперся у себя в комнате и несколько дней пролежал на кровати, поднимаясь только к обеду и ужину.
Плуг, приготовленный для работы, сиротливо валялся посреди двора, поблескивая хорошо отточенным лемехом. В первое же утро нахолодевшее за ночь железо покрылось капельками росы. Под теплыми лучами солнца роса высохла, и к обеду полукруглая щека лемеха была уже усыпана маленькими крапинками ржавчины, похожими на веснушки. С каждым днем этих крапинок становилось все больше и больше.
— Может, убрать плуг-то? — несмело спросила Аниска. — Ржавеет ведь…
— А жрать что будем целый год? — вопросом на вопрос ответил Григорий.
— Ну, тотда… На пустоши, говорил Федот, можно бы…
Григорий горько усмехнулся, качнул головой сверху вниз:
— Черта ли там вырастет? Галька там одна…
Аниска помедлила и осторожно промолвила:
— А может, к Андрею тебе сходить… — И, заметив, как сверкнул глазами Григорий, добавила поспешно: — Я сама могу сходить… Попрошу… У них ведь все земли в руках теперь, может, и отведет получше…
Не торопясь, Григорий подошел к жене, держа руки в карманах. И, заметив, как в испуге сжалась Аниска, ожидая брани и побоев, еще раз усмехнулся:
— Не бойся… Не стану бить… А коль пойдешь кланяться Веселову — тогда по самые глаза вколочу в землю… Поняла? По самые!.. — И отошел так же медленно, не дожидаясь, не требуя ответа.
На другой день, однако, выехал на пустошь, всковырял несколько соток земли и забросал ее семенами. Пахал и сеял так, будто делает все для вида…
А потом, сидя дома, раздумывал: видно, в самом деле, колхоз — не коммуна. Вон как круто взяли. Раз — и выкинули его с собственной пашни. И оправдываются: клином вошел… Сволочи!
Давно уже казалось Григорию, что он ждет чего-то. Но чего — не мог понять. И когда однажды на рассвете на задворках деревни грянул выстрел, понял — вот чего! Вскочив с кровати, пробежал по комнате в одних подштанниках, прилип к окну, будто мог увидеть что-то через все село. «Не Андрея ли хлопнули?» — подумал он с затаенной надеждой.
Утром Аниска, отогнав корову в стадо, зашла в комнату и сказала:
— Ночью-то слы-ышал? Бабы говорят — в Андрея…
— Врешь! — так и подскочил Григорий.
— Чего мне? — Аниска удивленно посмотрела на мужа. — Все остерегался, говорят, по ночам выходить… А тут заботы посевные. Дуняшка, сказывают, не пускала, а он: «Затихло сейчас вроде в деревне…» И пошел…
— Ну?.. — нетерпеливо воскликнул Григорий.
— Что «ну»? — переспросила Аниска.
— Уби… Попали, что ли?
— Говорят, все плечо разворотили. Бежал, пока силы хватило, потом упал. В аккурат возле Тумановых… Добили бы его, да Павел выскочил, заволок в избу. Анна — к Дуняшке, а та уж по деревне мечется. Втроем, когда рассвело, перетащили его домой…
— Ага… Ну что ж, не будет ночами-то шляться, — пробормотал Григорий, натягивая рубаху.
6
Лето постепенно брало свое. Жарче становились дни. В полдень, в самый зной, в деревне все замирало. Даже озеро как-то бесшумно и лениво, словно нехотя, плескало в каменистый берег редкими и, казалось, загустевшими волнами.
Когда жар спадал, на улицах Локтей начиналось кое-какое оживление. Меж домов сновали ребятишки. Взрослых же увидеть можно было редко: шел сенокос. К вечеру косцы возвращались. И снова деревня замирала до утра.
Через несколько дней после того как стреляли в Веселова, ночью чуть не убили Павла Туманова — проломили голову кирпичом. Колхозники говорили:
— За Андрея, сволочи, мстят… За то, что спас…
— Да кто мстит-то? Наши деревенские единоличники ведут себя вроде тихо-мирно.
Андрей Веселов, бледный, похудевший, через силу поднялся с постели, подвязал руку к груди Дуняшкиным платком, сказал жене:
— Сбегай, Дуняша, позови Ракитина, Павла Туманова, фронтовиков… К мужикам, которые партизанили со мной, забеги…
Через час в маленькой избенке Веселовых собралось десятка полтора людей.
— Вот что, товарищи… — тихо проговорил Андрей. — В сельсовете несколько винтовок есть, кое у кого охотничьи ружья имеются, обрезы, шашки… Ружья зарядить картечью. И с наступлением темноты — на улицы. По одному не ходить — по двое, по трое. И бор прочесать надо. Туда сам пойду… Уличных патрульных назначим, а в лес… Кто со мной, добровольно?
— Куда ты с больной рукой? Без тебя обойдемся, — сказал Павел Туманов. Голова его была перевязана чистой синей тряпкой.
— В самом деле, полежи еще, — поддержал его Ракитин. — В лес я пойду.
Веселов поморщился не то от боли в плече, не то от услышанного:
— Если что — стрелять можно и одной рукой. Кроме того, надо нам повнимательней приглядываться к людям…
В первую ночь ничего подозрительного обнаружить не могли, хотя до света наблюдали за домами Исаева, Разинкина, Сухова, Бородина. В лесу тоже бродили попусту.
Наутро Игнат Исаев ввалился в колхозную контору, загремел на Веселова:
— Вы что, караулили меня целую ночь? Я что — беглый каторжник какой, чтоб стеречь меня?!
— Кто караулил, чего несешь? — попытался рассеять его подозрения Веселов. Но Исаев не дал ему договорить:
— Чего несу? Да ведь я слышу — шаги во дворе, говорок… Какому, думаю, дьяволу, чего надо у меня?! Вышел в сенцы, оттуда в коровник, вылез через дыру на крышу… И все видел… Степка Алабугин с ружьем стоял у стенки, прямо подо мной, а с ним еще кто-то. Чего же вы, а?
Веселов понял, что с Исаевым надо говорить начистоту, и сказал:
— Ведь стреляют какие-то сволочи по ночам, окна бьют. Вот мы и решили проследить — кто. А ты в стороне от нас держишься… Черт тебя знает, что ты в душе носишь… Сын твой у Колчака служил.
Игнат Исаев обиженно поджал толстые губы, помолчал и сказал:
— В стороне — верно. Не вижу пока выгоды прислоняться к вам… Мне одному жить неплохо. Но… хоть и служил сын у Колчака и сгинул где-то там… обидно все равно, что скрадывают меня, как волка… Я сроду в руках ружья не держал. — И, еще помолчав, добавил: — Я вот что попрошу: не обижай ты меня, Андрей, — сними следствие. Если в хотел, все равно не уследили бы вы меня. Не обижай…
И Веселов понял: к ночным выстрелам Игнат Исаев отношения не имеет. И еще подумал: рано или поздно этот зажиточный мужик «увидит выгоду», вступит в колхоз.
На другую ночь в лесу наткнулись на каких-то людей. Завязалась перестрелка. На выстрелы прибежали уличные патрульные, человек двадцать колхозников. Неизвестные кинулись прочь, оставив одного убитого.
Утром Веселов внимательно осмотрел труп. Это был неизвестный бородатый человек лет пятидесяти…
Пришел взглянуть на труп и Григорий. Он сразу узнал того неразговорчивого бородача, который сторговал у него коня, но ничего не сказал, подумал только: «Не могли Тереху пристрелить вместо этого дьявола…»
Об убитом сообщили в милицию. Приехали сразу пять милиционеров. Один из них тотчас уехал обратно, забрав убитого, а остальные четверо несколько ночей бродили вместе с локтинскими мужиками по улицам села, по лесу. Но все было тихо. Милиционеры уехали, сказав на прощанье:
— Если что — сразу дайте знать…
Однако в Локтях не раздавалось больше выстрелов. Веселов понемногу стал уменьшать количество ночных патрулей. А скоро и совсем отменил дежурство на улицах.
«Ну и зря!» — усмехнулся про себя Григорий Бородин, узнав об этом. Несмотря на то, что ночами в Локтях стояла полнейшая тишина, Григорий чувствовал: со дня на день заявится к нему гость. Он даже спать теперь ложился на всякий случай внизу, в той комнатке, где жила когда-то Аниска. И раньше Григорий часто ночевал здесь, поэтому Аниска не увидела бы в этом ничего странного, если бы не так хмур и мрачен был Бородин, если бы не вздрагивал он при каждом стуке. Она как-то спросила неосторожно:
— Ждешь, что ли, кого?
— Сатану на именины! — зыкнул Григорий, резко оборачиваясь.
Аниска пулей вылетела на улицу и только там перевела дух.
Этот вопрос жены вдруг повернул мысли Григория совсем в другую сторону. Снова прежний страх за свою жизнь захлестнул его. Терентию-то Зеркалову все равно терять уж нечего, пошалит в деревне да уползет в леса, а он, Григорий, здесь ведь останется… И если узнает кто, догадается… Аниска вон и та с допросом… Господи, раз пронесло, вдругорядь и опрокинет. Не надо бы брать у Зеркалова эти проклятые деньги!
Страх захлестывал его так сильно, что забывал Григорий в иные минуты обо всем: и о своих мечтах разжиться, и о том, что нынче весной выгнали его с собственной пашни, — чувствовал только, как жжет в пересохшем горле, точно наглотался он горячего перца, а тело, наоборот, зябнет.
Нет, нет — подальше и от Андрея Веселова и от Терентия Зеркалова!
Но вместе с тем понимал Григорий, что отступать поздно: крепко держит его в своих руках Зеркалов. И невольно все чаще и чаще задумывался: придет Терентий (не такой он человек, чтобы зря деньги давать) — схватить его за глотку, как Лопатина, чтоб не успел даже пикнуть, и… делу конец!
Терентий действительно пришел.
Перед рассветом, когда особенно глубок сон, раздался осторожный стук в окно. Григорий тотчас откинул одеяло, выдернул обрез из рукава тужурки, висевшей над кроватью. Хотя и знал он, что наступит эта минута, ждал ее, — сердце все же бешено заколотилось. Подойдя на цыпочках к окну, Григорий осторожно выглянул поверх задергушки во двор, залитый лунным светом. И словно обварило всего Бородина: через стекло в упор глядели на него глаза Терентия!.. Пошел открывать. «Сейчас… только полезет в дверь, обрезом по голове… Удобней случая не будет. Потом за горло…» И, не додумав еще до конца, сдернул крючок, толкнул дверь и отскочил в сторону, к стене, сжимая обрез за короткий ствол. Чувствуя, что ноги еле держат его, трясутся и подгибаются, Григорий проговорил, не слыша почти своего голоса:
— Заходи, Терентий Гордеич…
И так напряженно смотрел перед собой, боясь пропустить тот миг, когда в полосе лунного света, бьющего с улицы в проем двери, покажется голова Зеркалова, что в глазах заискрило. Каждая искорка, сверкнув, превращалась в темное пятнышко, которое расплывалось, сливалось с другими. Росло перед Григорием черное, непроницаемое пятно, и он в ужасе думал: «Не увижу ничего. Может, вошел уже Терентий и сейчас спросит угрожающе: кого ты, дьявол, караулишь?..» Но вместо этого услышал негромкий, властный голос:
— Отойди-ка от стены… Стань посредине комнаты, чтобы видел я тебя…
«Дурак, кого перехитрить собрался…» — с горечью подумал Григорий.
— Кому говорю — стань на свет! — нетерпеливо повторил Зеркалов. Тогда Григорий кинул обрез на кровать, прикрыл одеялом и шагнул в сторону, в полосу неяркого лунного света.
Терентий вошел в комнату, не оборачиваясь запер за собой двери. Григорий не видел, но знал наверняка: в руках у Терентия наготове наган.
— Сюда, сюда, садись, — неестественным голосом проговорил Григорий, кинулся к стене и схватил табуретку.
— Постой… сядь-ка туда сам! — ответил Зеркалов и опустился на кровать.
Почувствовав под собой что-то твердое, пошарил рукой и вытащил обрез.
— Не расстаешься? — спросил он, кладя оружие возле себя. Григорий не мог понять: догадался Зеркалов, как он хотел встретить его, или не догадался? На всякий случай ответил неопределенно:
— Как же? Держу под рукой на случай…
И вдруг Зеркалов спросил напрямик:
— Зачем у стенки таился?
— Что ты, что… Терентий Гордеич! Как такое тебе… — замахал обеими руками Бородин, вскакивая с табурета. Но махал слишком уж усердно. Зеркалов только усмехнулся:
— Ладно, сиди. Мне с тобой некогда тут… Уговор помнишь?
— Хе, хе… — не к месту рассмеялся Бородин. — Насчет Веселова? Вы ж его чуть раньше не кокнули…
— Откуда знаешь, что мы? — торопливо проговорил Терентий.
— Кому ж еще?
— Ну… подвернулся случай, — согласился Зеркалов. — Что ж, упускать его?
— Это конечно…
— А поскольку жив еще Веселов…
Опять вскочил Бородин и взмахнул руками, забормотал жалобно:
— Терентий Гордеич! Ведь говорил же я: толку ли вам с одного Веселова? Что жив, что мертв…
Ни слова не говоря, Зеркалов встал, подошел к Григорию, резким толчком отбросил его назад, на табурет. И угрожающе выдавил из себя:
— Ты не крути, Гришка!.. Не открутишься у меня! Понял?
Григорий опустил голову, стал смотреть на бледноватые лунные пятна у себя под ногами. Он давно понял, что не открутится.
Наконец поднял голову и проговорил униженно:
— Ладно… Только… не забыл, Гордеич? Вторую половину мне… Ведь зимой задаток только дал…
— Будь спокоен. Слово свое мы держим, — заверил Бородина Зеркалов и встал. — Итак, завтра… задача простая. Клямка на дверях у Веселова есть?
— Как же…
— Значит, легче. Дверь на клямку, окна… Черт с ними, с окнами, можно не подпирать. Облить керосином стены и… понятно? Есть керосин?
— Найдется. Только… выскочит же он через окно…
— Ну… а это зачем я дал тебе? — тихо спросил Зеркалов, поглаживая обрез. Лунный свет падал теперь на кровать, и короткий вороненый ствол мирно поблескивал мягким матовым сиянием. Григорий, не спуская глаз с оружия, некоторое время сидел молча, будто прислушиваясь, не скажет ли Зеркалов еще чего. Но тот выжидающе молчал.
— Не-ет… — выдавил наконец из себя Бородин. — Я еще никого не убивал… Поджечь — ладно… А больше и не проси… не уговаривались… Да и как же? Сразу на свет люди выскочат. Мыслимо ли дело — пожар! Где уж тут стрелять?
Зеркалов прошел к двери и остановился, терпеливо слушая прерывающийся шепот Григория. Затем холодно усмехнулся:
— Ладно, не уговаривались… Забыл ты все, Григорий: и лавку и Дуняшку…
— А?!
Бородин, не шевелясь, не мигая, смотрел перед собой — в пустоту, не видя Терентия, не понимая, при чем же здесь Дуняшка.
— Сам я пойду с тобой завтра, — вдруг услышал Григорий звенящий голос Зеркалова.
В окно по-прежнему лился с улицы желтовато-прозрачный лунный свет. Он пронизывал комнату насквозь, через силу отгоняя темноту в угол. Григорий сидел на прежнем месте и сосредоточенно наблюдал, как белесое лунное пятно неслышно перекидывалось с кровати на стену, ползло все выше и выше… А потом медленно стало уменьшаться и погасло: луна, видимо, скатилась за кромку леса.
Григорий знал, что Зеркалов давно ушел. Когда он осторожно скрипнул дверью, лунное пятно только-только приподнялось над кроватью. Но едва угас жиденький луч в комнате, Бородин вздрогнул, словно вдруг обнаружил, что остался один. Вздрогнул — и вспомнил последние слова Зеркалова: «Надо, Григорий, подрубить сук, на котором все они сидят. Тогда грохнутся оземь, да, может, иной и до смерти ушибется…» Что за сук? Кто сидит на нем? Зачем его рубить?
Григорий даже помотал головой. Но это не помогло ему добраться до смысла зеркаловских слов.
7
День прошел быстро — казалось, был вдвое-втрое короче других. Когда стемнело, Григория охватил озноб… Он пораньше спустился вниз и лег, не раздеваясь, в постель, надеясь, что и Аниска последует его примеру. Но она, как назло, долго стучала дверями, переходя из комнаты в комнату. И Григорий беспокойно думал: «Придет Зеркалов — услышит ведь она!!» Он встал и на всякий случай приоткрыл дверь, чтоб не делать лишнего шума потом.
Наконец Аниска затихла, видно, улеглась.
Григорий беспокойно ворочался с боку на бок. Время шло. А Зеркалова все не было.
«Ведь догадался вчера, сволочь, что я притаился возле двери», — подумал Григорий. И потом никак не мог отогнать эту мысль.
Все выше поднималась луна за окном, потому что бледно-желтые блики, рассыпанные по полу, полезли, как вчера, уже на кровать. Григорию не хотелось, чтобы его лицо попало в полосу света. Он встал, прошел в темный угол и сел там на табурет. Долго ли сидел — Григорий не знал. Прислонившись к стене, он даже задремал немного. Но спохватился в ту самую минуту, когда чья-то рука осторожно стала открывать дверь.
— Ага, не спишь? Это хорошо. Ну, идем, — проговорил Зеркалов, перешагнув порог.
— Пойдем, пойдем… Я сейчас, я сейчас, — торопливо проговорил Бородин, но подняться долго не мог, словно прирос к табуретке. Наконец встал на подгибающиеся ноги и закрутился на одном месте.
— Чего потерял?
— Фуражка тут…
— В руках же она у тебя.
— Ага… ага…
— Керосин, спички есть?
— Ну, как же, как же… Бидон вот, в уголку…
— Пошли.
Они шли задами деревни, потом по улице, прячась в густой тени домов. И Григорий думал все время, косясь на Зеркалова: «Шагает, дьявол… Залечил ногу-то».
Потом долго сидели в бурьяне. Зеркалов то и дело привставал, осторожно выглядывал, словно поджидая кого. Сидеть здесь и ждать неведомо чего было еще мучительнее, чем дома, и Григорий проговорил тревожным шепотом:
— Рассветет ведь скоро. А?
— Вижу, зря я надеялся на тебя, — вместо ответа негромко проговорил Зеркалов. — И деньги давал зря… как на ветер выбросил. Эх ты, теленок!
Он снова посмотрел на часы. Потом вдруг привстал, сделал глубокий вздох и… закричал пронзительно петухом.
Где-то в другом конце деревни, возле колхозного коровника, откликнулся один петух, потом второй. Ничего не понимая толком, Григорий, однако, подумал: «Черт!.. И те петухи… не с обрезами ли в рукавах?» Но додумать Григорию Зеркалов не дал. Ткнув его в бок чем-то твердым, сказал.
— Пора…
С бьющимся сердцем Григорий приподнялся из бурьяна. Окна дома Веселовых были закрыты ставнями.
Петухи больше не пели. Над Локтями плыла тихая летняя ночь.
Григорий, нагибаясь, перебежал дорогу и юркнул за угол. Там поставил бидон на землю и немного отдышался. Потом осторожно вдоль стены начал пробираться к низенькому крыльцу. Трясущимися пальцами он нащупал щеколду и осторожно закинул ее на железную скобу. И тотчас прижался к стене, влип в нее спиной, вздохнул глубоко и свободно, точно сделал самую трудную часть работы.
Постояв, метнулся к бидону, схватил его и стал торопливо поливать керосином пересохшие под летним солнцем бревенчатые стены…
Вспоминал ли Григорий за последние месяцы о Дуняшке, подумал ли о ней хоть сейчас, в эту минуту? В мозгу его колотилась, звенела одна-единственная мысль: «Скорей, скорей, скорей…» Не увидел бы, не заметил, не узнал бы кто, что это он, Григорий Бородин, поджигает дом Веселова…
Выплеснув из бидона последние капли керосина, он зашарил по карманам. Спички почему-то ломались в пальцах, точно восковые. Наконец одна из них вспыхнула без обычного шипения. Григорий, присев, поднес ее к облитой керосином стене. Из-под его руки беззвучно метнулась вверх тоненькая огненная змейка. И в ту же секунду пламя начало быстро расти, разливаться в стороны и, не успел он выпрямиться, охватило полстены.
Обернувшись, Григорий хотел бежать, но остолбенел, застыл на месте, не чувствуя, что спину начинает припекать: в разных концах Локтей занимались зарева. Горели дома колхозников, горели общественные амбары, конюшня, коровник. И Григорий как-то сразу отчетливо понял слова Зеркалова, и в голове его лихорадочно заметалось: «Ведь в самом деле подрубил, дьявол, их… подрубил сук, на котором они… Теперь все! Под корень колхозишко подрублен… Брякнулись оземь, точно… Все дымом в небо уплыло. Вот те и перхатый дьявол!..»
И вдруг Григорий почувствовал, что ноги отказались ему служить. Он повалился на землю и кое-как пополз через дорогу в бурьян. И здесь, уткнувшись лицом в теплую, пахнущую прелью землю, тяжело задышал. Он лежал на животе, и спина его то приподнималась, то опускалась.
Но как ни ошеломлен и ни напуган был Григорий, он все же краем уха услышал: задергали в доме Веселовых дверь, запертую на щеколду. Потом зазвенело оконное стекло, стукнули распахнувшиеся от толчка изнутри ставни. Тотчас щелкнул выстрел, потом другой… Кто-то еще и еще стрелял, кто-то кричал — не то мужчина, не то женщина, кто-то тяжело пробежал мимо, чуть не наступив на Григория…
Бородин лежал ни жив ни мертв, закрыв глаза, не шевелясь. А когда наконец открыл их, не мог сдержать крика: над ним было светло как днем.
«Пропал, пропал… Увидят сейчас!» — с отчаянием подумал он и, окончательно обессиленный, снова уткнулся лицом в землю.
И вспомнил: когда поджег дом Веселова и полз через дорогу в бурьян, впереди очень близко маячила на фоне разгорающегося где-то на том конце села зарева изгородь из жердей. Не огород ли?
Григорий припомнил: «Конечно же, тут, рядом, огород». Упираясь в землю локтями, он пополз и скоро перевалился через изгородь… Меж рядков заботливо окученного картофеля Григорий полежал несколько секунд, отдыхая. И затем, извиваясь как змея, пополз дальше, в спасительную тьму.
Потом, лежа дома на кровати, глядел, как розовели на восходе солнца оконные стекла. В самом деле, наступал уже день или это был все еще отблеск зарева над деревней? И сколько времени он уже дома?
Лежал и слушал, как наверху бегает по комнатам Аниска — видимо, мечется от окна к окну. «Еще сюда вздумает спуститься…» — с тревогой подумал Григорий. Ему казалось, что если жена войдет в комнату, то обязательно догадается.
«А вдруг заходила уже, пока я…» — обомлел Григорий. И стал лихорадочно думать, что сказать Аниске, если она спросит: где был? Но придумать ничего не успел. Сверху по крутой скрипучей лестнице сбегала Аниска.
Григорий хотел закрыться с головой одеялом и притвориться, что спит, но вместо этого почему-то спустил ноги с кровати и сел.
Аниска стремительно вбежала в комнату полураздетая, испуганная и, увидев Григория, обессиленно прислонилась к стене. У нее был такой вид, точно она бежала спасать кого-то, и теперь, увидев, что торопилась зря, что тот, за кого она беспокоилась, в безопасности, облегченно перевела дух.
— Что же это делается? Что делается? — прошептала она. — Ведь вся деревня горит.
— Горит, горит… — машинально закивал головой Григорий.
— Страх-то какой! Я как услышала стрельбу — сердце остановилось. Сбежала вниз, а тебя нет…
— Меня нет, — опять кивнул головой Бородин и вдруг воскликнул испуганно: — А? Что?!
— И заколотило меня всю… Ведь одна в доме!
— Я… тоже услышал выстрелы, схватился — и за дверь… Вижу — пожар. Побежал узнать… — пробормотал Григорий и понял, что ответил более или менее удачно.
— Ну и… кто горит-то?
Григорий махнул рукой:
— Там, колхозное…
— Господи, да что им надо?!
На этот раз Григорий не спросил: «Кому это им?» — как год назад. Не поднимая головы, он быстро взглянул исподлобья, но промолчал. Потом лег опять. Видя, что Аниска все еще стоит у стены, проговорил негромко:
— Нам-то что с тобой? Спать иди…
— Какой сон! Рассвело почти… Господи!
— Ну иди, иди, — повторил Григорий и отвернулся.
Аниска ушла, а Григорий думал: «Вот те и Тереха Зеркалов… не одного меня подговорил, выходит. Эвон запылало — со всех концов. Кукарекнул только — и откликнулись красные петухи…»
Пытаясь успокоиться и заснуть, Бородин закрыл глаза, но так было еще хуже: тотчас снова возникли перед ним огромные огненные языки. Опять чудились ему выстрелы, крики, чей-то стон… Он открыл глаза и… и в самом деле услышал стон. Он обомлел.
Стон раздался еще раз, потом еще, уже слабее. Григорий сел на кровати, обвел глазами комнату, залитую до краев сероватым, медленно рассасывающимся предутренним мраком, и остановил взгляд на двери. И опять вздрогнул, когда кто-то царапнул ее снаружи.
Григорий схватил обрез, подскочил к двери и хрипло крикнул:
— Кто?!
Слабый голос за дверью бросил Бородина в озноб. Он сдернул крючок, чуть приоткрыл массивную, из тяжелых плах, дверь, не выпуская из рук кованой железной скобки, и зашептал умоляюще:
— Не могу, Терентий Гордеич… видит бот… Ведь найдут тебя у меня, тогда что? Ползи в огороды, я приду вечером…
— Григорий… Петрович… Я до тебя еле-еле… Вспомни старую дружбу! Сил нет больше, рассвет уже… — тяжело дыша, проговорил Зеркалов. — Андрюха, гад, саданул из нагана прямо в грудь… Я-то, видать, промахнулся, когда он из окна прыгнул…
— Нет, нет, — испуганно проговорил Григорий. — Пожалей ты меня, уходи, уходи… — И хотел захлопнуть дверь, но Зеркалов проговорил:
— Найдут ведь меня… я молчать не буду…
— А? — только и мог выговорить Григорий. А Зеркалов, схватившись одной рукой за приоткрытую дверь, сунул другой в щель пачку денег и заплакал:
— Вот, все… все возьми! Только укрой… В долгу… не останусь, отблагодарю…
Опасаясь, что Григорий захлопнет дверь, он, повизгивая, как щенок, из последних сил пытался приоткрыть ее. Щель на какую-то секунду сделалась пошире, и Зеркалов просунул в нее голову.
— Григорий Петрович… Григорий Петрович… Что делаешь?! — захрипел Зеркалов, дергаясь всем телом, царапая снаружи дверь и стену дома.
Григорий Бородин и сам не сознавал, что делает. Бросив обрез, упершись ногой в косяк, он молча, крепко сжав подрагивающие губы, обеими руками тянул к себе дверь, все сильнее и сильнее, пока не захрустели кости.
Потом Бородин распахнул дверь, заволок обмякшее тело Зеркалова в комнату, закинул дверь на крючок и опустился в полутьме на колени возле трупа, мелко и торопливо закрестился, что-то невнятно шепча неповинующимися губами.
* * *
Весь день труп Терентия Зеркалова пролежал в темном и сыром подвале под огромной опрокинутой кадкой, которую Аниска приготовила для солонины. А следующей ночью Григорий, засунув маленькое, хлипкое тело в мешок, отнес его на берег озера, прикрутил к ногам проволокой пудовый камень и столкнул со скалы в воду.
Несколько дней спустя, когда Аниска копалась на огороде, достал кадку, разбил ее, а обломки сжег в печке.
Глава третья
1
Пожар причинил много вреда локтинской артели. Дотла сгорели два амбара, общественный коровник вместе со скотом, конюшня, дома Андрея Веселова, Тихона Ракитина и еще некоторых колхозников.
— Теперь — труба колхозу, — сказал однажды Григорий Аниске, когда они поехали на луг сметывать в стога накошенное сено. — Куда они без скота?! Люди после пожара сыпют из колхоза, как горох из порванного мешка. Может, бог даст, на будущий год и запашем опять свои земли…
— Зеркалов, говорят, поджег-то…
— Ишь ты, все знаешь! Может, сама видела?
— Не видела… Ты ведь бегал на пожар, не я…
Григорий бросил на нее тревожный взгляд. Но жена спокойно лежала позади него в телеге, высматривая что-то в безоблачном небе. Сказала она это, очевидно, просто так.
— И еще говорят: Андрей стрелял в Зеркалова, ранил его смертельно, — продолжала Аниска.
— Ага, все подробности людям известны, — насмешливо буркнул Григорий.
— Ну, да… Федот Артюхин звонит по селу… Говорит, значит: теперь бояться нечего. Андрей Терешке Зеркалову всадил пулю в самое пузо. Уполз он в лес, да и подох там…
— Ну! И верят ему люди?
— А как же… Верь не верь, но ведь затихло после того… А по деревням, сказывают, поарестовали многих, что вместе с Терентием… — начала было Аниска, но Григорий перебил ее, сказал упрямо, со злостью:
— Федот — дурак. Агитатор с него за колхоз — такой же. Кто его слушать будет…
И примерно через час, когда Аниска давно забыла об этом разговоре, Григорий еще раз вдруг заявил:
— Теперь за колхоз агитируй не агитируй — все зря!
А еще через некоторое время проговорил угрожающе:
— Ты, вижу, брехню всякую слушаешь, трешься черт знает меж кого. С теперешнего дня чтоб из дому ни шагу, потому нечего… Послушаешь еще у меня Федота или кого… на себя пеняй.
Однако колхоз не развалился. В тот же год, еще до снега, отстроили новый скотный двор. Сам Веселов с утра до вечера таскал сырые желтоватые сосновые бревна, показывая пример остальным. Потом уже зимой начали артелью строить дома погоревшим колхозникам. К февралю у всех, кроме председателя, было новое жилье. Первым делом в нем клали печи, а затем уж штукатурили изнутри и белили. Покраску полов оставляли на лето.
Потом быстро, в несколько дней, построили дом и Веселову.
— Смотри-ка! Будто из-под земли избы вырастают! — изумленно покачивал головой Игнат Исаев.
— Миром-то дом поставить — нагнуться да выпрямиться… — рассуждал Кузьма Разинкин. — Чего же тут хитрого? Это в одиночку когда строишься — все жилы надорвешь, потом захлебнешься…
Иные уже поговаривали так:
— А может, оно и вообще в колхозе…
— Чего, чего?
— Ну, как с домами… На своей полосе-то я день и ночь гнусь. А в артели — работа спорей и гулять веселей.
— Так иди, записывайся к Веселову, чем язык трепать при людях.
— Ишь ты, скорый какой. Тут все-таки поразмыслить надо…
И люди размышляли. А поразмыслив, по одному вступали в колхоз.
Григорий настороженно прислушивался к таким разговорам, иногда отваживался вставить: «В колхозе — кто смел, тот два съел. А коль робок да неудал — и одного не достал…» Или: «Из общей колоды свиньи жрут только. Попотел на полосе, зато все, что бог дал, — твое…»
Но Григория почему-то даже единоличники не слушали, поддерживали разговор с ним неохотно и старались как можно быстрей разойтись.
Весной Григорий понял, что напрасно мечтал о бывших своих землях. И по мере того как подсыхали пашни, Бородин мрачнел.
— Черт, ведь опять на камнях сеять придется! Хоть бы лошаденку еще одну — все побольше расковырял бы… Дернуло меня продать коня, про раскулачивание не слышно что-то. Постращали только разговорами.
Поехал по окрестным деревням присмотреть коня, избегая на всякий случай того села, где встретился с Зеркаловым. Знал: купить сейчас лошадь — дело трудное. Разве только у какого-нибудь конокрада. И, осторожно выпытывая у мужиков-единоличников, нашел, кого искал. Но конокрад заломил такую цену, что у Григория екнуло в животе.
Он еще поездил по селам, но безуспешно. Снова отыскал прежнего конокрада.
— Конь-то хоть издалека?
— Может, сблизи… Главное, хозяин уже не объявится.
— Как?
— Он путешествовать уехал, — усмехнулся конокрад.
Еще поколебавшись, Бородин решился. Но тут его ждал новый удар.
Конокрад, взяв пачку денег, полученную когда-то Григорием от Зеркалова, послюнявил толстый палец и начал пересчитывать. Потом вдруг выхватил из пачки одну бумажку, посмотрел на свет… Вытащил вторую, третью… И бросил все деньги прямо в лицо Григорию со словами:
— Поищи дураков в другом месте.
— Ты… ты чего?
— Фальшивые деньги… С ними в нужник разве. Да и то… жесткие больно. А конь хоть краденый, да настоящий… Понял?
Случись сейчас чудо, появись Зеркалов — Бородин обрадовался бы. Принародно, не остерегаясь людей, Григорий схватил бы его намертво за горло, как Лопатина когда-то.
Снова пришлось Бородину пахать, сеять, косить и молотить на одной лошаденке.
2
С каждым месяцем все меньше насчитывалось в Локтях единоличников. Вот уж их осталось, кроме Григория, три человека — Игнат Исаев, Кузьма Разинкин да Демьян Сухов. Собравшись вместе, они что-то горячо обсуждали, ругали кого-то.
Но теперь Григорий не подходил к ним, не вмешивался в споры.
Однажды утром жители Локтей увидели шагающего к конторе Гаврилу Разинкина. Увидели, пожалуй, впервые после того, как он вернулся из тюрьмы, потому что Гаврила никуда не выходил из дома. И сейчас, шагая по улице, сутулился, смотрел в землю, ежился от взглядов встречных колхозников.
Зайдя в контору, он сказал Андрею Веселову:
— Мне одно только слово…
— Говори.
— Поскольку я служил… и сидел… В общем, в колхоз прошусь. Трудом хочу загладить все. А поскольку служил… знаю, не доверяете… хоть временно примите, с испытательным сроком… Отец-то не хочет, так мне что!
Через минуту Гаврила сидел за шатающимся дощатым столом и писал заявление в колхоз.
Отец Гаврилы словно ждал примера сына. На другой же день он побежал к Демьяну Сухову. Через четверть часа они, оба пропахшие потом и вонючим самосадом, сидели в конторе за тем же столом, выводя каракули на тетрадных листках. Игнат Исаев помедлил недели три, походил в одиночестве по своей полосе и остановил однажды на улице Андрея:
— Федот — не пророк, да видно, и в самом деле за большаками жизнь-то, поскольку народ за вами. Али не примете меня теперь в колхоз?
— Почему же не принять? — улыбнулся Веселов. — Мы с радостью, если ты увидел выгоду и с открытым сердцем к нам.
— Кто его знает, Андрей, — чистосердечно признался Игнат. — Оно то открывается, то закрывается. Но ты будь спокоен, я уж говорил как-то, что с пакостью в душе и дня не жил. Закроется — сразу скажу тебе.
Окончательно стало ясно Григорию, что все мечты его о собственном крепком хозяйстве, все думы, все планы ничего не стоят. А ведь жить-то надо. Но как теперь жить?
Ломая голову такими думами, сжав губы, Григорий как-то выжидающе поглядывал на Аниску, будто она вдруг обернется и разом ответит на все его вопросы. Не дождавшись, стал спрашивать ее:
— Что же дальше делать будем?
— Тебе видней… — тихо отвечала она.
Это приводило его в бешенство.
— Видней, видней!.. Скрипишь, как ставня на ветру. Одним звуком…
И сам понимал: не на Аниску злится — на себя, на свое бессилие и растерянность перед чем-то огромным, тяжелым, надвигающимся все ближе…
Однажды Аниска робко проговорила:
— Мои мысли ты давно знаешь… Я бы в колхоз вступила…
— Та-ак… Дура, — спокойно объявил Григорий, сам удивляясь, что Анискины слова не вызывают в нем, как прежде, ни злости, ни раздражения. Он помедлил, но ничего более обидного придумать не мог и повторил: — Дура и есть…
Только на другой день пришло оно, это раздражение. Целую неделю ходил он по комнатам растрепанный, в нижнем белье и ведрами выплескивал желчь в лицо Аниске.
… И еще один год проковырялся Бородин на своем участке.
Теперь даже недавние единоличники подсмеивались над Григорием, говорили почти в глаза:
— Ишь, ты, рак-отшельник… К людям-то только — задом.
— В батьку, кость в кость!..
Осенью Бородина встретил на берегу озера его бывший работник Степан Алабугин и прямо посоветовал:
— Вот что, Григорий Петрович… Один ты в Локтях единоличник. Торчишь ты, как пень на дороге. Не мозоль людям глаза, вступай в колхоз.
— Агитируешь? — прищурился Григорий.
Степан тоже поднял глаза, острые взгляды их скрестились. Так, молча смотрели друг на друга несколько секунд, пока Бородин первый не опустил голову. Опустил он ее как-то тоскливо, обреченно.
— Знаешь, Григорий Петрович, — проговорил Алабугин вместо ответа. — Мы тебя не трогали потому, что…
— Это как понять? — тотчас перебил его Григорий. — Насчет раскулачивания, что ли? Давно ведь слышу разговоры, не глухой. Да у меня, сам знаешь, один дом остался от отца. Больше ничего нет.
— Ты чего кипятишься? Потому и не трогаем, что нет ничего у тебя за душой. Никто о раскулачивании и речи не ведет. А вот дом…
— Поперек горла он вам… Не мытьем, так катаньем хотите дожать меня? Вступи в колхоз — и дом отдай…
— Продай, — спокойно поправил Алабугин. — Мы под контору его используем или под ясли. А себе новый построишь, поменьше.
— Уж лучше отберите, да и дело с концом! — вдруг, не сдержавшись, крикнул Григорий.
— А зачем? — спокойно возразил Алабугин. — Мы хотим по закону. Ты ведь нам не мешал, взаперти сидел все время… Не хочешь — твое дело. Тебе же хуже… хозяин…
Алабугин, не простившись, ушел.
Григорий долго смотрел ему вслед, пытался сообразить, что же хотел сказать Алабугин этим словом: насмешливо намекнул на неудачное хозяйствование последнего единоличника Локтей или… или напомнил ему тот давний день, когда пришел к Бородиным с отцом и Гришка, желая показать себя хозяином, сам нанял Степку в конюхи?..
3
Зима была длинная, вьюжная, беспокойная…
Никогда столько не думал Григорий, как в эту зиму. Что же все-таки делать? Куда податься?
«Не дорога мне с вами», — ответил когда-то, еще во время коммуны, Григорий Тихону Ракитину. А теперь, выходит, волей-неволей дорога. Другого-то пути нет…
К весне он осунулся, похудел, оброс густой рыжеватой щетиной. Утрами, вставая с постели, Григорий долго и надсадно кряхтел, как старик, тяжело ступая, шел на кухню, бросал себе в лицо две-три пригоршни холодной воды, садился за стол и молча ждал, когда возившаяся у плиты Аниска подаст завтрак. Мог сидеть так полчаса, час. А раньше, бывало, не успеет опуститься на стул, как хлестнет ее через всю комнату: «Ну, поворачивайся там живее, корова. Тащи, что есть…»
Раньше они разговаривали мало и редко. Теперь же вообще молчали целыми днями.
Первой не выдержала Аниска, спросила робко, пряча руки под фартуком:
— Заболел, что ли?
Григорий только осмотрел ее медленно, удивленно, с головы до ног, но губ не разжал.
— Сеять-то будем нынче? Ведь пасха проходит уже, — напомнила в другой раз Аниска.
— Отстань, — как-то лениво, беззлобно, безразлично отмахнулся Григорий.
Аниска вздохнула:
— Господи, что за жизнь!
— Именно! — подтвердил Григорий.
Но она не могла понять, что означает это «именно».
А лето пришло засушливое. Скоро наступили жаркие, угнетающие желтым безмолвием дни. Деревня казалась покинутой. Маленькие, ободранные домишки, сложенные из сосновых бревен, потели смолой. Коробились, потрескивая, крыши, уныло торчали в бесцветном небе обваренные зноем тополя. На улицах толстым слоем лежала мягкая, как черная мука, пыль. Она брызгала из-под ног редких прохожих, и седоватая, дымчатая лента долго тянулась следом за ними.
Под стенами домов, в тени, с раскрытыми клювами, лежали распаренные куры. Иногда собака или человек вспугивали их, они ошалело кидались прочь, роняя на ходу перья и хриплые булькающие звуки.
И снова тишина, густая, вязкая, нескончаемая…
В голове Григория Бородина в эти дни копошились все те же мысли:
«Не дорога мне с вами… А куда дорога?»
Ответа не было. Вместо ответа звучал спокойный, даже безразличный голос Степана Алабугина: «Один ты в Локтях единоличник. Торчишь ты, как пень на дороге. Не мозоль людям глаза, вступай в колхоз».
И однажды вечером Бородин очутился возле колхозной конторы. Уходя из дома, не сказал Аниске, куда пойдет, да и сам не думал, что завернет сюда. Переступив порог, быстро обшарил глазами Андрея. Кроме него, в конторе никого не было. Веселов сидел за столом, что-то старательно записывал в тетрадку.
Густые черные волосы свесились ему на лоб, закрывая почти половину лица. Глянув на Бородина, Андрей молча указал на стул: садись, мол, подожди.
Григорий снял свой просаленный на темени картуз, тяжело опустился на стул и стал рассматривать Андрея. Веселов был в простенькой черной рубашке, сквозь расстегнутый ворот виднелась волосатая грудь.
Наконец Веселов кончил писать, положил аккуратно на стол тоненькую ручку, убрал со лба волосы. Но они снова непокорно рассыпались и свесились на лоб.
— Ну? — вопросительно спросил Веселов и в упор посмотрел на Григория.
Глаза его, чуть косящие, темные, словно притягивали к себе Бородина. И Григорий не в силах был отвернуться от скуластого, рябоватого лица Андрея, от его чуть прищуренного жесткого взгляда.
— Пришел вот… Забудь обиды, Андрей, чего не бывает, — проговорил Григорий, через силу выдавливая из себя слова по одному, по два.
— Какие обиды? Не помню…
Голос у Веселова был словно простуженный.
— Будто бы?!
Бородин наконец отвел в сторону маленькие, кругловатые глаза. Андрей пожал плечами, наклонил голову, но тотчас поднял ее и спросил:
— В колхоз, что ли, решил вступить?
— А что мне делать окромя остается? — угрюмо, с нехорошей, вызывающей усмешкой спросил Бородин. И, по-прежнему не глядя на Веселова, добавил: — Поживем, колхозной жизни пожуем. Разжеванное, может, и проглотим, не подавимся…
И пожалел, что сказал. Как выстрел, хлопнул по рассохнувшемуся столу мозолистый кулак Андрея. Но сам он сидел не шевелясь, не произнося ни слова. Только покрасневшее лицо, бешенством сверкающие глаза да мелко-мелко вздрагивающие пальцы лежащих на столе рук говорили, что внутри у Андрея бушует пламя. Григорий Бородин побледнел и заискивающе растянул губы:
— Хе-хе… А что я сказал? Я ничего… С женой ведь вступаю, со всем хозяйством…
Андрей встал и повернулся к нему спиной. Долго смотрел в окно на черную гладь озера.
— Плевок зачем сапогом растирают, знаешь? — спросил вдруг Андрей, не меняя позы. И резко обернулся: — Вот и тебя надо бы! Чтоб не гадил землю…
— Ты готов растереть, знаю, — тихо проговорил Григорий и ощутил подкатившуюся к сердцу прежнюю жгучую ненависть к этому низенькому, широкоплечему человеку, который так упорно стоит на земле, точно слился с нею.
Но Андрей уже окончательно взял себя в руки. Он странно как-то усмехнулся, сел на свое место и задумчиво произнес:
— Вот что, Бородин… Тебя, может, не только в колхоз — вообще на землю не надо бы пускать.
— На землю не пускать? Хе-хе… Как говорится, точит зуд, да не берет зуб, — огрызнулся Бородин.
Но Веселов продолжал, не обращая внимания на его слова:
— Хочешь — подавай заявление в колхоз, разберем на собрании. Может, еще человеком станешь. Не хочешь — катись из деревни к чертовой матери. Но предупреждаю: заметим в тебе душок какой — не обессудь… Конец везде бывает. А заметим сразу… если что! Живи и помни: вижу я тебя насквозь. Хоть ты и из бывших бедняков, да с тех пор, как отец твой… нежданно-негаданно в богачи выскочил… с тех пор тебя по сей день старый мир в клещах держит…
— Все, что ли? — спросил Бородин, хотя и без того догадывался, что больше Андрей не скажет ни слова.
— Все.
Бородин нахлобучил свой картуз.
— Вот и поразговаривали…
Еще помедлил, встал и боком, словно ничего не видя перед собой, вышел.
* * *
Принимали Григория Бородина в колхоз недели через три. Долго обсуждали его прошлое.
— Кто он? Кулаком нельзя назвать вроде…
— Опять же работников имел… Вот он, Степан-то Алабугин сидит…
— А домище, домище-то!
— Это верно, начал окулачиваться. Батька уже лавку открыть хотел…
— А что он сам скажет?
Григорий медленно встал, мял в руках картуз.
— Верно, имели работника. Да разве я был хозяин? Я за батькино хозяйство не ответчик. Дом двухэтажный, про который тут… продаю колхозу. Мне зачем такой? Себе другой построю, поменьше. Сам я, знаете, к Колчаку не пошел, против Советской власти не боролся…
— Однако ж и не помогал Советской власти…
— А к Андрею кто с ножом ломился?
Григорий, вытирая лоб руками, отвечал:
— Не помогал, правильно… По темноте еще думал: а черт ее знает, что за власть? Теперь понял, вижу — крестьянская власть… А к Андрею… Отстегал он плетью меня раз. Сам помнит. Тут дело такое… Из-за девки столкнулись мы… Ну, по пьяному делу отомстить захотелось. Прости уж, Андрей Иванович…
Говорил Григорий медленно, тягуче, жалобно. Походил он на человека забитого, незаслуженно обиженного кем-то.
А сердце все-таки замирало: вдруг да сейчас кто-нибудь спросит: «А зачем ночью в Гнилое болото ходил? Расскажи, как поджигал дом Веселова…» Понимал Григорий, что если бы знал кто об этом, то давно сообщил бы куда следует. Но все же не мог подавить страха.
И еще одно чувство испытывал Бородин: казалось ему, что снова стоит он на коленях перед Дуняшкой, унижаясь, вымаливает какой-то милости… Глаза его блуждали по небольшому помещению, битком набитому колхозниками, на секунду остановились на Дуняшке, сидевшей у самого окна. Но и за секунду он успел рассмотреть ее всю: легкий платок, упавший с головы назад, гладко расчесанные на прямой пробор волосы, сероватые, в длинных ресницах, спокойные глаза, девичьи еще, припухшие губы, небольшая грудь, туго обтянутая ситцевым, в крапинку, платьем…
Дуняша, почувствовав на себе взгляд Григория, приподняла голову. Бородин тотчас опустил глаза вниз. «Ладно, ваш верх сейчас, — думал он, рассматривая картуз. — Повернись бы судьба обратно, припомнил бы тебе и то унижение… возле избушки твоей, и это вот, сегодняшнее… Сполна отвел бы душу…»
Долго еще толковали колхозники. И решили: принять, посмотреть, как будет работать. Сын за отца не ответчик.
Только два человека не вмешивались в споры: Андрей — председатель колхоза, и Евдокия Веселова — его жена.
4
Бородин отлично понимал, на каких условиях приняли его в колхоз. Работать начал прилежно. Немного сторонились его попервоначалу односельчане, а потом, в труде и заботах, привыкли. За давностью лет забывалось прошлое. Да и кому вспоминать его охота?
Первым, с кем сблизился Григорий за эти годы, был Ванька Бутылкин, с которым Бородины жили когда-то по соседству. Сейчас Бутылкин превратился в вертлявого, невысокого роста парня с выщербленными зубами. Однажды им пришлось пахать вместе под озимую рожь. Присев в борозде отдохнуть, Бутылкин заговорил, поглядывая на лошадей:
— Что-то свялый ты, Григорий… Вроде, знаешь, надломленной ветки. Совсем не оторвали, висит на дереве, а листья свернулись, почернели…
— Тебе-то что? Помалкивай, — огрызнулся Григорий.
Иван Бутылкин, не обидевшись, продолжал:
— Я-то понимаю, каково тебе… Тоже ведь — много ли, мало ли, а была и у нас своя землица. Теперь же ковыряй вот… неведомо чью. Батя мой, кабы не замерз по пьянке, все равно не пережил бы такого… — И Бутылкин сплюнул в развороченную плугом, свежо пахнущую землю.
Григорий, помолчав, сказал:
— А что сделаешь, когда… До последнего и держался… Кабы все так, как я…
— Кабы все, то конечно… конечно, — закивал головой Бутылкин.
Зимой Бутылкину и Григорию пришлось вместе возить сено к скотному двору. Бутылкин соскочил со своего воза и, забежав вперед, забрался к Бородину.
— Чудно! — проговорил он, поглядывая назад, где привычно, не отставая от первого воза, плелась, поматывая головой, его лошадь.
— Что тебе чудно?
— Да вот… делаем вроде то же самое, что и до колхоза. Пашем, косим, сено возим… А все будто… Черт его знает, на кого работаем…
И опять Григорий ответил, как в первый раз:
— Что ж сделаешь, коли… Э-э, да что тут придумаешь! — Покрутив бичом, он хлестнул в сердцах лошадь.
— Придумаешь что? — переспросил Бутылкин. — Хе-хе… Подожди, обглядимся…
— Э-э, брось ты, — и Григорий выругался. — И глядеть нечего.
Бутылкин вскинул глаза на Бородина, но ничего не ответил. Вынул из широченного кармана солдатскую алюминиевую фляжку.
— Хошь? — протянул Григорию фляжку. — Первач, светленький, из колхозной пшеницы…
— Пошел ты, — отмахнулся Григорий.
Бутылкин сделал несколько глотков, спустил фляжку обратно в карман.
— Переводишь добро на дерьмо, — проговорил Григорий. — Жрать-то что год будешь?
— Проживем как-нибудь, — откликнулся Бутылкин. — Ежели рассудить, неправильно ты говоришь, что выходов нету. Ты думай: всякое людье да зверь на земле живет, птахи — в воздухе, рыбешки — в воде. Даже под землей — кроты да червяк. Тоже живность ведь. А?
— Ну?
— Я к тому, что везде приспособиться можно…
— Андрюха тебе приспособится! — угрюмо проговорил Бородин, догадавшись, к чему клонит Бутылкин. — Я пока в тюрьму не хочу. У меня скоро…
И Григорий умолк на полуслове. Он хотел сказать, что Аниска наконец забеременела, что скоро у него будет сын, но сдержался. Однако Бутылкин и сам догадался.
— Знаю. Сына ждешь. А вдруг возьмет да и народится девка?
— Не ворожи! — резко оборвал его Бородин.
Когда привезли сено и скидали на крышу коровника, Бородин помягчел, проговорил:
— Ты вот что, Иван… чем тянуть так вот, из фляжки, пришел бы лучше когда ко мне вечерком. Один я все… Посидели бы.
— Об чем разговор! — с готовностью откликнулся тот.
Этим же вечером Бутылкин пришел к Бородину, привел с собой еще двух человек: маленького, плотно сбитого Егора Тушкова и горбившегося, широкоплечего, огромного роста казаха Мусу Амонжолова, год назад приехавшего в Локти.
— Вот, Григорий Петрович, мои лучшие друзья. Гошку Тушкова уважаю за то, что может одним махом, без передышки, фляжку горячего первача высосать.
— Не хитрое дело, — усмехнулся Егор при этих словах.
— А Муса, — продолжал Бутылкин, — сподручен тем, что молчит больше. Только вот уезжать собирается. Он все ищет, где лучше.
Амонжолов кивнул головой в знак согласия и сказал:
— Собираемся. А может, останусь. Больно друг хорош Ванька — прямо черт!
Это «прямо черт» у Мусы Амонжолова выражало высшую степень восхищения.
— И вообще можешь, Григорий Петрович, на всех нас, как на самого себя, рассчитывать, — закончил Бутылкин.
5
Наконец Аниска родила. И родила сына, как хотел Григорий. Он назвал его Петром, в честь отца.
По случаю такого события два дня дрожал новый, недавно отстроенный бревенчатый дом Бородина. Перепившихся Бутылкина, Тушкова и Амонжолова приводили в чувство, окатывая холодной водой из Алакуля.
Григорий, полупьяный, лоснящийся от пота, несколько раз заходил в соседнюю комнатушку, где лежала ослабевшая Аниска, отбирал младенца, не обращая внимания на ее умоляющие стоны, выносил показывать его гостям.
— Вот он, разбойник… Ишь ты, Анисьин сын, а! — кричал Григорий Бородин, поднося мальчика к пышущей жаром и керосиновой вонью десятилинейной лампе. — Не реви, Петруха… Нищие не всегда родят нищих… поскольку ты Бородин все-таки.
Гости толпились вокруг Григория, кричали, не слушая того, что он говорит. Неуемные танцоры расшатали половицы, начисто сняли с них всю краску.
Через несколько недель поправившаяся Аниска старательно закрашивала выщербленные доски.
После этого Бородины зажили тихо и мирно.
От других колхозников Григорий отличался разве только молчаливостью. Ни от какой работы не отказывался. Делал все не торопясь, аккуратно, добросовестно. Но когда осенью надо было получать на трудодни первый хлеб, заработанный в колхозе, сам не пошел, а послал жену.
Следующим летом Григорий купил граммофон, по вечерам выставлял его огромную трубу в окно и проигрывал все пластинки подряд, начиная и кончая всегда почему-то одним и тем же старинным романсом, который уныло тянула надтреснутым голосом неведомая певица, — этикетка на пластинке была стерта. Над Алакулем плакал и жаловался кому-то сиплый голос на то, что жизнь разбита, а мечты умерли.
Потом Григорий убирал граммофон на задернутую цветастой ситцевой занавеской полку под самым потолком, тщательно расчесывал на обе стороны голову, надевал синюю сатиновую рубаху и дотемна сидел у окна, смотрел, как наплывает с противоположного конца озера чернота.
Иногда приходил к нему Иван Бутылкин и выразительно поглядывал на шкаф, где стояла обычно водка, нюхал воздух острым хрящеватым носом и крякал. Но Григорий будто не замечал ничего. Тогда Бутылкин говорил осторожно:
— Ить думай не думай, Григорий Петрович, а колхоз… навечно теперь, должно. Старое чего жалеть? Новое надо обнюхать, да и… Особенно, коли друг за дружку держаться: ты, да я, да Муса с Тушковым. Ребятки надежные.
— Топай отсюда, — угрюмо бросал через плечо Бородин и добавлял тише: — Не до тебя…
Новый дом Бородин выстроил себе немножко на отшибе, на самом берегу озера. Здесь же, почти на краю деревни, стояла изба и Андрея Веселова. Григорию очень не хотелось такого соседства, но уж больно красивое было место. И Григорий махнул на Веселова рукой.
Однако дверь прорубил все-таки в противоположную сторону от Веселовых и от всей деревни.
— Чего ты от людей отворачиваешься? — спросил однажды Тихон Ракитин, когда им пришлось вместе работать на сенокосе.
— Мне что, детей с ними крестить? — вопросом на вопрос ответил Григорий. — Построился как удобней. Может, и тут вашего совета али разрешения спросить надо было?
— Ну и злой ты…
— Коли пес злой, да не кусает, на цепь его еще не садят. Что тебе надо в конце концов? — вскипел Григорий. — Бывший свой дом продал вам, в колхоз вступил, работаю не хуже других. А? Нет, скажешь?
— Не хуже, — согласился Ракитин.
— Ну и отстаньте от меня. Отстаньте, ради бога! — выкрикнул Григорий. — Коли есть во мне лишнее зло — на бабе своей сорву. Не лезь под горячую руку…
Ракитин только пожал плечами.
Иногда вдруг ни с того ни с сего вспоминался Григорию бывший ссыльный Федор Семенов. Бородин пытался отогнать это видение, пытался думать о чем-то другом, а Семенов все стоял в своей кожанке перед глазами, хмуро смотрел на него из-под лохматых бровей, прожигал глазами. И какая-то дрожь брала Григория, сердце сжимал холодный страх, ноги подгибались. Ему вдруг начинало казаться, что Семенов в самом деле в деревне, что вот сейчас он шагнет к нему и спросит. «А-а, это ты?!»
Семенов преследовал Григория даже во сне. А утром Бородин долго боялся выглянуть на улицу.
Наконец, не в силах больше терпеть это наваждение, Григорий осторожно спросил при случае у того же Ракитина:
— А этот… ссыльный… с бровями, Семенов, что ли? Который уж год не видно его…
— Он учиться уехал. В Москву.
— А-а…
У Бородина немного отлегло от сердца.
Когда Григорию случалось бывать на левом берегу изломанной речушки, протекающей по деревне, он окидывал взглядом пшеничное поле от давно засохшей сосны до груды белых ноздреватых камней на берегу. Здесь, между этих вех, значились когда-то пахотные земли Бородиных. А где их точные границы, поди-ка, узнай теперь! Далеко раздвинулись леса, открыв небо, хлынуло на землю море света. Все заросло кругом колхозным хлебом, навеки исчезла межа.
Казалось Григорию, что когда-то он совершил крупную ошибку… Сначала чувствовал Григорий в сердце ноющую тоску, а потом вдруг то, что неясно бродило в нем, начинало закипать. Но он пугался этого и уходил куда-нибудь.
В одну из таких минут, бродя по лесу, встретил неожиданно Евдокию Веселову. Она шла по мягкой от пыли лесной дороге, прижимая к себе завернутую в тонкое одеяльце шестимесячную дочку. Когда Григорий вышел ей навстречу из-под влажной сосновой прохлады, жена Андрея слабо вскрикнула от неожиданности и тотчас остановилась.
— Ну, здравствуй… Евдокия Спиридоновна, — начал Григорий, но осекся под ее взглядом.
Что он, этот взгляд, выражал, Григорий не мог определить, но мелькнула мысль: «Подойди-ка — зубами изорвет, из последних сил загрызет.» Потом расслабленно засмеялся, заговорил, не трогаясь с места:
— Чего пугливой козой смотришь? Того и гляди, в кусты порскнешь. — И замолчал, не зная, что говорить дальше. Зачем вышел к ней навстречу — тоже неизвестно.
Евдокия Веселова не побежала в кусты, сделала только шаг в сторону, ожидая, видимо, когда он даст ей дорогу. Голова ее, повязанная пестрым платком, очутилась в густой тени. Григорий видел теперь, как из-под нависших тяжелых хвойных лап настороженно поблескивали ее глаза.
— Откуда идешь-то? — спросил он и, уловив сквозь сосновый настой запах медикаментов, ответил сам себе. — Из больницы, стало быть… Что, дочка болеет?
Евдокия не отвечала. Светящиеся в полумраке ее глаза еле заметно дрогнули. Григорий увидел это и зачем-то стал садиться на траву у обочины дороги И в тот же миг ощутил, как разливается внутри, ползет по всему телу что-то горячее, обжигающее, словно все это было разлито по земле и тотчас пропитало Григория, как вода кусок соли, едва он коснулся ее. Бородин вскочил и хотел со всей силой, на какую только был способен, закричать ей прямо в лицо: «Чтоб вы подохли все!.. И дочка, и ты, и Андрей…» Но язык не повиновался: прямо на него стремительной, упругой походкой, прижимая к груди ребенка, шла Евдокия Веселова.
Григорий Бородин невольно посторонился, дал ей дорогу..
Часть третья
Глава первая
1
Время обтачивает людей, как вода прибрежные камни. На первый взгляд голыши, обильно усыпавшие берег, вроде одинаковые и по цвету и по форме. А расколешь камень, другой, третий — и видишь: до чего же они разные! У одного по всему сколу поблескивают на солнце, горят и переливаются крупные, золотисто-голубоватые блестки. Другой тускло и маслянисто отсвечивает срезанным, как по линейке, боком. А третий, оказывается, был насквозь изъеден какой-то буроватой ржавчиной: от легкого удара он рассыпается на несколько частей, выбросив, как пересохший табачный гриб, облачко пыли. Посмотришь на обломки такого камня, подивишься: внутри его жили черви, что ли! И с облегчением отбросишь подальше в воду…
* * *
Шел тысяча девятьсот сороковой год.
В Локтях и вокруг Локтей изменилось многое. Недалеко от деревни провели железную дорогу, вдоль которой возникли новые поселки. День и ночь над Локтями, над озером разносились паровозные гудки. А зимой, особенно в тихие морозные ночи, слышно было, как на стыках рельсов стучат колеса проходящих поездов.
Леса вокруг Локтей заметно поредели. Частью они были вырублены во время строительства железной дороги, частью выкорчеваны колхозниками, а земли превращены в пашни.
Заметно разрослись, расстроились в обе стороны по берегу озера и сами Локти. В летние солнечные дни, особенно после дождя, деревня весело поблескивала красными, зелеными, коричневыми железными крышами домов. Главная улица, упирающаяся в озеро, сделалась уже — то ли от могуче разросшихся, в два обхвата, тополей, которыми была засажена, то ли оттого, что никогда не пустовала. Затененная от зноя деревьями, она всегда привлекала пешеходов. А вечерами на улицу выходили прогуляться по холодку старики, высыпала со смехом молодежь. И смех этот не затихал долго-долго, до тех пор, пока не начинали меркнуть звезды.
На месте сожженного Зеркаловым первого общественного коровника построили деревянный скотный двор. Он стоит и до сих пор. А рядом сложили из красного кирпича и бутового камня еще несколько обширных хозяйственных построек, крытых шифером. Позади них возвели высокую и остроконечную силосную башню. В непогожие осенние дни, когда грязноватые облака плавают над бором, задевая верхушки сосен, башня эта кажется особенно высокой, уходящей железной крышей в самое небо.
Изменились и люди. Голова Андрея Веселова чуть-чуть засеребрилась на висках. Но это, очевидно, не от старости, а от постоянных председательских забот.
Тихон Ракитин стал шире в плечах, красный лоб его изрезали новые глубокие морщины, отчего выглядел он всегда суровым и нахмуренным. Как и все люди, обладающие большой физической силой, он ходил осторожно, словно боялся задеть что-нибудь, был неуклюж, неповоротлив. С самого дня организации колхоза он работал в животноводстве. Сначала пас скот, потом заведовал фермой.
Игнат Исаев, Кузьма Разинкин и Демьян Сухов, каждому из которых во время коллективизации было под пятьдесят, сейчас превратились в стариков. Вступив в колхоз одними из последних, они все время как-то жались друг к другу. И сейчас Кузьма Разинкин и Демьян Сухов почти каждый вечер ковыляли через дорогу к Игнату Исаеву, который, похоронив старуху, жил в одиночестве на самом конце главной улицы. Вытащив из дома стулья, они садились возле окон под деревьями и, опираясь руками на поставленные между ног костыли, слушали песни молодежи, смех. Игнат Исаев, из всех троих казавшийся самым дряхлым и старым, всегда спрашивал об одном и том же:
— Как, Кузьма Митрич, Гаврила твой?
Сын Разинкина, Гаврила, служивший у колчаковцев вместе с младшим Исаевым, не только выдержал «испытательный срок», о котором просил Андрея при вступлении в колхоз, но и «перевыдержал», как шутил иногда Веселов. Гаврила стал одним из лучших работников в колхозе.
— А что ему — бугай бугаем ходит, — отвечал Кузьма на вопрос Исаева. — Нынче собирается на тракториста ехать учиться.
Игнат тряс седой головой и старался спрятать от друзей скупые старческие слезы.
— И мой сынок сейчас бы… Попутал тогда нечистый меня, дурака, к Зеркалову его… Не шел ведь он, как знал, что сгинет там… — Уже не стыдясь, Исаев вытирал глаза кривым пальцем и, помолчав, говорил: — Кто его знал, какую жизнь отстаивать… Эвон поют…
Послушав, он обращался к Демьяну Сухову:
— Вот ты, Демьяныч, счастливый все-таки — племяша имеешь. В какой он класс перешел, Никита-то твой, в седьмой али в восьмой?
Демьян Сухов отвечал, что в восьмой, что нынче, приехав из районной десятилетки после экзаменов, отправился на луга помогать колхозникам косить сено. Исаев кивал голевой и опять начинал: «А мой сынок…»
Он считал себя виновным в смерти сына и не мог простить себе этого.
Бывший работник Бородиных Степан Алабугин, вымахавший, всем на удивление, в двухметрового детину, года три назад определился в ученье к кузнецу Павлу Туманову. Скоро он освоил кузнечное дело не хуже учителя, женился и в одно лето построил себе огромный крестовый дом. Толстенные бревна, которые не под силу были двоим-троим, Степан шутя взваливал себе на плечи и нес куда надо.
— Смотри, надорвешься. На ночь-то оставь силенок, а то женка молодая обидится, — скалили зубы мужики.
Степан только улыбался в ответ, вытирая рукавом пот с лица, и ласково оглядывал красневшую жену.
Изменился за эти годы и Федот Артюхин, стал более молчаливым, спокойным, хотя по-прежнему был трусоват.
Бутылкин, его друзья Тушков и Амонжолов окончательно спились. Андрей Веселов измучился с ними, уговаривал, грозил, но ничего не помогало.
— Что ты на нас? — отбивался за всех Бутылкин. — Ну, выпиваем иногда, в свободное от трудов время. На свои пьем, не занимаем у тебя…
— Воруете, дьяволы, хлеб! — стучал кулаком по столу Веселов, выведенный из терпения.
— Но, но, ты полегче! — огрызался Бутылкин. — Я те оскорблю, я оскорблю!.. Ты поймай сперва, поймай…
Поймать их действительно пока не удавалось.
Изменился и Григорий, постарел, погрузнел. Рыхлые покатые плечи его отвисли еще более, при ходьбе он немного горбился, будто трудно было ему нести собственное тело. Лицо заострилось, узкий лоб стал выдаваться немного вперед. Маленький нос, толстый у переносицы, тоже чуть-чуть закруглился, напоминая воробьиный клюв. Вообще, во всем облике Бородина было что-то птичье.
Анисья заметно пополнела. Из худенькой и гибкой девушки превратилась в невысокую стройную женщину с грустным бледноватым лицом. Она говорила немного и негромко, никогда не суетилась, ходила по комнатам и вокруг дома неторопливо и мягко. В больших синих, все еще ясных глазах ее по-прежнему светился пугливый огонек.
По-прежнему Григорий Бородин жил замкнуто, незаметно, обособленно от других. Ни от какой работы не отказывался, но и вперед не лез. Встречаясь с людьми, больше слушал, щурил глаза, будто хотел спрятать их куда-то. Ни с кем особой дружбы не завязывал. Анисья попыталась как-то завести знакомство с женой Ракитина, стала бегать утрами то за дрожжами, то за какой-нибудь посудиной. Узнав об этом, Григорий зыкнул однажды на жену так, что она побледнела.
— Ты что это?! С голоду буду подыхать, а не пойду к ним, не буду кланяться. И детям закажу!.. Смотри у меня!.. — Он угрожающе сжал кулаки.
Даже если Бутылкин завертывал к Бородиным, Григорий встречал его холодноватым, удивленным взглядом, будто спрашивал: «Зачем пришел? Кто звал? Что надо?» Бутылкин чувствовал, что ему не рады, мялся у порога.
— Живешь? — спрашивал иногда Григорий насмешливо.
— Живем… Чего нам.
— Тушков-то твой долго еще на шоферских курсах проваландается?
— Поучится еще. А что?
— Стало быть, не с кем воровать теперь тебе? Или — с Амонжоловым на пару?
— Но, но, Григорь Петрович! Что несешь?
— Ну а в тюрьму если угодишь? Не боишься? — допытывался Григорий, не обращая внимания на его восклицания.
Бутылкин отшучивался и спешил убраться. Но однажды, когда зашел примерно такой же разговор, Бутылкин, рассердившись, выпалил:
— От тюрьмы да от сумы не зарекайся, Григорий Петрович. Уж не тебе бы говорить…
— Это как понять? — насторожился Бородин.
— А так… Кого по лапам-то стукнули, а потом и дом, считай, отобрали? Кого по миру пустили? К нам бы тебе держаться поближе. А то ведь… как сказать… можем и помочь, можем и старое вспомнить. Дом-то, он на какие шиши…
Бутылкин не договорил. Григорий в два прыжка очутился рядом, схватил его цепкими клешнятьши руками, рывком притянул к своему исказившемуся лицу и секунды три сверлил маленькими желтовато горящими глазами. Бутылкин от страха шевелил беззвучно толстыми губами.
Потом Григорий толкнул ногой дверь и, ни слова не говоря, выбросил Бутылкина за порог.
— Вон как — раздался в тот же миг чей-то голос возле дома. — Это что же, всех гостей отсюда так вежливо выпроваживают?
Григорий не тронулся с места. Только нижняя челюсть его дрогнула и стала медленно отваливаться, как это бывало с его отцом в минуты внезапного потрясения…
В комнату, нагнув по привычке в дверях голову, входил Андрей Веселов.
— Здравствуй, Григорий, — проговорил он и, не дождавшись ответа, усмехнулся. — Не ждал меня, вижу. Я, знаешь, шел мимо и… зашел вот. Извини уж…
— Что же… Проходи тогда, — вымолвил Бородин.
Веселов сел на стул, снял фуражку и положил ее себе на колени.
— За что же ты Бутылкина так?
— Дом мой, кого хочу — пущу, а хочу — выброшу… — угрюмо произнес Григорий.
Веселов посмотрел на него прищуренными глазами, точно хотел просмотреть насквозь.
— Чего взглядом, как ножом, пыряешь?..
— Хочу вот рассмотреть тебя наконец, узнать, что ты за человек, — медленно проговорил Веселов.
— Нечего рассматривать меня, — зло ответил Бородин.
— Да ведь живем вместе, Григории, в одном селе…
— Приходится.
Андрей чувствовал, как растет у него отвращение к этому человеку с длинными руками, с маленькими, глубоко посаженными глазами, вскипает злоба. Но он сдерживал себя.
— Послушай, Григорий, — продолжал Веселов. — Сколько лет прошло, а ты живешь, как отшельник, сторонишься людей. Давай все-таки поговорим начистоту. На кого ты обижаешься? Чем недоволен? Чего тебе не хватает?
— Ишь ты! Тебя не хватало мне только…
— Григорий…
— Чего Григорий?! — Бородин встал. — Катись-ка отседова вслед за Бутылкиным. Жил без тебя и еще проживу. Руководи себе своим колхозом.
— Это не только мой колхоз, Григорий. Он и твой, и Тихона Ракитина, и Федота… — глухо сказал Веселов, бледнея, из последних сил сдерживая себя.
— Мой?! — переспросил Бородин и, не вытерпев, крикнул: — Да на черта он мне сдался?!
— Тогда зачем же вступал? Ведь сам пришел в контору тогда…
— От черта хоть есть молитва, от собаки палка, а от колхоза…
Веселов резко поднялся, но не успел сделать и шага, как Григорий Бородин подскочил к нему и закричал, обдавая лицо горячим дыханием:
— Потому и вступил… Напросился — так слушай… Что? Убери свои кулаки, не дрожи ими перед моей мордой… Спасибо, что пришел, — с глазу на глаз давно хотел тебе все это высказать… А я работаю не хуже других, вреда никакого колхозу не приношу, зерно, как Ванька Бутылкин, не ворую… И ничего не сделаешь ты со мной, хоть и председатель, из колхоза не выгонишь, коли сам не захочу уйти. Руки коротки. Черней работу не дашь. И… и оставь ты меня в покое, ради бога…
Он задыхался, зрачки маленьких глаз его расширились, правое веко подрагивало…
Вскоре съездил Григорий в районный центр. В Локти вернулся ночью. Анисья кинулась было собирать на стол, но Григорий крикнул ей в кухню:
— Лежи. Где молоко?
— Где ему быть? В погребе, на льду…
Григорий сходил в погреб. Потом Анисья слышала, как он долго возился с кем-то в комнате, гремел в буфете посудой.
Утром она увидела, что по комнате, тыкаясь мордой в ножки стола и стульев, бегает, переваливаясь на толстых кривых лапах, серый щенок. В углу стояла тарелка с остатками молока, крошками хлеба.
— Неужели за собачонкой в такую даль ездил? — спросила она.
— Ну да. Еле-еле нашел. Чистокровная овчарка, — с готовностью объяснил Григорий. И добавил: — Дерут, дьяволы, за слепых щенят по пятнадцать рублей. А за эту суку двадцатку отвалил.
— Да для чего она тебе?
В глазах Григория вдруг вспыхнули и потухли колючие искры:
— Чтобы нищих не пускала в дом.
Вскоре Григорий снес еще вполне прочную ограду вокруг дома и поставил глухой забор из сосновых досок. Под крыльцом сделал конуру, выстлал ее принесенным с болота мхом.
Кормить собаку жене Григорий не разрешал. Всегда сам носил еду и, пока щенок ел, сидел возле, поглаживая, что-то говорил…
Через полгода щенок, когда Анисья проходила мимо, скалил острые желтоватые зубы, угрожающе рычал…
2
Там, где построил дом Григорий Бородин, отлогий берег озера усыпан крупным, искрящимся на солнце песком. Это любимое место игр локтинских ребятишек.
Чаще всего здесь можно было видеть вихрастого Петьку Бородина и маленькую голубоглазую Поленьку Веселову. Загорелые, они с утра до вечера возились в песке, строили пирамиды и целые города. Вечерами, когда крепко настоянный на хвое воздух делался прохладным, а от берегов речушки сильно тянуло запахом мяты, над Локтями гудели комары. Они целыми тучами появлялись и разгоняли ребят по домам, едва солнце бесшумно тонуло в лесной чащобе.
— Там, в лесу, темно и сыро — самое место для комаров. Там они и живут, — пояснил однажды Петька. Несколько минут подумал и добавил: — А солнышко спустилось туда (Петька махнул рукой) и выгнало их своим жаром.
Петька порылся немного в не успевшем остынуть еще после июльского зноя песке, поднял на Поленьку темноватые глаза, обиженно скривил розовые губы:
— Ты что, не веришь? Солнышко-то — оно горячее-прегорячее…
— Я верю, — убеждающе проговорила Поленька, заглядывая ему в лицо.
— А днем солнышко обратно загоняет их в темноту, — начал было Петька, но закончить не успел. Подошел отец и больно стегнул его по спине тонким прутиком.
— Марш домой, шпингалет! — сердито проговорил Григорий Бородин. — Ну-ка, ну-ка, посмей у меня заплакать! Вот прут…
Петька дернул губами, вытер рукавом нос, но слезы сдержал.
— Чего дерешься? — спросил он только, скосив глаза на дрожащий в отцовской руке прут. В голосе его звучала обида и удивление.
— Иди, иди, дома разъясню ремнем, — пообещал отец.
— Не кричи… Приду сам, если захочу, — упрямо заявил Петька.
Григорий шевельнул губами и удивленно поднял лохматые брови:
— Ах ты, стервец!..
Прут свистнул на этот раз коротко и пронзительно, и на голые ноги Петьки будто кто плеснул горячую струйку воды. Но и на этот раз Петька не заплакал. Вместо него заревела Поленька, а он посмотрел на красную полоску на ногах, потом стряхнул с рубахи песок, повернулся и пошел домой впереди отца. Поленька в слезах глядела им вслед.
На другой день она напрасно ждала Петьку. Через неделю встретила его за выгоном, хотела спросить, почему он не приходит играть. Но Петька сам подошел к ней и сказал, опустив стриженую голову:
— Мне отец не велит к тебе ходить.
— Почему? — в голубых глазах девочки было крайнее удивление.
— Не знаю, — тихо отозвался Петька. — Он сильно ругался.
— И ремнем… бил?
— Говорит, еще будешь водиться с ней — отдеру…
— Я сама… я сама к тебе приду завтра, ладно? — проговорила она, уверенная, что в этом случае никакой вины Петьки перед отцом не будет.
— Не надо, — еле слышно отказался Петька. — Я сам приду к тебе… когда-нибудь. Я что? Я не боюсь ремня…
Петька действительно приходил к ней несколько раз. Но долго не задерживался. Дружба их постепенно ослабевала.
Как-то Григорий Бородин снова застал их на песке, тут же надавал Петьке подзатыльников и пригрозил Поленьке. Что сделал отец с ним дома, Поленька не знала. Только Петьку не видела больше до следующей весны.
А весна была холодная, дождливая. В начале мая выпал снег. В этот же день он и растаял, зато почти до самого июня дули сильные ветры, гоня по озеру огромные, в белых лохмотьях волны.
Наконец проглянуло солнце, высушило песок. Но лишь в середине июня пришло в Локти настоящее летнее тепло.
Дети опять встретились на берегу. Только Петька часто поглядывал в сторону своего дома и наконец проговорил виновато:
— Мне домой надо. А то придет он скоро…
Поленька знала, о ком говорит Петька, и молчала.
3
В это солнечное тихое утро Андрей Веселов, как обычно, появился в конторе, где уже толпились колхозники, собираясь на прополку посевов. Отправив людей на работу, Андрей пошел на конюшню, попросил конюха Авдея Калугина, того самого, которого выпороли когда-то колчаковцы, запрягать коня.
— Далече? — строго спросил старый Авдей. Будь то председатель колхоза или кто другой, Авдей должен был знать, куда поедут на его лошади (всех колхозных коней он считал своими), долго ли проездят.
— Надо глянуть, подошли ли травы на лугах.
Авдей стал запрягать рослого, гладкого жеребца, в сотый, в тысячный раз наказывая, чтоб не гнал без надобности председатель коня, чтоб обязательно накормил его на лугу да привез бы оттуда свежей травки на ночь.
— Вот я литовочку приторочу тебе к ходку. Слышь-ка? Легонькая, как вода. Вчера сам отбил ее.
Садясь в ходок, Веселов увидел бегущих к нему людей. Впереди его жена, заплаканная, с непокрытой головой.
Позади всех ковылял, опираясь на палку, дед Игнат Исаев.
«Что еще случилось?» — беспокойно подумал Андрей и спрыгнул с ходка на землю.
Подбежав к мужу, Евдокия ткнулась ему в плечо. Колхозники, взволнованные и напуганные чем-то, толпились вокруг, не решаясь произнести ни слова.
— Да что с вами? — сердясь, воскликнул Андрей. — Говорите!
Евдокия оторвалась от мужа, подняла голову с полными слез глазами:
— Я приемник включила… Бомбят города наши… Война ведь…
В ту же секунду заговорили все разом:
— Господи! Пожить спокойно не дадут…
— Да где она, война-то? Далеко от наших краев или близко?
Кто-то заголосил на всю деревню.
— Да тихо вы, спокойно! — громко крикнул Веселов. — Без паники чтоб… Все на работу по своим местам. Поеду в район, узнаю…
* * *
… Другой, четко размеренной жизнью жила теперь деревня. Радио в колхозе не было, и Веселов принес в контору свой батарейный приемник. Утрами сюда собирались люди и, прослушав сводку Информбюро, спешили в поле, на фермы.
Настроение взрослых передавалось и детям. И хоть Поленька и Петька не особенно ясно представляли себе, что такое война, но, видя озабоченность старших, как-то посуровели, притихли. На озеро ходили теперь редко. Берег все лето был пустынным и неуютным.
* * *
Маленький бревенчатый домик, где помещалась начальная школа, обычно гудевший первого сентября от ребячьих голосов, стоял сейчас притихшим и грустным. Много колхозников в первые же дни войны ушло на фронт, и дети помогали взрослым убирать урожай. Под присмотром старенькой учительницы они собирали колосья после комбайнов и лобогреек.
В начале зимы добровольцем ушел на фронт сын Кузьмы Разинкина, тракторист Гаврила. Провожая его, старик Разинкин беспрерывно говорил:
— Уж ты, Гавря, поддержи фамилию, смой позор за гордеевский отряд… Тогда и умру спокойно я… Тебя-то дождусь.
Андрей Веселов пожал на прощанье руку Гавриле. Гаврила понял председателя, оказал тихо:
— Да не переживай ты… Кто-то должен хлеб выращивать. — И, помолчав, добавил: — В военкомат почаще заглядывай. Мне ведь тоже на третий раз удалось только…
— Да мы с Ракитиным каждый месяц туда ездим… А что толку? — глухо ответил Веселов.
Целую зиму старый Кузьма Разинкин бегал к Веселовым с письмами от сына.
— Гляди-ка, Андрюха! — кричал дед еще с порога, пристраивая палку в угол. — Бьет ить Гавря супостатов в хвост и гриву. Танкист, сказывает. Ну-ка, читай! Пишет — медаль в награду получил.
Андрей читал письмо, а старик напряженно слушал, подставив к уху ладонь.
Весной 1942 года, когда только-только начали таять снега, Гаврилу Разинкина ранило. Старый Кузьма посерел, слег в постель. Но неожиданно Гаврила приехал из госпиталя домой на двухнедельную побывку, и болезнь Кузьмы как рукой сняло.
Гаврилу встречали всем селом как героя. Все радовались, смеялись, только двое плакали: отец Гаврилы Кузьма да белый, сморщенный Игнат Исаев. Кузьма плакал от радости, а Игнат — неизвестно отчего. Приковыляв домой, старый Игнат лег в постель и больше не встал.
Хоронили его молча. Только Демьян Сухов широко перекрестился и сказал:
— Ну и с богом, Игнатушка. Господь наказал тебя, господь и облегчил. Спи…
Когда Гаврила снова уехал на фронт, Андрей Веселов пуще прежнего зачастил в военкомат. Евдокия ничего не говорила, только вздыхала иногда украдкой. Андрей сказал как-то:
— Да пойми ты, не могу же я, когда другие…
— А разве я что говорю против? — только и промолвила Евдокия. Андрей обнял ее, молча поцеловал в голову, вдохнул давно знакомый, ни с чем не сравнимый запах ее волос.
Наконец Веселов и Ракитин все же добились своего. Как раз к этому времени призвали в армию Павла Туманова, Ивана Бутылкина и Григория Бородина.
До железнодорожной станции мобилизованных и добровольцев везли на подводах. В спешке вещевые мешки Андрея и Григория забросили на одну бричку. Поленька и Петька, напуганные слезами женщин, сидели на вещах, невольно жались друг к другу, поглядывали на молчаливо идущих следом за бричкой взрослых.
Бородин шагал мелко и неровно, часто оглядывался назад. Андрей Веселов шел легко и спокойно, сурово сжав губы. Назад он посмотрел только раз, когда дорога взбежала на холм. Зато смотрел долго, точно навсегда хотел запомнить знакомые и родные с детства места: слепящую гладь озера, в беспорядке рассыпанные по его берегу домишки, колхозные дворы и амбары, высокие, раскидистые тополя вдоль улиц…
На станции Евдокия Веселова и Анисья Бородина взяли детей за руки и направились к эшелону, который должен был увезти на войну их мужей. Петька схватил свободную руку Поленьки и сжал ее. Так и подошли они вчетвером к вагону. Григорий, взглянув на детей, двинул бровями, но промолчал. Только по острому красноватому лицу его пробежало что-то похожее на горькую улыбку. Махнув рукой, он полез в вагон… И уже оттуда проговорил:
— Собаку мне убереги. Днем пусть на цепи сидит, а к вечеру спускай.
Когда эшелон ушел, Евдокия все-таки не выдержала и тихо и тяжело заплакала, обмякла, опершись на плечо Анисьи. Та бережно поддерживала ее, молча ждала, когда она выплачется.
Так же молча ехали обратно. Евдокия вроде и успокоилась, а нет-нет да и отворачивалась, прикладывала платок к глазам.
— Мне тоже своего жалко, — проговорила вдруг у самых Локтей Анисья. — А вот не плачу. Рада бы, да не могу. А люди не поймут…
Евдокия, уже несколько лет руководившая огородной бригадой, сказала:
— А ты к людям иди, легче станет. Вот ко мне в огородницы и определяйся.
Анисья не сказала ни да ни нет. А через неделю пришла на колхозные огороды и молча принялась за прополку морковных гряд…
Теперь Поленьке и Петьке никто не запрещал играть вместе.
4
Ровно через год вернулся с фронта по ранению Иван Бутылкин. Недели две он куролесил по улицам села, что-то пьяно выкрикивал. Женщины провожали его угрюмыми взглядами, иные говорили:
— Добрых людей бьют на фронте, сколь уж похоронных прислали. Вчера Авдотья Ракитина получила, второй день ревом ревет. А на этого и шальной пули не нашлось…
Ранней весной 1944 года заявился в село и Григорий Бородин. Пока Анисья хлопотала у стола, Григорий вышел во двор, отвязал собаку и сел на крыльцо. Рослая сука, повизгивая, тыкалась ему в грудь, клала на колени лапы, лизала лицо. Григорий, улыбаясь, ласково гладил ее по спине…
Пообедав, Григорий снова вышел во двор и просидел на солнцепеке с собакой до вечера.
На другое утро Анисья встала затемно, растопила печь, приготовила завтрак, завязала в тряпочку кусок хлеба, несколько крутых яиц и бутылку молока. Григорий, лежа в постели, молча наблюдал за женой.
Когда Анисья накинула на себя выгоревший под солнцем пиджак, взяла узелок и пошла было из дома, Григорий привстал на кровати:
— Куда?!
— Так ведь я… Мужиков же нет в колхозе… Работаю теперья. У Евдокии Веселовой я в огородной бригаде… Сейчас землю под вспашку готовим.
— Сиди! — бросил ей Григорий и лег.
Анисья потопталась у порога в нерешительности.
— Так что же… Лапшу я сварила вам на завтрак, к обеду суп приставила в загнетке… — начала было Анисья, но тотчас умолкла, потому что Григорий резко сбросил с кровати голые ноги.
— Сиди, сказал, дома! — Григорий зевнул и добавил: — Сам теперь буду работать.
Однако прошел день, другой, а работать Григорий не торопился. И жену не пускал.
Неделю спустя Бородин встретил на берегу озера Евдокию Веселову с ведрами. Она заметно постарела за три военных года, изменилась. Но по легкой походке он сразу узнал в ней прежнюю Дуняшку.
— Здравствуй, Евдокия Спиридоновна, — сказал он, поравнявшись.
— Здравствуй… — впервые после того далекого-далекого вечера за поскотиной поздоровалась с ним Евдокия.
Григорий помолчал, не зная, что сказать дальше. Слишком уж неожиданна встреча, а разойтись невозможно.
— Вернулся вот… По ранению. Калека, почитай…
— А Андрюшу убили… в сорок третьем… Слыхал? — Евдокия проговорила это тихим, ровным голосом и беззвучно, почти без слез, заплакала, пошла дальше, согнувшись совсем под тяжестью полных ведер. Видно, все было давно выплакано, и безысходное горе могло теперь только выжать несколько капель из ее глаз.
Григорий минуты три смотрел ей вслед. Затем подошел к самой воде. Золотые блики, как большие качающиеся цветы, лежали по всему озеру, с которого только-только сошел лед. У берега они были крупные, а чем дальше, тем мельче и мельче.
Бородин сел на отполированную волнами каменную плиту, поднял обточенный водой голыш и бросил его далеко в озеро. Прислушался к глухому всплеску. Через минуту подумал: «Теперь лежит на дне…» Встал ипошел обратно. Шагал бодро, точно сбросил в озеро вместе с камнем десяток лет…
Через несколько дней после встречи Григория и Евдокии на берегу Поленька забежала зачем-то по привычке к Петьке. Григорий, только что пообедав, сидел у стола, курил. Петька и чернявый Витька Туманов, примостившись у окна на лавке, рассматривали новенький баян, привезенный Григорием. Переступив порог, Поленька в нерешительности прижалась к косяку.
Григорий сразу узнал ее, Поленьку Веселову, хотя за его отсутствие она вытянулась, похудела, превратилась в угловатого подростка, а волосы заплетала теперь в косу, доходившую до пояса. Долго щурил глаза, оглядывая девочку с головы до ног. Поленька краснела под его цепким взглядом, ежилась, готовая каждую секунду пулей выскочить из комнаты.
— Та-ак-с, — протянул Григорий, не вынимая изо рта папиросы. — Чья же будешь такая? Породы длинношеих у нас в деревне до войны вроде не водилось…
Поленька не выдержала, быстро выскочила на крыльцо. Там передохнула, прислонясь к резному столбу под навесом, и побежала домой, забыв, зачем приходила к Петру.
— Что она тебе, помешала? — обиженно спросил Петька у отца после того, как Поленька ушла, и опустил неведомо отчего покрасневшее лицо. Григорий встал из-за стола, прошел по комнате, поплевал на окурок и бросил его в угол.
— Ты чего краснеешь-то? — повернулся он к сыну.
— Я не краснею, с чего взял? — ответил Петька, заливаясь краской еще гуще.
— Она, может, по делу приходила, — спокойно заметил Витька Туманов.
Григорий усмехнулся в жесткие, насквозь прокуренные усы:
— Больше, кажись, не придет. Ни по делу, ни без дела…
— Тебе что, легче от этого будет? — недовольно проговорил Петька.
— Может, и легче — крикнул Григорий. — Ишь ты! Учись вот играть на инструменте да помалкивай. А то в два счета отберу.
Вечером, когда сквозь груды нежно-розовых облаков косо прорывались длинные желтоватые снопы лучей, а с околицы, из-за длинных бревенчатых амбаров, доносились голоса ребят, Петька вышел из дома. Отец, возившийся у крыльца с собакой, окликнул его:
— Далеко пошагал?
— Так… Схожу куда-нибудь. К Витьке пойду.
Потом долго оба молчали. Отец, кажется, забыл о нем. Склонился над собакой и внимательно перебирал ее шерсть. Петька хотел уже повернуться и уйти, когда отец, не поднимая глаз, снова проговорил:
— Ты поди забыл, за что я тебе несколько раз кожу с задницы спускал?
— Нет, помню…
— Но-о! — удивился Григорий и недоверчиво поднял на него глаза. Встал, медленно взошел на крыльцо, взялся за ручку двери. — Коли помнишь, так объяснять нечего. Увижу еще тебя в компании с дочкой Евдокии Веселовой — в последний раз измолочу и выгоню из дома к чертовой матери. Иди куда хочешь. Мое слово — кремень. Знаешь?
Отец громко хлопнул дверью. Вздохнув, Петька опустился на то место, где только что сидел отец, и стал смотреть на озеро. Оно было разлиновано длинными розоватыми полосами.
За амбарами, кажется, ребята гоняли футбольный мяч. Петьке до смерти хотелось побежать туда. Но он слышал, как повизгивали за амбарами девчонки, которые сидят, наверное, кружочком на траве и наблюдают за игрой, и не решился. «Среди девчонок, конечно, и Поленька, — думал он. — А отец… А может, там ее и нет вовсе?..» Петька встал, обернулся и посмотрел на окна своего дома. Потом медленно побрел к амбарам.
Поленька была там. Она сразу заметила его, растерянно, но в то же время обрадованно, как показалось Петьке, улыбнулась. Он подумал почему-то, что ее улыбку заметили все девчонки, резко остановился.
— Иди, иди сюда, к нам, — звонко крикнул Витька Туманов. Но Петька постоял и пошел обратно.
Ему было очень стыдно, точно он в чем-то обманул кого-то.
Глава вторая
1
После ухода в армию Веселова председателем колхоза в Локтях стал бывший шофер Егор Тушков, освобожденный от призыва по болезни.
— Шея у него, должно, болит. Ишь красная какая, точно кирпич, немногим разве потоньше бычачьей, — зло говорили бабы.
Избрали Тушкова председателем не от хорошей жизни. Что бы там ни говорили про него, а руководить колхозом было некому: кроме Тушкова, пьяницы Мусы Амонжолова да двух-трех подслеповатых стариков, мужчин в деревне не осталось.
— Руководи, мужик все же, — горько бросила ему в лицо после собрания Марья Безрукова. — Хорошо хоть, что Евдокию Веселову в правление ввели. Все же следить будет за тобой…
Иван Бутылкин, вернувшись из армии, стал правой рукой своего дружка-председателя. Назначен он был кладовщиком.
— Что ты, Егор, делаешь, — возмутилась Евдокия Веселова. — Почему с правлением не посоветовался?
— Чего советоваться… Время военное — не до разговаривания… Ты не мешай руководить. За огородом лучше смотри. Капуста-то засыхает вон…
Капуста на огороде действительно засыхала, потому что лето стояло сухое, знойное. Евдокия Веселова, Анисья Бородина и другие женщины, обламывая плечи, целыми днями носили на коромыслах воду из речки.
— Из-за нашей лени, что ли, засыхает она! — обиженно сказала Евдокия председателю. — Мы плечи коромыслами в кровь растерли. Да разве наносишь воды на такую прорву. Дай еще с десяток баб ко мне в бригаду. Хоть помидоры спасем от зноя…
— Ладно, ладно. Баб пришлю тебе… — И Тушков поспешил отойти от Веселовой.
На первом же собрании Тушков и Бутылкин протащили Амонжолова в председатели ревизионной комиссии. В день собрания Веселову услали навсякий случай в район продавать соленые помидоры. Вернувшись и узнав о назначении Амонжолова, Евдокия насела на Тушкова:
— Вон ты как руководишь, Егор! Всех своих дружков на теплые места рассадил… Всех пьяниц…
— Ну, вот что! — взревел Егор, багровея толстой шеей. — Ты не кипятись тут зазря. Насчет Амонжолова собрание решило. И не тебе отменять его решения. А мужнины руководящие замашки брось. Ты хоть Веселова, да не Андрей, а Дуняха только… Веселовская власть в Локтях кончилась. Мы еще посмотрим, стоит ли тебя в членах правления держать… Капуста-то так и посохла…
Евдокия не удержалась, заплакала:
— Да разве мне власть нужна? Дурак ты…
Однажды во время ревизии в кладовой обнаружилась большая недостача различных продуктов. Муса Амонжолов, руководивший ревизией, хотел ее скрыть, но вмешалась Евдокия. Тушков зло сказал Бутылкину:
— Фигурально выражаясь: не умеешь, не бери. Придется сдать ключи от кладовой. На всякий случай… пока.
— А как же… с этим, с нехваткой? — Бутылкин умоляющими глазами смотрел на председателя.
— Придется погасить ее… от греха.
— Да чем? Ведь на двадцать тысяч почти, ежели считать по государственным ценам…
— Ну, чем… Корову продай, кабана заколи — и в район… Мясцо-то на базаре там сейчас… хе-хе, не по государственным ценам… Еще и останутся деньжонки.
— Вот сволочь, вот сволочь какая, разорила ить она меня, — крутил Бутылкин головой на длинной шее. — Долго ли, Егор Иваныч, терпеть ее… их, Веселовых, будем?..
— Осторожней с этим, Иван… Тут надо потихонечку затереть ее, без шума… Как-нибудь выберем время…
* * *
Однако выбрать время, чтобы «затереть» Евдокию, было не так-то просто. Егор Тушков, при всей своей ограниченности, понимал, что может сломать на этом себе шею и поэтому на неоднократные напоминания Бутылкина о необходимости «заткнуть глотку Веселихе» отвечал уклончиво:
— Погоди, Иван. И бог могуч был, да терпелив.
— Ну, годи, — нервно усмехался Бутылкин. — Годишь-годишь, да и в дураки угодишь. Вспомянешь тогда Бутылкина. Веселова в каждое дело вон нос сует, будто… как вроде… эх, да что!
— Не кипятись. Дурак сперва умного на кладбище свезет, а потом уже сам помрет.
Бутылкин, нахлобучив со зла шапку на самые глаза, оставлял председателя на несколько дней в покое.
Однажды зимой Евдокии показалось, что в амбарах не хватает семенного зерна. Было это примерно за полгода до возвращения Григория. Веселова, несмотря на сопротивление Тушкова, настояла на том, чтобы перевешать все семена. Не хватало двести центнеров.
— Купим, — ответил Тушков. — До весны еще далеко.
— Далеко до солнца, а до весны близко, — возразила Евдокия и стала собираться в район.
Тушков обеспокоенно зашевелился.
— Узнают ведь в районе сейчас, что семян у нас не хватает, — головы снимут, — сказал он Веселовой. — Ты что, не понимаешь? И ты в стороне не останешься — член правления все же. А весной сымать уж некогда будет, сеять надо. И дадут семян.
— Эх, Егор, Егор, плачет тюрьма по тебе. Рано или поздно угодишь за решетку, — проговорила Веселова и, не обращая внимания на его слова, продолжала собираться к отъезду.
— Тьфу ты, дьявол в юбке! — выругался Тушков. — Сколько там не хватает?
— Двести центнеров.
— Ладно, будут.
— Откуда, когда? — удивленно спросила Евдокия.
— Через неделю будут. А откуда — не твое дело.
Действительно, через несколько дней к колхозному амбару подошли три автомашины, груженные зерном. Потом машины подъезжали еще дважды, Тушков достал каким-то образом зерно в соседнем колхозе. Но как достал — этого Евдокия понять не могла.
— Ну, довольна? — зло спросил ее Тушков.
— Проверить надо, что за зерно. Может, еще не годится на семена.
— Я и без проверки знаю, что не годится. Обменяем, это легче. — Тушков помедлил и добавил: — Вот ты и займись обменом. Тут тебе и карты в руки.
В локтинском колхозе была всего одна разбитая полуторка. Веселова до самой весны ездила на ней в район, обменивала семена.
Потом Евдокия проследила, чтобы семена перед севом протравили. А когда наступил сев, опять ее худенькая фигурка, обтянутая рваной одежонкой, маячила в поле то там, то здесь.
А после сева она потребовала у Тушкова созвать общее собрание, чтобы обсудить итоги весенних полевых работ. И тогда-то поднялась Марья Безрукова.
— Не итоги сева, а вопрос о председателе обсуждать надо! — сразу закричала она, едва Тушков открыл собрание. — Ну что же мы, так и будем держать Тушкова заместо иконы? Он, как боров, заелся, глаза салом заплыли, а баба, — Марья ткнула пальцем в Веселову, — она вот хлещется день и ночь…
— У нас же не отчетно-выборное собрание, товарищ Безрукова, — перебил Марью Тушков. — Вот зимой соберемся на отчетное, там такую, значит, свою активность проявите.
Ему в ответ дружно закричали с мест:
— Правильно ставит вопрос Марья!
— Уже сейчас видно…
— Поворачивай собрание на отчеты-выборы…
Дед Демьян застучал костылем об пол.
— Ты нагрел место-то, знаем… Вот и виляешь хвостом…
— Пуще места руки нагрел! — крикнула Марья Безрукова.
Тушков растерянно посмотрел в угол, где сидели Иван Бутылкин и Муса Амонжолов. Заискивающе улыбнулся растревоженному собранию и проговорил:
— Воля ваша, товарищи колхозники… Я, вы знаете, шофер, завсегда проживу. А насчет виляния и этого… фигурально выражаясь, нагретия места — это вы зря. Я работал…
— Знаем… ты скажи лучше, сколь штанов протер, сиднем сидя в конторе… — опять вскочила с места Марья Безрукова.
Старик Разинкин, выставив вперед острую бороденку, крикнул тонким фальцетом:
— Он экономный — штаны кожей обшил.
— Колхозной, — вставил Демьян Сухов.
— Да что толковать. Нового председателя надо… — неслось со всех сторон.
Тушков зачем-то перекладывал на столе с места на место обгрызенный карандашик и повторял беспрестанно:
— Воля ваша… воля ваша… А только собрание-то не отчетно-выборное… Опять же с районными властями не согласовано… Представителя нет.
— Согласуем задним числом. Не волнуйся насчет этого.
— Тише! Прошу слова!.. — это крикнул поднявшийся внезапно Бутылкин.
Раздались возгласы:
— Проверьте там, передние, — не пьяный он?
— Нет вроде… Ключи от кладовой не у него ведь…
— Ну, пусть тогда скажет…
Бутылкин пошарил глазами по залу, зло оглядел Марью Безрукову: тянули, мол, за язык тебя! — отыскал недавно приехавшего из госпиталя Григория Бородина, мрачно сидевшего у самого выхода, несколько секунд смотрел на него. Потом заговорил:
— Перво-наперво насчет кладовой, товарищи женщины… Был такой прискорбный факт. Чистосердечно и со всей колхозной искренностью сознаюсь… Пережил свой стыд, внес растрату наличными и уяснил окончательно… А насчет выпивки, — так ведь на свои кровные если, это уж соответственно полному праву, потому как с точки…
— Ты кончай свою предисловию, давай про суть, если есть она у тебя. Нечего время тянуть… — перебил его, стуча костылем, Демьян Сухов.
— Суть имеется. Колхоз мне тоже дорог, как вам всем, здесь сидящим… Егор Иваныч в самом деле не того… Трудно ему, не по плечу должность. Правильно, нового председателя надо, то есть лучшего. А кого? Одни бабы в колхозе.
— Так что с того, что бабы?! — метнулась посредине зала Марья Безрукова. — Так ведь я и говорю…
— Ты сидела бы лучше, бабка, — осадил ее Тушков, а Муса Амонжолов зашевелил широченными плечами, схватил ее за руку и потянул на место.
— Бабы, когда молчат, умнее, хе-хе, кажутся, — снова начал было Бутылкин, но Марья закричала, будто ее резали:
— Да отпусти ты, дьявол косоглазый, — и вырвалась из рук Амонжолова. Тот буркнул себе под нос:
— Не старуха — прямо черт…
— Бабы, говоришь, одни в колхозе. По многим деревням, слышно, баб командовать колхозами поставили. И ничего… не в пример нам живут…
Иван Бутылкин дважды воскликнул:
— Ты кого имеешь? Кого имеешь? Евдокию Веселову, что ли? Навроде, значит, царицы, что после мужа трон займет и корону наденет… — И добавил насмешливо: — Давайте, кому желательно. Командовать она любительница…
Евдокия Веселова, вскочив, в первое мгновение ничего не смогла сказать.
— Я… Ты… говори, да не заговаривайся! — возмущенно крикнула наконец Евдокия. — Эта корона не на голове у меня, а на плечах, в виде коромысла. Тяжело, а ношу ее, потому что надо…
— Шуточки Бутылкина полностью дурацкие и не к месту, — поддержал Веселову Демьян Сухов.
— Тут все собрание не к месту. Для ради чего, спрашивается, Тушкова менять?
— Да ведь нельзя нам больше с таким председателем!
Евдокия Веселова, оскорбленная и возмущенная выходкой Бутылкина, не успела еще сесть на место, как бывший кладовщик, не давая ей опомниться, боясь упустить время, закричал:
— А я что говорю — можно? Нельзя, конечно. Но Веселова отказалась сейчас… ввиду неподходящности. Она правильно сказала, по-честному: с коромыслом справляется, а с колхозом — где ж… А что же нам делать, что делать? — Бутылкин на какую-то секунду умолк, будто задумался, но тут же звонко хлопнул себя ладонью по лбу: — Ха, спрашиваю, что делать! Да вот же он, Бородин-то! Давайте Бородина изберем! Григория Петровича, значит.
— Правильно! — крикнул со своего места Амонжолов.
Колхозницы молчали, будто всех сразу охватило недоумение. И в тишине еще раз раздался неторопливый голос Амонжолова:
— Правильно, голова у Ваньки работает. Прямо черт!
— А чем не председатель? — закричал Бутылкин. — Фронтовик, знаем с детства…
— В том-то и суть, что знаем…
— А может, и в самом деле, а, женщины?
— На безрыбье и рак рыба. А на безлюдье, выходит, и Фома — дворянин.
Бутылкин волчком крутился перед колхозниками, сорвал с головы фуражку, прижал ее к груди и подвел итог:
— Так ведь что делать-то?.. Евдокия Спиридоновна отказалась, сами слышали. Тушкова — нельзя. А кроме Тушкова и Бородина — кто? А Бородин… Зачем старое вспоминать? Он войну прошел все таки. Война — шутка ли! Она закалку дает…
Колхозники замолчали, подумали. Потом вздохнул кто-то:
— Сменяем свата на Ипата…
— Ну глядите, бабы… — тихо заметила Марья Безрукова, убедившись, что Бутылкина и его друзей не перекричать, — как бы не пожалели потом…
— Хуже уж все равно не будет. Ведь все же фронтовик…
— Давайте голосовать.
Так Григорий Бородин, совершенно неожиданно для самого себя, стал председателем колхоза.
2
Когда известие о событии в Локтях дошло до района, оттуда приехал представитель. Разобравшись, в чем дело, он увез Григория Бородина в райисполком. Там покрутили, повертели — и вынуждены были утвердить решение общего колхозного собрания, тем более что Егор Тушков был как председатель не на хорошем счету.
— Что же, работайте, раз доверили колхозники, — сказали Бородину в райисполкоме. — Хозяйство трудное, тяжело вам будет…
— Постараемся, — сухо ответил Григорий, подумал, что бы еще сказать более серьезное, значительное, и добавил: — Опыта председательского нет у меня, вот что…
— С опытом руководства никто не рождается, Бородин, его приобретают в процессе работы.
Григорий хотел усмехнуться, но не посмел. Только выйдя на улицу, скривил губы.
За годы войны обветшали избы колхозников, прохудились телятники и коровники: соломенные крыши пошли на корм скоту, а покрыть заново после зимы еще не успели — не хватало рабочей силы.
Все это Григорий заметил после того, как его избрали председателем колхоза. Нельзя сказать, чтобы такая должность особенно обрадовала его. Новое положение Бородина вызывало в нем скорее тихое недоумение. Как-то странно, непривычно было думать ему, что теперь он хозяин здесь, что обо всем ему надо заботиться.
Вспоминались почему-то Григорию без всякой связи два далеких события. Вот стоит он на коленях перед Дуняшкой, протягивая к ней руки… А вот стоит перед колхозниками и, помимо своей воли, униженно просит принять его в колхоз… Может, потому вспоминалось, что и в первом и во втором случаях видел он перед собой Дуняшку. И когда он, Григорий, стоял на коленях и когда просился в колхоз, Дуняшка смотрела на него насмешливо, как понял он только сейчас, презрительно, с каким-то превосходством…
Григорий думал об этом, сам не замечая, тихо улыбался: «Ну, ну, поглядим, как сейчас ты… как сейчас посмотришь…»
Через несколько дней после собрания и в самом деле пошел к Веселовой. Второй раз в жизни он переступил порог дома Евдокии. Молча, не здороваясь, прошел к столу, накрытому чистенькой старой скатертью, оглядел невысокие стены, железную кровать с тощей постелью, с двумя подушками в цветастых ситцевых наволочках, марлевые шторки на окнах…
Евдокия, поглаживая голову испуганно прильнувшей к ней Поленьки, сидела у другого конца стола, удивленно смотрела на Бородина.
— Ну вот, — сказал наконец Григорий. Помолчал и добавил: — Вот оно как в жизни-то бывает…
Евдокия не ответила, ждала, что он скажет дальше. Григория словно давило это молчание, он повел плечами и снова промолвил, ухмыляясь в усы:
— Отец мой говаривал когда-то: «Жизнь — завсегда игра: не то проиграл, не то выиграл…» А? Проиграла ведь ты…
— Не пойму речей твоих, — спокойно произнесла Евдокия. И наклонилась к Поленьке: — Иди, доченька, поиграй на улице.
— Не понимаешь. Нет, врешь, — усмехнулся Григорий. И крикнул: — Врешь! Вот оно — богатство твое… вот, вот. — Встав, Григорий начал тыкать рукой в железную кровать, в окна с марлевыми занавесками. — Обеспечил тебе Андрюха сладкую жизнь! Спите на голых досках. Едите хлеб с водой…
— Ты что, издеваться надо мной пришел? — прерывающимся голосом спросила Евдокия и тоже встала. — Если так, то… — она указала ему рукой на дверь.
— Обожди, хозяюшка, не гони. Один раз уж указала от ворот поворот, хватит… Гнули вы меня с Андрюхой, унижаться заставляли. А верх-то в конце концов мой. Мой! Вот я и пришел в глаза тебе посмотреть…
— Ну и смотри! Смотри!! Чего в них видишь? — с такой силой крикнула Евдокия, что Григорий вздрогнул, поднял голову. А встретившись с глазами Веселовой, еще раз вздрогнул: она смотрела на него насмешливо, презрительно, с тем же превосходством, что и всегда. И видел он вовсе не Евдокию, а прежнюю Дуняшку, только более сильную.
Бородин несколько секунд стоял безмолвно. Потом усы его дернулись и начали как-то странно шевелиться.
— Убирайся отсюда, — сказала Евдокия, продолжая жечь его глазами. Григорий не выдержал ее взгляда, отвернулся и пошел к двери.
— Ладно. А из членов правления вывели тебя на заседании. Я настоял… Так что можешь больше не заявляться в контору.
* * *
Как-то вскоре, в теплый солнечный день, Григорий, объезжая верхом на лошади поля, недалеко от деревни встретил Ивана Бутылкина. Заложив руки в карманы брюк, тот шагал по дороге, бормоча что-то под нос.
— Под мухой, что ли? — окликнул его Бородин, подъезжая.
Бутылкин глянул на председателя исподлобья, сплюнул на дорожную пыль и только потом ответил:
— К сожалению — увы!
— Откуда шагаешь?
— Так… Вон оттуда, — кивнул Бутылкин назад.
Григорий слез с коня, надел повод на руку, сел на землю и стал закуривать. Молча протянул кисет Бутылкину.
— Не балуюсь. Знаешь, Григорий Петрович, берегу здоровьишко.
Григорий сосредоточенно рассматривал лохматый, закручивающийся пепел на конце своей самокрутки.
— Тогда на собрании ты здорово за меня агитировал. А почему — не могу понять.
— Подрастешь — уяснишь в полном соответствии, — ответил Бутылкин. — А пока в долгу считай себя.
— Ишь ты!.. А почему на работу не выходишь?
Бутылкин пожал плечами, обтянутыми чем-то порыжелым, отдаленно напоминавшим пиджак.
— Мне вредно на солнце. Раньше кладовщиком вот работал. Ничего — в тени-холодке… В аккурат сейчас должность эта свободная.
— Пропьешь ведь все.
— Стопками-то? — В голосе Бутылкина прозвучало даже искреннее удивление. — Из Алакуля воду ведрами черпают, а оно полнехонько…
Через неделю Бородин назначил Бутылкина кладовщиком.
Колхозники заволновались:
— То ли делаешь, Петрович!
— Опять разворует он все!
— Примется за старое — под суд отдадим, — успокоил колхозников Бородин. — Я ему не Егор Тушков.
— Ну, гляди, гляди…
Вскоре бывший председатель Егор Тушков, ставший снова шофером, завез ночью на машине Бородину свиную тушу. Муса Амонжолов легко закинул ее на плечи, отнес в погреб и положил на лед.
Все это было проделано быстро, без суеты. Тушков и Амонжолов ходили по двору уверенно, точно весь век жили в доме Григория.
Когда Григорий, услышав заливающийся лай собаки, вышел из дому, Егор Тушков, сидя уже в кабине, проговорил:
— Бывай здоров, председатель.
— Бывай, да друзей не забывай, — добавил Муса Амонжолов и восхищенно прищелкнул языком. — Собака у тебя — прямо черт…
Машина уехала. Григорий сходил в погреб, чиркнул там спичкой. Потом принес из дома замок и повесил его на тяжелую, из сосновых плах, дверь погребка.
Утром, зайдя в кладовую, сурово двинул бровями:
— Ты что же это, а?
— Ну, чего там! Все на одной земле живем… Ты будь спокоен, Григорь Петрович. Не перевелись пока в Локтях хорошие люди.
И Бутылкин рассмеялся нахально, уверенно, далеко закинув маленькую голову с редко торчащими волосами песочного цвета. Григорий шагнул, наклонился к самому лицу Бутылкина:
— Не скаль зубы, выбью!
Бутылкин резко оборвал смех. Голова его в тот же миг приняла нормальное положение. Зеленоватые глаза обожгли Бородина, а тонкие длинные губы несколько раз дернулись, приоткрывая зубы — белые, только редковатые и неровные.
— Я тебе выбью! — раздельно произнес Бутылкин, опять приоткрыл на секунду зубы и продолжал: — Я так скажу… Председателем кто тебя сделал? И за что? За красивые глаза, что ли? Невыгодно — отваливайся. К нему — с сердцем, а он в сердце — перцем… Я, брат ты мой, любитель выпить и… да и украсть, пожалуй. Но оскорблений не терплю…
— Так. Значит, колхозным добром промышляешь?
— Видишь ли… У людей не краду, за это — очень даже в тюрьму легко. Да и жалко их, людей-то…
— Колхозное воровать — безопаснее, что ли?
— Проверено на практике, — уже мягче проговорил Бутылкин. — В кладовке — усушка, утруска, мыши, язви их… Особенно если с руководством по совести…
— Так, — снова повторил Бородин, сев на мешок с отрубями. — Ну и жулик ты…
— Я полагал, это вам известно, — уже с издевательской улыбкой проговорил Бутылкин.
— Что, что известно? Ты еще что-нибудь сочини! — повысил голос Бородин. Но сам понимал, что Бутылкин чувствует в его окрике фальшивые ноты.
— Ты не волнуйся, Григорий Петрович… — тихо, успокаивающе заговорил Бутылкин, расхаживая по кладовой. Правое веко у него подрагивало, точно он беспрерывно подмигивал. — У нас будет порядок. Жизнь — она что? Она всегда в тягость, если в ней правильную дорогу не нащупать…
Григорий от неожиданности даже привстал:
— Что, что?
В ушах опять гудели слова отца: «Каждый живет по своей линии, топчет свои тропинки…». И казалось уже, будто отец сказал их, эти слова, совсем недавно, может быть, вчера.
— Правильную дорогу, говорю, иметь нужно в жизни, — повторил Бутылкин. — А ты не нащупал пока свою. Вот и топай по нашей, а?
* * *
… Вечером, перед тем как лечь спать, Бородин долго сидел на кровати, чесал волосатую грудь, жевал губами. Вот, оказывается, зачем избрали его председателем. «Топай по нашей дорожке…» Так… Вот тебе, батя, и своя тропинка…
Вошла Анисья, бросила на кровать свежие простыни.
— Ну-ка встань, застелю.
Григорий покорно поднялся. Переменив простыни, Анисья выпрямилась, спрятала руки под фартук и спросила:
— Откуда мясо у нас в погребе?
— Какое мясо? А-а… Наше, стало быть.
— Наше?.. Я ведь слышала, как ночью машина приезжала.
— Ишь ты… Бабы, говорят, дуры, а ты у меня понятливая. — И предостерегающе добавил: — Сыну еще расскажи, что и как… У тебя ума хватит.
Анисья покачала головой и вышла. И почти сразу же в комнату забежал с улицы раскрасневшийся Петька. И Григорий тотчас вспомнил, что, проходя сегодня в конце дня мимо Веселовых, он видел сына, который, сидя за столом, вытащенным из избы под старый, развесистый тополь, рассматривал вместе с Поленькой какую-то книжку. Головы детей почти соприкасались. Евдокия, стоя спиной к плетню, за которым остановился Григорий, возилась у летней печки-времянки, готовя ужин. Потом она подошла к столу, тоже нагнулась к книжке и погладила по голове дочь, потом Петьку.
Григорий хотел перемахнуть через плетень, схватить Петьку за руку и там же избить его, чтоб раз и навсегда забыл он дорогу к Веселовым. Но по улице шли люди. Григорий зашагал к своему дому, повторяя: «Ладно, приди домой, шкуру спущу…» И вот теперь оглядывал сына прищуренными глазами.
Петька, как только увидел отца, притих, в нерешительности топтался на одном месте.
— Рассказывай, откуда идешь, — сердито и многозначительно сказал Григорий. — Ну…
Григорий ждал, что сын смутится, может быть, даже заплачет. Однако Петька чуть приподнял голову, посмотрел на отца исподлобья. И Григорий испуганно подумал вдруг: «Чего больше в его взгляде: робости или упрямства?»
— Чего же ты? Язык проглотил? Говори!..
Но Петька опять не ответил и тихо попятился к выходу.
— Куда, щенок? Назад!
Мальчик остановился, переступая с ноги на ногу.
— Ну и ладно. А чего кричать-то?
И опять Григорий не мог понять: что же прозвучало в словах сына? И потому, что не понял, разозлился еще больше, потянулся за ремнем, висевшим на стене. Петька тотчас отпрянул в сторону, сжался там в комочек, испуганно, без звука, завертел головой из стороны в сторону, точно ища спасения от отцовского гнева.
Видимо, Петькина беспомощность, заметавшийся в его глазах испуг привели Григория в себя. Он швырнул ремень в другой угол, тяжело опустился на лавку, отвалился к стене и закрыл глаза.
Когда открыл их, Петька все еще был на прежнем месте. Рядом с ним стояла теперь Анисья и молча смотрела на мужа. Смотрела с немым укором, с жалостью.
— Угробишь ведь мальчонку, — еле слышно произнесла Анисья. — Долго ли детский умишко свихнуть…
— Ему свихнешь, как же… Упрямство бы сломить, и то ладно.
— Господи! Какое у ребенка упрямство! Задергал ты его.
— Какое? — Голос Григория приобрел прежнюю твердость. — Какое, говоришь? А ты не замечаешь? А я вот замечаю, вроде… Э-э, да что…
Григорий накинул на себя пиджак, сорвал с гвоздя фуражку, у порога обернулся:
— Тебя вон я тоже хотел пригнуть к себе. Ломал что есть силы, до хруста. Да не доломал. Чужая ты все равно. И Петька, чую, в тебя, стервец, растет.
Вдруг Григорий снова вспомнил, как склонилась над дочерью и Петькой Евдокия Веселова. «Да, пожалуй, еще и та его на свой манер воспитывает…» И сорвался, заорал Петьке:
— Места живого на тебе не оставлю, если еще раз там увижу!..
3
Жена беспокоила Григория меньше. И до ухода в армию она была какая-то странная, непонятная, безмолвная. Иногда неделю-две он не слышал от нее ни слова. Она жила в доме незаметно, бесшумно, вынашивала в себе какие-то, известные ей одной, думы. Но о сыне Григорий думал теперь каждый день.
В течение всей службы в армии жила в его памяти почему-то одна и та же картина: стоят вчетвером на вокзале перед уходящим эшелоном Евдокия Веселова, Анисья, Петька и Поленька. Петька и Поленька держат друг друга за руки и смотрят встревоженными детскими глазами, пытаясь понять, что же происходит. Возвращаясь домой, Григорий думал: «Анисья — черт с ней, а сына не отдам… Глотку перегрызу за него…»
Сначала Петька, помня об угрозе, вроде безмолвно покорился отцу, притих, к Веселовым, да и вообще никуда не ходил, целыми днями возился с баяном.
— Хорош мой подарок? — спросил как-то отец.
— Хороший.
— Вот видишь… Будешь слушаться — что захочешь, куплю.
Но через некоторое время Петька забросил баян и почти не подходил к нему, пропадал в компании ребятишек где-то на озере. Григорий с удивлением присматривался к сыну. Однажды спросил:
— Что же на баяне не учишься играть?
— Не хочу.
— Вон как! Это почему?
— Так… — Петька вытер нос рукавом, поднял глаза на отца, хотел что-то сказать, но не осмелился, отвернулся. Вздрогнул, когда отец повысил голос:
— Ну-ка, ну-ка!.. У тебя вроде бы слова на губах висели?
— Ничего не висели, — начал Петька, запнулся и вдруг заявил: — А может, и висели, тебе что? Раз не сказал, значит, передумал…
— Ты… ты как разговариваешь с отцом?! — рассердился Григорий. — Я тебе покажу «передумал»! Опять, наверно, к Веселовым ходил? Говори сейчас же. Вот ремень, видишь?
И тогда в карих глазах Петьки вспыхнул злой огонек. Петька молча попятился в угол и сжался там, как загнанный зверек.
Если бы не этот огонек, разговор, может, на том и кончился бы. Во всей сжавшейся, испуганной фигурке сына только одни глаза и выражали непокорность. Григорий хлестнул сына ремнем:
— Скажешь?! Говори, сукин сын…
Петька закусил вздрагивающие губы, закрыл лицо руками, но не заплакал. И Григорий еще вспомнил: ведь и на берегу озера, когда он застал сына с Поленькой и ударил прутом, он не заплакал. Это воспоминание привело Григория в бешенство. Рука его, сжимавшая ремень, судорожно дрогнула…
— Ну и бей! — тоненько крикнул вдруг Петька. — Бей! Я ходил к Поленьке и к тете Дуне, и все равно еще пойду…
Григорий избил Петьку. Вбежавшая с улицы Анисья, всхлипывая, подняла сына с пола и, сгибаясь от напряжения, унесла его на кухню.
Часа через три Григорий зашел туда. Анисья загородила сына своим телом, с мольбой и ненавистью прошептала:
— Уйди…
Григорий молча оттолкнул ее, глянул на Петьку. Он лежал па лавке красный, весь в огне.
— Ну, так что же? Еще пойдешь?
Петька шевельнул головой, открыл глаза, через силу проговорил:
— Ты баян привез мне, чтоб я к Поленьке и тете Дуне не ходил? А зачем мне баян? Мне не нужно…
Григорий несколько минут стоял молча, удивленный, не зная, что ответить.
— И так все ребята дразнят: «Батьки испугался, за баян продался…» — добавил Петька.
— Вон как!
— Ну да!.. — Петька вздохнул глубоко, порывисто. — А Витька Туманов — тот совсем дружить перестал со мной. Иди, говорит, пиликай на своей гармошке…
— Ну а ты? — не унимался Григорий.
— Я с Витькой помирюсь. А к Веселовым еще пойду… Все равно пойду. И ты меня…
Договорить Петька не успел. Григорий нагнулся, цепко схватил сына за худенькие плечи, поднес его бледное лицо к своему, вдруг посеревшему, и прокричал, царапая щеки сына усами:
— А я говорю — не пойдешь, щенок! Понял? Не пой-де-ошь! Ноги выдерну!
Последние слова Григорий выкрикнул так, что в ушах у Петьки словно что-то лопнуло и зазвенело. Он несколько секунд смотрел на отца широко открытыми глазами, потом пронзительно закричал…
Ночью Петька заметался в горячке…
Проболел Петька несколько недель. Когда встал с постели, на дворе было холодно и мглисто, как осенью. Резкий ветер, дувший со стороны озера, срывал с кленов и тополей тяжелые листья и кидал их вдоль улицы. Деревья махали черными, разлохмаченными ветвями, словно отбивались от кого-то.
Вечером Петька оделся потеплее и вышел посидеть возле дома. Он смотрел, как по низкому небу над озером метались последние чайки, небольшие, словно отлитые из твердого металла, сильные птицы.
Из-за угла неожиданно вывернулся Витька Туманов. Он был в сапогах с высокими голенищами, в черной рубахе и замызганной кепке с длинным козырьком, который торчал намного выше головы. Пуговиц на рубахе не было, открытая грудь посинела.
— Во! — удивился Витька, увидев Петра. — Здорово, Петька. А я думал, ты еще хвораешь.
Петька поздоровался. Туманов присел рядом.
— Холодно, черт. Нынче что за лето — не покупаешься даже в озере! Тебе-то хорошо — вон какая фуфайка толстая. — И, помедлив минутку, спросил: — Тебя, говорят, отец бил?
— Тебе что?
— Да мне-то ничего, я так… Ты не сердись…
— Я с тобой помириться хотел, — сказал Петька.
— Ну что ж, давай, — солидно произнес Витька, громко шмыгнул носом и опять проговорил: — Холодно ж, дьявол. А тебя за что отец бил?
— За что? Я не знаю.
— Я пойду, а то насквозь промерзну, — сказал Витька. — Ты приходи ко мне завтра.
— Ладно, приду.
Витька ушел, а Петька стал отыскивать в темно-синем небе над озером чаек. Но там ползали только серые и тяжелые облака. Несмотря на лохматые тучи, небо казалось пустынным.
4
В середине 1944 года один за другим возвратились в село по ранению Федот Артюхин, Павел Туманов и Гаврила Разинкин. Каждого встречали чуть ли не всем селом. Прямо на улицу вытаскивали столы и несколько дней подряд над деревней висели шум, крики, нестройные песни.
— Пей, гуляй! — громко кричал пьяный Федот Артюхин, потерявший где-то костыль и прихрамывающий сильнее обычного. В солдатской гимнастерке, с расстегнутым воротником, без ремня, он в избытке чувств лез целоваться то к одному, то к другому колхознику. — Ведь мы повоевали, да…
— Повоевали… — кивал головой старый, пьяный от счастья Кузьма Разинкин, ни на шаг не отходя от сына. — Эвон, Гавря-то, сынок… Одних орденов да медалей фунта с два… А раньше кресты давали. Те — легкие, без тяжести, — рассказывал зачем-то Кузьма.
— Да ведь и я… — доказывал Федот Кузьме. — Хоть и не имею орденов, а тоже… Сколько раз в таком пекле был, что по сей день не верится — жив ли? А потому не грех сегодня погулять нам… Теперь — заживем… Э-э, Григорь Петрович… Григорий Петрович! — закричал Артюхин, увидев проходившего Бородина, — Выпей-ка со мной, уважь…
Бородин взял стакан пива, нехотя выпил, вытер усы.
— Так я и, говорю, Григорь Петрович… — начал было Федот, но Бородин отмахнулся и пошел к Мусе Амонжолову, который стоял в сторонке возле амбаров и делал ему какие-то знаки.
— Ты чего не пьяный? — спросил Григорий, подходя. — Дружок твой, Егор, без памяти уже лежит.
— Причина есть — значит, не пил, — коротко ответил Муса. — Мне завтра лошадей надо, председатель. Пару лошадей и бричку. На два дня.
— Зачем?
— Наше дело.
— Вот как! Да я кто — председатель или нет? — взбеленился Григорий.
— Свинью брал? — спокойно напомнил Муса.
— Ах ты… — Григорий не смог договорить.
— Меньше будешь знать — тебе же лучше, друг, — продолжал Муса. — Значит, я заберу лошадей на конюшне.
Не ожидая ответа, Муса Амонжолов неторопливо пошел прочь, но, что-то вспомнив, остановился и сказал, обернувшись:
— Завтра Ракитин приезжает.
— Что?! — челюсть Бородина отвалилась сама собой. — А п-похоронная?
Муса пожал плечами:
— Может, с того света возвращается. Жена его телеграмму получила…
На следующий день Бородин, внешне спокойный, рано утром явился в контору и приказал сторожихе сбегать за Артюхиным и Тумановым. Когда те явились, Григорий мягко заговорил:
— Вот что, Павло… И ты, Федот. У нас обычно: приедет фронтовик — три-четыре дня гулянка. А сейчас сенокос, каждый день на счету. Прошу вас, берите косы да в поле. Для примера другим. Я сейчас на лошадь — и по домам. Всех выгоню на луга. Договорились? Тебя, Павел, конечно, в кузню потом определю, на старое место…
Федот с готовностью встал со стула.
— Ну-к что! Крестьяне — понимаем. Голова только трещит. Придется стаканчик ломануть для похмелья. А догуляем потом…
Павел Туманов ничего не сказал, только посмотрел на Бородина своим единственным глазом. Второй глаз Туманов потерял на фронте и носил теперь черную кожаную повязку.
В этот день Григорий проявил такую расторопность, какой никто от него не ожидал. Через час все, кто мог держать косу, были на лугах.
* * *
На станции Тихон Ракитин увидел какую-то машину и подошел к шоферу.
— Не в Локти?
— Нет. Из соседнего колхоза я. — И открыл дверцу. — Садись, от нас доберешься как-нибудь. Там недалеко.
— Нет, я в кузов. Оттуда виднее, — ответил Тихон, кинул в кузов фанерный чемоданчик и следом вскочил сам.
Всю дорогу он ехал стоя, держась за крышу кабинки. Ветер развевал его совершенно белые, седые волосы.
До Локтей Тихон добрался под вечер. Ему навстречу из небольшого мазаного домишка выскочили раздетые ребятишки, заплаканная женщина.
Ракитин бросил в дорожную пыль чемодан, схватил в охапку детей, поднял в воздух.
— Подросли, значит, без меня. Правильно сделали, — одобрил он. Потом поставил ребят на землю, обнял плачущую жену и проговорил: — Ну, будет. Долго плачут только с горя…
А небольшая изба уже была битком набита колхозниками. Многие, узнав о приезде Ракитина, с обеда побросали косы и прибежали в село. Тихон, переступив порог, окинул взглядом людей и стал медленно снимать солдатскую шинель. Тогда все увидели орден Ленина и несколько медалей на его полинялой гимнастерке.
Восхищенно загудели колхозники. Отовсюду посыпалось:
— Вот тебе и Тихон! А считали покойником…
— Знай локтинских! Кавалер! Как Гаврила Разинкин!
— А седой-то как лунь! Да что же это ты так?
— Чего же ты молчал? Где был? Написал бы хоть: так и так, орден дали…
— Нам бы это очень даже интересно знать… И для авторитета села Локти…
Тихон еще более смущался.
— Чего там хвастаться, дело прошлое… А не писал потому, что сам не знал: буду жить или помру. Больше года в госпитале провалялся. Думал: семья давно меня считает мертвым. Напишу, что жив, — обрадуются, ждать будут… А я тем временем в самом деле помру. Опять слезы… Так вот и не писал.
Неожиданно гул голосов смолк. В комнату вошел Григорий Бородин, нагибая голову в дверях.
— Здравствуй, здравствуй, Тихон Семенович, — как-то виновато улыбаясь, заговорил Бородин. — Хе-хе, не смог я удержать народ на полях, как узнали, что ты едешь… Сенцо мы косим… Ну что же, поздравляю тебя, Тихон Семеныч…
Ракитин при первых звуках голоса Бородина стремительно обернулся, невольно отступил шага на два назад. Люди непонимающе переводили взгляды то на Ракитина, то на Григория.
— Ты?! — изумился Ракитин. — Ты… жив?
— Вроде бы, хе-хе…
— Председатель наш, — проговорил оказавшийся рядом Бутылкин. — Недавно избрали.
— Что? Как?! — воскликнул Ракитин еще более удивленно,
— Да что это вы, в самом деле? Не знаете, что ли, друг друга? — спросил кто-то.
Григорий Бородин продолжал заискивающе и виновато улыбаться.
— Значит, вернулся, Тихон Семенович, цел и невредим? То есть вижу, что э-э… Из госпиталя, значит? Я тоже хлебнул… ранен в плечо был.
Но Ракитин не стал больше слушать Григория, отвернулся. Тотчас обступили его колхозники, заговорили все разом, оттерли от Бородина.
5
На другой день Тихон уже вышагивал по улицам деревни, заглядывая в каждый уголок, точно, уходя в армию, он оставил там что-то, а теперь ходил и смотрел — уцелело ли? Потом часа два сидел на берегу озера, молча смотрел вдаль, на зеленоватые волны.
Вечером зашел к Веселовым. Поленька метнулась в дальний угол, сорвала со стены полотенце, вытерла стул и подвинула его Ракитину.
— Спасибо, — проговорил Ракитин. — Вот ты какая стала! Сколько тебе уж лет-то?
— Двенадцать, — ответила Поленька и смутилась. — Вы подождите, мама сейчас придет. Она вечерами, после работы, сено для нашей коровы косит. Нынче председатель далеко нам покос отвел, возле Волчьей пади. Как вот вывозить будем — и не знаем… Уж вы подождите.
— Я подожду, подожду… Как живете-то?
— Ничего, живем. Мама всю войну огородной бригадой руководила… А недавно председатель снял ее. Сейчас она на разных работах…
Евдокия действительно скоро пришла. Увидев Ракитина, подбежала к нему, уткнулась в плечо и беззвучно заплакала.
— Ничего, ничего… — говорил Тихон, неумело поглаживая ее по спине. — Может, еще и жив Андрей… как я вот…
Евдокия без слов покачала головой. Да и сам Ракитин понимал: то, что случилось с ним, бывает редко, настолько редко, что успокаивать сейчас этим Евдокию бессмысленно.
На следующее утро Тихон пошел в колхозную контору. Бородин, увидев его через открытую дверь своего кабинета, поспешно вскочил из-за стола:
— Заходи, заходи, Тихон Семенович.
Ракитин поздоровался со счетоводом Никитой — племянником Демьяна Сухова, сидевшим в бухгалтерии между двух облезлых столов, кивнул Павлу Туманову, завернувшему в контору, чтобы попросить наконец у Бородина работы в кузнице. Туманов проводил Тихона взглядом до тех пор, пока за ним не захлопнулась дверь председательского кабинета.
Григорий Бородин, собственноручно прикрыв дверь, пододвинул Ракитину старенькое, скрипучее кресло:
— Садись, садись, Тихон Семенович… Значит, ты, я полагаю, насчет работы пришел?.. — говорил и избегал смотреть в лицо Тихону.
— А ты, значит, жив все-таки? — опять, как в день приезда, спросил Ракитин, усаживаясь в кресло.
Григорий попытался улыбнуться, но улыбки не вышло. Тогда он отвернулся и стал смотреть в окно.
— А ты что, думал меня… одним выстрелом прихлопнуть? Бородины живучи, хе-хе… — Но и шутки не вышло. Григорий обернулся, поворошил бумаги на столе, скользнул взглядом, будто невзначай, по лицу Ракитина и опять отвернулся. — Меня простили, потому что… кровью заслужил потом это… Так что… все в порядке по этой линии.
— Как же все-таки от суда отвертелся? Тебя ведь судить надо было…
— Не стали судить, простили… — опять повторил Бородин. — Сказали: иди на передовую, искупай свою вину. И я пошел…
— Врешь!
— Ей-богу…
— Ладно, — махнул рукой Ракитин. — А все-таки я напишу в военкомат, пусть-ка они еще раз проверят.
Григорий вскочил, потом сел, вернее, упал на стул. В голове у него промелькнуло: «Что же делать? Ведь расскажет Тихон, как на фронте я отказался в решающий момент выполнить приказ командира. Расскажет, что собственноручно стрелял в меня… Тогда не только с председателей снимут — судить еще вздумают… Хотя…»
И, вспомнив, видимо, что-то, поднял голову, прищурив глаза, чуть-чуть усмехнулся.
— Не боишься, что ли? — спросил Ракитин, внимательно наблюдавший за Григорием
— Нет, — ответил уже спокойно Бородин. — Когда по разным госпиталям валялся, встретил бывшего однополчанина. Он-то и рассказал: не только от нашего взвода, от полка горсточка людей осталась после того боя… Рассовали, говорит, кого куда по разным частям… А лейтенанта еще при мне в живот… Так что пиши не пиши — концов не найдешь теперь… А по-хорошему бы мы с тобой…
Тихон молчал, не спуская с Григория глаз, ждал, что он еще скажет.
И Григорий осекся под этим взглядом, опустил глаза. Уже другим голосом, жалким, сломленным, он промолвил:
— Я прошу тебя — не поднимай старого, не… А на тебя зла не держу, что было, то прошло… Даже… даже спасибо тебе могу сказать… за науку…
— Ну, тогда рассказывай, — еле расслышал Григорий, хотя Ракитин произнес это обычным голосом.
— Чего? — вздрогнул Бородин.
— Все, что дальше было, после того… — Тихон приостановился, снова пристально посмотрел Бородину в глаза. И тот не нашел в себе сил отвести их в сторону. — Только честно. Ежели почувствую ложь, то…
— Ладно, слушай, — тихо, обреченно произнес Бородин. — Ты в плечо мне, навылет… Ну, и сам вместо меня, значит, уполз к доту, забросал его гранатами. Все в атаку кинулись, я остался лежать на земле. Сколь лежал, не помню, но, должно, долго. Открыл глаза, вижу, звезды… ночь. А бой все идет. Кто-то подобрал меня, ну и уволок в санчасть. Потом артиллерийский обстрел. Санитарные палатки разнесло. Помню еще: забросили меня прямо с носилками в кузов автомашины. Больше ничего не помню. Очнулся — палата. Как принесли в нее — не знаю. Лечили, конечно… как раненного в бою. Ну, так вот и провалялся в госпиталях полгода. Затем признали негодным к службе и… вот приехал в Локти…
Рассказывая, Григорий чувствовал, как постепенно холодеют у него руки, ноги, спина, сердце. Казалось ему, что он не просто рассказывает, а сам себя закрывает крышкой гроба. С каждым словом щель остается все уже и уже. Но прервать рассказ или попытаться что-то выдумать более или менее правдоподобное в свою пользу Григорий уже не мог. Он чувствовал на себе властный и цепкий взгляд Тихона и знал: одно ложное слово — и тогда Ракитина не уговорить.
Кончив, Бородин сидел несколько минут не шевелясь. Наконец вымолвил:
— Вот и все…
Тихон встал. Григорий также поспешно поднялся, опираясь обоими кулаками о стол. Может, затем, чтобы скрыть дрожь в руках.
— Вот и все, Тихон Семенович, — повторил Григорий. — Начистоту выложил. Не пощадил себя… Знаю, ты поймешь, вот и рассказал… Колхозники оказали честь, председателем избрали…
При этих словах Тихон удивленно повел плечами:
— Вот этого-то я никак и не могу понять. За какие таланты тебя избрали?
— Что же… у каждого есть свой талант, — проговорил Григорий, а сам смотрел на больное плечо Ракитина и вспоминал почему-то, как давным-давно Тихон подставил его под накренившийся воз, задрожал всем своим могучим телом, но приподнял все-таки бричку с соломой и держал многопудовую тяжесть до тех пор, пока он, Григорий, не надел слетевшее колесо. — Только люди не видят их друг у дружки иногда…
— Ладно, — тяжело произнес Ракитин, поднимаясь. — Чувствуешь, гад, что не взять тебя сейчас ни с какого боку. Ускользнул…
— Что ж, оскорбляй… Снесем и это, — обиженно качнул головой Григорий. — А уж ты-то должен понять, что я благодарность к людям за доверие чувствую. Работать хочу, чтоб оправдать… все.
— Что ж, работай пока… оправдывай. Работа тебя сама покажет.
— Постой, постой, Тихон Семенович! — крикнул Бородин. — Насчет твоей работы потолкуем.
— После зайду, — уже на ходу сказал Ракитин. — Надо вот мне на партийный учет определиться куда-то, поскольку у нас в Локтях нет парторганизации. Дай-ка лошадь, в райком съезжу.
— Ты же… беспартийным был, — упавшим голосом промолвил Григорий.
— На фронте вступил. Так дашь лошадь?
— Бери, — махнул рукой Бородин.
Едва захлопнулась за Ракитиным дверь, Григорий глубоко, часто и жадно задышал, будто при Тихоне ему не хватало воздуха.
Дверь в кабинет снова приоткрылась, и Муса Амонжолов, войдя со своим неразлучным топором на плече, сказал:
— Телятник почти построили, плотнику там делать нечего. Какое задание теперь будет? — И, оглянувшись на дверь, добавил тише: — За лошадей спасибо, председатель. Вот… — И, еще раз оглянувшись на дверь, приоткрыл ящик письменного стола, бросил туда несколько смятых тридцатирублевых бумажек.
— Вон! — сначала прошептал Бородин, поднимая на Амонжолова маленькие глаза, а потом рявкнул что есть силы: — Во-он!
И трахнул кулаком по столу.
Муса Амонжолов от неожиданности попятился, уронил топор на пол. Но поспешно схватил его и выскочил из кабинета.
А Григорий долго еще сидел за столом и смотрел на то место, куда упал топор Мусы Амонжолова. Потом перевел взгляд на открытый ящик, где лежали деньги, медленно задвинул его. И, снова вспомнив, как Тихон Ракитин поднимал когда-то чуть не опрокинувшуюся его бричку с соломой, подумал: «Лучше уж не становиться теперь поперек дороги ему».
Глава третья
1
Тихона Ракитина назначили заведующим молочнотоварной фермой и ввели в правление колхоза.
После приезда Ракитина Григорий энергично взялся за дела. Задолго еще до уборки он начал беспокоиться о жатве, с утра до вечера носился по бригадам, проверяя, как готовятся амбары под зерно. Однажды при всех крепко отчитал Мусу Амонжолова за то, что тот, ремонтируя пол в амбаре, поставил несколько сырых плах.
— Ты, дурья башка! — орал Григорий, наступая на Мусу. — Плахи высохнут — щели будут. Зерно под амбар поплывет. Сам же, дьявол, меньше на трудодни получишь…
— Чего ты кричишь? — обиделся Муса. — Возьми топор да работай сам…
— Ну и возьму!.. Давай сюда! — Григорий выхватил из рук вконец опешившего Мусы топор и скинул пиджак. — Иди отсюда к чертовой матери… Явись вечером в контору, я с тобой поговорю еще
И принялся выворачивать сырые доски…
Вечером Муса зашел. Григорий поднял на него прищуренные глаза, потам бросил взгляд на ящик письменного стола, куда Муса кинул несколько недель назад деньги. Амонжолов молчал, прислонившись к косяку двери.
— Зачем лошадей тогда брал? Куда гонял? — спросил Бородин.
— Так, недалеко… Ну… Ругай, что ли, коль вызвал.
— Дурак ты… Понимать надо… Отправляйся…
— Мы понимаем, что ты… ой, прямо черт! — ухмыльнулся Муса. — Потому и обижаемся не всерьез.
Григорий несколько раз ездил в МТС и требовал быстрейшей отправки комбайнов на локтинские поля. Однажды потащил с собой Туманова и Ракитина.
— Вот, полюбуйтесь… — сказал он, подводя их к старенькому, расшатанному комбайну «Коммунар». — Гроб рассохшийся, а не комбайн. Чтобы отвязаться от меня, решили в Локти эту телегу направить. Да на черта она нам?! Толку с такой машины! В другие колхозы новенькие дают, а нам… Айда в контору, возьмем директора за жабры…
А когда возвращались обратно в Локти, Ракитин сказал:
— Насчет нового комбайна ты, Григорий, зря пока… Не дадут нам новый… МТС всего их два получила в этом году. И директор правильно сказал: покрупнее локтинского в районе есть колхозы, туда в первую очередь…
— Всяк о своем горе в первую голову беспокоится, — буркнул Григорий, перебив Тихона. — У меня на руках тоже колхоз, а не что-нибудь.
— Надо, Григорий, на комбайны нынче меньше всего надеяться, — проговорил Туманов. — Старенькие они все, день покосят да три стоять будут. Самим надо что-то думать…
— Тут думай не думай — около тыщи гектаров. Зубами их, что ли, рвать?!
— Лобогреек сколько у нас?
— Две. Вот и вся наша техника. — Григорий усмехнулся.
— Тем более надо сейчас крепко подумать обо всем, — продолжал Ракитин. — Бригады косарей организовать. Те же лобогрейки должны круглосуточно работать. Короче — надо составить подробный план уборочной, обсудить…
Григорий, не поворачивая головы, покосился на Ракитина и проговорил:
— Что ж, давайте помаракуем, обсудим…
Потом несколько минут ехали молча. Плыли навстречу зеленовато-желтые волны поспевающей пшеницы. Глядя на них, Ракитин вдруг спросил Туманова:
— Ты, Павло, беспартийный, кажется?
— Беспартийный.
— А почему?
— То есть как — почему? — удивленно спросил Туманов. — С моим образованием, да в партию? Читаю-то по слогам.
— Я тоже когда-то так думал. Потом понял. Не важно, как читаешь, важно, как понимаешь прочитанное. Ну, да потолкуем как-нибудь еще об этом.
Ракитин помолчал и задумчиво произнес:
— Я на партучете в станционном поселке состою. На собраниях коммунисты там о каких-то браках говорят, врезах стрелок, графике движения. Спорят, критикуют… А я сижу — и ничего не понимаю. Все время думаю: в нашем бы колхозе парторганизацию создать. Ведь какую бы помощь в работе председателю она оказывала! Но, выходит, не создашь пока… Был еще один коммунист у нас — Гаврила Разинкин, но в МТС уехал.
Григорий снова покосился на Ракитина и Туманова, но и на этот раз промолчал.
— Гаврила, слышно, бригадиром тракторной бригады там? — спросил Туманов.
— Бригадиром.
И больше не говорили до самой деревни. Каждый думал о своем.
Когда началась уборка, Григорий по-прежнему проявлял большое беспокойство. Теперь уж многие говорили меж собой:
— Григорий-то в самом деле того… болеет за хозяйство. А мы ведь что думали…
До Бородина доходили такие разговоры. Доносил о них чаще всего Бутылкин.
— Поневоле заболеешь, коли за каждым шагом следят… Партийную организацию вот хотят создавать, слыхал? — раздраженно спросил однажды Григорий.
— Ну?! — спросил Бутылкин и пожал плечами. — Пусть создают.
— Дуур-рак! — негромко произнес Григорий и отвернулся. — Тогда ведь… труднее тебе воровать будет. Да и вообще кончается твое время, Бутылкин. Поймают тебя, тогда что запоешь?
— Кому ловить-то? Кругом свои.
— А Ракитин? Туманов? И эта… Веселова?
— Конечно, на щуку ловцов много, — вдруг согласился Бутылкин. — А она до старости в тихом омуте живет…
Оставаясь наедине с самим собой, Григорий хмурил узкий лоб, будто все время старался вспомнить что-то важное, но не мог и, глядя в окно на пустынное озеро, думал: ведь отец мечтал поставить на берегу рыбокоптильню. В последнее время эта мысль приходила каждый раз, едва Григорий бросал взгляд на озеро, вызывала другие воспоминания: о старом цыгане, о Лопатине, о Гордее Зеркалове и о его сыне Терентии. Жили люди, ходили по земле — и вот давным-давно нет их… Вспоминался даже бывший ссыльный Федор Семенов, который во дворе веселовского дома рассказывал мужикам о Временном правительстве. «А этот жив, однако… — подумал однажды Григорий. — Глаза-то под бровями, как ножи, сверкнули, когда встретились…» И снова: отец, расхаживающий по комнате, строящий планы об открытии лавки, о рыбокоптильне, о богатстве… Давно все было это — и вроде недавно, будто вчера…
Между тем шла уборка. Локти опустели, Григорий всех отправил в поле. Теперь кое-кто ворчал даже, что вот, мол, председатель лютует, в субботу помыться в бане не дает.
— Что ты в самом деле, — заметил как-то Ракитин. — Мера ведь нужна во всем.
Григорий вскипел, чуть не крикнул: «Чего ты суешь все время нос в чужое дело?!» Но сдержался.
Ночами к дому Бородина иногда подворачивал на машине Егор Тушков.
Однажды Григорий сказал Бутылкину:
— Вот что, друг сердечный, хватит…
— Как тебя понять? — насторожился Бутылкин.
— А зачем мне все это? Все равно сгниет, попортится. — Григорий говорил и смотрел на Бутылкина, будто на пустое место.
— Запас карман не трет, Григорий Петрович, — начал после некоторого молчания Бутылкин, но Григорий прервал его:
— А ну вас всех к чертовой матери… Сволочи вы все!
И пошел в дом, тяжело покачиваясь на ходу.
Бутылкин догнал его, часто засыпал словами:
— Ты не волнуйся, Григорий Петрович. Это, так сказать, в порядке уважения. Мы друзей различаем. А ты ведь, я думаю, и сам не знаешь, что тебе надо, а?
— Ага, ты думаешь? — обернулся Григорий. — Но коль поймаю — других не марай. Расписок я тебе никаких не давал, так что никто не поверит…
— Ах, вот ты о чем!.. — воскликнул Бутылкин и расхохотался. Потом подошел и покровительственно похлопал Григория по плечу: — Ничего, ничего…
Перед самым снегом, когда колхозникам выдавали хлеб на трудодни, Григорий говорил чуть ли не каждому:
— Дали бы на трудодни побольше, да видите, какое время. Весь хлеб государству сдали. Сами знаете, сколько разрушено за войну. Восстанавливать надо. Да и врага еще добивать в его логове. Ничего, заживем! А пока с личных огородов как-нибудь пропитаемся.
Дома, хлебая наваристые щи, говорил жене:
— Заживут колхозники — шиш! Все подчистую в амбарах подмели. Дополнительный план хлебозаготовок еле-еле выполнили. До зерна обобрали.
— Что-то не то говоришь, — несмело промолвила Анисья. — Будто уж до зерна…
— Ну, загавкала… Молчи в тряпочку! — повысил голос Бородин. — В одно ухо влетело, в другое вылетело, поняла?
Анисья умолкла, а Григорий долго еще дергал небритой щекой. Если бы кто посмотрел на Бородина в ту минуту, то подумал бы, что он собирается зло рассмеяться, но никак не может осмелиться.
Зимой без особых споров Григория переизбрали председателем.
* * *
При появлении отца Петька забивался куда-нибудь в угол, сидел там, боясь пошевелиться, терпеливо ждал, когда он уйдет. Но чаще всего Григорий громко кричал:
— Ну-ка, поди сюда, Петруха!
Петька тогда вздрагивал, подходил к отцу.
Как-то Григорий спросил:
— Ты почему на отца не смотришь? Еще поучить, что ли? У меня живо поспеет. Ты понял?
— Понял, — промолвил Петька, не поднимая головы. Однако заставить сына смотреть ему в глаза так и не мог. Это приводило его в бешенство. Однажды он закричал:
— Ах ты змееныш! Весь в мать. Ну, погоди, погоди! Я ведь задушу тебя когда-нибудь!
— Ну и души, — спокойно, равнодушно отозвался Петька.
Сдвинув брови, Григорий долго смотрел на Петьку, но ничего не сказал.
С того дня не заставлял больше сына смотреть ему в глаза, не заводил даже об этом разговора. Может быть, потому, что понял: через край хватил, невозможного добивается.
Анисья вначале пыталась вступиться за сына. Но Григорий в первый же раз грубо отбросил ее в сторону. Однако Анисья снова кинулась между мужем и сыном. Тогда Григорий, на глазах у Петьки, в кровь избил и ее.
После этого Анисья почти каждый вечер плакала, пряча глаза от мужа и сына.
Петька сделался еще более замкнутым, почти никуда, кроме школы, не ходил. Он учился теперь в четвертом классе. Время от времени к нему прибегал Витька Туманов, приносил с собой запахи мерзлой лесной хвои.
— Понимаешь, вчера ходил на лыжах в Гнилое болото петли на зайцев ставить, — быстро говорил Витька и часто моргал глазами. — Через пару дней проверять собираюсь. Ты как — может, пойдешь со мной?
— Я бы пошел… — ответил Петька. — Вот отец…
— Да ему что — жалко?
— А кто его знает?.. Только обязательно бить будет. — Петька повернулся к товарищу и спросил почему-то шепотом: — Тебя отец-то бьет?
— Зачем ему меня бить? — удивился Витька.
— Ну, я вот разве знаю зачем.
— Поленька, знаешь, тоже со мной просилась, — сообщил Витька. — Да я не возьму.
— Почему?
— Вот еще!.. Зачем она мне? Мешать только будет.
Потом Витька посмотрел по сторонам, вплотную приблизил свою голову к Петькиной:
— А ты, знаешь, ушел бы из дому, раз такое дело, а? У нас бы пожил пока.
Петька минуты три молчал, соображая что-то.
— Я бы ушел, — сказал он наконец. — Только маму жалко. — И еще через некоторое время добавил: — Он ведь и ее теперь бьет…
— Кого, мать?! Это как же?!
Петька молчал.
— Так вы бы вместе с ней ушли!
— Нельзя нам, — вздохнул Петька.
— Почему?
— Боится она. Раз я слышал, как он сказал ей: «Смотри, задумаешь уйти — найду, башку оторву. Ничего, говорит, меня не остановит». Вот она и боится.
— А может, все-таки пойдешь со мной? — неуверенно проговорил Витька. — Вот увидишь, принесем штук пять зайцев. Их развелась сейчас кругом — тыщи…
Петька несколько минут колебался.
— Нет, — сказал он наконец. И, опять вздохнув, прибавил: — Он меня и не побьет, может, накричит только. А мамка опять плакать будет. Мне ее жалко. Ты понимаешь? Думаешь, за себя боюсь?
— Понимаю, — сказал Витька и тоже вздохнул.
2
Утрами Григорий обычно приходил в контору, хмурясь, подписывал накладные, распоряжения и прочие документы. Потом отдавал кое-какие распоряжения по хозяйству — и направлялся домой.
По улицам шел не торопясь, как ходил по ним много лет назад, во времена коммуны. Шел, так же заложив руки в карманы, так же поглядывая по сторонам прищуренными глазами.
Ненадолго хватило «обновленного» Григория. Активности, которую он проявлял в прошлом году, как не бывало.
Однажды, прежде чем отправиться домой, послал жену Федота Артюхина, которая работала уборщицей в конторе, за Евдокией Веселовой.
— Прибаливает она, Евдокия-то, — грустно сказала Артюхина. — Гошка Тушков сколь годов подряд заставлял ведрами воду на огород таскать. Сам потаскал бы, жирный боров. Угробил бабу, однако… Ты хоть дай ей вздохнуть, Григорий, определяй на работы, где полегче.
Григорий хотел было резко прикрикнуть на Артюхину, уже повернулся к ней всем телом, но подумал и сказал мягко:
— Дам, дам ей подышать.
Когда Евдокия переступила порог конторы, Григорий долго осматривал ее с головы до ног, не разжимая своих потрескавшихся, заскорузлых губ.
— Чего звал? — не выдержала наконец Евдокия.
— Как здоровье-то? — спросил Григорий. — Прибаливаешь, говорят?
— Ты, Григорий, не прикидывайся овечкой…
— С завтрашнего дня отправляйся семенное зерно подрабатывать. Потом протравливать его будешь. Да смотри, руководи там… Руководить ты любишь…
Вызывая Веселову, он хотел всего-навсего уточнить состав работниц огородной бригады на лето, но после слов Артюхиной передумал вдруг…
Ни слова не говоря, Евдокия пришла на другой день в амбары и принялась за работу.
На этом бы, вероятно, и кончились заботы Григория о подготовке к севу. Но когда с крыш покатилась капель, а от пригретых солнцем обтаявших стен домов пошел тонкий парок, Ракитин сказал председателю:
— Сев ведь, Григорий, скоро. А ты…
— Что я? — грубо спросил Бородин.
— Хоть бы сходил когда к амбарам, посмотрел, как семена готовят.
Григорий взорвался:
— Вот что! Ты заведуешь фермой — так и суй нос коровам под хвост. А в чужие дела не лезь!
Григорию все время казалось, что Ракитин со дня своего приезда настороженно наблюдает за ним. Скрепя сердце Бородин сдерживался, потому что побаивался Ракитина. Но сегодня его раздражение выплеснулось само собой.
Дело происходило в конторе. В кабинете председателя сидели: сам Бородин, Ракитин и Павел Туманов За раскрытой дверью кабинета, в комнате, служащей бухгалтерией, было много народу. Все повернулись к двери и притихли. Даже счетовод Никита перестал щелкать на счетах.
— Ты зря кипятишься, Григорий, — сказал Туманов. — Тихон правильно говорит тебе: надо проверять семенной материал…
— Он все на Евдокию надеется, — добавил Ракитин. — У бабы здоровьишко никудышное, а он ее поставил ядовитую пыль глотать.
Григорий, еще не думая, чем все кончится, бегал по кабинету, выкрикивая отдельные слова:
— Кипятишься!.. На Евдокию… Здоровьишко никудышное?! — Потом остановился против Тихона и вдруг усмехнулся: — А недавно требовал Евдокию в правление ввести. Ишь куда клинья бьешь!
— Какие клинья?! — привстал Ракитин.
— Ты сиди, сиди! — бушевал Григорий. — Думаешь, не вижу, к чему подлаживаешься?! Я для тебя, как бельмо на глазу! Ты в председатели метишь, а я мешаю… Подтягиваешь к себе своих людей. Пашку Туманова в правление протащил, Евдокию хочешь…
Тихон с грохотом отбросил в сторону стул и побледнел.
— Да ты… что?
Григорий кинулся вдруг к столу, схватил свой стул и поставил его перед Ракитиным:
— Вот мой стул. Садись давай, командуй. Только не обливай меня грязью. Я знаю, ты уж распускаешь слухи, будто я на фронте… Э-э, да что! Садись, говорю, руководи.
Ракитина, потрепавшего на войне нервы, вдруг начало колотить. Павел Туманов, не без основания опасавшийся, что дело может кончиться плохо, крепко схватил сжатый кулак Ракитина. Ракитин шумно, как паровоз, выдохнул из себя воздух.
— Вон ты как! — сказал он, подергивая бледными губами. — Что ж, откровенность на откровенность, раз на то пошло. Никаких слухов я не распускаю. А надо бы всем рассказать, какую ты рану принес домой. В председатели я не мечу. Но ты случайно попал на это место, понял?
— Как не понять? Все понятно и мне и людям вот… Давай уж выкладывай все сочинения, какие придумал обо мне. Остальные Пашка Туманов довыложит, он у тебя на подхвате. Говори, вот он, народ-то… Может, и поверят тебе!..
Ракитин обернулся назад. В бухгалтерии по-прежнему стояла тишина. Только что вошедшие с улицы люди толпились вокруг столов, вытягивали шеи, пытаясь через головы других заглянуть в кабинет.
— Вон ты как! — повторил Ракитин, невесело усмехаясь. — Вижу, возомнил о себе много. Думаешь, царь и бог теперь здесь.
— Царь не царь, а… вот она дверь, открытая…
Однако Ракитин не тронулся с места. Он опять стал наливаться гневом, как свинцом. Павел Туманов схватил теперь его за обе руки и потащил из конторы.
На улице Ракитин немного остыл, молча шагал по мягкой дороге, уткнув нос в мохнатый воротник полушубка.
Возле дома Ракитина Туманов сказал:
— Зря ты горячку порол, Тихон.
— Да ведь он, сволочь такая, что выдумал…
— Он выдумал, а вот теперь оправдайся попробуй… Он знал, что делал.
Ничего больше не говоря, даже не попрощавшись, Тихон толкнул калитку.
3
Скоро зачернели унавоженные улицы деревни, осели в палисадниках мокрые сугробы. Снег сделался крупчатым, тяжелым. Утрами он покрывался прочной ледяной коркой, выдерживающей тяжесть человека, а к середине дня подплывал желтоватой водой.
Потянуло над Локтями первыми волнующими запахами весны.
Бородин не спеша готовил хозяйство к севу. Давая колхозникам задания, смотрел людям не в лицо, а куда-то мимо. Едва появлялись в конторе Павел Туманов или Ракитин, Бородин чуть заметно, одним уголком губ, усмехался и делал вид, что не замечает их. Если те обращались к нему, Григорий старался отвечать как можно короче: ладно, правильно, делайте…
После завтрака шел проверять, как протравливаются семена, сколько кузнецы оковали за вчерашний день колес, отремонтировали борон. Заглядывал и на конюшню и на скотный двор. Теперь он не горячился, не кричал, как осенью. Если замечал непорядок, говорил тихим и ровным голосом:
— Вы, дьяволы, за что трудодни получаете? Чтоб к завтрему все было исправлено.
Перемена в поведении Григория всем бросилась в глаза. Колхозники спрашивали:
— Да что ты, Григорий Петрович, точно вареный ходишь? Ведь осенью-то как руководство держал?! Потому и уборку провели быстрее других.
Григорий обычно присаживался, вытаскивал кисет и горько усмехался:
— А зачем мне здоровье тратить? Все равно снимут. Живьем едят меня Ракитин с Тумановым. — Закурив, поднимался, сосал самокрутку, плевал на мокрый снег. — Слыхали, что Ракитин мне заявил в конторе? Не по тебе, мол, должность… Коль не по мне — берите ее себе. А я и так проживу. Руки, слава богу, есть, работать привычны.
И медленно уходил прочь.
И как-то так получилось, что многие колхозники сочувствовали Григорию. А тут не терялись Бутылкин, Муса Амонжолов, Егор Тушков. При удобном случае каждый из них говорил:
— Голодной курице все просо снится… А Ракитину — председательское место…
— Ракитин-то ничего… разбирающийся в делах человек, — возражал иногда кто-нибудь.
— И беспокойный вроде… хлещется день и ночь.
— Он хлещется… как рыба на крутом берегу — все к воде да к воде. Рыба — та хоть бездумная, а Ракитин — себе на уме.
— Ну, это ты зря!
— Вот тебе и «ну-у»… А Бородин чем плох? Заботится о народе. Электростанцию вон собирается построить.
— Электростанцию? Врешь!
— Поди спроси.
Спрашивали. Григорий отвечал нехотя:
— Нынче с лета начнем строить. Снимут меня — хоть люди добрым словом каждый вечер вспоминать будут…
И незаметно некоторые колхозники стали пропитываться неприязнью к Туманову и Ракитину. Тихон попытался на ферме поговорить со скотниками по душам. Но сделал это, очевидно, неумело. Колхозники слушали его, перекидываясь насмешками, а кто-то даже крикнул:
— Заливай! Понимаем…
Оскорбленный, он выбежал из коровника и сразу увидел Григория возле амбара с семенным зерном. Бородин тоже заметил его и, почуяв неладное, скрылся в амбаре, где человек десять насыпали в мешки пшеницу. Ракитин, заскочив в амбар, подбежал к Бородину и рванул его за рукав.
— Агитируешь народ, сволочь!
— Чего их агитировать? Они и так добросовестно работают, — не растерялся Григорий. — Сев на носу, каждый понимает. Агитация не нужна. А вот отсеемся — тогда начну агитировать… на строительство электростанции. Дело новое…
Веселова, опасаясь скандала, поспешно вытолкала Ракитина из амбара и увела прочь. Григорий бросил вслед:
— Успокойся… Сам я уйду с председателей. Вот кончим сев, проведем общее собрание…
Григорий сел на кучу мешков, сваленных возле входа в амбар, обиженно стал смотреть в одну точку.
— Что это вас с Ракитиным мир не берет? — вернувшись, насмешливо спросила Евдокия.
Бородин быстро взглянул на нее. В короткой ватной фуфайке, в шерстяном платке, туго повязанном вокруг головы, Евдокия показалась ему на миг молоденькой девушкой.
— Нас с тобой тоже почему-то не берет он… всю жизнь, — ответил Григорий.
— Ну, здесь-то можно понять, — тем же голосом ответила Евдокия.
— И тут можно… Чужой хлеб всегда слаще кажется. Сказал я, что сам уйду с председателей — и уйду…
Евдокия проговорила тихо:
— Не ври! — и погромче: — Не ври!! И что уйдешь сам, и что зарится он на твое место… Другое промеж вас…
— На ко… на кого кричишь?! — задохнулся Григорий, вскочил на ноги, вытащил из карманов руки.
Опять его огромные крючковатые пальцы сжимались и разжимались. Но Евдокия только усмехнулась.
— Не кипятись… Скопится внутри злоба, как пар, и лопнешь… Ну-ка, пусти… — Евдокия так дернула у него из-под ноги пустой мешок, что он покачнулся, чуть не вывалился из амбара, но успел задержаться за косяк.
Григорий страшно побагровел, усы его начали подрагивать. Не помня себя, он, сжав кулаки, шагнул к Веселовой. Евдокия спокойно обернулась к нему и только согнала с лица улыбку да приподняла густую бровь.
Секунду они смотрели ненавидяще друг на друга. Потом Веселова проговорила звонко, отчетливо:
— Что лопнешь — не жалко. Вонища только на всю деревню будет…
И тотчас хрипло Григорий:
— Ладно… Мы еще посмотрим… Мы посмотрим…
Повернулся круто — и вышел
4
Занимаясь текущими делами, Григорий постоянно мучился одной и той же мыслью: как совсем убрать Ракитина со своего пути. И не только потому, что боялся за председательское место. Не мог Григорий простить Ракитину фронтового выстрела: «Ведь чуть не убил, сволочь!» Но как расправиться с Тихоном, пока не знал.
Постоянно жила в мозгу Бородина и другая мысль. Как бы ни старался Бутылкин со своей компанией, обливая грязью Туманова с Ракитиным, колхозники все-таки не поверят в его, Григория, заслуги, если их не будет на самом деле. Значит, надо работать, надо… по-хозяйски заботиться о колхозе, о людях. Об электростанции кто-то речь завел, наверное, тот же Бутылкин. Что же, хорошо. Придется строить помаленьку… со следующего года. А пока что-нибудь придумать, не столь хлопотливое. Но что?
Однажды Петька, готовясь к весенней рыбалке, целый день возился с лесками, поплавками, крючками Григорий долго смотрел на него и снова подумал об отце, который мечтал поставить на берегу рыбокоптильню.
На другой же день поехал в район, привез оттуда четырех плотников.
— Карбузы будут делать, — объяснил он колхозникам.
— А зачем?
— Создадим рыболовецкую бригаду. А то стыдно — живем у воды, а рыбы не видим. Война-то, по всему видать, вот-вот кончится Приедут демобилизованные — мы их свежей рыбкой угостим.
Плотники, под руководством Мусы Амонжолова, работали быстро. Скоро две огромные лодки лежали кверху днищами на заснеженном еще берегу. Бородин назначил ловцов, велел пока конопатить и заливать варом карбузы. Сам частенько наведывался на берег.
— Евдокию Веселову освободил бы, — заметил Туманов, тоже завернувший однажды к озеру.
— Это почему? — недовольно спросил Бородин. — Семена ей протравливать вредно, рыбачить нельзя… Вместо иконы, что ли, повесить да молиться?
— Не по возрасту ей рыбу ловить. Да и здоровьишко, знаешь же… А одежда и того хуже. Простудится.
— Ништо, — ответил Григорий. — К Андрею зимой босиком бегала…
Сказал будто без злости, с улыбкой, но горько стало Евдокии от такой шутки. Думала, что не знал он, как двадцать с лишним лет назад, морозной ночью, бежала, сбросив валенки, к Андрею, подслушав случайно разговор колчаковцев. Но, оказывается, Бородину это было известно, хотя и лежал он тогда в горнице, как сурок в норе.
Евдокия задышала часто-часто, в глазах вспыхнули и затрепетали презрительные огоньки. Но она сдержала рвавшиеся наружу гневные слова, сказала тихо, спокойно.
— Я бегала, верно… Мне что скрывать? Не только ведь мужа — нашу власть, наших людей бежала спасать от гибели. А вот ты зачем тогда по лесу ночью шатался? И куда?
Туманов уже отошел от них. У карбузов Веселова и Бородин остались одни Метрах в пятнадцати колхозники пытались разжечь костер, чтобы растопить в котле вар. Григорий внимательно смотрел вслед удаляющемуся Туманову, но, услышав слова Евдокии, как-то медленно, очень медленно повернулся к ней. Он не мигая смотрел на Евдокию и старался удержать отваливающуюся челюсть.
— Что с лица сошел? Может, и в самом деле догадки мои верные? — начала было Веселова, но Бородин наконец проговорил хрипло:
— Ты откуда знаешь, где и куда я ходил?
— Еще бы не знать, — насмешливо сказала она, — если ты чуть не наступил на меня. Шла один раз ночью из леса, из отряда Андрея, в деревню. А ты навстречу шагаешь. Присела под кустом — ножищи твои совсем рядам протопали.
— Так… — Григорий помолчал и еще раз протянул растерянно: — Та-ак…
— Дура я тогда была, — продолжала Евдокия. — Думала — прячешь что в лесу… Завелись ведь в ту пору деньжонки у тебя… А потом — сколько лет прошло — перед самой войной, стукнуло мне вдруг: за этим ли ходил ночами по лесу?
Григорий дернул усом.
— Что же не сказала Андрею? Он обязательно поинтересовался бы…
— Не хотела мараться об тебя. Закричал бы ведь — Андрей за девку мстит… А вот теперь жалею…
— Ага, жалеешь?! — уже насмешливо протянул Григорий, понявший, что Евдокия ничего толком не знает. — Ну, так сейчас заяви. Может, найдется следопыт, понюхает мои следы, если охота придет. Они еще свежие, им всего третий десяток лет идет.
— Потому ты и осмелел так. Да поимей в виду, жизнь-то — она такая, что не сегодня, так завтра может старое раскрыться. Тогда как запоешь?
— Ну, вот что! — обозлился Бородин. — Давай помалкивай, клевету не разводи! А то… — Он так и не мог сказать, что «а то», и заорал: — Разговорилась тут! Помогай вон людям дело делать…
Глава четвертая
1
Всеми правдами и неправдами Бородин держался на председательском месте несколько лет. Он не только давал щедрые обещания на отчетно-выборных собраниях, но и кое-что делал по хозяйству: ремонтировал скотные дворы, построил два крытых тока. В сорок пятом году, сразу же после победы, начал строить электростанцию. Только что вернувшегося из армии Степана Алабугина назначил бригадиром строителей. Тот было запротестовал, требуя направить его в кузницу, но Григорий сказал:
— Да не уйдет от тебя кузня… Сейчас работы там мало, один Туманов справится. А электростанция — это ведь великое дело для колхоза. А? Нет, скажешь?
— Конечно, великое, — соглашался Алабугин. — Только какой из меня строитель? В кузне вот я бы…
— Ничего, ничего, Степан… Помоги, пожалуйста, руководству в этом деле. Много людей в твое распоряжение не дам, потому что — где они, люди? Все заняты. Но двух-трех баб откомандирую. Копайте пока котлован помаленьку. Важно ведь начать…
И Степан Алабугин согласился.
Строить электростанцию решили на окраине деревни, возле обмелевшей за последние годы речки. Алабугин и две женщины — жена самого Степана да Настя Тимофеева, молодая вдова, муж которой погиб на фронте в середине войны, — принялись долбить твердый каменистый грунт. Иногда на строительство заглядывал Григорий, садился на кучу земли, молча закуривал и, прищурив глаза, смотрел на грудастую Настю, которая работала обычно в брюках и майке. Поблескивая потными загорелыми плечами, она, не обращая внимания на Григория, кидала и кидала землю лопатой. Потом разгибалась и говорила со смехом:
— Отвороти глаза, а то… раздеваешь вроде. Я и так раздетая…
С тех пор как погиб у Насти муж, пополз про нее слушок по деревне. Может, потому, что была Настя остра на язык, ругаться умела не хуже мужика и жила одна. А может, и в самом деле был за ней грех. Но Григорий смотрел на нее просто так, без всяких мыслей, потому что надо было куда-то смотреть.
Степан Алабугин втыкал лопату в землю и подходил к председателю.
— Ну? — произносил Григорий.
— Роем помаленьку, — каждый раз одно и то же отвечал Алабугин. — Да много ли втроем нароешь?
— Где я тебе больше людей возьму?
— Да хоть бы вместо этих баб мужиков прислал! Женское ли дело землю кидать?
— Ништо… У них жилы крепче…
Затем, когда котлован был почти готов, Степан спрашивал Бородина:
— Где же кирпич-то? Чего не везут?
— Привезти плевое дело. Достать его сперва надо.
— Я говорил — деревянные бы лучше стены сделать. Лес-то свой…
— Строить — так уж капитально. Чтоб столько лет помнили… нас, сколько простоит электростанция.
— Так давайте строить, доставай кирпич…
— А куда тебе торопиться? Трудодни же идут? Идут. Чего еще?
— Чего еще?! — взрывался Алабугин. — Да зачем их зря растрачивать! Щедрый колхозным добром бросаться…
— Ну, ты… — шевеля усами, произносил Бородин. — На выгодную работу поставил тебя, а ты… Все к Ракитину гнешься, к Туманову.
— Э-э, брось, Григорий Петрович, надоело уж, — махала рукой обычно робкая и стеснительная жена Степана.
Григорий замечал, что не только Алабугиной надоели его разговоры о Туманове и Ракитине, которые стараются якобы убрать его, Бородина, с председательского поста. Недаром Федот Артюхин заявил как-то при всех:
— Что-то незаметно этого… То есть, ничего они не стараются, ведут себя по-обыкновенному. Зря ты, Григорий Петрович, на них… — Потом обернулся к народу: — А, товарищи мужики?
Рыболовецкая бригада готовилась к отплытию. С крайней лодки Евдокия Веселова заметила негромко:
— Вот и зря, что не стараются…
Григорий ничего не ответил Артюхину и Евдокии, но уже тогда подумал: «Евдокии глотку не заткнешь, а другим надо попробовать…»
Зимой на отчетном собрании Григорий заявил:
— Помните, говорил я вам однажды, что дал бы на трудодни побольше, да государству хлеб нужен, разрушенное немцами хозяйство надо восстанавливать… И сейчас, конечно, восстанавливаем, но уже полегче нам… Нынче хоть и получили на трудодни крохи, но все же таки побольше, чем в прошлом году. Даю слово, что из года в год колхозники на трудодни будут получать все больше и больше. Потому к лучшей жизни идем. Я, как председатель, настойчиво заботу буду о людях проявлять. А мое слово, вы знаете, крепкое. Насчет электростанции…
— Забота — это хорошо, спасибо за заботу! — крикнул с места неугомонный Федот Артюхин. — А вот почто колхозников за людей не считаешь? Смотришь на нас, как на холопов? Идешь по улице и… того… отворачиваешься от людей…
Григорий поморщился и продолжал, оставляя слова Федота без ответа:
— …насчет электростанции вон обещал — и строим. В будущем году закончим, за клуб примемся. Надо нам хороший клуб, товарищи, позарез…
После собрания Григорий окликнул Артюхина:
— Пойдем-ка вместе, Федот.
Но почти всю дорогу Григорий молчал. Федот семенил следом за председателем, хлопая в темноте дырявыми рукавицами по задубевшему от мороза полушубку.
— Холодно ить, дьявол, — сказал наконец Артюхин. — А ты куда же тащишь меня по морозу. Дом то мой позади остался!..
Григорий остановился и обернулся к Федоту:
— Ты вот что… Чего на собрании язык распустил? Кто просил тебя?
— Так ведь критика-самокритика, Григорий Петрович… Я к тому, чтобы как лучше…
— Смотри, Федот… — угрюмо проговорил Бородин, втянув голову в воротник волчьей шубы. — Народишко забыл, что ты Колчаку служил, у Гордея Зеркалова против Советской власти в отряде воевал. А я помню… Веселова нет, прикрывать тебя некому теперь…
И пошел дальше, оставив опешившего Артюхина на морозе.
С тех пор Артюхин надолго прикусил язык, на собраниях сидел молча, выбирая место где-нибудь подальше, в темном уголке.
* * *
На следующий год электростанцию не достроили, но на трудодни в самом деле получили почти по килограмму хлеба, по нескольку рублей деньгами.
В Локтях долгие годы овес сеяли по овсу, пшеницу по пшенице. Поля так и назывались: ржанище, овсянище… Истощенная земля, не знавшая к тому же всю войну удобрений, дохода почти не давала, урожаи собирали низкие.
То же самое было с животноводством. Приехав из армии и на другой же день заглянув в скотные дворы, Тихон ужаснулся: везде грязь, коровники почти рассыпались, догнивали.
Приняв молочнотоварную ферму, Ракитин навел понемногу кое-какой порядок в животноводстве, некоторые скотные дворы отремонтировал с помощью доярок и телятниц. Сам целыми днями тесал бревна, конопатил стены, стеклил окна. Теперь животноводство, если не давало доходов, то не приносило и убытка.
А колхозникам, получившим по килограмму хлеба на трудодень, вдруг показалось, что Бородин поставил наконец хозяйство на ноги. Многие, получая деньги и хлеб, благодарили Григория. Он на это ничего не отвечал, только усмехался как-то странно в усы и думал: «Хватайте, хватайте…» И вспоминал почему-то далекие-далекие слова Зеркалова: «Надо, Григорий, подрубить сук, на котором они все сидят…»
Частенько наезжали в Локти уполномоченные из района. Разные это были люди. Иной приедет, возьмет какие-нибудь сведения — и тотчас обратно. Другой для вида сходит в коровник, в телятник, на конюшню, а если летом — выедет вместе с председателем на поля. Осмотрев посевы, скажет: «Ничего пшеница», или: «Да, всюду неважный нынче урожай. Засуха». И тоже отбудет в район, будто за тем и появлялся, чтобы сообщить председателю о засухе. Уполномоченных этого сорта Бородин определял на квартиры к Бутылкину, Тушкову или Амонжолову, много с ними не разговаривал.
Но приезжали и такие, которые как-то пытались разобраться в хозяйстве. Бородин научился отличать таких с первого взгляда, с первого слова, на квартиру ставил только к себе. Со всеми замечаниями и советами соглашался безоговорочно: да, плохо, недосмотрели, упустили, исправим… И сам вел показывать хозяйство: вот коровник ремонтируем, вот рыболовецкую бригаду создали, вот электростанцию строим, клуб заложили…
Однажды Григорий повел очередного уполномоченного на берег, где колхозники выгружали улов.
— Вот организовал я бригаду рыболовецкую несколько лет назад, — охотно рассказывал Григорий. — В районе хвалили эту инициативу… Рыбу в потребкооперацию сдаем, своих людей, занятых в поле, кормим, в станционном поселке продаем…
— Спекулируем, скажи, — заметила Евдокия Веселова, таскавшая корзины с мелкой рыбешкой…
— Ты!.. Опять встреёшь куда не надо! — прикрикнул на нее Григорий. И обернулся к уполномоченному: — Ну что за бабенка настырная! Все не по ней, все, что ни делаем, плохо ей кажется… Несколько тут у нас недовольных: Ракитин есть такой, кузнец Туманов…
— Да чему же быть довольным? — подступила Евдокия к Григорию. — Бригаду рыболовецкую организовал, верно. А что ловим? Мальков. Вот посмотрите… — Веселова подвела уполномоченного к карбузам, на дне которых блестела рыбья мелочь.
— Да, да… — сказал уполномоченный.
— Что «да»? Рыбу губим, вот что. Крупноячеистые, большие сети надо. Сколько раз говорила председателю об этом. Негде купить? Да за одну зиму сколь сами навязали бы, если бы ниток достал где. А карбузы? Того и гляди, перевернешься в воду. Мы все у бережков ловим, опасаемся на простор выходить. Новые надо строить лодки, с моторами. Уж давно пора понять бы вам в районе, что такая наша рыболовная бригада не дает колхозу прибыли. Кабы не спекулировали чебаками в станционном поселке, давно прогорели бы с такой затеей…
— Ты насчет спекуляции брось! — прервал ее Григорий. — Себе, что ли, деньги я в карман кладу?
— Да рука не дрогнет при удобном случае… — отрезала Евдокия.
— Вот, вот, видите… — обернулся Бородин к уполномоченному… — Что, как не клевета? Тут о людях заботишься, все силы ложишь…
— Ты-то заботишься?! — насмешливо бросила ему в лицо Евдокия.
Бородин поспешно увел прочь уполномоченного.
— Вот так и живем… Споры да крики. Недовольных много. Потому и тяжело, — говорил Григорий, смотря себе под ноги.
— Что же, о карбузах, о сетях она правильно, по-моему… — ответил уполномоченный. — Это надо бы продумать тебе.
— А я что, не думаю?.. Не все сразу это… Хозяйство у меня такое: здесь натянешь — там рвется. Нынче вот урожай ничего вроде. Может, побогаче маленько станем, тогда и сети купим новые и лодки…
Однако ни сетей, ни лодок не купили. Зато на трудодни выдали по полтора килограмма хлеба. А на следующий год Григорий убедил правление выдать по два с половиной, и деньгами — по восемь рублей.
— Что ты делаешь, Григорий Петрович? — спросил Бородина Ракитин, когда они остались вдвоем в конторе. — Куда ведешь колхоз?
— А что? — нехотя буркнул Бородин.
— Больно щедро платишь колхозникам, не по доходам.
— А ты им скажи об этом, — насмешливо посоветовал Бородин.
Не сдержавшись, Ракитин хлопнул по столу ладонью так, что Бородин невольно вздрогнул.
— Черт возьми!.. Ты председатель, так и размышляй по-председательски. Скотные дворы разваливаются, амбары надо строить новые. Крытые тока прохудились, каждую осень течет сквозь них, как сквозь сито, зерносушилок нет. Сколько каждую осень хлеба гноим? Веялок у нас хороших нет, плугов нет, борон нет. Да много чего у нас нет. А ты все доходы на трудодни распределяешь. Одним днем живешь! А во что завтра лошадей запрягать? Куда зерно сыпать? Разве так хозяйствуют? Электростанцию вот построили…
— И это плохо, что ли? — ядовито вставил Бородин.
— Плохо! — запальчиво крикнул Ракитин. — Видел я пьяниц — вроде при галстуке, а костюм на голом теле носит. Даже рубахи нет. Так и у нас. Сколько тысяч угробили, а для чего? Добро бы, на фермы провели свет, ток электрифицировали.
— Сперва во все дома бы провести свет, насиделись в темноте, нанюхались керосиновой копоти…
— А хороший хозяин сначала ток бы механизировал, чтоб труд людей облегчить…
— Всему свое время. Возьмем ссуду у государства, еще станцию построим. И под коровник возьмем, и под телятник…
— Да ведь и так в долгах, как в шелках… Больше миллиона рублей должны государству. Кто платить их будет?
— Чего платить? Ждут-пождут — да спишут…
— Спишут, говоришь? Спишут?!
— А то как же? Раскричался тут, учить вздумал!.. С твое-то знаем. Дал немного вздохнуть людям, а ты уже за глотку меня…
Ракитин дрожал всем телом, сдерживая себя. Григорий, видя состояние Тихона, добавил, раздельно выговаривая слова:
— Радетель за колхозное нашелся. Сколько раз тебе творить, чтоб не совал нос в чужие дела?!
2
Туманов возвращался домой из кузницы, Тихон стоял у калитки своего дома, размышляя о чем-то. Он даже не слышал, как Туманов поздоровался с ним. Очнулся, когда Павел толкнул его в плечо.
— А-а, Павел… Знаешь что, заходи-ка ко мне.
— Зачем?
— Заходи, заходи… Не могу в одиночестве. А жинка с ребятами в кино ушла — кинопередвижка сегодня приехала. — И втянул Туманова за рукав в калитку.
Ракитин накрыл клеенкой стол, нарезал хлеба, огурцов. Потом достал из печки жареного гуся, а из шкафа поллитра водки.
Выпили. Несколько минут молча закусывали. Туманов положил вилку и полез в карман за табаком.
— Слушай, Тихон, а что все-таки с Бородиным у тебя на фронте произошло? А то болтают люди всякое…
Ракитин налил себе и Павлу чаю.
— Что произошло? — Тихон немного помедлил и начал рассказывать: — С Бородиным мы — я говорил тебе как-то — вместе служили, в одной роте. Наступали мы однажды ночью. Дело было в сорок третьем. Надо сказать, хорошо наступали, вот-вот в окопы немецкие ворвемся. И вдруг стало светло как днем. Навесили над нами осветительных ракет, встретили в упор пулеметным огнем из блиндажа. Залегли. Сунулись вправо, влево, чтоб обойти этот проклятый блиндаж, — везде противопехотные мины. Из-за леска немцы тоже из минометов поплевывают. Куда тут? Прижались к земле, окопались кое-как. Зуб горит, видим — вот он, немец, ружейные вспышки совсем близко. Этак подняться бы — через полминуты в том окопчике были бы. Да где-е! А командир батальона запрашивает по рации: почему остановились? Во что бы то ни стало занять немецкий окоп. В общем, положение сложилось не очень веселое. Скрипим зубами: «Пушку бы какую ни на есть…» Но артиллерия отстала…
А приказ есть приказ, выполнять надо. Командир взвода передает по цепи:
«Выход один у нас, товарищи: подползти в темноте сбоку по кустарникам и забросать блиндаж связками гранат. На открытом месте не пробраться, до утра светить будут».
У меня мороз по коже. Испугался? А ты думаешь, как? В одно мгновение прикинул, да не только я, каждый: по кустарникам? По минному полю? Полезешь — верная смерть. Девяносто пять процентов из ста, а может, и того больше. Попробуй проползти двести метров по минному полю!
Командир приказывает:
«Чередов, вперед!»
Молча обвязался солдат Чередов гранатами, так же молча, глазами только, попрощался с нами, пополз. Ждем минуту, две, три… Взрыв. Нет больше Мити Чередова.
Командир помедлил немного, может, несколько секунд. Нам показалось, что год прошел.
«Кондратьев, Смирнов, Кузнецов…»
Еще три солдата поползли к блиндажу с трех направлений. Минут десять тихо было. Потом сразу два взрыва. Через несколько мгновений третий.
А из штаба батальона снова запрашивают по рации: чего третий взвод в землю зарылся? Наступление всего батальона сдерживает. Какой угодно ценой подавить вражеский блиндаж!
В это время командира нашего осколком… Пытается он привстать с земли — и не может, руку к животу прижимает. Выглянула — из любопытства, что ли? — луна из-за туч. Смотрю на его пальцы — почернели они от крови.
Наконец привстал на одно колено, прохрипел:
«Бородин…»
И тотчас захлебывающийся голос:
«Дети ведь у меня дома… Трое!.. Да и куда идти?»
«Бородин, вперед! — из последних сил закричал командир. — Выполняйте приказ!»
«Мы не пушечное мясо! Товарищи солдаты, что это за командир? Ведь на верную смерть посылает! Подождем до утра, рассветет, тогда и…»
Ракитин встал из-за стола, прошелся из конца в конец комнаты и сел на прежнее место. Помолчав, продолжал негромко, уже другим, будто простуженным голосом:
— Ну… Я и не вытерпел, выстрелил в Бородина… Признаюсь, не помнил себя в ту минуту. Вскипело все внутри… «Ах ты мразь вонючая… и тут ты…» А когда уже выстрелил, в озноб бросило меня — то ли сделал? Но командир сказал только: «Так. Правильно…» Ну а я… я не знаю, как очутился на минном поле. Сердце стучит, как деревянный молоток в лист жести. От этого и очнулся, наверное, понял наконец, где нахожусь, что делаю…
Тихон стал скручивать папиросу. Пальцы его сильно дрожали.
Потом он выдернул скользкие карманные часы на медной самодельной цепочке.
— Через полчаса кончают вечернюю дойку. Хотел на ферму сходить, да теперь уже все равно не успею…
Чуть опустив голову, задумался. Белые волосы его рассыпались.
— В ту ночь и поседел, — сказал Тихон. — В лесах не один год вокруг смертей ходил — ничего, а вот ползти ей навстречу — страшно.
— Долго полз?
— Не знаю. В то время казалось, что ползу уже вечно и не будет конца-краю этому полю. Проползу полметра, останавливаюсь. Думаю, пошевелю еще раз рукой, земля дыбом и… и взрыва не услышу. И еще думал… Господи, да что только не передумал! А может, то и не думы были вовсе… Так, мелькнет что-то далекое, как молния… А то слышу — Алакуль плещет… И опять: а может, рядом она, мина-то?.. Вот так…
В молчании Тихон докурил папиросу.
— Не страшно стало, когда сквозь траву окоп ихний разглядел, — опять заговорил Ракитин. — Вон он, рядом, несет чем-то из него. И вдруг снова резанула мысль: что, если на мину сейчас! Аж сердце остановилось. Ведь столько полз, и вдруг — за смертью только. А сам нащупываю связку гранат. Потом — будь что будет! — вскакиваю на ноги, рывком к окопу, одну за другой две связки туда… И сразу позади, как обвал: «Ура-а-а!» Вот за это и орден дали… — закончил Ракитин.
За окнами сгущалась мгла. В комнате стало сумрачно. Тихон зажег электрический свет.
— Командира мы похоронили в ту же ночь, — продолжал он, возвратясь к столу. — Как заняли тот проклятый окоп, принесли его на плащ-палатке. Подозвал меня, долго смотрел на мою голову. Я и не знал, что седой весь. Разжал губы, хотел, кажется, сказать что-то и… не сказал. Не хватило сил…
— Ну а дальше что? Почему Бородин оказался жив? — спросил Туманов, когда Ракитин замолчал.
— Выстрелил я неудачно, вот и жив он остался. В плечо попал, как сам он говорит. Едва мы похоронили командира, получили новый приказ — вперед. Ну, и забыли про Бородина. Считали, что мертвый он. А его подобрали санитары, думали — в бою раненный. Да и откуда им знать было… Увезли в тыл, лечили, а потом и демобилизовали…
Ракитин замолчал, и в наступившей тишине было слышно, как далеко, на другом конце деревни, вспыхивал девичий смех. Молодежь не держали по домам и самые лютые холода.
— Вон как, значит, дело было, — тихо проговорил Павел Туманов. — Да ведь его, подлеца, за это…
Ракитин невесело усмехнулся:
— Не так просто теперь. Свидетели ведь нужны. А где их взять? Командир наш погиб, а спустя неделю вся рота полегла. Чуть ли не я один остался жив. Тоже, как Бородина, подобрали меня санитары, лечили… — Ракитин махнул рукой. — Бесполезное дело. В горячие годы Бородину не поздоровилось бы за это, а теперь попробуй установи — струсил тогда Бородин или нет. Да и вряд ли кто заниматься этим случаем будет сейчас. Поважнее дела есть.
— Но ведь… Слушай, Тихон! — заволновался вдруг Туманов, вскочил и заходил по комнате. — Черт возьми, да нельзя же так оставлять это дело, Тихон!
— Нет, не возьмешь этим сейчас Бородина, — сказал Тихон, наливая из бутылки еще по стопке. — По-другому надо его за жабры брать…
— А как по-другому? — спросил Туманов.
— Не знаю, — признался вдруг Ракитин. — Столько дров наломал, что не знаю теперь. Всю ночь сегодня думал об этом. И еще думал… ну, да ладно. Будешь пить?
— В рюмке только баба оставляет. Да и то не всякая, — улыбнулся Туманов, выпил водку и встал. — Ну, пора мне, Тихон. Благодарствую за угощение.
Ракитин, кажется, не расслышал этих слов и задумчиво проговорил, словно про себя:
— Эх, Андрюхи нет…
Встал и накинул полушубок, чтоб проводить Туманова.
Расстались на том же месте, где встретились. Прощаясь, Ракитин проговорил:
— Завтра вот поеду и спрошу, как его по-другому за жабры взять.
— У кого? Куда поедешь?
— В райком партии.
Туманов, ушел, а Ракитин еще некоторое время стоял на улице. Неторопливо и давно уже плыл над Локтями скрючившийся от холода месяц. Но все-таки он давал еще немного света земле. Крыши домов, заваленные толстым, почти полутораметровым слоем снега, казались голубоватыми. Огней не было видно почти ни в одном доме.
* * *
Из района Ракитин вернулся молчаливый, сосредоточенный, даже немного угрюмый.
— Ну? — встретил его Павел Туманов. — Спросил?
Ракитин усмехнулся:
— У меня, наоборот, спросили.
Павел Туманов непонимающе вскинул на Тихона глаза.
Ракитин еще помолчал и стал не спеша рассказывать:
— Понимаешь, в райкоме сейчас новый секретарь. Прежнего сняли за плохую работу и чуть ли не исключили из партии за невнимание к колхозам. И знаешь, кто этот новый секретарь? Ни за что не угадаешь. Семенов, Андрея дружок. Ну тот, который у нас тут…
— Постой, постой. Это который… с бровями? Ссыльный студент?
— Он.
— Мать честная, да откуда же он взялся?!
— Вот, брат, какие дела, — вместо ответа проговорил Ракитин. — Я ему о Бородине, о нашем колхозе больше часа рассказывал…
— Ну? — опять произнес Туманов.
— Он мне первым вопросом: «А куда ваша парторганизация смотрит?» — «Нету, говорю, у нас ее…»
Ракитин проговорил устало и невесело:
— В общем, сейчас мне еще жарко от того разговора. Шел он в таком плане: разве можно мириться с тем, что в Локтях партийной организации нет? Ты, говорит, коммунист, почему не подумал о создании в колхозе парторганизации, если райком партии ушами хлопал? Что, хороших, честных людей нет у вас? Тогда бы живо Бородина на место поставили…
— Дьявол, ведь заикался же ты как-то об этом! Помнишь, из МТС ехали с Бородиным?
— Э-э… — тяжело махнул рукой Тихон. — В том-то и дело, что заикался только… В общем, здорово, Павел, всыпали мне. И поделом! Век помнить буду.
— А что же нам все-таки с Бородиным… теперь?..
— Что? Начинайте, говорит Семенов, сначала — с создания парторганизации. А на прощанье предупредил: не порите только горячку с Бородиным. Он воспользуется этим и вас же в дураках оставит.
— Да можно разве ждать, раз такое дело!.. — возмущенно прервал Ракитина Туманов. — Ведь через год, через два Бородин совсем колхоз завалит!
— Высказывал я Семенову и такую мысль. А он мне: что ты предлагаешь? Через неделю созвать общее собрание колхозников и поставить вопрос о замене председателя? А согласятся сейчас на это колхозники?
— Не согласятся…
— Вот то-то и оно, Павел. Посоветовал он мне: разъясняйте колхозникам, что за человек Бородин, куда хозяйство ведет. И не бойтесь его разглагольствований. Пройдет немного времени, и колхозники поймут, что к чему. Помогите им в этом… А мы, говорит, займемся, в свою очередь, вашим колхозом… И всеми остальными, говорит, займемся.
3
За все эти годы ничего не изменилось в доме Бородиных, если не считать, что сдохла от старости собака. Григорий отвез ее в поле и закопал. Вернулся хмурый, перепачканный землей, со злости пнул подвернувшегося под ноги нескладного, колченогого пса — сына подохшей суки. Взвизгнув, пес отлетел к забору и оттуда зарычал, залаял на Григория. Бородин остановился, посмотрел на собаку и вдруг громким, свирепым голосом крикнул:
— Иди сюда, живо!..
Пес вильнул хвостом, тявкнул еще раза два. Потом нехотя подошел и стал лизать перемазанный глиной сапог.
Если смотреть со стороны, в семье Бородиных все выглядело тихо и мирно. Но Анисья за несколько лет превратилась в старуху. И она и Петр дышали свободно, смело ходили по комнатам, когда Григорий был на работе. Но едва раздавался грузный скрип ступенек крыльца, затихали, неслышно занимались своими делами.
Петька надеялся вздохнуть, когда перешел в пятый класс. В Локтях была только начальная школа. Теперь надо было ехать учиться или в районную десятилетку, или в семилетку при станционном поселке.
Целое лето он намеревался спросить у отца, как ему быть с учебой, но не мог осмелиться. А сам отец до осени не обмолвился об этом ни словом. В конце августа Анисья начала шить Петру новые рубахи, купила в магазине зимнее пальто, шапку, сапоги. Однажды утром завела квашню и стала печь на дорогу всякую сдобу.
— Гостей, что ли, ждете? — прищурив глаза, спросил Григорий.
— Так ведь надо отправлять Петеньку в школу. — И прибавила на всякий случай: — Веселова вон без отца растит, и то отправила свою в семилетку при станционном поселке. А мы — в район бы… вместе с сыном Павла Туманова.
У Петра замерло сердце: что сейчас скажет отец? Но отец, нахмурившись сильнее обычного, молча ушел на работу.
Уже перед самым отъездом Петра отец спросил:
— Жить-то где будешь? Родни в районе нет у нас…
— При школе интернат есть. Общежитие такое для учеников из других сел…
Подумав о чем-то, отец проговорил:
— Ладно… Только чтоб каждый месяц дня на три приезжал домой.
И Петр все годы, пока учился в школе, вынужден был строго выполнять это непонятное для него требование, пропускать уроки. В районе он купил самоучитель для баяна, выучил ноты и, приезжая, целые дни просиживал с инструментом на коленях. Петр видел, что это нравится отцу, и, незаметно для самого себя, усмехался.
Зато Григорий замечал эту усмешку. Робкая, чуть горьковатая, она в последние годы все чаще и чаще стала трогать крупные, резко очерченные губы Петра. И было для Григория в этой усмешке что-то знакомое, а вместе с тем, новое, непонятное.
— Чему смеешься? — спрашивал он.
— Я не смеюсь, тебе кажется, — отвечал Петр начинающим грубеть голосом.
— Что, что? Кажется? Ишь ты!
Петр смотрел на отца, пожимал плечами и отворачивался.
Григорий-то знал — не показалось! Вот отвернулся сын, а улыбка на его губах так и не потухла, теплится чуть-чуть, но чувствует он — разгорится она вовсю, будет жечь его, Григория, все сильнее и сильнее. И не потушить ему ее, не вернуть себе сына…
Несколько раз Анисья напоминала: баня разваливается, хорошо бы поставить новую. Наконец Григорий внял ее просьбам и сказал сыну:
— Слышь, Петро? Давай завтра свалим десятка два сосен. По первопутку вывезем, а зимой новую баню поставим.
— Ладно, — согласился Петр, как обычно.
Рубить сосны в бору, возле деревни, не разрешалось. Надо было идти в лес, окружающий Гнилое болото. Утром отправились туда. Григорий захватил двустволку.
Всю ночь сеял мелкий обложной дождь, и теперь под ногами хлюпала грязь. Когда кто-нибудь задевал неосторожно куст, обоих окатывало холодной, прозрачной водой.
Добрались до места оба промокшие.
— Замерз? — спросил Григорий.
— Ничего, сейчас согреемся.
Работали молча.
— Устал? — время от времени спрашивал отец.
— Нет, — упорно отвечал Петр, хотя готов был от усталости свалиться на мокрую землю и тут же заснуть.
Когда кончили валить деревья, Григорий взялся за топор.
— Ты посиди, отдохни, а я сучья обрублю.
Петр развел костер и стал сушить мокрую одежду. Тяжелый дым от сырых веток стлался по земле. Низом его тянуло в сторону болота, где время от времени тревожно кричали отставшие утки.
— Что, если попытаться достать к ужину парочку крякух, а? — спросил Григорий, с размаху всаживая топор в очищенное от сучьев бревно. — Ты как, Петро?
Подбросив хвороста в костер, Петр ответил:
— Опасно, говорят, в дождь по болоту ходить. Засосет.
— Эка страсть. Не впервой. Ты посиди тут.
Взяв ружье, Григорий нырнул под низкорослый осинник, уже наполовину растерявший свой ярко-красный наряд. Скоро почти дуплетом ухнуло невдалеке два выстрела, немного погодя еще один. Петр, подкидывая в огонь тяжелые сосновые лапы, ждал четвертого. Но вместо выстрела услышал чей-то крик:
— Э-э-з-э-э… Пе-е-етька-а-а!
Петр вскочил, но, растерявшись на мгновение, тут же сел. «Кто это кричит?» — подумал он, не узнав голоса отца.
— Пе-етька… Скорей, скоре-ей! Тону-у-у! Пе-е… Голос захлебнулся. И только теперь услышал Петр, как стучит сердце. Сорвавшись с места, побежал на крик.
Отца он увидел неожиданно, вывалившись из цепких зарослей кустарника, опутанного жесткими стеблями ежевики. Вернее, не отца, а его голову. Она торчала среди мелких кочек, на которых по весеннему зеленела травка и цвела розоватая водяница. Немножко подальше поблескивали небольшие зеркальца чистой воды.
— Топор-то… Эх, не догадался… Живо за топором, продержусь как-нибудь, — прокричал Григорий посипевшими губами, как только увидел сына.
Петька побежал обратно, поминутно спотыкаясь о травянистые кочки, разрывая грудью перепутанный кустарник. Бежал и думал: «Зачем топор? Веревку надо… Говорил же ему — засосет… Хотя, правильно, топор. Нарублю мелкого осинника, настелю до него… Ведь говорил же…»
— Скоре-ей! Не могу-у-у! — донесся слабый крик отца из-за деревьев и долго-долго, как показалось Петру, не смолкал. «Ведь потонет, потонет…» — замелькало у него в голове. Выхватив топор из бревна, он бросился назад.
— Вот здесь, вот здесь… руби, — задыхаясь, крикнул Григорий, показав глазами направо. Там, метрах в четырех от отца, росло на сухом мыску несколько корявых осинок. — Да скорей ты, черт!..
Между Петром и осинками, на которые указал отец, было чистое от кустарника пространство, покрытое такими же кочками, меж которых провалился отец. Петр секунду оглядывал их.
— Выдержат… Ты легкий, Петенька… С кочки на кочку, только не сорвись… И топор не урони.
Но Петр не слушал уже отца. Отталкиваясь от уходивших из-под ног кочек, он бежал к осинкам. У самой цели вдруг оступился, и ноги его провалились в клейкое ледяное тесто. С ужасом ощутил он, что опоры под ногами нет и они медленно погружаются все глубже и глубже. Петр вскрикнул, взмахнул руками и упал на живот. Руки тотчас провалились в зыбкую хлябь.
К счастью, во время падения Петр не выпустил топора, который ударился лезвием в трясину, прорубил ее и зацепился под жидкой грязью за корень дерева. Петр напряг все силы, обеими руками держась за топорище, подтянулся вперед. Потом схватился за ветки кустарника, росшего вокруг осин, выполз на твердое место. Один сапог остался в трясине.
С того момента, когда Петр оступился и упал, прошло несколько секунд. А Григорию казалось, что Петька барахтается в трясине уже целый час. В голове его что-то гудело, билось, но мыслей не было. Но когда Петр вылез, Григорий с надеждой подумал: «Может, не конец еще».
Способность соображать вернулась к Григорию, он выплюнул ржавую воду и прохрипел, вытягивая шею:
— Руби крайнюю… Скорей, сынок… Старайся пониже…
Через минуту осина, подрубленная Петром, бесшумно упала. Верхушками она накрыла Григория, оцарапала в кровь ему лицо. Но он не ощущал теперь ни боли, ни холода. Ухватился за корявые, скользкие ветви и радостно засмеялся.
Выбравшись из трясины, Григорий долго лежал вниз лицом на примятой траве, глубоко дышал. С него стекала жидкая вонючая грязь.
Наконец пошевелился, сел, стал смотреть на то место, которое чуть не стало его могилой. Оно по прежнему ласково и безобидно зеленело.
— Поохотился… Тьфу, черт!
— Я же говорил, — подал голос Петр.
— Да ведь я здесь часто ходил — ничего. За время дождей расквасило. Кабы не ружье — крышка. На него опирался. Ну, пойдем к костру, продрог я.
С мыска переправлялись на твердую землю, кидая под ноги осиновые ветви. В руках держали на всякий случай по длинной жерди. Тонкие ветви хлюпали по воде, прогибались, но выдержали.
Костер, разложенный Петром полчаса назад, чуть-чуть курился. Только разожгли его, стал опять накрапывать дождь.
— Лихорадку схватишь еще. Пойдем, что ли, домой. Там отогреемся.
— Пойдем, — коротко отозвался Петр.
Всю дорогу шли под мелким дождем — впереди Петр, за ним отец. Петр нес в руках сапог. Второй сапог и ружье остались в болоте.
Вечером Анисья молча стирала пропахшую болотной гнилью одежду мужа и сына.
В течение недели никто — ни Петр, ни Анисья — даже словом не обмолвились о происшедшем. Жили так, будто и не случилось ничего, будто не был он, Григорий, на волосок от смерти.
На восьмой или девятый день Григорий не выдержал:
— Эх, вы!.. Утони я — обрадовались бы…
— Господи, что говоришь-то ты, — промолвила Анисья, покачав головой.
А Петр промолчал. Григорий медленно подошел к нему, наклонился и заглянул в глаза.
— Так какого черта лез тогда ко мне по болоту?! — Григорий сильно встряхнул Петра за плечи. — Ведь захлебнулся бы сам в трясине!
— А ты что, не полез, если бы тонул… кто-нибудь? — спросил, в свою очередь, Петр. В глазах его было только удивление.
Григорий отмахнулся, неслышно отошел прочь, медленно и изумленно повторяя несколько раз: «Кто-нибудь… Ага, кто-нибудь…»
И с новой силой ощутил: нет у него сына.
* * *
А следующей весной, когда Петр сдал экзамены за девятый класс, отец, покалывая его глазами, спросил:
— Кончил учебу?
— Раз приехал домой, значит, кончил.
Григорий подергал себя за ус, точно пробуя, крепко ли он держится.
— Вот что, Петро… Ты уже мужик вроде, а?
Петр промолчал. Отец усмехнулся и продолжал:
— Я думаю — хватит тебе на батькиной шее сидеть. Работать надо. Как ты думаешь?
— Думаю десятилетку кончить.
— Ну, ученьем сыт не будешь… Курсы трактористов нынче зимой в МТС открываются. Понял?
Петр не только понял, он давно знал, что спорить с отцом бесполезно, и несмело подал голос:
— Лучше уж на шофера тогда… — Хотел добавить: «Как Витька Туманов», — но побоялся.
— Дурак. На тракторе больше заработаешь, — бросил Григорий. Он посидел немного, хлопнул ладонью по столу, застланному клеенкой, и проговорил: — Решено.
Петр поднял было на него глаза, но отец не дал ему возможности возразить.
— Ну, ну, что? Договоренность уже есть с директором МТС, место для тебя оставлено. Лето погуляй — и хватит. Нечего тебе баклуши бить. Ступай.
Вечером того же дня Петр рассказал Витьке о решении отца.
— Ну а ты что? — поинтересовался Туманов.
— Что же мне делать? Поеду, — вздохнул Петр.
Витька внимательно посмотрел на него. Петр поднял голову:
— Ты чего?
— Какой-то ты… пришибленный, — сказал Витька.
— Как это?
— Да так… — И пояснил: — Вялый какой-то, будто сроду не высыпался. Я давно советовал тебе — вступай в комсомол. Мы разбудили бы тебя, встряхнули.
— Э-э, не до комсомола мне… Отец и так… А тут бы…
— Ну, как знаешь, — холодно ответил Виктор. — Что ж, может, работа на пользу пойдет тебе. Людей увидишь и… окрепнешь, в общем!
Осенью Витька уехал учиться в десятый класс. Петр с завистью проводил его. До самых снегов не знал, куда деть себя с тоски. Теперь он с нетерпением ждал курсов трактористов. Но их открытие задерживалось.
— Чего ходишь, как сонный, из угла в угол? — спросил как-то отец.
— Тут не уснешь, сдохнешь с тоски. Где они, твои курсы? Пойду хоть сено возить на ферму.
— Сиди, без тебя навозят, — грубо отрезал отец.
Только перед самой весной Петр наконец уехал на курсы.
4
Однажды, придя к кузнице, где ремонтировали к весне бороны, брички и всякий инвентарь, Бородин увидел там Ракитина.
— Что, нажаловался в райком? — спросил он, присаживаясь на снятый с колес и опрокинутый ящик брички-бестарки. — Чего вообще лезешь куда не надо? Что тебе вот на кузне понадобилось?
— Проверяю, как ремонтируют брички, бороны к весне, — спокойно ответил Ракитин. — По правилу — тебе бы проверять-то надо как председателю. А ты… — И, видя, что Бородин собирается что-то сказать, чуть повысил голос: — Ну, вот что! Если опять сейчас за старое примешься — Ракитин, мол, на мое место метит, — то зря. Не поможет уже! Понятно?
В голосе Тихона прозвучали металлические нотки. Бородин удивленно и неожиданно для самого себя спросил:
— Гм… Это почему?
— И вообще, — продолжал Ракитин, оставив его вопрос без ответа, — давай-ка поворачивай в другую сторону, занимайся как следует делами, раз ты председатель пока…
— Вот как! Пока?! — тихо и насмешливо произнес Бородин.
— Вот именно, пока, — повторил Ракитин. — Мы своевольничать тебе в колхозе не дадим теперь. Запомни.
— Кто это — мы? — воскликнул Бородин, вскакивая. — Не много ли берешь на себя?
Но Ракитин, не обращая больше внимания на Бородина, пошел прочь. Вместо Тихона Бородину ответил кузнец Степан Алабугин:
— Мы — это колхозники.
— Чего, чего?! — обернулся Бородин в широкие, настежь открытые двери кузницы.
Алабугин в прожженном ватнике отер пот с широкого, лоснящегося лица, насмешливо проговорил:
— Вот тебе и чего…
И опустил с плеча на наковальню тяжелую кувалду. Из-под кувалды во все стороны брызнули искры.
«Мы — это колхозники!» Бородин вспоминал слова бывшего своего работника теперь каждый раз, когда встречался с Тихоном. Да, колхоз — не только Бутылкин, Тушков, Амонжолов. Это и Ракитин, и Туманов, и Алабугин, и Евдокия Веселова, и Марья Безрукова, и многие другие.
Весна для Бородина началась необычно.
Как-то недели через две, после того как сын уехал на курсы трактористов, Григорий сидел дома, поглаживая лежащую у него на коленях собачью морду. Неожиданно из конторы прибежал запыхавшийся счетовод.
— Там… в конторе… из района приехали, — сказал он, размахивая руками, будто это помогало ему извлекать из глотки слова. — Тебя требуют…
— Скажи приезжему, чтоб ко мне шел, — ответил Бородин счетоводу, не вставая с места. — Что он, не знает, где председатель живет? Анисья! Сообрази-ка насчет обеда…
Счетовод опять замахал руками:
— Отправляли его к тебе, не идет. Вскипел только: «Я разве в гости к председателю приехал!» Партийный секретарь, шепнул мне Ракитин. По фамилии Семенов.
Если бы земля разверзлась перед Григорием, он так не испугался бы, как при упоминании этой фамилии. Сделавшись белее стенки, Григорий пошевелил губами. Однако звуков не последовало. Никита на всякий случай шагнул к двери, проговорил:
— Н-ну… Чего это ты? Приехал — так что? Уедет…
— Врешь! — как-то с присвистом выдавил Григорий, сжимая кулаки, — Врешь ведь, а? Придумал?
— С чего это я бы? — не спуская глаз с Бородина, промолвил счетовод, отступая еще на шаг. — Я скажу — сейчас будешь, а?
Григорий не отвечал. Счетовод, сочтя благоразумным не задавать больше вопросов, вышел.
Семенов… С давних-давних пор, пожалуй, с тех времен, как снова увидел он во дворе веселовского дома сбежавшего из Локтей ссыльного, Григорий стал испытывать при мысли о нем какой-то страх. С Семеновым Григорий не встречался, если не считать того случая, когда неожиданно столкнулся с ним ночью в переулке возле дома Андрея, никогда не разговаривал, но боялся и ненавидел почему-то больше, чем самого Веселова. Сначала страх этот был безотчетный, необъяснимый. А потом все яснее и яснее начал понимать Бородин, что не было бы на свете таких, как Семенов, нечего бы ему, Григорию, бояться всяких там Веселовых, Ракитиных, Тумановых.
До самой войны преследовал его, Григория, этот человек. Потом — война, не до Семенова было, хотя червячок беспокойства нет-нет да и засосет сердце при мыслях об этой фамилии. Но Григорий успокаивал себя: «Вон какая ведь мясорубка была. Такие, как он да Андрюха, и совали туда головы в первую очередь». И вспоминал почему-то камень, брошенный однажды в озеро после разговора с Евдокией Веселовой. «Лежит, поди где, склизью оброс… А может, илом замыло». Такие мысли успокаивали…
И вот Семенов, как и прежде, в Локтях!
А может быть, это не тот Семенов? Григорий опустился на стул, зажал голову, в которую часто колотилась кровь, руками. Мало ли Семеновых на свете? Семенов… да Семеновых — пруд пруди…
Но когда стукнула в сенях дверь, Бородин вскочил, вытянулся, как струнка, начал оправлять рубаху.
Но в дверь опять просунулась голова Никиты.
— Сказал — буду сейчас! — закричал Бородин так, что зазвенела посуда на полке. Голова счетовода в то же мгновение исчезла.
Осмотрев зачем-то внимательно комнату, Григорий медленно пошел к двери.
В конторе, однако, Бородин никого не застал. Тот же счетовод сказал Григорию, что приезжий вместе с Ракитиным, Тумановым и другими членами правления ушел осматривать семена, потом собирался на ферму, а ему велел пока приготовить кое-какие цифры.
— Какие еще цифры? — рявкнул Бородин.
— Сколько в прошлом году доходу получили, сколько на трудодни хлеба дали, сколь денег, сколь… — начал перечислять Никита. Но Бородин не стал слушать, выскочил из конторы и кинулся к амбарам. Там никого не было, Григорий побежал к скотному двору.
— Ушли уже! — сказала ему работавшая там Настя Тимофеева. — Досталось же Тихону. Господи! Сперва, правда, хвалил его этот, из района, а потом… В контору ушли. И Ракитин и Туманов.
Григорий опустился на кучу соломы, долго молчал
— Ракитин, Туманов… — тихо проговорил он И вдруг начал жаловаться Насте: — Ну вот, сама видишь… Водят приезжего из района по хозяйству, показывают, рассказывают… Будто нет в колхозе председателя, хозяина…
— Стало быть, нет, — проговорила Настя.
— А?
— Ну, так этот, приезжий, сказал.
— Чего?! — воскликнул Бородин.
— Да ну тебя! — отмахнулась Настя. — Очумел ты, что ли?
Бородин встал и поплелся в контору.
Секретарь райкома партии Семенов встретил его сухо. Поздоровавшись, он внимательно посмотрел на Бородина из-под огромнейших, спутанных седых бровей и будто проколол насквозь. Григорий невольно сделал два шага назад, как Никита за час до этого.
Семенов чуть опустил голову и стоя начал изучать какие-то бумаги. Очевидно, это были те сведения, о которых говорил счетовод.
А Григорий стоял ни жив ни мертв. «Узнал или нет меня?.. Узнал или нет?.. — лихорадочно металось в голове Григория. Потом он подумал: — Поседел как, дьявол. Кабы не брови, сроду и не узнать бы…»
— Сколько зерна выдали на трудодни в прошлом году? — спросил неожиданно Семенов, подняв голову.
— По два килограмма, — ответил Бородин. — И деньгами еще немного…
— По два с половиной, — поправил Ракитин.
— Ну, да… с половиной, — глухо подтвердил Григорий. — Людей поддержать чтоб… С самой войны ведь, почитай, крохи получали, обносились…
— Ну а нынче сколько думаете выдать? — перебил его секретарь райкома.
— Да уж как урожай. Запланировали по три… заботимся о людях, довольны…
Семенов бросил листки на стол, опять внимательно посмотрел на Бородина и вдруг сказал:
— А знаешь, Бородин, можно на трудодень и по десять килограммов дать на следующий год. И деньгами рублей по пятьдесят, по сто…
— Как же это…
— Очень просто. Раздать семена, фураж. Продать весь скот, весь инвентарь, — то есть ликвидировать колхоз. Сколько денег можно выручить…
Григорий давно понял, куда клонит секретарь райкома. Но сказать ничего не мог.
— Чего же молчишь?
— Говорил мне об этом Ракитин… Правильно, в общем, он говорил, чего там… Признаю…
Потом разговор шел о весеннем севе. Что-то у Григория спрашивали, он отвечал, иногда удачно, иногда невпопад…
И последнее, что запомнилось, — слова секретаря, когда тот собрался уже уезжать.
— А на поддержку колхозников вы, Бородин, зря надеетесь. Я беседовал с людьми. Авторитет у вас среди них пока есть. Но прямо скажем — дешевенький, гнилой. На волоске он держится.
И уже у дверей Семенов обернулся, вновь посмотрел на Бородина. И вдруг спросил:
— Вы — локтинский?
— Как же… Родился тут, — машинально ответил Григорий.
— А мне показалось — не здешний.
Потом все ушли, а Григорий долго сидел один в пустой конторе и думал почему-то не о себе, а о Терентии Зеркалове: «Толстоват тот сук, который ты подрубить хотел, не под силу твоему топору. Иззубишь топор, искрошишь железо, а сук не подрубишь».
Выйдя из конторы, Семенов махнул рукой шоферу «газика»-вездехода, который уже нажал было на стартер. Тот заглушил мотор. Посмотрев на озеро, на видневшиеся заснеженные скалы, сказал Ракитину:
— Так-то, Тихон. Мы вон поседели с тобой, Андрей… А скалы все стоят.
Помолчав, повторил:
— А скалы все стоят. Скалы все такие же. Любил я смотреть на них тогда. Особенно на восходе или на закате. Смотрел — и думал вот о сегодняшнем времени. А сейчас смотрю — и думаю о тех днях, когда…
И, еще помедлив, произнес тяжело, со вздохом:
— Эх, Андрюша, Андрюша… Ну, пойдем, Тихон.
Ракитин не спрашивал — куда. Он знал — к дому Веселовых.
Шагая по мягкому уже снегу, Ракитин думал: где же все это время работал Семенов, почему опять в их краях очутился? В райкоме партии он об этом спросить его не решился. Но сейчас Семенов, будто разгадав мысли Ракитина, сам проговорил:
— Я тоже, Тихон, чуть на тот свет не переселился… До войны в Белоруссии работал. Первый удар на нас, конечно, обрушился. На второй же день войны в санчасть попал. Подлечили — и снова на фронт. Потом вместе с сибирской гвардейской дивизией воевал. Ельня, Смоленск… Страшные бои были. И вот опять Белоруссия. И там — ранение в голову и живот одновременно. Тогда-то и началось то, что хуже смерти, — госпитали, больницы. И так год за годом, год за годом… Месяцами в сознание не приходил. Отпустит, вроде здоров, в санаторий направляют для окончательной поправки. И опять… Не думал уж, что и выживу. Но полгода назад улучшение наступило. И вот… Направляли снова в Белоруссию, попросился в Сибирь…
Они подошли к домику Веселовых. Когда Семенов переступил порог, Евдокия внимательно посмотрела на него, охнула и без сил опустилась на стул.
— Федя… Семенов? Да как же?!
Она отвернулась, не в силах сдержать слез. Семенов подошел к ней, взял, как когда-то Андрея, за плечи, встряхнул легонько.
— Не гоже, Евдокия Спиридоновка. Держись, Дуняша. Стой крепко, как Андрей.
— Спасибо тебе. Спасибо, Федя, что зашел, — прошептала Евдокия. — Да раздевайтесь, что же вы! Я чайку сейчас…
— Чайку? Ну что ж, Дуняша, давай чайку попьем…
В райцентр из Локтей Семенов уехал только под вечер.
5
Всю весну Григорий рвал и метал. Начал с того, что вызвал в контору Ракитина.
— Сколько у тебя людей в животноводстве занято?
— Около тридцати С доярками если считать…
— Обойдешься пятнадцатью. Даже десятью. Остальных — в поле, на сев. Без возражений.
Потом заставил счетовода составить списки всех колхозников, предупредив:
— Это твоя последняя работа до окончания сева. В конторе останется один бухгалтер. Остальные — в поле.
Со списками Григорий не расставался, отмечал в них, кто, где и какую работу выполняет. Бездельников в эту весну в Локтях не было. Даже старикам и старухам нашел работу, починять сбрую, мешки, печь хлебы для бригад. Старух покрепче отправил в поле поварихами…
Неделями Бородин не бывал дома, ночевал где придется. За весну похудел, почернел… Зато сев провели быстро и хорошо. После сева начал готовить хозяйство к сенокосу.
Как-то Бутылкин, зайдя вечером к Бородину, сказал ему:
— Слыхал? На деревне партийцы новые объявились.
Григорий смотрел непонимающе.
— Степка Алабугин да Туманов, — снова произнес кладовщик, усаживаясь на стул. — Да еще Евдокия Веселова…
— Как это?..
— Так… Вернулись из района они, вместе с Ракитиным ездили, приняли, говорят, в партию… Теперь, дескать, организация своя в колхозе будет.
Григорий почувствовал, как холодеет у него в животе, как правое веко дернулось раз, другой и задрожало мелкой-мелкой дрожью. Чтобы не заметил этого Бутылкин, он отвернулся.
Если бы кто-нибудь спросил в эту минуту Бородина, чего он так испугался, Григорий не смог бы ответить на этот вопрос.
— Ага… Значит… и Веселова? — промолвил Бородин.
— Ну да. И Веселова, — еще раз подтвердил Бутылкин.
Назавтра, незаметно от Анисьи, Григорий взял на кухне тяжелый нож-скребок и залез на чердак. Сверху потолок был засыпан слоем сухой земли и обмазан глиной. Бородин отмерил от края трубы несколько четвертей, всковырял глину, разрыл землю и вытащил оттуда какой-то тяжелый продолговатый предмет, завернутый в мешковину и перевязанный просмоленным шпагатом. Затем он сел на валявшееся здесь ржавое погнутое ведро, тяжело и часто дыша, будто без перерыва рыл землю целый день.
В лежавшей у его ног мешковине, обмотанной шпагатом, был обрез, который когда-то дал Григорию Терентий Зеркалов. Бородин, после того как убил Терентия, хотел выбросить в озеро и обрез, но не выбросил, а засунул в сарае меж рухлядью. А когда отстроил новый дом, вместе с этой рухлядью перевез и обрез, залил его солидолом, завернул в мешок и спрятал на чердаке. И вот теперь достал.
Вычистив обрез, он пересчитал извлеченные из магазинной коробки патроны. Их было пять, столько он и получил когда-то от Зеркалова. За все время так ни одного и не довелось использовать. Покачивая их в руке, Бородин несколько секунд изучал желтовато-маслянистый блеск латуни. Затем еще раз тщательно протер каждый патрон и, открыв затвор, по одному вдавил их в магазин укороченной трехлинейки. Держа обрез под полой, спустился с чердака, вышел во двор и, бросив быстрый взгляд по сторонам, направился в сарай и там засунул оружие за большую поленницу сухих березовых дров.
На следующее утро Бородин появился в конторе. Тотчас в его кабинет хлынули люди с накладными и прочими документами. Председатель оглядел колхозников долгим взглядом.
— Потом придете. Некогда мне сейчас с вами…
Колхозники недоумевающе переглянулись. Старая Марья Безрукова крикнула:
— Неделю ить хожу за несчастным килограммом меда! Сын у меня болеет… Подписывай, не уйду! — И бросила на стол перед Бородиным смятую, потершуюся уже бумагу.
Тогда Григорий, не глядя на людей, принялся подписывать бумаги, которые по очереди ложились перед ним на стол. Подписывал, даже не читая. А когда дверь закрылась за последним человеком, бросил ручку на клеенчатый, залитый чернилами стол, подпер щеку ладонью и, закрыв глаза, сидел так, не шевелясь, наверное, с полчаса.
Очнулся, когда услышал сквозь дощатую дверь голос Ракитина:
— Здравствуйте. Председатель здесь?
— Там, — коротко проговорил счетовод. И тотчас двери председательского кабинета распахнулись.
Бородин, ни слова не говоря, уставился на Ракитина.
— В колхозе создана партийная организация, — негромко начал Ракитин. — Пока из четырех человек всего. Вчера у нас было организационное собрание…
— А дальше? — проговорил сквозь зубы Бородин.
— Мы вынесли решение…
… Пробыл Ракитин в кабинете Бородина всего минут пятнадцать и не спеша вышел, натянув на голову выгоревшую и пропыленную парусиновую фуражку.
Когда Тихон легкой походкой шел к двери, Григорию казалось, что половицы под ним прогибаются.
Потом Григорий слышал, как Ракитин спросил в бухгалтерии у Никиты:
— Тут Настя Тимофеева должна была за комковой солью подъехать для лагеря. Не видели?
— Только что председатель подписал ей распоряжение, — ответил счетовод. — Наверно, получает в кладовой.
— Никого там нет, кладовая закрыта.
— Значит, получила уже.
— Черт возьми, я же хотел с ней в лагерь ехать! Придется догонять. Давно, говоришь, подписал Бородин ей распоряжение?
— Сказал, недавно. Коли рысцой побежишь, на полдороге догонишь, — засмеялся Никита.
— А я наперерез, через Волчью падь… А Насте круг в семь верст делать.
— Тогда догонишь, — опять сказал счетовод, но уже сухо и деловито.
Григорий хорошо знал эту глухую и жуткую Волчью падь. Почему назвали ее падью, да еще Волчьей, — неизвестно. Там были болота, меж которых вихляла одна-единственная, да и то ненадежная тропинка. Ходить по ней осмеливался только Тихон Ракитин. Бородин это тоже знал. Очевидно, Ракитин изучил падь в то время, когда скрывался в лесу вместе с партизанами Андрея Веселова. Волков же там и в помине не было. В ржавой воде плавали только жирные длинные ужи.
Ракитин давно ушел, а Григорий все сидел, все думал о Волчьей пади, представлял, где, в каком месте шагает сейчас Тихон, мысленно следовал за ним.
6
Вскоре после разговора с Ракитиным Бородин вызвал в контору нескольких колхозников и распорядился перекрыть прошлогодней соломой все тока.
— Правильно! — как ни в чем не бывало одобрил Ракитин распоряжение председателя. — Только проследи, чтоб не кое-как перекрыли их, а по-хозяйски. Я могу двух-трех животноводов выделить для помощи в подготовке токов.
— Делай свое дело получше, — обрезал Григорий. — Денник вон в лагере загадили. Вчера там был…
Ракитин ничего не ответил, потому что замечание председателя было правильным. Денник в лагере действительно надо или чистить, или устраивать в другом месте.
Через несколько дней Тихон пришел в контору и сказал Бородину:
— Готово.
— Что готово?..
— Новый денник. В другом месте устроили, навес от солнца поставили.
— Ладно, приеду сегодня к вечеру, проверю. И ты чтоб там был.
— Тогда я пошел в лагерь…
Ракитин, повернувшись, вышел из конторы.
У стола председателя стоял счетовод Никита с документами. Он должен был ехать в район за деньгами на строительство зерносушилки. Занятый своими мыслями, он не заметил, как Бородин, держа перед собой чек, который собирался подписать и заверить печатью, чуть-чуть скосил в окно глаза. Если бы он тоже посмотрел в окно, то увидел бы Тихона Ракитина, который широко шагал огородами, направляясь в лагерь для окота своим обычным путем — через Волчью падь.
Наконец Григорий подписал чек и полез в карман за печатью, которую всегда носил при себе в плоской жестяной баночке. Но вдруг передумал, встал из-за стола:
— За деньгами поедешь завтра. А сегодня… я тебе другое задание дам…
Бородин протянул незаверенный чек счетоводу. Голубоватая бумажка чуть подрагивала в его руке.
Счетовод, конечно, не знал и не мог знать, что в голове у Бородина за те несколько секунд, пока он, скосив глаза, смотрел в окно на удаляющегося Ракитина, подписывал чек и искал в кармане печать, созрел целый план. Не знал он, что Григорий за это время вспомнил многое: своего отца, Дуняшку, то время, когда темными ночами ползал в Гнилом болоте, выслеживая партизан Андрея. И то мгновение, когда на фронте Ракитин выстрелил в него…
Никита вышел из кабинета. Но Григорий крикнул ему вслед:
— Позовите мне кого-нибудь. Э-э, Туманова позовите.
И все время, пока ходили за Павлом Тумановым, Григорий сидел не шевелясь за своим столом, а в голове его гудели недавние слова Бутылкина: «Слыхал, на деревне партийцы новые объявились… Вернулись из района они, вместе с Ракитиным ездили…» И стучало, стучало в его отяжелевшей голове: «С Ракитиным, Ракитиным, Ракитиным…»
— Здравствуй, — вывел его из оцепенения голос Павла Туманова.
— Ага, пришел? Ну так. Чего же я хотел тебе… — Григорий потер широкой ладонью лоб. — Массив ржи завтра комбайнеры убирать будут. Организуй, чтоб сегодня обкосили его хорошенько литовками. Да поменьше перекуров, чтоб к вечеру управиться.
— У меня же в кузне… — начал было Туманов, но Григорий прервал его.
— Что в кузне? Я тебе эту работу как члену правления поручаю. Другому поручил бы, да нет людей. В кузне один Степка справится.
Павел удивленно пожал плечами.
— Ладно.
Едва захлопнулась за Тумановым дверь, Григорий подбежал к окну и стал смотреть в ту сторону, куда только что ушел Тихон Ракитин. Потом побрел на конный двор, сказал Федоту Артюхину, работавшему теперь конюхом, чтоб запряг лошадь.
Артюхин засуетился вокруг председательского ходка. Затягивая сыромятную супонь, он прыгал на одной ноге возле лошадиной морды и говорил:
— Энто разве жизнь? Что я, до смерти должон в конюхах ходить? Я же временно соглашался сюда, пока Авдей Калугин хворает. А он и не думает выздоравливать.
Федот Артюхин отличался тем, что больше месяца ни на какой работе выдержать не мог и начинал ежедневно жаловаться председателю: «Энто разве жизнь? Что я, до смерти должон…» И надоедал до тех пор, пока его не переводили куда-нибудь.
На этот раз Григорий, кажется, даже не слышал его жалобного голоса.
— Свежей травы положи в кошевку, — сказал Бородин, принимая вожжи.
Однако путь председателя был пока недалек: от конюшни до дому. Въехав в ограду, Григорий остановился возле сарая, отпустил чересседельник, бросил под ноги коню почти всю траву, что была в кошевке, и вошел в дом. Не раздеваясь, лег на кровать, повернулся лицом к стене. И лежал так долго, часа три. Затем встал. Анисья начала было собирать в кухне на стол, но Григорий, не говоря ни слова, вышел из дому.
Лошадь привычно стояла на том месте, где ее оставил Бородин. Снова подтянув чересседельник, Григорий скрылся в сарае, снял со стены небольшую косу и привязал ее к ходку. Затем опять исчез в сарае. На этот раз подошел к дровяной поленнице и вытащил из-за нее обрез…
Из деревни выехал не спеша. Сидя в плетеной коробке, он, как обычно, угрюмо поглядывал из-под надвинутой на самые глаза засаленной фуражки с высоким околышем. Но едва миновал бор, принялся нахлестывать лошадь. Скоро спина откормленного мерина залоснилась и с крутых боков начали отваливаться клочья пены. Подъехав к Волчьей пади с другой стороны, Григорий натянул вожжи. Мерин пошел быстрым шагом, тяжело раздувая бока. Григорий внимательно оглядывал придорожные кустарники. Сразу же за ними начинались топкие болота, поросшие низким корявым осинником, чахоточной ольхой с длинными ржавыми листьями. Через болота петляла более или менее надежная тропинка. Григорию эту тропинку показывал в свое время покойный отец. До того как стать председателем, Бородин часто пользовался ею. Но в последние годы пешком он не ходил, разве что от дому до конторы. Поэтому забыл, где тропинка выходила на дорогу. Помнил только, что рос там большой развесистый куст калины, который каждую осень покрывался тяжелыми гроздьями крупных желтовато-янтарных ягод.
Наконец Григорий увидел этот куст. Остановив коня, он слез с ходка и подошел к кусту. Притоптанная трава говорила о том, что здесь изредка проходил кто-то, что это и есть конец тропинки, которая начиналась неподалеку от деревни.
Возвратясь к ходку, Григорий поехал дальше. Но удостоверясь, что следом никто не едет, круто свернул с дороги и очутился на небольшой лужайке, отгороженной от дороги густым молодым березничком.
Здесь Григорий опять остановился, слез с ходка и привязал лошадь к дереву. Потом взял косу, скинул пиджак и начал неторопливо косить траву.
Солнце катилось уже книзу, и жара начала спадать. Выкосив большой круг, Григорий собрал тяжелую траву в одну кучу, бросил сверху косу и прислушался.
Кругом стояла тишина.
Григорий медленно подошел к ходку, надел пиджак. Еще постоял, еще послушал. И, сунув руку в нередок плетеною коробка, выхватил оттуда обрез.
С этой секунды его спокойствия как не бывало. Чуть перегнувшись, он отбежал в сторону и там, где березничок был пореже, продрался сквозь него, перебежал дорогу и очутился возле калинового куста. Здесь немного отдышался и торопливо пошел в глубь пади, внимательно следя, чтобы не сбиться с тропинки, чуть заметной среди невысокой, мирно зеленеющей травки. Вспоминал полузабытые приметы, которым учил его в былое время отец, и, казалось, слышал даже временами его голос: «Ошибешься одной приметкой, ступишь в сторону — и готов. Проглотит Волчья падь — и поминай как звали. На то она Волчья…»
Шел Григорий минут двадцать. Иногда останавливался, осматривал заросли кустарника, росшего по сторонам. И шагал дальше. Наконец Бородин, очевидно, нашел то, что искал. Тропинка нырнула в густой осинник и в самой середине зарослей круто поворачивала в сторону, снова выбегая на чистое место, поросшее все той же нежной ярко-зеленой травкой.
На повороте Григорий, не сходя с тропинки, протянул руку, схватился за ветви ближайшей осины. И только потом осторожно сделал несколько шагов в сторону, пробуя твердость почвы под ногой.
Над головой тучей вились комары. Но Григорий не обращал на них внимания. Вытащив из кармана нож, он срезал несколько веток и кинул их себе под ноги. Потом крепко-накрепко прикрутил шпагатом обрез к осиновому стволу на высоте своей груди, направив ствол в сторону тропинки.
Когда-то отец учил Григория ставить самострелы на медведей.
И вот Григорию пригодилась эта наука…
Через четверть часа он торопливо шагал обратно, забывая даже об опасности. У калинового куста остановился, оглянулся. Перемахнув через дорогу, быстро скидал в коробок накошенную траву, выехал на дорогу и направил коня в сторону летнего лагеря для скота.
Только теперь Григорий почувствовал, как нажгли ему шею и лицо болотные комары. Он то и дело тер затылок жесткой, заскорузлой ладонью, а подъехав к небольшой речке, через которую был перекинут полусгнивший расшатанный мостик, слез с ходка и умылся холодной ключевой водой. Жгучая боль от комариных укусов стала тише.
Бородин сел возле мостика на берегу и закурил. Лагерь был рядом, за невысокими зарослями ветел, которые окаймляли речушку. Григорий сидел, закрыв глаза, слушая, как беззлобно переругиваются доярки.
И вдруг Григорий вздрогнул всем телом. Неожиданно ударила мысль: «А что, если черт понесет кого через падь? Едва заденет он ногой туго натянутый поперек тропинки шнур, скрытый в траве, грохнет выстрел, предназначенный для другого…»
Григорий быстро поднялся на ноги, подошел к ходку…
… Больше часа Бородин ходил вместе с Ракитиным по лагерю и с тревогой думал: «День клонится к вечеру, скоро солнце сядет…»
Наконец новый лагерь осмотрели, и Григорий глухо спросил у Ракитина:
— Домой поедешь? Время к ночи…
— Поедем, если по пути.
Григорий ответил:
— Не совсем… рожь там обкашивают… глянуть надо…
— Ну, тогда я пешком, напрямик.
— Нет, чего же… подвезу хоть немного. Садись.
Ракитин сел в ходок. Григорий проговорил:
— Вот ведь какое дело… Чего-то еще хотел я…
В это время из-под навеса вышла доярка Настя Тимофеева, и Григорий, ударив себя тыльной стороной ладони по лбу, опять воскликнул, но совершенно другим тоном:
— Вот ведь какое дело!.. Настя! Садись сзади, поедем…
— Куда?
— Садись, говорю, дело есть для тебя…
Дела никакого не было, и зачем брал с собой Настю, Григорий тоже не знал. Однако чувствовал, что надо взять…
Григорий вроде только-только тронул коня, а Ракитин вдруг сказал:
— Ну, ты на ржище, что ли?
Высокий калиновый куст был недалеко. Несколько мгновений Григорий молчал, не зная, что отвечать. Потом проговорил то же, что и перед выездом:
— Завтра убираем рожь, так я хочу проверить, как обкосили массив…
— Тогда останови, я через падь — и дома.
Тихон соскочил с ходка и зашагал по тропинке. Григорий, онемев, смотрел ему вслед широко открытыми глазами. В чувство его привела Настя Тимофеева.
— Чего ты уставился? Пусть он идет себе, — сказала она, усаживаясь на место Ракитина. — Поедем, что ли.
До сих пор все шло по задуманному утром плану. Вот Ракитин уже шагает навстречу своей смерти. В момент выстрела Григорий будет около массива ржи, где должен находиться и Туманов. Конечно, выстрел услышат в лагере, и, может быть, в деревне, труп найдут и заговорят: Бородин отомстил. А у него свидетели — Настя, Туманов. Они вынуждены будут сказать: нет, Бородин в это время был вот где.
Так думал Григорий, когда утром лежал на кровати лицом к стене, но все время ему казалось, что есть в его плане уязвимое место. Какое — так и не мог понять. А сейчас, глядя вслед удаляющемуся по тропинке Ракитину, вдруг подумал, что все его уловки не нужны. Ведь, обнаружив самострел, и так поймут, что стрелял не Бородин. Но всем покажется странным и подозрительным, что он назначил в этот день кузнеца обкашивать полосы. Спросят, зачем назначал? Скажут: ага, значит… Постой, что же это получается?..
Бородин совсем запутался в своих мыслях. Ракитина уже не было видно, а Григорий все еще бессмысленно смотрел ему вслед.
Лошадь рванула с места. А Григорий лихорадочно думал: «Ведь в самом деле… дознаются, если… Не так надо бы… Не так…» И вдруг, застонав, он сунул вожжи Насте Тимофеевой, на ходу выбросился из дрожек. Вскочил с земли, побежал, прихрамывая, назад, хрипло закричал, размахивая руками:
— Ти-и-ха-а-ан!!
Ракитин не успел уйти далеко. Услышав крик, он вернулся, с удивлением посмотрел на красное потное лицо Григория.
— Чего тут случилось? — спросил Тихон.
А Бородин не знал, что теперь говорить. Присел на землю и промолвил совсем уж не к месту:
— Закуривай… значит…
И стал трясущимися руками шарить по карманам. Но кисета не находил.
Ракитин молча протянул ему свой.
Глотнув несколько раз подряд табачного дыма, Григорий сказал уже более или менее спокойно:
— Раздумал я на ржище ехать… Чего тебе, думаю, по болоту шагать… Поехали!
Встал и пошел к ходку. Ракитин пожал плечами и пошел следом.
За всю дорогу до села Бородин не проронил ни слова, угрюмо смотрел в широкую спину Насти, которая сидела теперь на передке и правила лошадью.
Когда приехали в деревню, Настя спросила:
— А зачем все же привез меня с лагерей-то?
Григорий ничего не сказал, только пошевелил губами.
… В тот же вечер, едва стемнело, Григорий вышел из дому и, крадучись, направился в сторону Волчьей пади. Миновав бор, он сел на землю и закурил, пряча самокрутку в рукав. А когда взошла полная отяжелевшая луна, пошел по тропинке через падь, посвечивая в зарослях карманным фонариком себе под ноги. Подойдя к тому месту, где был установлен самострел, Григорий, боясь неосторожно задеть в темноте шнур, лег на живот и стал шарить перед собой руками…
Возвращался Григорий через полчаса. На полпути меж деревней и тем местом, где настораживал днем самострел, Бородин остановился. Справа от него, в пяти шагах, в черной болотной воде плавала круглая, ослепительно желтая луна. Григорий размахнулся и метнул в нее обрез. Послышался глухой всплеск, луна покачнулась, разбилась на мелкие куски. Но вот осколки устремились друг к другу, сомкнулись, и полная, по-прежнему ослепительно желтая луна снова заблестела на воде…
* * *
… Приехав с курсов, Петр Бородин поразился той перемене, которая произошла с отцом: он страшно похудел, осунулся, будто перенес тяжелую болезнь. Его дряблые щеки давно не знали бритвы, заросли редковатой, но крепкой щетиной. И вообще весь он казался каким-то обиженным, смятым, раздавленным. Только маленькие впалые глаза по-прежнему смотрели зло и враждебно, вспыхивали временами недобрым желтоватым огоньком.
Едва Петр переступил порог дома, эти глаза быстро пробежали по нему, ощупали с ног до головы. Петр невольно поежился, вяло поздоровался. Отец, скривив в усмешке сухие, потрескавшиеся губы, промолчал.
— Что это с отцом? — осторожно спросил вечером Петр у матери. — Болел он, что ли?
Но и Анисья только тяжело вздохнула.
Через несколько дней Петр поехал в МТС принимать трактор. Анисья, проводив сына до калитки, произнесла:
— Болтают про отца-то разное. Будто он на фронте… — Но Анисья не договорила, погладила сына по плечу. — Ты иди, Петенька. Попросись у директора там, чтобы тебя в наш колхоз направили… Все таки иногда дома ночуешь…
Петр уехал, так и не поняв, что происходит с отцом.
Часть четвертая
Глава первая
1
Каждое лето обочины широких улиц и переулков Локтей быстро зарастают высокими, в рост человека, репьями. Под их широкими и мягкими, точно обваренными, листьями всегда прохладно и сумрачно. Там спасается от июньского зноя всякая живность: равнодушные ко всему на свете, полусонные деревенские собаки, ленивые и неповоротливые свиньи, юркие, вечно чего-то ищущие в земле куры и даже годовалые телята. Запыленные сверху лопухи надежно защищают обитателей репьевого царства и от теплых, всегда быстротечных летних дождей.
Репьи растут быстро и буйно, до самого июля не причиняя никому ни вреда, ни пользы. А потом выметывают шапки бледновато-розовых цветов. Недели через две цветы засыхают, на их месте образуются небольшие щетинистые шарики, которые набиваются в хвосты и гривы лошадей, в собачью шерсть, цепляются за одежду прохожих.
И люди осторожно обходят репьевые заросли стороной.
* * *
В последние годы Григорий Бородин болезненно воспринимал то, что люди сторонятся его, как высохшего репьевого куста.
После той ночи, когда Бородин бросил в болото обрез, он недели две был сам не свой. Ночами в голову лезли думы о прошлом, о настоящем… «На земле-то ведь как? — говорил когда-то отец. — Сильный — прямо стоит, слабый — по ветру стелется…»
Григорий считал, что он вот не слабый вроде… А не дают ему стоять прямо…
Но через несколько минут приходила совершенно противоположная мысль: какой он, к черту, сильный?! Ведь не мог, не решился все-таки Ракитина… Отец — тот не кинулся бы вслед Тихону, не вернул бы его с тропинки…
Но тут же обливался холодным потом: господи, не вернул бы Тихона — узнали бы ведь, кто поставил самострел. Узнали бы — и…
Григорий вскрикивал, садился на постели.
— Что ты? Что ты?! — испуганно спохватывалась Анисья, тоже приподнималась, щупала место, где лежал Григорий. — Говорю же — езжай в больницу. Гляди — потом исходишь, все простыни мокрые.
— Ничего, ничего… Убрал ведь самострел я вовремя. И в болото его… — стучал зубами Григорий.
— Чего несешь которую уж ночь? Какой самострел? В какое болото?
— В такое… в черное… Еще луна качнулась… холодно мне. А? Что? Чего ты?!
Придя в себя, Григорий падал на подушки, заворачивался в одеяло. Анисья вставала, накидывала еще сверху на дрожащее тело мужа зимнее пальто. И Григорий опять начинал думать о своем отце, о его словах… Он никак не мог выбраться из заколдованного круга этих мыслей.
Когда впервые после болезни пришел в контору, худой, обросший, с теплым шарфом на шее, сразу же послал за Ракитиным.
— Пока я болел, вы, говорят, на партсобрании вопросик один обсудили… о зерносушилке, — промолвил он слабым голосом.
— Обсудили, — насторожился Ракитин. — Рекомендовали правлению начать нынче строительство.
— Что же, давайте помаракуем, когда можем начать строительство, — тем же голосом продолжал Бородин. — Собери-ка сегодня правленцев, потолкуем. Потом на общем собрании обговорим. — Помолчал и добавил: — Возражать, я думаю, никто не будет. Надо нам сушилку, это верно.
А когда приступили к строительству, Григорий по нескольку раз в день бывал на току, негромко поторапливал людей, следил за своевременной подвозкой леса.
— Этак мы и нынче построим сушилку, — довольно сказал Ракитин.
— Нынче вряд ли, сил не хватит, уборка ведь на носу, — вяло ответил Григорий. — А на следующий год обязательно. А там, бог даст, и другую начнем…
Ракитин недавно слышал от Бородина совсем иные речи, поэтому удивленно посмотрел на председателя. Бородин почувствовал взгляд Тихона, пожал плечами и проговорил, плотнее закутывая шею шарфом:
— Как же, выполняем постановление… Что я, не болею за колхоз, что ли?
И, согнувшись, глядя в землю, медленно отошел прочь. Говорить что-то другое, продолжать борьбу у него не было уже сил…
А потом полнейшее равнодушие ко всему охватило Бородина.
Ему было уже безразлично, оставят его председателем или не оставят. Ему теперь не было дела ни до Ракитина, ни даже до Семенова. Он теперь жил, будто не замечая людей. Со всем, что предлагали ему Ракитин, Туманов или другие члены правления, безоговорочно соглашался.
— Это ты правильно, Григорий Петрович, — сказал однажды Бородину Иван Бутылкин. — Пусть они высиживают на собраниях решения-постановления. А ты их выполняй да хозяйствуй себе… Так-то дольше продержимся. А для нас, как говорится, хе-хе, что ни день, то пища.
Григорий мрачно выслушал Бутылкина, тихо переспросил:
— Значит, правильно, говоришь, я…
— Конечно, — кивнул Бутылкин. — Ведь сколь ерш ни колюч, а все одно — не миновать ему щучьей пасти. Чего же на рожон переть? Соразмеряй с обстановкой да председательствуй.
— Дур-рак!.. — вскричал Григорий. — Кто в колхозе хозяин? Кто? Я или… эти… Кто? Мне чем так… Уйду я лучше с председателей… Нынче у нас должно быть только отчетное собрание. А сделаем отчетно-выборное… Пусть ищут нового председателя…
— Дур-рак! — в свою очередь, воскликнул Бутылкин и со злости сплюнул на землю. — Чего им искать? Ракитин-то рядышком…
«Ракитин, Ракитин… Зря воротил его с тропинки, пусть бы шел, — думал часто Григорий. — А теперь… Ракитин каждый день ходит по Волчьей пади, да обреза теперь нет».
Бородин думал, а самого кидало в озноб, сдавливало сердце чем-то холодным. «Слава богу, что обрез проклятый выкинул…» — пробивалась сквозь обуревавшую его злобу согревающая струя.
Едва наступало утро, он гнал от себя прочь такие мысли. Словно боялся, что при дневном свете их может кто-нибудь подслушать. А ночью думал, думал, тешил себя расправой с Тихоном.
2
Приняв в МТС трактор, Петр Бородин стал работать на полях своего колхоза. Жил в тракторном вагончике. Оттуда до деревни было всего полчаса ходу, и он часто ночевал дома.
Григорию было в это время не до сына. Только однажды, подняв за ужином глаза на Петра, Григорий вдруг увидел, что сидит перед ним не прежний тщедушный Петька, а будто незнакомый долговязый парень с тяжелым золотистым чубом.
Поужинав, Петр начал куда-то собираться, долго и старательно расчесывал чуб перед зеркалом. Григорий видел отраженные в зеркале глаза сына. Глаза эти, цвета вызревающей черемухи, были какие-то странные: то светилось в них знакомое ему упрямство, то они насмешливо щурились, то застывал вдруг в них немой вопрос. Со дна души Григория поднимались прежние опасения.
Когда Петр взял баян и пошел из дому, Григорий не вытерпел и спросил, кивая головой на инструмент:
— Веселишь девок?
— Бывает, — нехотя и уклончиво ответил Петр.
— Бывает, и дурак загуляет! Тому ума не прогуливать, ему все равно, что у него за компания…
Петр поморщился, поднял глаза и спокойно сказал:
— Зря ты, батя, все…
… А между тем снова сходились пути Поленьки Веселовой и Петра Бородина.
* * *
Как-то, еще в. прошлом году, Евдокия Веселова вернулась с рыбалки промокшая до нитки и свалилась в постель. Работать в рыболовецкой бригаде было ей невмоготу, но она молчала, из гордости не хотела просить у Бородина другой работы.
Поленька посиневшими руками мочила в холодной воде полотенце и прикладывала к горячему лбу матери.
После болезни Евдокия по требованию Бородина опять поехала на лов в ветреный дождливый день и снова слегла.
— Что, не можешь? С гнильцой оказалась, хе-хе, — дребезжал Григорий, неожиданно завернув на другой день в их дом. — А может, симулируешь? Все вы такие. И Андрюха, бывало…
— Не трожь Андрея… Сволочь ты, Бородин. Не можешь его и мертвого в покое оставить…
Приподнявшись на посмели, Евдокия ненавидяще смотрела на него. Григорий невольно попятился, взялся за дверную скобу.
— Ты меня не сволочи… А вот, коли не хочешь сама работать в рыболовецкой бригаде, дочку на твое место назначаю.
Евдокия откинулась на подушки. Лежа на спине, чувствовала, как горячая испарина покрывала лоб.
— Она-то чем тебе дорогу перешла? Не детское дело мокрые сети ворочать. Душегуб ты…
— Я пойду, мама, работать в бригаду. А ты… дядя Григорий, ты не ходи к нам больше! — неумело стукнула кулаком по столу Поленька.
— Не велико удовольствие… в хоромы ваши ходить, — усмехнулся Бородин, обводя бесцветными глазами избу, и вышел.
На другой день рано утром Поленька засобиралась на озеро.
— Не ходи, доченька, — попросила Евдокия. — Я вот поправлюсь — сама тогда…
— Пойду, мама, — помолчав, проговорила Поленька. — Не сердись. — И тихо добавила: — Пусть не думает, что нам так плохо… что взял верх над нами…
— Глупышка ты еще, доченька. Кто взял верх над нами? Бородин? Да скорей земля провалится.
— Но ведь вздыхаешь ты вон как тяжело… Я же вижу…
— Ладно, иди уж… Тогда осторожней на лодке, доченька… Перевернуться в озеро недолго.
Выздоровев, Евдокия стала работать на току. Хотела было вернуться в рыболовецкую бригаду, но Поленька ласково и решительно проговорила:
— Нельзя тебе на озеро, мама, опять сляжешь. А я — видишь — привыкла уже.
Поленька действительно очень скоро привыкла к сырым ветрам, к тяжелым холодным брызгам, к промокавшей во время работы одежде. Она еще более вытянулась, похудела, стала гибкой и сильной.
Прошел год, а дребезжащий смешок Бородина, обращенный к ее матери: «Что, не можешь? С гнильцой оказалась, хе-хе…» — не забывался. Поленька часто задумывалась, что же все-таки надо Бородину, за что он мстит матери? Мать говорит — за отца. Что он сделал Бородину?
Своего отца Поленька помнила смутно. Давно-давно, перед самой войной, возвратясь из школы, она без запинки рассказала ему стихотворение про белку, которая щелкала золотые орехи. Отец улыбнулся, сказал, что она, Поленька, молодец и что если окончит на «отлично» второй класс, то он купит ей настоящий велосипед.
Это было самое яркое Поленькино воспоминание об отце.
Еще помнит она, но уже более туманно, как однажды вечером отец долго читал газеты при свете керосиновой лампы, хмурил всегда ласковое, в крупных оспинах лицо. Потом посадил ее к себе на колени, крепко прижал большими жилистыми руками к груди…
Из рассказов матери она знала, что раньше отец жил у кого-то в работниках, а как нагрянули колчаковцы, ушел в лес и организовал партизанский отряд. Позже, до самой войны работал председателем колхоза.
Но мать никогда ничего не рассказывала про Бородина. За что он ненавидит ее отца? Почему мстит за него матери?
Ночами, уставшая после трудной работы, долго не могла уснуть и смотрела часами в темноту. Вспоминались почему-то далекие-далекие синие вечера — с комариным звоном и прохладным запахом мяты, густые зимние туманы над еще не замерзшим Алакулем. Она слышала даже беззаботные детские голоса, которые звонко раздавались над горой, спускающейся к самому озеру.
Однажды ей показалось, что думает она все время вовсе не о Григории Бородине, а о его сыне Петре. Мысль эта пришла так неожиданно, что Поленька испуганно приподнялась на постели и долго сидела, не понимая, что же с нею произошло. Чувствуя, что сейчас расплачется, она быстро соскочила с кровати и зажгла свет. При свете кое-как успокоилась.
Через несколько дней Поленька искала вечером отставшую от стада корову. С севера наползали черные тучи, отчего сумерки сгущались особенно быстро.
Дождь хлынул сразу так, будто за стеной леса была запруда и вдруг ее прорвало. В несколько секунд Поленька промокла до нитки.
Поняв, что коровы ей сегодня уже не найти, она, озябшая, побежала в деревню. По небу, настигая ее, тяжело прокатывался гром, и жесткие струи, как прутья, хлестали по голым ногам. Пробегая мимо тракторного вагончика, она хотела завернуть в него и переждать непогоду, но, вспомнив, что Петр работает теперь трактористом и, наверное, находится сейчас здесь, обошла вагончик и прижалась к стенке с подветренной стороны, ожидая, пока хоть немного стихнет ливень.
За стенкой слышались смех и голоса, кто-то неумело пиликал на гармонике. Один раз ей показалось даже, что она уловила голос Петра. Испугавшись, хотела бежать дальше… Но в это время рядом, сквозь пелену дождя, как сквозь плотный занавес из толстого грязноватого шпагата, просунул тупой квадратный нос трактор, и вслед за тем она услышала шум работающего мотора.
Трактор остановился, из кабины выпрыгнул Петр и побежал в вагончик.
Заметив Поленьку, остановился и в первую секунду не мог даже вымолвить ни слова.
— Ты… зачем здесь мокнешь? — спросил он наконец.
— Дождь… — растерянно произнесла Поленька.
Он не понял или не расслышал ее бессмысленного ответа, подошел к ней, тоже прижался к стене и опять спросил, уже не с удивлением, а с тревогой:
— Что ты здесь делаешь? Случилось что-нибудь?
— Нет… Я шла… корову искала. А тут дождь хлынул.
В неловком молчании прошло минуты три. «Ну зачем я тут остановилась, дура?» — подумала Поленька про себя, а вслух почему-то сказала:
— Ты хорошо играешь на баяне… Я мимо клуба шла недавно, слышала…
Петр Бородин, сам еще не зная отчего, стал медленно краснеть. Затем, не соображая, что делает, шагнул вперед, под дождь, но так же неожиданно остановился.
— Ну и ладно! — крикнул он, оборачиваясь. — Дался вам этот чертов баян!.. Витька тоже вон однажды: «За баян продался…»
Поленька смотрела на него, ничего не понимая. Петр вдруг вернулся, подошел к ней почти вплотную. Она отшатнулась.
— А ведь никто не знает… — проговорил Петр. Но тут его будто оставила решимость, он тяжело махнул рукой. — Э, да что!..
— О чем ты говоришь? — изумленно спросила Поленька.
— О чем? — переспросил он и медленно поднял на нее глаза. Она смутилась и отвернулась. Прядка мокрых волос выбилась у нее из-под платка и прилипла к щеке. Петр, забыв о ее вопросе, долго смотрел на эту прядку, словно что-то припоминая. Наконец вместо ответа проговорил как-то виновато:
— Вечером скучно… Вот иногда и играю в клубе. А ты почему не ходишь в клуб?
— Так… С работы всегда поздно возвращаюсь. Куда уж…
— Я тоже теперь работаю…
— Трудно тебе? — после некоторого молчания тихо спросила Поленька.
— Как тебе сказать… Людей вижу и… окрепнуть стараюсь.
Впервые за много лет они встретились вот так, с глазу на глаз, и оба чувствовали, что говорят совсем не о том, о чем следовало бы.
Стало уже совсем темно, а дождь все цедил и цедил, не ослабевая. Поленька поежилась и проговорила:
— Корову не нашла, только зря вымокла…
Тогда Петр пошел к трактору, достал из кабинки дождевик и дал Поленьке:
— На, одень… А то в самом деле простынешь…
— Спасибо, — прошептала она.
Надев дождевик, Поленька быстро согрелась. Закрыв капюшоном лицо, она слушала монотонный шум дождя и улыбалась, сама не зная чему.
— Ты, Поленька, скажи честно, что думаешь обо мне? — вдруг спросил Петр, глядя в сторону.
— Я?! — растерянно воскликнула она, и снова ее охватило волнение. Она проговорила, будто оправдываясь: — Что ты, Петя!.. Я ничего не думаю…
— Неправда это…
И впервые глаза их встретились. Поленька смотрела на него из-под капюшона приветливо, чуточку испуганно. Петр — виновато, как-то грустно и устало. Он отвернулся первым. Осторожно опустился на землю возле сухой стенки и проговорил:
— А ведь у меня дома… все так же… Ты понимаешь? — Поленька хотела что-то ответить, чуть дотронулась до его плеча, но тотчас отдернула руку, словно обожглась… — Сейчас вот работаю… Знаешь, лучше как-то, — продолжал Петр. Он встал и еще раз посмотрел на нее. Теперь в его глазах лучилась робкая, едва заметная нежность. Но Поленька разглядела ее, почувствовала и так же робко и несмело улыбнулась в ответ. — Это хорошо, что мы встретились, — сказал Петр, наглухо застегивая пуговицы дождевика на Поленьке, и повторил: — Это очень хорошо. Ну, иди, не промокнешь теперь…
Поленька ушла, унося с собой его дождевик, его потеплевший взгляд и его слова: «Это хорошо, что мы встретились…»
Дома она легла в постель и опять долго смотрела в темноту. И снова ей показалось, что все время она думала не о Григории Бородине, а о Петре. От этих мыслей, как и несколько дней назад, сильнее застучало сердце.
* * *
Поленька ушла. А Петр снова опустился на землю, сидел, слушал глухие раскаты грома, шелест мокрых берез на ветру. За стенкой вагончика было тепло, тихо, сухо и даже по-своему уютно. Вспомнился ему далекий летний вечер, небо, заваленное грудами нежно-розовых облаков, кружок девчонок, сидящих на лужайке за амбарами, взгляд Поленьки, растерянный, чуть обрадованный, зовущий.
Пожалуй, у каждого человека обязательно живут в памяти какие-нибудь одно-два события далеких детских лет. По разным причинам врезались они в память навечно, отпечатались там со всеми подробностями, как на фотографической бумаге, и порою, может и незаметно для нас, оказывают влияние на всю жизнь.
Так было и с Петром.
Сейчас, сидя у вагончика, Петр вспоминал, что после того вечера, во время случайных встреч, Поленька смотрела на него по-прежнему чуть обрадованно и ободряюще. Но он неловко отворачивался, и в ее глазах появилась грусть. А потом Поленька, завидев Петра, торопливо уходила в какой-нибудь переулок. Если же нельзя было свернуть, она опускала голову и быстро пробегала мимо.
А дома отец каждый раз молча обшаривал его глазами.
Вот и сегодня, пока Петр разговаривал с Поленькой, ему все время казалось, что отец смотрит на него сквозь сетку дождя.
… Петр долго сидел еще возле вагончика не шевелясь. Гремел, кажется, гром, может быть, последний в это лето. Усиливался, кажется, ливень. А может быть, он не усиливался, а, наоборот, затихал.
3
Строительство сушилки продвигалось вперед благодаря стараниям и заботам Ракитина, но продвигалось все-таки не так быстро, как хотелось бы Тихону. Ведь подходила уборка. Ракитин боялся, что до осенней непогоды сушилку не достроить, и хмурился день ото дня все сильнее.
Нервничал Ракитин и оттого, что председателя совсем не интересовала стройка. Но он пока ничего не говорил Бородину.
Чтобы как-то ускорить дело, Ракитин несколько раз ездил в район, доставал где-то кирпич, цемент и другие стройматериалы. Потом сообщал об этом Бородину, прося его оплатить счета, послать автомашины за кирпичом. Григорий, ни слова не говоря, подчинялся.
Постепенно руководство, стройкой целиком перешло в руки Ракитина. Бородин заглядывал сюда все реже и реже, а потом, когда началась уборка, и совсем перестал ходить.
— Все-таки заглянул бы когда на сушилку! — не выдержал наконец Ракитин, когда они случайно встретились на току. — Ведь скоро дожди начнутся…
Григорий сел на ворох провеянной пшеницы, ядовито усмехнулся:
— А зачем? — Полез в карман, достал кисет с табаком, глянул на Евдокию Веселову, насыпавшую ведрбм зерно в веялку, усмехнулся еще раз. — Зачем, я спрашиваю, ехать мне туда, если… два у нас председателя?
— И еще неизвестно, который лучше, — бросила от веялки Евдокия.
Пальцы Бородина дрогнули, и клочок газеты, в который он насыпал табак, порвался. Григорий медленно повернул голову к Веселовой и воткнул в нее острый взгляд сузившихся глаз.
— Ну, ну, ты еще!..
Евдокия, отбросив ведерко в сторону, сама шагнула навстречу Бородину:
— А что я? Чего кричишь? Неправильно сказала, что ли? Хотя и в самом деле неправильно. Известно, который лучше!..
Евдокия подступала все ближе. Бородин невольно подался в сторону. Но там молча стоял Ракитин. А сзади была куча зерна. Григорий снова сел на ворох, с которого только что поднялся.
— Отойди, — хрипло сказал он Веселовой.
Колхозники, работавшие на току, одобрительно поглядывали на Евдокию. Некоторые подошли поближе.
— Эх, Григорий, Григорий… — сказал кто-то.
— Ракитин ведь о хозяйстве заботится, — подал откуда-то сзади голос Федот Артюхин.
— Он и там и там поспевает, разрывается на части, — снова заговорила Евдокия.
— Измотался весь, одни глаза остались… — подхватили женщины.
Григорий встал и, разбрызгивая пшеницу, ушел.
Через несколько дней вечером Ракитин, войдя в кабинет председателя, пододвинул к столу скрипучий стул, сел напротив Бородина, раздраженно забарабанил пальцами по крышке.
— Ну что еще стряслось? — сердито спросил Григорий. — Да перестань колотить по столу.
— На сушилку надо выделить еще человек пять. Как хочешь, а давай людей. Иначе…
— Ну, ну, что иначе? — поднял на Тихона глаза Бородин. — Пугаешь?
— Иначе не успеем с сушилкой до дождей. Ведь вот-вот хлынут. Опять хлеб гноить будем…
— А-а, — произнес Бородин и стал смотреть в окно. — Где я тебе возьму людей? Рожу, что ли? Все заняты.
— Ладно, — почти крикнул Ракитин. И, немного успокоившись, проговорил уже тише и мягче: — Ладно…
Ракитин решил сам назначить колхозников на стройку. Выйдя на крыльцо, он глянул на чистое пока, звездное небо и зашагал к дому Веселовых.
Евдокия без возражений согласилась работать на строительстве сушилки. Выйдя от нее, Ракитин стал прикидывать, кого бы можно еще назначить на стройку. Летом и ранней осенью в деревне почти не зажигают огней — дни еще длинные, хозяйки успевают убраться на ночь засветло. Поэтому единственный желтый квадратик окна впереди не то чтобы заинтересовал Ракитина — просто послужил маяком. Ракитин пошел на него, все еще перебирая в голове фамилии колхозников.
Освещенным оказалось окно колхозного клуба. Так как занавесок не было, Ракитин увидел через стекло Поленьку Веселову, Виктора Туманова и еще нескольких ребят и девушек. Поленька, стоя, что то говорила.
— Эге! — воскликнул вдруг Ракитин, ударил себя по лбу. — Дурак же ты, братец.
Круто свернул и вошел в клуб.
В небольшой комнатке, которая служила уборной для артистов, шло комсомольское собрание. При появлении Ракитина все замолчали, обернулись к нему.
— Привет, комсомолия! — негромко сказал он, усаживаясь на свободный стул. — Продолжайте, чего же вы…
— Да мы, Тихон Семенович, закончили уж, — проговорил Виктор Туманов. — Последний вопрос дожимаем — насчет культурного отдыха молодежи. Продолжай, Веселова.
Поленька взглянула на Ракитина и почему-то застеснялась.
— Я все сказала, — произнесла она и села. Но тут же вскочила. — Только танцев одних мало. Драмкружок, как я говорила, надо организовать…
И опять посмотрела на Ракитина. Тот утвердительно кивнул головой.
— Вот так, — закончила Поленька и села. Виктор Туманов пометил что-то в лежавшей перед ним бумажке и встал.
— Ну что же, уточним. Было предложение организовать драмкружок. Кто за это предложение — прошу голосовать. Так, единогласно. Дальше. Была тут критика в отношении того, что танцы прекратили устраивать. Радиола в ремонте, товарищи, а больше никаких музыкальных инструментов в клубе нет.
— У Петьки же Бородина баян есть! — крикнул кто-то с места.
— Поясняю. Петька играл у нас несколько раз, потом отказался. Обязать его мы не можем — не комсомолец. Но это не беда, завтра радиолу привезем из ремонта. Для разнообразия, конечно, хорошо бы и под баян, но… — И Витька развел руками. — Играть я и сам могу, да баяна нет.
— А вы запишите пункт: просить у правления колхоза денег на баян, — посоветовал Ракитин. — А пока попробуйте Петра Бородина привлечь.. Поговорите с ним по-дружески.
— Было предложение — привлечь Бородина к нашему культмероприятию, — продолжал Туманов. — Предлагаю поручить это Веселовой. Поговори с ним от имени комсомольской организации…
— Что ты! Что ты! — вскричала Поленька, краснея.
— А что? — не понял Витька.
— Нет, нет… Только не я… Не могу я!
— Так… Понятно. — Туманов опять пометил что-то в бумажке. — Ладно, я сам с ним поговорю.
Когда проголосовали за второе предложение, Туманов хотел было закрыть уже собрание, но Ракитин поднял руку, встал.
— Минуточку. Вот какое дело у меня к вам, дорогие друзья. Не у меня лично, у всей парторганизации, у колхоза. Сушилку медленно строим. А вот-вот дожди пойдут. Давайте подумаем все вместе, как нам ускорить строительство…
Ракитин хотел еще что-то говорить, но Туманов сделал жест рукой — понятно, мол, — и сказал:
— Есть предложение — подумать насчет сушилки. Возражений нет? Правильно, и быть не может. Ну, у кого какие соображения?
С полминуты длилось молчание. Потом кто-то кашлянул, кто-то двинул стулом.
— Соображение одно — строить надо побыстрее.
— Это понятно. А как?
— Как строят? Руками, ясное дело…
Ракитин грустно усмехнулся, и это заметили все комсомольцы.
— Если были бы в колхозе свободные руки! Я сегодня весь день думал: кого бы назначить на сушилку? И не мог придумать. Уборка ведь. Евдокию Веселову снял с веялки. На току еще как-нибудь обойдутся. А больше некого.
— А что, если… — встрепенулась Поленька и замялась. Легонькая косынка сползла с головы на плечи. Ракитин снова ободряюще кивнул. И ей словно только и не хватало этого разрешения, она перекинул косу через плечо, заговорила горячо и громко: — Конечно, все мы работаем. Я как вернусь с озера — руки ноют, ноги гудят. Падаешь — и спишь как мертвая. Но ведь сушилка-то нужна! Может, вечерами бы, после работы? Ведь вон нас сколько, а? Каждый но кирпичику — и стена повыше…
— То есть, ты предлагаешь вроде воскресника устроить? — спросил Туманов.
— Ну пусть воскресником назвать это. И чтоб не один раз. А пока не достроим. Чего же, молодые ведь мы, выдюжим…
Поленька села. Щеки ее ярко горели от волнения. Она чувствовала это и, чтобы скрыть румянец, повязала косынку по-бабьи, под подбородком.
— Я тоже думаю, что выдюжим, — проговорил Витька. — Ну как, ребята?
— Это почему же — ребята только? А девчонки что, хуже вас?
— Лично ты — лучше всех. Особенно для Митьки вон… — поддел девчонку кто-то из-за спины.
Брызнул во все стороны хохот — не злой, веселый, и щедрый. Девчонка, конопатая и курносая, быстро обернулась:
— А для тебя давно хуже стала? Может, с тех пор как по морде съездила, чтоб не лез со своими мокрыми губами…
Хохот грянул еще громче. Смеялся Витька Туманов, забыв о своих обязанностях председателя собрания, смеялась Поленька, пряча голову меж ладоней, смеялся Ракитин, поблескивая усталыми глазами. Девчонка сперва недоумевающе оглядела всех, потом сморщила носик и тоже улыбнулась.
Так закончилось это собрание. Комсомольцы решили взять шефство над строительством сушилки, постановили работать на стройке вечерами столько, сколько потребуется.
Шагая домой, Ракитин думал, что надо будет побольше уделять внимания комсомольцам. Да что там побольше, когда до сегодняшнего дня вообще не интересовался почти их работой. Хорош тоже секретарь парторганизации! А комсомольским секретарем надо бы избрать Виктора Туманова вместо того молчаливого парня, который все собрание сидел, как сыч, в углу.
На следующий вечер Ракитин пришел на сушилку, когда колхозники заканчивали свой рабочий день. Евдокия Веселова сняла фартук, красный от кирпичной пыли, положила на перевернутый ящик.
— Скажешь Поленьке, чтоб одела его. Да чтоб больше четырех кирпичей зараз не поднимала. Слабенькая она еще.
— Значит, рассказывала она тебе о вчерашнем собрании? — спросил Ракитин.
— Ну! — улыбнулась Евдокия. — Какие же между девками секреты… Ужин с собой взяла сегодня, чтоб после лова домой не заходить.
Когда колхозники ушли, Ракитин стал зажигать фонари, которые принес с собой, так как электричество к сушилке еще не провели.
Минут через пять подошел Витька Туманов.
— Тихон Семенович, ты-то зачем пришел? — спросил он. — Мы и сами бы…
— Ну, ну… Сами с усами. Повесь-ка фонарь вон на тот столб. Так. А эти вон туда надо поставить, по углам. Сегодня задача такая — натаскать кирпичей наверх, чтоб завтра каменщики с утра принялись за кладку, подвезти воды, ошкурить вот эту кучу бревен, врыть три электрических столба. Если не устанем, примемся за штукатурку стен. Только штукатурить-то умеет кто из вас?
— Есть такие. Остальные научатся.
Вскоре стали подходить комсомольцы. Вечер был теплый и влажный. Свет керосиновых фонарей еле-еле разгонял темноту. Но этот полумрак создавал даже какой-то своеобразный уют, заставлял забывать об усталости.
Сначала ребята и девушки работали молча, что тревожило Ракитина. Потом даже послышалась раздраженная ругань. Но вчерашняя курносая девчонка крикнула:
— То-то, парень! Дух, что ли, испускаешь? — И добавила, мстя за вчерашнее: — Это тебе не на собрании языком трепать…
— Дура! Я кирпич на ногу уронил.
Понемногу заметался разговор, послышался сдержанный хохоток, другой.
— Товарищи, песню! — крикнул Витька Туманов. Кто-то тихо и грустно запел. Песню поддержал один голосок — девичий, затем другой — мужской. И снова девичий. А потом уж и не разобрать было, какие голоса вплетались в песню. Она лилась как-то легко и естественно, отлично гармонируя с полуосвещенными кирпичными стенами сушилки, с темным небом над ней, с нетерпеливыми движениями работающих.
Ракитин, таская на носилках вместе с другими кирпичи на верхние подмостки, с удивлением думал, как же это он раньше не догадался поговорить с комсомольцами. Ведь теперь сушилка была бы уже готова.
Под конец работы, проходя мимо Поленьки и Туманова, которые укладывали на подмостках кирпичи ровными рядами, Никитин уловил обрывок негромкого разговора:
— Ты чего это вчера с лица сошла, когда я Петьку Бородина предложил?..
— Когда это? — перебила его Поленька, стараясь быть спокойной.
— Да вчера, говорю, на собрании?
— Вот еще! С чего бы мне сходить!
Когда Ракитин, пронося новую партию кирпичей, снова поравнялся с Поленькой и Тумановым, она уже сама что-то расспрашивала у Виктора о Петре. Но на этот раз, увидев Ракитина, оба замолчали.
— Ну, хватит на сегодня, — проговорил Ракитин, думая о том, что он и нестар еще вроде, а не угнаться за молодежью. Вот они трудились весь день и сейчас работают как ни в чем не бывало.
Но едва Ракитин произнес «хватит», все затихли там, где работали, все сели на секунду передохнуть. Над стройкой воцарилась полнейшая тишина. И Ракитин только тогда понял, какого труда стоило им всем это «как ни в чем не бывало». И как-то ближе, роднее стали ему и Поленька, и Витька Туманов, и та конопатая девчонка, и тот парень, который уронил себе на ногу кирпич.
— Ну что, устали? — спросил Ракитин. — Я хотел завтра пару каменщиков в ночь назначить. Но, может, отдохнем денек?
— А этот, — указал Витька на небо, — тоже будет отдыхать?
— Этот нет, пожалуй, даже если помолиться ему. Скоро задождит.
— Мы же, Тихон Семенович, постановили на собрании помочь быстрее закончить стройку, — подала голос Поленька. — Вы не смотрите, что мы устали сейчас. Мы еще отдохнем до утра. Правда, девочки?
— Эх, потанцевать бы сейчас! — вместо ответа проговорил кто-то.
* * *
Благодаря помощи комсомольцев строительство сушилки двинулось вперед вдвое быстрее. Кладка стен уже почти заканчивалась, так как Ракитин назначил в ночь не двух, а трех колхозников, знакомых с мастерством каменщиков. Узнав об этом, Бородин вызвал Тихона в контору.
— Ты, конечно, член правления колхоза. Но кто тебе разрешил людьми распоряжаться? — спросил он, сидя за столом.
— Я же обращался к тебе, — спокойно ответил Тихон.
Ноздри Григория чуть раздулись, он поспешно поднялся из-за стола. Но, чувствуя на себе придавливающий взгляд Ракитина, не закричал, не сорвался, как бывало раньше, только глухо произнес:
— Ладно, поедем на стройку. Посмотрим, как ты нахозяйничал…
Ехали молча. Только увидев, как несколько колхозников копают ямы и ставят телеграфные столбы, Григорий угрюмо проронил:
— Тоже распорядился? Я кому толковал, что на следующий год потянем электричество к сушилке?
— Колхозники посоветовали нынче тянуть, — не поворачивая головы, ответил Ракитин. — Чего время зря терять?
Бородин только стиснул зубы и без всякой нужды огрел лошадь кнутом.
Когда подъехали к сушилке, Григорий, не слезая с ходка, окинул взглядом все строительство. Женщины, среди них и Евдокия Веселова, подносили кирпичи, делали раствор. Бородин усмехнулся, проговорил:
— Ничего, правильно ты нахозяйничал тут. Только одну ошибку допустил.
— Какую?
Вместо ответа Бородин крикнул:
— Веселова!
Евдокия подошла, молча ждала, что скажет председатель.
— Садись на задок, поедем.
— Куда это?
— Садись, говорю!
Евдокия внимательно посмотрела на Бородина. И он, в который уж раз, вспомнил тот далекий вечер, когда Дуняшка, выйдя из дома, полураздетая, горячая еще ото сна, безбоязненно приблизилась к нему, протянула из-под накинутого на плечи платка руку и сказала: «Дайка мне ножик!» Может, потому вспомнил, что посмотрела она сейчас на него тем же спокойным и властным взглядом. Григорий не мог его выдержать и даже пробормотал невольно:
— Но, но… Это ты брось… Не смотри так… Не поможет теперь-то…
Веселова переглянулась с Ракитиным, пожала плечами и села на задок ходка. Бородин торопливо повернул лошадь, будто затем и приезжал только, чтобы увезти Евдокию Веселову.
Обратно тоже ехали молча. На неровностях дороги ходок подбрасывало. Ракитин покачивался при толчках всем телом, Бородин же сидел, точно приклеенный, только голова болталась из стороны в сторону. «Ведь подмял вроде тебя, — угрюмо думал он о Евдокии Веселовой, — а ты стараешься вывернуться, встать на ноги. Нет, врешь… Не встанешь пока… Я за все сполна отплачу… Не Андрюхе, так тебе…»
Возле того места, где копали ямы под столбы, Григорий натянул вожжи, крикнул:
— Вот вам помощница, мужики. Дайте ей лопату побольше. Она, несмотря что баба, обгонит вас в работе.
Ракитин удивленно посмотрел на Бородина.
— Веселова и на сушилке хорошо работала. А здесь ей…
— В том и дело… Землю копать — не кирпичики подносить все же. Тут гнуться надо… — уже не скрывая издевки, произнес Бородин.
— Ну, знаешь! — вспыхнул было Ракитин. Но тут же опомнился и взял себя в руки. — Вот что, Григорий. Этот номер тебе не пройдет.
Но Евдокия, сойдя с ходка, спокойно улыбнулась Тихону.
— Ничего, Тихон Семенович. Бородин то туда, то сюда сует меня — в общем, где потяжельше. А того не поймет, что, когда работаешь на себя, всякий труд не в тягость. Он — я ведь знаю его — думает: «Вот одолел Евдокию, дал ей почувствовать свою власть…» А я власти его и не чувствую. Мой ведь колхоз, наш… Андрюша для меня его организовал, для тебя, Тихон Семенович, для них вот… Но не для Бородина… хоть и оказался он тут председателем… случайно.
Удар пришелся точно. Собираясь что-то крикнуть, Григорий, играя желваками на щеках, сбросил ноги с ходка, но ступить на землю почему-то побоялся. Евдокия тотчас заприметила это, усмехнулась ему в лицо:
— Смотри, обжигает ноги тебе наша колхозная земля…
Бородин послушно забросил ноги обратно. Веселова, а вслед за ней и колхозники, рывшие ямы, расхохотались. Григорий растерялся и хлестнул коня…
И опять ехали молча. Григорий по-прежнему играл желваками, украдкой бросал взгляды на Ракитина. Тот о чем-то сосредоточенно думал и временами, казалось Григорию, усмехался.
— Задумался, смотрю. Не прикидываешь ли, о чем еще посоветоваться с колхозниками за моей спиной? — зло спросил Бородин.
— Угадал. Прикидываю.
— Ишь ты! Ну, ну… О чем?
— Помнишь, предупреждали тебя: если будешь плохо работать…
— Вовек не забуду! — перебил Ракитина Бородин. — Потому — давай без подступа.
— Так вот, без подступа… Прикидываю, что все же пришла пора посоветоваться с колхозниками насчет председателя…
— Та-ак… — И Бородин откинулся на спинку плетеного, скособочившегося коробка. — Это в смысле — меня убрать, себя поставить… Поскольку Евдокия Веселова разъяснила недавно, кто из нас с тобой лучше…
— В одном смысле — тебя убрать. А насчет нового председателя — сами колхозники решат…
Григорий долго молчал, потом с трудом выговорил:
— От председателева места я и сам подумывал отказаться. Вижу, давно уж не хозяин я тут. Ты распоряжаешься, Евдокия вон… Думал я — погиб Андрюха Веселов, в земле сгнил. А он — вот он, рядом… — И, помолчав с полминуты, добавил: — Тот все грозился из деревни убрать меня, из жизни. И ты такой же…
— Из жизни ты, Бородин, сам себя убрал.
— Как это?! Не дохлый же я, живой…
— У каждого из нас, кроме работы, есть еще другая должность — должность человека. Превосходная должность, говорил писатель Горький. Так вот, с этой должности ты давно сам себя снял. Сейчас вот, когда заставил Веселову землю копать, я еще раз убедился в этом… А насчет того, что ты сам отказываешься от председательствования, врешь. Но мы уберем тебя. Уберем. С тобой, Григорий, тяжело даже одним воздухом дышать. Евдокия Веселова правильно сказала — случайно ты в председатели попал. Временно. Да и вообще живешь на земле временно.
Минут пять думал Григорий: что же это такое сказал Тихон? И произнес, кривя губы в свою обычную улыбку:
— Все подохнем. Вы, что ли, с Евдокией вечно будете жить?
— Угадал. Вечно. — И еще раз повторил: — А ты временно.
* * *
«Временно… Уберем…» — Григорий опрокинул в заросший щетиной рот полстакана водки и опять повторил: «Уберем…»
Запершись в комнате со своей собакой, он запил в одиночестве, чего давно не бывало.
Шла еще уборка. Несколько раз в комнату ломился Бутылкин, потом стучала Анисья, но Григорий не открывал дверь, только рычал что-то. Собака тоже рычала. Тогда Бутылкин просунул в щель записку.
Григорий заметил ее на другое утро. На бумажке было нацарапано: «Себя топишь, дурак. В колхозе секретарь райкома, тот, с бровями… Разговоры идут насчет снятия тебя с должности. Брось пить, скажи — болел…»
Григорий присел на край стола, огрызком карандаша на обороте записки вывел две кривые строчки: «А может, я сам себя с другой должности снял…» Потом подумал, что Бутылкин не поймет, и добавил: «с должности человека…»
И снова подумал: все равно не поймет Бутылкин. Да и сам Григорий не понимал. Вроде правду сказал Ракитин, сказал — точно врезал… А в чем она, эта правда? Как понять его слова?
Повертев в руках бумажку, Григорий смял ее, бросил в угол, налил в стакан водки…
* * *
Семенов прожил в Локтях несколько дней. И хоть шли среди колхозников разговоры, что теперь-то, мол, несдобровать Бородину, о чем Бутылкин сообщал в записке Григорию, Семенова, кажется, совсем не волновало, что председатель колхоза запил, не появляется на работе почти неделю. Он только спросил у Ракитина:
— Евдокия Веселова у тебя на сушилке сейчас работает?
— На сушилке.
— Оставь-ка ее за себя на ферме и поедем в поле.
Целыми днями они ездили по бригадам. И почти в каждой бригаде колхозники нападали на Тихона со своими просьбами, нуждами, требованиями. На одном полевом стане плохо обстояло дело со снабжением продуктами, на другом — не хватало людей для очистки зерна, на третьем — хлеб начинал греться в ворохах, потому что никто не заботился о его своевременной отгрузке на пункт «Заготзерно». Ракитин так закрутился, что в конце концов у него вырвалось:
— Да не могу же я все эти вопросы решать. Это председательское дело!
Семенов, все эти дни больше молчавший, и тут ничего не сказал, только кинул на Ракитина прищуренный взгляд.
Однако через несколько часов, уже под вечер, неожиданно спросил у Тихона:
— Значит, не можешь решить все эти вопросы? Или не хочешь?
Голос у секретаря райкома был холодный, неприязненный.
— Да не могу же я брать на себя все руководство колхозом. Бородин опять завопит, что я на его место…
— Не можешь? — прервал вдруг Семенов Тихона. И нахмурил брови. — Ну что же, не бери. Но имей в виду: за срыв уборки перед райкомом отвечать будет парторганизация и ты лично в первую очередь…
Разговор этот происходил в поле. Ракитин и Семенов стояли на краю пшеничного массива и смотрели на маячивший вдали комбайн.
Небо было пасмурное, серое. Временами накрапывал мелкий дождик.
— Не к лицу нам с тобой, Тихон Семенович, исходить из соображений ложного самолюбия, — уже мягче сказал Семенов. — А тем более сейчас.
Секретарь райкома показал на небо. Ракитин понял его жест: того и гляди, мол, настоящий дождь хлынет.
Потом Семенов заговорил будто совсем о другом:
— Вот бывает еще у нас в жизни: числится человек на такой-то работе, болтается многие годы перед глазами. Все знают: плохо работает человек, но привыкли к этому, не трогают его.
Семенов ковырнул носком сапога землю, сердито поднял глаза на Ракитина.
— А почему?
— Не знаю. Если бы на промышленном предприятии, так быстро бы такого работника…
— Вот, вот! — перебил Семенов. — Там быстро бы заменили такого руководителя. А в сельском хозяйстве… Председатель плохо работает — райком мирится; райком на сельское хозяйство не обращает внимания, в обкоме не очень беспокоятся, пока чрезвычайное происшествие какое-нибудь не произойдет. Так и идет сверху вниз. Сколько времени у вас в райкоме разгильдяй какой-то сидел!.. Плохо у нас вообще с сельским хозяйством, Тихон Семенович. Запущено все страшно, земли на полный износ эксплуатируем. Будто не хозяева мы, что ли, будто не за эту землю кровь когда-то… Ужас что в районе делается. Севообороты не соблюдаются, паров мало…
Запахнув плотнее дождевик, Семенов продолжал:
— Пора браться за сельское хозяйство всерьез, засучив рукава. Здесь нужна помощь всего народа. И, думается мне, скоро мы получим такую помощь.
Еще раз глянув с тревогой на небо, Семенов пошел к машине. Уже устроившись на сиденье, сказал:
— А уборку все же целиком бери в свои руки. И покрепче. Да и вообще — действуй, Тихон Семенович. Райком тебя во всем поддержит… А на очередном партсобрании ставьте вопрос о замене председателя.
С этого дня Ракитин целиком занялся уборочными делами. Строительство сушилки он попросил взять под свое наблюдение и руководство Павла Туманова.
Когда Григорий, смятый, опухший, появился наконец в конторе, Ракитин спокойно и деловито рассказал ему, как идут дела с уборкой. Потом добавил:
— Завтра у нас партийное собрание. Говорю прямо: будем решать вопрос о председателе.
— Что ж, решайте, — безразлично махнул рукой Бородин. — Поглядим еще, что скажут все члены колхоза… а не только твои прихлебатели.
— Вот и назначай общее собрание, — так же спокойно проговорил Ракитин. — Мы сообщим колхозникам мнение парторганизации, они решат…
4
Миновала неделя, другая, месяц после встречи с Поленькой у тракторного вагончика. И все это время Петру казалось, что в его жизни произошло что-то необычайное.
Однажды бригадир тракторной бригады Гаврила Разинкин послал Петра на усадьбу МТС за запасными частями. Поехал на машине Виктора Туманова.
С Виктором у Петра особой дружбы так и не получилось. Петр чувствовал, что виноват в этом только он, и каждый раз, когда приходилась оставаться наедине, испытывал неловкость. Сейчас, сидя в кабине, он хмуро поглядывал на туго укатанную дорогу, вихляющую среди холмов. Туманов часто чертыхался на ухабах, крутых поворотах, а потом произносил беззлобно одно и то же:
— Ну, дорожка!..
Петр завидовал Виктору. Не потому, что Туманов стал шофером, а он вынужден был уступить воле отца и учиться на тракториста. Нет, просто Виктор живет как-то по-другому, будто все на свете ему давным-давно известно, знакомо, устроено самым наилучшим для него образом. Даже плохие дороги никогда не портили ему настроения. И чертыхался он только потому, что не любил долго молчать.
Когда миновали половину пути, Петр сказал:
— И все-таки зря у нас с тобой расклеилась дружба. Я виноват, наверно.
— Приятно слушать самокритику, — насмешливо отозвался Виктор, не отрывая глаз от дороги.
— Тебе легко жить, Витька. Ты все шуточками, смехом…
— Как-то в райцентре застрял на ночь, пришлось волей-неволей концерт смотреть. Там один артист объяснял, что в смехе витамин есть.
— А, брось ты, — с досадой проговорил Петр.
— Ну брошу, ладно… А ты подумай, только ли со мной у тебя дружба расклеилась?
— А с кем же еще?
— Вот и говорю — подумай… Спутанный ты, вот что.
— Как это?
— Очень просто: как лошадь. Чтоб далеко не ушла, ее путают. Да еще ботало к шее привязывают. Хозяин всегда слышит, что она рядом. Помнишь, около школы поговорили как-то с тобой? — Петр кивнул: «Помню». — Я подумал: ладно, не хочет твой отец, чтобы мы дружили с тобой, — черт с ним. Придет время — Петька сам поймет, что к чему. А ты… не понял. Я не знаю, что там у вас с отцом, но вижу — надел он тебе путы на ноги. Чуть прикрикнет, а ты и притих, как теленок.
— Не все так просто, как тебе кажется, — вздохнул Петр. — Тебе что? Чужую беду руками разведу…
— Я тебе говорил уже — что…
— В комсомол, что ли, вступать?
— Хотя бы… Если примут тебя… такого.
В словах Витьки было что-то до слез обидное и в то же время… справедливое. Петр сразу обмяк как-то, откинулся на протертую почти до дыр спинку сиденья…
Несколько минут ехали молча. Витька время от времени поворачивал голову к Петру, секунду смотрел на него и отворачивался усмехаясь. Петр этого не видел, скорее чувствовал, — он смотрел вперед, на стлавшуюся под колеса дорогу. По бокам ее стояли копны вымолоченной соломы… И ему казалось, что по мере их приближения кто-то большой и невидимый брал эти копны и швырял навстречу, пытаясь попасть в лицо. Копны пролетали мимо, а ему хотелось, чтобы хоть одна попала в него, опрокинула бы, выбросила из машины, потому что молчание Витьки и эти его усмешки становились уже невыносимы.
— Ты почему, Петя, в клубе перестал играть? — вдруг мягко спросил Витька.
Ну вот, заговорил Витька — и не о том. Ну как объяснишь ему, что хуже смерти для него прищуренный отцовский взгляд, которым царапает тот Петра, когда он приходит вечерами из клуба, что ему, Петру, и самому хотелось бы поближе сойтись со всеми колхозными ребятами, да вот… Ну неужели Витька не знает, что у него за отец!
— Чего играть?! Не до веселья мне, — злясь на все и на всех, ответил Петр. Но тут же прочувствовал, что неспроста заговорил об этом Витька, спросил: — Тебе-то что за дело?
— Да лично мне-то безразлично, комсомольцы просили.
Петр быстро повернулся к Туманову.
— Комсомольцы?
— Ну да… Особенно комсомолки. Им, видишь ли, под радиолу надоело танцевать — баян требуется для разнообразия. Придешь в субботу?
Петр молчал.
— И Поленька просила.
Петру показалось, что какая-то копна все же угодила ему в лицо, откинула, прилепила к спинке сиденья. Щеки Петра горели, голова гудела.
— Так как же? — снова глянул на него Витька. И вдруг вспылил: — Да неужели и тут не можешь сказать ясно и понятно: да или нет?
Впервые за всю дорогу Витька крепко выругался. Потом сказал потише:
— И вот это… такое… — Он не мог подобрать слово и сплюнул в окно кабинки. — Черт их поймет, девок. Последние недели мы на сушилке вечерами работали. Поленька мне про тебя все уши прожужжала: что, мол, Петр да как?
Петр, все еще растерянно, посмотрел на Виктора. Потом повернулся к нему всем телом, затряс его обеими руками за плечо:
— Ну а ты? А ты что?
— Ого! Ты смотри-ка?! — вместо ответа протянул Виктор, искренне удивляясь. — А я и не знал! Кстати, в кузове дождевик лежит. Поленька просила завезти его тебе в вагончик, да все случая не было.
Петр распахнул дверцу машины, поставил ногу на крыло:
— Останови… Да останови же, черт!
Виктор, с лица которого все еще не сошло удивление, затормозил. Петр соскочил на землю.
— Ты езжай. А я пройдусь…
И зашагал напрямик через луг к видневшемуся кирпичному корпусу мастерской МТС. Виктор посмотрел ему вслед, потом присвистнул, захлопнул дверцу. Машина рванулась и стремительно полетела вперед, высоко забрасывая на ухабах дребезжащий кузов.
* * *
Поленька вставала в лодке, подставляла свежему ветру разгоряченное лицо, смотрела вдаль на желтоватые резиновые волны. Ветер плотно обтягивал платье вокруг ее худенького тела, трепал платок, выбившиеся из-под него пряди волос, будто просил обернуться. Тогда утихала немного боль в груди, и она думала, что все у нее складывается как-то не так. Затосковало сердце по человеку, которого не надо бы замечать. Легко сказать — не надо бы! А как его не заметишь? Вот он действительно не замечает ее. Дал тогда дождевик из жалости. А может, затем, чтобы ушла скорей.
Ветер за спиной трепал платье, дергал за кончик платка, звал: обернись, обернись — и забудутся думы…
Однажды вечером Поленька долго, слишком долго заплетала косы, пахнущие, казалось, осенним солнцем, и пошла в клуб.
Виктор Туманов ставил на диск радиолы очередную пластинку, проворно спускался со сцены, подходил к какой-нибудь девушке, танцевал с ней минуты две-три и снова бежал менять пластинку.
Увидев, что Петра здесь нет, Поленька облегченно перевела дыхание.
Клуб до самых темных уголков был заполнен музыкой и смехом. В нем было даже тесно всем этим звукам, и они щедро выплескивались наружу через раскрытые настежь двери и плыли вдоль широких улиц, над притихшим озером.
И вдруг Поленька почувствовала, что Петр где-то здесь. Словно речной ветер ворвался в окна клуба и затеребил: обернись, взгляни-ка.
Кончилась пластинка — и на миг установилась тишина. И вот тогда на сцену вышел Петр Бородин без пиджака, в белой рубашке, с баяном в руках. Чуть наклонился вперед и проговорил:
— Вальс «Дунайские волны»…
Поленька сама не понимала, почему так испугалась. Ведь шла в клуб с надеждой на встречу. А теперь вдруг не могла сдвинуться с места.
Возле нее неожиданно вынырнул из толпы Виктор Туманов и пригласил танцевать. Поленька положила руку ему на плечо…
Кончился танец, начался другой. Бросив взгляд на сцену, она увидела вдруг, что играет уже не Петр, а Виктор Туманов. Петр же не торопясь спускается со сцены в зал. Поленька кинулась к выходу.
В несколько мгновений она очутилась возле дома. Прижавшись щекой к росшему перед окнами старому тополю, тяжело дышала, смотрела на поблескивающее голубоватыми огоньками озеро. Оттуда наплывал на деревню, бесшумно струился по улицам и переулкам влажный, теплый воздух. Ветерок чуть-чуть прикасался к листьям тополя, под которым стояла Поленька, точно проверяя, крепко ли они держатся еще на ветвях, не пора ли дунуть изо всей силы, в один миг сорвать их все, смешать с пылью и унести куда-нибудь…
А в следующую субботу Поленька снова долго и старательно укладывала перед зеркалом косы…
5
Когда закончились танцы в клубе, Петр взял баян и вышел на крыльцо. Здесь он остановился, всматриваясь в темноту. Поленьки не было.
А ведь только что она выбежала. В последнее время она каждую субботу ходит в клуб. Но едва он захочет подойти, она, словно угадав его мысли, моментально исчезает. Походив по залу, он поднимается на сцену, начинает играть. И Поленька снова появляется.
Вдруг ему показалось, что за редкими деревьями мелькнуло в темноте платье Поленьки. Он остановился и крикнул:
— Поленька!
Еще раз мелькнуло что-то белое в темноте и пропало.
«Может, там действительно кто-нибудь был», — думал он, шагая к дому.
На другой день Петр пахал зябь. Сидя в кабинке, он размышлял о вчерашнем: показалось или не показалось? О том, что за деревьями могла быть и не Поленька, он почему-то не думал.
Опять вспомнился кружок девчонок на лужайке, розовое небо над ними, Поленькин взгляд. Почему же сейчас она так не смотрит на него? Как бы тогда было все просто и хорошо…
Неожиданно раздались тревожные свистки над ухом: прицепщик отчаянно дергал за сигнальный шнур, требуя немедленной остановки.
Петр выключил скорость, недовольно высунулся из кабины:
— Ты чего?
Прицепщик Федот Артюхин, размахивая руками, подбежал к трактору, вскочил на гусеницу и заглянул зачем-то в кабину.
— Ты что, заснул? Я уж думал, в самом деле постель тут у тебя. Не видишь, куда едешь?!
Петр посмотрел назад.
— А, черт!
Трактор вышел из борозды и прочертил лемехами в сторону от края пахоты метров десять.
Воспользовавшись случаем, Артюхин сел возле гусеницы на теплую землю, намереваясь спокойно покурить. Петр послушно заглушил мотор, выпрыгнул из кабины и присел рядом.
— Удивительно мне прямо, — уже добродушно начал Артюхин, свертывая папиросу. — Сколько раз бывал на этой самой должности, а в первый раз вижу, чтобы трактор из борозды вышел. Может, ты и впрямь вздремнул?
— Нет… Задумался просто.
— Ну, ну… Я тоже перед женитьбой думал, как бы не прогадать… Я один в своем роде, а девок кругом — как звезд в ясную ночь: все блестят, все хороши… — начал Артюхин заход для длинного, очевидно, разговора. — Тракторов вот только в те поры не было…
Петр быстро поднялся и уже из кабины бросил отрывисто:
— Ладно!.. Чего расселся. В один момент на прицеп… Живо, говорю!
Федот несколько раз хлопнул глазами, открыл рот, хотя слова еще не пришли на ум… Заревел трактор.
В субботу, возвращаясь с работы в деревню, Артюхин поглядывал на угрюмо шагавшего Петра.
— Молчишь, значит, всю неделю?.. А я ведь не могу без разговоров. Мне лучше не поесть, чем не поговорить…
Петр зашагал шире. Федот приговаривал:
— И что ты за человек! Мне, брат, в этом разе лучше на ферму пойти работать. Там хоть коровы мычат…
Петр по-прежнему не отвечал.
Вечером все повторилось, как и в прошлую, как и в позапрошлую субботу. Едва он, отложив баян в сторону, сделал шаг со сцены в зал, Поленька юркнула к выходу.
Когда загремела радиола, Петр тоже вышел из клуба. В бледно-синей вышине прямо над ним висела отколотая половинка луны. Петр осмотрел небо, будто надеясь отыскать на нем вторую половинку, потом медленно пошел по дорожке.
На том месте, где заметил в прошлый раз белое пятно за деревьями, Петр всмотрелся в темноту, точно надеясь снова что-то увидеть.
Но там ничего не было. Он постоял-постоял и пошел обратно в клуб.
У крыльца Петр чуть не столкнулся с кем-то.
— Поленька!
Она отскочила в сторону, в темноту. Петр заметил только, как блеснули в полосе падающего из открытых дверей электрического света ее перепуганные большие глаза.
— Поленька!
Держась за березу, она стояла к нему спиной, покачиваясь, будто хотела оторваться от дерева, но уже не могла. Потом резко обернулась, прижалась спиной к дереву, не поднимая головы, прошептала:
— Чего тебе?
— Так я…
Говорить Петр, оказывается, мог. Он сам удивился этому и совсем не к месту рассмеялся. Поленька быстро подняла голову, а он еще быстрее схватил ее за руку, но тотчас отпустил и торопливо проговорил:
— Ты не уходи, пожалуйста… Ты извини…
Потом стало очень тихо. В этой тишине неизвестно отчего заскрипела вдруг береза, под которой они стояли.
— Пойдем на берег, Поленька, — несмело попросил Петр.
Поленька ничего не ответила, еще постояла и медленно пошла вперед, чуть наклонив голову, в ее косах, уложенных вокруг головы в несколько рядов, переливался едва уловимый серебристо-голубоватый свет.
Камни ступенями спускались к берегу озера. Подойдя к ним, Петр еле слышно промолвил:
— Посидим здесь немного…
Поленька послушно, но так же молча села и стала смотреть в черную холодную глубину озера. Петр взял ее за руку:
— Хорошо здесь?
Она чуть помедлила, осторожно отняла руку и ответила:
— Хорошо… Очень…
6
Осень баловала людей последними теплыми днями, отцветала безветренными вечерами, когда Петр Бородин понял, что пришла к нему любовь.
Каждый день, закончив работу, торопливо шагал он теперь в село, далеко оставляя позади обиженного Федота Артюхина.
Наскоро проглотив приготовленный матерью ужин, шел на берег.
Поленька часто запаздывала, потому что с рыбалки возвращались иногда уже ночью. Петр нетерпеливо шагал взад и вперед по небольшой площадке, зажатой между скалами, и думал, что время остановилось или идет по крайней мере вчетверо медленнее обычного.
* * *
… Настал вечер, когда чьи-то руки впервые обняли вздрагивающие Поленькины плечи. Впервые в жизни ее губ несмело коснулись чьи-то чужие горячие губы. Неуловимый уголек прокатился по всему телу, обжигая внутри, а в сердце вошло, да так и осталось там, обломилось что-то острое, холодное.
Было мучительно стыдно открывать глаза, стыдно смотреть не только на Петра, но и на знакомые с детства камни на берегу озера.
Она выскользнула из его рук, не разбирая дороги, прибежала к дому, закрыв ладонями пылающее лицо…
Всю ночь Поленька пролежала в постели без сна. В голову лезли обрывки каких-то мыслей: они путались, перебивали друг друга, не давая ей возможности разобраться в происшедшем. Не мигая, она смотрела, как медленно рассеивается в окне иссиня-черная мгла.
Утром мать, приготавливая завтрак, часто поглядывала на Поленьку, тихо вздыхала.
— Ты плохо спала, доченька?
— Нет, мама, хорошо.
Мать отворачивалась к печке, почему-то тише, чем обычно, гремела сковородками.
Поленька сделалась еще более задумчивой, ходила, будто присматриваясь ко всему.
Однажды вечером Евдокия негромко спросила:
— В клуб сегодня-то пойдешь?
Поленька быстро взглянула на мать, но ничего не сказала.
Евдокия тихонько погладила голову дочери.
— Скажи, доченька, что у тебя на сердце? Ты последнее время на себя непохожа.
Поленька по-прежнему молчала.
— Может, плохо тебе? Болит что?
И Поленька спрятала лицо в колени матери, тяжело зарыдала.
— Не знаю, мама… Ничего я сейчас не знаю… Не спрашивай, пожалуйста.
Евдокия, продолжая ласково гладить Поленьку по голове, проговорила тихим, чуть печальным голосом:
— Ну, поплачь — и легче станет. Я тоже, бывало, плакала так вот, когда Андрея, отца твоего, полюбила… Уйду за поскотину и плачу…
Поленька быстро вскинула голову, посмотрела на мать мокрыми, испуганными глазами:
— Ты знаешь… знаешь, мама?
— Дурочка ты моя… Тут и узнавать-то нечего, все у тебя на лице написано.
Евдокия не шевелясь, молча и терпеливо ждала, пока Поленька успокоится, потом проговорила тихо и медленно:
— А потом убить его собрались. Иду с водой, слышу — сговариваются… Побежала к нему — тяжело по снегу. Вижу, что не успеть. Полушубок сбросила — легче стало. Успела предупредить. Спрятался он, знала, что не найдут, а всю ночь проревела, боялась…
Евдокия долго смотрела в окно на темные сосны.
— С тех пор и мучаюсь. Застудила, видно, все внутри. Потом ведь и валенки пришлось сбросить. А случись сейчас — опять побежала бы. За таких людей, как наш отец, жизни не жалко. Подняли бы его сейчас, сказали: ложись за него в могилу, он жить будет, — легла бы.
Поленька слушала, вытирая слезы кофточкой матери.
— Зачем ты об этом, мама?
— Да вот вспомнила. Раз в жизни такой человек встречается. К нам, бабам, дважды счастье, видно, не приходит.
Поленька вдруг поняла, к чему мать завела такой разговор, и после минутного молчания тихо проговорила:
— И я, мама, отдала бы жизнь… Только… только он… Ты знаешь его, мама?
Евдокия снова положила мозолистую ладонь на голову дочери:
— Знаю, доченька. И, что мучает тебя, знаю. — Она вздохнула. — Да ведь и так бывает: от кривого дерева прямые сучья отрастают. Ты не торопись только, доченька… Время сейчас такое: само выправляет людей. Я верю: Петр будет человеком. Мягкий он, податливый, как воск на огне, — лепит его отец в одну сторону. Но придет время — и поймет Петр: сам он себе хозяин на земле, ступать по ней может вольно, говорить громко, дышать полной грудью. Не поймет сам — люди помогут ему понять. Вот за это, доченька, и отец твой всю жизнь боролся… Только ты не торопись. А так — что же могу посоветовать тебе? Смотри сама. Будет у тебя счастье, и мое сердце возле согреется…
Раза два-три вспоминала Поленька после разговора с матерью ее слова: «Мягкий он, податливый, как воск на огне». Тень тревоги и раздумья набегала на ее лицо Но быстро исчезала.
Мало-помалу слова матери растворились в том новом, необычном, чем жила теперь Поленька.
Петр приходил иногда на свидание рассеянным, часто хмурился.
Поленька понимала его по-своему. Тревожно заглядывала ему в глаза, спрашивала:
— Ты устал сегодня, Петя?
— Немного, — отвечал Петр, улыбался и крепко прижимал ее к себе.
Она слышала, как бьется его сердце, — и этого было достаточно, чтобы почувствовать себя самой счастливой на свете.
Так уж водится: каждый влюбленный не допускает мысли, что кто-то есть на земле счастливее его.
Однажды Петр и Поленька сидели на берегу до самой полуночи. Расстались, когда поднялась над озером яркая луна.
Григорий Бородин курил, сидя на крыльце. Он насмешливо оглядел с головы до ног торопливо возвращавшегося домой сына и спросил:
— Где был?
— Так… у товарища, — неумело соврал Петр и совсем растерялся. — Чего тебе?
— Этот товарищ, случайно, не в юбке ходит?
— Хоть бы и в юбке… Что тут плохого?
— Что плохого? — опять переспросил отец и бросил ему под ноги незатушенный окурок. — Смотря на ком юбка…
Петр быстро взглянул на отца.
На коленях у него лежал кисет, на который сыпались табачные крошки из вновь свертываемой папиросы. Прямо на Петра, не мигая, в упор смотрели два маленьких круглых глаза. Давно он не ощущал на себе этих глаз…
Потом он услышал голос отца, спокойный, будто уговаривающий:
— Ты, Петро, послушный сын, хвалю. Только вот глаза у тебя в последнее время стали не свои… Я слежу за тобой, тревожусь. Давай-ка, сынок, поговорим начистоту…
— На работу мне завтра рано.
— Гм, — промычал Григорий Бородин, прикурил, выпустил дым сразу изо рта и из ноздрей. — Значит, не хочешь поговорить с отцом по-хорошему? Некогда? Ну, тогда я сразу, без вступлений, чтоб не задерживать тебя… Не с дочкой ли Евдокии Веселовой снюхался? Смотри у меня! Ну, ну, чего морду воротишь? — повысил голос отец. — Не так выразился, что ли?
Петр, не отвечая, медленно пошел в дом.
Как и в детстве, между Петром и Поленькой стоял Григорий Бородин.
Долго мучился Петр, не зная, как рассказать Поленьке о своем разговоре с отцом. Да и нужно ли рассказывать? Может, лучше, чтобы ничего она не знала?
… Поэтому, когда Поленька тревожно смотрела ему в глаза, он только грустно улыбался и крепче прижимал ее к себе.
7
Снег выпал в середине ноября. Побелели улицы, помолодела земля. Лишь незамерзшее озеро зловеще чернело, курилось по утрам тяжелым сероватым туманом.
В Локтях в это время только и было разговоров, что о предстоящем отчетно-выборном собрании.
Готовить его приехал первый секретарь райкома партии Семенов. Сдвинув лохматые брови, он ходил в сопровождении Бородина и Ракитина по скотным дворам, по амбарам, проверял бухгалтерские документы. Счетовод Никита запарился, делая бесконечные выборки цифр урожайности, денежных доходов и расходов, пополнения неделимого фонда и т. д. Бородин все эти дни упрямо продолжал думать: может, еще вспомнят люди, что это он, Григорий, построил электростанцию, организовал рыболовецкую бригаду, хорошо оплачивал трудодни. Но когда увидел, как Семенов подолгу беседовал о чем-то с Евдокией Веселовой, Павлом Тумановым, Степаном Алабугиным и многими другими колхозниками, — эта последняя надежда, последняя соломинка переломилась. Вдруг больно застучало в голове: ведь не зря сопровождал их с Семеновым по хозяйству Ракитин! А потом усмехнулся зло, с презрением к самому себе: «Дурак! Как будто раньше не знал этого».
И до самого собрания не показывался на людях.
Наконец наступил день собрания.
Вопрос о работе Бородина и замене председателя обсуждали бурно. Едва Ракитин сообщил о мнении парторганизации, как уже с мест посыпались возгласы:
— Нахозяйствовал Бородин. Хозяйство-то у нас — дыра на дыре…
— А электростанция? А сушилку вон какую построили?..
— Зато долгов одних — день считать надо…
— А насчет трудодней правильно, хорошо давали…
— Что трудодни? Брюхо сыто, да ничем не прикрыто. Вот те и трудодень…
Бородин, насупившись, крепко стиснув зубы, смотрел в бушующий клубный зал. В самом дальнем углу сидели Иван Бутылкин, Егор Тушков, Муса Амонжолов. Сидели тихо, безмолвно, настороженно прислушиваясь к голосам.
Только один раз Бутылкин, привстав, подал голос:
— Заменить председателя легко, а жалеть не будем?
Ему ответила Евдокия Веселова:
— Ты, конечно, пожалеешь: из кладовой-то выпрет тебя новый председатель…
— Кого это ты в новые председатели наметила? — с издевкой спросил Бутылкин. — Ракитина, что ли?
— Ракитина, угадал, — вставая, звонко сказала Евдокия.
Бутылкин, сверкнув в ее сторону глазами, втянул голову в плечи.
— Чего нахохлился? Да с таким председателем, как Ракитин, мы бы разве так жили…
— Верно. Видим, как работает! — пробасил в углу Степан Алабугин.
Сидевшие в первых рядах Кузьма Разинкин и Демьян Сухов, оба согнувшиеся, седые, оба с костылями в руках, враз поднялись со своих мест.
— Вот ведь какое дело… — дребезжащим, износившимся голосом начал дед Демьян. — Ракитина, Тихона то есть, мы все знаем. И он нас знает… Его бы не только в председатели — в ноги надо ему поклониться каждому. — Поморгал слезящимися глазами, погладил голову и закончил: — Вот такое и мое мнение. Остальное он скажет, Кузьма…
И кряхтя, точно гнулся со скрипом, опустился на стул. А Кузьма Разинкин, глянув на сына, который сидел как представитель от МТС в президиуме собрания, промолвил:
— Так а я что? Я с Демьяном согласный. Чего тут много говорить.
— Давайте Ракитина, Тихона то есть, якорь вас, — взмахнул над головой костылем Демьян Сухов.
Многие одобрительно засмеялись.
Иван Бутылкин тоже усмехнулся, но по-своему — ядовито, презрительно: хохочете, мол, а над чем? Но, заметив, что Семенов смотрит на него, хотел спрятать эту усмешку, отвернуться и почему-то не мог. Повинуясь взгляду секретаря райкома, встал против своей воли и сказал:
— А что? И скажу… Такой-сякой, говорят, председатель у нас… А тут разобраться надо. Сколько лет мутим-крутим его… То есть некоторые, я хочу сказать, мутили. И подсиживали — все знают. Только возьмется Григорий за работу — его бац по рукам. Конечное дело, Бородин — человек, обидно. Пока очухается… Вот. Разобраться, говорю, надо… с недостатками, конечно, Григорий, а колхоз-то все же рос. Откуда бы тогда электростанция… и так далее…
Семенов нагнулся к Павлу Туманову, председательствующему на собрании. Тот встал и четко объявил:
— Слово имеет секретарь районного комитета Коммунистической партии товарищ Семенов.
Секретарь райкома подошел к фанерной пошатнувшейся трибуне.
— Товарищи. Разобраться тут действительно надо, — начал он и посмотрел на Бутылкина. Тот опять усмехнулся, но, испугавшись этого, тотчас смахнул с лица смешок. — Колхоз, вот говорят, рос… Я неплохо познакомился с вашим хозяйством. Да, урожайность немного повысилась, особенно за последние годы. Да, животноводство стало кое-какие доходы давать. Я думаю, всем вам ясно, товарищи, кроме разве вот этого гражданина, — Семенов вскинул бровями на Бутылкина, — чья здесь заслуга…
— Ракитина…
— Евдокии Веселовой, — раздалось несколько голосов.
— Да, Ракитина, Веселовой, — подтвердил Семенов, — и других членов правления. Но их успехи сводились на нет неправильным и, я бы сказал, преступным руководством артелью. Давайте-ка совместно разберемся, кто кого бил по рукам — Ракитин Бородина или Бородин Ракитина…
Семенова слушали с напряженным вниманием. Он приводил пример за примером неправильных действий Григория Бородина, бесхозяйственного расходования им трудодней, необоснованно высокой их оплаты деньгами и натурой, в результате чего неделимый фонд артели не увеличился, долги государству возрастали с каждым годом.
— Вот так «рос» ваш колхоз. Вот так «руководил» артелью Бородин. Вот куда вел он ваше хозяйство, — закончил свою речь Семенов. — А здесь раздавались возгласы снова оставить председателем Бородина. Допустим, оставите. А дальше что будет? Через год, через два? Вот думайте, товарищи… И давайте выкладывайте свои мысли вот отсюда, с трибуны. А кто хочет — прямо и со своего места. Только пооткровеннее.
Бородин плохо слышал, о чем говорили Алабугин, Ракитин, Туманов. До сознания дошли вдруг слова Евдокии Веселовой:
— …конечно, снимать надо с председателей. Да не просто снимать, а выгнать с треском, чтоб не путался под ногами, не мешал жить нам. Все мы будем голосовать за это обеими руками.
Евдокия замолкла, зал недружелюбно смотрел на Григория.
— Оно правильно…
— Хватит, похозяйствовал…
— У него что-то все свое на уме, это факт!
— Иной раз находило на него — заботился вроде о хозяйстве. А посмотришь — как волком был, так и остался…
Григорий сидел за столом президиума, положив огромные узловатые руки на стол. Лицо его было красным, даже темно-багровым, а руки, наоборот, бледные, бескровные. Длинные пальцы вдруг конвульсивно сжались, кожа на кулаках натянулась и стала еще белее. Он почувствовал, что кто-то смотрит на его руки. Чуть повернул голову и увидел — Семенов смотрит из-под своих густющих бровей. Григорий, не разжимая губ, усмехнулся, встал и, согнувшись, пошел между рядов колхозников к выходу.
— Или нервы не выдержали, сбегаешь? — крикнула вслед ему Евдокия. — Ну и скатертью дорожка…
… После собрания Григорий целые вечера молча просиживал в комнате, поглаживая по спине огромную собаку.
А однажды, тихим и теплым зимним вечером, жители Локтей удивленно прислушались: над не замерзшим еще Алакулем долго плакал и безнадежно жаловался надтреснутый женский голос, который вырывался через открытую форточку окна бородинского дома.
Много раз подряд Григорий проигрывал неизвестно как сохранившуюся пластинку со стертой этикеткой…
Глава вторая
1
Петр ремонтировал трактор. Каждую субботу он приезжал из МТС в Локти, чтоб повидаться с Поленькой.
В прежние времена Григорий обязательно поинтересовался бы, какая нужда заставляет сына ездить по морозу без малого десять километров. Но сейчас ему было не до этого.
— На улице хоть появляется? — шепотом спрашивал Петр у матери, показывая из кухни на желтого, как лимон, отца.
— Выходит иногда. То дров наколет, то снег от крыльца отгребет… Ракитин, председатель, приходил — чего, говорит, в контору не идешь, работу дадим. А он его… матом…
Анисья тоже отвечала сыну шепотом, скорбно покачивая головой.
А Григорий, будто слышал их разговор, вдруг усмехался — беззвучно, обреченно: шепчетесь, мол? Ну и черт с вами… Мать и сын, заметив эту усмешку, умолкали. Однако усмехался Григорий, не замечая, впрочем, этого, своим собственным мыслям.
Кто он, Григорий Бородин? Зачем живет?
Эти две мысли назойливо и больно сверлили ему мозг, требуя ответа. А ответа не было. И заросшее щетиной лицо кривила усмешка: «Жизнь прожита, а что нажито? Ничего. Умру — и не останется от меня следа… Петька вот только, сын… Все взяли, сволочи, все… А сына? Ну, нет, сына-то уж не отдам…»
Раздумывая об этом, Григорий не замечал, что Петр, переодевшись, уходил из дому. С Поленькой они встречались возле клуба, бродили по темным, заваленным рыхлым снегом улицам.
Прощались всегда у дома Поленьки.
— Теперь когда приедешь? — спрашивала она, вставая на носки, чтоб прижаться лицом к его холодной щеке.
— Как всегда, через неделю.
— Долго как! — вздыхала девушка. — Недели такие длинные. Я все считаю: до субботы четыре дня осталось, три, два, един. И этот проклятый день…
— Самый длинный, — заканчивал Петр.
Поленька ничего больше не говорила, счастливо улыбалась.
Потом Петр уходил, а она стояла и слушала, как затихают в морозном воздухе его шаги.
* * *
Петр тоже с нетерпением ждал наступления каждой субботы. Но работалось ему легко и весело. Он копался в машине, насвистывая что-то, мурлыкал себе под нос.
— Ты что-то того, парень… — заметил однажды Гаврила Разинкин и постучал костяшками пальцев себе по лбу. — Не влюблен, случаем, по молодости?
Разговор происходил в мастерской. Из-за гула токарных станков и рева опробуемых тракторных моторов Петр даже не разобрал, кто говорит, но сразу же громко бросил через плечо:
— А я, брат, не случаем, я — по-настоящему!.. — И только после этого обернулся.
— Вон что! — рассмеялся Разинкин.
Петр смутился. Но бригадир со смехом нахлобучил ему на самые глаза шапку, отошел. А на душе у Петра стало еще радостнее и светлее, как бывает у человека, увидевшего утром первый, ослепительной белизны, снежок.
— Ну-ка, влюбленный, одолжи на минуту плоскогубцы, — попросил пожилой светлоусый тракторист.
— На, совсем возьми, на память, — поспешно протянул ему Петр щипцы. — У меня еще есть…
— Ишь ты! Ну, ну, — добродушно ухмыльнулся усач. — Когда второй раз влюбишься, я у тебя на память целиком трактор попрошу.
— Не дождешься! Я ведь раз — и навсегда! — горячо воскликнул Петр.
Во время работы в поле трактористу в кабинке целый день разговаривать не с кем. Зато на людях он выговаривается до дна. Может, поэтому через день в мастерской почти не было человека, который не знал бы, что Петр Бородин влюблен. То и дело слышалось теперь:
— Эй, влюбленный! В контору зовут!..
— Как на качество ремонта любовь влияет? Положительно? Порядок! Завтра влюбляюсь…
— Ну, Петька, пятница кончилась, завтра — любовный день!
Петр не обижался. А по субботам действительно частенько поглядывал на стенные часы-ходики в мастерской. Шли они, как назло, медленно. Находились шутники и незаметно переводили стрелки назад.
— Да бросьте вы, черти, — попросил Петр, догадавшись об этом.
«Черти» не унимались. Тогда Петр купил наручные часы.
Однажды в субботу с обеда потянула слабая, безобидная поземка. Но Петр сразу помрачнел: если разыграется буря, в Локти не рискнет выехать ни машина, ни подвода: дороги занесет в десять минут.
Так и случилось. Ветер крепчал, начиналась метель. Крышу мастерской рвало, и казалось, вот-вот опрокинет. Трактористы шутили:
— А она, должно, у ворот ждет… Всю, поди, снегом занесло.
— Придется, Петро, дать ее любви проверку временем…
Петр не отвечал, и шутки мало-помалу смолкли. Перед концом работы бригадир предупредил:
— Не вздумай сегодня идти! Пропадешь…
Нагибаясь вперед, падая грудью на упругую струю воздуха, Петр шел в общежитие. А мысли его были там, возле Поленьки. «Она, конечно, придет в клуб, несмотря на метель, будет ждать… Потом уйдет домой. Будет идти так же вот, как и он, падая грудью навстречу ветру, закрывая лицо руками… А может, не пойдет в клуб? Подумает: все равно не приеду я в такую метель — и не пойдет…»
И вдруг Петр рассердился на себя за такие мысли. Как это она не придет, раз договорились? Она придет! А вот он… Всего каких-то девять-десять километров. Да еще под ветер… Так и понесет, если стать на лыжи…
Лыжи хранились в обычном месте — в углу коридорчика, за какими-то пустыми ящиками. Петр глянул на них и вошел в комнату.
Там никого не было. «Где же ребята?» — подумал он. И сам же ответил: «Где же им быть! В столовой».
Есть ему не хотелось. Он снял замасленный до блеска ватник, подошел к окну. Сквозь залепленное снегом окно ничего не было видно. Но Петр видел ее, Поленьку. Вот она, закутанная в большой белый платок, стоит возле клуба, вот повернулась и пошла домой… А до следующей субботы целых семь дней!
И Петр решительно шагнул к вешалке, схватил полушубок. Через минуту он был уже на улице, торопливо обматывал валенки сыромятными ремнями, приспособленными для крепления лыж. Ему казалось, что он потерял зря много времени. Еще через минуту Петр разогнулся, поплотнее обмотал шею шарфом (подарок матери) и оттолкнулся палками. Крутящаяся, звенящая, завывающая белая муть сразу поглотила его.
И будто никто никогда не стоял на этом месте. Ветер мгновенно зализал лыжный след…
* * *
Мимо пробегали ребята и девушки, которых никакая непогода не могла удержать дома, а тем более сегодня, когда из города приехали с концертом артисты. Проходили пожилые люди. Многие несли с собой табуретки и скамейки, потому что в клубе, когда собиралось много народу, не хватало стульев. Дверь была открыта, и оттуда валил пар. Поленька стояла возле клуба спиной к ветру.
— Стулья, вообще говоря, ведь недорого стоят, надо бы купить, Тихон Семенович. А то непорядок, — услышала Поленька голос Туманова.
— Купим обязательно, Павел. На днях пошлем кого-нибудь в райцентр, — ответил Ракитин. — Потом надо будет еще… Погоди! Это кто стоит вон там, под ветром?
— Это? Поленька Веселова. Ждет, наверное, Пе…
И голос пропал за ветром. Поленька подумала: «Ну и жду… ни и пусть знают, пусть все знают… Только как он в такую бурю? Не приедет…»
Скоро в завывание ветра вплелась мелодия какой-то веселой песни: концерт начался. Ветер свистел протяжно и жалобно, а песня словно боролась с ним. Она то пропадала, то взмывала вверх, а потом приглушила его, вырвалась и понеслась в темные улицы…
А Поленьке стало грустно до боли, до слез. Ведь Петр не приехал, не мог приехать…
Постояв еще немного, Поленька повернулась и пошла домой. Но бессознательно свернула в сторону и опомнилась уже за деревней, возле бора, прорезанного узкой щелью дороги…
Девушка остановилась, прижалась к крайнему стволу сосны, залепленному толстым слоем снега. Здесь, возле стены леса, было тише, теплее.
А над головой в темноте жутко шумели, гнулись, трещали, ломались под страшным напором ветра верхушки деревьев.
Неожиданно у Поленьки в испуге забилось сердце. Она еще не могла сообразить, чего же испугалась, но поняла, что неясное чувство тревоги не покидало ее с того времени, когда началась метель.
Это чувство не давало ей покоя весь вечер. Она бесцельно ходила по комнате, бралась за одно дело, не доканчивала его и начинала другое. Потом собралась и пошла в клуб, надеясь все-таки, что Петр придет, несмотря ни на что… Шла — и все сильнее охватывало ее беспокойство. Именно это беспокойство заставило ее направиться от клуба не домой, а на окраину деревни… И вдруг мгновенно проколола ее мысль: «Ведь замерзнет… Он же говорил: „Каждую субботу, что бы ни случилось…“ Пойдет сегодня и замерзнет…»
Поленька закрыла глаза. Тотчас ей представилось, как по открытой степи идет на лыжах Петр. Крутит, воет метель вокруг него, опрокидывает, валит с ног. Он идет, закрывая лицо рукавом… Падает, снег мгновенно заносит его. Нет, Петр пошевелился, встал, опять пошел вперед, весь облепленный снегом…
Поленька открыла глаза. А облепленный снегом человек, которого она видела перед собой мысленно, не исчез. Он действительно шел и шел вперед. Он подошел совсем близко, заметил ее возле дерева, остановился и крикнул сквозь ветер:
— Поленька! Поленька! Почему ты здесь, сумасшедшая?!
Только теперь она поняла, что это в самом деле был Петр, без крика метнулась к нему, прижалась к груди. Снег таял под ее щекой.
— Я ведь знал, что ты будешь ждать меня… И пришел…
— Пришел, пришел… Ты… Как ты?! Ведь без головы только… Ведь мог…
Поленька хотела рассердиться… И не могла.
— Ну, чего там! От меня всю дорогу пар валил, как дым из паровоза…
— А к нам артисты приехали…
— Ага, ну пойдем, успеем еще на концерт.
Минут через десять они подошли к дому Бородиных.
Поленька сказала, останавливаясь у калитки:
— Переодевайся иди, я тут подожду.
— Чего на ветру-то… Иди хоть вон туда, в затишку, к стенке сарая… Ну, иди, иди… — И Петр подтолкнул Поленьку.
Давно-давно уж она не была во дворе этого дома, с тех пор как Григорий выгнал ее из комнаты. Прошло немало лет, а Поленька помнила тот день… И, прижимаясь к стене, с горечью думала, что и сейчас его отец, если бы увидел ее, вышвырнул бы за калитку. Ей уже казалось, что в сарае кто-то ходит, стучит чем-то… Потом скрипнули ворота сарая.
Поленька мгновенно поняла, что ей не кажется, что в сарае в самом деле кто-то ходит, и в одну секунду очутилась за калиткой.
Только там почувствовала, как тяжело и гулко стучит сердце…
Сбросив лыжи, Петр вбежал на ступеньки крыльца, снял полушубок, стряхнул с него снег и вошел в кухню, заговорил возбужденно, радостно:
— Здравствуй, мама. Дай-ка сухую рубашку и пиджак.
— Петенька! — воскликнула Анисья. — Да ты в уме ли? В такую погоду! Какая нужда погнала?
— Эта «нужда» за калиткой стоит, — проговорил вошедший со двора отец, сбросил возле печки валенки и босиком прошлепал в другую комнату.
— Кто стоит? О чем ты? — не поняла Анисья.
— У него спроси — кто, — проговорил из другой комнаты отец. — У сарая сперва притаилась, как мышь. Учуяла меня — стреканула за ворота…
Петр молча переодевался. Настроение его сразу испортилось. Несколько месяцев отец молчал, не обращая на него внимания. Петр как-то распрямился, приподнял голову, увидел пошире мир. И вот опять…
— Ужинать-то будешь? — спросила мать.
Петр отрицательно мотнул головой.
— В клуб пойду, на концерт.
Отец прошлепал обратно, сел на стул возле печки, положил ногу на ногу, задымил толстой самокруткой:
— Из-за ветра я так и не различил, кто это подпирал стенку сарая. — Григорий затянулся, сдул в сторону, на пол, пепел с папиросы. — Чего молчишь?
— А что отвечать? — глухо проговорил Петр.
— Я спрашиваю: кто стоял возле сарая?
— Тебе-то что?
Григорий бросил острый взгляд на сына, шевельнул желтыми, давно не стриженными усами.
— Мне-то ничего, если это не… Забыл разговор наш? Ночью, возле крыльца…
В сердце Петра неожиданно хлынула отчаянная решимость, он резко обернулся и крикнул:
— Хоть бы и она!! — И сорвал с вешалки шапку. — У тебя мне, что ли, спрашивать разрешения…
И едва увернулся от березового полена. Ударившись о косяк, оно отлетело на середину комнаты, с грохотом прокатилось по полу. Петр выскочил в темные, холодные сенки. Отец гремел вслед:
— Она!! Она, говоришь! Ах ты сопляк недоношенный… Да я тебя слюной перешибу надвое… Ну, приди, приди домой, сукин сын…
— Пойдем скорее, Петенька… Я прямо продрогла вся. Хорошо, хоть ветер немного стих. В сарае ходил кто-то, я…
— А-а, ты, Поленька? — опомнившись, вымолвил Петр.
— Да что с тобой? Одень шапку-то…
— Сейчас, сейчас, — машинально проговорил Петр, однако продолжал комкать шапку в руке. Тогда Поленька взяла ее и сама надела ему на голову.
— Ага, ну идем. — И Петр зашагал вперед.
До самого клуба они молчали. Петр вдруг остановился.
— Знаешь, не хочется мне на концерт. Пойдем… ну, куда-нибудь пойдем. Где потише.
— Куда же? Везде ветер… Уж я домой лучше, если…
Голос Поленьки захлебнулся — не то от ветра, не то от слез. Сердце Петра больно сжалось, и он сказал как можно ласковее:
— Я провожу… провожу тебя…
Поленька только ниже опустила голову… Когда подошли к дому, она, не прощаясь, направилась к крыльцу. Петр потянул ее за рукав, хотел что-то сказать. Поленька ждала.
— Вот… понимаешь… — с трудом произнес он наконец.
— Не понимаю. Дома у тебя что-нибудь случилось?
Петр потоптался на снегу.
— Это ничего, Поленька… Ничего.
Он прижал ее к себе. Ветер трепал выбившиеся из-под шапки волосы, влажный снег бил в лицо, таял на щеках, холодные струйки текли за шиворот. Но Петр ничего не замечал.
— Такой вечер испортил… кто-то, — сквозь слезы проговорила Поленька, не отрываясь от его груди. — Я так ждала тебя сегодня. Боялась, что пойдешь в такую бурю, заблудишься и… И все-таки ждала.
— И я шел… В следующую субботу я обязательно… И ничего не помешает… Ты жди…
* * *
Буран почти прекратился, хотя ветер продолжал свистеть над головой.
Петр без цели брел по улице, проваливаясь в сугробы.
Возле клуба постоял, подумал о чем-то. Потом из клуба повалил народ: видимо, объявили антракт. А может быть, концерт кончился…
— Вот дают! Вот дают! — простодушно восхищался кто-то искусством артистов, кажется, Федот Артюхин.
Петр торопливо отошел. Оглянулся. У клубного крыльца вспыхивали в темноте красные огоньки махорочных цигарок. Ветер выдувал из них снопики искр, которые врезались в тьму длинными красными иглами…
Петру вдруг захотелось пойти туда, к людям… «Но без Поленьки неудобно, обидится еще…»
Долго не решался Петр войти в дом, стоя на крыльце, продрог до костей. Наконец, бросив последний взгляд на все еще освещенные окна клуба, толкнул не запертую на засов дверь.
Ему казалось, что отец по-прежнему сидит на стуле возле печки. Вот сейчас опять схватит полено!
Однако во всем доме было темно. Не зажигая света, Петр разделся и лег в постель. Прислушавшись, он уловил, как вздыхает в соседней комнате мать. Потом заворочался в кровати, закашлялся отец. Он встал, зачем-то закрыл двери, ведущие в ту комнату, где спала мать. Петр в темноте испуганно приподнялся на постели.
— Лежи, не трону, — сказал глуховато отец из темноты, наткнулся и опрокинул впотьмах стул, чертыхнулся, поднял его, подставил к кровати Петра и сел. Петр отвернулся к стене. Чиркнула спичка, желтовато полыхнул перед глазами Петра кусочек стены, потянуло едким запахом самосада.
Григорий сидел безмолвно. Курил и смотрел на Петра в темноте. Петр чувствовал на себе тяжелый взгляд, который вдавливал в подушки его голову. Отец тихо и жалобно, как-то просяще, вымолвил:
— Ведь они… Веселовы… жизнь у меня отняли, вот что…
Петр, не совсем понимая, чуть шевельнулся.
— А теперь и должность…
Голос отца дрогнул и прервался. И это было непонятно. Но расспрашивать Петр ничего не хотел. Отец помолчал еще немного. В комнате стояла такая тишина, что Петр слышал, как потрескивает в отцовской цигарке крупно накрошенный табак.
— Люблю я тебя, стервеца…
Петр опять невольно шевельнулся при этих словах. Отец тотчас усмехнулся:
— Знаю — не веришь. Особенно после сегодняшнего… А люблю… По-своему. Но… — Григорий помедлил и закончил так же тихо, не повышая голоса: — Но если ты не бросишь эту… тогда… Понял?
И уже когда лег в кровать, проговорил своим обычным голосом, в котором через край плескались раздражение и злоба:
— Еще раз прихвачу ее, как сегодня, у сарая — вилами запорю…
Петр так и не мог понять, уснул он в эту ночь или нет. Кажется, только что прозвучал в последний раз голос отца, а в окна уже заглянул день.
2
После ветров наступили тихие морозные дни с розовым инеем по утрам — куржаком, как говорят в Сибири.
В такое утро Григорий наконец появился в конторе. Ракитина не было в кабинете, а находившиеся тут по какому-то делу колхозники встретили Бородина молчаливо.
Зашел в контору Туманов, спросил председателя.
— На конюшне он, — ответил счетовод. — Там племенная кобыла ожеребилась, а жеребенок мертвый. И кобыла, говорят, плохая. Ракитин и побежал посмотреть на нее. Сказал, сейчас вернется.
Туманов обернулся, увидел Григория поздоровался с ним.
— Пришел вот посмотреть, как хозяйствуете, — проговорил Григорий, усмехаясь, хотя у него никто не спрашивал о цели прихода.
— Ничего, хозяйствуем.
— Ну, ну, трудодни покажут…
— У кого есть они — тому, конечно, покажут, — срезал его Туманов.
Открылась дверь, и вошел Ракитин, мрачный, расстроенный. Бородин, дымя папиросой, сел возле стола счетовода, слушая голоса из председательского кабинета. В открытую настежь дверь входили и выходили колхозники, перекидывались шутками, смеялись. И Бородин подумал, что, когда он сидел в председательском кабинете, в конторе никто никогда не смеялся, хотя целыми днями толпился народ. Сейчас контора быстро пустела.
— Бородин! — услышал вдруг Григорий голос Ракитина.
И, помедлив, откликнулся:
— Чего?
— Заходи сюда.
Григорий нехотя поднялся со стула.
— За назначением на работу пришел? — спросил председатель.
— Пришел — и все. Из любопытства.
— Вот как! Тебя что же, считать или не считать колхозником?
— Это твое дело. — Григорий дернул усом.
Ракитин сказал спокойно:
— Смотри, не будешь работать — выгоним из колхоза.
— Не пугай, руки коротки. До конца года далеко, минимум выработаю еще…
— А я не пугаю, я тебя просто предупреждаю. — Ракитин побарабанил пальцами по крышке стола. — Мы на правлении установили не годовой минимум выработки трудодней, а месячный. Для мужчин — двадцать пять трудодней. Не выработаешь их один месяц, второй, третий — рассматриваем вопрос на правлении, потом на общем собрании, и… освобождай колхозную землю.
— Та-ак!.. — глухо протянул Бородин.
— Значит, выбирай. Дисциплина сейчас строгая.
— Отошло мое время выбирать. Теперь ваш верх…
Ракитин чуть поморщился.
— На конеферме заведующий у нас растяпа. Племенных кобыл разрешал запрягать перед самыми родами. Сегодня мертвый жеребенок родился, слыхал? Так вот, если… Принимай конеферму.
Григорий ожидал худшего. Однако не мог удержаться от усмешки. Пряча ее в растрепанных, как старая мочалка, усах, он сдержанно произнес:
— Укатали крутые горки сивку-бурку, теперь, стало быть, в конюшню.
— Зря ты обижаешься, Бородин. Важное и ответственное дело тебе поручаем. А не хочешь — уговаривать не станем.
— Что ж, и на конюшне потрудимся. Не ударим в грязь лицом, — поспешно проговорил Бородин, поняв, что Ракитин говорит правду.
Придя на ферму, Григорий ахнул. Вместо восьмидесяти лошадей в конюшне стояло всего коней пятнадцать, да несколько племенных кобыл находилось в родильном помещении.
— А где же… остальные лошади? — спросил Григорий у старика конюха Авдея Калугина.
— А продали, Григорий Петрович, — охотно откликнулся Авдей. — Пока ты… в общем, сразу после отчетного собрания Тихон Семенович сюда пожаловал, осмотрел каждого коня, будто не видел никогда. А через три дня постановление правления вышло: продать всех коней, кроме кобылешек да этих вот меринков.
— Та-ак… — протянул Григорий.
— Конечно, так, — закивал головой конюх. — Ракитин правильно, по-хозяйски рассудил, в интересах, так сказать. Зачем нам такую прорву лошадей? Не пашем на них, не косим. Все тракторами да автомашинами теперь работаем. А когда по мелочи что подкинуть, дюжины конишек хватает. А то ведь за зиму добрую половину кормов лошади съедали, коровенки наши тощали, удои падали. Конечно, привыкли мы к лошадям, а все ж таки правильно Ракитин сделал, в интересах…. Потому колхозники поддержали эту мероприятию… И сено ведь на тракторах развозим на ферму, и автомашины…
Старик сыпал слова беспрерывно, и казалось, никогда не остановится.
— Замолчи-ка, — попросил Григорий, поморщившись. — Как у тебя язык не устанет. Я же в том смысле, что конюхом назначил меня Ракитин, не заведующим.
— Как это конюхом! Как это конюхом! — дважды воскликнул Авдей. — А я, выходит, кто?! Смещение с должности по причине должно происходить… А где причина? Я ить работаю не для ради трудодней, а в интересах… И опять же, несмотря на годы. А трудодней сыны у меня зарабатывают столь, что на восьмерых хватит. Я ить пойду да возьму за горло председателя: обскажи причину, коли так…
— А с тобой, дед, весело работать будет, однако, — сказал Бородин.
… Через некоторое время Григорий был даже рад, что дали ему такую спокойную должность. Придет утром пораньше на конюшню, проверит, хорошо ли вычищены стойла, и ждет нарядов. Ракитин ввел такой порядок — любую работу на лошадях оформлять документами. Надо кому-нибудь из колхозников съездить куда — тоже выписывают в конторе наряд. Потом уже идут к Бородину. Он берет бумажку, кладет в карман и распоряжается, какую запрягать лошадь. Никто его не тревожил, и он никому не лез на глаза. Жить можно!
Но, видя, как беспрекословно выполняют колхозники распоряжения Ракитина, опять завидовал этому человеку. «Погоди, отхозяйничаешь. Выйдет момент, столкнем тебя, только ногами засучишь».
Но в душе сознавал: никого уже он не столкнет, только тешит себя, как маленький, несбыточными замыслами.
3
Когда в МТС закончился ремонт, Петр Бородин несколько недель отдыхал дома. Теперь они с Поленькой встречались почти каждый день. В их отношениях вроде ничего не изменилось. О том вьюжном вечере не вспоминали ни он, ни она.
Григорий внимательно наблюдал за сыном и все более мрачнел. Однажды сказал:
— Я ведь по-серьезному говорил тогда вечером с тобой… И по-хорошему.
Петр ждал этого разговора. Нервы его, несмотря на внешнее спокойствие, были все время до предела натянуты. И вот сейчас словно кто дотронулся до них острым ножом.
— А ты по-плохому лучше, по-плохому… — воскликнул он, бросая в угол полушубок, который собирался надеть. Не помня себя, схватил возле печки полено и шагнул к отцу. Тот быстро, как на пружинах, вскочил с табурета. Но Петр бросил полено ему под ноги: — На, бей! Бей! Только сразу. Не могу я сделать по-твоему, не могу из сердца ее…
И Петр упал вниз лицом на кровать.
— Знаю, — помолчав, заговорил отец. — Не так это просто — сразу из сердца… Тоже бывал молодой. И сох, как ты вот, по одной… А не получалось… Ну, и… посоветовал мне один бывалый человек первейшее средство в таких случаях — ходить к ней сперва через день, потом через два, через три. А чем дальше, тем реже, реже… И помогло, начало выветриваться… Сейчас еще благодарю того человека. А девка, между прочим, не твоей чета была: посдобнее, на дрожжах…
Петр дернулся, хотел что-то сказать, но так и остался лежать: молча, вниз лицом.
Встретив Петра на другой день, Поленька спросила озабоченно:
— Опять случилось что-нибудь? Я ждала вчера…
— Почему опять? Разве случалось раньше что-нибудь? — перебил ее Петр.
— Ну, в тот вечер, когда вьюга была… Тоже ведь что-то… произошло. А ты так и не сказал…
Петр не в силах был смотреть в ее ясные, лучистые глаза и отвернулся.
— Ничего не случилось. Так… просто не мог прийти.
Расстались они в этот вечер раньше обычного. В груди у Петра жгло, точно кто вложил туда горящий уголь. И если бы Поленька окликнула его, он вернулся бы, схватил ее, прижал, зацеловал бы… Но она не окликнула. Она только печально и непонимающе смотрела ему вслед. Где-то на улице пиликала гармошка, взлетали в морозный воздух озорные голоса колхозных парней и девушек. Поленьке не хотелось, чтобы ее увидели, и она побежала домой. Бежала и боялась, что расплачется.
Были потом еще встречи, но проходили они уже не так, как раньше, хотя говорили друг другу вроде те же слова… Проводив ее, Петр торопливо прощался и быстро уходил.
— Ты вроде боишься кого, — сказала как-то с горечью Поленька. — Каждый раз, не успеем дойти до дома, скорее обратно бежишь… К нам никогда не зайдешь… Может… Может, вообще я в тягость тебе? Пожалуйста…
Поленька потирала белой вязаной варежкой щеку около глаз. Стояла так, отвернувшись, пока Петр медленно не заговорил:
— Зачем ты так, Поленька?! Стесняюсь я заходить… к вам… матери стесняюсь. Но я зайду… Чтобы ничего такого не думала, завтра же зайду вечером и все скажу ей.
Тогда Поленька обернулась и сама сказала:
— Ну, иди скорее домой, замерз ведь. — И когда он поцеловал ее, она шепнула: — А маме ничего говорить не надо. Она все знает…
Петр и в самом деле стал после этого иногда заходить к Поленьке.
Между тем дело шло к весне, сильнее разгоралось солнце на небе.
Петр думал теперь о Поленьке днем и ночью. Но странно!.. В мыслях он был с ней каждую минуту, а на деле получалось как-то так, что встречались все реже и реже.
Перед последними зимними буранами, которые случались обычно в конце марта, Разинкин приказал нарезать снегопахом канавы на полях локтинского колхоза. Петр работал добросовестно, сильно уставал. Вернувшись с поля, торопился к Поленьке, но отец чаще всего находил какую-нибудь работу по хозяйству. «Успеешь погулять… Крыша вон от снега обламывается, сбросай…»
Или говорил раздраженно:
«Навозу в коровнике накопилось — не пролезть. Все отец должен делать…»
Петр лез на крышу или до глубокой ночи выкидывал навоз из коровника. Можно было бы еще сбегать повидаться с Поленькой, но отец стерег каждое его движение: «Ничего, ничего… Не последний день живешь на земле. Ложись, завтра тебе на работу рано…» Петр закусывал губы, шел спать.
Потом было совещание в МТС, на котором трактористы брали трудовые обязательства. Петр неделю не был дома. Затем начались предпахотные хлопоты. А там и сама пахота. Сев…
— Ты извини, Поленька, — говорил теперь Петр в совсем уже редкие встречи. — Замотался я вконец. Вот отсеемся, посвободнее станет. Я каждый-каждый вечер буду с тобой. Я ведь и сейчас… Пашу — с тобой, мотор проверяю — ты будто рядом. Ты верь мне.
— Сейчас вот — верю. А нет тебя — я… — И она уткнулась лицом в его грудь. Он погладил ее острые плечики большими руками со следами въевшегося мазута.
— И когда нет меня — верь… Верь…
— Не могу, — призналась Поленька, не поднимая головы. И повторила сквозь слезы: — Не могу, Петя…
Он хотел спросить: «Почему?» — и не спросил. Показалось, что не хватит сил выслушать ее ответ.
Глава третья
1
Медленно и трудно наступает в Локтях весна. Уже давным-давно стекли мутные вешние воды, все чище и прозрачнее становится речушка, протекающая по деревне, а откуда-то с севера все дуют и дуют, как и осенью, студеные ветры, свистят уныло в голых ветвях деревьев. Земля, обильно усеянная с прошлой осени семенами, еще спит.
Однако влажные холодные ветры постепенно стихают.
Забредает в Локти долго блуждавший где-то ровный тихий, теплый дождик. Он идет иногда день, иногда два… И когда перестает — разливается по селу терпкий, пьянящий запах прелых листьев, лопнувших почек и мокрой согретой земля. Каждый в Локтях знает: заморозков больше не будет.
В это время начинает тихонько, незаметно для человеческого глаза, шевелиться земля. Осторожно сдвигаются с места песчинки, прошлогодние листья, засохшие стебельки трав. Тянутой из-под них к свету тоненькие бледные всходы. Они настолько хилы и немощны, что становится непонятно, как могли стронуть они с места тяжелый побуревший лист в лесу или плотный, словно камень, комочек земли на пашне, комочек, который не в силах были сдвинуть упругие осенние ветры, размочить холодные надоедливые дожди. Но вот осторожно уперся в комочек один росток, потом второй, третий… И пришлось ему, хочешь не хочешь, бесшумно подвинуться, уступить.
Великая сила заложена в проклюнувшихся из-под земли бледноватых стебельках. Порой бросит на них ветер целую горсть принесенного с береги Алакуля песка, безжалостно изломает высыпавшийся из белесой тучи град. Иногда равнодушный человек наступив на них, втопчет обратно в землю. Но пройдет день, другой — тоненькие бледноватые стебельки осторожно распрямятся, пугливо приподнимутся, точно осматриваясь, нет ли еще где опасности. Успокоившись, начнут быстро оправляться и зеленеть, один за другим выбрасывая к солнцу нежные пахучие листочки.
Однако враг притаился тут же, рядом в земле.
Он коварно выжидает время. Когда растения немного разовьются и окрепнут, он осторожно высовывает наружу свое бледноватое тело.
Несколько дней они спокойно растут рядом. Враг, кажется, не обращает внимания на зеленое растение. Потом начинает тянуться к молодому стебельку, обвивается вокруг него раз, другой, третий, впивается бесчисленными присосками и теряет связь с землей. Теперь молодое растение кормит его своими соками. А само постепенно чахнет, желтеет…
Этот враг именуется повиликой. Жители Локтей зовут ее несколько иначе — повитель.
Наиболее зараженные повителью участки посевов колхозники выкашивают раньше, чем созреют семена повилики. Другого выхода очистить поля от этого сорняка нет.
В палисадниках домов от повители сильно страдают молодые деревце. Густо оплетенные жесткими и крепкими, как проволока, грязноватыми стеблями, они с трудом выбрасывают мелкие бледно-зеленые листочки и почти не растут.
Зато, если хозяин своевременно очистит деревцо от опутывающей его проволоки, через неделю оно зазеленеет, листочки нальются тяжелым соком, глянцевито заблестят на солнце, тихо и обрадованно зашумят под теплым июньским солнцем…
* * *
Не успели локтинские колхозники отсеяться, а солнце уже запалило вовсю, будто поставило перед собой цель — выжечь посевы, обварить могучие сосны до самых стволов, до дна высушить Алакуль.
Весь день висел над Локтями клейкий горячий воздух, за короткую ночь он не успевал освежиться.
Давно уже, может, с того памятного вьюжного вечера, стала подумывать Поленька, что не напрасной была тревога матери, предупреждавшей, чтоб не торопилась с любовью. А она и не торопилась, все случилось как-то само собой. А теперь вот ходит по берегу озера, ждет его, проклятого… Ушла бы, да нет сил. Может, все-таки придет.
— Как-то все у нас не так, — проговорила она однажды с отчаянием.
— Почему не так?
— Недоговорено все… Будто обманываем друг друга. Не могу я так, не могу…
— Да брось ты хныкать, в конце концов! — раздраженно воскликнул Петр. — Ты думаешь, мне-то легко! Думаешь, я-то не мучаюсь?!
Поленька заплакала. Петр опомнился, хотел ее успокоить, растерянно дотронулся до ее плеча.
— Не надо, не надо! — воскликнула она и убежала.
День угасал…
Солнце, насветившись за день вовсю, где-то за горизонтом неторопливо готовилось к заслуженному отдыху. Оно, невидимое уже людям, посвечивало там устало, чуть-чуть, только для себя. Но и этот свет, поднимаясь с земли, окрашивал небольшой кусочек неба прозрачной желтоватой краской.
Молодое облачко, никогда в жизни не видавшее еще, где и как устраивается на ночь солнце, торопливо подплыло к освещенному краешку неба и с любопытством глянуло вниз, на землю. Облачко, кажется, не могло еще отдышаться и было розоватым, как лицо ребенка после быстрого бега.
Поленька, прибежав домой, не пошла в комнату. Она села на почерневшие бревна, лежавшие кучей возле стены, уперлась кулаком в подбородок и стала смотреть на освещенный кусочек неба, на осторожно выглядывающее из тьмы облачко…
А там, на земле, куда опустилось солнце, было, очевидно, очень интересно. Облачко, и в самом деле похожее на маленькую человеческую фигуру, уже забыло об осторожности и страхе, выплыло на середину освещенного места и даже, чтоб лучше видеть, опустилось поближе к земле.
Но Поленька его уже не видела. Она плакала — тихо, спокойно, не замечая, что плачет…
Размолвка их продолжалась больше двух недель.
Дни, сгорая дотла, оставляли на земле горячий запах пыльного воздуха. Солнце словно обугливало за день небо: к вечеру оно становилось пепельно-серым, а потом быстро чернело. Зажигались на нем непривычно большие звезды. Но они были какими-то тусклыми, точно горели из последних сил.
Петр теперь каждый день приходил ночевать домой. Побродив молчаливо и бесцельно по комнатам, он набрасывал на одно плечо пиджак, отправлялся на улицу.
Но к Поленьке идти почему-то не решался. Через полчаса возвращался домой хмурый, по-прежнему молчаливый и вешал пиджак в шкаф.
И вдруг Петр почувствовал, что отец не обращает больше на него внимания. Опять с ним что-то случилось, опять, как зимой, отец стал на целые дни скрываться в горнице.
Однажды поздно вечером, придя с работы, Петр направился было в комнату, где стояли их с отцом кровати. Но дверь оказалась запертой. Петр постучал.
— Пошел к черту, — раздался из-за двери раздраженный голос отца.
А Петр улыбнулся.
— Ты постели мне, мама, где-нибудь на полу, я сейчас вернусь, — сказал он и выбежал на улицу. Во дворе остановился, ожидая с трепетом, не окликнет ли отец. Но было тихо. Петр глубоко-глубоко вдохнул свежий воздух, рассмеялся легко и негромко. Хотел бежать к Поленьке, вышел уже за ворота. Но подумал: «Зачем же ночью?! Завтра пойду к ней, засветло…»
На другой день он действительно пришел домой к Поленьке засветло, чего вообще никогда не бывало. Она, бледная, похудевшая, встретила его спокойно, хотя от тихой и ласковой улыбки Петра у нее защемило сердце, как в первые дни их любви.
— Пойдем на берег, — попросил Петр. — Мне, понимаешь, надо тебе рассказать… Я ведь знаю, что ты… В общем, пойдем…
Они долго молча бродили по мелкой гальке у самой воды.
— Ты что-то хотел мне рассказать, Петя, — напомнила она.
— Хотел… Только я попозже. Видишь, как хорошо…
Они присели на обломок скалы. Стало уже темнеть. Недалеко от них падали на озеро ласточки и, будто скользнув по его стеклянной поверхности, стремительно взмывали вверх сквозь плотные тучи висевших над водой комаров. Поленька, сломив по дороге березовую ветку, тихонько обмахивалась ею. Потом проговорила, может, потому, что Петр молчал:
— Солнышко опустилось в лесу и выгнало оттуда всех комаров своим жаром…
— Что? — очнулся Петр от задумчивости. — Как выгнало?
Поленька только грустно посмотрела на него.
— Я, Поленька, думаю все… — Запнулся, помолчал и начал снова: — Ты сказала — недоговорено у нас, обманываем друг друга… Не обманываем. А недоговорено — точно… Отец у меня, знаешь…
Несколько минут слышны были только ленивые всплески воды где-то недалеко от их ног.
— Знаю, — наконец вздохнула Поленька.
— Давно-давно… За амбарами сидела ты с девчонками на лужайке. Там еще ребята в мяч играли. Ты не помнишь, конечно…
— Помню, — почти шепотом произнесла Поленька.
— Ну, вот, — закончил Петр. И обоим им было понятно, что значит это «ну вот».
Скоро стало совсем темно. Комары понемногу исчезли, и Поленька бросила свою ветку.
— Ты пойми, Поленька, он все-таки отец, — умоляюще проговорил Петр после долгого молчания.
Она ответила не сразу:
— Я понимаю. — И еще через минуту спросила: — Как же нам теперь быть?
— Я тоже не знаю, — промолвил Петр. — Но я думал об этом, много думал, Поленька. Может, поженимся, да и все. Как снег выпадет, хорошо?
Едва Петр произнес последние слова, вдруг застучало у него в висках: «А отец? А отец??»
Поленька молчала. Потом сквозь какой-то звон еле донесся ее голос: «Хорошо, Петя». Он не видел в темноте ее глаз, но вдруг почувствовал, что она смотрит на него.
— И ты… согласна?
— Конечно…
— И ты… согласна? — опять бессвязно повторил Петр. — А отец?
— Я согласна, Петя…
В голосе Поленьки прозвучали печальные нотки. Но Петр не заметил их. Волна радости нахлынула вдруг и накрыла его с головой. А когда скатилась — стало легче, будто захватила она с собой его думы, сомнения, нерешительность. Неожиданно Поленька положила голову ему на колени и заплакала. Петр растерянно погладил ее по плечу.
— Я знаю, отец… — говорила, Поленька, всхлипывая. — Это тебе решать… Но я все равно согласна… Я не могу сказать другое… потому что… люблю тебя.
Они расстались, унося с собой совершенно разные чувства. Петр облегченно думал, что выход из тяжелого положения пришел сам собой. Они поженятся, что бы там ни говорил отец. В конце концов, что ему за дело? Он покричит, подергает усами — и примирится. Тогда начнется совсем другая жизнь. Но он думал так под влиянием только что случившегося разговора. Все казалось ему в эту минуту простым и понятным, как раньше.
А Поленька смутно догадывалась, что все запутывается еще сильнее. Почему сильнее — она не умела объяснить. Но знала, что это так. Знала она также, что пойдет вперед, как бы туго ни затягивался узел. Она уже не могла сейчас отступить, сделать хотя бы один шаг назад.
2
Домой Петр пришел в возбужденно-радостном состоянии. «Сейчас, сейчас я все скажу отцу, — думал он всю дорогу, шагая от Поленьки. — Взорвется он, опять поленом, может, швырнет… Ну, и черт с ним, это уж последний раз. А потом, потом…»
Ему казалось это «потом» гранью, за которой много света, много простора: иди куда хочешь, делай что хочешь, сам себе хозяин…
— Где батя? — громко спросил Петр у матери, едва переступив порог. Анисья прижала руки к заколотившемуся сердцу.
— Напугал то, господи!.. Где же ему быть? Там, — чуть кивнула она головой через плечо на горницу. — А ты чего…
Анисья не успела договорить. Дверь распахнулась, отец дернул взлохмаченной бровью и, хрипло бросив на ходу: «На работу я… В конюшню», — вышел из дому.
… Давно облетел пух с тополей, которыми была обсажена центральная улица Локтей. Давно отцвели веселые подсолнухи на огородах и стояли, уже сгорбившись, согнувшись до земли, как старики, которым тяжело уже держать самих себя; только головы у стариков не побелели, а, наоборот, почернели. Вот зажелтели посевы, зазвенели все звонче и звонче тугими колосьями. В колхозе развернулась уборка урожая. А поговорить с отцом Петру так и не удавалось. Григорий теперь словно избегал сына. Несколько раз Петр начинал было разговор, но отец отмахивался:
— А, отстань ты. Не до тебя…
— А все-таки надо нам поговорить! — крикнул однажды Петр. Он сидел на кровати, свесив голые ноги на пол. Утро только-только розовело.
Григорий удивленно дернул усом: в голосе сына была необычная твердость. Он почесал всей пятерней густо заросшую волосами щеку, подождал, пока Анисья вышла за дровами, и только тогда ответил:
— Говори.
Уходя, мать оставила дверь открытой. Свежей утренний воздух хлынул в комнату и зазнобил голые ноги Петра. Он, будто стараясь выиграть время, медленно уронил, не поднимаясь с кровати:
— Черт… Холодно уже утрами.
Однако отец теперь выжидающе смотрел на него из полутьмы комнаты.
— Я хочу, батя… жениться хочу нынче осенью… Или зимой, как снег выпадет… — И Петр стал натягивать сапоги.
— Так-с!.. — Голос отца хлестнул Петра, словно ременный бич. — Жениться не напасть, да как бы женатому не пропасть… Слышал такую присказку?
Петр ничего не ответил.
— Невесту давненько, стало быть, присмотрел или вчера только, на танцульках? — опять спросил отец.
— Давно.
— Здешняя или того… учительша какая-нибудь? Сейчас мода на учительшах жениться.
Отец говорил медленно, с нескрываемой издевкой, не обращая внимания на слова сына, будто не слышал их.
— Поленька Веселова… Ты же знаешь.
Отец не спеша подошел к нему, положил тяжелую волосатую руку на плечо. Петр медленно поднялся с кровати, глаза их встретились… Но Петр видел не сами отцовские глаза, а чернеющие вокруг них изломанные морщины. Морщинки эти чуть дрогнули, пошевелились. Тогда Петр, у которого все таки жила какая-то неясная надежда, вдруг понял, что хорошего ждать нечего.
— Я знаю, конечно… И если скажу, что ты себе за невесту выбрал, то…
Петр скорее догадался, чем услышал слова отца. Вдруг резко приподнявшись, он почти крикнул:
— Что за невеста — мое, батя, дело! Не маленький я, не пугай…
Григорий еще с минуту смотрел на Петра. Потом как-то съежился, без слов опустился на стул, вполоборота к сыну, подпер щеку ладонью. Долго смотрел в окно.
Вошла Анисья, стараясь не греметь, положила у печки дрова. Растапливая печку, она тревожно посматривала то на мужа, то на сына.
— Что опять приключилось? — не вытерпела Анисья. — Молчите оба, как Алакуль перед бурей.
Часто потрескивали разгорающиеся в печке березовые дрова, и Петру чудилось, что они насмешливо и сухо выговаривали: так-с, так-с, так-с…
— Спроси его, жениха, — буркнул Григорий. Анисья непонимающе переводила глаза с мужа на сына. Наконец догадалась, вскрикнула и прислонилась к стене.
Петр не мог понять, чего больше в ее вскрике: испуга или радости.
— Петенька, сыночек… Правда, что ли? — несмело спросила затем мать.
— Правда, мама.
— Господи, подумать только…
Непрошеные слезы помешали Анисье говорить. А может, и говорить ей больше было нечего.
— Ты, мать, вот что… рано обрадовалась. Выйди-ка на минутку, мы тут потолкуем… по-мужски, — угрюмо проговорил Григорий.
Анисья покорно направилась к двери, вытирая на ходу глаза концом платка.
С тех пор как Петр начал понимать окружающий его мир, он видел, что мать всегда беспрекословно выполняла малейшую волю отца. Ходила по половицам, боясь скрипнуть, вечно вздрагивала. Неосознанная, непонятная еще ему самому волна жалости к матери захлестнула Петра. Он схватил ее за руку.
— Стой, мама. Никаких секретов здесь нету…
— Что ты, что ты, Петенька… Говори уж с отцом. Он — хозяин наш, — испуганно прошептала мать, с опаской поглядывая на мужа. Петр заметил ее взгляд. Словно рашпилем дернуло его по сердцу.
— Вон как! — проговорил он тихо, опуская руку матери. — Он, говоришь, хозяин наш? Хозяин?! В кого ты, батя, мать-то превратил? — еще тише спросил Петр.
Отец усмехнулся своей кривой усмешкой:
— Ничего, растешь… И зубы прорезываются.
Поднялся, подошел к стене, снял с гвоздя фуражку.
— По мне — женись хоть на черте лысом. Но помни: чтоб ноги твоей в моем доме после не было…
И вышел, с остервенением хлопнув дверью.
3
Быстро отцвел неяркий, вылинявший за лето, осенний закат, потянул с озера холодный ветерок. А Бородин все сидел у стены конюшни и курил, курил. На вид Григорию никто не дал бы и сорока пяти лет, а между тем ему шел уже шестой десяток… Он сидел, захлебывался махорочным дымом и, не замечая того, потирал начинающую слабеть грудь. В голову лезли одна за другой картины прошлого…
Вспомнился день, когда похоронил отца, вернулся в пустой гулкий дом… Бабка-стряпуха вышла из комнаты с узлом в руках, пошевелила губами, видимо, сказала что-то… Ходит он, Григорий, по деревне, заложив руки в карманы, слушает разговоры о коммуне, думает: «Помешали жить, сволочи…» Аниска… Слышит Григорий ее нечеловеческий крик… Петька, сын, болтает в воздухе крохотными красными ножонками… Война… Ракитин кричит страшно: «Ах ты мразь вонючая!» И прожгло, прокололо плечо… И опять ходит он, Григорий, по деревне после войны, думает: «Председатель, хозяин… Хоть чужим заправляю». И снова Ракитин: «Мы уберем тебя с председателей. А с должности человека ты сам себя снял…» Потом работа на конюшне… Петр, сидя на кровати, натягивает сапоги и говорит: «С тобой, Григорий, тяжело даже одним воздухом дышать…»
Григорий вздрогнул: кто это сказал — сын или Ракитин?
— Еще какие распоряжения будут на сегодня али нет? — услышал он над ухом и опять вздрогнул.
И проговорил, невольно отвечая на свои мысли:
— Ракитин, Ракитин это недавно сказал…
— Чего? — воскликнул Авдей Калугин. — Сделать, что председатель распорядился? Так я сенца коням положил на ночь, все честь по чести…
— Я говорю: ступай, себе, иди… — опомнился Бородин.
Однако конюх еще потоптался, покачал головой:
— Я так и думал: пригрелся ты с полдня на солнышке, уснул.. А как уснул, значит, ну и… Оно… того, бывает. Моя вот, к примеру, хотя бы взять, старуха во сне как понесет невесть что… Я ей наутро завсегда выговариваю лекцию: как, мол, ты есть законная жена первеющего колхозного конюха…
Вот, вот, размышлял Бородин, когда Калугин наконец ушел. Когда-то держали они в работниках конюха. Он, Гришка, сам нанял его тогда. И сейчас, спустя три десятка лет, у него, Григория, под началом конюх… Вроде ничего не изменилось…
«Да… Опять у меня — конюх. У меня!» — злобно усмехался Григорий ночью, лежа в постели. А едва закрывал глаза, тотчас видел себя, мечущегося среди каких-то каменных стен. Он бросался туда, сюда, но все время натыкался на эти могучие стены. Выхода не было. В изнеможении он падал на землю лицом вверх… Успевал на миг увидеть голубое чистое небо. Но едва касался голубизны своим жаждущим взглядом, как она быстро начинала сереть, и через минуту небо становилось непроницаемо-черным.
Григорий слабо вскрикивал, приподнимался на постели. Кругом действительно была темнота. В соседней комнате спали жена и сын. Григорий слышал их дыхание. «Вот и Петька… не хочет спать со мной в одной комнате…»
Он завидовал жене и сыну, потому что они могут спокойно спать ночами. Днем он завидовал всем колхозникам, потому что они могут разговаривать друг с другом, смеяться. Но, заметив идущего навстречу человека, тотчас сворачивал в переулок. Ему уже начало казаться, что, не сверни он или не перейди на другую сторону улицы, — это сделают другие. Непременно сделают. «Нет, врете, не вы, а я вас ненавижу, я…» — лихорадочно думал при этом Бородин.
Напрасно Григорий считал, что Анисья ночами спокойно спит. Она хоть ничего и не спрашивала, но отлично понимала состояние мужа. Натягивая одеяло на голову, тихонько вздыхала, чтоб не услышал Григорий. А однажды утром, подождав, когда уйдет на работу сын, сказала:
— Вот и наступает для тебя расплата… За всю твою… черную волчью жизнь, за мои страдания, слезы… За то, что Петьку сломал…
— Наступает, говоришь?! — заорал Григорий и хотел швырнуть в лицо жене миску горячих щей со словами: «Не злорадствуй, стерва! Я сперва с тобой расплачусь…» Но что-то в нем соскочило с зарубки, сломалось… Он обмяк, отодвинул от себя миску, отвернулся и проговорил жалобно: — Уже наступило… наступило…
— Нет, наступает только, — на этот раз упрямо и безбоязненно повторила Анисья.
4
Осень стояла солнечная, тихая. Локтинские колхозники торопились убрать хлеба.
Ракитин, пахнущий пылью, запорошенный пшеничной мякиной, рано утром зашел в конторку животноводческой фермы. Евдокия Веселова, которую после отчетно-выборного собрания ввели в члены правления и назначили заведующей фермой вместо Тихона, о чем-то беседовала с животноводами.
— Ну вот и все на сегодня вроде, — закончила Евдокия.
Колхозники тотчас поднялись и торопливо, но без толкотни, без шума вышли из помещения.
— Какой у тебя порядок! — с непонятным оттенком зависти сказал Ракитин. — Ни минуты не потеряно. Как бы добиться, чтобы везде у нас такая дисциплина была?
— Вижу, с поля уже, — кивнула Евдокия на запыленный мякиной пиджак председателя.
— К комбайну ездил пораньше. Хорошо работает, без простоев… Решил вот теперь тебя проведать… Я у тебя ведь много людей на уборку взял, думаю, не надо ли тебе чем помочь…
Веселова улыбаясь глянула на председателя:
— Ладно, чего уж меня обхаживать. Вижу, зачем приехал. Говори сразу… Только я заранее отвечу тебе: нет у меня больше людей.
Ракитин снял фуражку, озабоченно потер большую лысую голову. Сказал мягко, просяще:
— Одного человека, Евдокия Спиридоновна.
— Не могу. Вот ты говоришь — ни минуты не потеряно после производственного совещания. Нужда научит минуты беречь. Ведь у меня каждый человек за двоих, за троих работает.
Ракитин молчал, потому что все сказанное Евдокией было правдой. Председатель взял у животноводов на уборку людей и без того больше, чем было можно…
— А куда тебе человека? — спросила Веселова.
— На ток. Хотя бы временно. Заведующий током заболел, увезли сегодня ночью в больницу.
— Так где же временно? Значит, на всю осень…
— Значит, на всю осень, — покорно повторил Ракитин.
— Да и нет у меня подходящего человека.
Помолчали.
— А где-нибудь в другом месте не смотрел? — спросила Веселова.
— Смотрел. И нигде не увидел. Только на конюшне…
— Бородин?! — шевельнулась Евдокия. — Да ты что? Да разве можно…
— Я — ничего. Нельзя, конечно, даже временно назначать его на эту должность. А где взять человека?
Ракитин помолчал и тяжело вздохнул.
— Ну ладно, поеду. Посмотрю еще, — может, найду.
Однако, сколько ни смотрел Ракитин, найти человека на должность заведующего током не мог. Кого ни тронь, везде дыра образуется. А заполнять ее нечем… На другой день вызвал в контору Бородина.
— Вот что, Григорий Петрович… Тяжелое положение у нас на току создалось. Заведующий заболел, а… уборка ведь, понимаешь… Хлеб из-под комбайнов поступает беспрерывно, надо следить да следить, чтоб не перегрелся в ворохах…
Григорий слушал угрюмо, опустив глаза.
— Все, что ли? — спросил он.
— Посоветовались мы сегодня на правлении, решили тебя попросить помочь. На конеферме обойдется пока Калугин. В общем, давай на ток.
* * *
В тот же вечер как ни в чем не бывало поздравить Бородина с новой должностью явилась троица: Бутылкин, Тушков и Амонжолов.
— Нам, Григорь Петрович, где бы ни тянуть, лишь бы не надорваться, хе, хе, — осторожно рассыпал смешок Бутылкин. — Тоже я вот… Был кладовщиком, работал, по мере моей возможности, честно… Ну снял меня Ракитин, хе, хе… А я на любой рядовой работе не пропаду…
— Чего надо? — зло спросил Григорий.
— Да что ты, что ты на нас, — замахал руками бывший кладовщик. — Поди вместе… работали, вместе и горевать… Поскольку ты… Пострадал ведь. Другие-то вон на тебя и глядеть не хотят. А мы — наше пожалуйста. Мы не по должности человека уважаем, а так… по душевности.
Бутылкин попал в самое больное место. Григорий долго молчал. Потом плюхнулся на стул.
— Э-э, чего там! — хлопнул он кулаком по столу. — Гульнем! Анисья!
Когда вернулся с работы Петр, Тушков сказал ему заплетающимся языком:
— Золотой у тебя папашка, Петро. Выпьем за него!
Петр ничего не ответил.
— Ты сыграй нам, тракторист. Уважь, — попросил Бутылкин.
— Не будет, — вмешался Григорий. — Сколь времени баян в руки не берет. Ходит как в воду опущенный.
— Что так?
— А видишь ты, жених! — насмешливо протянул Григорий Бородин.
— Эх, погуляем на свадьбе… Выражаясь фигурально, пропьем Петруху в самые растянутые сроки.
— Пропить можно и не торопясь, да вот невеста не ко двору.
— Брось ты, батя, хоть при людях! — побледнев, крикнул Петр и быстро вышел из комнаты.
* * *
Петр долго стоял на крыльце, прижимаясь щекой к шершавому от облупившейся краски столбу, поддерживающему навес. Сквозь непритворенную дверь доносились пьяные голоса.
Совсем рядом в темноте всплескивало озеро.
Сойдя с крыльца, Петр направился к берегу. Сел на большой камень, снял сапоги и опустил ноги в черную, холодноватую уже воду. После рабочего дня все тело чуть ныло.
Невидимые в темноте волны катились к берегу и с захлебывающимся звуком разбивались о камни.
Равномерные, неторопливые всплески успокоили Петра.
Вчера они с Поленькой ходили здесь, по берегу, вслух мечтали о своем будущем. Петр забыл разговор с отцом о женитьбе, перестал слышать над ухом его угрожающий голос: «По мне женись хоть на черте лысом, но помни, чтоб ноги твоей в моем доме после не было». И весь сегодняшний день Петр был во власти какого-то нового, доселе неизвестного ему чувства. Оно не исчезло и когда он увидел пьяную компанию. Петр лишь запрятал его куда-то глубоко, будто боялся — не потерять, нет! — но даже замарать его обо что-то… Оно не исчезло, и когда отец насмешливо проговорил: «А видишь ты, жених…» Только ушло еще глубже.
А теперь всплыло вдруг.
Неожиданно радом на воду упала желтая неяркая полоса света — в доме открыли дверь. Тотчас же послышались пьяные голоса:
— Петрович, ты… в печенку тебя. Выражаясь фигурально, ты… голова, — выкрикивал Егор Тушков, громко икая в темноте.
— Не падай, Егор Иванович. За меня держись, за меня… — бормотал Муса Амонжолов.
На крыльце громко шаркали ногами, стучали. Скрипнули перила — кто-то сильно навалился на них.
Голоса медленно удалялись, тонули в темноте.
Возле дома еще несколько минут ходил отец, видимо, искал его, что-то говорил собаке. Потом крикнул в темноту:
— Эй, где ты там? Иди спать. Дверь не забудь закинуть.
И тяжело поднялся по рассохшимся ступенькам крыльца.
Петр не шевелился. Тускло, словно только для себя, светили на небе крупные звезды.
Опять звучали в ушах отцовские слова: «Чтоб ноги твоей в моем доме не было».
… Пропели петухи, а Петр все сидел на камне, смотрел на большие, качающиеся в воде огоньки. Наконец встал, медленно побрел к дому. На крыльце остановился, облокотился о перила.
В то утро, после разговора с отцом, здесь, когда Петр пошел на работу, его окликнула мать. Она бесшумно подошла, неловко остановилась, спрятала под фартуком руки и опять спросила:
— Правда, что ли, Петенька?..
— Правда, мама, — ответил Петр, как и в первый раз. — А что?
Мать тихонько кивнула головой, но ничего не сказала и ушла в дом.
Почему она ничего не сказала?
Петр стоял на крыльце до тех пор, пока на востоке не засинел край неба, долго смотрел, как гасли звезды, разгорался новый день…
* * *
Пьянки теперь следовали в доме одна за другой: Григорий Бородин словно хотел утопить в вине свою тоску. Пили по всякому поводу: наступал какой-нибудь забытый уже церковный праздник — пили, «случался» чей-то день рождения — пьянствовали.
— Ишь, сволочь, как власть забирает!.. — жаловался Бутылкин Бородину на председателя. — Ко мне сегодня домой заявился: «Почему на работу не вышел?» — кричит. Я толкую ему: «Заболел!» И слушать не хочет. Так и выгнал в поле. Самолично отвез на ходке…
Егор Тупиков согласно кивал головой:
— Порядки новые ввел… Чуть не выйдешь на работу без уважительной — штраф три, а то и все пять трудодней. С моей жинки десятка два уже снял. Этак до минимума трудодней, как до дна Алакуля…
— Ништо, ребята, не унывать, — бодро вскидывал голову Иван Бутылкин. — Пострадали мы с Григорием, верно. Придет время — верх возьмем. А сейчас что? Как говорят, будет день — будет и пища…
Бородин понимал: Бутылкин и сам не верит, что придет такое время, но силится внушить эту мысль ему, Григорию, чтоб лишний раз выпить за его счет. Но молчал. Только однажды сказал:
— Возьмем, говоришь, верх? В том-то и беда, что не взять уж…
И вдруг, неожиданно для всех, Григорий… заплакал.
— Ну ты, Гршгорь Петрович, — растерянно протянул Бутылкин, тараща пьяные глаза. — Того, говорю, не по-мужски…
— Не по-мужски?! — закричал Бородин. — А что мне остается делать? Петька — и тот вон на днях окрысился на меня…
— Да черт с ним, с Петькой. А ты возьми ремень, да и…
— А он возьмет да и уйдет от меня — с голоду без батьки не подохнет: не те времена.
— Ну и пусть идет, и пусть…
— Ду-урак! — Григорий поднял голову, оглядел всех поочередно. И жалобно, будто просил что, промолвил: — Разве вы поймете? Петька — это все, что осталось у меня от… от…
И замолчал. Отвернулся от всех, зажал в огромную ладонь стакан с водкой и сидел так, покачивая головой несколько минут. Все притихли, ждали чего-то. И действительно, Григорий вдруг резко обернулся, ударил кулаком по столу. Зазвенели тарелки.
— А я не дам!.. Не дам! — Грудь Григория рвало, что-то билось в ней живое, сильное. — Я вот женю его… По-своему.
— Успокойся, успо… — пролепетал Бутылкин. Григорий снова взял в руки стакан.
— Изломано у меня в душе все, пусто там. — И Бородин стукнул себя в грудь. — Потому и пью вот с вами.
Когда расходились по домам, бывший кладовщик шепнул Григорию в ухо:
— А теперь, Григорь Петрович, погуляем в твой день рождения. А, погуляем?
— Погуляем. В октябре. Второго числа, — отвечал покорно Григорий.
— Вот, вот… А мы уж не забудем, обдарим тебя так, что доволен будешь.
И Бутылкин, хохотнув, похлопал Бородина по спине.
* * *
Григорий по-прежнему не замечал в доме никого, кроме… собаки.
Колченогий щенок со временем вымахал в огромного, с волка, пса, в свирепости превзошел свою мать. Вставая утрами с постели, Григорий шел первым делом к собаке, опускался перед ней на корточки. Пес закидывал свои толстые лапы на плечи Бородину — и так сидели они подолгу вдвоем, словно обнявшись. И вечером, прежде чем лечь спать, Григорий всегда выходил к собаке, проверял: чисто ли в конуре, не сбилась ли подстилка…
А случалось даже, что заводил пса на ночь к себе в комнату. И тогда к Григорию никто уже не мог зайти.
5
Петр сквозь сон слышал приглушенный говор во дворе, скрип рассохшихся половиц. Так поскрипывал пол в сенях, когда в прошлом году он с отцом таскал тяжелые мешки с пшеницей, полученной на трудодни Затем Петру почудился смешок Ивана Бутылкина, его слова:
— Мы друзей помним. Живи не тужи, Григорий Петрович. На блины из новой мучки приглашай…
— Выражаясь фигурально, комар носа не подточит, — проговорил где-то за стенкой голос Егора Тушкова.
«Опять пьют», — подумал Петр, но проснуться окончательно не мог. Повернулся на другой бок, натянул до самого подбородка одеяло. Но не успел, кажется, и забыться, как одеяло кто-то осторожно снял, дотронулся до плеча.
— Вставай, сынок. Да вставай же, утро на дворе, — тихонько говорила мать.
Сев за стол, Петр выпил несколько стаканов молока. Мать возилась у печки с какими-то пирожками. В печи ярко горели березовые дрова, отбрасывая дрожащий свет на посудный шкаф.
— Не то приснилось мне, не то в самом деле ночью Тушков с Бутылкиным у нас были? — спросил Петр.
Анисья быстро выпрямилась, испуганно взглянула на сына, потом на мужа. Петру показалось, что крепко сжатые губы матери побледнели.
— Приснилось тебе, — спокойно проговорил от порога отец и вышел.
Позавтракав, Петр пошел на работу. На дворе его окликнул отец:
— Погоди, жених…
Подойдя, Григорий Бородин долго раскуривал толстую самокрутку, ронял на землю искры.
— Ты что разговор о Бутылкине завел? — спррсил он, пряча в карман спички.
— Надоело уж. Чуть не каждую ночь спать не даете. Весь дом водкой провонял.
— Ну, ну, скоро привыкнешь, — облегченно, как показалось Петру, сказал отец. — Ты не припомнишь, какой сегодня день? — спросил он немного погодя.
— Обыкновенный. Второе октября.
— То-то же, второе. Приходи пораньше на именинный пирог. Али забыл?
Петр действительно забыл, что сегодня день рождения отца.
— Ладно, приду.
— Ну вот и порядок. А сегодня мы вроде тренировочки.
Когда Петр выходил из калитки, отец крикнул:
— Так не забудь. Именинник хоть я, но и для тебя подарок будет…
6
Петр не забыл обещания, данного отцу.
Вечером, подходя к дому, он увидел освещенные окна, в которых плясали тени, и понял, что пьянка в самом разгаре. Желтые квадраты окон и тени в них вызвали у Петра раздражение.
Взвизгнув от неожиданности, распахнулась под его толчком калитка. Сейчас же дробно простучали чьи-то каблуки по ступенькам крыльца, метнулся навстречу кто-то в белом.
Невысоко от села
Кружат звезды хоровод…
А я миленочка ждала
У калитки, у ворот… —
пропел женский голос, и Петр узнал доярку Настю Тимофееву.
— А мы-то ждем, мы ждем! — крикнула Настя и громко засмеялась, схватила Петра за руку.
Он выдернул руку, не разжимая зубов, проговорил:
— Откуда сорвалась такая?! — Потом, помедлив, бросил ей. — Дура! — И пошел в дом.
Настя, видимо, нисколько не обиделась, засмеялась еще громче, обогнала его. Опять простучали по крыльцу ее каблуки.
Помывшись на кухне из рукомойника, Петр долго вытирал полотенцем лицо и шею. Мать стояла у стены, сложив руки на груди, молча смотрела на сына.
— Иди уж… Отец давно о тебе справлялся, — сказала она наконец, отвернулась, тяжело опустила руки и вздохнула. — Господи, когда все это кончится… Хоть из дома беги.
— О чем ты, мама?
— Иди, сынок, иди от греха.
Петр прошел из кухни в комнату.
Там сквозь облака табачного дыма тускло светила электрическая лампочка. За столом сидели отец, Иван Бутылкин, Муса Амонжолов, Настя Тимофеева. Отец, расчесанный на обе стороны, смотрел на Петра маленькими, узкими глазками.
— Садись, — кивнул он на свободный возле Насти Тимофеевой стул. И, обращаясь ко всем, проговорил, поднимая кверху пожелтевший кривой палец: — Жених он у меня!..
Петр сел за стол и принялся за еду.
— А теперь, дорогие гости, спасибо за внимание, — сказал вдруг Григорий. — Время позднее, а нам тут еще дела надо решить… семейные.
Гости шумно поднимались из-за стола, долго прощались. Мусу Амонжолова, как всегда, вынесли почти на руках. Настя тоже встала, но не вышла вместе со всеми в сенцы, а осталась в кухне.
На все это Петр почти не обращал внимания. Поев, он хотел уйти. Но свинцовая рука отца легла ему на плечо:
— Не спеши. Главный разговор сейчас будет.
Налив полстакана водки, Григорий Бородин опять выпил, поскреб вилкой в сковородке с яичницей и крикнул:
— Мать!.. Иди сюда.
Анисья бесшумно вошла из кухни с полотенцем в руках, присела на табуретку и, словно обессилев, прислонилась к стенке.
Петр пытался сообразить, что затевает отец, но не мог. Виски словно сдавливало железным обручем. Потом из кухни вышла Настя Тимофеева, присела у стола. Григорий даже не взглянул на нее, спросил у Петра:
— Когда, сынок, свадьба твоя с этой… как ее?
Чувствуя что-то недоброе, Петр насторожился:
— Я же сказал тебе — как снег выпадет.
— Врешь, — стукнул вдруг Григорий Бородин кулаком по столу.
Звякнула посуда, и вслед за тем в комнате установилась тишина. Только пьяно, тяжело дышал отец.
— Врешь, Петруха, — как-то жалобно, словно заискивающе повторил отец. Но тут же голос его окреп, он ткнул кулаком в сторону Насти Тимофеевой: — Вот тебе жена…
Петр долго смотрел на Настю, словно пытался что-то понять или вспомнить. Она подняла голову, и Петр, будто увидев ее впервые, удивился, какое у Насти круглое, как тарелка, лицо. И почти совсем нет подбородка.
— Та-ак… Ну а дальше что?
— А дальше… Ты, мать, как смотришь?
Анисья отвернулась к стене, заплакала, прижав к глазам полотенце, встала и молча направилась в кухню.
— Стой! Стой, говорю! — рявкнул Григорий Бородин.
Анисья будто не слышала грозного окрика, продолжала идти. Тогда Бородин резко вскочил, сделал несколько шагов по комнате, схватил Анисью за плечо. Она повернулась к нему, спокойная и бледная.
Может быть, эта необычная бледность поразила Бородина? Или впервые заметил он на лице жены отсутствие страха? Но, словно обжегшись, Григорий Бородин сделал шаг назад и сжал кулаки.
— Ну, бей, бей, — тихо проговорила Анисья. — Бей сразу до смерти, чем тянуть жилы изо дня в день. Душегуб ты… Вот тебе весь мой ответ…
И вышла.
Григорий еще несколько минут постоял посреди комнаты. Был он похож в не заправленной в брюки рубахе на старый, подточенный червями гриб-сморчок. Покачавшись, вернулся к столу, пробормотал:
— Выпряглась, старая ведьма. Ан ничего, ничего, ничего…
И одну за другой выпил две рюмки.
Потом Григорий долго сидел, навалившись обеими руками на стол, и, закрыв глаза, что-то мычал. Наконец вскинул голову, посмотрел на Петра.
— Ты ведь сын мой, Петруха. Я тебе имя дал… — проговорил Григорий.
Откинувшись на спинку стула, Петр только повторил свой вопрос:
— Ну а дальше что?
— Запомни, что дальше… — И вдруг крикнул: — Настя!..
Настя Тимофеева встала и подошла к Григорию. Он угрюмо, тяжело процедил сквозь зубы:
— А о той не моги и думать… Не моги…
Голос Григория сорвался. Он был окончательно пьян. Настя Тимофеева закинула себе на плечи его руку.
— Отдыхать вам пора, Григорий Петрович, пойдемте.
— Пойдем, пойдем, — неожиданно согласился Бородин, опираясь на стул свободной рукой, поднялся. Настя повела, почти потащила его в другую комнату.
У порога он, ухватясь за косяк, обернулся, прохрипел:
— И не моги… И не моги, дьявол тебя в душу…
Сжав виски ладонями, Петр пытался сообразить, что же, собственно, происходит. Но мысли путались и ускользали.
Настя Тимофеева отвела Григория Бородина, вернулась и села за стол напротив. Петр долго смотрел на нее, не зная, что ему — говорить или просто встать и уйти. Щеки его горели, точно с них сдирали кожу.
Вдруг Настя вскочила, бросилась к Петру. Мягкие, тяжелые и горячие руки легли ему на плечи.
— Петенька, милый мой… Верней собаки буду, вот увидишь, не гони. Не верь, будто я гулящая… Петенька…
В первую секунду растерявшись, Петр не разбирал ее слов. Он чувствовал только, будто у его уха что-то громко хлопает, обдавая всю щеку горячим воздухом. Пытаясь отвернуться, он одновременно отталкивал Настю. Наконец встал и с силой отбросил ее от себя.
— Уйди… прочь… — проговорил он, задыхаясь.
Настя села у стены на лавку, заплакала. Петр брезгливо посмотрел на нее, взял бутылку и налил в стакан водки. Однако пить не стал.
— У тебя… хоть сколько-нибудь осталось… гордости? — медленно проговорил Петр.
— Осталось! — крикнула неожиданно звонким голосом Настя. — Думаешь, вот бессовестная, набиваться в жены пришла. Ну что ж, и пришла, смирила гордость… К другому бы не пошла. Как хочешь, так и суди…
Настя Тимофеева встала как ни в чем не бывало, прошлась по комняте, надела пальтишко. И уже насмешливо проговорила:
— Проводишь, может… Или боишься?
Петр не тронулся с места.
— Значит, боишься?
Из кухни вышла Анисья и встала между ними.
— Ложись спать, Петенька… А ты, бессовестная, иди домой.
— Моей совести, тетка Анисья, может, на весь колхоз хватит, — огрызнулась Настя.
— Куда ты его зовешь?
— Отведу за ворота и съем, — опять насмешливо проговорила Настя. Но тут же добавила: — Хотя и есть-то нечего, он у вас — ни рыба, ни мясо. Прощевайте пока…
Настя выбежала из комнаты, не закрыв за собой дверь. Еще раз дробно простучали по ступенькам крыльца Настины каблуки, скрипнула калитка. Облегченно вздохнув, Петр проговорил:
— Ты иди, мама. А я на крыльце посижу, остыну…
Выйдя из дома, Петр присел на лавочку, пристроенную у крыльца, посмотрел вперед. Над Локтями висела кромешная тьма. Ни огонька, ни звука. Даже озеро не всплескивало, будто застыло.
Потом неясно послышался где-то шум мотора, и Петр подумал: «Витькина машина».
С того дня, как они ездили в МТС за запасными частями, Петру с ним не пришлось больше поговорить. Виктор вечно куда-то спешил.
Еле слышный рокот мотора растаял в густой темноте. Машина проехала задами деревни. А может, это была вовсе и не Витькина машина…
Вдруг Петру захотелось пойти и взглянуть, не светится ли окно у Поленьки.
Раньше добраться до дома Веселовых было просто: перемахнуть небольшой пустырь — и все. Но с годами пустырь застроили, распахали под огороды. Теперь надо было обойти несколько домов, свернуть в переулок.
Петр не видел дороги, но знал, что через несколько шагов будет поворот в переулок, а оттуда, если Поленька не легла спать, он увидит ее светящееся окно. Увидит… А вдруг она уже спит? Он зашагал быстрее, почти побежал…
Поленька, очевидно, еще не спала. Бледноватый квадратик ее окна одиноко горел в темноте.
Петр облегченно вздохнул. Подойдя к чьему-то палисаднику, присел на скамейку. Сейчас же в голове поплыли, замелькали события сегодняшнего вечера: пьяный отец, круглое, без подбородка, лицо Насти Тимофеевой, горячие, тяжелые руки, насмешливый голос: «Значит, боишься?»
И вот это мерцающее в темноте оконце… Все-таки хорошо, что оно светится.
Глава четвертая
1
Уборка урожая подходила к концу. Однажды вечером стал накрапывать дождь. Час от часу он усиливался и усиливался.
— Хорошо, что все тока нынче успели заново перекрыть, — говорили колхозники. — А то в прежние годы сколь хлеба гноили каждую осень…
Ночью, уже перед рассветом, налетел чудовищной силы ураган. Он сломал около десятка тополей в деревне, начисто вымолотил несколько гектаров не сжатой еще пшеницы, оборвал электрические провода. Но самое страшное было не в этом. Ураган сорвал не слежавшиеся еще соломенные крыши чуть ли не со всех токов.
Ракитин в эту ночь не спал. С вечера он объехал все тока и вернулся в село уже за полночь, хмурый и мокрый. На сердце было тревожное предчувствие: небо светлело, а дождь усиливался — нехорошая примета. На всякий случай верховую лошадь, на которой ездил весь день по полям, в конюшню не отвел, а поставил у себя во дворе.
Когда начал крепчать ветер, выбежал из избы, вскочил на коня и понесся по улицам от дома к дому, собирая народ:
— Берите вилы и все на тока. Как бы крыши не сорвало!
Но люди не успели. Тока были уже разворочены.
Под проливным дождем, борясь со все еще сильным ветром, колхозники к утру кое-как накрыли тока более толстым слоем соломы. Течь воды сквозь крыши прекратилась, но вороха хлеба промокли.
Через несколько дней хлеб начал греться. Ракитин метался под дождем от тока к току.
Мокрый и грязный, он под вечер приехал в Локти.
В конторе, кроме Павла Туманова, никого не было. Сидя на подоконнике, Павел курил толстую самокрутку, поглядывая на улицу сквозь мокрое отекло.
— Куришь? — сердито спросил Ракитин, садясь на свое место. — Думай, как хлеб спасти…
— Я и думаю, — спокойно ответил Туманов.
— Ну, придумал? — в голосе председателя прозвучало явное раздражение.
— Нет пока.
И Ракитин вдруг понял, что сказал в горячке глупость.
Он сдержанно вздохнул, положил локти на стол и закрыл ладонями лицо.
— Где с хлебом труднее всего? — спросил Туманов.
— У Бородина. В ворох руку нельзя уж сунуть, — как-то устало ответил Ракитин.
— Ну что ж, выход у нас один, как я понимаю, Тихон Семенович.
— Какой?
— Поедем к народу, посоветуемся на месте.
— Да, да, поедем…
Туманов еще некоторое время смотрел в окно на расквашенную дождем дорогу. А когда обернулся, увидел: Ракитин, уткнув давно не бритое лицо в ладони, спал. Но, будто почувствовав на себе взгляд Туманова, тотчас встрепенулся, пробормотал: «Ай, черт…» — и принялся энергично растирать лицо.
— Так о чем же мы? Да, да, надо ехать.
— Надо-то надо, — откликнулся Павел и спросил: — Ты сколько суток не спал?
Ракитин не ответил, поднялся и пошел к выходу. Когда сели в ходок, проговорил, передавая ему вожжи:
— Ты правь, а я того… Вздремну пока в самом деле…
— Может, заедем домой к тебе? Хоть в сухое переоденешься?
Но Ракитин опять не ответил. Он, казалось, не расслышал вопроса, завернулся плотнее в дождевик и закрыл глаза.
Однако спать ему уже не хотелось. Всю дорогу, до самого тока, отворачивая лицо от ветра, он слушал, как дождь глухо стучит по одеревенелому, набрякшему плащу. Было такое чувство, точно он тяжко провинился перед Павлом Тумановым, перед Артюхиным, перед всеми колхозниками, будто проклятый ураган разразился по его, Ракитина, недосмотру.
Потом он стал думать, что же скажет сейчас колхозникам. Вода сквозь крыши токов уже не течет, но хлеб под крышами сырой, через несколько дней сгорит, погибнет, если не просушить его. А как? Сушилка всего одна. А надо, по меньшей мере, пять. Хоть развози зерно по домам колхозников да проси: высушите на печке…
Смешно ли, горько ли, а придется на печках сушить, если не посоветуют сейчас колхозники что нибудь более подходящее.
2
На току монотонно гудела сушилка, торопливо постукивали веялки. Больше двадцати женщин, в основном доярки и телятницы во главе с Евдокией Веселовой, молча перелопачивали мокрое, тяжелое, как песок, зерно.
Работа шла вроде бы обычным порядком. И все-таки Ракитин, как и вчера, как и позавчера, снова отметил про себя: чего-то не хватает в привычном для уха шуме работающего тока, отсутствует какая-то деталь, очень важная, может быть, даже самая важная, без которой труд превращается в тягость. Но что за деталь — никак не мог догадаться, может быть, потому, что мысль об этом мелькала в голове и тотчас же пропадала, терялась среди других, более важных и тревожных.
Григорий Бородин, густо заросший щетиной цвета запыленной ржаной соломы, подошел к Туманову и Ракитину.
— Докладывай, — промолвил председатель, снимая негнущийся плащ.
— Чего докладывать? Труба! — махнул рукой Бородин. — Сушилка едва один процент влажности сбрасывает. А их, процентов таких, надо сгонять больше десяти.
— Что же делать? — спросил Туманов.
— Вам видней с горы. Вы — начальство.
Ракитин будто не понял усмешки Бородина, неторопливо очищая грязь с сапога, проговорил:
— Собери-ка, Григорий Петрович, всех людей сюда вот, в одну кучу.
— Собрание, что ли?
— Вроде того.
Бородин нехотя пошел по току. Одна за другой умолкали веялки.
Колхозники молча подходили к Туманову и Ракитину, тихо здоровались, усаживались на перевернутые деревянные ящики, на весы, а то и просто на теплые вороха пшеницы. Надсадно, с хрипотцой, продолжала гудеть сушилка. Но одна она не могла уже заглушить тоскливый и нудный шорох дождя над крышей.
Когда собрались все, Ракитин проговорил:
— Давайте обсудим, товарищи, как нам быть, как хлеб спасать…
Неожиданно где-то в задних рядах пронзительно взвизгнул девичий голос.
— Тише ты, балаболка.
— Не я, Евдокия Спиридоновна. Колька мокрого зерна за шиворот… — шепотом зачастила пискнувшая девчонка и замолкла на полуслове.
А Ракитин вдруг улыбнулся. Улыбнулся первый раз за много дней. Наконец он понял, какой «детали» не хватало на току во время работы. Не хватало обычного смеха, шуток, подчас грубоватых, как вот эта, когда какой-то парень из озорства насыпал девчонке горсть зерна за воротник, не слышалось во время работы человеческих голосов. И хоть открытие, сделанное Ракитиным, было не бог весть какой важности и уж никак не могло спасти горевший хлеб, ему стало легко, будто добрая половина трудной задачи решена.
Все еще продолжая улыбаться, Ракитин проговорил:
— За этим и приехали к вам. Посоветуйте… Тут кое-кто говорит, что вам, мол, начальству, с горы виднее… А мы смотрели-смотрели и, стыдно признаваться, ничего не увидели. А признаваться все-таки приходится. Гибнет зерно, пропадает наш труд. Давайте вместе думать, как спасать его. Ночей не спали, потом обливались — и вот он, хлеб, на току. И горит. Если не придумаем, на трудодни мало получим.
— Не страшно, — донесся сбоку насмешливый голос Бородина. — Локтинские колхозники к тому издавна привыкшие.
И вдруг взорвалось, закрутилось. Разом обвалилась мертвая тишина.
— Тебе не страшно… Тебе что? Сиди да приемник крути…
— С прошлых лет небось в сусеках…
— У него жена под приемник пляшет, а то бы не крутил. Надысь захожу, а у них пол аж прогнулся…
— Там целыми ночами хороводы. Из магазина всю водку вытаскали…
— А ты молчи, язык длинен…
— Колхозники!..
— Бабы, а ведь зерно…
— Как хлеб спасешь? Дожжище….
— Тихо, дайте человеку сказать…
— Говори, Тихон Семенович!
Почти вес колхозники стояли теперь вокруг толпой. Григорий Бородин оказался позади всех. Он прислонился к веялке и зачем-то тер рукавом деревянную ручку.
— Я все сказал, — промолвил Ракитин, когда шум немного утих. — Посоветуйте вы, как спасти хлеб. Еще день-два, зерно прорастет, тогда все пропало.
На току установилась такая тишина, будто здесь никого и не было. И каждый услышал, как шумит по соломенной крыше дождь да устало, видимо, из последних сил, вздыхает сушилка.
— Что же молчите, колхозники? Ваше добро пропадает, — заговорил Павел Туманов. — За что же работали?
— Наработали! — перебил его Федот Артюхин. — Всегда так: то засуха, то дождь гноит…
— Сушить зерно надо, ясно. А нашей сушилке тут до покрова работы…
— А то и дольше. Тут тыщи пудов.
— Знамо, тыщи. Кабы мешок-два — на печи бы высушили…
— Весь колхозный хлеб на печи не пересушишь.
— Как не пересушишь? Колхозники!
Евдокия Веселова пробилась через толпу и остановилась, поправляя сбившийся платок.
— Это как же? — крикнула она, задыхаясь. — Гибнет хлеб, верно. А мы что? В прошлом году Федот Артюхин картошку опоздал копать, в такой вот дождь на огороде ковырялся, а потом на печи сушил. И высушил. Правильно я говорю, Федот?
— В аккурат. Только печь легонечко топи, чтоб не того… И возни опять же много, но оно и то сказать… — пустился было в объяснения Федот, но Евдокия перебила его:
— И повозимся. Наш хлеб ведь…
— Хлеб не картошка. Тут, сказано, тыщи пудов…
— А печей в деревне сколько? — не сдавалась Веселова. — А за день сколько насушить можно? Да за ночь? А что же больше делать-то нам?
Снова установилась на току тишина, и снова она взорвалась, когда Григорий Бородин, ухмыльнувшись, проговорил:
— Организованным порядком хлеб растаскивать? Так оказать, с ведома председателя? Получишь потом с вас… Возьмете мешок, принесете в сумочке: усохло, мол…
— Растаскивать?.. — перекрыл вдруг многоголосый говор визгливый тенорок, и на перевернутый ящик вскочил долговязый Федот Артюхин. Он сдернул с головы шапчонку и рубанул ею воздух. — Растаскивать, якорь тебя дери?! Не первый десяток лет я в колхозе и все слышу от тебя: жулики, растаскиваете колхоз…
— Для него все люди — воры…
— Бородин, если какой день не обольет грязью человека, спать спокойно не будет…
— Ишь защитник колхозного нашелся.
— Вот я и говорю, — Артюхин ткнул кулаком в сторону Ракитина и Туманова, — люди, говорю, пришли к нам от чистого сердца: помогите в беде… Правильно пришли, по-честному… И Евдокия Веселова правильно тут речь свою высказала. Это, конечно, стыдно нам перед трудящим народом будет: эвон, скажут, локтинские хтеб на печах сушат. А что делать, ты скажи, Бородин? Может, придумаешь, как лучше да скорее высушить хлебушек? Или кто другой скажет? — повернулся Федот к колхозникам. — Ведь я тоже за сушилку и разную прочую механизацию…
Артюхин замолчал, постоял на ящике, держа правую руку на весу, подумал и закончил тихо и довольно неожиданно:
— Но сейчас-то… Э, да что…
Махнул рукой, соскочил с ящика и пошел прочь. Но на полдороге обернулся и подбежал к Бородину, точно намереваясь схватить его за шиворот.
— А ты: «Не дам, усохнет…» Колхозник жулик, мол, один я тут честный…
— Снаружи чист, а вот в нутро заглянуть бы… — зло бросила Веселова.
— Не доверяет колхознику, словно и не мы тут хозяева…
— Правильно, мужики! А я говорю — мы тут хозяева! — опять замотал обеими руками Федот Артюхин. — Только никудышные. Ну, да какие ни не есть, может, лучше будем, бог даст… А только хозяин сам себя не обкрадывает…
— Правильно, Федот!..
— Верна-а!..
— Чего там митинг держать! Давай, бабы, домой, печи затоплять…
— По два мешка на брата, записывай фамилий, коли боишься…
— Чего по два — по четыре для началу…
— Пусть Никита взвешивает, влажность записывает, а потом высчитает, сколько надо сбрасывать на усушку…
— Правильно, а то — жулики…
Ракитин слушал колхозников и чуть улыбался. Теперь, когда они сами заговорили о сушке хлеба на печах, это дело казалось ему при сложившихся обстоятельствах самым естественным. Но он все же тихонько спросил Туманова, подойдя поближе к нему:
— Твое мнение, Павел, как?
— Да ведь иного выхода нет…
— Рискнем, ладно… Это и нам с тобой испытание.
Через час по всему селу дымили печи. На машинах, на подводах, на ручных тележках развозили по деревне мешки с тяжелой, мокрой пшеницей. Бородин, нахлобучив до самых глаз старую кожаную фуражку, угрюмо записывал огрызком карандаша в обтрепанную тетрадь фамилии колхозников, количество мешков и вес зерна. Глядя куда-то в сторону, давал каждому расписываться за полученный на просушку хлеб.
Ракитин и Туманов помогали колховникам насыпать мешки, носили их на подводы.
Кучи сырого зерна на току заметно убывали. Григорий Бородин все так же молча совал очередному колхознику обтрепанную тетрадь. Когда тот неторопливо расписывался, Григорий совал тетрадь следующему, не глядя ему в лицо.
На току осталось всего несколько центнеров зерна. Ракитин подошел к Бородину и Никите.
— Пожалуй, хватит, а с остальным хлебом и сушилка справится, — сказал он, показывая на небольшой ворох пшеницы. — За ночь успеете пропустить зерно несколько раз…
В это время к току подъехала еще одна подвода, и под крышу нырнула Поленька.
Услышав последние слова председателя, она в нерешительности остановилась.
— Уже все? Мама просила еще мешка два, — несмело проговорила Поленька.
— Вам всегда больше всех надо, — недовольно буркнул Бородин.
— Ладно, насыпьте ей еще, — распорядился Ракитин.
Когда мешки погрузили на подводу, Бородин крикнул Поленьке:
— Иди распишись, да смотри, сколько тут мешков. Больше всех взяли…
Поленька глянула на цифру шесть, проговорила: «Вижу, вижу», — и расписалась.
Когда Поленька уехала, Бородин сказал Ракитину:
— Я предупреждал… Эти… Веселовы, может, и вернут, а за других не ручаюсь.
— За всех не ручаешься, кроме Веселовых?
— За некоторых, — уклончиво ответил Бородин.
Ракитин пристально посмотрел на его заросшее грязноватой щетиной лицо, на спутанный, тоже грязноватый, точно вывалянный в грязи, клок волос, торчавший из-под кожаной фуражки, но ничего не сказал, вышел из-под крыши вместе с Тумановым и счетоводом.
Бородин несколько минут смотрел на то место, где только что стоял председатель. Потом вытащил из кармана тетрадь, положил ее на кожух веялки, осторожно исправил шестерку против фамилии Веселовой на ноль, а впереди поставил единицу. Нахмурив брови, долго считал, жевал губами, вписывал цифры в графу, обозначающую вес взятого зерна.
Ракитин и Туманов молча ехали обратно. Дождь то немного ослабевал, то хлестал с новой силой. Воздух был насквозь пропитан влагой, и Ракитину с Тумановым казалось, что они дышат водяной пылью.
От задних колес ходка отлетали комья грязи, ударяли им в спины, падали на ноги, даже на круп лошади.
— Давай шагом, грязью залепит, — нехотя уронил Ракитин, кивая на небо.
И опять они ехали молча. Тяжелые серые тучи опускались все ниже и ниже.
— Черт, такое чувство, будто опустится сейчас все это на землю и раздавит нас, — угрюмо промолвил Ракитин, кивая на небо.
Навстречу шагал какой-то человек. Он посторонился, пропуская ходок, и Ракитин с Тумановым узнали Петра Бородина.
— Здравствуй, Петя! Куда, в бригаду? — спросил Павел.
Петр глянул на них, и, запахнув поплотнее дождевик, пошел дальше, так и не ответив на приветствие. Туманов посмотрел ему вслед и проговорил:
— Вот кого чтоб не раздавило. Не тучами, понятно… Парень уже от людей бежит.
Ракитин сидел, покачиваясь, закрыв глаза. Только возле самой деревни сказал:
— Да, Павел… Надо спасать человека… А для начала — высечь следовало бы…
Туманов непонимающе посмотрел на председателя. Ракитин пояснил:
— Проверял я недавно, как под зябь пашут. Бородин огромный массив испортил, сантиметров на двенадцать-пятнадцать всковырял…
— Вон что! — присвистнул Туманов. — Надо его, стервеца… Ты говорил с ним?
— Нет еще. Тут дожди хлынули, этот проклятый ураган — не до того… Ну, приехали наконец. Теперь я в самом деле пойду усну немного.
Ракитин слез с ходка и пошел к своему дому.
3
Через неделю дожди кончились и наступили теплые грустные дни с тихим листопадом, с крепкими утренними заморозками.
Петр Бородин давно уже не ночевал дома, хотя от тракторного вагончика до деревни было минут двадцать ходьбы. Здесь, в поле, в жарко натопленном, пропахшем керосином вагончике он не чувствовал так остро той тяжести, которую испытывал дома…
С утра до вечера тянулись на юг по чисто вымытому небу длинные караваны журавлей, пониже тяжело и неторопливо проплывали цепочки крикливых гусей, проносились над самой землей хлопотливые утиные стаи. Иногда перелетных птиц было так много, что все небо казалось прошитым частыми черными стежками. Петр провожал их взглядом, и в душе у него шевелилась зависть. После долгих-долгих дней пути они опустятся где захотят. А вот куда летит он, Петр, неизвестно. Что он куда то летит, к чему-то стремится, в этом Петр был уверен. Во всяком случае, до недавних событий…
Начались они на другой же день после прекращения дождей. Вдоволь насидевшись дома в непогожие вечера в одной комнате с угрюмым, мрачным, как осеннее небо, отцом, Петр хотел пойти в клуб, но Григорий проскочил вперед и встал у дверей:
— Не ходи! Не пущу к ним!
У Петра испуганно заколотилось сердце от мелькнувшей неожиданно мысли: «Взять за плечи, да и убрать с дороги…» Секунду поколебавшись, он все же шагнул вперед и… отодвинул отца в сторону.
— Пойду! Не удержишь!
И шагнул за порог.
Случилось это так неожиданно, что Григорий сначала даже не понял толком, что же произошло. Но в то же мгновение вихрем пронеслось в голове: «И не удержу, верно, если… не сумею сейчас вот, в эту минуту, остановить сына. А как?..»
Петр вышел уже из сеней. Вот он спускается с крыльца… Скрип ступенек больно отдается в мозгу Григория.
— Петька-а!
Григорий ударил ладонью в оконную раму, замазанную уже Анисьей на зиму. Окно распахнулось, посыпылась не засохшая еще замазка.
— Петька, постой!! Одно слово…
— Ну, чего тебе? — держась за щеколду приоткрытой калитки, спросил Петр, когда отец выскочил на улицу.
— Одно слово… сказать тебе. Только одно, — беспрерывно повторял Григорий.
— Говори.
— Пойдем… на сеновал, что ли… Побеседуем…
Помедлив, Петр отправился на сеновал, отгороженный от скотины осиновыми жердями.
Сбоку в темноте равнодушно горели окна дома, бросая сюда, на сеновал, бледноватые отблески. Было тепло. Еле ощутимый ветерок мешал запахи лугового разнотравья и уносил за сеновал, к озеру.
Отец, тяжело дыша, перелез через изгородь.
— Говори, — снова произнес Петр.
— Сейчас, сейчас… Это даже хорошо, что мы одни тут, что… не слышит нас никто. Я ведь давно хотел рассказать тебе все, открыться вроде… Да не хотелось тебя шибко тревожить. А, видать, не обойтись. Сам ты меня заставляешь…
Григорий замолчал.
— Договаривай уж, не мытарь душу. И так тошно!
— Тошно… А мне, думаешь… — проворчал отец. — Я-то… — Потом он опять долго молчал и почему-то тяжело, с присвистом, дышал.
Петр лег на спину, заложил под голову руки и стал смотреть в небо.
— Ты, батя, как я тебя помню, всегда такой вот… Какой-то… Неужели и раньше, в молодости такой был? — задумчиво спросил Петр.
— Раньше? — переспросил Григорий. — Вот я тебе и хочу рассказать, что было раньше. А вот что было, Петька… — сказал наконец Григорий, как-то странно встряхивая головой. — С Дуняшкой-то Веселовой я… как вот с тобой сейчас, леживал на сеновалах…
Бледноватые звезды все, как одна, качнулись с места, поплыли куда-то медленно-медленно… Потом так же остановились все враз. И поплыли в другую сторону, но уже быстрее…
— Ну и что? — непонимающе спросил он у отца. — Ты зачем мне… об этом? Как у тебя язык… — Голос его рвался.
— А вот зачем. Думаешь, зря я отговариваю тебя жениться на ее дочке? На стенку лезу! — заговорил Григорий и опять начал встряхивать головой, клевать что-то невидимое в воздухе. — Думаешь, зря… так… так отворачиваю тебя от нее? Пойми: не отговаривал бы, кабы точно знал, что не сестра тебе дочка Веселовой…
— Врешь! Вре-ешь ты-ы!
Петр вскочил, бросился прочь с сеновала. У изгородины остановился и снова крикнул:
— Врешь!
Однако голоса своего уже не услышал. Да и не было голоса: сорвал его Петр первым криком.
— Тогда спроси у самой… Евдокии, — проговорил Григорий, запнувшись от неуверенности: то ли сказал?!
— И спрошу… И спрошу!!! — бросил Петр и, не думая, что делает, побежал к Веселовым. Через несколько минут он, сдернув со слабенького крючка дверь, застыл на пороге.
Поленька, заплаканная, лежала в постели. Мать сидела рядом с кроватью на стуле и, поглаживая рукой голову Поленьки, печально смотрела на дочь. При появлении Петра Евдокич вздрогнула, но спросила спокойно:
— Да ты что? Влетел как сумасшедший…
— Сумасшедший?! Сумасшедший?! — дважды воскликнул Петр и устало прислонился к косяку. — Вы с отцом сведете. Вы сведете!..
— Петенька, да я-то тут при чем? — непонимающе спросила она.
Петр дышал тяжело и часто, ему не хватало воздуха. И он сказал:
— Тут сойдешь с ума! Вон она… — Петр глотнул слюну, показал на Поленьку. — Отец говорит, что она…
Но страшное слово застряло в горле, и он не мог найти в себе сил вытолкнуть его. Вместо него он прокричал другое:
— Что у вас было с отцом?! Что? Раньше?
Евдокия, бледнея, медленно поднялась со стула, выпрямилась. Но заговорила все-таки спокойно, не спеша:
— Даже если бы что и было — молод ты, Петенька, вопросы такие задавать мне…
— Ага, молод… Значит, молод я? Все… понятно!..
— Ничего тебе не понятно, дурачок.
Но Петр только махнул рукой и исчез, прыгнул в темноту, оставив дверь открытой.
Через пятнадцать минут он был в просторном вагончике. Там все давно спали. Только один из трактористов, приподнявшись на деревянных нарах, проворчал недовольно:
— Кого это дьявол носит? Завтра чуть свет на смену заступать, а тут уснуть не дают…
И, уронив голову, тотчас захрапел.
Петр развернул постель, но не лег. Присев на нары, долго смотрел в окошечко на ползущий вдалеке по полю огонек трактора. Огонек исчез, а спустя несколько минут поплыл обратно…
Сейчас, немножко успокоившись, он думал: «Ведь врет, врет, конечно, отец, что Поленька…» Но при одном воспоминании о страшных словах отца его мутило, голова гудела, становилась горячей, раскалывалась от боли… «Врет, конечно, врет… А почему же побледнела Евдокия Веселова? Ну и черт с вами… Не пойду больше домой… вообще в деревню не пойду… До снегов проживу в вагончике, потом на усадьбу МТС уеду…»
Когда засинели отпотевшие за ночь окна тракторного вагончика, Петр поднялся. И хотя было еще очень рано, пошел в поле, где вчера ползал взад и вперед огонек электрической фары, сменить напарника.
В тот же день поздно вечером в бригаду приехал Ракитин, хмуро глянул на Петра. Сердце сразу упало от нехорошего предчувствия.
— Пашете? — спросил Ракитин, усаживаясь на скрипучий некрашеный табурет. — А где бригадир?
— Разинкин в МТС уехал, — ответил кто-то из трактористов.
— Так, так… — Ракитин побарабанил пальцами по крышке радиостанции «Урожай». И вдруг, без всякого предисловия, заявил: — Ты, Бородин, бракодел. Знаешь?
От неожиданности Петр окончательно растерялся и молчал. Но Ракитин не стал дожидаться ответа, снова спросил:
— Расскажи-ка, братец, почему мелко пашешь?
— Как мелко? А-а… Трактор у меня… забарахлил однажды что-то, не потянул… Пришлось немного приподнять лемеха…
— Мельче пашешь — больше заработаешь, — донесся из угла насмешливый голос. — Была бы мягкая пахота, а глубина необязательна.
— На кой черт колхозу мягкая пахота? Нам качество надо! — в горячке выпалил председатель, но продолжал уже тише и спокойней: — Мы вот говорим все — колхоз надо поднимать. Надо, факт. Но как же так, дорогие мои товарищи? Уродит в следующем году на такой пахоте — шиш!
— Я и говорю: за мягкой пахотой Бородин погнался. Молодой, да ранний, под стать отцу, — прогудел из угла все тот же голос.
— Отец тут ни при чем, понятно! — с неожиданной злостью заговорил Петр. — И мягкая пахота тоже. Подумаешь, «погнался»… Скажите в МТС, пусть не оплачивают мне за тот участок.
— Колхозу от того не легче. Брак перепахивать надо, — проговорил Ракитин.
— Ну и перепашу. За свой счет перепашу, — выдавил из себя Петр, неуклюже повернулся и выскочил наружу.
Прислонившись к дощатой стенке, долго слушал доносящиеся из вагончика приглушенные голоса, хотя разобрать слов не мог.
Через некоторое время скрипнула дверь, и Петр догадался, что Ракитин уезжает. Но возвращаться в вагончик было стыдно. Петр отошел от стенки, застегнул на все пуговицы пиджак и зашагал прямо по пахоте на дрожащие в темноте огни деревни.
Он невесело думал о Рькитине, об отце. Что отцу надо, чего не хватает? Будь его власть, солнце бы в карман положил, светил бы только себе, да и то лишь по праздникам…
Петр растерянно оглянулся вокруг. Он стоял уже посреди деревенской улицы, недалеко от дома Насти Тимофеевой. В темноте отчетливо белели наличники ее окон, а Настя словно стерегла его у калитки.
— Заворачивай смелее, что ж ты? — тихонько окликнула его Тимофеева.
И Петр покорно подошел, сел рядом на лавочку.
— Смотрю, проходит кто-то мимо, да вроде вспомнил что, оглядывается. Дай, думаю, окликну, — проговорила Настя.
Воздух уже похолодал. Настя была в новенькой плюшевой жакетке, не сходившейся на высокой груди, в легком платочке, из-под которого выбивались тяжелые рыжеватые волосы. От нее пахло духами «Первое мая».
Такие же духи нынче весной Петр покупал Поленьке перед праздником.
— Семечек хочешь? — спросила Настя. — Нет? Ну ладно, сама пощелкаю. А ты сиди да смотри!
Настя говорила громко, через каждые два-три слова рассыпая, как горох, переливчатый смех. Петр невольно думал, что кто-нибудь услышит их, и начнутся по селу пересуды. Но с места не тронулся, только сказал, неожиданно для себя:
— А мне сегодня председатель колхоза голову намылил за мелкую пахоту. — И тут же подумал: «Нашел с кем поделиться. Что это я?»
— Ты и слюни распустил. Ха-ха!
Петр промолчал, досадливо поморщился.
— А ты плюнь. Мне не один Ракитин мылит голову, — затараторила Настя. — Каждый день с Веселовой на ферме объявляются, все насчет повышения надоев интересуются: что да как, да почему коровы мало молока дают. Я говорю, кормить надо лучше, а они с рационами, с распорядком дня. Прямо хоть глаза закрой да беги.
— Я пойду, пожалуй, — поднялся Петр.
Настя тоже встала, подошла к калитке, взялась за щеколду. Электрический свет из окон дома, стоящего на другой стороне улицы, падал через дорогу, освещал низенький заборчик, сизоватой изморозью отливал на Настиной плюшевой жакетке. Настя обернулась, шагнула к нему и проговорила:
— А то зайди. Чаем напою с вареньем. — Вслед за тем она рассмеялась, и Петр услышал знакомое: — Или боишься?
Петр искоса посмотрел на нее: в полутьме дерзко и зовуще поблескивали влажные Настины глаза, чуть вздымались ее большие круглые груди, туго обтянутые ситцевым платьем. Из-под распахнутой жакетки исходил дурманящий запах чистого женского тела.
— Не боюсь я… И чаю не хочу…
Неожиданно Настя положила руки ему на плечи, горячо зашептала в ухо:
— Пойдем, Петенька, миленький. Люблю я тебя, и все, хоть убей…
Петр хотел освободиться от прильнувшей к нему Насти… И не мог. Бросив взгляд вдоль улипы, он увидел: где-то — далеко ли, близко ли — ярко горели окна, но вдруг стали гаснуть одно за другим. А в ушах звенели слова Евдокии Веселовой: «Молод ты, Петенька, вопросы такие задавать мне…»
… Было еще темно, когда Петр уходил от Насти. Накинув на полные плечи вязаный шерстяной платок, она проводила его в сенцы, долго возилась там с запором, пытаясь открыть дверь. Открыв, заговорила громким шепотом:
— Петенька, может, и вправду судьба это… Поженимся, Петенька, не пожалеешь…
— Уйди с дороги, — тихо произнес Петр, вышел на низенькое, без перил, крыльцо, с силой захлопнул за собой дверь…
4
Виктор Туманов, засучив рукава, копался в старом радиоприемнике. Увидев Петра, он не удивился, отодвинул от себя приемник и потянулся за папиросами.
В это время из другой комнаты вышел отец Виктора. Он был в черной косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком.
— Здорово, курцы-молодцы, — весело сказал он. — Кто угостит папироской?
— Я не курю, — сказал Петр.
— И правильно делаешь, — кивнул головой Павел Туманов, беря протянутую сыном папиросу. — Дольше проживешь. А Витька, видишь ли, толкует мне: курево от шести болезней предохраняет. А от каких — не говорит. Потому, что сам не знает, я думаю. А? Правильно?
И ушел обратно, со смехом разворошив волосы на голове сына.
Пригладив их пятерней, Виктор раскатал рукава и направился к выходу, молча указав на дверь и Петру.
Большое, разбухшее солнце висело на краю мутноватого неба. Сверху струился холодок. Петр подумал, что ночью, наверное, будет крепкий заморозок.
Остановились под облетевшими почти тополями. Виктор прислонился к стволу, выпустил изо рта целое облако дыма и спросил насмешливо и сердито:
— Ну?
— Легко тебе жить, Витька, с таким отцом, — негромко сказал Петр.
Виктор, в упор смотря на Бородина, попросил:
— Ты скажи что-нибудь поновее.
Петр с тоской подумал, что зря пришел к Виктору, ничего он ему не скажет, не посоветует. «Я что, зла тебе желаю?» — вспомнил вдруг Петр Витькины слова, сказанные им когда-то, но подумал, что сказал их вовсе не Виктор, а кто-то другой. К этому другому и шел Петр, но его уже здесь нет.
— Ладно, я пойду, — угрюмо уронил Петр. — Я ведь так завернул.
— Нет, погоди уж. — Виктор чуть помедлил, будто пытаясь что-то сообразить. — Рассказывай все по порядку.
— Нечего мне рассказывать…
— То есть как нечего? Ну, хотя бы вот о разговоре с Ракитиным, о Насте Тимофеевой рассказывай…
От неожиданности Петр опустил руки. Хотел что-то сказать, но язык не повиновался. А в следующее мгновение его охватил непонятный страх, и он почувствовал, как дрожат пальцы. Петр посмотрел на них, сжал кулаки и спрятал глубоко в карманы.
Как ни странно, но это немного успокоило его. Он попытался улыбнуться. Улыбка вышла вялой, виноватой. Тихо спросил:
— Ты откуда знаешь?
— Насчет мелкой пахоты председатель в конторе рассказывал. Понял? Ну а Настя… Дров я недавно привез ей машину. Она выкидывает их из кузова и поет: «Мне в деревне мил один только Петька Бородин, а у Петра Бородина на уме лишь я одна…»
— Ничего, складно, — уронил Петр.
— Я спрашиваю: «Чего горло дерешь? У Петьки на уме другая». А она: «Теперь у нас с Петькой любовь началась. Крутая, как кипяток». Ну, и… в общем, доложила, как ты шел мимо, да как зашел, да как на рассвете вышел…
— Врешь ты все, — проговорил Петр, хотя знал, что Виктор говорит правду.
— Я тоже сказал ей: врешь! А она: «Спроси у Петьки…» Вот я и спрашиваю. Врет, значит?
Петр махнул рукой, опустился на густо усыпанную желтыми прозрачными листьями землю, прислонился плечом к стволу тополя. Виктор докурил папиросу, достал другую.
— Так как же? Ходил?
— Ходил, — тихо и покорно ответил Петр, еще посидел, поднялся, стал смотреть на темнеющее небо.
Виктор положил руку ему на плечо. Петр чуть повернул голову и увидел, что перед ним стоит теперь тот самый Виктор, единственный человек, который все понимает, к которому он шел, чтобы спросить совета. Он опустил голову и стал ждать вопросов. Начинать самому было трудно. Да и не знал, с чего начать.
Виктор спросил мягко:
— Ну скажи, зачем тебе это?
— Не знаю. Не могу объяснить. И зачем мелко пахал — не знаю. — И добавил: — А ведь я люблю работать.
Солнце давным-давно закатилось, темень бесшумно заволакивала, проглатывала дома, деревья. А немного погодя черная мгла начала вдруг рассеиваться, словно день что-то забыл на земле и возвращался обратно. Из темноты, как на проявляемой фотографии, стали неясно проступать ветви деревьев, и матовым светом заблестела чья-то новая тесовая крыша напротив. Петр понял — взошла луна.
— Советчик я плохой, Петя. Одно мне ясно… Ты говоришь вот — могу отца в узел завязать. Можешь, да не смеешь. А он завязал тебя. И давно, зарос узелок-то. Не развязать тебе его без боли никогда. Рубить надо!..
— Как?
— Так, безжалостно, изо всей силы. Первым делом — пойти к Поленьке и все рассказать ей начистоту. Особенно про Настю.
— Что ты, что ты! — испуганно воскликнул Петр, вскакивая на ноги.
— А ты как думал? — чуть повысил голос Виктор. — Я и говорю — больно будет. Да садись ты… А другого выхода нет у тебя. Если простит Поленька — твое счастье. Тогда кончится твое одиночество. Совсем кончится. Понимаешь?
Петр глубоко и шумно дышал.
— Ну а…
— Отец? Этого я, браток, и сам не знаю. Трудно тебе будет выкарабкиваться из-под отца. А без этого — вот так и будешь бродить по деревне как пришибленный.
Виктор давно уже расхаживал перед Петром взад и вперед. Остановился, прислушался к чему-то. И опять принялся ходить.
— Я думал — станешь работать, поймешь, что к чему, прояснится голова. А ты выкинул штуку… И кал додумался? Коль не в порядке трактор был, то надо бы тебе…
— Я перепахал, — быстро проговорил Петр. — Все, как надо, делал.
— Перепахал… — Виктор усмехнулся. — Это хорошо, конечно. А ты другое перепаши. Оглянись назад на все то, что наделал, и смело заезжай трактором. Да лемеха пониже опусти, чтоб глубже взять… И чисто будет на том поле, ни сорнячка. Сам посмотришь и доволен останешься…
Петр долго молчал, задумавшись. Потом провел рукой по ящику, на котором сидел. Он хотел спросить. «Тебя, — говорят, — комсомольским секретарем избрали?» Но вместо этого проговорил:
— Это ульи, что ли?
— Ульи. Отец свою пасеку завести хочет…
— Ага… Ну ладно, я пойду.
Полная луна разливала над деревней желтоватый свет. При этом свете все дома казались новыми, только что обмытыми. С них еще стекала вода и темными пятнами расплывалась поперек улицы, по которой неторопливо шагал Петр.
Было тихо, свежо, пахло сыростью, и хотелось, чтоб тишина эта никогда не кончалась.
«Перепаши…» Петр даже оглянулся назад, хотя не мог уже видеть маленький домик Тумановых. «А что, и впрямь», — подумал он и улыбнулся.
Он вернулся в вагончик и лег спать с легким чувством.
… Почему-то по вагончику вдруг тяжело стал ходить отец. Подойдя к его кровати, он поскреб по привычке всеми пальцами щеку и усмехнулся.
«Во сколько перепашка влетела?»
«Откуда я знаю… Там высчитают».
«Работничек! — проткнул отец, точно зевнул. Еще постоял и добавил: — Без отца-то с голоду подохнешь. И Поленька Веселова, сестра твоя, тоже подохнет… От горя еще, что с Настькой ты…»
Петр вскрикнул и проснулся.
За окнами стояла тихая, глубокая ночь. Легкое и светлое чувство ушло.
До самого утра Петр лежал с открытыми глазами. Лежал и думал все время одно и то же: «До чего же дошел отец, если решился на такое…»
5
Григорий Бородин за несколько дней не проронил ни слова. Если раньше он время от времени еще брился, то теперь перестал совсем, сильно оброс своей грязноватой щетиной. Вечерами, как когда-то давным-давно его отец, до темноты сидел у окна и смотрел на озеро, в одну точку.
Анисья осторожно ступала по половицам, точно боялась разбудить спящего. Наконец все-таки сказала:
— Посмотри в зеркало — на кого ты стал похож… Желтый, худющий, как мертвец…
— Мертвец, — повторил Григорий. — Верно. — И так сверкнул глазами, что Анисья не на шутку испугалась за его разум.
Бородин опять отвернулся к окну и долго смотрел на голый тополь.
Странный он был какой-то, этот тополь. Весной одевался зеленью позже всех, листья были маленькие, сморщенные. Осенью раньше других покрывался ржавчиной, первый же ветерок начисто обрывал отгнившие листья, и тополь тоскливо махал перед окнами черными ветвями. Сейчас, глядя на дерево, Григорий думал, что оно, кажется, никогда и не шумело листьями, как другие деревья. «Вот и наступает для тебя расплата… — слышался ему голос жены, хотя Анисья молчала. — За всю свою черную жизнь расплачивайся теперь, за мои слезы, за то, что Петьку сломал…» Каждое слово — раскаленный гвоздь, который вбивал кто-то ему в голову. «Почему она, его жизнь, черная? — думал Григорий. — Что он сделал людям плохого? Да ведь это они, люди, стояли все время поперек его дороги».
— Ложись спать, поздно уже, — услышал Григорий голос жены.
— А!.. — очнулся он, поднял голову. — Петька пришел домой?
— Нету его, не пришел, — со вздохом ответила жена.
Кое-как проворочавшись на постели ночь, Григорий встал, едва забрезжил рассвет. Первые его слона были:
— Петька не пришел?
— Нет…
Шагая на работу, он думал растерянно: «Ушел! Совсем ушел из дома! Все-таки отняли его у меня…»
… Колхозники свозили обратно просушенное зерно. Григорий всех направлял к весовщику. Только когда Поленька привезла шесть мешков, он, расклеив губы, уронил:
— Еще четыре везите.
— Какие четыре? Я же всего шесть брала.
— За десять расписалась! Не городи тут… К вечеру не привезете — председателю доложу. — И отвернулся.
Вечером, придя в контору, он положил на стол председателя замасленую, в желтых пятнах, тетрадку.
— Все, кто брал на просушку зерно, вернули.
— Недостача есть? — спросил Ракитин, листая тетрадку. Некоторые листы, видимо, промокли под дождем, и теперь, просушенные, шуршали и ломались. Многие записи, сделанные химическим карандашом, разобрать было трудно.
Григорий пожал плечами.
— Я не весовщик. Спроси у него.
Находившийся тут же весовщик сказал:
— На усушку мы сбрасываем, согласно расчетов счетовода… И в общем — все в порядке, вроде сходится.
— Веселовы только четыре мешка не привезли, — промолвил Бородин.
— Почему?
— Не брали, говорят.
— Что, что? — Ракитин даже привстал из-за стола. — Ты что за чушь несешь? Веселовы не вернули?!
— Я тоже думал, что вернут по-честному, — усмехнулся Григорий. — Людям веришь, а они… Разбирайтесь, в общем… — И вышел из конторы.
* * *
Еще прошел день, еще два… Вечером, приходя с работы, и утром, вставая с постели, Григорий задавал жене один и тот же вопрос:
— Петька не пришел?
— За горами, что ли, Петька? — не вытерпела Анисья. — Полторы версты до вагончика. Сходи за ним, коли уж надо…
«А что, и в самом деле придется идти, придется…» — думал с этого дня Григорий.
На току с ним по-прежнему никто не разговаривал. Когда Бородин проходил меж ворохов зерна, люди умолкали. Раньше он только усмехался бы презрительно, а теперь до зеленых искр в глазах стискивал зубы. В голове метались мысли: «Замечать не хотят даже! Будто не человек я…»
Доведенный до отчаяния своими же собственными думами, он остановился Как-то посреди тока, крикнул:
— А я плевал, плевал на всех вас!.. Понятно?!
Ошеломленные колхозники замерли, работа на миг приостановилась.
— Ты чего? — спросил весовщик, с опаской подходя к Бородину.
Не отвечая, Григорий опустился на ворох пшеницы.
— Посмотри, не надо ли Бородина в больницу отвезти? — сказал кто-то из колхозников весовщику.
— В больницу? — он вскинул голову. — Нет, у меня сын есть, сын!
Встал и пошел в деревню. Никто так и не понял, при чем здесь его сын.
На ток Григорий больше не заявлялся. Вечером он отправился на конюшню.
Когда совсем стемнело, приехал Ракитин, спрыгнул с ходка, крикнул Авдею Калугину:
— Распряги, пожалуйста, Авдей Михеич. — И, увидев подходившего Бородина, обернулся к нему: — Я на ток заезжал сейчас. Ты что там выкинул? Почему на работе после обеда не был?
— Мое место здесь, на конюшне, — угрюмо ответил Бородин.
— Ты что, в самом деле потерял разум?
— Как хочешь считай! — крикнул Бородин. И вдруг в голосе его что-то дрогнуло, и он закончил с мольбой: — Христом-богом молю, оставь ты меня здесь. И даже Авдея можешь забрать. Может, отойду тут… с конями.
— Ну что ж, оставайся, — кивнул головой Ракитин которого поразила не столько сама просьба, сколько жалобный, умоляющий голос Бородина. Он вспомнил почему-то Петра, встретившегося недавно ему с Тумановым, и подумал тревожно: «Тоже от людей шарахаемся… Надо поговорить завтра с парнем по душам…» И продолжал, внимательно глядя в лицо Григорию: — А насчет того, что Веселовы не все зерно вернули, — врешь ты, Бородин.
Григорий кисло улыбнулся.
— При тебе ведь Полька за десять мешков расписывалась?
— За десять ли? Тетрадь промокла, записи слиплись, не разберешь теперь.
— Я-то помню, за сколько… А вернули шесть, весовщик принимал… В общем, мое дело — доложить вам… по-честному, как положено, а там… Хочешь — покрывай воров, хочешь…
Ракитин побледнел от гнева, по сдержался. Спросил ровным, спокойным голосом:
— А почему же тетрадь промокла?
— Дождь был.
— Дождь? И ты не уберег тетрадку? Ну ладно, Григорий. Запомни одно: Евдокию мы тебе марать не дадим. Тетрадку пошлем в районную прокуратуру, на экспертизу. Там установят, кто за сколько расписывался. Вот потом и спросим с тебя за клевету. Да так спросим, что… Чего бледнеешь?
— Ну и… посылай. Кто бледнеет? Посылай…
Хоть Бородин и кричал громко, сердито, Ракитин чувствовал в его голосе неуверенные, испуганные нотки и незаметно для Григория облегченно улыбнулся. Ничего больше не говоря, он ушел с конюшни.
Бородин сел в ходок и, свесив ноги, стал смотреть, как старик Авдей Калугин распрягает коня. Смотрел внимательно, будто никогда не видел раньше, как это делается. Потом спрыгнул на землю и зашагал в поле, к тракторному вагончику.
Петр ужинал на улице при свете фонаря, который стоял на грубовато сколоченном столе. На шум шагов он не обернулся, полагая, что это возвращается со смены кто-то из трактористов.
Григорий остановился шагах в пяти, под березкой, опираясь рукой о тонкий, качнувшийся стволик.
— Это я, Петя, — тихо промолвил он, видя, что сын не оборачивается.
Петр вскочил, зацепился за край стола, едва не опрокинул фонарь.
— Ты!.. Тебе чего?! — воскликнул он.
Они стояли молча друг против друга.
— Пойдем, что ли, — попросил Григорий.
И Петр удивился, отец не требует, как бывало всегда, а просит, голос его не жесткий и властный, а какой-то вялый, слезный.
— Не пойду, — ответил Петр.
Именно такого ответа страшился Григорий, хотя и знал, чувствовал, что ответит сын только так. Он крепче ухватился за березку. Потом подошел и сел на скамейку спиной к столу, спросил:
— Обиделся, что ли, когда я… о дочке Веселовой сказал… Так ведь неправда это, сам должен понимать… Не было у меня больше силы отвернуть тебя от нее…
Теперь качнулся Петр, затем шагнул к отцу, воскликнул:
— Так что же ты, а? Ведь все ты сломал во мне, перековеркал!..
— Я тебе давно говорил, что они, Веселовы, тоже жизнь мне сломали…
Отец сидел, опираясь локтями о колени, низко опустив голову. Согнутая спина его отбрасывала далеко на землю огромную уродливую тень. Петр молча переставил фонарь на середину стола. Может, он сделал это машинально, чтоб не опрокинуть фонарь неосторожным движением, а может, затем, чтоб укоротилась, исчезла с земли уродливая отцова тень.
— Сломали? — переспросил Петр. — Как это они?..
— Разве ты поймешь?
Керосиновый фонарь потрескивал, временами попыхивал язычками пламени, и тогда полуосвещенная березка, стоящий под ней оцинкованный бачок с водой, бричка с пустыми бочками из под горючего вздрагивали, делали как бы скачок вперед и снова отпрыгивали на прежнее место.
— Значит, не пойдешь домой? — тоскливо спросил Григорий.
— Не пойду…
Григорий помолчал, потом медленно повернул к сыну голову. В неярком свете фонаря тоненько блеснуло что-то в усах Григория, может быть, запутавшаяся в волосах слезинка, и он почти шепотом проговорил:
— Значит, и ты… отворачиваешься от меня?
И вдруг упал на колени, пополз к сыну, протягивая руки:
— Петенька-а, сынок… Ничего, ничего у меня не осталось, кроме тебя… Все, все отобрали… Пожалей отца, Петенька… Пожалей, ради бога…
Он полз к сыну, а Петр пятился от него, не понимая, что он бормочет.
— Не подходи! — вскрикнул невольно Петр.
И этот крик, как удар молнии, прорезал от края до края всю жизнь Григория: стоит у дверей Дуняшка, аон, Григорий, так же вот, опустившись на колени, с мельбой протягивает к ней руки…
— Не подходи!..
… Ничего ведь не изменилось за три десятка лет!.. Тогда он так же стоял на коленях, протягивая руки к Дуняшке. Она хлестнула ему в лицо: «Не подходи!» А сейчас сын, родной сын…
Григорий, пошатываясь, встал на ноги, вытер рукавом лицо, сделал два шага в сторону и резко обернулся:
— Проклинаю тебя!.. Проклина-а-аю!
В холодное ночное небо взметнулось истошное:
— А-а-аю!..
* * *
Не помнил Григорий, как приплелся домой, не снимая сапог, упал на кровать лицом вниз. Через некоторое время ощутил, что подушка стала мокрой. Он сбросил ее на пол.
Из кухни тихонько вошла Анисья, подняла подушку, постояла возле мужа, вздохнула.
— Разденься хоть, — осторожно проговорила она. — Давай помогу сапоги снять…
Он не ответил. Так и пролежал всю ночь. К утру только голову повернул к стене.
Утром Анисья опять вошла в комнату, начала мокрой тряпкой протирать пол. Ноги Григория в грязных сапогах торчали с кровати. Анисья остерегалась, что он вдруг ударит ее ногой в лицо, и небольшой кусочек пола возле кровати остался непротертым.
… А к вечеру Григорию вдруг стало казаться, что, если еще раз пойти к Петру и попросить, он. может, и вернется. С нетерпением стал ждать Григорий темноты… «Только бы Анисья не увидела… не догадалась, куда я пошел…» — думал он.
Выбрав удобный момент, когда Анисья ушла убирать на ночь скотину, Бородин выскользнул из дома…
Подходя к тракторному вагончику, Григорий рассчитывал увидеть Петра, как и вчера, одиноко ужинающим. Однако у вагончика никого не было. К березке, за которую он вчера держался, была привязана запряженная в ходок лошадь. «Председательская!» — обожгло Бородина, и он невольно остановился. В это время из вагончика, нагнув голову, вышел Ракитин. Григорий отступил подальше в темноту…
* * *
Петр допоздна пахал зябь. Было очень тепло, и в камыше протекающей поблизости речушки кричала дикая утка, отставшая от своей стаи.
Он остановил трактор. Прицепщик тотчас же ушел к вагончику, а Петр, потушив фары, долго еще сидел в кабинке в полной темноте, прислушиваясь к тоскливому крику утки и слыша за ним вчерашнее отцовское «…а-а-аю!».
Подходя к тракторному вагончику, он увидел Ракитина. Председатель стоял у дверей, из которых бледной полосой вырывался наружу свет керосинового фонаря, силясь хоть немного рассеять густую темень. На Ракитине были стоптанные кирзовые сапоги, легкая меховая куртка, старая суконная фуражка.
Петр с досадой подумал: «Сейчас снова начнет укорять мелкой пахотой. Поехал бы на тот массив да проверил…»
— Здравствуй, Петр! — первым поздоровался Ракитин, но Петр вместо приветствия проговорил:
— Перепахал я все давно, проверяйте… чуть не на сорок сантиметров.
— Зачем проверять? Я и так верю…
Петр настороженно глянул на Ракитина, хотел зайти в вагончик, но председатель остановил его:
— Я, собственно, к тебе, понимаешь, по делу. Отойдем-ка в сторонку.
Метрах в десяти от вагончика кучей лежал хворост, нарубленный для поварихи. Они сели на него.
— Вы говорите прямо, чего надо, — угрюмо сказал Петр.
— Конечно. Я и пришел начистоту поговорить. Расскажи, друг, что у вас в семье происходит?
Петр быстро поднял голову, холодно усмехнулся:
— А вам какое дело?
— Слушай, Петр, ты уже взрослый. Брось-ка дурака валять, — строго сказал Ракитин. — Раз спрашиваю, значит, есть дело. Рассказывай.
— Что происходит? — сдавленно проговорил Петр. — Откуда я знаю? Я давно не был дома, не хочу туда идти… Не могу! — Он сделал судорожный глоток и добавил: — Я скоро совсем… Совсем уеду отсюда… Мать вот только…
— С Поленькой Веселовой поедешь?
— Вы откуда… об этом знаете? — воскликнул Петр, вскакивая на ноги.
Ракитин спокойно закурил и стал попыхивать в темноте цигаркой. Петр топтался рядом, не зная, что делать. Наконец председатель сказал:
— Садись, Петя, чего ж ты…
Петр послушно опустился рядом.
— Устал сегодня? — снова спросил Ракитин. — Я проверял сейчас твою пахоту. Хорошо вспахано, отлично.
— Так ведь я, Тихон Семенович.., я всегда хочу как можно лучше… А тогда, на том участке… сам не знаю, — дальше он не мог говорить.
— Ну, нашел о чем вспоминать, — мягко промолвил Ракитии.
Потом они замолчали. Петр вслушался в темноту и вдруг уловил еле-еле доносящийся от речки тоскливый утиный крик.
Неожиданно для самого себя он проговорил:
— Слышите, как кричит отставшая утка в камышах? Вот и я отстал… от людей. Когда — не знаю. А теперь начинаю понимать: от всех отстал. Почему так случилось? Раньше отца боялся, бил он меня зверски! Страшный он. А теперь… Вот выспрашиваете, что происходит у нас в семье? Тоже не знаю…
Петр говорил сбивчиво, волнуясь. Ракитин его не перебивал, ничего не переспрашивал. И постепенно Петр успокоился, стал говорить ровнее. И сам не заметил, как рассказал все: о детской дружбе с Поленькой, о баяне, о своей любви, о Насте Тимофеевой, о последнем разговоре с Витькой, о вчерашнем приходе отца…
— Вот и все… — закончил Петр. — Витька говорит — перепаши все… А как?
Ракитин молчал. Петр прислушался, и, может, оттого, что не слышно было больше тоскливого крика утки, может, от чего другого, — но стало легче. Он терпеливо ждал, что скажет Ракитин.
— Как, спрашиваешь? — проговорил наконец председатель. — Да ведь ты, по-моему, правильно начал ее перепахивать, как раз с того конца, с какого надо. Только уезжать никуда не советую. Я бы на твоем месте ушел к Веселовым. Но прежде тебе надо все рассказать Поленьке про Настю… Виктор тебе правильно говорил…
— Не могу… — И Петр даже замахал руками.
— Это, брат, обязательно надо. Если не найдешь в себе силы рассказать ей все, значит, ты конченый человек. Тогда — уезжай. И жалеть тебя тогда никто не будет…
Голос Ракитина звучал теперь сурово, и Петр уже раскаивался, что все рассказал ему. Зачем? Разве это поможет?
Петр посмотрел вверх. Когда он пахал, небо было еще ясное, ярко горели звезды. А сейчас оно словно подернулось дымкой, местами проступали серые неровные полосы, точно в беспорядке намазанные разбрызгивающей кистью. Между полос печально мигали тускнеющие звезды.
— Нет, не могу, — повторил он и опустил голову. — Сейчас хоть надежда у меня есть, ну, приду к Поленьке и… останусь у нее. А если расскажу — выгонит, отвернется навсегда! Куда я тогда?
— Да ведь рано или поздно она все равно узнает! — терпеливо продолжал Ракитин. — И тогда-то уж обязательно отвернется. Ты подумал об этом?
Петр молчал. Он сидел, зажав голову руками, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Это начало раздражать Ракитина. Он встал, но тотчас же снова сел.
— Значит, не любишь ее… Тогда, конечно, чего же рассказывать…
Петр резко поднял голову.
— Конечно, не любишь. Так с любимой не поступают, — горячо продолжал Ракитин. — Значит, и уходить тебе из дому нечего. Значит, пропадешь ты, сомнет тебя отец окончательно, сломает в тебе человека, превратит черт знает во что, в тряпку…
— Та-ак!.. — вдруг воскликнул кто-то рядом.
Петр и Ракитин одновременно обернулись на голос и встали. В десяти шагах, заложив руки в карманы, стоял Григорий и в упор смотрел на председателя маленькими, горящими желтоватым пламенем глазами…
— Так!.. И сына, значит, отбираете? — снова произнес Григорий и подскочил к Ракитину, хотел схватить его за отвороты меховой куртки.
Председатель спокойно отступил на шаг назад, властно проговорил:
— Убери руки!..
— Осмелел, осмелел!.. — задыхаясь, выкрикнул Григорий. — Общипали меня, сволочи… Петька!..
Петр испуганно взглянул на Ракитина.
— Петра больше не трожь. Иначе… — сказал Ракитин.
— Что «иначе»? Чем пугаешь?!
И вдруг, сам пугаясь своего крика, но уже не в силах удержаться, заорал:
— Твое счастье, Тихон, что я тогда… что обрез в болото кинул. Что сердце не выдержало… что вернул тебя с тропинки.
— Какой обрез?! С какой тропинки? — спросил Ракитин.
— Что по Волчьей пади идет. По Волчьей… — И вдруг, подняв кверху оба страшных когда-то кулака, затряс ими, завыл: — О-о-у-у!..
С этим криком, тонущим в ночи, Григорий Бородин, как и вчера, убежал в деревню.
Глава пятая
1
— Ну как, Петя? — спросил через несколько дней Ракитин.
— Что? — не понял молодой Бородин.
— Был у нее?
Петр посмотрел на председателя, покраснел и, помолчав, ответил очень тихо, но твердо:
— Сегодня, Тихон Семенович… Сегодня обязательно пойду.
Ракитин улыбнулся, пожал ему руку и уехал. И только теперь Петр как-то остро и отчетливо почувствовал: надо идти.
Вечером, кончив работу, он умылся из рукомойника, прибитого к корявой березе, и направился в деревню.
Из притихшего леса медленно струилась сероватая мгла. Впереди завиднелись дома и развесистые, без листьев, верхушки тополей над ними. Но в сгущающихся сумерках все постепенно теряло резкость очертаний, словно Локти, по мере того как Петр туда шел, не приближались, а отодвигались от него…
Петру не хотелось идти сейчас мимо дома Насти Тимофеевой. Не доходя до околицы, он свернул направо, к озеру, редко и тяжело плескавшемуся за невысоким сосняком.
Когда-то давно бродили они здесь с Поленькой тихими и влажными вечерами, часто молча сидели вон там, на берегу. Тогда ему хотелось сделать что-нибудь необыкновенное, чтобы Поленька так и замерла от восторга. И Петр чувствовал, что может такое сделать.
Неожиданно он остановился: на берегу озера спиной к нему кто-то сидел. В первое мгновение Петр не мог узнать кто. Испуганно подумал: «Не Поленька ли?» — сердце на миг словно оборвалось куда-то, а вслед за тем заколотилось гулкими толчками.
Услышав шум шагов, Поленька резко повернула к нему голову, в темноте он не смог увидеть, что ее глаза заплаканы. Поленька поспешно поднялась, сделала несколько шагов в сторону. Но в следующий миг остановилась, словно была привязана и дальше ее не пускала веревка. Потом опять села на камень.
Петр опустился рядом и стал молча смотреть на озеро. В черной глубине в беспорядке метались на одном месте редкими светлячками отраженные звезды.
— Поленька, ты… я… — начал Петр, но сразу умолк.
— Тебе что? — тихо отозвалась Поленька. Теперь он понял, что она плачет. Но это не удивило Петра. Удивило и испугало его другое: откликнулась она каким-то чужим, холодным и усталым голосом.
— Я шел вот… смотрю, ты сидишь, — бессвязно пробормотал Петр.
Девушка вдруг громко и тяжело зарыдала.
— Ты… Что ты, Поленька? — растерялся Петр.
— Ничего мы не брали, ничего, — глухо проговорила Поленька, опуская голову себе на колени. — Зря все это, по злобе он на нас. Господи, чем мы виноваты перед ним?
Петр еще больше растерялся. Ничего не понимая, он посмотрел вокруг себя в темноту. Потом попытался поднять ее голову.
— Кто по злобе? Чего не брали? Ты расскажи…
— Хлеб сушили… шесть мешков. А твой отец говорит десять… Мать в контору вызывали…
Петр молчал, стараясь понять, что же произошло.
— Ты зря… плачешь, — неуверенно произнес он. — Ну, перестань… Я верю, что ты… что вы не брали…
Звезд на небе загоралось все больше и больше. Озеро стало похожим на огромный огненный ковер. Светляки в черной воде заплясали сильнее — поднималась волна.
— Ветер будет, — сказал Петр.
Эги два слова будто успокоили Поленьку. Она подняла голову, несколько раз тяжело вздохнула.
— Что же теперь делать нам?
— А? — отозвался Петр.
— Мы бы отдали свою пшеницу, да нет у нас сейчас.
— Купить можно… — машинально ответил Петр, занятый своими мыслями.
Поленька обернулась к нему, и Петр увидел при свете звезд ее широко открытые глаза. Что в них было — удивление, испуг или, может быть, презрение? Петр не успел сообразить. Он понял только, что необдуманно сказал что-то обидное, страшное. Он видел Поленьку и в то же время чувствовал, что ее уж нет рядом. Но именно в это мгновение ему захотелось, чтобы она была возле него, чтобы, как бывало, положила голову ему на колени. Петру стало страшно от мысли, что вот сейчас, в эту секунду, он теряет что-то настолько важное и необходимое ему, что жить дальше будет нельзя…
В голове загудело, и Петр услышал, как кто-то, запинаясь, проговорил его голосом:
— Я, Поленька… хотел сказать… Я верю тебе, Поленька… Я необдуманно…
Она, кажется, не расслышала его несвязного лепета. Молча встала и тихонько пошла в деревню, опустив голову. Он догнал ее и схватил за руку. Она высвободилась и прошептала еле слышно:
— Уйди.
И опять пошла вперед.
Петр зашагал следом. Через несколько минут, не зная, как остановить ее, опять схватил за руку.
— Я сбегаю домой, Поленька, переоденусь. А потом буду ждать тебя на берегу. Придешь? Я ведь не хотел обидеть тебя. Я не разобрался толком, не понял, в чем дело, и ляпнул. Так придешь? Ведь я хочу… Ведь мне надо сегодня рассказать тебе… Такое надо рассказать, что… Очень важно это… И для тебя, а особенно — для меня…
Поленька молча выдернула руку и ушла.
Петр устало прислонился к чьему-то плетню. Отсюда слышно было, как часто стало плескаться у берега озеро.
«Ветер будет», — опять подумал Петр…
Вдруг где-то совсем близко взлетел в черное небо беззаботный женский смех. И тотчас же нараспев заговорил чей-то голос:
Изменил мне милый мой,
А я засмеялася:
Я в тебя, мой дорогой,
Вовсе не влюблялася-а-а…
И опять раздался смех.
«Настя развлекается, — узнал Петр этот голос и подумал: — Хорошо, что Поленька ушла, не слышала».
2
Переступив порог своего дома, Петр сразу услышал шум, злые голоса из горницы. Там, возле открытых настежь дверей, сидели на табуретках и густо дымили самосадом Бутылкин, Тушков и Амонжолов. Все были трезвы. Отец в смятой рубахе-косоворотке, надетой прямо на голое тело, строгал посредине комнаты доски для новой собачьей конуры. На усах его болталась небольшая желтоватая стружка.
Петр попросил у матери поесть. Ужиная, он поглядывал из кухни через открытую дверь на отца.
— Значится, так, Григорий Петрович, кончилась наша дружба, — вздохнул Егор Тушков. — Выражаясь фигурально, каждый при своих козырях остается?
— В козырях-то завсегда сила, — ухмыльнулся Бутылкин.
— Давай на стол водка, — угрюмо бросил Муса Амонжолов. — Зачем далеко от дела ходить? Пришли в гости — угощай. Бригадиром тебя делать будем…
— Н-да… Это можем, — прищуривая глаза, говорил Иван Бутылкин.
Бородин стряхнул стружки с колен, усмехнулся.
— Зря стараетесь. Нет водки.
— Раньше всегда была…
— Была, да сплыла…
Петр невольно прислушивался к голосам. Но думал о Поленьке: «Придет или нет? Что они, в самом деле, что ли, не весь хлеб отдали? Опять батя что-нибудь выкинул…»
Мать, сложив руки на груди, стояла, как обычно, у печки, поджав губы, думая о чем-то своем, видимо, очень тяжелом и бесконечном.
— А я, признаться, не пойму тебя, Григорий Петрович, — снова донесся до Петра голос Егора Тушкова. — Давай уж начистоту… Шли мы по ветру, а ты вдруг повернул…
Григорий со злобой бросил на пол выструганную доску, громко, не стесняясь, выругался и заходил по комнате.
— Бригадиром меня делать собираетесь? Врете вы, врете! Просто водки потрескать захотелось! Вот и заявились. Гады вы!..
Чем дальше он говорил, тем быстрее ходил по комнате, потом почти забегал. Не заправленная в брюки рубаха надувалась сзади, пузырем. Петру казалось, то надувается не рубаха, а сам отец. Надувается от злости и вот-вот лопнет. Еще раз мелькнет в дверях — и лопнет…
— Гады, — повторил он и остановился посреди комнаты. И Петр увидел, как пузырь на спине сразу обмяк, сморщился и сам отец сделался маленьким, тощим, как пескарь после нереста. Непомерно большая взлохмаченная голова странно крутилась на тонкой шее. — Небось когда на току меня всяко обкладывали колхозники, вас, защитников, я не слыхал! Гады и есть!
— Спасибо, Григорий Петрович, за ласковые слова, — дергая небритой щекой, проговорил Тушков. — А мы в самом деле хотели поддержать тебя когда-нибудь в бригадиры. Думали, ты — человек. А рисковали опять же зря ради тебя. Или забыл?
— Чем же это ты рисковал? Когда?
— Бывало иногда. Хорошо, что последний раз кузов машины успел вымести. Чуть свет Ракитин объявился: «Куда ездил?» И в кузов заглядывает. «Дровишек, — говорю, — подбросил себе, днем-то некогда…»
— Хороши дровишки! Не ими, а из них блины печь можно, — процедил Иван Бутылкин.
Петр посмотрел на мать. Анисья стояла бледная, окаменевшая. Встретив взгляд сына, она мотнула головой, точно говоря: «Не слушай их, не слушай…»
— И будем печь! Будем, — воскликнул отец. — Козыри? Не понимаю, думаете, о каких козырях речь завели? Только, братцы мои, одно забыли: когда человека бьют, он защищается. У вас наружи-то один хвост торчит, а все остальное люди не видят. А при нужде можно дернуть за хвост, да и вытащить все на свет… Придержите-ка ваших козырей…
— Ты… ты что, Григорий Петрович? — быстро и беспокойно заговорил вдруг Егор Тушков. — О каких козырях вспомнил? Мы же так, к слову…
— Мы так… мы так… — вдруг растерянно промолвил несколько раз Бутылкин.
— Ну и заткнитесь, если так. А бригадиром… с таким же успехом Амонжолку вон можете выдвигать. Хоть в бригадиды, хоть в председатели. А теперь — отваливайте.
Тушков и Бутылкин нехотя встали, потянулись за шапками. Только Муса Амонжолов продолжал сидеть, словно о чем-то задумавшись.
Когда Тушков взялся за дверную ручку, Амбнжолов вдруг крикнул:
— Стой!
Григорий сразу догадался, в чем дело, бросил тревожный взгляд на кухню, где сидел Петр. «Черт, дернуло меня его задеть!» — со страхом подумал Бородин, косясь на Амонжолова.
Муса не обращал внимания на насмешки, когда был пьян. Но в трезвом виде его лучше не трогать. Одни слово может привести его в бешенство. Причем Амонжолов отвечает обидчику не сразу. Некоторое время он сидит неподвижно и молча наливается кровью, а потом встает… Муса не прощает никому. Это Бородин знал.
Муса действительно встал и сделал несколько шагов по комнате. Глядя на приближающуюся исполинскую фигуру плотника, Григорий Бородин в ужасе взвизгнул:
— Петька-а-а!
И тотчас же в кухне вскрикнула Анисья:
— Господи!!
Однако Петр не пошевелился. Он видел, как Муса Амонжолов схватил отца за брючный ремень и легко, точно мешок с сухим сеном, оторвал от пола, выдохнул ему в лицо:
— Сволочь ты… Зачем смеешься? Муса — пьяница, Муса — вор… Муса не может быть бригадиром, но он лучше тебя… Ты людей ненавидишь, у тебя внутри все гнидами обсыпано… Убью!
Амонжолов потряс Григория в воздухе и легко, словно котенка, бросил в угол.
— Я покажу «Амонжолку»! — задыхаясь, кричал Муса.
«Сейчас бросится на отца, растерзает, как коршун цыпленка», — подумал Петр, стоя в дверях кухни. Но подумал спокойно, будто и в самом деле в углу лежал не отец, а цыпленок…
— Я покажу… К прокурору пойду. Скажу: я вор, суди меня, а главный вор — вот он… Зерно машинами воровал. Да что — зерно. Он сам у себя душу украл и куда-то спрятал… Обидно мне, вору, что такой человек по земле ходит… — продолжал бушевать Муса Амонжолов.
Тушков и Бутылкиа с двух сторон прилипли к Амонжолову.
— Муса… Брось ты его, Муса. Пойдем отсюда. Пойдем…
Амонжолов резко повернулся, и Бутылкин с Тушковым отлетели в разные стороны. Григорий вдоль стенки прополз к кровати, молча потирая ушибленные места.
Когда Амонжолова увели, Петр вышел из кухни, поднял перевернутые табуретки, расставил их у стены и сел. В комнате несколько минут стояла тишина.
Петр смотрел на отца, на его вздрагивающие желтоватые усы («А стружка отлетела, когда Муса его бросил», — подумал Петр), на острое, все в крупных веснушках лицо; смотрел презрительно и сурово.
Из кухни бесшумно вышла мать, пряча глаза, взяла в углу веник и стала подметать рассыпанные по полу стружки.
Скрипнула деревянная кровать, и голос отца прозвучал, казалось, так же скрипяще:
— Вот так, сынок… Учись. Жизнь — она сверху только вроде ласковая и безобидная, как годовалая телка. А на самом деле у нее копыта, что у твоего быка-трехлетка. Нет-нет да и долбанет по башке своим копытом, скребанет по сердцу таких простаков, как ты. Долго болит потом. Но ничего, загрубеет сердце, и копыто-то как бы полегчает.
— Чему учиться? — переспросил Петр. — Как хлеб колхозный воровать?
— Ах ты змееныш! — Григорий спрыгнул с кровати. — Ты воров в другом месте поищи!.. В отца пальцем не тыкай.
— У Веселовых, что ли?
— Вот-вот. Догадался. Средь бела дня — и то целых четыре мешка пшеницы зажулили. С такой женой с голоду не подохнешь!
— Замолчи ты, отец! — не помня себя, крикнул Петр, вскакивая на ноги и подбегая к кровати. Анисья — откуда взялись силы! — в один миг повисла у него на шее.
— Сыночек, сыночек мой…
Петр остановился. Он обнял одной рукой прильнувшую к нему мать, а другой стал тихонько поглаживать ее мягкое плечо.
Так они, мать и сын, долго стояли посреди комнаты, прижавшись друг к другу. Григорий смотрел на них с кровати исподлобья.
Наконец Петр осторожно посадил мать на табурет и обернулся к отцу:
— Не для того ли ты подставил в ведомости четыре лишних мешка, чтобы очернить дочку Веселовой? А? Понял я все, батя!..
3
Над Локтями ныряла в облаках тяжелая, в червоточинах, луна. В просветах между тучами робко вспыхивали и тотчас же гасли красноватые звезды, точно кто горстями бросал в небо мелкие, моментально сгорающие искры.
Отворачивая лицо от ветра, Петр пошел на берег. «Отец родной — вор, вор, вор…» — стучало у него в висках.
Озеро час назад только плескало волной, а теперь глухо и зловеще шумело, словно вместо воды было доверху наполнено извивающимися, кем-то потревоженными змеями. Ветер еще не успел как следует раскачать тугие, неподатливые волны, яростно схватывал с их верхушек клочья пены и швырял в темноту. Прибрежные деревья были уже мокрыми.
Петр остановился среди сосняка и прислонился спиной к дереву. Водяные брызги сюда не долетали. Когда сквозь разлохмаченные тучи проглядывала луна, Петр видел за деревьями вспенившуюся пучину озера. На мгновение оно вспыхивало мерцающим голубоватым огнем, и тотчас же смыкалась над ним непроницаемая мгла. Смыкалась, как чудилось Петру, с каким-то тупым звуком, который резкой болью отдавался в его голове.
Постояв так немного, Петр отвернулся от озера, сел на землю. Опять что-то острое и холодное сдавливало ему виски. Он долго тер их пахнущими керосином жесткими ладонями.
Скоро Петр окончательно продрог, а Поленьки все не было. Да он и понимал, что не придет она. И не потому, что разыгралась непогода.
Невольно вспомнилось ему, как Поленька зимой в метель стояла за деревней, облепленная снегом, ждала его. И он вслух сказал:
— И не потому…
Теперь сдавливало уже не виски, а сердце.
— Ну что же… Так и должно быть… Так и должно…
Петр медленно встал и зашагал к деревне.
В деревне ветер был еще сильнее, чем в лесу. Он подталкивал в спину, заставлял почти бежать по улице… Петр слышал, как негодующе ревело за спиной озеро, грозя затопить прибрежные леса, смыть деревушку, а вместе с нею и весь мир.
Петр уже занес ногу на правую ступеньку высокого крыльца, но внезапно вспомнил отца.
«Пойду в тракторный вагончик», — решил он, запахнул плотнее тужурку, нагнул пониже голову и зашагал навстречу ветру, разрезая его плечом, по памяти сворачивая в переулки. Ветер пронизывал насквозь старенькую тужурку, но зато освежал голову.
Впереди засветилось единственное окно. «Чье же это, никак, Настино?» — невольно подумал Петр и замедлил шаг. Однако сворачивать, чтобы обойти Настин дом надо было раньше. Потоптавшись на месте, он усмехнулся и пошел прямо.
Светящееся окно опять вернуло его к старым мыслям о Поленьке, о Насте, об отце.
Возле дома Насти Петр остановился. Ему вдруг захотелось зайти, сказать ей что-нибудь обидное и злое. Так вот открыть дверь, бросить едкие слова прямо в круглое, как тарелка, лицо и уйти. Это будет его местью за что-то. За что? За Поленьку? За себя? За то, что он в тот вечер остался у нее?
Петр толкнул сапогом калитку. Она сорвалась с крючка, ветер громко хлопнул ею об ограду… Так же резко толкнул Петр ногой дверь в сенцы. Из холодной темноты с визгливым лаем кинулась к нему собачонка. Он отшвырнул ее ногой в угол, в несколько шагов прошел сенцы и рванул на себя дверь…
В комнате за столом, заставленным бутылками, тарелками с огурцами и еще чем-то, развалились Егор Тушков, Муса Амонжолов, Иван Бутылкин и… отец. Тут же была и Настя. Она сидела возле разомлевшего шофера, который положил ей на плечи волосатые руки, заливисто смеялась. Увидев Петра, бросилась к нему:
— А я ждала, я ждала…
— Устала ждать, чуть замуж не вышла, — пьяно хихикнул Тушков, наливая в стакан.
Настя пыталась схзатить Петра за руку, но он толкнул ее в грудь обратно к столу.
— Ну, проходи, сын-нок, — мотая головой, проговорил Григорий. — А то и в сам… деле выд… выд… замуж за другого. Тов-варец не залежится…
Григорий положил руки на стол, опрокинув бутылку, тяжело уронил голову и не то захохотал, не то зарыдал: согнутая спина его крупно вздрагивала.
Петр молча переводил удивленный взгляд с одного на другого. Слишком неожиданной была вся эта картина, чтобы он мог что-то сказать в первую минуту.
— Вы… что же это? А? — выдавил наконец из себя Петр.
— А что? Гуляем…
— Помирились мы, — пояснил Тушков, который казался трезвее остальных. — Нам что ссориться, что головой в Алакуль с камнем на шее. Выражаясь фигурально, один результат будет.
Петру хотелось теперь не только Насте, всем им бросить в лицо что-то тяжелое и оскорбительное. Но нужные слова в голову не приходили. Не разжимая зубов, он произнес только:
— Эх, вы-ы!..
И, помолчав, повторил еще раз:
— Эх, вы!
Повернулся и вышел из комнаты. Настя кинулась за ним. В сенцах она повисла ему на шею, быстро зашептала:
— Это они все, Петенька… Пришли с водкой, давай, говорят, соленых огурцов… А с Тушковым я… Ты не думай, я просто так. Тебя ждала, ждала… люблю ведь.
Петр резко сбросил со своих плеч ее руки.
— Петенька-а, — тяжело крикнула Настя и замолкла.
Несколько секунд они стояли в темноте молча. Петр совсем рядом слышал ее чистое, отрывистое дыхание. Вдруг, размахнувшись, он со всей силы ударил ее кулаком по лицу. Настя без крика села на пол. Потом бесшумно поднялась, и снова он услышал рядом ее дыхание. Только теперь оно было еще чаще и отрывистей, будто Настя пробежала без передышки много километров. Тогда Петр ударил ее еще раз…
Выйдя из дома, Петр тщательно запер за собой калитку и затаил дыхание, точно все еще надеясь услышать, не плачет ли в сенях Настя. Но скрипуче плакала только под напором ветра старая высохшая береза на Настином огороде.
* * *
Шагая к тракторному вагончику, Петр всю дорогу усмехался, не замечая, однако, этого. Настя будет думать, что ударил он ее за Тушкова, за то, что обнималась с ним. Она не поймет, и никто не понял бы, за что он ударил ее.
4
В доме Веселовых стояла напряженная тишина.
Евдокия и Поленька, обе заметно похудевшие, бесшумно ходили по тесной комнатушке. Поленька беспрерывно наглухо задергивала ситцевые занавески на окнах, точно боялась, что кто-то увидит их с матерью с улицы. Но Евдокия каждый раз открывала, чтобы в комнату хлынуло как можно больше света.
— Что ты, что ты, мама, закрой… Мне стыдно теперь при свете… будто и в самом деле я… будто мы…
— Дурочка ты… — ласково говорила мать, привлекая к себе Поленьку. — Зачем же так переживать? Никто ведь на нас не думает. Так мне и председатель сказал, когда я была в конторе… А ведомости бородинские в район послали, чтоб выяснить…
— А чего же ты похудела тогда за эти дни? — спрашивала Поленька.
— Я такая же, как была…
Помолчав, Поленька опять вздыхала и шептала сквозь слезы:
— Правильно ты говорила мне, мама. Обманулось мое сердце. Ненавидят они нас лютой злобой…
— Не они, Поленька, а он, отец его, — мягко говорила Евдокия.
— Если в только отец! — голос Поленьки захлебывался. — Ведь он бросил мне в лицо: купить, мол, можно… Значит, он… он верит… что мы можем такое… сделать!..
И Поленька тяжело вздыхала, вытирала платком мокрые глаза и щеки.
На другой день после случайной встречи с Петром на берегу озера утром кто-то сильно застучал дверью в сенцах. Может быть, не так уж и сильно, как показалось вконец измученной своими думами Поленьке. Она испуганно взглянула на мать.
— Зачем же закрылась-то? — спокойно промолвила Евдокия. — Открой.
Поленька, прижав руку к сердцу, пошла открывать. Через порог, нагнувшись в дверях, шагнул Ракитин.
— Здравствуйте, — проговорил он.
— Здравствуй. Проходи, Тихон, — ответила Евдокия.
Ракитин сел к столу.
— Сегодня с рассвета на ногах, продрог. Погрейте-ка чашкой чая. Ветер с ног бьет, прямо беда. Как бы не лег снег на сухую землю. Не жди тогда урожая на будущий год.
Евдокия молча налила стакан чая, поставила на стол хлеб и сахар.
— Чего это вы обе такие… неразговорчивые? — опять промолвил Ракитин. — Случилось что нибудь?
Ответа он не услышал.
Тихон отставил недопитый стакан чая, нахмурился.
— Я же сказал тебе, Евдокия Спиридоновна, чтоб ты даже…
— Да знаю, Тихон… И понимаю… Спасибо тебе за… все. А все-таки, сам подумай, каково нам… От Поленьки вон одна тень осталась Клевета как сажа: не обожжет, так замарает… — Евдокия сдержанно вздохнула и продолжала: — Всю жизнь так: чуть зазеваешься, повернешься к Бородину боком — он подскакивает крадучись, рвет клочьями живое мясо. И тут не упустит случая… Все ждет, когда обессилею, упаду в грязь ему под ноги, чтоб растоптать мог…
Голос Евдокии звучал сухо и жестко. Она подошла к окну, которое Поленька снова плотно задернула ситцевой занавеской, и, сдвинув ее в сторону, долго смотрела на улицу.
— Но не дождется! — обернулась она наконец к Ракитину. — А тебе еще раз спасибо…
— Да ну тебя, — недовольно отмахнулся Тихон. — Что ты в самом деле? За что?
— За то, что пришел вот сейчас к нам… За то, что слышала я, с Петром ты…
— Петра мы не отдадим Бородину, — просто сказал Тихон. — Выправим парня.
— Анисью еще бы… Ох, тяжело бабе! Хоть под старость дать бы вздохнуть ей…
— Тут посложнее, Евдокия Спиридоновна. Не будешь же разводить их… Тут твоя помощь потребуется, может быть…
Молчавшая до сих пор Поленька вдруг быстро заговорила, подступая к Ракитину:
— Да кто же записал в ведомости, что мы десять мешков пшеницы на просушку брали? Ведь я сама смотрела в ведомость, там стояло шесть. Где справедливость? Где?
— Ты подожди-ка, Поленька. Давай разберемся по порядку. Значит, ты сама видела, что… Ого, еще гость идет!..
В сенях снова кто-то стучал. Дверь открылась — и в комнату вошел Петр. Поленька отскочила в самый дальний угол.
Евдокия тревожно посмотрела на дочь, потом на Бородина. А он, не ожидавший увидеть здесь Ракитина, растерянно топтался у порога, забыв даже поздороваться.
— Ну что ж, проходи к столу, — сказал ему председатель.
— Нет, я лучше потом… Я думал…
Он уже было повернулся к двери, но в это мгновение заметил, что Евдокия встревожена, у Поленьки заплаканы глаза, и остановился, невольно спросил у Ракитина:
— Вы что же тут… делаете?
— А тебе зачем это знать? — насторожился Тихон.
— Вижу, разговор у вас неприятный вроде идет… — промолвил Петр, опустился на стул возле двери, снял шапку, облокотился на колени и стал смотреть в пол. — Допрос снимаете, что ли? Ну, ну, я послушаю…
Ракитин посмотрел на Евдокию, потом на Поленьку, прижал палец к губам, прося их молчать.
— Допрос, не допрос, а… Четыре мешка пшеницы надо найти. Воров, как ты знаешь, судить положено…
Тяжело и медленно выпрямился Петр, посмотрел на Тихона сразу остекленевшими глазами.
Потом быстро вскочил со стула, шатул вперед и прохрипел:
— Кого это вы судить собираетесь? Кого судить собираетесь, спрашиваю? С кого допрос снимаете?! Вы в другом месте воров поищите, в сусеках отца моего пошарьте, там много наворованного гниет… Вы у Бутылкина, у Тушкова проверьте… Вы что же это, а? Что?! Что, я спрашиваю?!
— А ну-ка, сядь, сядь, говорю! — крикнул, в свою очередь, Ракитин, сажая Петра на свое место. — Так-то вот. — Тяжело дыша, взволнованно заходил по комнате, повторяя: — Так… так… так…
Откуда-то издалека доносился до Петра голос Тихона:
— Видишь, Евдокия Спиридоновна, какие дела… Значит, говоришь, ворует отец зерно помаленьку? Ладно, мы проверим. Сейчас приглашу кого-нибудь из правления, участкового милиционера — и к Бородиным. Проверим…
Петр, не сознавая, что делает, резко поднялся.
— Что же, беги с обыском, мол, идут. Успеете еще припрятать, — насмешливо сказал Ракитин.
Петр постоял, покачался из стороны в сторону и опустился на стул.
— Вот и молодец, Петя… Так-то оно будет лучше, — совсем другим голосом сказал Тихон.
* * *
Когда ушли из дому Ракитин и Евдокия, Петр не заметил. Он очнулся от знакомой уже боли в висках. По комнате ходила Поленька. За стеной жалобно и протяжно завывал ветер. Петр прижался спиной к стене и почувствовал, что весь дом мелко-мелко дрожит.
— Я говорил вчера, ветер будет, — произнес он неизвестно для чего, не узнавая своего голоса. Потом долго ждал, не ответит ли Поленька.
Поленька молчала. Только ветер продолжал бесноваться за стеной.
И неожиданно в этот вой вплелся еле слышный голос Насти Тимофеевой:
Изменил мне милый мой,
А я засмеялася-а-а…
И пропал. Петр закрыл глаза, напряг слух и понял: почудилось.
И сразу почувствовал себя легче. Будто мимо прошла какая-то страшная беда.
Поленька все ходила и ходила зачем-то по комнате. Он хотел спросить, почему она ходит взад-вперед, но вместо этого произнес:
— Куда же ушли они… мать и Ракитин?
— Мама на работу пошла…
— Ага, знаю… А Ракитин туда, с милиционером. Ну что ж, ну что ж…
— Ты пьяный, что ли?
— Я? Нет. Я ведь не пью… — Петр помолчал и добавил: — А может, и пьяный… Я ждал тебя вчера… Ты не пришла. А ведь мне такое… такое надо рассказать тебе.
— Ну, говори.
Вот и наступила решительная минута. Губы не разжимались, язык отяжелел, прилип к нёбу.
Петр долго молчал, слушая, как воет за стеной ветер.
— Ты думаешь, я не люблю тебя? — наконец тихо заговорил он. — Так люблю… без тебя жизни нет. И весь мир — темный, холодный какой-то. Только я был будто связанный. Хочу идти и не могу, не пускает что-то… А вот… — он вдруг совсем охрип, — а вот… к Насте Тихоновой… пошел… Ночевал у нее… Страшно сказать… а не могу с предательством в душе жить. Ведь предал я тебя и… любовь свою… А все равно… любовь во мне… И я, Поленька… я…
Он замолчал.
Поленька была где-то далеко, в самом углу.
— Ну, что еще? — еле услышал он шепот.
— Все. Больше ничего. Все сказал. И знаю, что ты мне этого не… Тогда как жить мне?
Петр чувствовал: стоит пошевелиться, как что-то произойдет, может быть, обвалятся стены. И опять вспомнил насмешливый Настин голос:
… Я в тебя, мой дорогой,
Вовсе не влюблялася-а-а.
Петр невольно вздрогнул, пошевелился. И сейчас же услышал:
— Уходи.
Стены закачались, но пока еще стояли.
— Но… как же теперь…
И снова услышал в ответ чей-то шепот:
— Уходи… Ну?
Петр встал, застегнул на все пуговицы тужурку и потихоньку, словно боясь, чтобы качающиеся стены и в самом деле не рухнули, вышел.
Поленька лежала на кровати лицом вниз.
Она плакала безмолвно и даже не вздрагивая, плакала где-то внутри. Не глазами а сердцем.
5
Заметив, что у порога Евдокия бросила ободряющий взгляд дочери, Тихон, уже на улице, проговорил:
— Не мое это дело, но… Вижу: тяжело ей, должно быть… И ему. Запутались оба.
— Ничего, распутаются, Тихон Семенович. Оба с каждым днем взрослее становятся.
Холодный ветер рвал платок с головы Евдокии. Она завязала его потуже и спрятала руки в карманы ватника.
Они вышли за калитку. Веселова затворила ее, закинула крючок и посмотрела на окна своего дома. Занавески не были задернуты, и Евдокия чуть-чуть улыбнулась.
— А нельзя ли, Семеныч, как-то ускорить… с этими злосчастными мешками пшеницы. Попросить, чтоб в районе побыстрее… Сам понимаешь, какая тяжесть упадет с моих плеч… Особенно с ее, — она кивнула назад, на окна.
— Вроде можно. Без помощи экспертизы. Вот сбегаю за участковым. За Тумановым…
— Ладно. Беги, а я пока… раз помощь моя, как говоришь, требуется… Я пока к Анисье схожу…
— Так! Вот это так, Евдокия Спиридоновна.
Они разошлись. Ракитин пошел в контору, а Веселова направилась к Бородиным.
Ветер хлестал прямо в лицо, опрокидывал назад, словно не хотел пускать ее к дому Григория. Порой у Евдокии перехватывало дыхание, она поворачивалась к ветру спиной, чтоб передохнуть. Тогда ветер в бессильной ярости выхватывал из-под платка пряди черных, с заметной уже проседью, волос, больно хлестал ими по лицу, по глазам. Евдокия убирала волосы под платок, а ветер снова выхватывал их…
… Едва Веселова открыла калитку бородинского дома, навстречу ей кинулся огромный рыжий пес. К счастью, цепь была короткой, и собака не могла достать до крыльца. Она высоко подпрыгивала, становилась на задние лапы, натягивая цепь, как струнку, и казалось, вот-вот порвет ее. Хриплый от бешенства лай и рычание сливались с неистовым воем ветра.
Опасаясь, как бы пес в самом деле не сорвался с цепи, Евдокия торопливо вбежала на крыльцо, ухватилась за резной столб, поддерживающий, навес, секунду передохнула…
Веселова никогда не была у Бородиных. Очутившись в темных сенях, она долго не могла найти ручку двери. Но дверь кто-то отворил изнутри. Потом Григорий просунул в щель всклокоченную голову и крикнул в темноту:
— Кого там дьявол принес? Заходи, что ль…
И скрылся, оставив дверь приоткрытой.
Когда Евдокия переступила порог, Григорий шлепал босыми ногами по полу, направляясь из кухни в комнату, откуда, очевидно, вышел, чтобы выглянуть в сенцы. Но вдруг, точно почувствовал укол в спину, резко обернулся.
— А-а!.. — И челюсть его отвалилась сама собой. — Вот так… пригласил… гостя!
Григорий был в своей обычной черной рубахе, в военных галифе, туго обтягивающих ноги. Не заправленная в брюки помятая рубаха висела складками чуть не до колен и делала Григория похожим на обрубок.
Войдя, Евдокия прежде всего увидела тонкие ноги Григория, его огромные плоские ступни с длинными пальцами, на которых желтовато поблескивали крепкие пластинки ногтей. Потом скользнула глазами по всей фигуре Бородина, встретилась с его недоумевающим испуганным взглядом и отвернулась к Анисье, чистившей за столом картошку.
— Я ведь к тебе, Анисья. Здравствуй.
Григория всего передернуло. Анисья, едва раздался голос Веселовой, украдкой бросила взгляд на мужа и только потом ответила несмело:
— Здравствуй, здравствуй… Проходи, чего же ты, Спиридоновна? Садись…
Григорий продолжал истуканом стоять посреди комнаты. «Пришла… Вот и дождался: пришла в мой дом… Сколько раз звал. На коленях просил! Пришла… да не ко мне».
— Куда же садиться-то приглашаешь? — улыбнувшись, спросила Евдокия.
— Ох ты, господи! И вправду стула-то нет! — воскликнула Анисья, бросила нож, вытерла о передник руки. — Я сейчас принесу.
Анисья кинулась из кухни в комнату, принесла стул. Но Григорий вдруг молча вырвал его из рук жены, бросил обратно в комнату и шагнул к Веселовой:
— Вот что… — Григорий указал рукой через плечо в угол на образа. — Вот бог, а вот порог… Не все тебе выгонять меня из дома…
Евдокия не торопясь обернулась к Бородину и вдруг сама шагнула ему навстречу:
— Отойди-ка в сторонку.
Снова взгляды их встретились. Глаза Григория понемногу расширялись, словно он с каждой секундой все более ясно различал что-то страшное, смертельно опасное для него. Потом дрогнули усы и по всему лицу прошла судорога…
Перед ним стояла Дуняшка. Лицо ее, нарумяненное ветром, было таким же молодым и привлекательным, как много лет назад. Из-под платка, совсем как у девчонки, свесилась непокорная прядка волос, чуть-чуть тронутая изморозью. И лился из ее чистых по-девичьи и уверенных по-женски глаз тот самый свет, который надеялся потушить Григорий.
Смотреть в эти глаза ему было больно. Он отвернулся… и посторонился. Евдокия неторопливо прошла мимо него в комнату, взяла брошенный им стул, вынесла в кухню и села возле стола. Бородин не то рассмеялся, не то всхлипнул и, сгорбившись, поплелся из кухни. Анисья, спрятав руки под передником, облегченно вздохнула, когда Григорий закрыл за собой дверь, перекрестилась и прислонилась к стене.
— Ты что, в бога веришь? — спросила Евдокия Спиридоновна.
— Так… Легче как-то…
Евдокия мягко и тихо смотрела в грустное, немного оплывшее не то от старости, не то от слез лицо Анисьи, в ее синие, не потускневшие с годами глаза, в которых по-прежнему бился пугливый огонек, и ловила себя на мысли, что старается что-то вспомнить. И вдруг почудился ей робкий, тоненький голосок, готовый каждое мгновение прерваться:
«Ради праздничка… подайте корочку…»
И вот уже смотрела Евдокия Веселова на прислонившуюся к стенке постаревшую Анисью, а видела сквозь густой туман прожитых годов подростка Аниску, грязную, оборванную нищенку, которая так же вот стояла в их избушке, робко прислонясь к дверному косяку. На кровати сидела слепая бабушка, а у стола — Гришка Бородин со свертком в руках. Вот он пошарил в кармане и бросил что-то нищенке:
«На… Убирайся только…»
И Дуняшка увидела, как на пол, к ногам девочки, падает смятый рубль… Нищенка смотрит на Григосия широко открытыми, испуганными синими глазами:
«Не… Мне бы кусочек хлебца… И ладно… А деньги не надо. Ведь спросят — где взяла столько? Украла, скажут…»
Григорий встает со стула и подбирает деньги… Потом тяжело поднимается бабушка с кровати, перебирается по стенке, подходит к совсем оробевшей Аниске, ощупывает ее восковыми, просвечивающими насквозь руками.
«Сиротинушка ты моя… Есть, поди, хочешь, доченька…»
«Нет… Не сильно… Я вчера ела…»
«Как звать-то тебя?»
«Аниска…»
— Эх, Аниска! — Евдокия быстро поднялась со стула. — А годы-то…
— Годы… Прошла жизнь… Пропала… — почти беззвучно прошептала Анисья, каким-то чутьем понявшая, о чем думает и говорит Евдокия Веселова, и прижала к глазам передник.
Минуты две в кухне стояло напряженное молчание. Продолжать разговор было очень трудно.
Может, женщины, думая каждая об одном и том же, и разговорились бы наконец. Но вошел Петр, взглянул удивленно на Евдокию. Повесил на гвоздь фуражку, снял тужурку и молча сел на стул, с которого только что поднялась Евдокия, поздоровался и угрюмо стал смотреть в окно. Веселова, понимая его состояние, невольно погладила Петра по голове, как в детстве:
— Это ничего, Петенька, ничего… Все еще хорошо будет у вас… — Она хотела сказать: «С Поленькой», но вместо этого произнесла: — …с матерью.
Петр с благодарностью взглянул на нее, потом на мать. А Евдокия добавила со вздохом:
— Только время, Петенька, нельзя назад вернуть…
«Только время нельзя назад вернуть», — думал Петр, соображая, что же этим хотела сказать мать Поленьки, но догадаться никак не мог.
— А к тебе я, Анисья, вот зачем, — снова проговорила Веселова. — Мне на ферму люди нужны. Пойдешь?
Губы Анисьи задрожали, она опять потянула к глазам передник.
— Спасибо на добром слове… Неужели не пошла бы?! Да вот… — Она кивнула на дверь горницы. И, как бы в ответ на этот кивок, дверь распахнулась, оттуда вышел Григорий в фуфайке, в сапогах, только без шапки. Шапку он держал в руке.
— Куда ты в такую погоду? На работу, что ли?
Григорий оставил вопросы жены без ответа, полоснул взглядом Евдокию, рука которой лежала теперь на плече Петра.
— Так… И до жены добираетесь?! Сперва сына, теперь жену отворачиваете от меня!.. Убери от сына руки!
— Григорий! — с мольбой воскликнула Анисья.
— Что Григорий?! — прорвало наконец Бородина. — Что Григорий?! Работать хочешь? Да иди работай… Только не к ней, к воровке…
— Да ведь сам ты!.. — крикнула было Анисья.
— Молчи!
И, сжав кулаки, Григорий подбежал к Евдокии. Казалось, еще секунда — и он намертво вцепится в нее своими страшными руками.
Веселова только чуть побледнела.
Петр, поднявшись, стал рядом с ней.
Григорий дернул усом раз, другой. Петр предупредил отца, сдерживая голос:
— Но, но!.. Отойди от нее…
— Не беспокойся, Петя… Он и так не тронет. Боится, — усмехнулась одними губами Евдокия. И продолжала негромко, не спуская глаз с Бородина: — Ведь ты все уж испробовал, чтобы в грязь втоптать меня… Даже сыну что-то наговорил… Теперь тебе ничего не осталось, как воровкой называть… Эх, ты!..
В ограде снова залилась бешеным лаем собака.
— Но сейчас и этой возможности лишишься, — усмехнулась Евдокия. — Мы вот проверим сейчас, кто вор…
Собака во дворе лаяла все сильнее. И вдруг лай стал удаляться от крыльца. Анисья кинулась на улицу с криком:
— Господи, ведь сорвалась с цепи, однако…
— Скажи-ка, батя, пока матери нету, что ты говорил мне… о Поленьке, — рвущимся голосом промолвил Петр. — Ну, говори, при ней… При… ее матери… Чего же ты?!
Григорий комкал ручищами шапку. Две пары глаз — сына и Евдокии Веселовой — смотрели на него в упор, заставляли пятиться. Он хотел было юркнуть в горницу, скрыться там, но Петр проскочил вперед, закрыл дверь и прижался к ней спиной.
— Нет уж, не выйдет… Ты говори…
Григорий отшатнулся от сына. Но возле дверей, ведущих в сенцы, стояла Веселова. А там, на улице, все еще заливалась, визжала собака, кричала что-то Анисья. Она, видимо поймала пса и тащила его к конуре. Раздавались мужские голоса.
Уйти было некуда.
На лбу у Григория выступила испарина, он тяжело дышал.
— Не хочешь говорить? — промолвил сын. — Тогда я сам. Ведь он что выдумал! Он сказал мне… когда я к вам прибежал… Что Поленька… что она… сестра… мне!
Григорию казалось, что сын хлещет его ремнем по лицу, как он когда-то хлестал его… Воздуха не хватало. Григорий только беззвучно открывал и закрывал рот да отступал к стенке. Глаза его, по мере того как медленно приближалась к нему Евдокия, расширялись, делались круглыми. Вот ее бледное лицо, ее сероватые, с голубым отливом, беспощадные глаза уже совсем близко. Но сил отвернуться или хотя бы закрыться не было.
И только когда плюнула Евдокия ему в лицо, on смог поднять руки, вытереться шапкой.
— Тогда слушай… тогда слушай, — донесся до него голос Веселовой. Но кому она говорит это: ему или сыну — понять не мог. — Слушай! Я даже дочери не рассказывала этого… А тебе скажу…
«Петру, Петру говорит… — мелькнуло у Григория. — Да где же люди, на которых кидался пес? При них, может, не решилась бы…»
— …проходу не давал, на коленях передо мной ползал… Особенно когда деньжонки вдруг появились ни с того ни с сего у них с отцом, — звучал в комнате грустный, спокойный голос Евдокии, сидевшей теперь на стуле. — Дело до того дошло, что на Андрея, Поленькиного отца, с ножом бросался… Ты веришь мне, Петя?
Дверь открылась, и вошел кузнец Степан Алабугин, выбранный год назад председателем ревизионной комиссии колхоза.
— Здорово, хозяин, — проговорил он весело, со стуком прикрыл за собой дверь.
Бывший работник Бородиных при встречах с Григорием величал его только «хозяином». Григорий каждый раз скрипел зубами да думал: «Ладно, ладно…» Но что «ладно» — и сам не знал.
Едва услышав голос Алабугина, Григорий очнулся от оцепенения, обернулся к Степану.
Пытка Григория не кончилась, но Алабугин — это не Веселова, на которую он не осмеливался прямо поднять руку, глаз которой он боялся всю жизнь. Бородин сорвал со стены плеть и кинулся к опешившему в первое мгновение кузнецу:
— Сейчас я покажу тебе «хозяина»!
Степан уклонился от первого удара, схватил Григория за руку, которая сжимала черемуховый черенок:
— Дурень ты… Дай-ка сюда плетку…
— Нет, врешь, — прохрипел Григорий. — Попробуй взять ее… Попробуй…
Однако Степан без труда разжал пальцы Григория (то ли не было в них уже прежней цепкости, то ли Алабугин оказался сильнее), переломил черенок плети и бросил к печке, еще раз повторив:
— Дурень… Пойдем-ка проверим, что у тебя в сусеках засыпано, в погребе запрятано. Там ждут Ракитин с Тумановым да участковый. — И вышел.
Григорий не сразу понял, куда его зовут. Он как-то удивленно оглядел свою руку, из которой Степан Алабугин вывернул плеть, вопросительно поднял глаза на Евдокию Веселову, спокойно сидевшую на прежнем месте. И вдруг увидел бледную, как стена, жену, и сам начал медленно бледнеть…
— Вон чю! — прохрипел он, нервно усмехнулся. И повторил: — Во-он что!..
Наконец Веселова поднялась. Григорий тотчас воскликнул зачем-то:
— Думаешь, опять стану на колени перед тобой? Врешь, врешь! — Но самому хотелось встать, попросить защиты у нее. У нее, которую он ненавидел так давно с тех пор как перестал любить. И Григорий еще раз крикнул: — Нет, врешь!
Кричал он уже затем, чтобы подбодрить себя, чтобы в самом деле не опуститься на колени.
— Не задерживай. Люди ждут тебя, — сказала Евдокия.
Григорий покорно повернулся и вышел… Анисья, все время безмолвно стоявшая у стола, рухнула на пол с криком:
— Пропали мы… Пропали!
Евдокия бережно подняла ее, посадила на стул.
— А может, наоборот, Анисья… Может, ты… и сын заново родитесь.
Анисья тяжело всхлипывала.
— А насчет фермы подумай. Я еще зайду к тебе, потолкуем обо всем…
Евдокия осторожно, как девочку, погладила ее по голове.
— Эх, Аниска, Аниска, не туда у тебя жизнь пошла! Ну ничего, хоть на старости лет себя найдешь!
* * *
— Показывай сусеки. Отмыкай, — глухо сказал Ракитин, когда Бородин вышел в сенцы. В лицо Григорию он даже не взглянул — противно было.
— Обыск?.. А кто… разрешил? Отвечать будете…
— Ответим…
— Давайте, гражданин, ключи. Иначе ломать будем, — сурово проговорил участковый.
Это официальное «гражданин» окатило Григория холодной волной. Он невольно полез в карман, но передумал вдруг. И произнес, шевеля усами:
— Ломайте… раз имеете право…
Туманов взял в руки ломик, которым Бородины закладывали на ночь двери.
— Чудно… Сусеки — и под замком. Первый раз вижу…
Бородин выбросил на пол ключи.
— Замки хоть не ломайте… Старинные, теперь не найдешь таких.
Из первого сусека пахнуло прелью.
— Все сгнило здесь, заплесневело, — проговорил Степан, взяв горсть испорченного зерна.
— Мое гниет, не ваше…
Второе и третье отделения были почти доверху засыпаны отборной пшеницей.
— Откуда у тебя зерно? — строго спросил Алабугин. — На трудодни мы не выдавали еще.
— Прошлогодняя…
— Чего мелешь? Не умеем, что ли, прошлогоднее зерно от нынешнего отличить…
— Когда покупал, говорили — прошлогоднее, — сжавшись, ответил Григорий. Но сам же чувствовал, как жалка его ложь.
— У кого покупал?
— Там… — И задергал усами, без слов.
— Ясно, составляйте акт, — распорядился Ракитин.
— Может, сначала в других местах посмотрим… В погребе он… Что-то запашок оттуда напахивает.
— Идемте.
Кто-то подтолкнул Бородина. Он, как сонный, пошел вперед.
Едва спустился с крыльца, ветер ударил ему в правый бок, он не удержался, качнулся в сторону сарая, припал на колени. За дверью сарая, запертая Анисьей, бесновалась собака, но, учуяв Григория, стала нетерпеливо, радостно повизгивать. «Распахнуть бы дверь… натравить…» — мелькнуло у него. И Григорий увидел уже, как собака опрокинула кого-то на землю, на мерзлый снег, как раскатились в стороны хлебные корки…
— А замок на погребе ломать или ключи дашь? — спросил кто-то.
Видение исчезло. Григорий прошептал торопливо:
— Дам, дам…
Погреб был неглубокий, но просторный. Однако в нем ничего не обнаружили, кроме кадок с соленой капустой, огурцами, помидорами, крынок с молоком. Хотели идти уже обратно, да смущал всех тяжелый, гнилой запах, сочившийся неведомо откуда.
— Откуда же такие ароматы несутся? — проговорил Туманов.
В это время Степан Алабугин нечаянно уронил камень, придавливавший крышку кадки с солониной. Камень гулко упал на солому, которой был устлан пол погреба.
— Что за черт! Там пустота вроде.
Тихон ногой разгреб солому. Оказывается, внизу был деревянный пол.
Продолжая раскидывать солому, Ракитин обнаружил в углу люк с кольцом.
— Вон тут что! Тайничок. И тут замкнуто.
На этот раз Григорий не дал ключа, будто не слышал даже голоса Ракитина. Алабугин сбегал в сенцы и принес ломик.
Но едва Тихон приподнял люк, сколоченный из толстенных, обитых снизу железом плах, снизу ударило таким смрадом, что все выскочили наружу.
У дверей погреба все невольно переглянулись, не понимая, что же произошло. Потом Тихон воскликнул:
— А Григорий-то… Задохнется ведь там!.. — и скрылся в погребе. Вслед за ним туда вошли и остальные.
Люк был закрыт, Григория в погребе не было.
— А ну, открывайте, — нахмурил брови Ракитин. — Фонарь бы…
— Вот…
Степан Алабугин снял со стенки «летучую мышь», зажег. Ракитин взял фонарь и первым спустился вниз по крутой, заплесневелой лестнице.
Нижний этаж погреба представлял собою большую яму, стены которой были обшиты полусгнившими досками. По земляному полу растекалась какая-то вонючая червивая жижа. В этой луже стояли огромные дубовые кадки, лежали разложившиеся свиные и бараньи туши. Ракитин увидел в углу какую-то старинную веялку, допотопный плуг.
Возле веялки были невысоким штабелем сложены набитые чем-то мешки.
— Ничего не понимаю! — проговорил Алабугин, стоя на нижней ступеньке лестницы, не решаясь ступить в червивую жижу.
Рядом с ним стоял Ракитин.
— А я, кажется, догадываюсь, — ответил Тихон. — Вон та — веялка и плуг.., Помнится мне… Постой, постой… Ну да, еще отец Григория, старик Петр, привез эту веялку из города… И плуг. А потом Григорий, вступив в колхоз, передал инвентарь колхозу… Но, выходит, не весь передал, утаил…
— А это что за гадость? — указал Алабугин под ноги.
— Это? Мясо гниет. Ворованное. — Тихон ступил в лужу и подошел к дубовым кадкам, приподнял крышку. — И тут мясо — солонина. Давно засолено, лет пяток назад. Тоже пропало уже… А вот тут что? — И ощупал туго набитый мешок. — Давайте-ка вытащим один мешок наверх, посмотрим, что в нем. Не могу больше таким смрадом дышать.
Туманов хотел взвалить мешок на плечи, но в это время сверху, со штабеля, раздалось:
— Не трогай!.. Не твое… Не ваше!
Ракитин приподнял фонарь. На штабеле мешков, вниз лицом, лежал Григорий, тоже похожий на туго набитый мешок.
— Вон он где! Слазь оттуда…
— Не трогайте меня… Задохнусь лучше здесь, — прохрипел Бородин.
… Через несколько минут Павел Туманов и Степан Алабугин ввели, почти внесли в кухню Григория Бородина.
После того как его вытащили из погреба, он перестал сопротивляться и теперь только глухо икал да размазывал по лицу не то слезы, не то грязь.
Григория посадили на стул. Однако он свалился на пол, в самый угол, уткнулся лицом в пол, а голову закрыл руками.
Анисья смотрела на все это безмолвно. Петр переводил недоумевающий взгляд с отца на Ракитина, на мать, на Евдокию. Но ничего ни у кого не спрашивал. Анисья беспрерывно крестилась. Только когда Туманов принес из погреба мешок и стал развязывать его, она, задыхаясь, проговорила:
— Не при нем бы хоть… Петенька… Ты иди, иди…
— Ничего, пусть и он узнает, — жестко сказал Ракитин.
Туманов вытряхнул содержимое мешка. По полу рассыпались какие-то коробки, медные позеленевшие пуговицы, проржавевшие иголки, пачки истлевших лент, кружев, цветных тесемок…
Это была галантерея, закупленная отцом Григория в городе еще до революции, галантерея, которой он намеревался торговать в своей лавке…
— А мясо зачем гноили в погребе? — спросил Ракитин у Анисьи.
Та не ответила, только помотала головой.
— Тут, кажется, не разобраться нам своими силами, — сказал председатель и обернулся к участковому милиционеру. — Вам придется побыть здесь, пока из прокуратуры не приедут. Павел, беги в контору, звони в район. А мы со Степаном и Евдокией к Бутылкину пойдем, к Тушкову…
6
В конце октября постепенно начали терять силу северные ветры. Брызнули на обдутую от пыли землю несколько капель дождя. Брызнули как бы нехотя или по ошибке, и сырые смятые облака поплыли прочь от Локтей. Тихон Ракитин, только сегодня вернувшийся из районной прокуратуры, куда его вызывали по делу Григория Бородина, стоял в конторе возле окна и провожал их мрачным, ненавидящим взглядом.
— Не иначе — черт на небе поселился. Выгнал поди бога с его бывшей жилплощади — и заправляет!
Жена Федота Артюхина, уборщица конторы, обиженно поджала сморщенные, бесцветные от времени губы и жалобно проговорила:
— Господи милостивый, сколь ты беззлобен и терпелив. Как охальников таких на земле держишь…
— Так ведь ты посуди сама, — когда не надо, дождь льет, словно небо надвое порвалось. Нынче чуть хлеб не погноили. А сейчас бы самая пора ему пролиться под снежок, под урожай. А он подразнил немного — и прочь…
В контору вошел Туманов, поздоровался и сел за стол.
— У бога забот много, а земля велика, — ворчала Артюхина. — А доберется он до тебя, ох доберется. Как до Гришки Бородина.
— Да ну, неужели доберется? — обернулся к ней Тихон. — Я ведь хлеб не ворую.
— А Григорий воровал? Того никто не видел. А бога хулил при каждом слове. Вот и объявились к нему следственники…
Ракитин улыбнулся над заключением Артюхиной, Сердито бросив в угол тряпку, которой стирала пыль с окон, она направилась к выходу.
— Ну, рассказывай, что там с Бородиным? — попросил Туманов, когда Артюхина вышла.
Тихон перестал смеяться.
— «Следственники»… (Ракитин кивнул головой в окно на проходившую Артюхину, и крупные губы его опять дрогнули в улыбке) долго не могли прижать его. Говорят, прямых улик, доказательств, что воровал хлеб, мясо… нет. А Бородин одно твердит: купил — и все. «У кого?» Молчит. «Зачем в ведомости подставил лишних четыре мешка Веселовым?» Молчит…
— Ну а сын его что, жена? Их, кажется, тоже допрашивали?
— Жена что? С перепугу все время одно сперва твердила: ничего не знаю, не видела. А сын какую-то чепуху порол: не то во сне, не то еще черт знает как показалось ему, будто ночью Тушков привозил им хлеб на машине. И, кроме того, слышал, как Муса Амонжолов попрекал отца воровством. А точно, говорит, ничего не могу сказать.
Рассказывая, Тихон прошел к столу и стал перебирать там какие-то бумажки.
— Потом дружки его запутались и выдали, — продолжал Ракитин, посасывая огромнейшую самокрутку. — Амонжолов все выложил. «Следственники» опять к Анисье: «Что ж ты, бабка, скрываешь? Нехорошо». В течение всех допросов держалась Анисья, а тут заплакала: «Сама, говорит, знаю, что нехорошо. Он, ирод, свет от солнца мне и сыну на всю жизнь заслонил… А жалко его, муж все-таки… Сына, говорит, берегла, как умела, предупреждала не раз Григория: „Привезут колхозное зерно или мясо при Петре — заявлю в милицию“. Вот они и выбирали время, когда Петра дома не было… Раз или два все-таки при нем привозили, ночью, когда тот спал… Следователь спрашивает: „Куда же ваш муж наворованное сбывал?“ — „Никуда, говорит, зерно в сусеках гнило, а мясо в погреб сбрасывал целыми тушами. Когда сгнивало, все тем же зерном засыпал. Нынче тоже засыпать собирался, да не успел…“
Ракитин замолчал.
— Зачем все же тебя-то вызывали? — напомнил Туманов.
— Зачем? Страшно даже и говорить. Недавно я рассказывал тебе, что Бородин проговорился возле тракторного вагончика про какой-то обрез.,. Я в районную прокуратуру об этом написал. Меня вызывают, значит, спрашивают про Гнилое болото, про тропинку через Волчью падь, часто ли я хожу по ней… Что, думаю, к чему? А следователь: «Припомните: прошлой осенью не приходилось возвращаться вам из летнего лагеря для скота вдвоем с Бородиным?» — «Приходилось… Только втроем. Доярка Тимофеева была еще с нами». — «Так, так… А потом что произошло?» Рассказываю, что Бородин хотел ехать на ржище, я на полдороге слез с ходка и пошел к деревне напрямик через Волчью падь, но через пять минут Бородин догнал меня, говорит, передумал ехать на ржище. Я вернулся, сел в ходок. В деревню мы приехали все втроем… «А вы не заметили, в каком состоянии был Бородин, когда догнал вас и позвал обратно?» — «Заметил, — отвечаю. — Взволнован был чем-то, возбужден… Да в чем дело, все-таки?» Следователь отвечает: «Ваше счастье, что нервы у него не выдержали… на тропинке, по которой вы хотели идти в деревню, он самострел насторожил, как на медведя…»
Потом я узнал, — помолчав, продолжал Ракитин, — каким образом всплыл на следствии… этот вопрос. Оказывается, когда Бутылкина приперли к стенке, он заявил: «Да, брал из кладовой все, что хотел, Бородин на это сквозь пальцы смотрел… Почему? Думал: запутаюсь я, окажусь в его руках, и тогда он может приказать мне все, что угодно. И намекнул однажды: Ракитина надо убрать с дороги, чтоб не мешал. Чего, говорит, ждать, когда сам он подохнет. То есть на убийство подговаривал…» Следователь и уцепился за это. А тут мое письмо. Бородин, конечно, долго отказывался… А потом признался: «Да, подговаривал. Когда не вышло, решил сам». И рассказал все… Вот и вызвали меня, чтобы проверить, так ли все было на самом деле…
— Черт возьми! — воскликнул Туманов. — Аж волосы дыбом встают!
Ракитин вышел из-за стола, прошелся по комнате, присел на подоконник, стал хмуро глядеть на тяжелые, набухшие водой облака, уплывающие куда-то на озеро.
— В общем, на днях сюда привезут его. Открытым судом судить будут.
* * *
Дождь, которого ждали колхозники, за несколько дней превратил улицы деревни в непролазные, чуть не до колен засасывающие ноги, болота. Скоро он надоел всем, даже Ракитину, однако все шел и шел, не усиливаясь и не ослабевая, равнодушный ко всему на свете. И казалось, не будет конца-краю этому дождю, никакая сила не остановит его, он будет идти еще месяц, два, год.
И, может быть, шел бы, если в неожиданно под утро не начался густой, тяжелый снегопад…
* * *
Петр с матерью приехали из района под вечер, мокрые и молчаливые.
Утром, выглянув в окно, Петр увидел, что на всю улицу, где лежала вчера размешенная сотнями ног грязь, накинул кто-то белое пушистое одеяло. Оно было неровным, в желтых пятнах от проступившей снизу воды. Но сверху сыпались и сыпались большие белые хлопья, желтые заплаты быстро таяли на глазах, бледнели, одеяло выравнивалось, будто кто натягивал его со всех сторон.
Странное чувство охватило Петра. «Вот и снег, вот и снег выпал», — мысленно повторял он, стараясь вспомнить что-то важное и необходимое. Ему казалось, что стоит он у окна уже давно-давно и готов стоять целую вечность. Было легко и немного грустно, точно снег засыпал вместе с грязью что-то родное и милое, жить без которого будет тяжело и неинтересно.
А в ушах звучал почему-то по-матерински теплый голос Евдокии Веселовой: «Только время нельзя назад вернуть».
«Время действительно не воротишь, — думал Петр. — А можно ли вернуть ушедшую вместе с ним Поленькину любовь? И если можно, то как?»
Но ответа на свои мучительные вопросы Петр пока не находил.
В конце пустынной белой улицы показался человек. Проваливаясь в засыпанную снегом грязь, он оставлял позади себя черные следы. Когда человек подошел поближе, Петр узнал уборщицу колхозной конторы Артюхину. «Куда это она?» — невольно подумал он.
Однако Петр тотчас же забыл про Артюхину, хотя она подходила все ближе и ближе. Он смотрел уже не на нее, а на оставляемые ею черные следы. Они дымились, как большие рваные раны на белом теле неведомого животного, растянувшегося вдоль домов.
Улица неожиданно постарела, потеряла свое очарование.
Артюхина между тем подошла к дому Бородиных, помешкала у ворот и толкнула калитку. Когда вошла в комнату, Петр все еще смотрел в окно.
— Повестка вам, — строго проговорила Артюхина от порога. И, помолчав, добавила: — В суд.
— На стол положи, — сказал Петр, не оборачиваясь.
Артюхина долго шелестела бумажками, потом подошла к Петру и вздохнула.
— Ты погляди их сам, Петенька, выбери, какая тебе, какая матери. Тут у меня их много. О-хо-хо, чем пришлося на старости лет заниматься.
Вручив повестки, старуха медленно поплелась обратно, снова оставляя после себя дымящиеся следы. Петр все стоял у окна и смотрел, как черные ямки следов постепенно затягиваются, бледнеют. Скоро их совсем завалило крупными и тяжелыми хлопьями. Улица была теперь снова ровной и чистой, как лист бумаги.
«Вот и снег выпал», — опять подумал Петр, стараясь забыть про лежащие на столе повестки. Ему хотелось выскочить из дома и бежать, бежать по этой улице куда-то. Может быть, к тому домику, окошко которого сиротливо светилось недавней осенней ночью.
7
Судили Григории Бородина в колхозном клубе. На сцене, где не раз играл Петр на баяне, поставили столы, застелили их красной материей. Один конец материи был облит химическими чернилами. Темное пягно выделялось на ярком фоне, и из глубины зала казалось, что скатерть порвана.
Все происходило как-то слишком обычно, думал Петр, будто люди сходятся в клуб на обыкновенное собрание. Даже вот скатерть с чернильным пятном была, как обычно, снята с бухгалтерского стола в колхозной конторе и принесена сюда.
— … Судебное заседание считаем открытым. Свидетелей (судья, пожилой мужчина с седеющими волосами, перечислил несколько фамилий, в том числе его и матери) прошу выйти…
И только теперь, медленно подняв голову, Петр увидел отца и обомлел: не отец это. Он почернел, сгорбился, высох, оброс. Втянув голову в плечи, жалкий, сжавшийся, он сидел на скамье отдельно от Бутылкина, Тушкова и Амонжолова. Припухшие красноватые веки закрывали ему глаза. И усы, взбившиеся, спутанные, тоже казались припухшими… Под ними виднелись белесые, бескровные губы.
— Пойдем, мама, — тихо сказал Петр, наклоняясь к матери, но она сидела не шевелясь. Тогда Петр приподнял ее и повел.
Из дальнейшего Петр запомнил только мокрое от слез лицо матери да глуховатый скрип беспрерывно отворяемой и закрываемой двери, в которую вызывали свидетелей. В комнатушку, где они сидели, заглядывали какие-то люди, но он не обращал внимания. А когда поднимал лицо, то все равно не мог различить, кто заглядывает.
— Свидетельница Бородина! — крикнули из дверей.
Петр довел мать до двери, но прикрыл ее, загородил спиной. Анисья была ему по плечи. Она уронила голову на грудь сыну, и он вздрогнул от этого прикосновения и сильнее прижал ее к себе. Погладив горячую голову матери, он проговорил:
— Ты не плачь, мама… И не волнуйся. Ты скажи все, что знаешь. Говори, как и в районе, всю правду. Тогда тебе легче будет… нам с тобой легче будет…
Сам открыл дверь и осторожно притворил ее за матерью.
Потом опять сидел, смотрел в мутный просвет окна. Там что-то чернело и покачивалось — должно быть, ветви дерева от тихого ветра. Сколько так прошло времени — не знал.
Наконец, скрипнула дверь, и позвали его. Переступив порог, он увидел, как все головы сидящих в зале, словно по команде, повернулись к нему. Но тотчас закачались, заколыхались, и все слилось в неясное пятно.
— Свидетель Бородин, что можете пояснить по данному делу?
Это обращались к нему. Петр медленно ответил, не думая:
— То же, что пояснила мать…
По залу прошел гул, звякнул где-то колокольчик.
— То есть, вы подтверждаете, что подсудимый Бородин, ваш отец, занимался хищением колхозной собственности?
— Не знаю… Не видел.
— Так как же вы подтверждаете показания свидетельницы Бородиной? — спросил все тот же голос.
— Я верю ей… Раз она сказала, значит, так все и есть…
— А видели вы когда-нибудь у отца оружие, обрез?
— Нет, не видел…
Затем судья задавал еще какие-то вопросы. Петр отвечал, не понимая, зачем это нужно: ведь такие же вопросы задавали ему и в районе во время следствия. Все и так давно ясно.
— Вопросов больше нет, можете присутствовать, — услышал он наконец, облегченно вздохнул и сел в заднем ряду, возле матери, не заметив, что с другой стороны его сидит председатель колхоза Ракитин.
— Подсудимый Бородин, где вы взяли оружие? — спросил судья.
Григорий поспешно вскочил. Но головы поднять не мог. Она свисала у него на грудь, будто шея была переломлена…
— Я же говорил на следствии: в лесу нашел…
— Нашел?! — крикнул Артюхин. — Ишь ты!.. Не такие это штучки, чтоб терять их…
— Разрешите-ка мне слово сказать…
Это подала голос Евдокия Веселова. Услышав ее, Григорий дернулся, будто коснулся его электрический провод. И только ниже опустил голову.
— Товарищи, тут вот какое подозрение у меня есть, вот что выяснить надо, — продолжала Евдокия, когда судья дал ей слово. — Тут говорил кто-то, что Григорий, мол, на печи всю колчаковщину пролежал. Не всю! Однажды ночью видела я Григория в лесу. Шла в деревню из партизанского отряда, а он навстречу крадется. Еле-еле успела под куст присесть. А вскоре после этого напали на отряд колчаковцы. Не так-то просто было напасть на нас, тропинок по болоту враги не знали. Значит, кто-то показал их. Кто? Спрашиваю прямо: не Бородин ли?
В голову Григория словно кто стучал молотками: «Отца… отца в горнице запирал… уморил, чтоб не выдал… А вот… через столько лет все открывается, открывается…»
— Пусть все же скажет суду: что ночью в лесу делал, кого искал? — снова потребовала Евдокия Веселова.
— Подсудимый Бородин, вы подтверждаете, что ходили ночью выслеживать отряд партизан? — спросил судья, когда Веселова кончила говорить.
В зале установилась мертвая тишина. Петр увидел, как согнулась под тяжестью этой тишины спина отца, точно опустили вдруг ему на плечи невидимый жернов. Анисья растерянно обводила глазами зал, теребила на коленях концы какого-то узелка… Слез в ее глазах не было.
Судья проговорил:
— Подсудимый Бородин, вы слышали вопрос? Встаньте.
Григорий начал медленно, с трудом подниматься.
— Вы подтверждаете, что выслеживали партизан?
Григорий пошевелил губами:
— Выслеживал…
В зале стало еще тише, хотя тише, казалось, уж некуда было.
Григорий стоял горбатясь, опустив голову чуть ли не ниже плеч. Бескровные губы его тряслись. Руки — крючковатые, страшные своей силой, про которые сам Григорий говорил: «Если уж зажму что в них — намертво, никто не отберет», — эти руки тоже тряслись сейчас…
— Рассказывайте обо всем подробно, — проговорил судья. — Это в ваших же интересах…
— А почему выслеживал — вы знаете? — надломленным голосом произнес Григорий. — Все правильно тут говорили. И Артюхин, и Веселова… Выследил партизан, выдал колчаковцам… Еще дом Андрея Веселова поджигал вместе с Терентием Зеркаловым… Он и обрез дал… В ту же ночь, когда поджигали, Терентия задушил дверью. А еще раньше — Лопатина… Вот так… А вот зачем партизан выслеживал, дом Веселова поджигал? Не сделай этого — Зеркалов пристукнул бы меня. Зачем Зеркалова с Лопатиным задушил? Ведь поймали бы их — и мне конец… А мне жить хотелось… Жить…
Григорий говорил, боясь поднять глаза, беспрерывно запахивал плотнее тужурку, точно это могло защитить его от сотен горячих глаз колхозников. И все время думал почему-то о словах Анисьи: «Вот и наступает расплата для тебя…»
— Продолжайте, Бородин.
— Ну вот, ну вот… Жить, говорю, хотелось мне, — снова заговорил Григорий, глотая слова. — Жить, жить… А мне мешали. Всю жизнь мешали…
И вдруг упал на скамью, затрясся, завыл страшно…
— Ведь отец мой… человека, цыгана убил, чтоб жить… А не дали, не дали… Землю нашу отобрали, дом отобрали… Лавка сгорела, коней увели… В жены нищенку заставили взять… Все, все прахом пошло… И сына отобрали… А вы не поймете!.. Не поймете!
Колхозники сидели потрясенные. Все смотрели, как в рыданиях корчится на скамье Григорий Бородин.
Анисья схватилась за Петра, пытаясь приподняться. Он, бледный, худой, с ввалившимися, как у отца, глазами, сказал тихо:
— Сиди, мама. До конца… До конца!
И только теперь заметил около себя Ракитина. Тот тихо пожал ему руку повыше локтя и кивнул: правильно, мол…
Анисья бессильно уронила руки себе на колени.
По-прежнему в зале стояла гробовая тишина. Потом встал бывший работник Бородиных Степан Алабугин и проговорил:
— Я хочу одно предложение внести…
Уже давно были нарушены все правила обычного судопроизводства. Может, потому, что преступление подсудимого было не совсем обычным. Судья не стал останавливать Алабугина даже тогда, когда он изъявил желание внести предложение.
— Пусть суд судит Бородина как положено, за кражу колхозного зерна и за все прочее, — негромко сказал Степан Алабугин. — А мы свой приговор выносим: очищай нашу деревню навсегда. Отсидишь срок, сколько получишь сейчас, не заявляйся в Локти, не примем. Иди куда хочешь. Так или не так?
В полнейшей тишине негромкий голос Алабугина звучал отчетливо и сурово.
— Так… Так!.. Так! — раздалось сразу со всех сторон и смолкло.
Тихон Ракитин, в продолжение всего суда сидевший безмолвно в задних рядах, вдруг встал и прошел вперед.
— Поскольку показательный суд у нас как-то превращается в суд общественный, я вот что хочу сказать… «Не поймете!» — крикнул тут нам Бородин. Нет, мы понимаем, что произошло с ним… Всю кровь, все мозги изъела ему жажда собственности. Сперва из человека превратила в зверя, а потом так оплела, что все соки выжала, высушила. Так вот повитель обовьет молодое растение да пьет из него соки, душит. Вянет растение, сохнет, бледнеет… часто и совсем погибает…
Ракитин еще продолжал говорить, но Петр уже не слышал его голоса. Он смотрел на отца, который начал приподниматься со скамейки. Лицо его было по-прежнему бескровным, белым, точно никогда не видело солнца. Бледность кожи просвечивала даже сквозь густую щетину бороды. Только брови да подковка усов были черными, выделялись на лице отчетливо, как нарисованные.
Петр очнулся оттого, что кто-то хватался за плечо слабой рукой. Мать, цепляясь за него, тоже пыталась встать.
— Господи… Господи, с кем мы жили-то, Петенька!.. Как мы жили с ним только?! — с трудом прошептала Анисья…
В это время Григорий, услышав, видимо, шепот, стал медленно поворачивать голову к жене и сыну. Петр почувствовал, как мать задрожала, сначала мелко, затем все крупнее и крупнее. Потом ее тело сразу сделалось под его руками упругим, она оттолкнула его, вскочила, рванулась вперед и закричала:
— Григорий!.. Григори-ий!.. Что же ты за человек?!
И хотела шагнуть к мужу, но ноги ей не повиновались. Она начала падать, Петр мгновенно перехватил ее поперек тела, поднял и понес к выходу.
Григорий, держась рукой о спинку скамейки, проводил взглядом жену и сына. Лицо его было теперь серым, будто покрылось за дальнюю дорогу пылью.
8
Петр принес мать домой, положил на кровать и сел рядом на табурет.
Так прошло около часа. Петр сидел и слушал, как жутко, почти по-человечески воет у крыльца пес, рвется с цепи.
— Что там? — спросила наконец мать слабым, но спокойным голосом. Петр понял ее и ответил:
— Не знаю… Должно быть, кончилось. Народ идет из клуба.
Анисья привстала, несколько минут посидела на кровати. Потом тихонько ушла в кухню. Через некоторое время вышла на улицу, негромко стукнув дверью.
«Куда же она?» — обеспокоенно подумал Петр и выбежал за ней следом. Но матери возле дома нигде не было. Он растерянно огляделся вокруг и побежал к клубу.
Там толпился народ, ожидая чего-то. Подбежав, Петр понял, чего ждали: из дверей клуба милиционеры выводили отца, Бутылкина, Тушкова и Амонжолова. Отец шел, смотря в землю. Тужурка его была не застегнута. Но руки у отца на этот раз были не в карманах, как обычно, как всегда привык видеть Петр, а сложены за спиной.
Неожиданно Григорий остановился и посмотрел в сторону. Петр невольно повернул голову туда же. Из переулка торопливо выбегала мать, неся что-то в узелке. Петр бросился к ней, крикнув на ходу:
— Мама, не смей!..
Анисья покорно остановилась, опустив руки.
— Ты что же это, мама!
— На дорожку вот ему… Ты прости, Петенька… Все-таки он… — бессвязно проговорила мать.
Когда Петр подбежал к матери, Анисья беззвучно вздрагивала, уткнувшись головой в грудь Веселовой. Евдокия тихонько поглаживала ее по плечу и говорила:
— Ну, будет, будет, Анисья. И так наплакалась за свою жизнь. — И повернулась к подбежавшему Петру: — Береги ее теперь, Петенька.
Григорий Бородин, проходя мимо в сопровождении двух милиционеров, остановился и стал смотреть на Евдокию Веселову, на жену и сына, по-прежнему не разжимая рук за спиной. Милиционеры топтались рядом, не зная, видимо, как поступить.
Тогда Петр обнял мать за плечи и повел домой сквозь расступившуюся толпу.
— Идите, гражданин, — сказал один из милиционеров.
Бородин послушно медленно зашагал вперед, но все время оборачивался, словно ожидая еще кого то. И вдруг застыл на месте.
Издали чуть слышно доносился собачий лай, и Григорий узнал его. Усы Бородина дрогнули, по лицу скользнуло что-то вроде улыбки.
Сквозь толпу крупными скачками мчалась огромная рыжая собака, волоча по снегу оборванную цепь. Пес со всего размаху кинулся к Григорию, чуть не повалил его на дорогу, повизгивая, стараясь лизнуть лицо.
Григорий молча погладил пса по спине, потрепал за уши, повернулся и, сгорбившись, пошел, сопровождаемый милиционерами, собакой и взглядами бывших односельчан. Шагал сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, точно глаза колхозников кололи ему спину.
* * *
Собака домой так и не вернулась. Куда она девалась — никто не знал. Только всю зиму по ночам в лесу кто-то жалобно и протяжно завывал. Может, выли от голода волки…
Новосибирск, 1955 — 1958
Примечания
«ПОВИТЕЛЬ» Роман
Впервые напечатан в журнале «Сибирские огни», 1958, № 2-4, февраль — апрель. В том же году Новосибирским книжным издательством выпущен отдельной книгой. В 1960 году переиздан одновременно в Томске и в Москве (изд-во «Советский писатель»). Выпускался впоследствии также московскими издательствами «Художественная литература» (1963), «Советская Россия» (1970), «Современник» (1978). Первые переводы — в Болгарии (1961), Румынии (1962), Чехословакии (1962).
Отвечая на вопросы читателей, автор писал: «В романе „Повитель“ я попытался ответить прежде всею себе, что же происходит в нашем новом, социалистическом обществе с людьми, — последними могиканами старого мира, — насквозь пораженными неуемной жаждой частной собственности. Люди эти (в романе — Григорий Бородин) порой знают и любят землю, умеют работать и, пойми они смысл революции и времени, много полезного смопи бы сделать для общества, а значит, и для себя. Но в том-то и дело, что многие, очень многие из подобных людей не в состоянии увидеть этот великий смысл и, пораженные своей неизлечимой болезнью, задыхаются в ненависти к новому времени, к новому обществу, доходят в своих поступках до маразма и в конце концов как личности умирают, погибают. В этом отношении время, общественные процессы — вещи жестокие, неумолимые, тот, кто не понимает, не в состоянии понять и принять прогрессивных идей, революционного хода истории, неизбежно гибнет» («Москва», 1971, № 4, апрель, с 218).
В феврале 1959 года комиссия по русской литературе Союза писателей РСФСР организовала обсуждение романа. Подробно анализируя произведение, Д. Нагишкин проводил аналогии между Григорием Бородиным и такими литературными героями, как Григорий Мелехов из «Тихого Дона» М. Шолохова, Петр Сторожев из романа «Одиночество» Н. Вирты, вспоминал роман «Ненависть» И Шухова, оговариваясь, что автор «Повители» «не только показал нам врагов советского строя, но показал попытку этих людей перекраситься, временно притаиться и вроде как изнутри взорвать Советскую власть» («Сибирские огни», 1959, № 5, май, с 173).
Участники обсуждения отмечали талантливость автора, знание им жизни, называли такие характеры, как Григорий Бородин, Петр Бородин-младший, Аниска, открытиями. «И пейзажи, и образы, все, кончая взаимоотношениями героев, написаны ярким, резким пером, — сказал С. Сартаков. — Это не размельчено, выписано в деталях, не размагничено бессодержательным диалогом… Развитие характеров дано в романе логично и последовательно» (там же, с. 174 — 175). Одним из самых интересных произведений последнего времени назвал «Повитель» А. Дементьев. «Нужно подчеркнуть такое качество романа, — говорил Л. Соболев, — которое мы называем мастерством. Книга по-литераторски очень крепко сделана Она написана ярким, выпуклым языком. Здесь все чувствуется почти на ощупь, каждое слово зримо стоит на месте. И за счет этого получается та емкость, которую мы и наблюдаем в книге» (там же, с.76)
Вместе со всем этим участники обсуждения (среди них Л. Соболев, С. Залыгин, С. Баруздин, В. Архангельский) указывали автору на отдельные недостатки романа. В частности, признавалось, что вторая половина книги слабее, чем первая, характеры Семенова, Ракитина недорисованы.
В целом же все квалифицировали «Повитель» как «хороший сибирский роман» и рекомендовали представителям печати «шире, подробнее рассказать на страницах своих газет о таком хорошем, интересном и радостном явлении, как роман А. Иванова „Повитель“.
Из журнальных статей и рецензий о романе наиболее интересны: В. Дорофеев. В поисках нового. — «Вопросы литературы», 1959, № 2, А Макаров. Проклятие собственничества — «Знамя», 1959, № 3, Дм. Нагишкин. Свет побеждает тьму. — «Новый мир», 1959, № 5, А. Абрамович. Тема утверждения и тема отрицания — «Урал», 1959, № 8, Н Яновский Художник и время — «Звезда», 1959, № 9.
А ОВЧАРЕНКО
Примечания
1
С. Н. Сергеев-Ценский. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 3. М., Гослитиздат, 1955, с. 703.
(обратно)2
Ниже, за исключением специально оговоренных случаев, биографические данные приводятся из этого письма ко мне от 9 сентября 1978 года.
(обратно)3
Пятый съезд писателей СССР. 29 июня — 2 июля 1971 года. Стенографический отчет. М., «Советский писатель», 1972, с. 393.
(обратно)4
«Литературная газета», 1974, 14 августа.
(обратно)5
«Литературная учеба», 1978, № 4, с. 116.
(обратно)6
«Искусство есть сгущение» (нем.).
(обратно)7
М. Горький. Собр. соч. в 30-ти т. Т. 27. М., Гослитиздат, 1953, с. 255.
(обратно)8
См. статьи: А. Байгушева в журнале «Москва», 1978. № 5; Д. Жукова в «Нашем современнике», 1978, № 5; предисловие Б. Леонова к изданию: Анатолий Иванов. Избр. произв. в двух томах. М., «Молодая гвардия», т. 1, 1974.
(обратно)9
Названная выше статья, с. 9 — 10.
(обратно)10
«Вопросы литературы», 1959, № 2, с. 37.
(обратно)11
А. Макаров. Идущим вослед, с. 788.
(обратно)12
А. И. Родимцев. Твои, Отечество, сыны. Киев, Госполитиздат, 1974, с. 40.
(обратно)13
«Роман-газета», 1978, № 1. Вступительная статья В Горбачева к роману «Вечный зов».
(обратно)
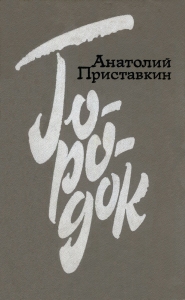



Комментарии к книге «Повитель», Анатолий Степанович Иванов
Всего 0 комментариев