Вениамин Александрович Каверин Два капитана
ЧАСТЬ 1. ДЕТСТВО.
Глава 1. ПИСЬМО. ЗА ГОЛУБЫМ РАКОМ.
Помню просторный грязный двор и низкие домики, обнесенные забором. Двор сеял у самой реки, и по веснам, когда спадала полая вода, он был усеян щепой и ракушками, а иногда и другими, куда более интересными вещами. Так, однажды мы нашли туго набитую письмами сумку, а потом вода принесла и осторожно положила на берег я самого почтальона. Он лежал на спине, закинув руки, как будто заслонясь от солнца, еще совсем молодой, белокурый, в форменной тужурке с блестящими пуговицами: должно быть, отправляясь в свой последний рейс, почтальон начистил их мелом.
Сумку отобрал городовой, а письма, так как они размокли и уже никуда не годились, взяла себе тетя Даша. Но они не совсем размокли: сумка была новая, кожаная и плотно запиралась. Каждый вечер тетя Даша читала вслух по одному письму, иногда только мне, а иногда всему двору. Это было так интересно, что старухи, ходившие к Сковородникову играть в «козла», бросали карты и присоединялись к нам. Одно из этих писем тетя Даша читала чаще других — так часто, что, в конце концов, я выучил его наизусть. С тех пор прошло много лет, но я еще помню его от первого до последнего слова.
«Глубокоуважаемая Мария Васильевна!
Спешу сообщить Вам, что Иван Львович жив и здоров. Четыре месяца тому назад я, согласно его предписаниям, покинул шхуну, и со мной тринадцать человек команды. Надеясь вскоре увидеться с Вами, не буду рассказывать о вашем тяжелом путешествии на Землю Франца—Иосифа по плавучим льдам. Невероятные бедствия и лишения приходилось терпеть. Скажу только, что из нашей группы я один благополучно (если не считать отмороженных ног) добрался до мыса Флоры. «Св. Фока» экспедиции лейтенанта Седова подобрал меня и доставил в Архангельск. Я остался жив, но приходится, кажется, пожалеть об этом, так как в ближайшие дни мне предстоит операция, после которой останется только уповать на милосердие Божие, а как я буду жить без ног — не знаю. Но вот что я должен сообщить Вам: «Св. Мария» замерзла еще в Карском море и с октября 1913 года беспрестанно движется на север вместе с полярными льдами. Когда мы ушли, шхуна находилась на широте 82°55'. Она стоит спокойно среди ледяного поля, или, вернее, стояла с осени 1913 года до моего ухода. Может быть, она освободится и в этом году, но, по моему мнению, вероятнее, что в будущем, когда она будет приблизительно в том месте, где освободился «Фрам». Провизии у оставшихся еще довольно, и ее хватит до октября—ноября будущего года. Во всяком случае, спешу Вас уверить, что мы покинули судно не потому, что положение его безнадежно. Конечно, я должен был выполнить предписание командира корабля, но не скрою, что оно шло навстречу моему желанию. Когда я с тринадцатью матросами уходил с судна, Иван Львович вручил мне пакет на имя покойного теперь начальника Гидрографического управления, и письмо для Вас. Не рискую посылать их почтой, потому что оставшись один, дорожу каждым свидетельством моего честного поведения. Поэтому прошу Вас прислать за ними или приехать лично в Архангельск, так как не менее трех месяцев я должен провести в больнице. Жду Вашего ответа.
С совершенным уважением, готовый к услугам
штурман дальнего плавания
И.Климов».Адрес был размыт водой, но все же видно было, что он написан тем же твердым, прямым почерком на толстом пожелтевшем конверте.
Должно быть, это письмо стало для меня чем—то вроде молитвы, — каждый вечер я повторял его, дожидаясь, когда придет отец.
Он поздно возвращался с пристани: пароходы приходили теперь каждый день и грузили не лен я хлеб, как раньше, а тяжелые ящики с патронами и частями орудий. Он приходил — грузный, коренастый, усатый, в маленькой суконной шапочке, в брезентовых штанах. Мать говорила и говорила, а он молча ел и только откашливался изредка да вытирал усы. Потом он брал детей — меня я сестру — и заваливался на кровать. От него пахло пенькой, иногда яблоками, хлебом, а иногда каким—то протухшим машинным маслом, и я пожню, как от этого запаха мне становилось скучно.
Мне кажется, что именно в тот несчастный вечер, лежа рядом с отцом, я впервые сознательно оценил то, что меня окружало. Маленький, тесный домик с низким потолком, оклеенным газетной бумагой, с большой щелью под окном, из которой тянет свежестью и пахнет рекою, — это наш дом. Красивая черная женщина с распущенными волосами, спящая за полу на двух мешках, набитых соломой, — это моя мать. Маленькие детские ноги, торчащие из—под лоскутного одеяла, — это ноги моей сестры. Худенький черный мальчик в больших штанах, который, дрожа, слезает с постели и крадучись выходит во двор, — это я.
Уже давно было выбрано подходящее место, веревка припасена, и даже хворост сложен у Пролома; — нахватало только куска гнилого мяса, чтобы отправиться за голубым раком. В нашей реке разноцветное дно, и раки попадались разноцветные — черные, зеленые, желтые. Эти шли на лягушек, на костер. Но голубой рак — в этом были твердо убеждены все мальчишки — шел только на гнилое мясо. Вчера, наконец, повезло: я стащил у матери кусок мяса я целый день держал его на солнце. Теперь оно была гнилое, — чтобы убедиться в этом, не нужно было даже брать его в руки…
Я быстро пробежал по берегу до Пролома: здесь был сложен хворост для костра. Вдали видны были башни — на одном берегу Покровская, на другом Спасская, в которой, когда началась война, устроили военный кожевенный склад. Петька Сковородников уверял, что прежде в Спасской башне жили черти и что юн сам видел, как они перебирались за наш берег, — перебрались, затопили паром и пошли жить в Покровскую башню. Он уверял, что черти любят курить и пьянствовать, что они востроголовые и что среди них много хромых, потому что они упали с неба. В Покровской башне они развелись и в хорошую погоду выходят на реку красть табак, — который рыбаки привязывают к сетям, чтобы подкупить водяного.
Словом, я не очень удивился, когда, раздувая маленький костер, увидел черную худую фигуру в проломе крепостной стены.
— Ты что здесь делаешь, шкет? — спросил черт, совершенно как люди.
Если бы я и мог, я бы ничего не ответил. Я только смотрел на него и трясся.
В эту минуту луна вышла из—за облаков, а сторож, ходивший на том берегу вокруг кожевенного склада, стал виден — большой, грузный, с винтовкой, торчавшей за спиною.
— Раков ловишь?
Он легко прыгнул вниз и присел у костра.
— Что ж ты молчишь, дурак? — спросил он сурово.
Нет, это был не черт! Это был тощий человек без шапки, с тросточкой, которой он все время похлопывал себя по ногам. Я не разглядел лица, но зато успел заметить, что пиджак был надет на голое тело, а рубашку заменял шарф.
— Что ж — ты говорить со мной не хочешь, подлец? — Он ткнул меня тростью. — Ну, отвечай! Отвечай! Или…
Не вставая, он схватил меня за ногу и потащил к себе. Я замычал.
— Э, да ты глухонемой!
Он отпустил меня и долго сидел, пошевеливая тросточкой угли.
— Прекрасный город, — сказал он с отвращением. — В каждом дворе — собаки; городовые — зверя. Ракоеды проклятые!
И он стал ругаться.
Если бы я знал, что произойдет через час, я постарался бы запомнить, что он говорил, хотя все равно не мог никому передать ни слова. Он долго ругался, даже плюнул в костер и заскрипел зубами. Потом замолчал, закинув голову — и обняв колени. Я мельком взглянул на него и, кажется, пожалел бы, если бы он не был такой неприятный.
Вдруг человек вскочил. Через несколько минут он был уже на понтонном мосту, который недавно наводили солдаты, а потом мелькнул на том берегу и исчез.
Костер мой погас, но и без костра я видел очень ясно, что среди раков, которых я натаскал уже немало, не было ни одного голубого. Обыкновенные черные раки, не очень крупные, — в пивной за таких платили копейку пара.
Холодный ветер начал тянуть откуда—то сзади, штаны мои раздувались, я стал замерзать. Пора домой! В последний раз была закинута веревка с мясом, когда я увидел на жом берегу сторожа, бежавшего вниз по склону. Спасская башня стояла высоко над рекой, и от нее спускался к берегу косогор, усеянный камнями. Никого не видно было на косогоре ярко освещенном луной, но сторож почему—то на ходу снял винтовку.
— Стой!
Он не выстрелил, только щелкнул затвором, и в эту минуту я увидел на понтонном мосту того, за кем он бежал. Пишу так осторожно потому, что и теперь еще не уверен, что это был человек, который час назад сидел у моего костра. Но я как будто вижу перед собой эту картину: тихие берега, расширяющиеся лунную дорогу прямо от меня к баржам понтонного моста и на мосту две длинные тени бегущих людей.
Сторож бежал тяжело и один раз даже остановился, чтобы перевести дух. Но тому, кто бежал впереди, было, как видно, еще тяжелее, потому что он вдруг присел у перил. Сторож подбежал к нему, крякнул я вдруг откинулся назад, — должно быть, его ударили снизу. И он еще висел на перилах, медленно сползая вниз, а убийца уже исчез за крепостной стеной.
Не знаю почему, но в эту ночь никто не караулил понтонный мост: будка была пуста, и вокруг никого, только сторож, лежавший на боку, вытянув вперед руки. Большая яловая кожа валялась рядом с ним, и он медленно зевал, когда, трясясь от страха, я подошел к нему. Через много лет я узнал, что многие перед смертью зевают. Потом он глубоко вздохнул, как будто с облегчением, и все стало тихо.
Не зная, что делать, я наклонился над ним, побежал к будке — и вот тут—то, а увидел, что она пуста, и снова вернулся к сторожу. Я даже кричать не мог, и не только потому, что был тогда немой, а просто от страха. Но вот с берега донеслись голоса, и я бросился назад, к тому месту, где ловил раков. Никогда больше не спалось мне бегать с такой быстротой, даже в груди закололо и остановилось дыхание. Я не успел прикрыть травой раков я растерял половину, пока добрался до дому, Но тут было не до раков!
С быстро бьющимся сердцем я бесшумно приоткрыл дверь. В нашей единственной комнате было темно, все спокойно спали, никто не заметил ни моего ухода, ни возвращения. Еще минута, и я лежал на прежнем месте, рядом с отцом. Но долго еще я не мог уснуть. У меня перед глазами были этот мост, совещенный луной, я две длинные бегущие тени.
Глава 2. ОТЕЦ.
Два огорчения ожидали меня на следующее утро.
Во—первых, мать нашла раков и сварила их. Таким образом, пропал мой двугривенный, а с ним надежда на новые крючки и блесну для щук. Во—вторых, пропал перочинный нож. Собственно говоря, это был отцовский нож, но так как лезвие было сломано, отец подарил его мне. Я все перебрал я дома я во дворе — нож как сквозь землю провалился.
Так провозился я до двенадцати часов, когда нужно было идти на пристань — нести отцу обед. Это была моя обязанность, и я ею очень гордился.
Пристань теперь на другом берегу, а на этом — бульвар, засаженный липами, которые так и остались любимыми деревьями нашего города. Но в тот день, когда я нес отцу горшок щей в узелке и картошку на месте этого бульвара стояли балаганы, построенные для рабочих; вдоль крепостной стены были сложены пирамидами хлебные кули я мешки; широкие доски перекинуты с барж на берег, и грузчики с криком: «Эй, поберегись!» — катили по нам заваленные товарами тачки. Я помню воду у пристани в жирных перламутровых пятнах, стертые столбы, на которые взбрасывались причалы, смешанный запах рыбы, смолы, рогожи.
Еще работали, когда я пришел. Тачка застряла между досками, и все движение с борта на берег остановилось Задние кричала и ругались, двое каталей лежали на ломе, стараясь поднять и поставить в колею соскользнувшую тачку. Отец неторопливо обошел их. Он что—то сказал, наклонился… Таким я запомнил его — большим, с круглым усатым лицом, широкоплечим, легко поднимающим тяжело нагруженную тачку. Таким я его больше же видел.
Он ел и все посматривал на меня — «что, Саня?», — когда толстый пристав и трое городовых появились на пристани. Один крикнул «дядю» — так назывался староста артели — и что—то сказал ему. «Дядя» ахнул, перекрестился, и все они направились к нам.
— Ты Иван Григорьев? — спросил пристав, закладывая за спину шашку.
— Я.
— Берите его! — закричал пристав и побагровел. — Он арестован!
Все зашумели. Отец встал, я все замолчали.
— За что?
— Ты у меня поговори! Взять!
Городовые подошли к отцу я взяли его под руки. Отец двинул плечом — они отскочили, я один городовой вынул шашку.
— Ваше благородие, как же так? — оказал отец. — За что же брать женя? Я не кто—нибудь, меня все знают.
— Нет, брат, тебя еще не знают, — возразил пристав.
— Ты разбойник. Взять!
Снова городовые подступили к отцу.
— Ты, дурак, селедкой—то не махай, — тихо, сквозь зубы сказал отец тому, который вынул шашку. — Ваше благородие, я семейный человек, работаю на этой пристани двадцать лет. Что я сделал? Вы скажите всем, чтобы все знали, за что меня берут. А то ведь и вправду подумают люди, что я — разбойник!
— Ну, прикидывайся, святой! — закричал пристав. — Не знаю я вас! Ну!
Городовые как будто медлили.
— Ну!
— Подождите, ваше благородие, я сам пойду, — сказал отец. — Саня… — он наклонился ко мне. — Саня, беги к матери, скажи ей… Ах, да ты ведь…
Он хотел сказать, что я немой, но удержался. Он никогда не произносил этого слова, как будто надеялся, что я когда—нибудь еще заговорю. Он замолчал и оглянулся
— Я схожу с ним, Иван, — сказал староста, — ты не беспокойся.
— Сходи, дядя Миша. Да вот еще… — Отец вынул три рубля и отдал артельному. — Передай ей. Ну, прощайте!
Все хором ответили ему.
Он погладил меня по голове и сказал:
— Не плачь, Саня.
А я и не знал, что плачу.
И теперь страшно мне вспомнить, что сделалось с матерью, — когда она узнала, что забрали отца. Она не заплакала, но зато, только «дядя» ушел, села на кровать и стиснув зубы, сильно ударилась головой о стену. Мы с сестрой заревели, она даже не оглянулась. Бормоча что—то она билась головой о стену. Потом встала, накинула платок и ушла.
Тетя Даша хозяйничала у нас целый день. Мы спали, то есть сестра спала, а я лежал с открытыми глазами и думал: сперва об отце, как он со всеми прощался, потом о толстом приставе, потом о его маленьком сыне в матроске, которого я видел в губернаторском саду, потом о трехколесном велосипеде, на котором катался этот мальчик, — вот бы мне такой велосипед!
— и, наконец, ни о чем, — когда вернулась мать. Она вошла похудевшая, черная, и тетя Даша подбежала к ней…
Не знаю почему, мне вдруг представилось, что отца зарубили городовые, и несколько минут я лежал не двигаясь, не помня себя от горя и не слыша ни слова. Потом помял, что нет, он жив, но мать к нему не пускают. Три раза она сказала, что он взят за убийство, — ночью убили сторожа на понтонном мосту, — прежде чем я догадался, что ночью — это сегодня ночью, что сторож
— это тот самый сторож, что понтонный воет — тот самый понтонный мост, на котором он лежал, вытянув руки. Я вскочил, бросился к матери, закричал. Она обняла меня: должно быть, подумала, что я испугался. Но я уже «говорил»…
Если бы я умы тогда говорить!
Мне хотелось рассказать все, решительно все: и как я тайком удрал на Песчинку ловить раков, и как черный человек с тросточкой появился в проломе крепостной стены, и как он ругался, скрипел зубами, а потом плюнул в костер и ушел. Слишком трудная задача для восьмилетнего мальчика, который едва мог произнести два—три невнятных слова!
— И дети—то расстроились, — вздохнув, сказала тетя Даша, когда я замолчал и, думая, что теперь все ясно, посмотрел за мать.
— Нет, он что—то хочет сказать. Ты что—нибудь знаешь, Саня?
О, сели бы я умел говорить! Снова принялся я рассказывать, изображать… Мать понимала меня лучше всех, но на этот раз я с отчаянием видел, что и она не понимает ни слова. Еще бы! Как не похожа была сцена на понтонном мосту за то, что пытался изобразить худенький черный мальчик, метавшийся по комнате в одной рубашке. То он бросался на кровать, чтобы показать, как крепко спал отец в эту ночь, то вскакивал на стул и поднимал крепко сложенные кулаки над недоумевающей тетей Дашей.
Она перекрестила меня, наконец.
— Его мальчишки побили.
Я замотал половой.
— Он рассказывает, как отца арестовали, — сказала мать, — как городовой на него замахнулся. Правда, Саня?
Я заплакал, уткнувшись в ее колен. Она отнесла меня на кровать, и я долго лежал, слушая, как они говорят, и думая, как бы мне передать свою необыкновенную тайну.
Глава 3. ХЛОПОТЫ.
Все же мне это удалось бы в конце концов, если бы наутро не заболела мать. Она у меня всегда была странная, но такой странной я ее еще никогда не видел.
Прежде, когда она вдруг начинала стоять у окна часами или ночью вскакивать и в одной рубашке сидеть у стола до утра, отец отвозил ее за несколько дней домой, в деревню, и она возвращалась здоровой. Теперь не было отца, да, впрочем, едва ли помогла бы ей теперь эта поездка!
Простоволосая, босая, она стояла в сенях и даже не оборачивалась, когда кто—нибудь проходил в дом. Она все молчала, только изредка рассеянно говорила два—три слова.
И она как будто боялась меня. Когда я начинал «говорить», она с болезненным выражением затыкала уши. Как будто стараясь что—то припомнить, она проводила рукой по глазам, по лбу. Она была такая, что даже тетя Даша втихомолку крестилась, когда, в ответ за ее уговоры, мать оборачивалась и молча смотрела на нее исподлобья черными, страшными глазами…
Прошло, должно быть, недели две, прежде чем она сшилась. Рассеянность еще мучила ее, но понемногу она стала разговаривать, выходить со двора, работать. Теперь все чаще повторялось у нее слово «хлопотать». Первый сказал его старик Сковородников, за ним тетя Даша, а потом уже и весь двор. Нужно хлопотать! Мне смутно казалось, что это слово чем—то связано с игрушечным магазином «Эврика» на Сергиевской улице, в окнах которого висели хлопушки.
Но вскоре я убедился, что это совсем другое.
В этот день мать взяла нас с собой — меня и сестру. Мы шли в «присутствие» и несли прошение. «Присутствие» — это было темное здание за Базарной площадью, за высокой железной оградой.
Мне случалось видеть несколько раз, как чиновники по утрам шли в присутствие. Не знаю, откуда появилось у меня такое странное представление, но я был твердо убежден, что они там и оставались, а на другое утро в присутствие шли уже новые чиновники, на третье — новые, и так каждый день.
Мы с сестрой долго сидели в полутемном высоком коридоре на железной скамейке. Сторожа бегали с бумагами, хлопали двери. Потом мать вернулась, схватила сестру за руку, в мы побежали. Комната, в которую мы вошли, была разделена барьером, и я не видел, с кем говорила и кому униженно кланялась моя мать. Но я услышал сухой, равнодушный голос, и этот голос, к моему ужасу, говорил то, на что только я один во всем мире мог бы основательно ответить.
— Григорьев Иван… — И послышался шорох переворачиваемых страниц. — Статья 1454 Уложения о наказаниях. — Предумышленное убийство. Что ж ты, голубушка, хочешь?
— Ваше благородие, — незнакомым, напряженным голосом сказала мать, — он не виноват. Не убивал он никогда.
— Суд разберет.
Я давно уже стоял на носках, закинув голову так далеко, что она, кажется, готова была отвалиться, но видел над барьером только руку с длинными сухими пальцами, в которых медленно покачивались очки.
— Ваше благородие, — снова сказала мать, — я желаю подать прощение в суд. Весь двор подписал.
— Прошение можешь подать, оплатив гербовой маркой в один рубль.
— Тут заплачено. Ваше благородие, это не его нож нашли.
Нож?! Я подумал, что ослышался.
— На этот счет имеется собственное показание подсудимого.
— Может, он его неделю как потерял…
Я видел снизу, как у матери задрожали губы.
— Подобрали бы, голубушка! Впрочем, суд разберет.
Больше я ничего не слышал. В эту минуту я понял, почему арестовали отца. Не он, а я потерял этот нож — старый монтерский нож с деревянной ручкой. Нож, который я искал наутро после убийства. Нож, который мог выпасть из моего кармана, когда я наклонялся над сторожем на понтонном мосту. Нож, на котором Петька Сковородников выжег мою фамилию сквозь увеличительное стекло.
Теперь, вспоминая об этом, я начинаю думать, что моему рассказу все равно не поверили бы чиновники, сидевшие в энском присутствии за высокими барьерами в полутемных залах. Но тогда! Чем больше я думал, тем все тяжелее становилось у меня на душе. Значит, по моей вине арестовали отца, по моей вине мы теперь голодаем. По моей вине было продано новое драповое пальто, на которое мать целый год копила, по моей вине она должна ходить в присутствие и говорить таким незнакомым голосом и униженно кланяться этому невидимому человеку с такими длинными, страшными, сухими пальцами, в которых медленно покачивались очки…
Никогда еще с такой силой я не чувствовал свою немоту.
Глава 4. ДЕРЕВНЯ.
Последние плоты уже прошли вниз по реке. Огоньки в маленьких, медленно двигающихся домиках не были видны по ночам, когда я просыпался. Пусто было на реке, пусто во дворе, пусто в доме.
Мать стирала в больнице, уходила с утра, когда мы еще спали, а я шел к Сковородниковым и слушал, как ругался старик.
В стальных очках, седой и косматый, он сидел в маленькой черной кухне за низком кожаном табурете и шил сапоги. Иногда он шил сапоги, иногда плел сети или вырезывал из осины фигурки птиц и коней на продажу. Это ремесло — оно называлось «точить лясы» — он вывез с Волги, откуда был родом.
Он любил меня, — должно быть, за то, что я был его единственным собеседником, от которого он никогда не слышал ни одного возражения. Он ругал докторов, чиновников, торговцев. Но с особенной злостью он ругал попов.
— Человек умирает, но смеет ли он за это роптать на бога? Попы говорят, что нет. А я говорю: да! Что такое ропот?
Я не знал, что такое ропот.
— Ропот есть недовольство. А что такое недовольство? Желать больше, чем тебе предназначено. Попы говорят: нельзя. Почему?..
Я не знал почему.
— Потому, что «земля еси и в землю идеши».
Он горько смеялся
— А что нужно земле? Не больше того, что ей предназначено.
Я сидел у него по целым дням. Мне все нравилось — и как он говорит совершенно непонятно, и как смеется с таким страшным, ржавым скрипом, что я невольно засматривался на него в каком—то оцепенении.
Итак, была уже осень, и даже раки, которые за последнее время стали серьезным подспорьем в нашем хозяйстве, забились в норы и не соблазнялись больше моими лягушками.
Мы голодали, и мать решила, наконец, отправить меня и сестру в деревню.
Я плохо помню наше путешествие, и как раз по причине того странного оцепенения, о котором только что упомянул. В детстве я часто засматривался, заслушивался и очень многого не понимал. Самые простые вещи поражали меня. С открытым от изумления ртом я изучал расстилающийся передо мною мир…
Теперь я засмотрелся на мальчишку, проверявшего билеты на пароходе. Две недели назад его звали Минькой, и он играл с Петькой Сковородниковым в рюхи у нас на дворе. Разумеется, он не узнал меня. В синей курточке с матросскими пуговицами, в кепи, на котором было вышито «Нептун» — так назывался пароход, — он стоял на лесенке, небрежно поглядывая на пассажиров. Ничто больше не занимало меня — ни таинственный капитан, он же рулевой, бородатая морда которого виднелась в будке над рулем, ни грозное пыхтение машины. Минька поразил меня, и я не сводил с него глаз всю дорогу. «Нептун» был знаменитый пароход, на котором я мечтал прокатиться. Сколько раз мы ждали его, купаясь, чтобы с размаху броситься в волны! Теперь все пропало. Как очарованный, я смотрел на Миньку до тех пор, пока не стемнело, до тех пор, пока бородатый капитан—рулевой не сказал глухо в трубку: «Стоп! Задний ход!» Забурлила под кормой вода, и матрос ловко поймал брошенный ему с борта канат.
Я никогда не был в деревне, но знал, что в деревне у отца есть дом и при доме усадьба. Усадьба! Как я был разочарован, узнав, что под этим словом скрывается просто маленький заросший огород, посреди которого стояло несколько старых яблонь!
Отцу было восемнадцать лет, когда он получил это наследство. Но он не стал жить в деревне, и с тех пор дом стоял пустой. Словом, дом был отцовский, и мне казалось, что он должен походить на отца, то есть быть таким же просторным и круглым. Как я ошибся!
Это был маленький домик, когда—то пошатнувшийся и с тех вор стоявший в наклонном положении. Крыша у него была кривая, окна выбиты, нижние венцы согнулись. Русская печь на вид была хороша, пока мы ее не затопили. Длинные черные скамейки стояли вдоль стен, в одном углу висела икона, и на ее закоптелых досках чуть видно было чье—то лицо.
Каков бы он ни был, это был наш дом, и мы развязали узлы, набили сенники соломой, вставили стекла и стали жить.
Но мать провела с нами только недели три и вернулась в город. Ее взялась заменить нам бабушка Петровна, приходившаяся теткой отцу, а нам, стало быть, двоюродной бабкой. Это была добрая старуха, хотя к ее седой бороде и усам трудно было привыкнуть. Беда была только в том, что она сама нуждалась в уходе, — и точно: мы с сестрой всю зиму присматривали за ней — носили воду, топили печь, благо изба ее, которая была немного лучше нашей, стояла недалеко.
В ту зиму я привязался к сестре. Ей шел восьмой год. В нашей семье все были черные, а она — беленькая, с вьющимися косичками, с голубыми главами. Мы все молчаливые, особенно мать, а она начинала разговаривать, чуть только открывала глаза. Я никогда же видел, чтобы она плакала, но ничего не стоило ее рассмешить. Так же, как и меня, ее звали Саней, — меня Александром, ее Александрой. Тетя Даша научила ее петь, и она пела каждый вечер очень длинные песни таким серьезным тончайшим голоском, что нельзя было слушать ее без смеха.
А как ловко хозяйничала она в свои семь лет! Впрочем, хозяйство было простое: в одном углу чердака лежала картошка, в другом — свекла, капуста, лук и соль. За хлебом мы ходили к Петровне.
Так мы жили — двое детей — в пустой избе в глухой, заваленной снегом деревне. Каждое утро мы протаптывали дорожку к Петровне. Страшно было только по вечерам: так тихо, что слышен, кажется, даже мягкий стук падающего снега, и в такой тишине вдруг начинал выть в трубе ветер.
Глава 5. ДОКТОР ИВАН ИВАНЫЧ. УЧУСЬ ГОВОРИТЬ.
И вот однажды, когда мы только что легли и только что умолкла сестра, засыпавшая всегда в ту минуту, когда она произносила последнее слово, и наступила эта печальная тишина, а потом завыл в трубе ветер, я услышал, что стучат в окно.
Это был высокий бородатый человек в полушубке, в треухе, такой замерзший, что когда я зажег лампу и впустил его в дом, он не мог даже закрыть за собой дверь. Заслонив свет ладонью, я увидел, что у него совершенно белый нос. Он хотел снять заплечный мешок, согнулся и вдруг сел на пол.
Таким впервые предстал передо мной этот человек, которому я обязан тем, что сейчас пишу эту повесть, — замерзший до полусмерти, он вполз ко мне чуть ли не на четвереньках. Пытаясь положить в рот дрожащие пальцы, он сидел на полу и громко дышал. Я стал снимать с него полушубок. Он пробормотал что то и в обмороке повалился на бок.
Мне случилось видеть однажды, как мать лежала в обмороке и тетя Даша дула ей в рот. Точно так же поступил и я в этом случае. Мой гость лежал у теплой печки, и неизвестно, в конце концов, что помогло ему, хотя дул я просто отчаянно, так что и у меня самого голова закружилась. Как бы то ни было, он пришел в себя, сел и стал с жадностью греться. Нос его отошел. Он даже попробовал улыбнуться, когда я налил ему кружку горячей воды.
— Вы здесь одни, ребята?
Саня только сказала: «Одни», а он уже спал. Так быстро заснул, что я испугался: не умер ли? Но он, как будто в ответ, захрапел.
По—настоящему он пришел в себя на следующий день.
Когда я проснулся, он сидел на лежанке рядом с сестрой, и они разговаривали. Она уже знала, что его зовут Иваном Иванычем, что он заблудился и что никому не нужно о нем говорить, а то его «возьмут на цугундер». Честно сознаюсь — до сих пор не знаю точного смысла этого выражения, но помню, что мы с сестрой сразу поняли, что нашему гостю грозит какая—то опасность, и, не сговариваясь, решили, что никому и ни за что не скажем о нем ни слова. Разумеется, мне легче было промолчать, чем Сане. Иван Иваныч сидел на лежанке, подложив под себя руки, и слушал, а она болтала. Все уже было рассказано: отца забрали в тюрьму, мы подавали прошение, мать привезла нас и уехала в город, я — немой, бабка Петровна живет — второй дом от колодца, и у нее тоже есть борода, только поменьше и седая.
— Ах вы, мои милые, — сказал Иван Иваныч и легко соскочил с лежанки.
У него были светлые, глаза, а борода черная и гладкая. Сперва мне было странно, что он делает руками так много лишних движений; так и казалось, что он сейчас возьмет себя за ухо через голову или почешет подошву. Но скоро я привык к нему. Разговаривая, он вдруг брал в руки какую—нибудь вещь и начинал подкидывать ее или ставить на руку, как жонглер.
В первый же день он показал нам множество интересных затей. Он сделал из спичек, коры и головки лука какого—то смешного зверя, напоминавшего кошку, а из хлебного мякиша — мышку, и кошка ловила мышку и мурлыкала, как настоящая кошка, Он показывал фокусы: глотал часы, а потом вынимал их из рукава; он научил нас печь картошку на палочках, — словом, эти дни, которые он провел у нас, мы с сестрой не скучали.
— Ребята, а ведь я доктор, — однажды сказал он. — Говорите, что у кого болит? Сразу вылечу.
Мы были здоровы. Но он почему—то не захотел идти к старосте, у которого заболела дочка.
Но в такой позиции Я боюся, страх, Чтобы инквизиции Не донес монах,— сказал он и засмеялся.
От него я впервые услышал стихи. Он часто говорил стихами, даже пел их или бормотал, подняв брови и сидя по—турецки перед огнем.
Сперва ему, кажется, нравилось, что я ни о чем не могу его спросить, особенно когда он по ночам просыпался от каждого скрипа шагов за окном и долго лежал, опершись на локоть и прислушиваясь. Или когда он прятался на чердаке и сидел, пока не стемнеет, — так он провел один день, помнится, праздник Егория. Или когда он отказался познакомиться с Петровной. Но прошло два—три дня, и он заинтересовался моей немотой.
— Ты почему не говоришь? Не хочешь?
Я молча смотрел на него.
— А я тебе скажу, что ты должен говорить. Ты слышишь, стало быть, должен говорить. Это, брат, редчайший случай, коли ты все слышишь — и немой. Может, ты глухонемой?
Я замотал головой.
— Ну, вот. Значит, заговоришь.
Он вынул из заплечного мешка какие—то инструменты, пожалел, что мало света, хотя был ясный солнечный день, и полез мне в ухо.
— Ухо вульгарис, — объявил он с удовольствием, — ухо обыкновенное.
Он отошел в угол и сказал шепотом: «Дурак».
— Слышал?
Я засмеялся.
— Хорошо слышишь, как собака. — Он подмигнул Сане, которая, разиня рот, смотрела на нас. — Отлично слышишь. Что же ты, милый, не говоришь?
Он взял меня двумя пальцами за язык и вытащил его так далеко, что я испугался и захрипел.
— У тебя, брат, такое горло! Чистый Шаляпин. Н—да!
Он с минуту смотрел на меня.
— Нужно учиться, милый, — серьезно сказал он. — Ты про себя—то можешь что—нибудь сказать? В уме?
Он стукнул меня по лбу.
— В голове, понимаешь?
Я промычал, что да.
— Ну, а вслух? Скажи вслух все, что ты можешь. Ну, скажи: «да».
Я почти ничего не мог. Но все—таки сказал:
— Да.
— Прекрасно! Еще раз.
Я сказал еще раз.
— Теперь свистни.
Я свистнул.
— Теперь скажи: «у».
Я сказал «у».
— Лентяй ты, вот что! Ну, повторяй за мной…
Он не знал, что я все говорил в уме. Без сомнения, именно поэтому с такой отчетливостью запомнились мне первые годы. Но от моей немой речи еще так далеко было до всех этих «е», «у», «ы», до этих незнакомых движений губ, языка и горла, в котором застревали самые простые слова. Мне удавалось повторять за ним отдельные звуки главным образом гласные, но соединять их, произносить их плавно, не «лаять», как он мне велел, — вот была задача!
Только три слова: «ухо», «мама» и «плита», получились сразу, как будто я произносил их когда—то, а теперь оставалось только припомнить. Так оно и было: мать рассказывала, что в два года я уже начинал говорить и вдруг замолчал после какой—то болезни.
Мой учитель спал на полу, покрывшись полушубком и положив под сенник какую—то металлическую светлую штуку, а я все ворочался, пил воду, садился на постели, смотрел в замерзшее узорами окно. Я думал о том, как я вернусь домой, как стану говорить с матерью, с тетей Дашей. Я вспомнил первую минуту, когда я понял, что не умею, не могу говорить: это было вечером, мать думала, что я сплю, и, бледная, прямая, с черными косами, переброшенными на грудь, долго смотрела на меня. Тогда впервые пришла мне в голову горькая мысль, отравившая мои первые годы: «Я хуже всех, и она меня стыдится. Повторяя „е“, „у“, „ы“, я не спал до утра от счастья. Саня разбудила меня, когда был уже день.
— Я к бабушке бегала, а ты все спишь, — сказала она бистро. — У бабушки котенок пропал, его Мурка в котел снесла. А Иван Иваныч где?
Сенник лежал на полу, и еще видны были примятые места: голова, плечи, ноги. Но самого Ивана Иваныча не било. Он подкладывал под голову заплечный мешок — и мешка не было. Он покрывался полушубком — не было и полушубка.
— Иван Иваныч!
Мы побежали на чердак — никого.
— Вот те крест, он спал, пока я к бабушке бегала, я на него еще посмотрела, вижу — спит, думаю — пока я к бабушке сбегаю. Санька, смотри! На столе стояла черная трубочка с двумя кружками на концах: один плоский, побольше, другой маленький и поглубже. Мы вспомнили, что Иван Иваныч вынимал ее вместе с другими инструментами из заплечного мешка, когда смотрел мои уши.
Где же он? Иван Иваныч!..
С тех пор прошло много лет. Я летал над Беринговым, над Баренцевым морями. Я был в Испании. Я изучал побережье между Леной и Енисеем. И не из суеверия, а из благодарности к этому человеку я всегда вожу с собой эту черную трубочку, которую он забыл у нас или, может быть, оставил на память. Скоро я узнал, что это — стетоскоп, очень простой инструмент, которым доктора выслушивают легкие и сердце. Но тогда он казался мне таким же таинственным и милым, как и сам Иван Иваныч, как все, что он говорил и делал.
— Иван Иваныч!
Исчез, пропал, ушел, никому не сказавшись! Грустный, я вышел во двор и обошел вокруг дома. Следы! Его следы, уже слегка запорошенные снегом, шли прямо в поле, минуя дорогу, лежавшую в другой стороне. Все меньше становились они и, дойдя до пруда, исчезли на тропинке, по которой бабы ходили полоскать в проруби белье.
Глава 6. СМЕРТЬ ОТЦА. НЕ ХОЧУ ГОВОРИТЬ.
Всю зиму я учился говорить. С утра, едва проснувшись, и громко произносил шесть слов, которые Иван Иваныч завещал мне произносить ежедневно: «кура», «седло», «ящик», «вьюга», «пьют», «Абрам». Как это было трудно! И как хорошо, как непохоже говорила эти слова сестра! Но я был настойчив. Точно заклинанье, которое должно было мне помочь, я повторял их по тысяче раз в день. Они мне снились. Я представлял себе какого—то загадочного Абрама, который сажает куру в ящик или уходит из дому в шляпе и несет на плече седло. Вьюга, пьют!
Язык мой не слушался, губы чуть двигались. Сколько раз я готов был побить Саню, которая невольно смеялась надо мной. По ночам я просыпался в тоске и чувствовал; нет, никогда я не научусь говорить, навсегда останусь уродом, как однажды назвала меня мать. Но в эту же минуту я пробовал сказать и это слово: урод. Я помню, как это удалось мне наконец, и я уснул счастливый. Иван Иваныч велел мне учиться говорить, не двигая руками, чтобы отстать от той привычки глухонемых, которая уже довольно прочно во мне укоренилась. Положив руки в карманы, я глазами показывал на что—нибудь — на окно, на печь, на ведра — и громко, по слогам произносил это слово. Почему—то ударения мне не давались, я еще и до сих пор ставлю неправильные ударения…
День, когда, проснувшись, я не сказал шести заветных слов, был одним из самых печальных в моей жизни. Петровна рано разбудила нас в этот день — уже и это было очень странно, потому что не она, а мы обычно приходили к ней по утрам, топили печку, ставили чайник. Она вошла, стуча палкой, и остановилась перед иконой. Она долго бормотала что—то и крестилась. Потом окликнула сестру, велела зажечь лампу…
Через много лет, взрослым человеком, я как—то увидел в детской книжке бабу—ягу. Это была та же Петровна — бородатая, сгорбленная, с клюкою. Но Петровна была добрая баба—яга, а в этот день… в этот день, тяжело вздыхая, она сидела на лавке, и мне показалось даже, что слезы катятся по ее бороде.
— Слезай, Санька! — сказала она. — Иди ко мне.
Я подошел.
— Ты уже большой, Санька. — Петровна погладила меня по голове. — Вчера от матери письмо пришло, что Иван заболел.
Она плакала.
— Очень дюже заболел он в тюрьме. Голова у него распухла и ноги.
Пишет, что не знает, жив он теперь или нет.
И сестра заплакала.
— Что делать, божья воля, — сказала Петровна. — Божья воля, — повторила она с какой—то злостью и снова подняла глаза на икону.
Она сказала только, что отец заболел, но вечером, в церкви, я понял, что он умер. Вечером Петровна повела нас в церковь, чтобы мы «помолились во здравие», как она сказала.
Очень странно, но, прожив в деревне три месяца, я почти никого не знал, кроме нескольких мальчишек, с которыми катался на лыжах. Я никуда не ходил, стесняясь своей немоты. И вот теперь, в церкви, я увидел всю нашу деревню — толпу женщин и стариков, бедно одетых, молчаливых и таких же невеселых, как мы. Они стояли в темноте, — только спереди, где протяжно читал поп, горели свечи. Многие вздыхали и крестились.
«Господи, помилуй», — без конца повторял поп. Изо рта у него шел пар, а из кадила, которым он помахивал, — синеватый дымок. И мне казалось, что все, так же как и я не молятся, а просто смотрят на этот дымок, как он поднимается струйками, кружится и несется вверх, к синему, замерзшему окну. Должно быть, я забыл об отце. Но вдруг Петровна сердито толкнула меня в спину — до сих пор не знаю, за что, — и в эту минуту я вспомнил его и понял, что он умер.
Все вздыхали и крестились, потому что он умер, и мы с сестрой стояли здесь, в темноте церкви, потому что он умер, и Петровна сердито толкнула меня, потому что он умер. Мы стоим и «молимся во здравие», потому что он умер.
Петровна взяла сестру к себе, а я вернулся домой и долго сидел, не зажигая огня. Черные тараканы, которых бабка нарочно — на счастье — принесла к нам, шуршали на холодной плите. Я ел картошку и плакал.
Умер, и я его никогда не увижу! Вот его выносят из присутствия, из той комнаты, где мы с матерью подавали прошение… Я перестал есть и стиснул зубы, вспомнив этот холодный голос и руку с длинными сухими пальцами, в которой медленно качались очки. Подожди же! Я тебе отплачу! Когда—нибудь ты мне будешь кланяться, а я отвечу: «Голубчик, суд разберет…» Вот гроб несут по коридору, а мимо пробегают сторожа с бумагами, и никто не видит, не хочет видеть, что его несут. Только тетя Даша идет навстречу в длинном черном платке, как монашка. Идет и крестится и плачет. Но вот мы останавливаемся, кто—то стоит у дверей, гроб качается на руках и опускается на пол. Мать кланяется, и я вижу снизу, как дрожат у нее губы…
Я опомнился, услышав свой голо. Должно быть, у меня был жар, потому что я нес какую—то бессвязную, чепуху, ругал себя и почему—то мать и, помнится, разговаривал с Иваном Иванычем, хотя отлично знал, что он давно ушел и даже что его следы держались в поле только два дня, а потом их завалило снегом.
Но я говорил — громко и ясно! Я говорил, я мог бы теперь рассказать, что произошло в ту ночь на понтонном мосту, я доказал бы, что нож — мой, что я потерял его, когда наклонялся над убитым. Поздно! Опоздал на всю жизнь, и уже ничем нельзя помочь!
Обхватив голову руками, я лежал в темноте. В избе было холодно, ноги застыли, но я так и не встал до утра. Я решил, что больше не стану говорить. Зачем? Все равно он умер, и я его никогда не увижу.
Глава 7. МАТЬ.
Я плохо помню Февральскую революцию и до возвращения в город не понимал этого слова. Но я помню, что загадочное волнение, непонятные разговоры я тогда связал с моим ночным гостем, научившим меня говорить.
По вечерам, насаживая на палочки картошку, я часто думал о нем, и все таинственнее, все привлекательнее он мне представлялся. Почему он так неожиданно исчез? Не простился, не сказал, куда он идет. Почему он прятался на чердаке? Почему не хотел лечить старостину Маньку и даже к Петровне не пошел? Где он теперь? Вернется ли? Просыпаясь по ночам, я прислушивался: не стучат ли в окно? Не он ли? Никто не, стучал, только мягко, с неслышным шумом падал снег на наш дом, и вдруг начинал свистеть в трубе ветер.
И никто не спрашивал нас о нем. Но я был уверен, сам не знаю почему, что теперь все было бы иначе. Теперь ему не пришлось бы прятаться на чердаке. Пожалуй, он не отказался бы теперь познакомиться с Петровной!
Я не заметил, когда окончилась весна. Но лето началось в тот день, когда «Нептун», свистя и грозно пятясь задом, причалил к пристани, на которой мы с мамой ждали его с утра.
Минька, в кепке с золотыми буквами, в синей, уже изрядно потрепанной курточке, стоял, как прежде, на лесенке, отважно и небрежно поглядывая на пассажиров. Бородатый капитан—рулевой глухо говорил в трубку: «Стоп! Вперед!» и «Стоп! Задний ход!» Палуба таинственно дрожала. Мы возвращались в город. Мать везла нас домой — похудевшая, помолодевшая, в новом пальто и новом цветном платке…
Я часто думал зимой, как она будет поражена, услышав, что я говорю. А она только обняла меня и засмеялась. Она стала совсем другая за зиму. Все время она думала о чем—то — это я сразу узнавал по живым движеньям лица — и то расстраивалась молча, про себя, то улыбалась. Петровна решила, что она сходит с ума, и, ахнув, однажды спросила ее об этом. Мать улыбнулась и сказала, что нет.
Мы пошли в лес драть лыко для Петровны, которая плела лапти на продажу, и мать запомнилась мне такой, какой она была в этот день: черноволосая, крепкая, белозубая, в цветном платке, повязанном на груди крест на крест; она наклонялась, ловко срезала деревцо и, оборвав ветки, надкусив комель, одним движением сдирала лыко. Она и меня хотела научить, но ничего не вышло, и я только порезал палец.
Потом я спрятался в кустах и долго сидел задумавшись, слушая, как наперебой щебечут птицы, и поглядывая на мать, которая уходила от меня все дальше. И вдруг она запела:
Приехали торгаши за задние ворота. Кобылушку продала, белил я себе взяла; Я коровушку продала, румян я себе взяла; Подойничек продала, сурьмы я себе взяла.Солнце осветило кусты, и она выпрямилась, раскрасневшаяся, с блестящими глазами. Тут что—то было! При нас она редко вспоминала отца. Но каждый раз, когда она ласково говорила со мной, я знал, что она думала о нем. Сестру она всегда любила…
На пароходе она все думала — поднимала брови, покачивала головой, — должно быть, спорила с кем—то в уме. Я тоже думал и думал: мне представлялось, с какой важностью и буду разгуливать по двору и вдруг небрежно скажу что—нибудь, как будто всегда умел говорить. Заглядевшись на воду, я задремал и до смерти испугала во сне: мне померещилось, что я опять онемел.
— Мама, — сказал я шепотом.
Она молчала.
— Мама! — в ужасе заорал я.
Она обернулась.
Каким заброшенным, каким бедным показался мне наш двор, когда мы вернулись! В этом году никто не позаботился о стоках, и грязная вода, в которой плавали щепки, так и осталась стоять под каждым крыльцом. Низенькие амбары еще больше покосились за зиму, в заборе образовались такие дыры, через которые можно было въехать на телеге, за Сковородниковыми была навалена гора вонючих костей, копыт и обрезков шкур.
Старик варил клей. Он сидел на том же табурете, в переднике, в очках, примус стоял на плите, а на примусе — железная шайка, от которой так страшно несло, что меня все время тошнило, пока я у него сидел.
— Все думают, что это обыкновенный клей, — сказал он мне, когда полчаса спустя я запросился на свежий воздух, — а это клей универсальный. Он все берет — Железо, стекло, даже кирпич, если найдется такой дурак, чтобы кирпичи клеить. Я его изобрел. Мездровый клей Сковородникова. И чем он крепче воняет, тем крепче берет.
Он недоверчиво посмотрел на меня поверх очков.
— Мездровый клей Сковородникова, — повторил он и вздохнул. — И занять бы еще у кого—нибудь семь рублей на рекламу — отбою бы не было. Мужики берут на рынке столярный клей сорок копеек фунт. Это как назвать? Грабеж. Ну—ка, скажи что—нибудь!
Я сказал. Он одобрительно кивнул головой.
— Эх, Ивана мне жаль, — сказал он.
Тетя Даша была в отъезде и вернулась недели через две. Вот кого я обрадовал и испугал! Мы сидели на кухне вечером. Она все спрашивала меня, как нам жилось в деревне, — спрашивала и сама же отвечала.
— Что же вы, бедняги, должно быть, скучали одни—то да одни? Кто же вам варил—то? Петровна? Петровна.
— Нет, не Петровна, — вдруг сказал я, — мы сами варили.
Никогда не забуду, какое лицо сделалось у тети Даши, когда я произнес эти слова. Открыв рот, она потрясла головой и икнула.
— И не скучали, — добавил я хохоча. — Только по тебе, тетя Даша, скучали. Что же ты к нам не приехала, а?
Она обняла меня.
— Милый ты мой, да как же это? Заговорил? Заговорил, голубчик ты мой! И молчит, еще притворяется, ах ты этакой! Ну, рассказывай!
И я рассказал ей о замерзшем докторе, постучавшемся в нашу избу, как мы прятали его трое суток, как он показал мне «е», «у», «ы» и заставил сказать «ухо».
— Ты за него должен молиться, Саня, — серьезно сказала тетя Даша. — Как его зовут?
— Иван Иваныч.
— Молись, каждый вечер молись!
Но я не умел и не любил молиться.
Глава 8. ПЕТЬКА СКОВОРОДНИКОВ.
Тетя Даша сказала, что я очень переменился с тех пор, как стал говорить. Я и сам это чувствовал. Прошлым летом я чурался товарищей, тяжелое сознание своего недостатка связывало меня. Я был болезненно застенчив, угрюм и очень печален. Теперь этому, пожалуй, трудно поверить.
За два—три месяца я догнал своих сверстников. Петька Сковородников, которому было двенадцать лет, подружился со мной. Он был длинный, решительный, рыжий мальчик.
Первые в моей жизни книги я увидел у Петьки. Это были «Рассказы о действиях охотников в прежние войны», «Юрий Милославский» и «Письмовник», на обложке которого был изображен усатый молодец в красной рубашке, с пером в руке, а над ним в голубом овале — девица.
За чтением этого «Письмовника» мы и подружились. Что—то таинственное было в этих обращениях: «Любезный друг» или «Милостивый государь А.Ф.». Письмо штурмана дальнего плавания припомнилось мне, и я впервые сказал его вслух.
Мы сидели в Соборном саду. По ту сторону реки был виден наш двор и дома, очень маленькие, гораздо меньше, чем на самом деле. Вот меленькая тетя Даша вышла на крыльцо и села чистить рыбу. Мне казалось, что я вижу, как серебристые чешуйки отскакивают и, поблескивая, ложатся у ее ног. Вот Карлуша, городской сумасшедший, который беспрестанно то хмурился, то улыбался, прошел по тому берегу и остановился у наших ворот, — должно быть, заговорил с тетей Дашей.
Я все время смотрел на них, пока читал письмо. Петька внимательно слушал.
— Интересно, — сказал он. — Я это тоже знал, да забыл. А потом что?
— Все.
— Интересно, что потом с этим кораблем стало?
К нему могла помощь подоспеть. Ты читал Ника Картера?
— Нет.
— Там тоже был такой случай. Одного миллионера бросили в водоем. Он догадался и закрыл кран. Тогда садовник стал поливать и думает: почему не идет вода? И в последнюю минуту подоспела помощь. Он бы там подох. А ты здорово наизусть говоришь. Долго учил?
— Не знаю.
— Я сейчас что—нибудь прочитаю, а ты можешь повторить?
Он прочитал:
«Ответ с отказом.
Милостливый государь С. Н.
Выраженные Вами чувства чрезвычайно лестны для меня, но мне невозможно принять их по причинам, которые бесполезно приводить здесь, ибо они не касаются Вас:
Примите и проч.
Примечание. Ответы с отказом всегда пишутся общими простыми фразами. В них не должно заключаться никаких посторонних идей, кроме учтивости».
Слово в слово я повторил это письмо вместе с примечанием. Петька недоверчиво высморкался.
— Здорово — сказал он. — А это?
И он прочитал, не останавливаясь, одним духом:
«Письмо к нему и к ней.
Начну чужими словами: «Я желала б забыть все минувшее, да с минувшим расстаться мне жаль: в нем и счастье, мгновенно мелькнувшее, в нем и радость моя, и печаль». Знаешь ли? Я нашла то, что дорого ценю в тебе (следует указать, что именно). Лучше тебя, дороже и милее нет, ты мне мил был, как (следует как). Вспомнила я первые слезы и первый твой поцелуй на руке моей. Вот уже два дня, как я живу без тебя (следует: весело, скучно, хорошо или о семейных обстоятельствах), Прощай, целую тебя».
Слегка запинаясь, я повторил и это письмо.
— Здорово! — с восхищением сказал Петька. — Вот так память!
К сожалению, мы очень редко так хорошо проводили время. Петька был занят: он «торговал папиросами от китайцев» — так называлось в нашем городе это тяжелое дело. Китайцы, жившие в Покровской слободе, набивали гильзы и нанимали мальчишек торговать. Как сейчас, я вижу перед собой одного из них, по фамилии Ли, — маленького, черно—желтого, с необыкновенно морщинистым лицом и довольно доброго: считалось, что «на угощенье» Ли дает больше других китайцев. «На угощенье» — это был наш чистый заработок (потом и я стал торговать), потому что мы действительно всех угощали: «Курите, пожалуйста»; но тот наивный покупатель, который принимал угощение, непременно платил за него чистоганом. Это были наши денежки. Папиросы были в коробках по двести пятьдесят штук — «Катык», «Александр III», и мы продавали их на вокзале, в поездах, на бульварах.
Приближалась осень 1917 года, но я бы сказал неправду, если бы стал уверять, что видел, чувствовал или хоть немного понимал все глубокое значение этого времени для меня, для всей страны и для всего земного шара… Ничего я не видел и ничего не понимал. Я забыл даже и то неопределенное волнение, которое испытал весною в деревне. Я просто жил день за днем, торговал папиросами и ловил раков, желтых, зеленых, серых, — голубой так и не попался ни разу.
Но всем вольностям скоро пришел конец.
Глава 9. ПАЛОЧКА, ПАЛОЧКА, ПАЛОЧКА, ПЯТАЯ, ДВАДЦАТАЯ, СОТАЯ…
Наверно, он бывал у нас еще до нашего возвращения в город: все знали его во дворе, и то неопределенно—насмешливое отношение, которое он встречал у Сковородниковых и тети Даши, уже сложилось. Но теперь он стал приходить почти каждый день. Иногда он приносил что—нибудь, но, честное слово, я не съел ни одной его сливы, ни одного стручка, ни одной карамели!
Он был кудреватый, усы — кольцами, с жирным лицом, но довольно стройный. Густой голос его был, по—моему, очень противен. Он лечился от угрей, заметных на его смуглой коже. Но со всеми своими угрями и кудрями, со своим густым противным голосом он, к сожалению, нравился моей матери — разве иначе стал бы он бывать у нас почти ежедневно? Да, он нравился ей. При нем она становилась совсем другая, смеялась и даже начинала так же длинно говорить, как и он. Однажды я видел, как она сидела одна и улыбалась, — я по ее лицу догадался, что она думает о нем. Другой раз, разговаривая с тетей Дашей, она сказала про кого—то: «Ненормальностей сколько угодно». Это были его слова.
Фамилия его была Тимошкин, но он почему—то называл себя Гаер Кулий, — до сих пор не знаю, что он хотел этим сказать. Помню только, что он любил говорить матери, что «в жизни он бедный гаер» и что «жизнь швыряла его, как щелку».
При этом он делал значительное лицо и с глупым, задумчивым видом смотрел на мать.
И этот гаер бывал теперь у нас каждый вечер. Вот один из таких вечеров.
Кухонная лампа висит на стене, и вихрастая тень моей головы закрывает тетрадку, — бутылку чернил и руку, которая, беспомощно скрипя пером, двигается по бумаге. Я сижу за столом, от старания упираясь языком в щеку, и вывожу палочки — одну, другую, третью, сотую, тысячную. Я вывел не меньше миллиона палочек, потому что мой учитель утверждал, что, пока они не будут «попиндикулярны», дальше двигаться ни в коем случае нельзя. Он сидит рядом со мной и учит меня, по временам снисходительно поглядывая на мать. Он учит не только как писать, но и как жить, и от этих бесконечных дурацких рассуждений у меня начинает кружиться голова, и палочки выходят пузатые, хвостатые, какие угодно, но только не прямые, не «попиндикулярные».
— Каждому охота схватить лакомый кусок, — говорит он, — и к этому по природе каждый должен стремиться. Но можно ли подобный кусок назвать обеспечивающим явлением — это еще вопрос!
Палочка, палочка, палочка, пятая, двадцатая, сотая…
— Я, например, с детства попал в трудную атмосферу, и мне отнюдь не удалось рассчитывать на рабочую силу моей матери. Наоборот, когда семейная жизнь пришла у нас к развалу и отца, как обвиненного в краже лошадей, приговорили к тюремному заключению, не кто иной, как я, был вынужден добывать кусок хлеба.
Палочка, палочка, толстая, тонкая, кривая, пузатая, пятая, двадцатая, сотая…
— Печально то, что, вернувшись из тюрьмы, отец стал выпивать, а поскольку человек углубляется в пьянство, постольку разрушается и его хозяйство. Потом его встрела смерть, и, безусловно, скоропостижная, потому что она явилась следствием обдирания павшей лошади.
Я отлично знаю, что произошло потом с отцом моего учителя: он распух, и «начатый делать гроб пришлось спешно переделывать, ибо фигура покойника до трех раз превзошла его живого по объему». Эта отвратительная смерть однажды приснилась мне…
Палочка, палочка, палочка… перо скрипит, палочка, клякса…
— И опустела наша родовая избенка. Но я отнюдь не пал духом и не сел на шею матери в одиннадцать лет.
Учитель смотрит на меня. Мне только десять, но я начинаю беспокойно ерзать на табурете.
— Я поступил в ресторан, я стал слугой и побегушкой, но перестал, как лишний рот, отражаться на заработке моей матери.
Без сомнения, именно эта удивительная манера выражаться произвела такое сильное впечатление на мою мать. Если бы Гаер говорил просто; она бы мигом догадалась, что это обыкновенный человек — глупый, ленивый и жестокий. Впрочем, о том, что он очень жесток, она скоро узнала.
Она сидит за тем же столом и слушает его, как зачарованная. Она чинит рубашки — отцовские рубашки, — и я знаю, для кого она их чинит. С предчувствием какой—то беды я поднимаю глаза на ее бледное лицо, на черные волосы с пробором посредине, на тонкие руки — и возвращаюсь к своим палочкам… Очень хочется провести хоть одну, длинную черту вдоль строчки, вышел бы прекрасный забор, — но нельзя! Палочки должны быть «попиндикулярны».
— Между тем моя мать, — продолжал Гаер, — стала заметно подаваться в сторону доброхотных подаяний. Что же я сделал? Сознавая, что для моего развития это является безусловным минусом, я обратился к моему дяде, незабвенной памяти Никите Зуеву, и попросил его повлиять на мать…
Сотый раз я слышу про этого незабвенной памяти дядю, и мне представляется, как старый жирный человек с таким же угреватым лицом приезжает на розвальнях из деревни, снимает желтую шубу и входит, отряхивая снег и крестясь на икону. Он бьет мать, а маленький Гаер Кулий стоит и спокойно смотрит, как бьют его мать.
Палочки, палочки… но забор уже давно нарисован, и хотя я отлично знаю, что мне сейчас попадет, я быстро рисую над забором солнце, птиц, облака. Продолжая говорить, Гаер косится на меня, я торопливо закрываю солнце и птиц рукавом. Поздно! Он берет в руки мою тетрадку. Он поднимает брови. Я встаю.
— А вот теперь посмотрите, Аксинья Федоровна, чем занимается ваш любезный сынок!
И моя мать, которая никогда не била детей, пока был жив отец, берет меня за ухо и стучит моей головой о стол. Бывали и другие вечера: случалось, что мой будущий отчим читал вслух, — и как не похожи были эти чтения на наши с Петькой Сковородниковым в Соборном саду. Гаер читал всегда одну и ту же книгу: «Из дневника артурца», с таким стихотворением, напечатанным на обложке:
Ныне полный кавалер, Защищая царя и отечество, Шкуры своей не жалел, Пять ран и две контузии получил, Но хорошо и врага проучил.И эту книгу он читал с таким назидательно—угрожающим выражением, как будто не кто иной, как я, был виноват во всех бедствиях храброго артурца.
Уроки прекратились в тот день, когда Гаер Кулий переехал к нам. Накануне была отпразднована свадьба, на которую, сказавшись больной, не пришла тетя Даша.
Я помню, какая нарядная сидела на свадьбе мать. Она была в белой жакетке рытого бархата — подарок жениха — и причесана, как девушка: косы крест на крест вокруг головы. Она разговаривала, пила, улыбалась, но иногда со странным выражением проводила рукой по лицу. Гаер Кулий произнес речь, в которой указал на свои заслуги перед бедной семьей, «безусловно шедшей к развалу, поскольку ее бывший глава оставил разрушительную картину», и, между прочим, упомянул о том, что он открыл передо мной «общее образование», очевидно понимая под этим словом «папиндикулярные» палочки.
Едва ли мама слышала эту речь. Опустив глаза, она сидела рядом с женихом и, вдруг нахмурясь, смотрела прямо перед собой с растерянным выражением.
Старик Сковородников, крепко выпив, подошел к ней и ударил по плечу.
— Эх, Аксинья, променяла ты…
Она стала беспомощно, торопливо улыбаться.
Месяца два после свадьбы мой отчим служил на пристани в конторе, и, хотя очень тяжело было видеть, как он приходит и садится, развалясь, на то место, где прежде сидел отец, и ест его ложкой, из его тарелки, все—таки еще можно было жить, убегая, отмалчиваясь, возвращаясь домой, когда он уже спал. Но вскоре, за какие—то темные дела его выгнали из конторы, и жизнь сразу стала невыносимой. Несчастная мысль заняться нашим воспитанием — моим и сестры — пришла в эту туманную голову, и у меня не стало больше ни одной свободной минутки.
Теперь я догадываюсь, что в юности он служил в лакеях — видел же он где—нибудь все эти смешные и странные штуки, которым он подвергал меня и сестру!
Прежде всего он потребовал, чтобы мы приходили здороваться с ним по утрам, хотя мы спали на полу в двух шагах от его кровати. И мы приходили. Но никакие силы не могли заставить меня произнести: «Доброе утро, папа!»
Утро было не доброе, и папа был не папа. Нельзя было прежде него садиться за стол, а чтобы встать, нужно было попросить у него позволения. Мы должны были благодарить его, хотя мать по прежнему стирала в больнице, а обед, купленный на ее и мои деньги, варила сестра. Я помню отчаяние, овладевшее мною, когда бедная Саня встала из—за стала и, некрасиво присев, как он ее учил, сказала в первый раз: «Благодарю вас, папа». Как мне хотелось бросить в это толстое лицо тарелку с недоеденной кашей! Я не сделал этого и до сих пор сожалею…
Как я его ненавидел! Мне противны были его походка, его храп, его волосы, даже его сапоги, которые с мрачной энергией он сам чистил каждое утро. Просыпаясь по ночам, я подолгу с ненавистно смотрел на его толстое спящее лицо. Он не подозревал, какой опасности подвергался! Я бы убил его, если бы не тетя Даша.
Глава 10. ТЕТЯ ДАША.
Я не стал бы, пожалуй, и вспоминать это время, но другой и милый образ встает передо мной — тетя Даша, которую я тогда впервые сознательно оценил и полюбил.
Я приходил к ней и молчал — она и так все знала.
Чтобы утешить меня, она рассказывала мне историю своей жизни. С удивлением я узнал, что ей нет еще и сорока лет! А мне она казалась настоящей бабушкой, в особенности, когда, надев очки, она читала по вечерам чужие письма, занесенные на наш двор половодьем (она их еще читала).
Двадцати пяти лет она осталась вдовой: ее муж был убит в самом начале русско—японской войны. На комоде, накрытом кружевной накидкой, между вазами голубого витого стекла стоял его портрет. А за портретом хранилось письмо, которое я, разумеется, знал наизусть. Походная канцелярия 26—го Восточно—Сибирского стрелкового полка извещала тетю Дашу, что ее муж, рядовой Федор Александрович Федоров, награжденный знаками отличия военного ордена 3—й и 4—й степеней, пал геройской смертью в бою с японцами. Герой! Долго еще при этом слове мне представлялся коротко остриженный мужчина с усами и бородкой, сидящий на фоне снежных гор в камышовом кресле.
Каждый вечер тетя Даша читала по одному письму — это стало для нее чем—то вроде обряда. Обряд начинался с того, что тетя Даша пробовала угадать содержание письма по конверту, по адресу, в большинстве случаев совершенно размытому водой.
Потом происходило чтение — именно происходило, — неторопливое, с долгими вздохами, с ворчаньем, когда попадались неразборчивые слова. Тетя Даша радовалась чужим радостям, сочувствовала чужим горестям одних поругивала, других хвалила. Выходило, одним словом, что все эти письма адресованы ей. Точно так же она читала и книги. Семейные и любовные дела разных князей и графов, героев приложений к журналу «Родина», тетя Даша разбирала так, как будто все князья и графы жили на соседнем дворе.
— А барон—то Л., — говорила она оживленно, — так я и знала, что он бросит мадам де Сан—Су. Милая, милая, а вот — на тебе! Хорош, голубчик!
Когда, спасаясь от Гаера Кулия, я проводил у нее вечера, она уже дочитывала почту — оставалось не больше пятнадцати писем. Среди них было одно, которое я должен привести здесь. Тетя Даша не поняла его. Но мне и тогда казалось, что оно чем—то связано с письмом штурмана дальнего плавания…
Вот оно (первые строчки тетя Даша не могла разобрать):
«…молю тебя об одном: не верь этому человеку! Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны только ему. Достаточно, что из шестидесяти собак, которых он продал нам в Архангельске, большую часть еще на Новой Земле пришлось пристрелить. Вот как дорого обошлась нам эта услуга. Не только я один — вся экспедиция шлет ему проклятия. Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара.
Остается делать все, что в наших силах. Как много я мог бы рассказать тебе о нашем путешествии! Для Катюшки хватило бы историй на целую зиму. Но какой ценой приходится расплачиваться, боже мой! Я не хочу, чтобы ты подумала, что наше положение безнадежно. Но вы все—таки не особенно ждите…»
Тетя Даша читала запинаясь, поглядывая на меня через очки с поучительным выражением. Я слушал ее. Я не знал, что через несколько лет буду мучительно вспоминать каждое слово.
Письмо была длинное на семи или восьми страницах — подробный рассказ о жизни корабля, затертого льдами и медленно двигающегося на север. Меня особенно поразило, что лед был даже в каютах и каждое утро приходилось вырубать его топором.
Я мог бы рассказать своими словами о том, как, охотясь на медведей, упал в трещину и разбился насмерть матрос
Скачков, о том, как все измучились, ухаживая за больным механиком Тиссом. Но дословно я запомнил только те несколько строк, которые приведены выше. Тетя Даша все читала, вздыхая, — и словно туманная картина представлялась мне: белые палатки на белом снегу; собаки, тяжело дыша, тащат сани; огромный человек, великан в меховых сапогах, в меховой высоченной шапке, идет навстречу саням, как поп в меховой рясе… Однажды, придя к тете Даше, я застал ее в слезах. Она плакала перед комодом, на котором стоял портрет ее мужа, героя русско—японской войны. Увидев меня, она содрала с головы платок.
— Вот что делает со мною, кровопийца, ругатель, — сказала она мне с такой злобой, что я удивился. — Вот как надругался! Думаете, сирота, так и некому меня охранить? Найдется!
— Тетя Даша!
— Найдется! — повторила она и снова заплакала. — Не буду я терпеть.
Уеду, вот тебе и вся стать. Поминай, как звали!
Она села на кровать, сняла ботинок и швырнула его об пол
— Пускай возьмут тебя черти! — сказала она торжественно. — И сам ты, старый черт, помни и знай! Я тебе не пара. Не будет этого никогда, Я понял, что она ругала старика Сковородникова, и спросил, что он сделал. Но она только махнула рукой. Мне еще тогда показалось, что она сама хорошенько не знает, обидел он ее или нет. Во всяком случае, он сказал ей что—то особенное, потому что вечером тетя Даша надела свой черный кружевной платок и пошла к цыганке—гадалке, которая жила на соседнем дворе. Вернулась она задумчивая, тихая и больше не ругала Сковородникова; наоборот, вдруг сказала про себя: «и непьющий».
Это странное поведение продолжалось и на следующий день. Тетя Даша сидела во дворе и вязала, когда у ворот появился незнакомый красномордый человек в грязном парусиновом пальто, в толстых сапогах. Осмотревшись, он направился к старику Сковородникову, варившему свой универсальный клей на крыльце.
— Это вы—с продаете дом? Сковородников посмотрел на него, потом на тетю Дашу.
— Я, — отвечал он, — продаю этот дом и все имущество по причине отъезда.
Тетя Даша взволнованно зашептала, зашептала, вскочила, уронив стул, и, как вчера, содрала с головы платок.
— Земля имеется?
— Имею землю, ограниченную в пределах забора.
Тетя Даша шептала все громче.
— Не продается! — вдруг закричала она. — Не продажный этот дом! Уходите! Сковородников с хитрым выражением закрыл один глаз.
— Ты хозяин? — вдруг быстро спросил его человек в парусиновом пальто.
— Я.
— Так что же — продаешь, нет?
— Вот, говорят — не продается, — самодовольно сказал Сковородников и захохотал.
Петька был при этой сцене. Он стоял на пороге кухни и презрительно усмехался. Я ничего не понимал. Но вскоре все разъяснилось.
Глава 11. РАЗГОВОР С ПЕТЬКОЙ.
Еще сидя над «попиндикулярными» палочками, я задумал удрать. Недаром рисовал я над забором солнце, птиц, облака! Потом я забыл эту мысль. Но с каждым днем мне все трудней становилось возвращаться домой.
С матерью я почти не встречался. Она уходила, когда я еще спал. Иногда, просыпаясь по ночам, я видел ее за столом. Белая, как мел, от усталости, она медленно ела, и даже Гаер немного робел, встречаясь с ее черными из подлобья глазами.
Сестру я очень любил. Но уж лучше бы я и ее не любил. Я помню, как этот подлец Гаер избил ее до полусмерти за то, что она пролила рюмку постного масла. Ее прогнали из—за стола, но я тайком принес ей картошки. Она ела ее и горько плакала и вдруг спохватилась — не потеряла ли она свои цветные стеклышки, когда ее били. Стеклышки нашлись. Она засмеялась, доела картошку и снова начала плакать…
Должно быть, уже приближалась осень, потому что мы с Петькой бродили по Соборному саду и подкидывали босыми ногами листья. Петька врал, будто старинный, прикрытый горкой подкоп, на котором мы сидели, ведет из сада на тот берег реки под водой и будто Петька один раз дошел до середины.
— Всю ночь шел, — небрежно сказал Петька. — Там скелеты на каждом шагу
С горки был виден на высоком берегу Покровский монастырь, белый, окруженный невысокими крытыми стенами, за ним — луга, то светло—зеленые, то желтые, под ветром менявшие цвета, как море.
Но тогда мы с Петькой очень мало думали о красоте природы. Мы лежали на горке вниз животами и сосали какие—то горькие корешки, про которые Петька говорил, что они сладкие.
Помнится, разговор начался с крыс: живут ли в подкопе крысы? Петька сказал, что живут, сам видел, и что у крыс, как у пчел, бывает царица—матка.
— Они в високосный год все передохнут, — добавил он, — а царица опять наплодит. Она громадная, как зайчиха.
— Врешь!
— Вот те крест, — равнодушно сказал Петька. У нас было как бы условлено, о чем можно врать, а о чем нет. Мы уже и тогда, мальчиками, уважали друг друга.
— А в Туркестане крыс нет, — задумчиво добавил Петька, — там тушканчики, и в степи полевые крысы. Но это совсем другое: они едят траву, вроде кроликов. Он часто говорил о Туркестане. Это был, по его словам, город, в котором груши, яблоки, апельсины росли прямо на улицах, так что можно срывать их сколько угодно и никто за это не всадит тебе в спину хороший заряд соли, как сторожа в наших фруктовых садах. Спят там на коврах под открытым небом, потому что зимы не бывает, а ходят в одних халатах — ни тебе сапог, ни пальто
— Там турки живут. Все вооруженные поголовно. Кривые шашки в серебре, за опояском нож, а на груди патроны. Поехали, а?
Я решил, что он шутит. Но он не шутил. Немного побледнев, он вдруг отвернулся от меня и встал, взволнованно глядя на далекий берег, где знакомый старый рыбак спал над своими удочками, у самой воды вставленными в гальку. Мы помолчали.
— А батька? Отпустит?
— Стану я его спрашивать! Ему теперь не до меня.
— Почему?
— Потому что он женится, — с презрением сказал Петька.
Я был поражен.
— На ком?
— На тете Даше.
— Врешь!
— Он ей сказал, что если она за него не выйдет, он дом продаст, а сам пойдет по деревням кастрюли лудить. Она сперва ершилась, а потом согласилась. Влюблена, что ли, — презрительно добавил Петька и плюнул.
Я еще не верил. Тетя Даша! Замуж! За старика Сковородникова? Которого она так ругала?
— А тебе что?
— Ничего! — сказал Петька.
Он насупился и заговорил о другом. Два года тому назад умерла его мать, и он, плача, не помня себя, пошел со двора и забрел так далеко, что его насилу отыскали Я вспомнил, как его за это дразнили мальчишки.
Мы еще немного поговорили, а потом легли на спину, раскинув руки крестом, и стали смотреть в небо. Петька уверял, что если так пролежать минут двадцать не мигая, можно днем увидеть звезды и луну. И вот мы лежали и смотрели. Небо было ясное, просторное; где—то высоко, перегоняя друг друга, быстро шли облака. Глаза мои налились слезами, но я изо всех сил старался не мигать. Луны все не было, а про звезды я сразу понял, что Петька соврал.
Где—то шумел мотор. Мне показалось, что это военный грузовик работает на пристани (пристань была внизу, под крепостной стеной). Но шум приближался.
— Аэроплан, — сказал Петька.
Он летел, освещенный солнцем, серый, похожий на красивую крылатую рыбу. Облака надвигались на него, он летел против ветра. Но с какой свободой, впервые поразившей меня, он обошел облака! Вот он был уже за Покровским монастырем, черная крестообразная тень, бежала за ним по лугам на той стороне реки, Он давно исчез, а мне все казалось, что я еще вижу вдалеке маленькие серые крылья.
Глава 12. ГАЕР КУЛИЙ В БАТАЛЬОНЕ СМЕРТИ.
У Петьки был родной дядя в Москве, и весь наш план держался на этом дяде. Дядя работал на железной дороге — Петька утверждал, что машинистом, а я думал, что кочегаром. Во всяком случае, прежде Петька всегда называл его кочегаром. Этот машинист—кочегар служил на поездах, пять лет тому назад ходивших из Москвы в Ташкент. Я говорю с такой точностью — пять лет — потому, что от дяди уже пять лет не было писем. Но Петька говорил, что это ничего не значит, потому что дядя всегда редко писал, а работает он на тех же самых поездах, тем более что последнее письмо пришло из Самары. Мы вместе посмотрели карту, и действительно оказалось, что Самара находится между Москвой и Ташкентом.
Словом, нужно было только разыскать этого дядю. Адрес его Петька знал, — если бы и не знал, всегда можно по фамилии найти человека. Насчет фамилии у нас не было ни малейших сомнений: Сковородников — такая же, как у Петьки.
Так представлялась нам вторая часть пути: дядя должен был просто отвезти нас из Москвы в Ташкент на паровозе. Но как добраться до Москвы?
Петька не уговаривал меня. Но с каменным лицом он выслушивал мои робкие возражения. Он не отвечал мне — ему было все ясно. А мне ясно было только одно: если бы не Гаер, я бы никуда не ушел. И вдруг оказалось, что он уходит, — он уходит, а я остаюсь.
Это был памятный день. В военной форме, в новых, блестящих, скрипящих сапогах, в фуражке набекрень, из—под которой ровной волной выходили кудри, он явился домой и положил на стол двести рублей. По тому времени это были неслыханные деньги, мать с невольной жадностью прикрыла их руками.
На меня и Петьку и всех мальчишек с нашего двора поразили не деньги, — нет! Совсем другое. На рукаве его форменной гимнастерки был вышит череп, а под черепом — скрещенные кости, Отчим, поступил в батальон смерти.
Без сомнения, мои читатели не помнят этих батальонов. Человек с барабаном вдруг появлялся на каком—нибудь собрании, на гулянье — везде, где было много народу. Он бил в барабан — все умолкали. Тогда другой человек, большей частью офицер с таким же черепом и костями на рукаве, как у моего отчима, начинал говорить. От имени Временного правительства он приглашал всех в батальон смерти. Но хотя он и утверждал, что каждый записавшийся получит шестьдесят рублей в месяц плюс офицерское обмундирование, не считая подъемных, никому не хотелось умирать за Временное правительство, и в батальон смерти записывались главным образом такие жулики, как мой отчим.
Но в тот день, когда, торжественно—мрачный, он пришел домой в новой форме и принес двести рублей, он никому не казался жуликом. Даже тетя Даша, которая его ненавидела, вышла и неестественно поклонилась.
Вечером он пригласил гостей и произнес речь.
— Все эти проделываемые начальством процедуры, — сказал он, — имеют назначение оградить свободу революции от нищих, абсолютное большинство которых составляют евреи. Нищие и большевики создают подлую авантюру, от которой, безусловно, страдают все плоды существующего порядка. Для нас, защитников свободы, эта трагедия решается очень просто. Мы берем в свои руки оружие, и горе тому, кто ради удовлетворения личной власти покусится на революцию и свободу! Свобода стоит дорого.
Задешево мы ее не отдадим! Такова в общих чертах окружающая момент обстановка!
Мать была очень весела в этот вечер. В белой бархатной жакетке, которая очень шла ей, она с бутылкой вина обходила гостей и после каждой рюмки все подливала. Приятель отчима, коротенький любезный толстяк, тоже из батальона смерти, встал и почтительно предложил выпить за ее здоровье. Он от души смеялся, когда отчим говорил, а теперь стал очень серьезен. Высоко подняв бокал с вином, он чокнулся с матерью и коротко сказал: «Ура!»
Все закричали «ура». Она смутилась. Немного порозовев, она вышла на середину комнаты и низко, по—старинному, поклонилась.
— Красавица! — громко сказал толстяк.
Потом старик Сковородников произнес ответную речь. Он был пьян и поэтому говорил с очень длинными паузами, во время которых все молчали.
— Каждый должен понимать о смерти, — сурово сказал он. — Тем более кое—кто только напрасно коптит небо, и ему одна дорога — в ваш батальон. Но меня, например, туда калачом не заманишь. Почему? Потому что я за вашу свободу умирать не желаю. Ваша свобода — это торговля. И ваш батальон — та же торговля. Продажа своей будущей смерти за двести рублей. Позвольте, а если я не умру? Деньги обратно?
Он сказал еще что—то про министров—капиталистов и сел. Сжав кулаки, отчим подошел к нему. Плохо кончился бы этот праздник… Но толстяк (который от души смеялся и над ответной речью) вскочил и бросился между ними. Пока он уговаривал отчима, Сковородников вышел, нарочно громко стуча сапогами.
Но праздник все—таки кончился плохо.
Глава 13. ДАЛЬНИЕ ПРОВОДЫ.
Должно быть, шел третий час, я давно спал и проснулся от крика. Табачный дым неподвижно висел над столом, все давно ушли, отчим спал на полу, раскинув руки и ноги. Крик повторился, я узнал голос тети Даши и подошел к окну. Какая—то женщина лежала на дворе, и тетя Даша громко дула ей в рот.
— Тетя Даша!
Как будто не слыша меня, тетя Даша вскочила, зачем—то обежала наш дом и постучала в окно.
— Воды дайте! Петр Иваныч! Там Аксинья лежит!
Я открыл дверь, она вошла и стала будить отчима.
— Петр Иваныч! Ах ты, господи! — Отчим только мычал. — Саня, нужно ее сюда перенести, она, должно быть, упала во дворе и расшиблась. Петр Иваныч!
С закрытыми глазами отчим сел, потом снова лег. Так мы его и не добудились.
Всю ночь мы возились с матерью, и только под утро она пришла в себя. Это был простой обморок, но, падая, она ударилась головой о камни, и мы, к несчастью, узнали об этом лишь от доктора к вечеру другого дня. Доктор велел прикладывать лед. Но покупать лед всем показалось странным, и тетя Даша решила вместо льда прикладывать мокрое полотенце.
Я помню, как Саня выбегала во двор, плача, мочила полотенце в ведре и возвращалась, вытирая слезы ладонью. Мать лежала спокойная, такая же бледная, как всегда. Ни разу она не спросила об отчиме, на другой день перебравшемся в свой батальон, но зато нас — меня и сестру — не отпускала от себя ни на шаг. Тошнота мучила ее, она поминутно щурилась, как будто старалась что—то разглядеть, и это почему—то очень не нравилось тете Даше. Она проболела три недели и, кажется, уже начинала поправляться. И вдруг на нее «нашло».
Однажды я проснулся под утро и увидел, что она сидит в постели, спустив босые ноги на пол.
— Мама!
Она посмотрела на меня исподлобья, и вдруг я понял, что она меня не видит.
— Мама! Мама!
Все с тем же внимательным, строгим выражением она отвела мои руки, когда я хотел ее уложить… С этого дня она перестала есть, и доктор велел кормить ее насильно яйцами и маслом. Это был прекрасный совет, но у нас не было денег, а в городе не было ни яиц, ни масла.
Тетя Даша ругала ее и плакала, а мать лежала рассеянная, мрачная, перекинув на грудь черные косы, и не говорила ни слова. Только раз, когда тетя Даша в отчаянии объявила, что она знает, почему мать не ест, — не хочет жить, потому и не ест, — мать пробормотала что—то, нахмурилась и отвернулась.
Она стала очень ласкова со мной с тех пор, как заболела, и даже как будто полюбила не меньше, чем Саню. Часто она подолгу смотрела на меня — внимательно и, кажется, с каким—то удивлением. Никогда она не плакала до болезни, а теперь — каждый день, и я понимал, о чем она плачет. Она жалела, что прежде не любила меня, раскаивалась, что забыла отца, быть может, просила прощения за Гаера, за все, что он с нами делал. На какое—то оцепенение нашло на меня. Все валилось из рук, я ничего не делал, ни о чем не думал.
Таков был и наш последний разговор — ни я, ни она не произнесли ни слова. Она только подозвала меня и взяла за руку, качая головой и с трудом удерживая дрожащие губы… Я понял, что она хочет проститься. Но, как чурбан, я стоял, опустив голову и упорно глядя вниз, на пол.
На другой день она умерла…
В полной походной форме, с винтовкой за плечами, с гранатой у пояса, отчим плакал в сенях, но никто почему—то не обращал на него никакого внимания… Мы с сестрой сидели во дворе, и все, кто бы ни пришел, останавливались подле нас и говорили одно и то же: «Небось, жалко вам маму?» или: «Теперь одни остались, сиротки?» Это был какой—то один страшный обряд — и то, что старухи, приходившие к Сковородниковым играть в «козла», заперлись у нас, а потом, с подоткнутыми юбками, с засученными рукавами, выносили ведра, как будто мыли полы, и то, что тетя Даша бегала за какой—то «подорожной». Мне казалось, что мы должны сидеть во дворе, пока не кончится этот обряд. И вот мы сидели и ждали.
Через много лет я прочитал у Бальзака, что «наблюдательность обостряется от страданий», и тотчас же вспомнил эти дни, когда обряжали, отпевали и хоронили мать. Мне запомнилось каждое слово, каждое движение — и свое, и чужое. Я понял, почему в первый день при матери, лежавшей на столе с иконкой в сложенных руках, все говорили шепотом, потом все громче и наконец, своими обыкновенными голосами. Они привыкли — и Сковородников, и отчим, и тетя Даша, — уже привыкли к тому, что она умерла! Я с ужасом заметил, что и сам вдруг начинал думать о другом.
Неужели я привык, неужели я думаю о битке со свинцовой пулей, который Петька подарил мне уже давно, а я из—за смерти матери так и не собрался испытать этот биток! И сейчас же с раскаяньем я принуждал себя думать о маме.
Так было и в день похорон.
У Сани болела голова, и ее оставили дома. Отчим, которого с утра вызвали в батальон, опоздал к выносу, и мы, прождав его добрых два часа, одни отправились за гробом. Мы — это Сковородников, тетя Даша и я.
Они шли пешком, тетя Даша держалась за какую—то скобу, чтобы не отставать, а меня посадили на колесницу.
Стыдно вспомнить, но я чувствовал гордость, когда знакомые мальчишки встречались по дороге и, остановившись, провожали нашу процессию глазами или когда кто—нибудь на две—три минуты присоединялся к нам, чтобы спросить, кого это хоронят. Сейчас же я начинал ругать себя. Но мы ехали все дальше и дальше, равнодушный кучер в кепке и грязном балахоне сонно покрикивал на клячу, и мысль опять начинала бродить бог весть где — далеко от этого бедного, едва прикрытого белой тряпкой гроба.
Вот Застенная; вдоль городской стены деревянные щиты закрывали проломы, чтобы никто не прошел в Летний сад без билета. И никто, кроме нас с Петькой, не знал, что предпоследний щит можно раздвинуть — и, пожалуйста, ты в саду! Хочешь — слушай музыку, хочешь — нарви тайком левкоев в садоводстве и после спектакля продавай публике — пять копеек за пучок!
Вот — кадетский корпус; возы с матрацами стоят во дворе, и люди в светлых шинелях, не то офицеры, не то гимназисты, зачем—то тащат матрацы, закладывают ими окна во втором этаже. Вот Афонина горка, про которую в городе говорили, что это засыпанная церковь и в пасхальную ночь из—под земли слышится пенье. Кто—то копошился на Афониной горке, и, приглядевшись, я различил те же светлые шинели, мелькавшие среди наваленных веток.
И вдруг я очнулся. Я вспомнил, что еще когда мы проезжали Базарную площадь, у ворот присутствия стоял часовой, в саду за решеткой торопливо ходили какие—то люди в штатском, и один из них тащил пулемет. Магазины были закрыты, улицы пусты, за Сергиевской мы не встретили ни одного человека. Что случилось?
Кучер в грязном балахоне торопился, то и дело подхлестывая лошадь. Тетя Даша и Сковородников едва поспевали. Мы выехали на Посадскую пустошь — так называлось пустое грязное место между городом и Посадом, — а там спуск к реке, Мельничий мост… Что—то коротко простучало вдалеке, кучер испуганно оглянулся и нерешительно поднял кнут. Тетя Даша догнала нас и стала ругаться:
— Ошалел, что ли? Не дрова везешь!
— Стреляют, — мрачно возразил кучер.
Спуск к реке был прорыт в косогоре, и несколько минут мы ехали, ничего не видя по сторонам. Где—то стреляли, но все реже. Мельничий мост, с которого я не раз ловил пескарей, был уже виден. И вдруг кучер привстал, замахнулся… Лошадь рванулась, и мы помчались вдоль берега, далеко за собой оставив Сковородникова и тетю Дашу.
Наверно, это были пули, потому что мелкие щепочки стали отлетать от колесницы, и одна попала мне прямо в лицо. Резной столбик, за который я держался рукой, зашатался, заскрипел, нас тряхнуло, и он упал на дорогу. Я слышал, как где—то позади кричал Сковородников, плачущим голосом ругалась тетя Даша.
Надвинув пониже свою кепку и крутя над головой кнутом, кучер гнал лошадь прямо на мост, как будто не видя, что въезд перегорожен какими—то балками, досками, кирпичами. Раз! Лошадь попятилась, рванулась направо, налево и остановилась.
Среди людей, выбежавших к нам из—за этих балок, я узнал знакомого наборщика, который прошлым летом снимал комнату у гадалки на соседнем дворе. В руках у него была винтовка, а за кожаным поясом, выглядевшим очень странно на обыкновенном пальто, торчал наган. Все они были вооружены, у некоторых были даже шашки.
Кучер слез, подоткнул балахон и, засунув кнут в сапог, стал ругаться.
— Что же, вы не видите — похороны? Чуть лошадь не застрелили!
— Мы не стреляли, это ты под кадет попал, — возразил наборщик. — А ты не видишь, дурак, что баррикады?
— Как твоя фамилия? — кричал кучер — Вы мне ответите! Кто за ремонт платить будет? — Он ходил вокруг колесницы и трогал пальцем побитые места.
— Вы мне спицу сломали!
— Дурак, — снова сказал наборщик, — говорят тебе — не мы! Станем мы по гробам стрелять. Дура!
— Кого хоронишь, мальчик? — тихо спросил меня пожилой человек в папахе, на которой вместо кокарды была красная лента.
— Мать, — с трудом сказал я.
Он снял папаху.
— Вы, товарищи, потише, — сказал он. — Похороны. Вот парнишка мать провожает. Нехорошо все—таки.
Все посмотрели на меня. Наверно, у меня был неважный вид, потому что когда все было улажено и тетя Даша, плача, догнала нас и мы через мельницу выехали на мост, я нашел в кармане своей курточки два куска сахару и белый сухарь.
Измученные, по тому берегу Песчинки мы вернулись домой после похорон.
Над городом стояло зарево — горели казармы Красноярского полка. У понтонного моста Сковородников окликнул знакомого постового, и начался длиннейший разговор, из которого я ничего не понял: кто—то где—то разобрал пути, конный корпус идет на Петроград, вокзал занят батальоном смерти. Фамилия «Керенский» с разными прибавлениями повторялась ежеминутно. Я чуть стоял на ногах, тетя Даша охала и вздыхала.
Сестра спала, когда мы вернулись. Не раздеваясь, я сел подле нее на постель.
Не знаю почему, в эту ночь, первую ночь, когда мы остались одни, тетя Даша не ночевала у нас. Она принесла мне каши, но мне не хотелось есть, и она поставила тарелку на окно. На окно — не на стол, где утром лежала мать. Утром, а сейчас ночь. Саня спит на ее постели. На ее постели, на том месте, где она лежала с венчиком на лбу, с подорожной в руке, — я и не знал, что так называется эта свернутая трубкой бумага. Я встал и подошел к окну. Темно было на дворе, а над рекой — зарево, черно—дымные полосы разгорались и гасли.
Казармы горят, но ведь они за железной дорогой, далеко, совсем в другой стороне! Я вспомнил, как она взяла меня за руку, качая головой и стараясь не плакать. Почему я ничего не сказал ей? Она очень ждала хоть одного слова.
Галька накатывала на берег, — должно быть, поднялся ветер, и дождь стал накрапывать. Долго, ни о чем не думая, я смотрел, как большие тяжелые капли скатывались по стеклу — сперва медленно, потом все быстрее и быстрее.
Мне приснилось, что кто—то рванул дверь, вбежал в комнату и скинул мокрую шинель на пол. Я не сразу догадался, что это вовсе не сон. Отчим метался по дому, на ходу стаскивал с себя гимнастерку. Скрипя зубами, он стаскивал ее, а она не шла, облепила спину. Голый, в одних штанах, он бросился к своему сундуку и вынул из него заплечный мешок.
— Петр Иваныч!
Мельком он взглянул на меня и ничего не ответил. Мохнатый и потный, он торопливо перекладывал белье из сундука в мешок. Он закатал одеяло, прижал коленом, перетянул ремнем. Все время он злобно двигал губами, и сжатые зубы становились видны — крупные и длинные, настоящие волчьи.
Три гимнастерки он надел на себя, а четвертую сунул в мешок. Должно быть, он забыл, что я не сплю, иначе, пожалуй, посовестился бы сорвать с гвоздя и сунуть туда же, в мешок, мамину бархатную жакетку.
— Петр Иваныч!
— Молчи! — подняв голову, сказал он. — Все к черту!
Он переобулся, надел шинель и вдруг увидел на рукаве череп и кости. С ругательством он снова скинул шинель и стал срывать череп и кости зубами. Мешок на плечо — и на десять лет этот человек исчез из моей жизни! Остались только грязные следы на полу да пустая жестянка от папирос «Катык», в которой он держал запонки и цветные булавки.
Все объяснилось на другой день. Военно—революционный комитет объявил в городе советскую власть. Батальон смерти и добровольцы выступили против него и были разбиты.
Глава 14. БЕГСТВО. Я НЕ СПЛЮ, Я ПРИТВОРЯЮСЬ, ЧТО СПЛЮ.
Откуда Петька взял, что теперь по всем железным дорогам можно будет ездить бесплатно? Наверно, слух о бесплатных трамваях донесся до него в таком преувеличенном виде.
— Взрослым нужно командировку, — твердо сказал он. — А нам — ничего.
Он больше не молчал. Он уговаривал меня, дразнил, упрекал в трусости и презрительно смеялся. Что бы ни происходило на белом свете, все убеждало его, что мы, ни минуты не медля, должны махнуть в Туркестан. Сковородников объявил, что он большевик, и велел тете Даше убрать иконы. Петька сейчас же объяснил это событие в свою пользу и доказал, что теперь во дворе все равно никому не будет житья.
— Его бабы загрызут, — сказал он мрачно. — Я теперь за него не ручаюсь.
Военно—революционный комитет приказал разбить ренсковые погреба и спустить вина в Песчинку. Оказалось, что и это способствует нашему плану.
— Рыба передохнет, — равнодушно, как взрослый, сказал Петька, — и все одно — начнут самогон гнать. Нет, нужно ехать!
Не знаю, уговорил бы он меня в конце концов или нет, если бы тетя Даша и Сковородников на семейном совете не решили отдать меня и Саню в приют. Тетя Даша была мастер на все руки — вышивала рубашки, делала абажуры. Но кому нужны были теперь ее абажуры? Возможно, что, выходя за Сковородникова, она надеялась поправить свое хозяйство. Но, увлекшись политической деятельностью, старик забросил свой универсальный клей, и жить окончательно стало нечем. Со слезами она объявила, что будет ходить к нам в приют каждый день, что отдает нас только на зиму, а летом мы непременно вернемся. В приюте нас будут кормить, учить, оденут. Дадут новые сапоги, две рубашки, пальто с шапкой, чулки и кальсоны. Помню, как я спросил ее:
— А что такое кальсоны?
Мы знали приютских. Это были бледные ребята в серых курточках, в измятых серых штанах. Они здорово били птиц из рогаток, а потом жарили их у себя в саду и ели. Вот как их кормили в приюте! Вообще они были «арестанты», и мы с ними дрались, и вот теперь я стану «арестантом»!
В тот же день я пошел к Петьке и сказал, что согласен. Денег у нас было немного — десять рублей. Мы продали на толкучке мамины ботинки — еще десять. Итого — двадцать. С большими предосторожностями было вынесено из дому одеяло. С такими же предосторожностями оно было возвращено назад: никто не взял, хотя мы просили очень дешево, — кажется, четыре с полтиной. Как раз эти четыре с полтиной мы проели, пока таскались по рынку с одеялом. Итого — пятнадцать с полтиной.
Петька хотел загнать свои книжки, но книжки, к счастью, никто не купил. Я говорю — к счастью, потому что эти книжки стоят теперь в моей библиотеке на самом почетном месте. Впрочем, одну, — кажется, «Юрий Милославский», — удалось продать. Итого — шестнадцать. Мы считали, что этих денег хватит до дяди, а там начнется увлекательная, превосходная паровозная жизнь. Помнится, нас очень волновал и вызывал множество споров вопрос о вооружении. У Петьки был финский нож, который он называл кинжалом. Мы сшили для него чехол из старого сапога. Но пускаться в путь с одним холодным оружием было как—то неинтересно. Где достать револьвер?
Одно время мы надеялись, что военно—революционный комитет выдаст нам по нагану. Потом решили, что, пожалуй, не выдаст, и отправились на толкучку — не продаст ли нам свое оружие какой—нибудь дезертир? После долгих поисков мы нашли то, что нам было нужно.
Это был большой пятиствольный револьвер с резной деревянной ручкой — именно пятиствольный, я не оговорился. Он заряжался со всех своих пяти стволов, и после каждого выстрела нужно было поворачивать эти стволы рукою. Без сомнения, это был один из первых револьверов на земле. Я потом видел такие в музее. Но нам он очень понравился. Именно эти пять стволов нас поразили. Из такого как ахнешь! Продавал его не дезертир, а старая генеральша — это тоже внушало нам уважение. Словом, из шестнадцати рублей едва ли осталось бы больше трех с полтиной, если бы, пока мы ходили за деньгами, генеральша не исчезла вместе со своим револьвером.
Теперь я вижу, что нам все—таки повезло. Случись так, что мы купили бы это оружие и испытали его (а у нас уже и порох был заготовлен), вместо маршрута Энск — Москва — Ташкент мы отправились бы по маршруту наш двор — Спасское кладбище.
Итак, решено было ограничиться холодным оружием.
Все остальное было в полном порядке: ботинки крепкие, пальто целые, у Петьки даже с бобриковым воротником, штанов по паре.
Я был очень мрачен в этот день, и тетя Даша несколько раз принималась меня утешать. Бедная тетя Даша! Если бы она знала, что мы отложили наш отъезд только потому, что рассчитывали на ее кокоры! Завтра она должна была отвести нас с Саней в приют и целый день пекла нам «в дорогу» кокоры. Она пекла их целый день и все снимала очки и сморкалась.
С меня она взяла торжественное обещание — не воровать, не курить, не грубить, не лениться, не пьянствовать, не ругаться, не драться, — больше заповедей, чем в священном писании. Сестренке, которая была очень грустна, она подарила прекрасную старинную ленту.
Разумеется, можно было просто уйти из дому — и поминай, как звали! Но Петька решил, что это неинтересно, и выработал довольно сложный план, поразивший меня своей таинственностью.
Во—первых, мы должны были дать друг другу «кровавую клятву дружбы». Вот она:
«Кто изменит этому честному слову, — не получит пощады, пока не сосчитает, сколько в море песку, сколько листьев в лесу, сколько с неба падает дождевых капель. Захочет идти вперед — посылай назад, захочет идти налево — посылай направо. Как я ударяю моей шапкой о землю, так гром поразит того, кто нарушит это честное слово. Бороться и искать, найти и не сдаваться».
По очереди произнося эту клятву, мы должны были пожать друг другу руки и разом ударить шапками о землю. Это было сделано в Соборном саду накануне отъезда. Я сказал клятву наизусть, Петька прочитал по бумажке. Потом он уколол палец булавкой и расписался на бумажке кровью: «П.С.», то есть Петр Сковородников. Я с трудом нацарапал: «А.Г.», то есть Александр Григорьев.
Во—вторых, я должен был лечь в десять часов и притвориться, что сплю, хотя никто не интересовался, сплю я или притворяюсь. В три часа ночи Петька должен был свистнуть под окном три раза — условный сигнал: все в порядке, дорога свободна, можно бежать.
Это было гораздо опаснее, чем днем, когда действительно все было в порядке, дорога свободна, когда никто бы не заметил, что мы убежали. Ночью нас могли сцапать караулы — город был на осадном положении, — собаки по всему берегу на ночь спускались с цепей. Но
Петька приказал, и я повиновался, И вот наступил этот вечер — мой последний вечер в родном доме.
Тетя Даша сидит за столом и чинит мою рубашку. Хоть в приюте и дают белье, а все—таки еще одну, на всякий случай! Перед нею — лампа, на лампе — голубой абажур, подарок тети Даши на мамину свадьбу. Теперь у него какой—то сконфуженный вид — как будто он плохо чувствует себя в нашем опустевшем доме. Темно в углах. Чайник висит над плитой, а на тени — это не чайник, а чей—то огромный перевернутый нос. Из щели под окном тянет свежестью, пахнет рекою. Тетя Даша шьет и говорит. Она что—то берет со стола, и светлый круг на потолке начиняет дрожать. Десять часов. Я притворяюсь, что сплю.
— Ты, Саня, смотри, слушайся брата во всем, — говорит тетя Даша сестре. — Ты, как девочка, должна на него опираться. Мы всегда опираемся на мужчин, как на силу. Уж он тебя в обиду не даст.
Сердце щемит, но я стараюсь не думать о Сане. Вот мы приезжаем в Москву! Петькин дядя встречает нас на вокзале. Он похож на Сковородникова, но моложе, веселей. Паровоз стоит на далеких путях, черный человек подбрасывает уголь в топку, искры сыплются из трубы и гаснут. Мы мчимся, мелькают деревья, ходят вверх и вниз телефонные провода. Теперь и мы с Петькой бросаем уголь в топку — жарко, весело; выглянешь — и ветер свистит в ушах.
— А ты, Саня, — говорит мне тетя Даша, и я вижу, как слеза ползет из—под очков и падает на мою рубашку, — береги сестру. Вы будете в разных отделениях, но я попрошу, чтобы тебе разрешили каждый день ее навещать.
— Ладно, тетя Даша.
— Господи, боже ты мой! Была бы жива Аксинья…
Она поправляет лампу, вдевает нитку и снова берется за работу, вздохнув.
Половина одиннадцатого. Я не сплю, я притворяюсь, что сплю. Я вижу деревья в белых цветах, а в тени, под цветами, ковры — синие, зеленые, голубые. Мы в Туркестане. Апельсины растут на улицах. Мы рвем их сперва потихоньку, потом все смелее. Больше некуда класть, и Петька вынимает из мешка запасную пару штанов. Он завязывает концы на штанах, он бросает апельсины в штаны. Вот старик с бородой ведет нас в маленький белый дом. Оружие висит на стене — кинжалы, пятиствольные револьверы, кривые шашки в серебре. «Якши?» — говорит он и предлагает нам выбрать по кинжалу, револьверу и шашке.
— И читать научат и писать, — слышу я сквозь сон и думаю: откуда же здесь тетя Даша? — Может, и в люди выйдешь. Может, и нам еще спасибо скажешь.
Я не сплю, я притворяюсь, что сплю. Половина двенадцатого, двенадцать. Тетя Даша встает. В последний, в самый последний раз я вижу ее доброе лицо над лампой, освещенное снизу. Она ставит ладонь над стеклом, дует — и темнота! Она крестит нас в темноте и ложится: сегодня она ночует у нас.
Хорошо притворяться, когда не хочется спать! Я с трудом открываю глаза. Который час? Еще далеко до трех. Пьяная песня доносится с реки. Галька накатывает на берег. А сигнала все нет как нет, только ходики тикают да тетя Даша, вздыхая, ворочается с боку на бок.
Я сажусь, чтобы не заснуть, и кладу голову на колени. Я притворяюсь, что сплю. Я слышу свист и не могу проснуться.
Петька потом говорил, что охрип, как цыган, пока меня досвистался. Но он свистал все время, пока я надевал сапоги, пальто, клал в мешок кокоры. Очень сердитый, он зачем—то велел мне поднять воротник пальто, и мы побежали.
Все обошлось превосходно, никто нас не тронул — ни собаки, ни люди. Правда, на всякий случай мы версты три дали крюку по городскому валу. Дорогой я пытался узнать у Петьки, уверен ли он, что теперь по всем железным дорогам бесплатный проезд. Он отвечал, что уверен, — на худой конец доедем под лавкой. Две ночи — и Москва, скорый поезд отходит в пять сорок.
Никакого поезда в пять сорок не было, когда, обойдя караулы, мы в полуверсте от станции махнули через забор.
Тускло блестели мокрые черные рельсы, тускло горели на стрелках желтые фонари. Что было делать? Ждать до утра на станции? Нельзя: могут забрать караулы. Вернуться домой?
В эту минуту бородатый, весь залитый маслом сцепщик вылез из—под товарного состава и пошел к нам навстречу по шпалам.
— Дяденька, — смело сказал ему Петька, — как отсюда в Москву — направо или налево? Сцепщик посмотрел на него, потом на меня. Я похолодел: «Сейчас отправит в комендатуру».
— До Москвы, хлопцы, пятьсот верст.
— Ты только скажи, дяденька: направо или налево?
Сцепщик засмеялся.
— Налево.
— Спасибо, дяденька. Санька, пошли налево!
Глава 15. БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ.
Все путешествия, когда путешественникам по одиннадцати—двенадцати лет, когда они ездят под вагонами и не моются месяцами, похожи одно на другое. В этом легко убедиться, перелистав несколько книг из жизни беспризорных. Вот почему я не стану описывать нашего путешествия из Энска в Москву.
Семь заповедей тети Даши были вскоре забыты. Мы ругались, дрались, курили — иногда навоз, чтобы согреться. Мы врали: то тетка, поехавшая в Оренбург за солью, потеряла нас по дороге, то мы были беженцами и шли к бабушке в Москву. Мы выдавали себя за братьев — это производило трогательное впечатление. Мы не умели петь, но я читал в поездах письмо штурмана дальнего плавания. Помню, как на станции Вышний Волочок какой—то моложавый седой моряк заставил меня повторить это письмо дважды.
— Очень странно, — сказал он, глядя мне прямо в лицо суровыми серыми глазами, — экспедиция лейтенанта Седова? Очень странно.
И все же мы не были беспризорниками. Подобно капитану Гаттерасу (Петька рассказывал мне о нем с такими подробностями, о которых не подозревал и сам Жюль Верн), мы шли вперед и вперед. Мы шли вперед не только потому, что в Туркестане был хлеб, а здесь его уже не было. Мы шли открывать новую страну — солнечные города, привольные сады. Мы дали друг другу клятву.
Как эта клятва помогала нам!
Однажды, подходя к Старой Руссе, мы сбились с дороги и заблудились в лесу. Я лег на снег и закрыл глаза. Петька пугал меня волками, ругался, даже бил — все было напрасно. Я не мог больше сделать ни шагу. Тогда он снял шапку и бросил ее на снег.
— Ты клятву давал, Санька, — сказан он, — бороться и искать, найти и не сдаваться. Значит, ты теперь клятвопреступник? Сам сказал — клятвопреступник не получит пощады.
Я заплакал, но встал. Поздней ночью мы дошли до деревни. Деревня была староверческая, но одна старушка все же приняла нас, накормила и даже вымыла в бане.
Так от деревни к деревне, от станции к станции мы, наконец, добрались до Москвы. Дорогой мы продали, променяли и проели почти все, что было взято с собой из Энска. Даже Петькин кинжал в ножнах из старого сапога, был продан, помнится, за два куска студня.
Непроданными остались только наши бумаги—клятвы, подписанные кровью «П.С.» и «А.Г.», и адрес Петькиного дяди.
Дядя! Как часто мы говорили о нем! В конце концов, он стал представляться мне каким—то паровозным владыкой: борода по ветру, дым из трубы, пар из—под котла…
И вот наконец — Москва! Морозной февральской ночью мы выбрались через окно из уборной, в которой провели последний перегон, и спрыгнули на рельсы. Москвы было не видать, темно, да мы ею и не интересовались. Это была просто Москва, а дядя жил в Москве—Товарной, седьмое депо, ремонтная мастерская. Два часа мы блуждали по шпалам, путались среди сходящихся и расходящихся рельсов. Начинало светать, когда седьмое депо предстало перед нами — мрачное здание с темными овальными окнами, с высокой овальной дверью, на которой висел замок. Дяди не было. Не у кого было даже спросить о дяде. Утром в комитете седьмого депо мы узнали, что дядя уехал на фронт.
Все кончено! Мы вышли и сели на эстакаду.
Прощайте, улицы, на которых растут апельсины, прощайте, ночи под открытым небом, прощайте, нож за опояской и кривая шашка в серебре!
На всякий случай Петька вернулся в комитет — спросить: не был ли дядя женат? Нет, дядя был холостой. Он жил, оказывается, в каком—то вагоне и так в этом вагоне и поехал на фронт.
Совсем рассвело, и Москва была теперь видна: дома, дома (мне казалось, что все это — вокзалы), огромные кучи снега, редкие трамваи. И снова дома и дома. Что делать?
Так начались плохие дни. Чем мы только не занимались! Мы дежурили в очередях. Мы нанимались к буржуям сгребать снег с панелей перед домами: была объявлена «трудовая повинность». Мы выгребали из цирковой конюшни навоз. Мы ночевали в подъездах, на кладбищах, на чердаках.
И вдруг все переменилось…
Мы шли, помнится, по Божедомке, мечтая только об одном: встретить где—нибудь костер; тогда случалось, что костры разводили и на Кузнецком. Нет, не видать! Снег, темнота, тишина! Холодная ночь. Подъезды, куда ни глянь, закрыты. Дрожа, мы шли и молчали. Боюсь, пришлось бы Петьке снова бить шапкой о землю, но в эту минуту пьяные голоса донеслись из подворотни, мимо которой мы только что прошли. Петька зашел во двор, я сел на тумбу, стуча зубами и засунув в рот дрожащие пальцы. Петька вернулся.
— Айда! — радостно сказал он. — Пустили!
Глава 16. ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ.
Хорошо спать, когда над головою крыша! Хорошо в двадцатиградусный мороз сидеть у «буржуйки», колоть и подкидывать дровишки, пока не загудит в трубе! Но еще лучше, развешивая соль или муку, думать о том, что за работу нам обещан сам Туркестан. Мы попали в притон инвалидов—спекулянтов, хозяин притона, хромой поляк с обваренной физиономией, обещал взять нас с собой в Туркестан. Оказывается, это не город, я страна, столица Ташкент, тот самый Ташкент, куда каждые две три недели ездят наши инвалиды.
Мы нанялись к этим жуликам паковать продукты.
Жалованья мы не получали — только стол и приют. Но мы были рады и этому.
Если бы не хозяйка, жена хромого спекулянта, жизнь была бы просто не дурна! Хозяйка нам досмерти надоела.
Толстая, с вытаращенными глазами, тряся животом, она прибегала в сарай, где мы паковали продукты, посмотреть, все ли цело.
— Пфе! А пфе! Як смиешь так робиць? /Как смеешь так делать?/
Робиць не робиць, а действительно, это было не так просто — развешивая, например, свиной шпиг, не отщипнуть хоть маленький кусочек. Пиленый сахар сам застревал в рукавах и карманах. Но мы держались. Эх! Знали бы мы, что все равно не видеть нам Туркестана, как своих ушей, — пожалуй, чего—нибудь и недосчиталась бы старая ведьма!
Однажды (мы работали в притоне уже третий месяц) она примчалась к нам в одном халате. В руках у нее был замок, которым наш сарай запирался на ночь. Вытаращив глаза, она остановилась на пороге, оглянулась и побледнела.
— Не биться, не стучаться — прошептала она и схватилась за голову. — Не кричать! Молчать!
Мы и опомниться не успели, как, тяжело дыша, она задвинула засов, повесила замок и ушла.
Это было так неожиданно, что с минуту мы и точно молчали. Потом Петька выругался и лег на пол. Я тоже лег, и мы стали смотреть — под дверьми была узкая щель.
Сперва все было тихо — пустой двор, подтаявший снег с желтыми, налившимися водой следами. Потом появились незнакомые ноги в черных крепких сапогах — одна пара, другая, третья. Ноги шли к флигелю через двор. Две пары пропали, третья осталась у крыльца. Рядом опустился приклад.
— Облава, — прошептал Петька и вскочил.
В темноте он стукнул меня головой, и я прикусил язык. Но тут было не до языка.
— Нужно бежать!..
Кто знает, может быть, моя жизнь пошла бы другим путем, если бы мы захватили с собой веревку. Веревок было сколько угодно в сарае. Но мы вспомнили о них, когда были уже на чердаке. Сарай был каменный, с чердаком, крыша односкатная, и на задней стенке — круглое отверстие, выходившее на соседний двор.
Петька выглянул в это отверстие и оглянулся. Он расцарапал щеку, когда мы в темноте отдирали от потолка доски, и теперь поминутно вытирал кровь кулаком.
— Прыгнуть, что ли?
Но не так легко прыгнуть с высоты пяти—шести метров через небольшое отверстие в гладкой стене, — разве только как в воду, вниз головой. Нужно было вылезть в это отверстие ногам наружу, сесть, согнувшись в три погибели, и, оттолкнувшись всем телом, упасть вниз. Петька так и сделал. Я еще думал, не вернуться ли за веревкой, а он уже сидел в дыре. Обернуться он не мог. Он только сказал:
— Ничего, Саня, смелее.
И исчез. С упавшим сердцем я поглядел ему вслед. Ничего, он упал счастливо на мокрую кучу снега по ту сторону забора, подходившего в этом месте очень близко к сараю.
— Давай!
Я вылез и сел, сжимая колени. Весь соседний двор был теперь виден — маленькая девочка каталась на финских санках вдоль старинного с колоннами дома, ворона сидела на водосточной трубе. Вот девочка остановилась и с любопытством посмотрела на нас. Ворона тоже посмотрела, но равнодушно, и отвернулась, втянув голову между крыльев.
— Давай!
Кроме девочки и вороны, на дворе был еще человек в кожаном пальто. Он стоял у того места, где наш флигель примыкал к чужому двору. Я видел, как он докурил папиросу, бросил ее и спокойно направился к нам.
— Давай! — отчаянно крикнул Петька.
Все вдруг пришло в движение, когда я стал слабо отталкиваться руками. Ворона вспорхнула, девочка испуганно попятилась. Петька опрометью кинулся к воротам, человек в кожаном пальто побежал за ним. Я все понял в эту минуту. Но было уже поздно — я летел вниз.
Таков был мой первый полет — вниз по прямой, с высоты пяти метров, без парашюта. Не могу сказать, что он был удачен. Я грудью ударился о забор, вскочил и снова упал. Последнее, что я еще видел, был Петька, выскочивший на улицу и захлопнувший ворота перед самым носом человека в кожаном пальто.
Глава 17. ЛЯСЫ.
Разумеется, это было очень глупо — бежать, когда мы ни в чем не виноваты. Ведь мы сами не спекулировали, только работали у спекулянтов. Нам бы ничего не сделали, только допросили бы и отпустили. Но теперь поздно было раскаиваться. Человек в кожаном пальто крепко держал меня за руку, мы шли куда—то, — наверное, в тюрьму. Я попался, а Петька удрал. Я был теперь один. Вот уже вечер, солнце садится, галки медленно летят над деревьями вдоль Страстного бульвара… Я не плакал, но, должно быть, у меня было отчаянное лицо, потому что человек в кожаном пальто внимательно посмотрел на меня и разжал свою руку: понял, что не убегу.
Он привел меня в просторный, светлый зал на шестом этаже огромного дома у Никитских ворот. Это был распределитель Наробраза, в котором я провел три памятных дня…
У меня сердце упало, когда я увидел эти багровые морды. Одни, сидя на корточках вокруг глиняной печки, резались в карты, другие снимали с высоких окон длинные карнизы и тут же отправляли их в печку, третьи спали, четвертые строили дом — дом из старых рам и полотен, сложенных как попало в углу. По ночам, когда в распределителе становилось холодней, чем на улице, эти домохозяева зажигали примус и пускали желающих в свой дом — кого за пару папирос, кого за кусок хлеба… И среди этого дикого развала на высоких постаментах стояли и равнодушно смотрели белыми слепыми глазами гипсовые фигуры греческих богов — Аполлона, Дианы и Геркулеса. Только у богов и были человеческие лица. Под утро, просыпаясь от холода и выбивая зубами дробь, я робко поглядывал на них. Небось, думают: «Дурак ты, дурак! Зачем ушел из дому? Подумаешь, приют, — весной вернулся бы, стал бы помогать старикам, нашлась бы работа! А теперь ты остался один, — умрешь, никто и не вспомнит. Только Петька порыскает по Москве, да вздохнет тяжело тетя Даша! Проси—ка, брат, одежду да вылетай домой!» В Наробразе меняли одежду — старую жгли, а взамен выдавали штаны и рубашку. Многие беспризорники нарочно попадались, чтобы сменить ободравшуюся одежду.
Все три дня я промолчал. Для мальчика, который так недавно научился говорить, это было совсем не трудно. Да и с кем говорить? Каждый раз, когда приводили новых беспризорников, я невольно смотрел, нет ли среди них моего Петьки. Нет. И хорошо, что нет! Я сидел в стороне и молчал.
И вот от голода, от холода, от тоски я стал заниматься лепкой. В бывшей мастерской живописи и ваяния было сколько угодно белой скульптурной глины. Как—то я взял кусок, размочил его кипятком и начал мять в пальцах. И вот сама собой получилась жаба. Я сделал ей большие ноздри, выпученные глаза и попробовал вылепить зайца, Разумеется, это было еще очень плохо. Но что—то шевельнулось в душе, когда я вдруг увидел раздвоенную мордочку в бесформенном комке глины. Я запомнил эту минуту: никто не видел, что я леплю; старый вор, попавший каким—то чудом в распределитель для беспризорных, рассказывал о том, как на вокзалах «работают в паре». Я стоял в стороне у окна, сдерживая дыхание, смотрел на маленький комок глины, из которого торчали заячьи уши, и не понимал, почему я волнуюсь…
Потом я вылепил коня с толстой расчесанной гривой. Лясы! Конь старика Сковородникова, вот что это такое! Это были лясы, только не из дерева, а из глины. Не знаю почему, но это открытие обрадовало меня. Я заснул веселый. Я как будто надеялся, что лясы спасут меня. Помогут выйти отсюда, помогут найти Петьку, помогут мне вернуться домой, а ему добраться до Туркестана. Помогут сестре в приюте, Петькиному дяде на фронте, помогут всем, кто бродит ночью по улицам в холодной и голодной Москве. Так я молился — не богу, нет! Жабе, коню и зайцу, которые сушились на окне, прикрытые кусочками газеты.
Пожалуй, другой мальчик — не такой безбожник, как я, — стал бы идолопоклонником и навсегда уверовал бы в жабу, коня и зайца. Они помогли мне!
На другой день в распределитель явилась комиссия Отдела народного образования, и распределитель был уничтожен отныне и на веки веков.
Воры были отправлены в тюрьмы, беспризорники — в колонии, нищие — по домам. В просторном зале мастерской живописи и ваяния остались только греческие боги — Аполлон, Геркулес и Диана.
— А это что? — спросил один из членов комиссии, лохматый, небритый юноша, которого все называли просто Шура. — Посмотрите—ка, Иван Андреевич, какая скульптура!
Иван Андреевич, тоже лохматый и небритый, но старый, надел пенсне и стал изучать лясы.
— Типичная русская игрушка из Сергиевского посада, — сказал он. — Интересно. Это кто сделал? Ты?
— Я.
— Как фамилия?
— Григорьев Александр.
— Учиться хочешь?
Я смотрел на него и молчал. Должно быть, я все—таки здорово натерпелся за эти месяцы холодной уличной жизни, потому что у меня вдруг перекосилось лицо и отовсюду потекло — из глаз и из носу.
— Хочет, — сказал член комиссии Шура. — Куда бы нам его направить, Иван Андреевич, а?
— К Николаю Антонычу, по—моему, — ответил тот, осторожно ставя на подоконник моего зайца.
— А ведь верно! У Николая Антоныча есть этот уклон в искусство. Ну, Григорьев Александр, хочешь к Николаю Антонычу?
— Шура, он его не знает. Запишите—ка лучше. Григорьев Александр… Сколько лет?
— Одиннадцать.
Я прибавил полгода.
— Одиннадцать лет, Записали? К Татаринову, в четвертую школу—коммуну.
Глава 18. НИКОЛАЙ АНТОНЫЧ.
Толстая девушка из Наробраза, чем—то похожая тетю Дашу, оставила меня в длинной полутемной комнате—коридоре и ушла, сказав, что сейчас вернется. Я был в раздевалке. Пустые вешалки, похожие на тощих людей с рогами, стояли в открытых шкафах. Вдоль стены двери и двери. Одна была стеклянная. Впервые после Энска я увидел себя. Вот так вид! Бледный мальчик с круглой стриженой головой уныло смотрел на меня, очень маленький, гораздо меньше, чем я думал. Острый нос, обтянутый рот. Меня оттирали пемзой в наробразовской бане, но кое—где еще остались темные пятна. Длинную форменную тужурку можно было обернуть вокруг меня еще раз, длинные штаны болтались вокруг сапог.
Толстуха вернулась, и мы пошли к Николаю Антонычу. Это был полный, бледный человек, лысеющий, с зачесанными назад редкими волосами. Во рту у него блестел золотой зуб, и я по своей глупой привычке, как уставился на этот зуб, так и смотрел на него не отрываясь Мы довольно долго ждали: Николай Антоныч был занят. Он разговаривал с ребятами лет по шестнадцати, обступившими его со всех сторон и что—то толковавшими наперебой. Он слушал их, шевеля толстыми пальцами, напоминавшими мне каких—то волосатых гусениц, кажется, капустниц. Он был нетороплив, снисходителен, важен…
— Тише, ребята, не все сразу, — сказал Николай Антоныч. — Ну, Игорь, говори хоть ты. Он встал и обнял за плечи мальчика в очках, черного, курчавого, румяного, с черным пухом на щеках и пол носом.
— Николай Антоныч! — торжественно сказал Игорь и покраснел. — Мы протестуем против реального училища Лядова. Мы решили идти в тринадцатое объединение и протестовать. Какая же это коммуна, если норму оставили, а членов прибавили? Кораблев говорит, что это борьба за кашу. А мы считаем, что дело в принципе. Если мы — коммуна, мы сами должны решать, принимаем мы новых членов или не принимаем. Реальное училище Лядова мы не принимаем. Уж лучше, если на то пошло, мы возьмем женскую гимназию Бржозовской. Он говорил так пылко, что только на одну секунду остановился, когда все засмеялись.
— Вообще, мы протестуем против оскорблений Кораблева и требуем, чтобы вопрос был поставлен на школьном совете.
— И останетесь в меньшинстве, — возразил Николай Антоныч и кивнул нам.
Мы подошли.
— Беспризорник?
— Нет.
— С Наробраза, — объяснила толстуха и положила на стол бумагу.
— Откуда ж ты, Григорьев? — читая бумагу, внушительно спросил меня Николай Антоныч.
— Из Энска.
— А как сюда попал, в Москву?
— Проездом, — отвечал я.
— Вот как, милый! Куда же ты ехал?
Я набрал в грудь воздуха и ничего не сказал. Меня уже сто раз спрашивали, кто да откуда.
— Ну, мы с тобой еще потолкуем. — Николай Антоныч написал что—то на обороте моей бумаги из Наробраза. — А не убежишь?
Я был уверен, что убегу. Но на всякий случай сказал:
— Нет.
Мы ушли. На пороге я обернулся. Игорь, с нетерпеливым презрением ожидавший конца нашего объяснения, быстро говорил что—то, а Николай Антоныч, не слушая, задумчиво глядел мне вслед. О чем он думал? Уж, верно, не о том, что сама судьба явилась к нему в этот день в образе заморыша с темными пятнами на голове, в болтающихся сапогах, в форменной курточке, из которой торчала худая шея.
ЧАСТЬ 2. ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ.
Глава 1. СЛУШАЮ СКАЗКИ.
«До первого теплого дня» — иначе я и не думал. Спадут морозы — и до свиданья, только меня и видели в детском доме! Но вышло иначе. Я никуда не удрал. Меня удержали чтения…
С утра мы ездили в пекарню за хлебом, потом занимались. Считалось, что мы в первой группе, хотя по возрасту кое—кому пора уже было учиться в шестой. Старенькая преподавательница Серафима Петровна, приходившая в школу с дорожным мешком за плечами, учила нас… Право, мне даже трудно объяснить, чему она нас учила.
Помнится, мы проходили утку. Это были сразу три урока: география, естествознание и русский. На уроке естествознания утка изучалась как утка какие у нее крылышки, какие лапки, как она плавает и так далее. На уроке географии та же утка изучалась как житель земного шара: нужно было на карте показать, где она живет и где ее нет. На русском Серафима Петровна учила нас писать «у—т—к—а» и читала что—нибудь об утках из Брема. Мимоходом она сообщала нам, что по—немецки утка так—то, а по—французски так—то. Кажется, это называлось тогда «комплексным методом». В общем, все выходило «мимоходом». Очень может быть, что Серафима Петровна что—нибудь перепутала в этом методе. Она была старенькая и носила на груди перламутровые часики, приколотые булавкой, так что мы, отвечая, всегда смотрели, который час.
Зато по вечерам она нам читала. От нее я впервые услышал сказку о сестрице Аленушке и братце Иванушке.
Солнце высоко, Колодец далеко, Жар донимает, Пот выступает. Стоит козлиное копытце Полное водицы.«Али—Баба и сорок разбойников» в особенности поразили меня. «Сезам, отворись!» Я был очень огорчен, прочтя через много лет в новом переводе «Тысячи одной ночи», что нужно читать не Сезам, а Сим—Сим, и что это какое—то растение, кажется, конопля. Сезам — это было чудо, заколдованное слово. Как я был разочарован, узнав, что это — просто конопля.
Без преувеличения можно сказать, что я был потрясен этими сказками. Больше всего на свете мне хотелось теперь научиться читать, как Серафима Петровна.
В общем, мне понравилось в детском доме. Тепло, не дует, кормят да еще учат. Не скучно, во всяком случае, не очень скучно. Товарищи относились ко мне хорошо, — наверное, потому, что я был маленького роста. В первые же дни я подружился с двумя хулиганами, и мы не теряли свободного времени даром.
Одного из моих новых друзей звали Ромашкой. Он был тощий, с большой головой, на которой росли в беспорядке кошачьи желтые космы. Нос у него был приплюснутый, глаза неестественно круглые, подбородок квадратный — довольно страшная и несимпатичная морда. Мы с ним подружились за ребусами. Я хорошо решал ребусы, это его подкупило.
Другой был Валька Жуков, ленивый мальчик с множеством планов. То он собирался поступить в Зоологический сад учиться на укротителя львов, то его тянуло к пожарному делу. В пекарне ему хотелось быть пекарем; из театра он выходил с твердым намерением стать актером. Впрочем, у него были и смелые мысли.
— А что, если… — начинал он задумчиво.
— Землю прорыть насквозь и на ту сторону выйти, — язвительно подхватывал Ромашка.
— А что, если…
— Живую мышь проглотить…
Валька любил собак. Все собаки на Садово—Триумфальной относились к нему с большим уважением.
Но все же Валька — это был только Валька, а Ромашка — Ромашка. До Петьки и тому и другому было далеко.
Не могу передать, как я скучал без него.
Я обошел все места, по которым мы бродили, спрашивал о нем у беспризорников, дежурил у распределителей, у детских домов. Нет и нет. Уехал ли он в Туркестан, пристроившись в каком—нибудь ящике под международным вагоном? Вернулся ли домой пешком из голодной Москвы? Кто знает!
Только теперь, во время этих ежедневных скитаний, я узнал и полюбил Москву. Она была таинственная, огромная, снежная, занятая голодом и войной. Карты висели на площадях, и красная нитка, поддерживаемая флажками, проходила где—то между Курском и Харьковом, приближаясь к Москве. Охотный ряд был низкий, длинный, деревянный и раскрашенный. Художники—футуристы намалевывали странные картины на его стенах — людей с зелеными лицами, церкви с падающими куполами. Такие же картины украшали высокий забор на Тверской. В окнах магазинов висели плакаты РОСТа:
Ешь ананасы, Рябчиков жуй, — День твой последний Приходит, буржуй.Это были первые стихи, которые я самостоятельно прочитал.
Глава 2. ШКОЛА.
Кажется, я уже упоминал, что, по мнению Наробраза. наш детский дом был чем—то вроде питомника юных дарований. Наробраз полагал, что мы отличаемся дарованиями в области музыки, живописи и литературы. Поэтому после уроков мы могли делать что угодно. Считалось, что мы свободно развиваем свои дарования. И мы их действительно развивали. Кто убегал на Москву—реку помогать пожарникам ловить в прорубях рыбу, кто толкался на Сухаревке, присматривая, что плохо лежит.
А я все чаще оставался дома. Мы жили этажом ниже, под школой, и вся жизнь школы проходила перед моими глазами. Это была непонятная, загадочная, сложная жизнь. Я толкался среди старшеклассников, прислушивался к разговорам. Новые отношения, новые мысли, новые люди. На Энск все это было так же не похоже, как самый Энск не похож на Москву. Я долго ничего не понимал, удивляясь всему без разбору. Но вот как представляется мне четвертая трудовая школа теперь.
Еще недавно в большом красном здании на Садово—Триумфальной помещалась гимназия Пестова. При ней был открыт маленький детский дом — наш дом. Зимой девятнадцатого года гимназия Пестова была слита с реальным училищем Лядова, а весной — с женской гимназией Бржозовской.
Мои читатели не учились до революции в средней школе и, без сомнения, не помнят, с каким презрением относились друг к другу гимназисты и реалисты. Не знаю, на чем была основана эта вражда, но еще в Энске до меня доходили интересные слухи о страшных драках на катке, о благородных силачах—гимназистах, о подлецах реалистах, выходивших на бой, зажав в кулаке запрещенную правилами чести «свинчатку». Теперь в Москве я увидел все это своими глазами.
Пестовские гимназисты были самые отпетые сорвиголовы во всей Москве, — недаром в эту гимназию без экзамена принимали всех исключенных из других гимназий. Напротив, у Лядова учились главным образом благовоспитанные сыновья крупных чиновников, инженеров, педагогов. Вражда была, стало быть, не только профессиональная, но и социальная. Она утроилась, когда между наследственными врагами декретом Наробраза была поставлена женская гимназия Бржозовской.
Сколько поводов для ссор, для заговоров, для сплетен! Сколько речей на собраниях, сколько писем с объяснениями, сколько тайных и явных столкновений! Детский дом был в стороне: на нас никто не обращал внимания. Но легко угадать, кто были наши герои. Пестовские! Мы старались даже носить шапки, как они, — с проломом справа.
Из четвертой школы—коммуны вышли впоследствии известные и уважаемые люди. Я сам обязан ей очень многим. Но тогда, в девятнадцатом году, что это была за каша! Кстати, именно каша — иногда маисовая, иногда пшенная — в значительной степени определяла школьные интересы и лядовцев, и пестовцев. Ее привозили на санях, в огромном котле, бережно закутанную, похожую на старую бабушку, и так в санях и несли наверх в актовый зал. Хозяйственная комиссия в лице «тети Вари» — так все называли румяную, толстую девочку с толстой косой — уже расхаживала за прилавком с поварешкой в руке. Выстраивалась очередь, и каждый, без различия формы, возраста и происхождения, получал по ложке еще горячей каши, дьявольски вкусной, с лопающимися пузырьками.
Считалось, что раздача каши происходит на большой перемене. Но так как на уроки можно было не ходить, то весь школьный день состоял из одной большой перемены.
Однажды я попал на собрание пятиклассников, обсуждавших вопрос: заниматься или не заниматься? Лохматый пестовец, которому все кричали: «Браво, Ковычка!», доказывал, что ни в коем случае не заниматься. Посещение школы должно быть добровольное, а отметки выставлять большинством голосов.
— Браво, Ковычка!
— Правильно!
— И вообще, товарищи, вопрос упирается в педагогов. Как быть с педагогами, на уроки которых ходит абсолютное меньшинство? Я предлагаю установить норму в пять человек. Если на уроки приходит меньше пяти человек, педагогу в этот день пайка не давать.
— Правильно!
— Дурак!
— Долой! — Браво!
Должно быть, речь шла не обо всех педагогах, а только об одном, потому что все стали оглядываться, перешептываться, подталкивать друг друга: в дверях, скрестив руки и внимательно слушая оратора, стоял высокий, еще не старый человек с пушистыми усами.
— Это кто? — спросил я тетю Варю, которая, ожидая приезда каши, с поварешкой в руке разгуливала по коридору.
— Это, брат, Усы, — ответила тетя Варя.
— Как усы?
— Эх, ты, не знаешь!
Скоро я узнал, кого в четвертой школе называли «Усы».
Это был учитель географии Кораблев, которого ненавидела вся школа. Во—первых, он явился неизвестно откуда — не лядовский, не бржозовский, не пестовский. Во—вторых, он, по общему мнению, был дурак и ничего не знал. В—третьих, он каждый день приходил на уроки и сидел положенные часы, хотя бы в классе было три человека. Это уж решительно всех возмущало…
— Теперь так, товарищи, — продолжал Ковычка, пытаясь в ораторском пылу застегнуть пальто, на котором не было ни одной пуговицы. — От пятого класса в школьном совете один человек — я. Это неправильно. Мне одному трудно бороться за интересы пятого класса. Нас считают младшеклассниками. А посмотрите, кто в сто сорок четвертой председатель школьного коллектива? Муховеров. Какого класса? Пятого! Вообще, если на то пошло, нужно сперва доказать, что мы младшеклассники, а потом говорить. А как старший класс, мы должны иметь двух представителей. Один я, другого предлагаю Фирковича!
— Гладильщикова!
— Недодаева!
— Галая!
Я посмотрел на Кораблева. Должно быть, я выпучил глаза, потому что он вдруг передразнил меня, — впрочем, едва заметно. Мне показалось, что он улыбается под усами. Но Ковычка снова заговорил, и Кораблев, отведя от меня лукавый взгляд, стал слушать его с необыкновенным вниманием.
Глава 3. СТАРУШКА ИЗ ЭНСКА.
Этот день я помню отлично — солнечный, с весенним то набегающим, то проходящим дождем, — день, когда на Кудринской площади я встретил худенькую старушку и зеленом бархатном пальто—салопе. Она несла полный кошель всякой всячины — картошки, щавеля, луку, а в другой руке — большой зонтик. Видно было, что кошель тяжел для нее, но она шла с бодрым, озабоченным видом и все считала шепотом — я слышал: грибы полфунта пятьсот рублей; синька — полтораста; свекла — полтораста; молоко кружка — полтораста; поминанье — семьсот шестьдесят рублей; яйца три штуки — триста рублей; исповедь — пятьсот рублей. Тогда были такие деньги.
Наконец она легонько вздохнула и поставила кошель на сухой камень — отдышаться.
— Бабушка, давайте помогу, — сказал я ей.
— Пошел прочь, шалопут! Знаю я вас! Третий лимон до дому донести не могу.
Она энергично погрозила мне и взялась за кошель.
Я отошел. Но мы шли в одну сторону и через несколько минут снова оказались рядом. Наверное, старушке хотелось удрать от меня, но с таким кошелем это было для нее трудновато.
— Бабушка, если вы думаете — я у вас украду, — сказал я, — пожалуйста, я бесплатно помогу; вот те крест, мне просто жалко смотреть, как вы страдаете.
Старушка рассердилась. Одной рукой она обняла кошель, а другой стала отмахиваться от меня зонтиком, как от пчелы.
— Как же, поверила! Третий лимон унесли. Знаю я вас!
— Как хотите. У вас беспризорные унесли, а я детдомовский.
— Вот детдомовские—то и разбойники.
Она посмотрела на меня, я — на нее. У нее нос был немного кверху, решительный, и вся она была какая—то добрая и решительная. Может быть, и я ей понравился. Вдруг она перестала отмахиваться и спросила строго:
— Ты чей?
— Ничей.
— А откуда? Московский?
Я сразу понял, что если скажу — московский, она меня прогонит. Наверное, она думала, что это московские у нее лимоны украли.
— Нет, я из Энска.
Факт, она тоже была из Энска. У нее глаза засияли, а лицо стало еще добрее.
— Врешь ты, вралькин, — сказала она сердито. — Мне тоже один говорил
— не московский. А посмотрела — и нет лимона. Если ты из Энска, где там жил?
— На. Песчинке, за Базарной площадью.
— И все врешь.
Она видела, что я не вру.
— Мало ли что Песчинка. Может, еще где—нибудь такая река есть. Я тебя не помню.
— Вы, наверное, давно уехали, я еще маленький был.
— Нет, не давно, а недавно. Ну, бери кошель за одну ручку, а я за другую. Да не дергай.
Мы несли кошель и разговаривали, Я ей рассказывал, как мы с Петькой пошли в Туркестан и застряли в Москве. Она слушала с интересом. — Вот тебе! Умники! Шагать пошли! Шагалы какие! Придумали!
На Триумфальной я показал ей нашу школу.
— Совсем земляки, — загадочно сказала старушка.
Она жила на Второй Тверской—Ямской в маленьком кирпичном доме. Знакомый дом.
— Здесь наш заведующий живет, — сказал я. — Может, вы его знаете — Николай Антоныч.
— Вот что! — отвечала старушка. — Ну как он? Хороший заведующий?
— Что надо!
Я не понял, почему она засмеялась. Мы поднялись на второй этаж и остановились перед чистой, обитой клеенкой дверью. На двери была дощечка, на дощечке — затейливо написанная фамилия, которую я не успел прочитать.
Шепча что—то, старушка вынула из салопа ключ. Я хотел уйти, она удержала.
— Я просто так, бабушка, бесплатно.
— Вот бесплатно и посиди.
Она вошла почему—то на цыпочках в маленькую переднюю и, не зажигая света, стала снимать салоп. Она сняла салоп, шаль с кистями, безрукавку, еще одну шаль, поменьше, платок и так далее. Потом она открыла зонтик, а потом она пропала. Как раз в эту минуту какая—то девочка отворила дверь из кухни и появилась на пороге. Я уже был готов поверить, что это моя старушка превратилась в девочку, как трансформатор. Но в это время и старушка появилась. Оказалось, что она зашла в шкаф, вешая туда свои шали и безрукавки.
— А вот и Катерина Ивановна, — сказала старушка.
Катерине Ивановне было лет двенадцать — не больше, чем мне. Но куда там! Хотел бы я так выступать, как она, так гордо закидывать голову, так прямо смотреть в лицо темными живыми глазами, У нее были косички кольцами и такие же кольца на лбу. Она была румяная, но строгая, с таким же решительным, как у бабушки, носом. Вообще она была хорошенькая, но страшно задавалась — это было видно с первого взгляда.
— Поздравляю, Катерина Ивановна, — все еще раздеваясь, сказала старушка, — опять лимон утащили.
— Потому что я говорила, что нужно в пальто класть, — с досадой сказала Катерина Ивановна.
— О! В пальто! Из пальто—то и утащили.
— Значит, ты, бабушка, опять считала. — Ничего я не считала. Вот со мной и кавалер шел.
Девочка посмотрела на меня. До сих пор она меня, кажется, и не замечала.
— Он мне кошелку донес. Как мама?
— Сейчас мерим, — спокойно разглядывая меня, сказала девочка.
— Ах, ты, господи! — вдруг всполошилась старушка. — Да что же так поздно—то? Ведь доктор велел в двенадцать мерить.
Она торопливо вышла, и мы с девочкой остались одни. Минуты две молчали. Потом она нахмурилась и спросила строго:
— «Елену Робинзон» читал?
— Нет.
— А «Робинзона Крузо»?
— Тоже нет.
— Почему?
Я чуть не сказал, что только с полгода как научился читать, но вовремя удержался.
— У меня нету.
— Ты в каком классе?
— Ни в каком.
— Он — путешественник, — вернувшись, сказала старушка. — Тридцать семь и две. Он пешком в Туркестан шел. Ты его не обижай, Катя.
— Как пешком?
— А вот так. Ноги в руки, и валяй—шагай.
В передней стоял столик под зеркалом. Катя подвинула к нему стул, села, устроилась, поставив под голову руку, и сказала:
— Ну, рассказывай.
Мне не хотелось ей рассказывать: уж больно она задавалась. Если бы мы дошли до Туркестана, тогда другое дело. Поэтому я сказал вежливо.
— Чего там, неохота. В другой раз.
Старушка стала совать мне хлеб с повидлом, но я отказался:
— Сказано — бесплатно, значит — бесплатно.
Сам не знаю почему, я расстроился. Мне было даже приятно, что Катька покраснела, когда я не стал рассказывать и пошел к дверям.
— Ну, ладно, не сердись, — провожая меня, сказала старушка. — Как тебя звать?
— Григорьев Александр.
— Ну, прощай, Александр Григорьев. Спасибо.
Я долго стоял на площадке, разбирая фамилию на дверной дощечке. Казаринов — не Казаринов…
— Н.А.Татаринов, — вдруг прочел я.
Вот так штука! Татаринов Николай Антоныч. Наш заведующий. Это его квартира.
Глава 4. БЫЛО НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ.
Лето мы провели в Серебряном Бору, в старинном заброшенном доме с маленькими лестницами—переходами, с резными деревянными потолками, с коридорами, внезапно кончавшимися глухой стеной. Все в этом доме скрипело — двери по—своему, ставни по—своему. Одна большая комната была заколочена наглухо. Но и там что—то поскрипывало, шуршало — и вдруг начинался мерный дребезжащий стук, как будто молоточек в часах бил мимо звонка. На чердаке росли дождевики, иностранные книги валялись с вырванными страницами, без переплетов.
До революции дом принадлежал старой цыганке—графине. Цыганка—графиня! Это было загадочно. По слухам, она перед смертью замуровала клад. Ромашка искал его все лето. Хилый, с большой головой, он ходил по дому с палочкой, стучал и прислушивался. Он стучал и по ночам, пока кто—то из старших не дал ему по шее. В тринадцать лет он твердо решил разбогатеть. Его бледные уши начиняли пылать, когда он говорил о деньгах. Это был врожденный искатель кладов — суеверный и жадный.
Персидская сирень густо росла вокруг развалившихся беседок. Вдоль зеленых дорожек стояли статуи. Они были не похожи на греческих богов. Те — равнодушные, с белыми, слепыми глазами. А эти — как мы, такие же люди.
Одна статуя была с усами, вроде Кораблева, другая — обыкновенная девочка лет десяти. Она стояла в длинной, до пят, рубашке, потягивалась, терла кулаками глаза — как будто только что встала с постели.
Я попробовал вылепить ее, — и ничего не вышло. Вышли только косы колечками и такие же колечки на лбу, как у Катерины Ивановны, той девчонки с задранным носом. Пожалуй, вышел и нос. Но все—таки людей не так просто было лепить, как жаб и зайцев.
Такая хорошая жизнь была только в начале лета, едва мы переехали в Серебряный Бор. Потом жизнь стала похуже, нас почти перестали кормить. Весь детдом перешел на «самоснабжение». Мы ловили рыбу, раков, у стадиона в дни состязаний продавали сирень, а то и попросту таскали все, что попадало под руку. По вечерам мы разводили в саду костры и жарили добычу.
Вот один такой вечер — они были все, как один.
Мы сидим у костра, усталые, голодные и злые. Все черно от дыма — манерка, рогатки, на которых она висит, наши лица, руки. Как индейцы, готовые съесть капитана Кука, мы молчим и смотрим на огонь. Головешки вдруг вспыхивают и рассыпаются, темно—красный дым стоит над костром клубящейся шапкой.
Мы — это «коммуна». Весь детдом делится на «коммуны»: в одиночку трудно добывать «снабжение». У каждой «коммуны» свой председатель, свой костер и свои запасные фонды, — то, что по каким—либо причинам не съедено сегодня и осталось на завтра.
Наш председатель — Степка Иванов, пятнадцатилетний парень с гладкой мордой, обжора и подлец, которого все боятся…
— Сыграли в ошички? — лениво говорит Степа.
Все молчат. Никому неохота играть в «ошички». Степка сыт, вот ему и охота.
— Ладно, Степа. Только ведь темно, — говорит Ромашка.
— Знаешь, где темно? Вставай!
Больше всего на свете наш председатель любит играть в «ошички». По—нашему, это козоты, или бабки. Биток у него жульнический, все это знают. Но все, кроме меня и Вальки, подлизываются к нему, в особенности Ромашка. Ромашка даже нарочно проигрывает ему, чтобы Степка его не обидел.
Не следует думать, что мы жарим тонкую дичь на нашем костре. В манерке, с бою захваченной на кухне варится суп. Это настоящий «суп из колбасной палочки», как в сказке, которую зимой читала нам Серафима Петровна. Разница, может быть, только в том, что тот суп был сварен из мышиного хвоста, а мы клали в свой суп все, что попадалась под руки, — случалось, что и лягушечьи лапки.
Но вот дверь нашего дома распахивается, и на веранду выходит низенький толстяк в широкополой шляпе.
— Дядя Петя, к нам!
— Сюда, дядя Петя!
Это Петр Андреевич Лопухов, наш повар. Пошатываясь — не от воды — и мурлыча под нос отрывки из оперных арий, он обходит «коммуны». Пробует из каждого котелка, сплевывает и говорит с отвращением:
— А! Отрава.
Он — меломан, то есть любитель музыки и пения. Все оперы он знает наизусть. Для него нет большего наслаждения, как изобразить какую—нибудь сцену из «Евгения Онегина» или «Пиковой дамы», а для нас нет большего наслаждения, как послушать его и выразить свое восхищение.
— Здорово! Не хуже Шаляпина! Дядя Петя, почему ты в артисты не идешь?
— Боюсь.
— Чего, дядя Петя?
— Засосет.
Вот он останавливается у нашего костра, пробует, сплевывает, и начинается длинный рассказ о том, как ели в былые времена, очень давно, лет сто тому назад или даже двести. Он не только меломан, но еще и историк, знаток старинных блюд, заячьих соусов и оленьих грудинок.
— Королевская яичница, — загадочным шепотом говорит он. — Возьми желтки из восемнадцати яиц, смешай с бисквитом, прибавь горького миндаля, сливок, сахару и пеки в масле. Едал?
Мы отвечаем хором:
— Не едал!
Но сам повар из всех блюд предпочитает одно, называемое «водки выпить». Он наш единственный руководитель летом двадцать первого года. Серафима Петровна растерялась, никто не обращает на нее никакого внимания. По дому бродят еще какие—то няни, с поваром они на ножах: им почему—то невыгодно, что он выдает нам паек в сухом виде. Словом, если бы не повар, мы бы все разбежались.
Итак, он стоит у нашего костра и рассказывает, как ели в старину. Иногда он перебивает себя медицинскими примечаниями:
— Щука не всякому полезна. Отягчает желудок.
Или:
— Карп жидит кровь. Здоровая рыба.
Но вот он снимает нашу манерку и нюхает пар. Случается, что, понюхав пар, он говорит не «отрава», а «могила» и выплескивает суп в кусты. Что же он скажет на этот раз? Нюхает, поднимает глаза к небу, молчит…
— Отрава!
Семь голов склоняются над манеркой, семь ложек по очереди лезут за супом. Едим!
Нельзя сказать, чтобы мы поправились к осени на таком рационе. Кроме Степы Иванова, который, как страус мог переварить что угодно, мы худели, болели и чувствовали себя очень плохо.
И все же эта было хорошее лето. Оно запомнилось мне, и вовсе не потому, что нас плохо кормили. Не привыкать, — я в ту пору ничего хорошего еще и не ел за всю свою жизнь. Нет, я запомнил это лето по другой причине. Впервые я почувствовал к себе уважение.
Этот случай произошел в конце августа, незадолго до нашего возвращения в город, и как раз у костра, когда мы готовили ужин. Степа вдруг объявил новый порядок выдачи пищи. До сих пор мы ели по очереди — ложка за ложкой. Степа начинал, как председатель, за ним Ромашка и так далее. А теперь будем наваливаться все сразу, пока суп не остыл, и кто скорее.
Никому не понравился новый порядок. Еще бы! С таким председателем это был верный гроб. Он мог в три приема выхлебать всю манерку.
— Не выйдет! — решительно объявил Валька.
Мы одобрительно загалдели. Степа медленно встал, почистил колени и ударил Вальку в лицо. Он страшно ударил его, кровь сразу залила все лицо и, должно быть, попала в глаза, потому что Валька, как слепой, замахал руками.
— Ну, — лениво сказал Степа, — кому еще охота?
Я был самый маленький в «коммуне», и он, конечно, мог уложить меня одной рукой, но все—таки я ударил Степу. И Степа вдруг зашатался и сел. Не знаю, куда я ему угодил, но, хлопая глазами, он сидел на земле с каким—то задумчивым видом. Правда, он быстро опомнился, кинулся на меня, но тут уж ребята не дали меня в обиду. Степа был избит, как собака. Пока он лежал за костром и выл, мы поспешно выбрали другого председателя — меня. Степа, разумеется, не голосовал, но все равно он оказался бы в меньшинстве, потому что меня выбрали единогласно.
Забегая вперед, могу сказать, что я был неплохим председателем. Когда голод кончился и мы зимой вступили в пионеры, наша «коммуна» стала лучшим звеном в школе. Первое, отчаянное боевое звено «Чапаев».
Как ни странно, но это мордобитие было моим первым общественным делом. Я слышал, как ребята говорили про меня: «Слабый, а смелый». Я — смелый! Вообще, какой я? Было над чем подумать.
Глава 5. ЕСТЬ ЛИ В СНЕГУ СОЛЬ?
Ничего не переменилось в школе за этот год. По—прежнему ссорились бывшие лядовцы с бывшими пестовцами, по—прежнему привозили в санях закутанную, как бабушка, кашу. По—прежнему в десять часов утра Кораблев появлялся в школе.
Он приходил в длинном осеннем пальто, в широкополой шляпе, не торопясь причесывал перед зеркалом усы и шел на урок.
Однако теперь его уже нельзя было лишить пайка, как предлагал в прошлом году Ковычка: на его уроках было теперь больше пяти человек. Он никого не спрашивал, ничего не задавал на дом. Он просто рассказывал что—нибудь или читал. Оказывается, он был путешественником и объездил весь мир. В Индии он видел иогов—фокусников, которых на год зарывали в землю, а потом они вставали живехонькими, как ни в чем не бывало; в Китае ел самое вкусное китайское блюдо — гнилые яйца; в Персии видел шахсей—вахсей — кровавый мусульманский праздник.
Лишь через несколько лет я узнал, что он никогда не выезжал из России. Он все выдумывал, но как интересно! Хотя многие еще утверждали, что он — дурак, но теперь уже нельзя было сказать, что он ничего не знает…
По—прежнему первым лицом в четвертой школе был наш заведующий Николай Антоныч. Он все решал, во все входил, присутствовал на всех собраниях. Старшеклассники ходили к нему на дом выяснять отношения. Споры между лядовцами и пестовцами он решал в десять минут, и самые отпетые подчинялись без возражений. Любой школьник — от первого до последнего класса — мог явиться к нему поговорить о своих делах. «Я скажу Николаю Антонычу, мне велел Николай Антоныч, меня послал Николай Антоныч» — то и дело слышалось в нашей школе.
Наконец и мне, случилось произнести эти четыре слова.
Накануне я стал школьником. Детский дом был подвергнут испытаниям, и меня послали во второй класс. Думая о том, как отнестись к этому событию, — не махнуть ли на Москву—реку или на Воробьевы горы, — я слонялся по актовому залу, когда дверь из учительской приоткрылась и Николай Антоныч поманил меня пальцем.
— Григорьев, — сказал он, припоминая. (Он славился тем, что всю школу знал по фамилиям.) — Ты знаешь, где я живу?
Я отвечал, что знаю.
— А что такое лактометр, знаешь?
Я отвечал, что не знаю.
— Это прибор, показывающий, много ли воды в молоке. Известно, — Николай Антоныч поднял палец, — что молочницы разбавляют молоко водой. Положите в такое разбавленное молоко лактометр, и вы увидите, сколько молока и сколько воды. Понял?
— Понял.
— Вот ты мне его и принеси.
Он написал записку.
— Да смотри не разбей. Он стеклянный.
— Не разобью, — отвечал я с жаром.
Записку было велено передать Нине Капитоновне.
Я и не подозревал, что так зовут старушку из Энска. Но открыла мне не старушка, а незнакомая худенькая женщина в черном платье.
— Что тебе, мальчик?
— Меня послал Николай Антоныч.
Эта женщина была, разумеется, Катькина мама и старушкина дочка. У всех троих были одинаковые решительные носы, одинаковые глаза — темные и живые. Но внучка и бабушка смотрели веселее. У дочки был печальный, озабоченный вид.
— Лактометр? — с недоумением сказала она, прочитав записку. — Ах, да!
Она зашла в кухню и вернулась с лактометром в руке. Я был разочарован. Просто градусник, немного побольше.
— Не разобьешь?
— Что вы, — сказал я с презрением, — разобью…
Я отлично помню, что смелая мысль — проверить лактометр на снежную соль — явилась приблизительно через две минуты после того, как предполагаемая Катькина мама захлопнула за мной дверь.
Я только что спустился с лестницы и стоял, крепко держа прибор в руке, а руку в кармане. Еще Петька говорил, что в снегу есть соль. Может лактометр показать эту соль, или Петька наврал? Вот вопрос. Нужно было проверить.
Я выбрал тихое место — за сараем, рядом с помойной ямой. Домик из кирпичей был сложен на притоптанном снегу; от домика за сарай уходила на колышках черная нитка, — должно быть, ребята играли в полевой телефон. Я зачем—то подышал на лактометр и с бьющимся сердцем сунул его рядом с домиком в снег. Судите сами, что за каша была у меня в голове, если через некоторое время я вынул лактометр и, не находя в нем никакой перемены, снова сунул в снег, на этот раз вниз головой.
Кто—то ахнул поблизости. Я обернулся.
— Беги, взорвешься! — закричали в сарае.
Это произошло в две секунды. Девочка в расстегнутом пальто вылетает из сарая и опрометью бежит ко мне. «Катька», — думаю я и на всякий случай протягиваю руку к прибору. Но Катька хватает меня за руку и тащит за собой. Я отталкиваю ее, упираюсь, мы падаем в снег. Трах! Осколки кирпича летят и воздух, сзади белой тучей поднимается и ложится на нас снежная пыль.
Однажды я уже был под обстрелом — когда хоронил мать. Но тут было пострашнее! Что—то долго грохало и рвалось у помойной ямы, и каждый раз, когда я поднимал голову, Катька вздрагивала и спрашивала: «Здорово? А?»
Наконец я вскочил.
— Лактометр! — заорал я и со всех ног побежал к помойке. — Где он?
На том месте, где торчал мой лактометр, была глубокая яма.
— Взорвался!
Катька еще сидела на снегу. Она была бледная, глаза блестели.
— Балда, это гремучий газ взорвался, — сказала она с презрением. — А теперь лучше уходи, потому что сейчас придет милиционер — один раз уже приходил — и тебя сцапает, а я все равно удеру.
— Лактометр! — повторил я с отчаянием, чувствуя, что губы не слушаются и лицо начинает дрожать. — Николай Антоныч послал меня за ним. Я положил его в снег. Где он?
Катька встала. На дворе был мороз, она без шапки, темные волосы на прямой пробор, одна коса засунута в рот. Я тогда на нее не смотрел потом припомнил.
— Я тебя спасла, — сказала она и задумчиво шмыгнула носом, — ты бы погиб, раненный наповал в спину. Ты мне обязан жизнью. Что ты тут делал около моего гремучего газа?
Я ничего не отвечал. У меня горло перехватило от злости.
— Впрочем, знай, — торжественно добавила Катька, — что если бы даже кошка подсела к газу, я бы все равно ее спасла, — мне безразлично.
Я молча пошел со двора. Но куда идти? В школу теперь нельзя — это ясно:
Катька догнала меня у ворот.
— Эй, ты, Николай Антоныч! — крикнула она. — Куда пошел? Жаловаться?
Я обернулся. Ох, с каким наслаждением я дал ей по шее! За все сразу — за погибший лактометр, за вздернутый нос, за то, что я не мог вернуться в школу, за то, что она меня спасла, когда ее никто не просил.
Впрочем, и она не зевала. Отступив на шаг, она двинула меня в подвздох. Пришлось взять ее за косу и сунуть носом в снег. Она вскочила.
— Ты неправильно подножку подставил, — сказала она оживленно. — Если бы не подножка, я бы тебе здорово залепила. Я у нас в классе всех мальчишек луплю. Ты в каком? Это ты бабушке кошелку нес? Во втором?
— Во втором, — сказал я с тоской.
Она посмотрела на меня.
— Подумаешь, градусник разбил! — сказала она с презрением. — Хочешь, скажу, что это я? Мне ничего не будет. Подожди—ка.
Она убежала и через несколько минут пришла в шапочке, уже другая, важная, с ленточками в косах.
— Я бабушке сказала, что ты приходил. Она спит. Она говорит: что же ты не зашел? Она говорит: хорошо, что лактометр разбился, а то было мученье каждый раз его в молоко пихать. Он все равно неверно показывал. Это Николая Антоныча выдумки, а бабушка всегда на вкус скажет, хорошее молоко или нет…
Чем ближе мы подходили к школе, тем все важнее становилась Катька. По лестнице она поднималась, закинув голову, независимо щурясь.
Николай Антоныч был в учительской, там, где я его оставил.
— Ты не говори, я сам, — пробормотал я Катьке.
Она презрительно фыркнула; одна коса торчала из—под шапки дугой.
Именно с этого разговора начались загадки, о которых я расскажу в следующей главе.
Дело в том, что Николай Антоныч, тот самый важный и снисходительный Николай Антоныч, которого мы привыкли считать неограниченным повелителем четвертой школы, исчез куда—то, как только Катька переступила порог. Новый Николай Антоныч, разговаривая, неестественно улыбался, наклонялся через стол, широко открывал глаза, поднимал брови, как будто Катька говорила бог весть какие необыкновенные вещи. Боялся он ее, что ли?
— Николай Антоныч, вы посылали его за лактометром? — небрежно, показав на меня глазами, спросила Катька.
— Посылал, Катюша.
— Правильно. А я его разбила.
У Николая Антоныча сделалось серьезное лицо.
— Врет, — мрачно сказал я, — он взорвался.
— Ничего не понимаю. Молчи, Григорьев! Объясни, в чем дело, Катюша.
— Дело ни в чем, — гордо закинув голову, отвечала
Катька. — Я разбила лактометр, вот и все.
— Так, так, так. Но, кажется, я посылал этого мальчика, правда?
— А он не принес, потому что я разбила.
— Врет, — снова сказал я.
Катька грозно стрельнула в меня глазами.
— Хорошо, Катюша, допустим. — Николай Антоныч умильно сложил губы. — Но вот, видишь ли, в школу привезли молоко, и я задержал завтрак, чтобы определить качество этого продукта и, в зависимости от этого качества, решить, будем ли мы и в дальнейшем брать его у наших поставщиц или нет. Выходит, что я дожидался напрасно. Больше того: выходит, что ценный прибор разбит, да еще при невыясненных обстоятельствах. Теперь ты объясни, Григорьев, в чем дело.
— Вот скучища! Я пойду, Николай Антоныч, — объявила Катька.
Николай Антоныч посмотрел на нее. Не знаю почему, но мне показалось в эту минуту что он ее ненавидит.
— Хорошо, Катюша, иди, — ласково сказал он. — А с этим мальчиком мы еще потолкуем.
— Тогда я подожду.
Она уселась и нетерпеливо грызла косу все время, пока мы разговаривали. Пожалуй, если бы она ушла, разговор не кончился бы так мирно. Лактометр был прощен. Николай Антоныч припомнил даже, что я был направлен в его школу как будущий скульптор. Катька прислушивалась с интересом.
С этого дня мы с ней подружились. Ей понравилось, что я не дал ей взять вину на себя, а когда рассказывал, как—то вывернулся и ничего не сказал о гремучем газе.
— Ты думал, что мне влетит, да? — спросила она, когда мы вышли из школы.
— Ага.
— Как бы не так! Приходи, тебя бабушка звала.
Глава 6. ИДУ В ГОСТИ.
Утром я проснулся с этой мыслью — идти или нет? Две вещи смущали меня: штаны и Николай Антоныч. Штаны были действительно неважные — ни короткие, ни длинные, заплатанные на коленях. А Николай Антоныч был, как известно, завшколой, то есть довольно страшная личность. Вдруг начнет спрашивать: почему да зачем? но все—таки после уроков я почистил сапоги, крепко намочил голову и причесался на пробор. Иду в гости.
Как неловко я чувствовал себя, как стеснялся! Проклятые волосы все время вставали на макушке, и приходилось примачивать их слюной. Нина Капитоновна что—то рассказывала нам с Катей и вдруг строго приказала мне:
— Закрой рот!
Я засмотрелся на нее и забыл закрыть рот.
Катя показала мне квартиру. В одной комнате жила она сама с мамой, в другой — Николай Антоныч, а третья была столовая. У Николая Антоныча стоял на письменном столе прибор «из Жизни богатыря Ильи Муромца», как объяснила мне Катя. Действительно, чернильница представляла собой бородатую голову в шишаке, пепельница — две скрещенные древнерусские рукавицы, и т.д. Под шишаком находились чернила, и, стало быть, Николаю Антонычу приходилось макать перо прямо в череп богатыря. Это показалось мне странным.
Между окнами помещался книжный шкаф; я никогда еще не видел столько книг сразу. Над шкафом висел поясной портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и серыми живыми глазами.
Я заметил тот же портрет, только поменьше, в столовой, а еще поменьше — в Катиной комнате над маленькой кроватью.
— Отец, — поглядев на меня исподлобья, объяснила Катя.
А я—то думал, что Николай Антоныч ее отец! Впрочем, она не стала бы родного отца называть по имени и отчеству. «Отчим», — подумал я и тут же решил, что нет. Я знал, что такое отчим. Нет, не похоже!
Потом Катя показала мне морской компас — очень интересную штуку. Это был медный обруч на подставке, в котором качалась чашечка, а в чашечке под стеклом — стрелка. Куда ни повернешь чашечку, хоть вверх ногами, все равно стрелка качается и одним концом с якорем показывает на север.
— Такому компасу любая буря нипочем.
— Откуда он у тебя?
— Отец подарил.
— А где он?
Катя нахмурилась.
— Не знаю.
«Развелся и бросил мать», — немедленно решил я. Мне такие факты были известны.
Я заметил, что в квартире много картин и, на мой взгляд, очень хороших. Одна — особенно чудная: была нарисована прямая просторная дорога в саду и сосны, освещенные солнцем.
— Это Левитан, — небрежно, как взрослая, сказала Катя.
Я тогда не знал, что Левитан — фамилия художника, и решил, что так называется место, нарисованное на картине.
Потом старушка позвала нас пить чай с сахарином.
— Ну, Александр Григорьев, вот ты какой, — сказала она, — лактометр разбил!
Она попросила меня рассказать про Энск, как и что. Даже про почту спросила:
— А почта что?
Она рассердилась, что я не слышал про каких—то Бубенчиковых.
— Сад у еврейской молельни! Вот уж! Не слышал! А сам, наверное, сто раз яблоки таскал.
Она вздохнула.
— Давно мы оттуда. Я не хотела переезжать, вот уж не хотела! Все Николай наш Антоныч. Приехал — ждите, говорит, или не ждите, теперь все равно. Оставим адрес, — если нужно, найдут нас. Вещи все продали, вот только и осталось, — и сюда, в Москву.
— Бабушка! — грозно сказала Катя.
— Что — бабушка?
— Опять?
— Не буду. Пускай! Нам и тут хорошо.
Я ничего не понял — кого они ждали и почему теперь все равно. Но спрашивать я, понятно, не стал, тем более, что Нина Капитоновна сама заговорила о другом…
Так я провел время в квартире нашего зава на Второй Тверской—Ямской.
На прощанье я получил от Кати книгу «Елена Робинзон», а в залог оставил честное слово — переплет не перегибать и страницы не пачкать.
Глава 7. ТАТАРИНОВЫ.
Татариновы жили без домработницы, и Нине Капитоновне, особенно в ее годы, приходилось довольно трудно. Я помогал ей. Мы вместе топили печи, кололи дрова, даже мыли посуду. Страшный враг моли, она вдруг, без всякой причины, принималась развешивать вещи во дворе и тут без меня не обходилось. Я притащил с ближайшего пустыря несколько кирпичей и починил дымившую печку в столовой. Словом, я с лихвой отрабатывал те обеды из воблы и пшена, которыми угощала меня старушка. Да и не нужны мне были эти обеды! Мне было интересно у них. Эта квартира была для меня чем—то вроде пещеры Али—Бабы с ее сокровищами, Опасностями и загадками. Старушка была для меня сокровищем, Марья Васильевна — загадкой, а Николай Антоныч — опасностями и неприятностями.
Марья Васильевна была вдова, а может быть, и не вдова: однажды я слышал, как Нина Капитоновня сказала про нее с вздохом: «Ни вдова, ни мужняя жена». Тем более странно, что она так убивалась по мужу. Всегда она ходила в черном платье, как монашка. Она училась в медицинском институте. Тогда это мне казалось странным: мамам, по моим понятиям, учиться не полагалось. Вдруг она переставала разговаривать, никуда не шла, ни в Институт, ни на службу (она еще и служила), а садилась с ногами на кушетку и начинала курить. Тогда Катя говорила: «У мамы тоска», и все сердились друг на друга и мрачнели.
Николай Антоныч, как вскоре выяснилось, вовсе не был ее Мужем и вообще не был женат, несмотря на свои сорок пять лет.
— Он тебе кто? — как—то спросил я Катю.
— Никто.
Она наврала, конечно, потому что у нее с мамой и у Николая Антоныча была одна фамилия. Кате он приходился дядей, только не родным, а двоюродным.
Двоюродный дядя все—таки, а между тем к нему относились неважно. Это тоже было довольно странно, тем более, что он, наоборот, ко всем был очень внимателен, даже слишком.
Старушка любила кино, не пропускала ни одной картины, и Николай Антоныч ходил с нею, даже заранее брал билеты. За ужином она всегда с увлечением рассказывала содержание картины (и в эти минуты, между прочим, становилась похожа на Катьку). Николай Антоныч терпеливо слушал ее — хотя бы только что вернулся из кино вместе с нею.
Впрочем, она, кажется, жалела его. Я видел однажды, как он сидел за пасьянсом, низко опустив голову, и задумчиво барабанил пальцами по столу, а она глядела на него с сожалением.
Вот кто относится к нему безжалостно — Марья Васильевна! Что только он не делал для нее! Он приносил ей билеты в театр, а сам оставался дома. Он дарил ей цветы. Я слышал, как он просил ее поберечь себя и бросить службу. Так же внимателен он был и к ее гостям. Стоило только кому—нибудь придти к Марье Васильевне, как сейчас же являлся и он. Очень радушный, веселый, он затевал с гостем длинный разговор, а Марья Васильевна сидела на кушетке, мрачно сдвинув брови, и курила.
Особенно любезен он был, когда приходил Кораблев. Без сомнения, он считал, что «Усы» — его гость, потому что сразу же тащил его к себе или в столовую и не давал говорить о делах. Вообще все оживлялись, когда приходил Кораблев, в особенности Марья Васильевна. В новом платье с белым воротничком, она сама накрывала на стол, хлопотала и становилась еще красивее. Она даже смеялась иногда, когда, расчесав перед зеркалом усы, Кораблев начинал шумно ухаживать за старушкой. Николай Антоныч тоже смеялся и бледнел. У него была эта странная черта — он бледнел, от смеха.
Меня он не любил — я долго не догадывался об этом. Сперва он только удивлялся, встречая меня, потом он стал морщиться и как—то неприятно втягивать воздух носом. Потом начались поучения:
— Как ты сказал — «спасибо»? — Он услышал, как я за что—то сказал старушке спасибо. — А ты знаешь, что такое «спасибо»? Имей в виду, что в зависимости от того, знаешь ли ты это или не знаешь, понимаешь ли, или не понимаешь, может тем или иным путем пойти и вся твоя жизнь. Мы живем в человеческом обществе, и одной из движущих сил этого общества является чувство благодарности. Может быть, тебе известно, что у меня был некогда брат. Неоднократно в течение всей его жизни я оказывал ему как нравственную, так и материальную помощь. Он оказался неблагодарным. И что же? Это крайне пагубно отразилось на его судьбе.
Слушая его, я как—то начинал чувствовать заплаты на штанах. Да, на лане плохие сапоги, я — маленький, грязный и слишком бледный. Я — это одно, а они, Татариновы, совсем другое. Они богатые, а я бедный. Они умные и ученые, а я дурак. Было над чем подумать!
Кстати сказать, Николай Антоныч не только со мной разговаривал о своем двоюродном брате. Это была его любимая тема. Он утверждал, что всю жизнь заботился о нем, начиная с детских лет, в Геническе, на берегу Азовского моря. Двоюродный брат был из бедной рыбачьей семьи и, если бы не Николай Антоныч, так и остался бы рыбаком, как его отец, дед и все Предки до седьмого колена. Николай Антоныч, «заметив в мальчике недюжинные способности и пристрастие к чтению», перетащил его из Геническа в Ростов—на—Дону и стал хлопотать, чтобы брата приняли в мореходные классы. Зимой он выплачивал, ему «ежемесячное пособие», а летом устраивал матросом на суда, ходившие между Батумом и Новороссийском. При его непосредственном участии брат поступил охотником на флот и сдал экзамен на морского прапорщика. С большим трудом Николай Антоныч выхлопотал для него разрешение держать за курс морского училища, а потом помог деньгами, когда по окончании училища брату нужно было заказать себе новую форму. Словом, он сделал для него очень много — понятно, почему он так любил о нем вспоминать. Он говорил медленно, подробно, и женщины слушали его с каким—то напряженным благоговением.
Не знаю почему, но мне казалось, что в эти минуты они чувствуют себя в долгу перед ним — в неоплатном долгу за все, что он сделал для брата.
Впрочем, они и были в долгу — и именно в неоплатном, потому что этот брат, которого Николай Антоныч называл то «покойным», то «без вести пропавшим», был мужем Марьи Васильевны и, стало быть, Катиным отцом. Все, что находилось в квартире, прежде принадлежало ему, а теперь Марье Васильевне и Кате. И картины, за которые, по старушкиным словам, «Третьяковка дает большие деньги», и какой—то «страховой полис», по которому следовало в парижском банке получить восемь тысяч рублей.
Этими сложными делами и отношениями взрослых меньше всего интересовался один человек — Катя. У нее были свои дела — поважнее. Она переписывалась с двумя подругами, оставшимися в Энске, и повсюду теряла свои письма, так что их читали все, кому не лень, даже гости. Подругам она писала как раз то же самое, что ей писали подруги. Подруга, например, пишет, что видела сон, будто она потеряла сумочку, и вдруг Мишка Купцов — «помнишь, я тебе писала» — идет навстречу, и сумочка у него в руке. И Катя отвечает подруге, что видела сон, будто она что—то потеряла, уж не сумочку, а вставочку или лету, а Шурка Голубенцов — «помнишь, я тебе писала» — нашел и принес. Подруга пишет, что была в кино, И Катя отвечает, что была, хотя бы она и сидела дома. Я потом догадался, что подруги были старше, и она им подражала.
Зато со своими одноклассницами она обращалась довольно сурово. Особенно командовала она одной девочкой, которая называла себя Кирен, — впрочем, у Татариновых все ее так называли. Она сердилась, что Кирен не любит читать.
— Кирка, ты читала «Дубровского»?
— Читала.
— Врешь!
— Плюнь мне в глаза.
— Ну, тогда отвечай, почему Маша за Дубровского не вышла?
— Вышла.
— Здравствуйте!
— А я читала, что вышла.
Точно так же Катя решила проверить и меня, когда я принес «Елену Робинзон». Не тут—то было! С любого места я продолжал наизусть. Она не любила удивляться и сказала только:
— Вызубрил, как скворец.
Надо полагать, что она считала себя не хуже Елены Робинзон и была уверена, что при подобных же отчаянных обстоятельствах вела бы себя не менее храбро. Но, по—моему, готовясь к такой необыкновенной судьбе, не следовало так подолгу торчать перед зеркалом — тем более, что на необитаемых островах зеркал не бывает. А Катька торчала.
В ту зиму, когда я стал бывать у Татариновых, она увлекалась взрывами. Пальцы у нее всегда были черные, обожженные, и от нее пахло, как одно время от Петьки, пистонами и пороховым дымом. Бертолетова соль лежала в сгибах книг, которые она мне давала. Вдруг взрывы кончились. Катя засела читать «Столетие открытий».
Это была превосходная книга — биографии замечательных мореплавателей и завоевателей XV и XVI веков Христофора Колумба, Фердинанда Кортеса и других.
Она была написана с искренним восторгом перед этими великими людьми — их овальные портреты на фоне далеких каравелл я как будто вижу и сейчас.
Америго Веспуччи, именем которого названа Америка, был изображен перед глобусом, с циркулем, который он держал на раскрытой книге, бородатый, веселый и лукавый. Васко Нуньес Бальбоа — в панцире и в латах, в шлеме с пером, по колено в воде. Мне казалось, что это какой—то наш русский Васька, дорвавшийся до Тихого океана. Я тоже был увлечен. Но Катя! Она просто бредила этой книгой. Она ходила какая—то сонная и просыпалась, кажется, только для того, чтобы сообщить, что «сопровождаемый добрыми пожеланиями тлакскаланцев, Кортес выступил в поход и через несколько дней вступил в многолюдную столицу инков».
Кошку, которую до «столетия открытий» звали просто Васеной, она переименовала в Иптакчухуатль — в Мексике есть, оказывается, такая горная вершина. С другой горной вершиной, Попокатепетль, она подъезжала к Нине Капитоновне, но не вышло. Иначе, как на «бабушку», Нина Капитоновна не отзывалась.
Словом, если Катя серьезно жалела о чем—нибудь, то, без сомнения, только о том, что не она завоевала Мексику, открыла и покорила Перу.
Но все еще впереди. Я знал, о чем она думает. Она хотела быть капитаном.
Глава 8. ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР.
Казалось бы, что, кроме хорошего, мог я ожидать от этого знакомства? Между тем не прошло и полугода, как меня выгнали вон…
Эта история началась со школьного театра, а история школьного театра началась с того, что в один прекрасный день Кораблев явился на занятия и объявил, что на днях в актовом зале состоится спектакль.
Давно уже миновали те времена, когда на собрании пятого класса Ковычка предлагал объявить ненавистным «Усам» бойкот. Больше никого не раздражали длинные ноги нашего географа, его аккуратность и даже то, что он, как известно, «любит совать нос в чужие дела». Одно ему простили за то, что он видел живых йогов в Индии, другое — за то, что он ел гнилые яйца в Китае. Теперь он придумал новую штуку — школьный театр.
Для театра нужны были режиссеры, актеры, художники, плотники, портнихи — и вдруг оказалось, что представители всех этих профессий учатся в нашей школе. Нашелся даже поэт—драматург — Настя Щекачева.
К сожалению, я плохо помню трагедию «Настал час», которой был открыт первый сезон нашего театра. Суть ее, кажется, заключалась в том, что какая—то бездетная баронесса берет к себе приемыша, не зная, что он еврей. Но это знает нянька — отрицательный тип, шантажистка, — и нянька требует денег, угрожая в противном случае открыть всему свету позор. Между тем ребенок вырос и хочет жениться. Вот тут и начиналась трагедия.
Немного странно было, что все лучшие роли в нашем театре Иван Павлович (так звали Кораблева) отдавал ребятам, на которых давно махнули рукой. В трагедии «Настал час» роль приемыша — благородный герой и положительный тип — играл Гришка Фабер, гроза педагогов, первый заводила — хулиганских затей. Он играл хорошо, только слишком орал. Его вызывали одиннадцать раз. Он стоял за куласами мокрый, как мышь дрожа от волнения, не веря своим ушам, а его вызывали и вызывали. Он прославился. Потом этот прославленный актер стал дьявольски важничать, но перестал хулиганить.
Словом театр произвел самое неожиданное действие на четвертую школу. Ребята, ходившие в школу «не столько заниматься, сколько питаться», как говорил Кораблев неожиданно оказались в «трудовых отношениях».
Между прочим, не особенно хвастая, могу сказать, что это был превосходный театр. Мы даже выезжали на гастроли в другие школы.
Каждый день мы ходили к Кораблеву — он жил в Воротниковском — и слушали, как репетируют наши актеры. Репетицию с участием Гришки Фабера можно было слушать со двора, не заходя в квартиру. Вообще это было страшно интересно. Сперва я расклеивал афиши, потом стал рисовать их, и одна, с зеленым попугаем, так удалась, что Кораблев взял ее на память.
О четвертой школе стали говорить в Москве, а в четвертой школе стали говорить о Кораблеве: главный режиссер, он же главный гример, бутафор и декоратор. Девочки из старших классов открыли, что Кораблев — красивый. Не красивый, а интересный! Ну что ж! Он и в самом деле был интересный, особенно когда приходил в новом сером костюме, сухощавый, стройный, курил из длинного мундштука и, смеясь трогал пальцем усы.
Не знаю, понравился ли наш театр другим педагогам. Николай Антоныч на каждой премьере сидел в первом ряду и хлопал громче всех. Стало быть, понравился. Но, кажется он был не очень доволен тем, что теперь в школе на все лады склонялось имя Кораблева: «Я скажу Иван Палычу», «Меня послал Иван Павлыч» и т.д. Пожалуй, это было ни к чему — все время рассказывать Николаю Антонычу о Кораблеве, какой он, оказывается, хороший.
Николай Антоныч с интересом прислушивался, шевелил пальцами, смеялся и бледнел.
И вдруг произошла катастрофа.
Глава 9. КОРАБЛЕВ ДЕЛАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДОЛГ.
Это было воскресенье, и у Татариновых к обеду ждали гостей. Катя рисовала «Первую встречу испанцев с индейцами» из «Столетия открытий», а меня Нина Капитоновна мобилизовала на кухню. Она была немного взволнована, все прислушивалась и говорила мне:
— Ш—ш, звонок.
— Это на улице, Нина Капитоновна.
Но она еще прислушивалась.
В конце концов, она ушла в столовую и прохлопала звонок. Я открыл двери. Вошел Кораблев — в светлом легком пальто, в светлой шляпе. Таким нарядным я видел его впервые.
Голос его немного дрогнул, когда он спросил, дома ли Марья Васильевна. Я сказал: «Да». Но он постоял еще несколько секунд не раздеваясь. Потом он прошел к Марье Васильевне, а я увидел, что Нина Капитоновна на цыпочках возвращается из столовой. Почему на цыпочках, почему с таким взволнованным, таинственных видом?
С этой минуты дело у нас пошло из рук вон плохо. У Нины Капитоновны, чистившей картошку, нож сам собой стал выпадать из рук. Она выбегала будто бы за чем—нибудь в столовую и возвращалась с пустыми руками. Каждый раз она бралась за новую картофелину, и таким образом в корзине лежало теперь довольно много картошки, очищенной с одного боку. Но я был совсем озадачен, когда Нина Капитоновна взяла одну из таких картошек, разрезала на мелкие кусочки и с задумчивым лицом бросила в суп. Да, она была чем—то занята. Чем же? Очень скоро я это узнал. Нина Капитоновна была не из тех людей которые умеют хранить секреты.
Сперва она возвращалась молча, лишь делая руками разные загадочные знаки, которые можно было понять приблизительно так: «Господи, боже ты мой, что—то будет?»
Потом стала бормотать. Потом вздохнула и заговорила. Новость была необыкновенная Кораблев пришел делать предложение Марье Васильевне. Что такое «делать предложение», я, разумеется, знал. Он хотел жениться на ней и пришел спросить, согласна она или не согласна.
Согласна или не согласна? Если бы меня не было на кухне, Нина Капитоновна точно так же обсуждала бы этот вопрос со своими кастрюлями и горшками. Она не могла молчать.
— Говорит — все отдам, всю жизнь, — сообщила она, вернувшись из столовой в третий или четвертый раз. — Ничего не пожалею.
Я сказал на всякий случай:
— Ну да?
— Ничего не пожалею, — торжественно повторила Нина Капитоновна. — Я вижу ваше существование. Оно — незавидное, на вас мне тяжело смотреть.
Она принялась было за картошку, но вскоре снова ушла и вернулась с мокрыми глазами.
— Говорит, что всегда тосковал по семье, — сообщила она. — Я был одинокий человек, и мне никого не нужно, кроме вас. Я давно делю ваше горе. В этом роде.
«В этом роде» Нина Капитоновна добавила уже от себя. Минут через десять она снова ушла и вернулась озадаченная.
— Я устал от этих людей, — сказала она, хлопая глазами. — Мне мешают работать. Вы знаете, о ком я говорю. Поверьте мне, это человек страшный.
Нина Капитоновна вздохнула и села.
— Нет, не пойдет она за него. Она — удрученная, и он — в годах.
Я не знал, что на это ответить, и на всякий случай снова сказал:
— Ну да?
— Поверьте мне, это человек страшный, — задумчиво повторила Нина Капитоновна. — Может быть! Господи, помилуй! Может быть!
Я сидел смирно. Обед был отставлен, белые водяные шарики катались по плите вода, в которой плавала картошка, кипела, кипела…
Старушка снова ушла и на этот раз провела в столовой минут пятнадцать. Вернувшись, она зажмурилась и всплеснула руками.
— Не пошла, — объявила она. — Отказала. Господи, помилуй! Такой мужчина!
Кажется она и сама хорошенько не знала, радоваться или огорчаться, что Марья Васильевна отказала Кораблеву.
Я сказал:
— Жалко.
Нина Капитоновна посмотрела на меня с изумлением.
— Чего же, могла и выйти, — добавил я. — Еще молодая.
— Полно врать… — сердито начала было Нина Капитоновна.
Вдруг она стала степенная, важная, поплыла из кухни и встретила Кораблева в передней он был очень бледен. Марья Васильевна стояла в дверях и молча смотрела, как он одевался. По глазам было видно, что она недавно перестала плакать.
— Бедный, бедный! — как бы про себя сказала Нина Капитоновна.
Кораблев поцеловал ей руку, а она его в лоб, — для этого ей пришлось встать на цыпочки, а ему — наклониться.
— Иван Павлович, вы — мой друг и наш друг, — сказала Нина Капитоновна степенно. — И должны знать, что вы у нас всегда как в родном доме. И Маше вы — первый друг, я знаю. И она это знает.
Кораблев молча поклонился, Мне было очень жаль его. Я просто не мог понять, почему Марья Васильевна ему отказала. На мой взгляд, это была подходящая пара.
Должно быть, старушка ожидала, что Марья Васильевна позовет ее и все расскажет — как Кораблев делал предложение и как она ему отказала. Но Марья Васильевна не позвала ее. Наоборот, она заперлась в своей комнате на ключ, и слышно было, как она там расхаживает из угла в угол.
Катя кончила «Первую встречу испанцев с индейцами» и хотела ей показать, но она сказала из—за двери: «Потом, доченька», и не открыла.
Вообще в доме стало как—то скучно с тех пор, как ушел Кораблев, а потом и еще скучнее, когда пришел веселый Николай Антоныч и объявил, что к обеду будут не трое, как он рассчитывал, а шесть человек гостей.
Хочешь — не хочешь, а Нине Капитоновне пришлось серьезно браться за дело. Даже Катя была приглашена — стаканом вырезать для колдунов кружочки из теста. Она принялась очень энергично, раскраснелась, вся перемазалась мукой — нос и волосы, но скоро ей надоело, и она решила вырезать не стаканом, а старой чернильницей, чтобы получились не кружочки, а звездочки.
— Бабушка, для красоты, — умоляюще сказала она Нине Капитоновне.
Потом она сваляла звездочки и объявила, что будет печь свой пирог, отдельно. Словом, от нее было мало толку.
Шесть человек гостей! Кто же? Я смотрел из кухни и считал.
Первым пришел заведующий учебной частью Ружичек, по прозвищу Благородный Фаддей. Не знаю, откуда взялось это прозвище: всем хорошо было известно, какой он благородный! За ним явился толстый, лысый, с длинной смешной головой учитель Лихо. За ним еще кто—то, все педагоги. Потом пришла немка, она же француженка — преподавала немецкий и французский. Пришла наша Серафима с часиками на груди, и последним неожиданно приперся Возчиков из восьмого класса. Этот Возчиков был типичный «лядовец». Он чисто одевался, даже носил ремень с пряжкой МРУЛ, то есть Московское Реальное Училище Лядова», и был представителем старших классов в школьном совете.
Вообще здесь был почти весь школьный совет. Это было довольно странно — пригласить почти весь школьный совет к обеду.
Я сидел в кухне и слушал, о чем они говорят. Двери были открыты. Сперва Лихо сказал о «продуктах питания», о том, что теперь будут новые деньги. Сегодня фунт масла стоит четырнадцать миллионов, а завтра — двадцать копеек, как в довоенное время. Сегодня дворнику дают десять миллионов, а завтра десять Копеек, «и он еще будет кланяться и благодарить».
— А я—то, дура, только что скатерть продала за двести тридцать миллионов, — вздохнув, сказала Серафима Петровна.
Потом заговорили о Кораблеве. Вот тебе на! Оказывается, он подлизался к советской власти. Он из кожи лезет вон, чтобы «сделать карьеру». Усы он красит. Эту крайне вредную затею с театром он провел только для того, чтобы «завоевать популярность». Он был женат и свел жену в могилу. На заседаниях он проливает, оказывается, «крокодиловы слезы».
Я не знал, что такое «крокодиловы слезы», но при этих словах мне представился Кораблев, выходящий из комнаты Марьи Васильевны, бледный, с повисшими, точно приклеенными усами, и я сразу понял, что они все врут. И насчет театра, и насчет жены, и насчет «крокодиловых слез», что бы это ни означало. Они — его враги, те самые, о которых он еще сегодня говорил Марье Васильевне: «Я устал от этих людей. Мне мешают работать».
До «крокодиловых слез» — это еще был разговор. Но вот я услышал голос Николая Антоныча и понял, что это не разговор, а заговор. Они хотели прогнать Кораблева из школы.
Николай Антоныч начал издалека:
— Педагогика в числе внешних воспитательных факторов всегда предусматривала искусство…
Потом он перешел к Кораблеву и, прежде всего «отдал должное его дарованиям». Оказывается, нам нет никакого дела до «причин гибели его покойной жены». Нас интересует лишь «мера и степень его воздействия на детей». Нас волнует вредное направление, на которое Иван Павлыч толкает школу, и только поэтому мы должны поступить так, как нам подсказывает педагогический долг — «долг лояльных советских граждан».
Нина Капитоновна загремела пустыми тарелками, и я не расслышал, что именно подсказывает Николаю Антонычу его педагогический долг. Но когда Нина Капитоновна потащила в столовую второе, я из общего разговора понял, что они хотят сделать.
Во—первых, на ближайшем заседании школьного совета Кораблеву будет предложено «ограничиться преподаванием географии в пределах программы». Во—вторых, его деятельность будет оценена как «вульгаризация идеи трудового воспитания». В—третьих, школьный театр будет закрыт. В—четвертых и в—пятых еще что—то. Кораблев, конечно, обидится и уйдет. Как сказал Благородный Фаддей — «скатертью дорога».
Да, это был подлый план, и я удивлялся, что Нина Капитоновна не вмешивалась, терпела. Но вскоре я понял, в чем дело. Приблизительно со второго блюдя она стала жалеть, что Марья Васильевна отказала Кораблеву. Больше она ни о чем не думала, ничего не слышала. Она что—то бормотала, пожимала плечами и один раз даже сказала громко:
— Вот как! Что теперь мать?
Должно быть, обижалась, что Марья Васильевна не посоветовалась с ней, прежде чем отказать Кораблеву…
Гости разошлись, а я все не мог решить — что делать?
Это было дьявольски неудачно, что именно в этот день Кораблев пришел со своим предложением. Сидел бы лучше дома. Тогда я мог бы рассказать Марье Васильевне все, что услышал. А теперь неудобно, даже невозможно: она не вышла к обеду, заперлась и никого не пускала. Катя засела за уроки. Нина Капитоновна вдруг объявила, что с ног падает — хочет спать, сейчас же легла и заснула. Я вздохнул, простился и пошел домой.
Глава 10. «ОТВЕТ С ОТКАЗОМ»
Дежурный по детдому, хромой Яфет, уже дважды приходил смотреть, спим мы или бузим, все ли легли.
Ночная лампочка зажглась в коридоре. У Вальки Жукова веки вздрагивали во сне, как у собаки, — уж не снились ли ему его собаки? Ромашка храпел. Только я не спал, все думал.
Одна мысль смелее другой. Вот на школьном коллективе я выступаю против Николая Антоныча и открываю перед всеми подлый план изгнания Кораблева из школы. Вот я пишу Кораблеву письмо… Я стал сочинять письмо и заснул…
Очень странно, но, проснувшись (раньше всех), я продолжал сочинять это письмо как раз с того места, на котором остановился накануне. Вот когда пригодился бы мне Петькин письмовник! Я стал вспоминать письма, которые мы читали. «Ответ с отказом»: «Выраженные вами чувства чрезвычайно лестны для меня…» Не годится!
«Письмо благодарственное за благосклонный прием» тоже не годилось, равно как и «Письмо с требованием должной суммы». «Письмо от вдовца к девице» я забыл. Впрочем, и оно не годилось, тем более, что я не был вдовцом, а Кораблев — девицей.
Наконец я решился.
Было еще очень рано — восьмой час, на улицах темно, как ночью. Понятно, это меня не остановило. Остановить меня попробовал хромой Яфет, но я вывернулся и удрал с черного хода.
Кораблев жил в Воротниковском переулке, в деревянном одноэтажном флигеле со ставнями и верандой, похожем на дачу. Почему—то я был уверен, что он не спит. Ясно, не мог спать человек, который вчера получил от Марьи Васильевны «ответ с отказом». И он, правда, не спал. В комнате горел свет, он стоял у окна и смотрел во двор — так пристально и с таким вниманием, как будто во дворе происходили бог весть какие необыкновенные вещи. Так пристально и с таким вниманием, что долгое время не замечал меня, хотя я стоял под самым окном и делал знаки руками.
— Иван Павлыч!
Но Иван Павлыч зажмурился, тряхнул головой и ушел.
— Иван Павлыч, откройте, это я!
Он вернулся через несколько минут, накинув пальто, и вышел на веранду.
— Это я, Григорьев, — повторил я, испугавшись, что он забыл меня. Он смотрел как—то странно. — Я к вам пришел и сейчас расскажу одну штуку. Театр хотят закрыть, а вас… — Кажется, я не сказал «прогнать». А может быть, и сказал, потому что он вдруг очнулся.
— Зайди, — коротко сказал он.
Всегда у него было очень чисто, книги на полках, кровать под белым одеялом, на подушке — накидка. Все в порядке. Не в порядке сегодня был, кажется, только сам хозяин. То он щурился, то широко раскрывал глаза — как будто все перед ним расплывалось. Без сомнения, он не ложился в эту ночь. Таким усталым я его еще не видел.
— А, Саня, — нетвердо сказал он. — В чем дело?
— Иван Павлыч, я хотел вам письмо написать, — ответил я с жаром. — Вообще вопрос упирается в школьный театр. Про вас говорят, что вы заморили жену.
— Постой! — он засмеялся. — Кто говорит, что я заморил жену?
— Все. «Нам нет дела до причин гибели его покойной жены. Вульгаризация идей — вот что нас возмущает».
— Ничего не понимаю, — серьезно сказал Кораблев.
— Да, вульгаризация, — повторил я твердо.
Еще с вечера я твердил эти слова: «вульгаризация», «популярность» и «лаояпьный долг». «Вульгаризацию» сказал, теперь остались «популярность» и «лаояльный долг».
— «На собраниях он проливает крокодиловы слезы», — продолжал я торопливо. — «Эту крайне вредную затею он провел, чтобы захватить популярность». Да, «популярность». «Он подлизался к советской власти». «Мы должны выполнить наш лаояльный долг».
Может быть, я что—нибудь и перепутал. Но мне легче было повторить наизусть все, что я накануне слышал, чем рассказать своими словами. Во всяком случае, Кораблев понял меня. Он отлично понял меня. Глаза его вдруг потеряли прежнее расплывчатое выражение, легкая краска проступила на щеках, и он быстро прошелся по комнате.
— Это весело, — пробормотал он, хотя ему было совсем не весело. — А ребята, значит, не хотят, чтобы театр закрыли?
— Ясно, не хотят.
— И ты из—за театра пришел?
Я промолчал. Может быть, из—за театра. А может быть, потому, что без Кораблева в школе стало бы скучно. Может быть, потому, что мне не понравилось, что они так подло сговаривались вытурить его из школы…
— О, дураки, — неожиданно сказал Кораблев, — скучнейшие в мире!
Он крепко пожал мне руку и опять стал задумчиво ходить из угла в угол. Так—то расхаживая, он вышел, должно быть, на кухню, принес кипятку, заварил чай, достал из стенного шкафчика стаканы.
— Хотел уехать, а теперь решил остаться, — объявил он. — Будем воевать. Верно, Саня? А пока выпьем—ка чаю.
Не знаю, состоялось ли заседание школьного совета, на котором Кораблев должен был сурово расплатиться за «вульгаризацию идеи трудового воспитания». Очевидно, не состоялось, потому что он не расплатился. Каждое утро, как ни в чем не бывало, «Усы» расчесывал перед зеркалом усы и шел на урок…
Через несколько дней театр объявил новую постановку: «На всякого мудреца довольно простоты», и роль мудреца играл Гришка Фабер. По роли — ему лет двадцать пять, но он предпочел играть человека средних лет, с лысиной и золотыми зубами. Все время он барабанил пальцем по столу, как Николай Антоныч, и вообще играл бы очень хорошо, если бы не так орал.
Из райкома комсомола пришли два черных курчавых мальчика и предложили организовать в нашей школе комсомольскую ячейку. Валька спросил с места, можно ли записываться детдомовцам, и, они ответили, что можно, но только начиная с четырнадцати лет. Я сам не знал, сколько мне лет. По моим расчетам выходило — скоро тринадцать. На всякий случай я сказал, что четырнадцать. Но мне все—таки не поверили. Быть может, потому, что я был тогда очень маленького роста.
Из педагогов на этом собрании были только Кораблев и Николай Антоныч. Кораблев сказал довольно торжественную речь, сперва коротко поздравил нас с ячейкой, а потом долго ругал за то, что мы плохо учимся и хулиганим. Николай Антоныч тоже сказал речь. Это была прекрасная речь — он приветствовал представителей райкома, как молодое поколение, и в конце прочитал стихотворение Некрасова «Идет—гудет Зеленый Шум». Странно было только, что, произнося эту речь, он вдруг громко затрещал пальцами, как будто ломая руки. При этом у него было очень веселое лицо, и он даже улыбался.
После собрания я встретил его в коридоре и сказал: «Здравствуйте, Николай Антоныч!» Но он почему—то не ответил.
Словом, все было в порядке, и я сам не знал, почему, собираясь к Татариновым, я вдруг решил, что не пойду, а лучше завтра встречу Катю на улице и на улице отдам ей стек и глину — она просила. Не прошло и получаса, как я передумал.
Мне открыла старушка и как—то придержала цепочкой двери, когда я хотел войти. Казалось, она раздумывала, впустить меня или нет. Потом она распахнула двери, шепнула мне быстро: «Иди на кухню», и легонько толкнула в спину.
Я замешкался — просто от удивления. В эту минуту Николай Антоныч вышел в переднюю и, увидев меня, зажег свет.
— А—а! — каким—то сдавленным голосом сказал он. — Явился.
Он больно схватил меня за плечо.
— Неблагодарный доносчик, мерзавец, шпион! Чтобы твоей ноги здесь не было! Слышишь?
Он злобно раздвинул губы, и я увидел, как ярко заблестел у него во рту золотой зуб. Но это было последнее, что я видел в доме Татариновых. Одной рукой Николай Антоныч открыл двери, а другой выбросил меня на лестницу, как котенка.
Глава 11. УХОЖУ.
Пусто было в детдоме, пусто в школе. Все разбежались — воскресный день. Только Ромашка бродил по пустым комнатам и все что—то считал, — должно быть, свои будущие богатства, да повар в кухне готовил обед и пел. Я пристроился в теплом уголке за плитой и стал думать.
Да, это сделал Кораблев. Я хотел ему помочь, а он подло отплатил мне. Он пошел к Николаю Антонычу и выдал меня с головой.
Они оказались правы. И Николай Антоныч, и немкафранцуженка, и даже Лихо, который сказал, что на собраниях Кораблев проливает «крокодиловы слезы». Он — подлец. А я—то еще жалел, что Марья Васильевна ему отказала.
— Дядя Петя, что такое «крокодиловы слезы»?
Дядя Петя вытащил из котла кусок горячей капусты.
— Кажись, соус такой.
Нет, это не соус… Я хотел сказать, что это не соус, но в эту минуту дядя Петя вдруг медленно поплыл вокруг меня вместе с капустой, которую он пробовал зубом, чтобы узнать, готовы ли щи. Голова закружилась. Я вздохнул и пошел в спальню.
Ромашка сидел в спальне у окна и считал.
— Теперь сто тысяч будет все равно, что копейка, — сказал он мне. — А если набрать отмененных денег и поехать, где это еще неизвестно, накупить всего, а тут продать за новые деньги. Я сосчитал — на один золотой рубль прибыли сорок тысяч процентов.
— Прощай, Ромашка, — ответил я ему. — Ухожу.
— Куда?
— В Туркестан, — сказал я, хотя за минуту перед тем и не думал о Туркестане.
— Врешь!
Я молча снял с подушки наволочку и сунул в нее все, что у меня было: рубашку, запасные штаны, афишу: «Силами учеников 4—й школы состоится спектакль „Марат“, и черную трубочку, которую когда—то оставил мне доктор Иван Иваныч. Всех своих жаб и зайцев я разбил и бросил в мусорный ящик. Туда же отправилась и девочка с колечками на лбу, немного похожая на Катьку.
Ромашка следил за мной с интересом. Он все еще считал шепотом, но уже без прежнего азарта:
— Если на один рубль сорок тысяч, — стало, на сто рублей…
Прощай, школа! Не буду я больше учиться никогда. Зачем? Писать научился, читать, считать. Хватит с меня. Хорош и так. И никто не будет скучать, когда я уйду. Разве Валька вспомнит один раз и забудет.
— Стало, на сто рублей четыреста, — шептал Ромашка. — Четыреста тысяч процентов на сто рублей.
Но я еще вернусь. Я приду к Нине Капитоновне, брошу ей деньги и скажу: «Вот, возьмите за все, что я съел у вас». И Кораблев, которого выгонят из школы, придет ко мне жаловаться и умолять, чтобы я простил его. Ни за что!
И вдруг я вспомнил, как он стоял у окна, когда я пришел к нему, стоял и внимательно смотрел во двор, очень грустный и немного пьяный. Полно, он ли это? Зачем ему выдавать меня? Напротив, он, наверное, и виду не подал, он должен был притвориться, что ничего не знает об этом тайном совете. Напрасно я ругал его. Это не он. Кто же?
— А, Валька! — вдруг сказал я себе. — Ведь когда я вернулся от Татариновых, я все рассказал ему. Это — Валька!
Но Валька, помнится, захрапел, не дослушав. И вообще Валька не сделает этого никогда.
Может, Ромашка? Я посмотрел на него. Бледный, с красными ушами, он сидел на окне и все умножал и умножал без конца. Мне почудилось, что он незаметно следит за мной, как птица, одним круглым, плоским глазом. Но ведь он ничего не знал…
Теперь, когда я твердо решил, что это сделал не Кораблев, можно было, пожалуй, и остаться. Но у меня болела голова, звенело в ушах и почему—то казалось, что теперь, когда я сказал Ромашке, что ухожу, остаться уже невозможно. С какой—то тоской в сердце я оглянулся в последний раз. Вот белая лампа, на которую я всегда долго смотрел в темноте, когда гасили свет, стенка с клеточками, где лежит белье, — вот моя клеточка, а рядом Валькина. Кровати, кровати…
Я вздохнул, взял узел, кивнул Ромашке и вышел. Должно быть, у меня был уже сильный жар, потому что, выйдя на улицу, я удивился, что так холодно. Впрочем, еще в подъезде я снял курточку и надел пальто прямо на рубашку. Курточку решено было загнать, — по моим расчетам, за нее можно было взять миллионов пятнадцать.
По той же причине — сильный жар и головная боль — я плохо помню, что я делал на Сухаревке, хотя и провел там почти целый день. Помню только, что я стоял у ларька, из которого пахло жареным луком, и, держа курточку, говорил слабым голосом:
— А вот кому…
Помню, что удивлялся, почему у меня такой слабый голос. Помню, что приметил в толпе мужчину огромного роста в двух шубах. Одна была надета в рукава, другая — та, которую он продавал, — накинута на плечи. Очень странно, но куда бы я ни пошел со своим товаром, везде я натыкался на этого мужчину. Он стоял неподвижно, огромный, бородатый, в двух шубах, и, не глядя на покупателей, загибавших полы и щупавших воротник, мрачно говорил цену.
Помню, что, пробродив по рынку весь день, я променял рубашку на кусок хлебного пирога с морковкой, но откусил только раз — и расхотелось.
Где—то я грелся, заметив, что хотя мне самому уже не холодно, но пальцы все—таки посинели. Пирог я спрятал в наволочку и все, помнится, смотрел, не раскрошился ли он, Должно быть, я чувствовал, что заболеваю. Очень хотелось пить, и несколько раз я решал, что кончено: если через полчаса не продам, пойду в чайную и загоню курточку за стакан горячего чая. Но тут же мне начинало казаться, что именно в это время явится мой покупатель, и я решал, что постою еще полчаса.
Помнится, меня утешало, что высокий мужчина тоже никак не может продать своей шубы…
Пожалуй, я съел бы немного снега, но на Сухаревке снег был очень грязный, а до бульвара — далеко. Все—таки я пошел и поел, и, странно, снег показался мне теплым. Кажется, меня вырвало, а может быть, и нет. Помню только, что я сидел на снегу и кто—то держал меня за плечи, потому что я падал. Наконец меня перестали держать, я лег и с наслаждением вытянул ноги. Надо мной говорили что—то, как будто: «Припадочный, припадочный…» Потом у меня хотели взять наволочку, и я слышал, как меня уговаривали: «Вот чудной, да тебе же под голову!», но я вцепился в наволочку и не отдал. Мужчина в двух шубах медленно прошел мимо и вдруг сбросил на меня одну шубу. Но это уже был бред, и я прекрасно понимал, что это бред… Наволочку еще тянули. Я услышал женский голос:
— Узел не отдает.
И мужской:
— Ну что ж, так с узлом и кладите.
Потом мужской голос сказал:
— Очевидно, испанка.
И все провалилось…
Еще и теперь я сразу начинаю бредить, чуть только появляется жар, При тридцати восьми я уже несу страшную чушь и до смерти пугаю родных и знакомых. Но такого приятного бреда, как во время испанки, у меня не было никогда. Вот в просторной, светлой комнате я рисую картину — водопад. Вода летит с отвесной скалы в узкое каменистое ложе. Как хорошо! Как блестит на солнце вода, какие чудесные зеленые камни!
Вот я еду куда—то в розвальнях, покрывшись овчиной. Темнеет, но я еще вижу, как снег бежит из—под розвальней между широкими полозьями, — кажется, что мы стоим, а он бежит, и только по следу, который чертит сбоку упавшая полость, видно, что мы едем и едем. И мне так хорошо, так тепло, что кажется — ничего больше не нужно, только бы ехать вот так зимой в розвальнях всю жизнь.
Почему у меня был такой хороший бред, не знаю. Я был при смерти, дважды меня как безнадежного отгораживали от других больных ширмой. Синюха — верный признак смерти — была у меня такая, что все доктора, кроме одного, махнули рукой и только каждое утро спрашивали с удивлением:
— Как, еще жив?
Все это я узнал, когда очнулся…
Как бы то ни было, я не умер. Наоборот, я поправился. Однажды я открыл глаза и хотел вскочить с кровати, вообразив, что нахожусь в детдоме… Чья—то рука удержала меня, чье—то лицо — забытое и необыкновенно знакомое — приблизилось ко мне. Хотите верьте, хотите нет — это был доктор Иван Иваныч.
— Доктор, — сказал я ему и заплакал от радости, от слабости. — Доктор. Вьюга!
Он смотрел мне прямо в глаза, наверно, думал, что я еще брежу.
— Седло, ящик, вьюга, пьют, Абрам, — сказал я, чувствуя, что слезы льются прямо в рот. — Это я, доктор. Я — Санька. Помните, в деревне, доктор? Мы прятали вас. Вы меня учили.
Он еще раз заглянул мне в глаза, потом надул щеки и с шумом выпустил воздух.
— Ого! — сказал он и засмеялся. — Как не помнить? А сестра где? Как же так? Ведь ты мог тогда только «ухо» сказать, да и то лаял. Научился, а? Да еще в Москву перебрался? Да еще умирать вздумал?
Я хотел сказать, что вовсе не собираюсь умирать, — напротив, но он вдруг закрыл мне рот ладонью, а другой рукой быстро достал платок и вытер мне лицо и нос.
— Лежи, брат, смирно, — сказал он. — Тебе еще говорить нельзя. Немой и немой. Черт тебя знает, ты уже столько раз умирал, что теперь неизвестно: а вдруг скажешь лишнее слово — и готов. Поминайте, как звали.
Глава 12. СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР.
Вы думаете, может быть, что, однажды очнувшись, я стал поправляться? Ничуть не бывало. Едва оправившись от испанки, я заболел менингитом. И снова Иван Иваныч не согласился с тем, что моя карта бита.
Часами сидел он у моей постели, изучал странные движения, которые я делал глазами и руками. В конце концов я снова пришел в себя и, хотя долго еще лежал с закаченными к небу глазами, однако был уже вне опасности.
«Вне опасности умереть, — как сказал Иван Иваныч, — но зато в опасности на всю жизнь остаться идиотом».
Мне повезло. Я не остался идиотом и после болезни почувствовал даже, что стал как—то умнее, чем прежде, Так оно и было. Но болезнь тут ни при чем.
Как бы то ни было, я провел в больнице не менее полугода. За это время мы очень часто, чуть ли не через день, встречались с Иваном Иванычем. Но от этих встреч было мало толку. А когда я стал поправляться, он уже почти не бывал в больнице. Вскоре он уехал из Москвы. Куда и зачем — об этом ниже.
Удивительно, как мало переменился он за эти годы. По—прежнему он любил бормотать стихи. И я слышал, как однажды, выслушав меня, он пробормотал недовольным голосом:
Барон фон Гринвальдус, Сей доблестный рыцарь, Все в той же позицьи На камне сидит.К нам в палату приходили студенты, и он, оглядев их светлыми, живыми глазами, хватал одного за рукав и, читая лекцию, то отпускал, то снова хватал. Мы с ним вспомнили «старое время», и он удивился, что я еще помню, как он делал из хлебного мякиша и еще из чего—то кошку в мышку, и кошка ловила мышку и мяукала, как настоящая кошка.
— Иван Иваныч, а ведь после, как вы ушли, — сказал я, — ведь мы с сестрой всю зиму пекли картошку на палочках.
Он засмеялся, потом задумался.
— А это, брат, меня на каторге научили.
Оказывается, он был ссыльным. В 1914 году, как член партии большевиков, он был сослан на каторгу, а потом на вечное поселение. Не знаю, где он отбывал каторгу, а на поселении был где—то очень далеко, у Баренцева моря.
— А уж оттуда, — сказал он смеясь, — прибежал прямо к вам в деревню и чуть не замерз по дороге.
Вот когда выяснилось, почему он не спал по ночам. Черную трубочку — стетоскоп — он, оказывается, оставил нам с сестрой на память. Слово за словом пришлось рассказать ему, когда и почему я удрал из детдома.
Он слушал очень внимательно и почему—то все время смотрел мне прямо в рот.
— Да, здорово, — задумчиво сказал он. — Просто редкая штука.
Я решил, что он думает, что удрать из детдома — редкая штука, и хотел возразить, что совсем не редкая, но он снова сказал:
— Не глухо—, а глухонемота, то есть немота без глухоты. Stummht ohne Taubheit. И ведь не мог сказать «мама». А теперь извольте—ка! Оратор!
И он стал рассказывать обо мне другим докторам.
Я был немного огорчен, что доктор ни слова не сказал об этой истории, которая заставила меня удрать из детдома, и даже, кажется, вообще пропустил ее мимо ушей. Но я ошибся, потому что в один прекрасный день двери нашей палаты открылись, сестра сказала:
— К Григорьеву гости.
И вошел Кораблев.
— Здравствуй, Саня!
— Здравствуйте, Иван Павлыч!
Вся палата смотрела на нас с любопытством. Должно быть, по этой причине он сначала говорил только о моем здоровье. Но когда все занялись своими делами, он стал меня ругать. О, как он меня ругал! Как по писаному, он рассказал мне все, что я о нем думал, и объявил, что я обязан был явиться к нему и сказать: «Иван Павлыч, вы — подлец», если я думал, что он подлец. А я этого не сделал, потому что я — типичный индивидуалист. Он немного смягчился, когда, совершенно убитый, я спросил:
— Иван Павлыч, а что такое индиалист?
Словом, он ругал меня, пока не кончились приемные часы. Однако, прощаясь, он крепко пожал мне руку и сказал, что еще зайдет.
— Когда?
— На днях. У меня с тобой серьезный разговор. А пока подумай.
К сожалению, он не сказал, о чем мне думать, и мне пришлось думать о чем попало. Я вспомнил Энск, Сковородникова, тетю Дашу и решил, что, как только поправлюсь, напишу в Энск. Не вернулся ли Петька? О Петьке я думал очень часто. Окна нашей палаты выходили в сад, и видны были вершины деревьев, качавшиеся от ветра. По вечерам, когда все засыпали, я слышал, как они шумят, и мне казалось, что Петька, так же как я, лежит где—то на белой койке, думает, слушает, как шумят деревья. Где он теперь? Быть может, Туркестан не понравился ему и он удрал куда—нибудь в Перу? Вдруг Петька — в Перу? Как Васко Нуньес Бальбоа, он стоит на берегу Тихого океана в латах, с мечом в руке. Едва ли. Но все—таки кто знает, где он побывал, пока я, как пай—мальчик, жил в детском доме…
В следующий приемный день пришел Валька Жуков и рассказал про своего ежа. Он где—то достал ежа и построил ему целый дом под своей кроватью. Зимой ежи спят, а этот почему—то не спал. Вообще это был удивительный еж. Вальке нравилось даже, как еж чесался.
— Как собака! — с восторгом сказал он. — И даже лапкой об пол стучит, как собака.
Словом, два битых часа Валька говорил про ежа и, только прощаясь, спохватился и сказал, что Кораблев мне кланяется и на днях зайдет.
Я сразу понял, что это и будет серьезный разговор. Очень интересно! Я был уверен, что мне опять попадет. И не ошибся.
Разговор начался с того, что Кораблев спросил, кем я хочу быть.
— Не знаю, — отвечал я. — Может быть, художником.
Он поднял брови и возразил:
— Не выйдет.
По правде говоря, я еще не думал, кем я хочу быть. В глубине души мне хотелось быть кем—нибудь вроде Васко Нуньес Бальбоа. Но Иван Павлыч с такой уверенностью сказал: «Не выйдет», что я возмутился.
— Почему?
— По многим причинам, — твердо сказал Кораблев. — Прежде всего, потому, что у тебя слабая воля.
Я был поражен. Мне и в голову не приходило, что у меня слабая воля.
— Ничего подобного, — возразил я мрачно. — Сильная.
— Нет, слабая. Какая же воля может быть у человека, который не знает, что он сделает через час? Если бы у тебя была сильная воля, ты бы хорошо учился. А ты учишься плохо.
— Иван Павлыч, — сказал я с отчаянием, — у меня один «неуд».
— Да, плохо. А между тем мог бы учиться отлично.
Он подождал, не скажу ли я еще что—нибудь. Но я молчал.
— Ты воображаешь лучше, чем соображаешь.
Он еще подождал.
— И вообще пора тебе подумать, кто ты такой и зачем существуешь на белом свете! Вот ты говоришь: хочу быть художником. Для этого, милый друг, нужно стать совсем другим человеком.
Глава 13. ДУМАЮ.
Легко сказать: ты должен стать совсем другим человеком. А как это сделать? Я был не согласен, что плохо учусь. Один «неуд», и то по арифметике, и то, потому что однажды я почистил сапоги, а Ружичек вызвал меня и сказал:
— Чем это ты мажешь сапоги, Григорьев? Гнилыми яйцами на керосине?
Я нагрубил, и с тех пор он мне больше «неуда» не ставил. Но все—таки я чувствовал, что Кораблев прав и мне нужно стать совсем другим человеком. Что, если у меня действительно слабая воля? Это нужно проверить. Нужно решить что—нибудь и непременно исполнить. Для начала я решил прочитать книгу «Записки охотника», которую я уже читал в прошлом году и бросил, потому что она показалась мне очень скучной.
Странно! Только что я взял из больничной библиотеки «Записки охотника» и прочитал страниц пять, как книга показалась мне втрое скучнее, чем прежде. Больше всего на свете мне захотелось, чтобы не было этого решения. Но я дал себе слово, даже прошептал его под одеялом, а слово нужно держать.
Я прочел «Записки охотника» и решил, что Кораблев врет. У меня сильная воля.
Разумеется, нужно было бы проверить себя еще раз! Скажем, каждое утро после зарядки обтираться холодной водой из—под крана. Или выйти в году по арифметике на «отлично». Но все это я отложил до возвращения в школу, а пока оставалось только думать и думать.
«Ты воображаешь лучше, чем соображаешь». Почему он так сказал? Может быть, потому, что я хвастал своей лепкой? Это было обидно. Катька — вот кто воображает! Или Кораблев иначе понимает это слово? Я решил, что спрошу у него, если он придет еще раз. Но он не пришел, и только через год или два я узнал, что воображать — это значит не только «задаваться». «Кто ты такой и зачем существуешь на белом свете?» Я думал над этим, читая газеты. В больнице я стал читать газеты. Интересно. Если бы не было так много иностранных слов! Я нашел среди них и «вульгаризацию» и «крокодиловы слезы».
Наконец Иван Иваныч осмотрел меня в последний раз и велел выписать из больницы. Это был замечательный день. Мы простились, но он оставил мне свой адрес и велел зайти.
— Только, смотри, не позже двадцатого, — весело сказал он. — А то, брат, того и гляди, дома не застанешь…
С узлом в руках я вышел из больницы и, пройдя квартал, присел на тумбу — такая еще была слабость. Но как хорошо! Какая большая Москва! Я забыл ее. И как шумно на улицах! У меня закружилась голова, но я знал, что не упаду. Я здоров и буду жить. Я поправился. Прощай, больница! Здравствуй, школа!
По правде говоря, я был немного огорчен, что в школе меня встретили так равнодушно. Только Ромашка спросил:
— Выздоровел?
С таким выражением, как будто он немного жалел, что я не умер.
Валька обрадовался, но ему было не до меня. У него пропал еж, и он подозревал, что повар, по распоряжению Николая Антоныча, бросил ежа в помойную яму.
— Уж лучше бы я его продал, — грустно сказал Валька. — Мне двадцать пять копеек давали. Дурак — не взял пока я лежал в больнице, появились новые деньги — серебряные и золотые.
В детдоме все было по—старому, только Серафима Петровна перешла в старшие классы, и на ее место поступил мужчина—воспитатель Суткин. Валька сказал, что он: — подлиза. Подлизывается к Николаю Антонычу, немке, к Ружичеку и к ребятам.
Зато в школе за эти полгода произошли большие перемены. Во—первых, она стала вдвое меньше: часть старших классов перевели и другие школы.
Во—вторых, ее покрасили и побелили — просто не узнать стало прежних грязных комнат с тусклыми окнами и черными потолками…
В—третьих, все только и говорили о комсомольской ячейке. Секретарем была теперь тетя Варя, та самая девочка из хозяйственной комиссии, которая в двадцатом году с шумовкой в руке деловито разгуливала по коридору. Должно быть, она оказалась хорошим секретарем, потому что, когда я вернулся маленькая комнатка комсомольской ячейки была самым интересным местом в нашей школе.
Я еще не был комсомольцем, но на третий день после возвращения из больницы уже получил от тети Вари задание — нарисовать парящий в облаках самолет и над ним надпись: «Молодежь, вступай в ОДВФ!»
Пальцы у меня еще были как чужие, но я с жаром принялся за работу.
Словом, в школе стало в тысячу раз интереснее, чем прежде, и я, вступив сразу во все кружки и увлекшись коллективным чтением газет, совсем забыл о докторе Иване Иваныче и о том, что он просил меня зайти не позже двадцатого мая.
Глава 14. СЕРЕБРЯНЫЙ ПОЛТИННИК.
В этот день, когда я, наконец, собрался, к нему, у нас с самого утра был переполох. Валькин еж нашелся. Оказывается, он забрался на чердак и каким—то образом попал в старую капустную кадку.
Может быть, он вспомнил, что не спал зимой, может быть, ослабел, просидев в кадке две недели, но только вид у него был неважный. Во всяком случае, нужно было постараться поскорее его продать, потому что было, похоже, что он собирается подохнуть. Он больше не прятал рыла и не свертывался клубком, когда его трогали за нос. Рыжая борода как—то обвисла. Словом, он был совсем плох, и больше ничего не оставалось, как отнести его в университет — в университете какая—то лаборатория покупала ежей. Валька завернул его в старые штаны и ушел. Очень грустный, он вернулся через час и сел на кровать.
— Его вскроют, — сказал он мне и перекосился, чтобы не заплакать.
— Как вскроют?
— Очень просто. Разрежут живот и начнут копаться. Жалко.
Мы немного поспорили, у всех ли ежей внутренности на том же месте.
— Ладно, наплевать, — сказал я. — Другого купишь. Сколько тебе дали?
Валька молча разжал кулак. Еж был полудохлый, и дали только двадцать копеек.
— А у меня тридцать, — сказал я. — Сложимся и купим спиннинг.
Про спиннинг я нарочно сказал, чтобы его утешить. Спиннинг — это такая складная длинная удочка с длинной леской на колесе, так что наживу можно закидывать от берега метров на сорок. Я видел эту штуку еще в Энске. Один пристав в Энске ловил рыбу спиннингом.
Мы сложились и даже обменяли наши гривенники и пятиалтынные наодин новенький серебряный полтинник. Полтинников я еще не видел, они почему—то редко попадались.
Вся эта история с Валькиным ежом сильно задержала меня, и, когда я выбрался к доктору, уже начинало темнеть, Он жил далеко, на Зубовском бульваре, а трамваи были теперь платные, не то что в двадцатом году. Но я все—таки доехал бесплатно.
Только одно окно светилось в глубине сада, в белом доме с колоннами на Зубовском бульваре, и я решил, что это в комнате доктора горит свет. Я ошибся. Доктор жил, оказывается, в третьем этаже, а свет горел во втором. Квартира восемь, Вот она. Под номером было крупно написано мелом:
«Здесь живет Павлов, а не Левенсон».
Павлов — это и был доктор Иван Иваныч.
Мне открыла женщина с ребенком на руках и, все время шикая, спросила, что мне нужно. Я сказал. Она, все шикая, сказала, что доктор дома, но, кажется, спит.
— Все—таки постучи, — шепотом сказала она. — Наверно, не спит.
— Не сплю! — закричал откуда—то доктор. — Кто там?
— Какой—то мальчик.
— Пусть войдет.
Я в первый раз был у доктора и удивился, что в комнате такой беспорядок. На полу, вперемешку с пакетами чаю и табаку, валялись кожаные перчатки и странные красивые меховые сапоги. Вся комната была завалена открытыми чемоданами и заплечными мешками. И среди этого развала со штативом в руках стоял доктор Иван Иваныч.
— А, Саня! — весело сказал он. — Явился, Ну, как дела? Живешь?
— Живу.
— Отлично! Кашляешь?
— Нет.
— Молодец! А я, брат, о тебе статью написал.
Я думал, что он шутит.
— Редкий случай немоты, — сказал доктор, — Можешь сам прочитать в N17 «Врачебной газеты». Больной Г. это, брат, ты. Считай, что прославился. Правда, пока еще в качестве больного. Но все впереди.
Он запел: «Все впереди, все впереди!» — и вдруг накинулся на самый большой чемодан, захлопнул и сел на него, чтобы он лучше закрылся.
Должно быть, доктор собирался уезжать из Москвы. Я хотел спросить, куда он едет, но решил сперва узнать, почему у него на двери написано, что здесь живет он, а не Левенсон.
— Иван Иваныч, почему у вас на двери написано, что здесь живете вы, а не Левенсон?
Доктор засмеялся.
— Потому что здесь живу я, — сказал он. — А Левенсон живет в соседнем доме. У него номер восемь и у меня восемь. А ворота общие. Понял?
— Понял.
Доктор очень много говорил в этот день. Таким веселым я его еще не видел. Вдруг он решил, что нужно что—нибудь мне подарить, и подарил кожаные перчатки, старые, но еще очень хорошие, застегивающиеся на ремешок. Я стал было отказываться, но он без разговоров сунул мне перчатки и сказал:
— Бери и молчи.
Нужно бы поблагодарить его за перчатки, но я, вместо благодарности, сказал:
— Вы куда это собрались? Уезжаете?
— Уезжаю, — сказал доктор. — На Крайний Север, за Полярный Круг. Слыхал?
Я смутно вспомнил письмо штурмана дальнего плавания.
— Слыхал.
— Ну вот. У меня там, брат, невеста осталась. Знаешь, что это такое?
— Знаю.
— Врешь. Знаешь, да не понимаешь
Я стал рассматривать разные странные штуки, которые он брал с собой: меховые штаны с треугольным кожаным задом, какие—то металлические подошвы с ремнями, и так далее. А доктор, укладывая, все говорил. Один чемодан ни за что не закрывался, и он взял его за верхнюю крышку и опрокинул на кровать. При этом большая фотографическая карточка упала к моим ногам. Это была уже довольно старая, пожелтевшая карточка, согнутая в нескольких местах. На оборотной стороне было написано крупным круглым почерком: «Судовая команда шхуны „Св. Мария“. Я стал рассматривать карточку и, к своему удивлению, нашел Катиного отца. Да, это был он! Он сидел в самой середине команды, скрестив руки на груди совершенно так же, как на портрете, висевшем у Татариновых в столовой. Но доктора я не нашел на карточке и спросил, почему его нет.
— А это потому, брат, что я не плавал на шхуне «Святая Мария», — затягивая ремнями чемодан и страшно пыхтя, сказал доктор.
Он взял у меня карточку и подумал, куда бы ее положить.
— Один человек оставил — на память.
Я хотел спросить, кто этот человек, не Катин ли отец, но он уже положил карточку в книгу и книгу — в заплечный мешок.
— Ну, Саня, — сказал он, — мне пора. А ты пиши, что делаешь и как себя чувствуешь. Имей, брат, в виду, что ты — экземпляр интересный!
Я записал его адрес, и мы простились.
Домой я пошел пешком и по пути сделал небольшой крюк — послушать громкоговоритель на Тверской. Это был первый в Москве громкоговоритель. Он был очень интересный, но немного слишком орал и напомнил мне, поэтому Гришку Фабера в трагедии «Настал час».
Когда я подходил к детдому, шел уже одиннадцатый час, и я немного боялся, что двери уже закрыты. Ничего подобного! Двери открыты, и во всех окнах свет. Что случилось?
Как пуля, я влетел в спальню. Пусто! Кровати постланы, — должно быть, уже собирались ложиться.
— Дядя Петя! — заорал я, увидя повара, выходившего из кухни в новом костюме, со шляпой в руке. — Что случилось?
— Приглашен на собрание, — загадочным шепотом ответил повар.
— Какое собрание? Куда.
— Собрание всех учащихся, преподавателей и служебного персонала, — так же загадочно сказал повар.
Должно быть, он успел здорово клюкнуть, потому что надолго закрывал глаза после каждого слова. Он начал было объяснять мне, что раз он приглашен на собрание, стало быть, должен одеться, как человек, но я уже бежал наверх, в школу.
Актовый зал был полон, яблоку негде упасть, и еще много ребят стояло у дверей, в коридоре. Но я—то пролез и сел в первом ряду, только не на стул, а на пол, перед самой эстрадой…
Это было торжественное собрание под председательством Вари. Очень красная, она сидела в президиуме с карандашом в руке и все время закидывала за ухо прядь полос, падавшую ей прямо на нос. Это было первое большое собрание, на котором она председательствовала, и понятно, почему она так волновалась. Другие ребята из ячейки сидели у нее по бокам и что—то прилежно писали. А над ними, над столом президиума, над всем залом висел мой плакат. У меня занялось дыхание. Это был мой плакат — аэроплан, парящий в облаках, и над ним надпись: «Молодежь, вступай в ОДВФ!» Но при чем тут был мой плакат, этого я долго не мог понять, потому что все ораторы говорили исключительно о каком—то ультиматуме. Но вот выступил Кораблев, и все стало ясно.
— Товарищи! — негромко, но отчетливо сказал он. — Советскому правительству предъявлен ультиматум. В общем и целом, вы очень правильно оценили значение этого документа. С вашей точки зрения, авторы его — типичные империалисты. Совершенно верно! Но было бы ошибкой предполагать, что они этого не знали или что от вас они об этом услышали впервые. Нет, мы иначе должны ответить на ультиматум! Мы должны создать в нашей школе ячейку Общества друзей воздушного флота!
Все захлопали и потом хлопали после каждой фразы Кораблева. Между прочим, в конце он показал на мой плакат, и я почувствовал с гордостью, что вся школа смотрит на мой аэроплан парящий в облаках, и читает надпись: «Молодежь, вступай в ОДВФ!»
Потом выступил Николай Антоныч и тоже очень хорошо говорил, а потом тетя Варя объявила, что комсомольская ячейка полностью вступает в ОДВФ. Желающие могут записаться у нее завтра от десяти до десяти, а пока она предлагает устроить сбор в пользу советской авиации и собранные деньги послать и адрес газеты «Правда».
Должно быть, я волновался, потому что Валька тоже сидевший на полу недалеко от меня, через три человека, смотрел на меня с удивлением. Я вынул серебряный полтинник и показал ему. Он понял. Он хотел что—то спросить, — должно быть про спиннинг, — но удержался и только кивнул головой.
Я вскочил на эстраду и отдал тете Варе полтинник…
— Иван Павлыч, — сказал я Кораблеву, который стоял и курил из длинного мундштука в коридоре. — С каких лет берут в летчики?
Он серьезно посмотрел на меня.
— Не знаю, Саня. Тебя—то, пожалуй, еще не возьмут…
Не возьмут? Клятва, которую когда—то мы с Петькой дали друг другу в Соборном саду, припомнилась мне: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Но я не сказал ее вслух. Все равно Кораблев бы ее не понял.
ЧАСТЬ 3. СТАРЫЕ ПИСЬМА.
Глава 1. ЧЕТЫРЕ ГОДА.
Как в старых немых фильмах, мне представляются большие часы, — но стрелка показывает годы. Полный круг — и я вижу себя в третьем классе, на уроке Кораблева, на одной парте с Ромашкой. Пари заключено, — пари, что я не закричу и не отдерну руку, если Ромашка полоснет меня по пальцам перочинным ножом. Это — испытание воли. Согласно «правилам для развития воли, я должен научиться «не выражать своих чувств наружно. Каждый вечер я твержу эти правила, и вот, наконец, удобный случай. Я проверяю себя.
Весь класс следит за нами, никто не слушает Кораблева, хотя сегодня интересный урок: о нравах и обычаях чукчей.
— Режь, — говорю я Ромашке.
И этот подлец хладнокровно режет мне палец перочинным ножом. Я не кричу, но невольно отдергиваю руку и проигрываю пари.
Кто—то ахает, шепот пролетает по партам. Кровь течет, я нарочно громко смеюсь, чтобы показать, что мне нисколько не больно, и вдруг Кораблев выгоняет меня из класса. Я выхожу, засунув руку в карман.
— Можешь не возвращаться.
Но я возвращаюсь. Урок интересный, и я слушаю его, сидя на полу, под дверью…
Правила для развития воли! Я возился с ними целый год. Я пробовал не только «скрывать свои чувства», но и «не заботиться о мнении людей, которых презираешь». Не помню, которое из этих правил было труднее. Пожалуй, первое, потому что мое лицо как раз выражало решительно все, что я чувствовал и думал.
«Спать как можно меньше, потому что во сне отсутствует воля» — также не было слишком трудной задачей для такого человек, как я. Но зато я научился «порядок дня определять с утра» — и следую этому правилу всю мою жизнь. Что касается, главного правила: «помнить цель своего существования», то мне не приходится очень часто повторять его, потому что эта цель была мне ясна уже и в те годы… Снова полный круг — раннее утро зимой двадцать пятого года. Я просыпаюсь раньше всех и лежу, не зная, сплю я или уже проснулся. Как во сне, мне представляется наш Энск, крепостной вал, понтонный мост, дома на пологом берегу. Гаер Кулий, старик Сковородников, тетя Даша, читающая чужие письма с поучительным выражением. Я — маленький, стриженый, в широких штанах. Полно, я ли это?
Лежу и думаю, сплю и не сплю. Энск отъезжает куда—то вместе с чужими письмами, с Гаером, с тетей Дашей. Я вспоминаю Татариновых… Я не был у них два года. Николай Антоныч все еще ненавидит меня. В моей фамилии ни одного шипящего звука, тем не менее, он произносит ее с шипением. Нина Капитоновна все еще любит меня: недавно Кораблев передал от нее «поклон и привет». Как—то Марья Васильевна? Все сидит на диване и курит? А Катя?
Я смотрю на часы. Скоро семь. Пора вставать — я дал себе слово вставать до звонка. На цыпочках я бегу к умывальнику и делаю гимнастику перед открытым окном. Холодно, снежинки залетают в окно, крутятся, падают на плечи, тают. Я умываюсь до пояса — и за книгу. За чудесную книгу — «Южный полюс» Амундсена, которую и читаю в четвертый раз.
Я читаю о том, как юношей семнадцати лет он встретил Нансена, вернувшегося из своего знаменитого дрейфа, о том, как «весь день он проходил по улицам, украшенным флагами, среди толпы, кричавшей „ура“, и кровь стучала у него в висках, а юношеские мечты поднимали целую бурю в его душе».
Холод бежит по моим плечам, по спине, по ногам, и даже живот покрывается ледяными мурашками. Я читаю, боясь пропустить хоть слово. Уже доносятся голоса из кухни: девушки, разговаривая, идут в столовую с посудой, а я все читаю. У меня горит лицо, кровь стучит в висках. Я все читаю — с волнением, с вдохновением. Я знаю, что навсегда запомню эту минуту…
Снова полный круг — и я вижу себя в маленькой, давно знакомой комнате, в которой за три года проведены почти все вечера. По поручению комсомольской ячейки я в первый раз веду кружок по коллективному чтению газет. В первый раз — это страшно. Я знаю «текущий момент», «национальную политику», «международные вопросы». Но международные рекорды я знаю еще лучше — на высоту, на продолжительность, на дальность полета. А вдруг спросят о снижении цен? Но все проходит благополучно. Кто—то из девочек просит рассказать биографию Ленина, а уж биографию—то Ленина я знаю отлично.
Все теснее становится в комсомольской ячейке. На пороге стоит и внимательно слушает меня Кораблев. Он трогает пальцами усы — ура! — значит, доволен. Чувство радости и гордости охватывает меня. Я говорю — и думаю с изумлением: «Ох, как я хорошо говорю!»
Это — мое первое общественное выступление, если не считать случая у костра, когда была низвергнута власть Степы Иванова. Кажется, оно удалось. На следующий день преподаватель обществоведения вызвал меня, попросил повторить биографию Ленина и сказал. «Если я заболею, меня заменит Саня Григорьев».
Еще один полный круг — и мне семнадцать лет.
Вся школа в актовом зале. За большим красным столом — члены суда. По левую руку — защитник. По правую — общественный обвинитель. На скамье подсудимых — подсудимый.
— Подсудимый, ваше имя? — говорит председатель.
— Евгений.
— Фамилия?
— Онегин.
Это был памятный день.
Глава 2. СУД НАД ЕВГЕНИЕМ ОНЕГИНЫМ.
Сначала никто в школе не интересовался этой затеей. Но вот кто—то из актрис нашего театра предложил поставить «Суд над Евгением Онегиным» как пьесу, в костюмах, и сразу о нем заговорила вся школа.
Для главной роли был приглашен сам Гришка Фабер, который вот уже год как учился в театральном училище, но по старой памяти иногда еще заходил взглянуть на наши премьеры. Свидетелей взялись играть наши актеры, только для няни Лариных не нашлось костюма, и пришлось доказывать, что в пушкинские времена няни одевались так же, как и в наши, Защиту поручили Вальке, общественным обвинителем был наш воспитатель Суткин, а председателем — я…
В парике, в синем фраке, в туфлях с бантами, в чулках до колен преступник сидел на скамье подсудимых и небрежно чистил ногти сломанным карандашом. Иногда он надменно и в то же время как—то туманно посматривал на публику, на членов суда. Должно быть, так, по его мнению, вел бы себя при подобных обстоятельствах Евгений Онегин.
В комнате свидетелей (бывшая учительская) сидели старуха Ларина с дочками и няня. Они, напротив, очень волновались, особенно няня, удивительно моложавая и хорошенькая для своих лет. Защитник тоже волновался и почему—то все время держал навесу толстую палку с документами. Вещественные доказательства — два старинных пистолета — лежали передо мной на столе. За моей спиной слышался торопливый шепот режиссеров.
— Признаете ли вы себя виновным? — спросил я Гришку.
— В чем?
— В убийстве под видом дуэли, — прошептали режиссеры.
— В убийстве под видом дуэли, — сказал, я и добавил, заглянув в обвинительное заключение: — поэта Владимира Ленского, восемнадцати лет.
— Никогда! — надменно отвечал Гришка. — Надо различать, что дуэль — не убийство.
— В таком случае, приступим к допросу свидетелей, — объявил я. — Гражданка Ларина, что вы можете показать по этому делу?
На репетиции это было очень весело, а тут все невольно чувствовали, что ничего не выходит. Только Гришка плавал, как рыба в воде. То он вынимал гребешок и расчесывал баки, то в упор смотрел на членов суда каким—то укоряющим взором, то гордо закидывал голову и презрительно улыбался. Когда свидетельница, старуха Ларина, сказала, что у них в доме Онегин был как родной, Гришка одной рукой прикрыл глаза, я другую положил на сердце, чтобы показать, как он страдает. Он чудно играл, и я заметил, что свидетельницы, особенно Татьяна и Ольга, просто глаз с него не сводили. Татьяна — еще куда ни шло: ведь она влюблена в него по роману, а вот Ольга — та совершенно выходила из роли. Публика тоже смотрела только на Гришку, а на нас никто не обращал никакого внимания
Я отпустил свидетельницу, старуху Ларину, и вызвал Татьяну. Ого, как она затрещала! Она была совершенно не похожа на пушкинскую Татьяну, разве только своей татьянкой да локонами до плеч. На мой вопрос, считает ли она Онегина виновным в убийстве, она уклончиво ответила, что Онегин — эгоист.
Я дал слово защитнику, и с этой минуты все пошло вверх ногами, во—первых, потому, что защитник понес страшную чушь, а во—вторых, потому, что я увидел Катю.
Понято, она очень переменилась за четыре года. Но косы, перекинутые на грудь, по—прежнему были в колечках, и такие же колечки на лбу. По—прежнему она щурилась с независимым видом, и нос был такой же решительный, — кажется, и через сто лет я узнал бы ее по этому носу.
Она внимательно слушала Вальку. Это была самая главная ошибка — поручить защиту Вальке, который во всем мире интересовался одной зоологией. Он начал очень странного утверждения, что дуэли бывают и в животном мире, но никто не считает их убийствами. Потом он заговорил о грызунах и так увлекся, что стало просто непонятно, как он вернется к защите Евгения Онегина. Но Катя слушала его с интересом. Я знал по прежним годам, что когда она грызет косу, значит ей интересно. Из девочек только она не обращала на Гришку никакого внимания.
Валька вдруг кончил, и слово получил общественный обвинитель. Это было уже совсем скучно. Битый час общественный обвинитель доказывал, что хотя Ленского убило помещичье и бюрократическое общество начала XIX века, но все—таки Евгений Онегин целиком и полностью отвечает за это убийство, «ибо всякая дуэль — убийство, только с заранее обдуманным намерением».
Словом, общественный обвинитель считал, что Евгения Онегина нужно приговорить к десяти годам с конфискацией имущества.
Никто не ожидал такого предложения, и в зале раздался хохот. Гришка гордо вскочил… Я дал ему слово.
Говорят, актеры чувствуют настроение зрителей. Должно быть, и Гришка чувствовал, потому что с первого слова он начал страшно орать, чтобы «поднять зал», как он потом объяснил, Но ему не удалось «поднять зал». В его речи был один недостаток: нельзя было понять, говорит он от своего имени или от имени Евгения Онегина. Едва ли Онегин мог сказать, что Ленский «любил задаваться». Или что у него «и теперь не дрогнула бы рука, чтобы попасть Владимиру Ленскому в сердце».
Словом, все свободно вздохнули, когда он сел, вытирая лоб, очень довольный собой.
— Суд удаляется на совещание.
— Поскорее, ребята!
— Скучно!
— Затянули!
Все это было совершенно верно, и мы, не сговариваясь, решили провести совещание в два счета. К моему изумлению, большинство членов суда согласилось с общественным обвинителем. Десять лет с конфискацией имущества. Ясно, что Евгений Онегин был тут ни при чем. К десяти годам собирались приговорить Гришку, который всем надоел, кроме свидетельниц Татьяны и Ольги, Но я сказал, что это несправедливо: Гришка все—таки хорошо играл и без него было бы совсем скучно. Сошлись на пяти годах.
— Встать! Суд идет!
Все встали. Я объявил приговор.
— Неправильно!
— Оправдать!
— Долой!
— Ладно, товарищи, — сказал я мрачно. — Я тоже считаю, что неправильно. Я считаю, что Евгения Онегина нужно оправдать, а Гришке выразить благодарность. Кто — за?
Все с хохотом подняли руки.
— Принято единогласно. Заседание закрыто…
Я был страшно зол. Напрасно взялся я за это дело. Может быть, нужно было превратить весь этот суд в шутку. Но как это сделать? Мне казалось, что все видят, как я ненаходчив и неостроумен.
В таком—то дурном настроении я выше в раздевалку и как раз встретился с Катей. Она только что получила пальто и пробивалась на свободное место, поближе к выходу.
— Здравствуй, — сказала она и засмеялась. — Подержи—ка пальто. Вот так суд!
Она сказала это так, как будто мы вчера расстались.
— Здравствуй! — ответил я мрачно.
Она посмотрела на меня с интересом.
— Вот ты какой стал!
— А что?
— Гордый. Ну, бери пальто, и пошли!
— Куда?
— Ну, господи, куда! Хоть до угла. Не очень—то вежливый.
Я пошел с нею без пальто, но она вернула меня с лестницы:
— Холодно и сильный ветер…
Вот какой она запомнилась мне, когда я догнал ее на углу Тверской и Садово—Триумфальной.
Она была в сером треухе с не завязанными ушами, и колечки на лбу успели заиндеветь, пока я бегал в школу. Ветер относил полу ее пальто, и она стояла, немного наклонясь, придерживая пальто рукою. Она была среднего роста, стройная и, кажется, очень хорошенькая. Я говорю: кажется, потому что тогда об этом не думал. Конечно, ни одна девочка из нашей школы не посмела бы так командовать: «Бери пальто, пошли!»
Но ведь это была Катька, которую я таскал за косу и тыкал носом в снег. Все—таки это была Катька!
За те два часа, что она провела у нас, она успела познакомиться со всеми делами нашей школы. Она пожалела, что умер Бройтман, учитель рисования, которого все любили. Она знала, что все смеются над немкой, которая на старости лет постриглась и стала красить губы. Она рассказала мне содержание ближайшего номера нашей стенной газеты. Оказывается, он будет целиком посвящен суду над Евгением Онегиным. Одна карикатура уже гуляла по рукам. Валька под лозунгом «Дуэли случаются и в животном мире» разнимал дерущихся собак. Гришка Фабер был изображен с гребешком в руках, томно взирающим на свидетельниц Татьяну и Ольгу.
— Послушай, а почему все зовут тебя капитаном? Ты хочешь идти в морское училище, да?
— Еще не знаю, — сказал я, хотя уже давным—давно знал, что пойду не в морское училище, а в летную школу.
Я проводил ее до ворот знакомого дома, и она пригласила меня заходить…
— Неудобно.
— Почему? Какое мне дело, что ты с Николаем Антонычем в плохих отношениях! О тебе бабушка вспоминала. Заходи, а?
— Нет, неудобно.
Катя холодно пожала плечами.
— Ну, как хочешь.
Я догнал ее во дворе.
— Какая ты дура Катька! Я тебе говорю — неудобно. Лучше давай пойдем куда—нибудь вместе, а? На каток? Катя посмотрела на меня и вдруг задрала нос, как бывало в детстве.
— Я подумаю, — важно сказала она. — Позвони мне завтра часа в четыре. Фу, как холодно! Даже зубы мерзнут.
Глава 3. НА КАТКЕ.
Еще в те годы, когда я увлекся Амундсеном, мне пришла в голову простая мысль. Вот она: на самолете Амундсен добрался бы до Южного полюса в семь раз быстрее. С каким трудом он продвигался день за днем по бесконечной снежной пустыне. Он шел два месяца вслед за собаками, которые, в конце концов, съели друг друга. А на самолете он долетел бы до Южного полюса за сутки. У него не хватило бы друзей и знакомых чтобы назвать все горные вершины, ледники и плоскогорья, которые он открыл бы в этом полете.
Каждый день я делал огромные выписки из полярных путешествий. Я вырезывал из газет заметки о первых полетах на север и вклеивал их в старую конторскую книгу. На первой странице этой книги было написано: «вперед» — называется его корабль. «Вперед», — говорит он, и действительно стремится вперед. Нансен об Амундсене». Это было моим девизом. Я мысленно пролетел на самолете за Скоттом, за Шеклтоном, за Робертом Пири. По всем маршрутам. А раз в моем распоряжении находился Самолет, нужно было заняться его устройством.
Согласно третьему пункту моих правил — «Что решено — исполни», — я прочитал «Теорию самолетостроения». Ох, что это была за мука! Но все, чего я не понял, я, на всякий случай, выучил наизусть.
Каждый день я разбирал свой воображаемый самолет. Я изучил его мотор и винт. Я оборудовал его новейшими приборами. Я знал его, как свои пять пальцев. Одного только я еще не знал: как на нем летать. Но именно этому я и хотел научиться.
Мое решение было тайной для всех, даже для Кораблева. В школе считали, что я разбрасываюсь, а мне не хотелось, чтобы о моей авиации говорили: «Новое увлечение». Это было не увлечение. Мне казалось, что я давно решил сделаться, летчиком, еще в Энске, в тот день, когда мы с Петькой лежали в соборном саду, раскинув руки крестом, и старались днем увидеть луну и звезды, когда серый, похожий на крылатую рыбу самолет легко обошел облака и пропал на той стороне Песчинки. Конечно, это мне только казалось. Но все же недаром так запомнился мне этот самолет. Должно быть, и в самом деле тогда я впервые подумал о том, что теперь занимало все мои мысли.
Итак, я скрыл свою тайну от всех. И вдруг — открыл ее. Кому же? Кате.
В этот день мы с утра сговорились пойти на каток, и все нам что—то мешало. То Катя откладывала, то я. Наконец собрались, пошли, катанье началось неудачно. Во—первых, пришлось на морозе прождать с полчаса: каток был завален снегом, закрыт, и снег убирали. Во—вторых, у Кати на первом же круге сломался каблук, и пришлось прихватить конек ремешком, который я взял с собой на всякий случай. Это бы еще полбеды. Но ремешок мой все время расстегивался. Пришлось вернуться в раздевалку и отдать его сердитому краснощекому слесарю, который с ужасным скрежетом точил коньки на круглом грязном точиле. Только что починил он пряжку, как самый ремешок оборвался, а он был свиной, я попробуйте—ка скрюченный свечой ремешок завязать на морозе! Наконец все было в порядке. Снова пошел снег, и мы долго катались, взявшись за руки, большими полукругами то вправо, то влево. Эта фигура называется голландским шагом.
Снег мешает хорошим конькобежцам, но как приятно, когда на катке вдруг начинает идти снег! Никогда на катке снежинки не падают ровно на лед. Они начинают кружиться — потому что люди, кружащиеся на льду, поднимают ветер, — и долго взлетают то вверх, то вниз, пока не ложатся, на светлый лед. Это очень красиво, и я почувствовал, что все на свете хорошо. Я знал, что и Катя чувствует это, несмотря на твердый, как железо, свиной ремешок, который уже натер ей ногу, и тоже радуется, что идет снег и что мы катаемся с ней просторным — голландским шагом.
Потом я стоял у каната, которым была огорожена фигурная площадка, и смотрел, как Катя делает двойную восьмерку. Сперва у нее ничего не выходило, она сердилась и говорила, что во всем виноват каблук, потом вдруг вышло, и так здорово, что какой—то толстяк, старательно выписывавший круги, даже крякнул и крикнул ей:
— Хорошо!
И я слышал, как она и ему пожаловалась на сломанный каблук.
Да, хорошо. Я замерз, как собака, и, махнув Кате рукой, сделал два больших круга — согреться.
Потом мы снова катались голландским шагом, а потом уселись под самым оркестром, и Катя вдруг приблизила ко мне разгоряченное, раскрасневшееся лицо с черными живыми глазами. Я подумал, что она хочет сказать мне что—нибудь на ухо, и спросил громко:
— А?
Она засмеялась.
— Ничего, просто так. Жарко.
— Катька, — сказал я. — Знаешь что?.. Ты никому не расскажешь?
— Никому.
— Я иду в летную школу.
Она захлопала глазами, потом молча уставилась на меня.
— Решил?
— Ага.
— Окончательно?
Я кивнул головой.
Оркестр вдруг грянул, и я не расслышал, что она сказала, стряхивая снег с жакетки и платья.
— Не слышу!
Она схватила меня за руку, и мы поехали на другую сторону катка, к детской площадке. Здесь было темно и тихо, площадка завалена снегом. Вдоль катальной горки были насажаны ели и вокруг площадки маленькие ели — как будто мы были где—нибудь за городом, в лесу.
— А примут?
— В школу?
— Да.
Это был страшный вопрос. Каждое утро я делал гимнастику по системе Анохина и холодное обтирание по системе Мюллера. Я щупал свои мускулы и думал: «А вдруг не примут?» Я проверял глаза, уши, сердце. Школьный врач говорил, что я здоров. Но здоровье бывает разное, — ведь он не знал, что я собираюсь в летную школу. А вдруг я нервный? А вдруг еще что—нибудь? Рост! Проклятый рост! За последний год я вырос всего на полтора сантиметра.
— Примут, — решительно отвечал я.
Катя посмотрела на меня, кажется, с уважением…
Мы ушли с катка, когда уже погасили свет и сторож в валенках, какой—то странный на льду, удивительно медленный, хотя он шел обыкновенным шагом, пронзительно засвистел и двинулся к нам с метлой.
В пустой раздевалке мы сняли коньки. Буфет был уже закрыт, но Катя подъехала к буфетчице, назвала ее «нянечкой», и та растрогалась и дала нам по булочке и по стакану холодного чая. Мы пили и разговаривали.
— Какой ты счастливый, что уже решил, — со вздохом сказала Катя, — а я еще, не знаю.
После того как я сказал, что иду в летную школу, мы говорили только о серьезных вещах, главным образом о литературе. Ей очень нравился «Цемент» Гладкова, и она ругала меня за то, что я еще не читал. Вообще Катя читала гораздо больше меня, особенно художественной литературы.
Потом мы заговорили о любви и сошлись на том, что это — ерунда. Сперва я усомнился, но Катя очень решительно сказала: «Разумеется, ерунда» — и привела какой—то пример из Гладкова. И я согласился.
Мы возвращались по темным ночным переулкам, таким таинственным и тихим, как будто это были не Скатертные и Ножовые переулки, а необыкновенные лунные улицы, на Луне.
Глава 4. ПЕРЕМЕНЫ.
Мы Катей не говорили о ее домашних делах. Я только спросил, как Марья Васильевна, и она отвечала:
— Спасибо, ничего.
— А Нина Капитоновна?
— Спасибо, ничего.
Может быть, и «ничего», но я подумал, что плохо. Иначе Кате не пришлось бы, например, выбирать между катком и трамваем. Но дело было не только в деньгах. Я прекрасно помнил, как в Энске мне не хотелось возвращаться домой, когда Гаер Кулий стал у нас полным хозяином и мы с сестрой должны были называть его «папа». По—моему, что—то в этом роде чувствовала и Катя. Она помрачнела, когда нужно было идти домой. В доме у них было неладно. Вскоре я встретился с Марьей Васильевной и окончательно убедился в этом.
Мы встретились в театре на «Принцессе Турандот». Катя достала три билета — третий для Нины Капитоновны. Но Нина Капитоновна почему—то не пошла, и билет достался мне.
Я часто бывал в театре. Но одно дело — культпоход, а другое — Марья Васильевна и Катя. Я взял у Вальки рубашку с отложным воротничком, а у Ромашки — галстук. Этот подлец потребовал залог.
— А вдруг потеряешь?
Пришлось оставить в залог рубль.
Мы пришли из разных мест, и Катя чуть не опоздала. Она примчалась, когда билетерша уже запирала двери
— А мама?
Мама была в зрительном зале. Она окликнула нас, когда, наступая в темноте на чьи—то ноги, мы искали наши места…
В нашей школе много говорили о «Принцессе Турандот» и даже пытались поставить. Гришка Фабер утверждал, что в этой пьесе все мужские роли написаны для него, как нарочно. Поэтому в первом акте мне некогда было смотреть на Марью Васильевну. Я только заметил, что она по—прежнему очень красивая, даже, может быть, стала еще красивее. Она переменила прическу, и весь высокий белый лоб был виден. Она сидела прямо и, не отрываясь, смотрела на сцену.
Зато в антракте я рассмотрел ее как следует — и огорчился. Она похудела, постарела. Глаза у нее стали совсем огромные и совсем мрачные. Я подумал, что тот, кто увидел бы ее впервые, мог бы испугаться этого мрачного взгляда.
Мы говорили о «Принцессе Турандот», и Катя объявила, что ей не очень нравится. Я не знал, нравится мне или нет, и согласился с Катей. Но Марья Васильевна сказала, что это — чудесно.
— А вы с Катей еще маленькие и не понимаете.
Она спросила меня о Кораблеве — как он поживает, и мне показалось, что она немного порозовела, когда я сказал:
— Кажется, хорошо.
На самом деле Кораблев поживал не очень—то хорошо. В начале зимы он был серьезно болен. Но мне казалось, Что Кораблев тоже ответил бы ей «хорошо», даже если бы он чувствовал себя очень плохо. Конечно, он не забыл, что она ему отказала.
Возможно, что теперь она немного жалела об этом. Пожалуй, она не стала бы так подробно расспрашивать о нем. Она интересовалась даже, в каких классах он преподает и как к нему относятся в школе.
Я отвечал односложно, и она, в конце концов, рассердилась.
— Фу, Саня, от тебя двух слов не добиться! «Да» и «нет». Как будто язык проглотил, — сказала она с досадой.
Без всякого перехода она вдруг заговорила о Николае Антоныче. Очень странно. Она сказала, что считает его замечательным человеком. Я промолчал.
Антракт кончился и мы пошли смотреть второе действие. Но в следующем антракте она опять заговорила о Николае Антоныче. Я заметил, что Катя нахмурилась. Губы у нее дрогнули, она хотела что—то сказать, но удержалась.
Мы ходили по кругу в фойе, и Марья Васильевна все время говорила о Николае Антоныче. Это было невыносимо. Но это еще и поражало меня: ведь я не забыл, как они прежде к нему относились.
Ничего похожего! Он оказывается, человек редкой доброты и благородства. Всю жизнь он заботился о своем двоюродном брате (я впервые услышал, как Марья Васильевна назвала покойного мужа Ваней), в то время как ему самому подчас приходилось туго. Он пожертвовал всем своим состоянием, чтобы снарядить его последнюю несчастную экспедицию.
— Николай Антоныч верил в него, — сказала она с жаром.
Все это я слышал от самого Николая Антоныча и даже в тех же выражениях. Прежде Марья Васильевна не говорила его словами. Тут что—то было, Тем более, что хотя она говорила очень охотно, даже с жаром, мне все мерещилось, что она сама хочет уверить себя, что все это именно так: что Николай Антоныч — необыкновенный человек и что покойный муж решительно всем ему обязан.
Весь третий акт я думал об этом. Я решил, что непременно расспрошу Катю об ее отце. Портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и светлыми живыми глазами вдруг представился моему воображению. Что это за экспедиция, из которой он не вернулся?..
После спектакля мы остались в полутемном зрительном зале подождать, пока в раздевалке станет поменьше народу.
— Саня, что же ты никогда не зайдешь? — спросила Марья Васильевна.
Я что—то пробормотал.
— Я думаю, что Николай Антоныч давно забыл об этой глупой истории, — продолжала Марья Васильевна строго. — Если хочешь, я поговорю с ним.
Мне вовсе не хотелось, чтобы она выпрашивала у Николая Антоныча позволение бывать у них, и я чуть—чуть не сказал ей: «Спасибо, не нужно».
Но в это время Катя заявила, что Николай Антоныч тут совершенно ни причем, потому что я буду приходить к ней, а не к нему.
— Нет, нет! — испуганно сказала Марья Васильевна. — Зачем же? И ко мне, и к маме.
Глава 5. КАТИН ОТЕЦ.
Что же это была за экспедиция? Что за человек был Катин отец? Я знал только, что он был моряк и что он умер. Умер ли? Катя никогда не называла отца «покойный». Вообще, кроме Николая Антоныча, который, напротив, очень любил это слово, у Татариновых не очень часто говорили о нем. Портреты висели во всех комнатах, но говорили о нем не особенно часто.
В конце концов, мне надоело гадать, тем более, что можно было просто спросить у Кати, где ее отец и жив он или умер. Я и спросил.
Вот что она мне рассказала.
Ей было три года, но она ясно помнит тот день, когда уезжал отец. Он был высокий, в синем кителе, с большими руками. Рано утром, когда она еще спала, он вошел в комнату и наклонился над ее кроватью. Он погладил ее и что—то сказал, кажется: «посмотри, Маша, какая она бледная. Обещаешь, что она побольше будет на воздухе, ладно?» И Катька чуть—чуть приоткрыла глаза и увидела заплаканную маму. Но она не показала, что проснулась, ей было весело притворяться спящей. Потом они сидели в большом светлом зале за длинным столом, на котором стояли маленькие белые горки. Это были салфетки. Катька засмотрелась на эти салфетки и не заметила, что мама удрала от нее, а на ее месте теперь сидела бабушка, которая все вздыхала и говорила: «Господи!» А мама в странном, незнакомом платье с шарами на плечах сидела рядом с отцом и издалека подмигивала Катьке.
За столом было очень весело, много народу, все смеялись и громко говорили. Но вот отец встал с бокалом вина, и сразу все замолчали. Катька не понимала, что он говорил, но она помнила, что все захлопали и закричали «ура», когда он кончил, а бабушка снова пробормотала: «Господи!» — и вздохнула. Потом все прощались с отцом и еще с какими—то моряками, и он на прощание высоко подкинул Катьку и поймал своими добрыми большими руками.
— Ну, Машенька, — сказал он маме. И они поцеловались крест на крест…
Это был прощальный ужин и проводы капитана Татаринова на Энском вокзале. В мае двенадцатого года он приехал в Энск проститься с семьей, а в середине июня вышел на шхуне «Св. Мария» Из Петербурга во Владивосток…
Первое время все было по—прежнему. Только в жизни появилась одна совершенно новая вещь: письмо от папы. «Вот подожди, придет письмо от папы». И письмо приходило. Случалось, что оно не приходило неделю—другую, но потом все—таки приходило. И вот пришло последнее письмо, из Югорского Шара. Правда, оно было последнее, но мама не особенно огорчилась и даже сказала, что так и должно быть: «Св. Мария» шла вдоль таких мест, где не было почты, да и ничего не было, кроме льда и снега.
Так и должно быть. И папа сам написал, что писем больше не будет. Но все—таки это было очень грустно, имама с каждым днем становилась все молчаливее и грустнее.
«Письмо от папы» — это была прекрасная вещь. Например, бабушка всегда пекла пирог, когда приходило письмо от папы. А теперь вместо этой прекрасной вещи, от которой всем становилось весело, в жизни появились длинные, скучные слова: «Так и должно быть», или: «Еще ничего и не может быть».
Эти слова повторялись каждый день, особенно по вечерам, когда Катька ложилась спать, а мама с бабушкой все говорили и говорили. А Катька слушала. Ей давно хотелось сказать: «Наверно, его волки съели», но она знала, что мама рассердится, и не говорила.
Отец «зимовал». В Энске давно уже было лето, а он все еще «зимовал». Это было очень странно, но Катька ничего не спрашивала. Она услышала, как бабушка однажды сказала соседке: «Все говорим — зимует, а жив ли — бог весть».
Потом мама написала «прошение на высочайшее имя». Это прошение Катька прекрасно помнила — она была уже большая. Жена капитана Татаринова просила о снаряжении вспомогательной экспедиции для сказания помощи ее несчастному мужу. Она указывала, что главным поводом путешествия «безусловно, являлись народная гордость и честь страны». Она надеялась, что «всемилостивейший государь» не оставит без поддержки отважного путешественника, всегда готового пожертвовать жизнью ради «национальной славы»…
Катьке казалось, что «высочайшее имя» — это что—то вроде крестного хода: много народу и впереди архиерей в малиновой шапке. Оказалось, что это — просто царь. Царь долго не отвечал, и бабушка ругала его каждый вечер. Наконец пришло письмо из его канцелярии. В очень вежливой форме канцелярия советовала маме обратиться к морскому министру. Но обращаться к морскому министру не стоило. Ему уже докладывали об этом, и он сказал: «Жаль, что капитан Татаринов не вернулся. За небрежное обращение с казенным имуществом я бы немедленно отдал его под суд».
Потом в Энск приехал Николай Антоныч, и в доме появились новые слова: «Никакой надежды». Он сказал это бабушке шепотом. Но все как—то узнали об этом: и бабушкины родственники Бубенчиковы, и Катькины подруги. Все, кроме мамы.
Никакой надежды. Никогда не вернется. Никогда не скажет что—нибудь смешное, не станет спорить с бабушкой, что «перед обедом полезно выпить рюмку водки, ну, а если не полезно, так уж не вредно, а если не вредно, так уж приятно». Никогда не станет смеяться над мамой, что она так долго одевается, когда они идут в театр. Никто не услышит, как он поет по утрам, одеваясь: «Что наша жизнь? Игра!»
Никакой надежды! Он остался где—то далеко, на Крайнем Севере, среди снега и льда, и никто из его экспедиции не вернулся.
Николай Антоныч говорил, что папа был сам виноват. Экспедиция была снаряжена превосходно. Одной муки было пять тысяч килограммов, австралийских мясных консервов — тысяча шестьсот восемьдесят восемь килограммов, окороков — двадцать. Сухого бульона Скорикова — семьдесят килограммов. А сколько сухарей, макарон, кофе! Половина большого салона была отгорожена и завалена сухарями. Была взята даже спаржа — сорок килограммов. Варенье, орехи. И все это было куплено на деньги Николая Антоныча. Восемьдесят чудных собак, чтобы в случае аварии можно было вернуться домой на собаках.
Словом, если папа погиб, то, без сомнения, по своей собственной вине. Легко предположить, например, что там, где следовало подождать, он торопился. По мнению Николая Антоныча, он всегда торопился. Как бы то ни было, он остался там, на Крайнем Севере, и никто не знает, жив он или умер, потому что из тридцати человек команды ни один не вернулся домой.
Но у них в доме он долго еще был жив. А вдруг откроется дверь — и войдет! Таким же, каким он был последний день на Энском вокзале. В синем кителе, в твердом белом воротничке, открытом, каких теперь уже не носят. Веселый, с большими руками.
Многое в доме было еще связано с ним. Мама курит — все знают, что она стала курить, когда он пропал. Бабушка гонит Катьку на улицу — снова он: он велел, чтобы Катька почаще бывала на воздухе. Книги с мудреными названиями в узком стеклянном шкафу, которые никому не давали читать, — его книги.
Потом они переехали в Москву, в квартиру Николая Антоныча — и все переменилось. Теперь никто не надеялся, что вдруг откроется дверь — и войдет. Ведь это был чужой дом, и котором он никогда не был.
Глава 6. СНОВА ПЕРЕМЕНЫ.
Быть может, я не пошел бы к Татариновым, если бы Катя не пообещала мне показать книги и карты капитана. Я посмотрел маршрут, и оказалось, что это тот самый: знаменитый «северо—восточный проход», который искали лет триста. Наконец шведский путешественник Норденшельд прошел его в 1871 году. Без сомнения, это было не очень просто, потому что минуло еще двадцать пять лет, прежде чем другой путешественник — Велькицкий — повторил его путь, только в обратном направлении. Словом, все это было очень интересно, и я решил пойти…
Ничего не переменилось в квартире Татариновых, только вещей стало заметно меньше.
Исчезла, между прочим, картина Левитана, которая мне когда—то так понравилась, — прямая, просторная дорога в саду и сосны, освещенные солнцем. Я спросил у Кати, куда она делась.
— Подарили, — коротко отвечала Катя.
Я промолчал.
— Николаю Антонычу, — вдруг язвительно добавила Катя, — он обожает Левитана.
Должно быть, Николаю Антонычу подарили не только Левитана, потому что в столовой вообще стало как—то пустовато. Но морской компас по—прежнему стоял на своем месте, и стрелка по—прежнему показывала на север.
Никого не было — ни Марьи Васильевны, ни старушки.
Потом старушка пришла. Я слышал, как она раздевалась в передней и жаловалась Кате, что все опять стало дорого: капуста шестнадцать копеек, телятина тридцать копеек, поминанье сорок копеек, яйца рубль двадцать копеек.
Я засмеялся и вышел в переднюю.
— Нина Капитоновна, а лимон?
Она обернулась с недоумением.
— Лимон мальчишки не утащили?
— Саня! — сказала Нина Капитоновна и всплеснула руками.
Она потащила меня к окну, осмотрела со всех сторон и осталась недовольна.
— Короток, — сказала она с огорчением. — Не растешь.
Она побежала в кухню — поставить молоко на примус — и через несколько минут вернулась обратно.
— Лимон вспомнил, — сказала она и засмеялась. — А что ж! И тащат!
Она стала совсем старенькая, согнулась и похудела. Знакомая безрукавка зеленого бархата висела на ней, худые плечи торчали. Но у нее по—прежнему был бодрый, озабоченный вид, а сейчас еще и веселый. Она очень обрадовалась мне, гораздо больше, чем я думал.
— Говорят, надо сырую гречу есть, — уверенно сказала она, — и вырастешь. У нас в Энске попик был. Вот какой! Все гречу ел.
— И вырос? — серьезно спросила Катя.
— Не вырос, а у него голос гуще стал. А прежде был писклявый—писклявый.
Она засмеялась и вдруг вспомнила о молоке.
— Ах! Убежало!
И она сама убежала.
Мы с Катей долго смотрели на книги и карты капитана. Здесь был Нансен
— «В стране льда и ночи», потом «Лоции Карского моря» и другие. В общем, книг было немного, но все до одной интересные. Очень хотелось попросить что—нибудь почитать, но я, разумеется, прекрасно понимал, что это неудобно. Поэтому я удивился, когда Катя вдруг сказала:
— Возьми что—нибудь, хочешь?
— А можно?
— Можно, — не глядя на меня, отвечала Катя.
Я не стал особенно размышлять, почему именно мне оказано такое доверие, а принялся, не теряя времени, отбирать книги. Ужасно хотелось взять все, но это было невозможно, и я отобрал штук пять. Среди них была, между прочим, брошюра самого капитана. Она называлась: «Причины гибели экспедиции Грили».
Я пришел к Татариновым нарочно с таким расчетом, чтобы не застать Николая Антоныча: в это время всегда происходило заседание педагогического совета. Но, должно быть, заседание отменили, потому что он вернулся домой. Мы с Катей так заболтались, что не слышали звонка, и вдруг в соседней комнате раздались шаги и солидный кашель. Катя нахмурилась и захлопнула дверь.
Почти в ту же минуту дверь открылась, и Николай Антоныч появился на пороге.
— Я тысячу раз просил тебя, Катюша, не хлопать так громко дверьми, — сказал он. — Тебе пора отвыкать от этих привычек…
Конечно, он сразу увидел меня, но ничего не сказал, только немного прищурил глаза и кивнул. Я тоже кивнул.
— Мы живем в человеческом обществе, — мягко продолжал Николай Антоныч. — И одной из движущих сил этого общества является чувство уважения друг к другу, Ведь ты же знаешь, Катюша, что я не выношу громкого хлопанья дверьми. Остается подумать, что ты сделала это нарочно. Но я не хочу этого думать, да, не хочу…
И так далее, и так далее.
Я сразу понял, что он мелет эту галиматью, просто чтобы позлить Катю. Но прежде, помнится, он не осмеливался так разговаривать с ней.
Он ушел наконец, но нам уже расхотелось смотреть книги капитана. Кроме того, все время, пока Николай Антоныч говорил, Катя стояла спиной к столу, на котором лежали книги. Он ничего не заметил. Но я—то понял, в чем дело: он не должен знать, что она позволила мне взять эти книги.
Словом, настроение было испорчено, и я стал собираться домой. Жаль, что я не ушел в ту же минуту! Я замешкался, прощаясь с Катей, и Николай Антоныч вернулся.
— Возможно, что ты обиделась, Катюша, — начал он снова. — Напрасно! Ты, без сомнения, отлично знаешь, что я желаю тебе добра и как человек, и как педагог.
Он, мельком взглянул на меня, сморщился и неприятно потянул носом воздух.
— Другое дело, если бы ты была для меня совершенно чужим человеком! Но ты — дочь моего покойного любимого брата. Ты дочь человека, которому я пожертвовал всем — не только всем своим достоянием, но, можно сказать, и самой жизнью.
Я подумал, что Николай Антоныч с каждым годом жертвует покойному брату все больше и больше. Прежде речь шла только о поддержке, «как нравственной, так и материальной». Теперь, оказывается, он отдал ему всю жизнь.
— Вот почему, — продолжал Николай Антоныч, — я готов тысячу раз повторять тебе одно и то же, Катюша! Я устал после трудового дня, я имею право на отдых, а вот, видишь же, говорю, с тобой, стараюсь внушить тебе то, что ты давно должна была усвоить сама как по возрасту, так и по развитию.
Катя молчала.
Я видел, как ей это трудно! Но у нее была сильная воля.
Я не мог уйти, прежде чем он кончит. Кроме того, пришлось бы уйти без книг. Поэтому я сел. Я вовсе не думал его обидеть, а просто устал стоять. Но он обозлился.
— Я напомню тебе, Катюша, — ровным, мягким голосом продолжал он, — одну известную римскую поговорку: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если ты считаешь возможным водить дружбу с человеком, которому не приходит в голову, что, прежде чем сесть, он должен предложить стул своему педагогу, тогда…
И Николай Антоныч беспомощно раскинул руки.
Я немного смутился — именно потому, что сделал это, вовсе не думая его обидеть. Но тут не выдержала Катя.
— Этомое дело, с кем я дружу! — быстро ответила она и покраснела.
Надо прлагать, что Нина Капитоновна была где—нибудь поблизости, может быть, даже за дверью, потому что, как только Катя сказала это, она сейчас же вошла и захлопотала, захлопотала. Молоко вскипело, не хочет ли Николай Антоныч кофе? А то она только что с базара пришла и до обеда далеко… Похоже было, что ей не в первый раз приходится прекращать эти — ссоры! Катя слушала ее, упрямо опустивголову, Николай Антоныч — вежливо, но снисходительно…
Я дождался, пока они ушли, и простился с Катей. Я вернулся домой с тяжелым чувством. Мне было жаль их — Марью Васильевну, старушку и Катю, Перемены в Доме Татариновых ужасно не понравились мне.
Глава 7. ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. ВАЛЬКИНЫ ГРЫЗУНЫ. СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ.
Это был последний год в школе, и, по правде говоря, нужно было заниматься, а не холить на каток или в гости. По некоторым предметам я шел хорошо, например, по математике и географии. А по некоторым — довольно плохо, например, по литературе.
Литературу у нас преподавал Лихо, очень глупый человек, которого вся школа называла Лихосел. Он всегда ходил в кубанской шапке, и мы рисовали эту шапку на доске и в ней проекцией — ослиные уши. Лихо меня не любил и вот по каким причинам. Во—первых, он однажды диктовал что—то и сказал: «Обстрактно». Я поправил его, мы заспорили, и я предложил запросить Академию наук. Он обиделся.
Во—вторых, большинство ребят составляло свои сочинения из книг и статей — прочтет критику и спишет. А а так не любил. Я сперва писал сочинение, а потом читал критику. Вот это—то и не нравилось Лихо! Он надписывал: «Претензия на оригинальничанье. Слабо!» Он, разумеется, хотел сказать — на оригинальность. Кто же станет претендовать на оригинальничанье? Словом, я боялся, что по литературе у меня в году будет «плохо».
Для последнего, «выпускного» сочинения Лихо предложил нам несколько тем, из которых самой интересной показалась мне «Крестьянство в послеоктябрьской литературе». Я принялся за нее с жаром, но скоро остыл возможно, что из—за книг, которые дала мне Катя. После этих книг мое сочинение начинало казаться мне дьявольски скучным.
Мало сказать, что это были просто интересные книги. Это были книги Катиного отца, полярного капитана, без вести пропавшего среди снега и льда, как пропали Франклин, Андрэ и другие.
Никогда в жизни я так медленно не читал! Почти на каждой странице были пометки, некоторые строчки подчеркнуты, на полях вопросительные и восклицательные знаки. То капитан был «совершенно согласен», то «совершенно не согласен». Он спорил с Нансеном — это меня поразило. Он упрекал его в том, что, не дойдя до полюса каких—нибудь четырехсот километров, Нансен повернул к земле. На карте, приложенной к книге Нансена, крайняя северная точка его дрейфя была обведена красным карандашом. Видимо, эта мысль очень занимала капитана, потому что он неоднократно возвращался к ней на полях других книг. «Лед сам решит задачу», — было написано вдоль одной страницы. Я перевернул ее — и вдруг листок пожелтевшей бумаги выпал из книги. Он был исписан тою же рукой. Вот он:
«…Человеческий ум до того был поглощен этой задачей, что разрешение ее, несмотря на суровую могилу, которую путешественники по большей части там находили, сделалось сплошным национальным состязанием. В этом состязании участвовали почти все цивилизованные страны, и только не было русских, а между тем горячие порывы у русских людей к открытию Северного полюса проявлялись еще во времена Ломоносова и не угасли до сих пор. Амундсен желает, во что бы то ни стало оставить за Норвегией честь открытия Северного полюса, а мы пойдем в этом году и докажем всему миру, что и русские способны на этот подвиг».
Должно быть, это был отрывок из какого—то доклада, потому что на обороте стояла надпись: «Начальнику Главного гидрографического управления», и дата: «17 апреля 1911 года».
Стало быть, вот куда метил Катин отец! Он хотел, как Нансен, пройти возможно дальше на север с дрейфующим льдом, а потом добраться до полюса на собаках. По привычке, я подсчитал, во сколько раз быстрее он долетел бы до полюса на самолете.
Непонятно было только одно: летом 1912 года шхуна «Св. Мария» вышла из Петербурга во Владивосток. При чем же здесь Северный полюс?
На другой день, еще до завтрака, я побежал в швейцарскую и позвонил Кате:
— Катька, разве твой отец отправился на Северный полюс?
Должно быть, она не ожидала такого вопроса, потому что я услышал в ответ удивленное, сонное мычанье. Потом она сказала:
— Н—н—нет. А что?
— Ничего. Он хотел от крайней точки Нансена добраться до полюса на собаках. Эх, ты!
— Почему «эх, ты»?
— О своем отце таких вещей не знаешь. Ты сегодня свободна?
— Иду с Киркой в Зоопарк.
Гм, в Зоопарк! Валька давно звал меня в Зоопарк посмотреть его грызунов, и это было просто свинство, что я до сих пор не собрался!
Я сказал Кате, что встречу ее у входа.
Кирка была та самая Кирен, которая когда—то читала «Дубровского» и доказывала, что «Маша за него вышла». Она стала теперь огромной девицей с белокурыми косами, завязанными вокруг головы. По—прежнему она смотрела Кате в рот и слушалась каждого слова. Только иногда вместо возражений она начинала хохотать, и так неожиданно громко, что все вздрагивали, а Катя привычным терпеливым жестом затыкала уши.
Я условился с Валькой, что он встретит нас у входа, но его почему—то не было, а брать билеты было просто глупо, раз он хвастался, что может провести нас бесплатно.
Наконец он пришел. Он покраснел, когда я знакомил его с девицами, и пробормотал, что боится, что «грызуны — это вам неинтересно». Катя вежливо возразила, что, напротив, очень интересно, если судить о грызунах по той речи, которую он произнес в защиту Евгения Онегина. И мы чинно прошли мимо сторожа, которому Валька три раза сказал, что он — сотрудник лаборатории экспериментальной биологии и что это «к нему».
Тогда Зоосад был не то, что теперь. Многие отделения были закрыты, а другие представляли собою самые обыкновенные, покрытые снегом поля. Валька сказал, что на этих полях живут песцы, что у них есть норы и т.д. Но мы не видели никаких песцов и вообще, ничего, кроме снега, так что пришлось поверить Вальке на слово.
Ему не терпелось показать нам своих грызунов, и он не дал нам посмотреть тигра, слона и других интересных зверей, а через весь Зоосад потащил к какому—то грязноватому дому. В этом доме жили Валькины грызуны. Не знаю, что каждый из нас понимал под этим словом. Во всяком случае, мы сделали вид, что так и думали, что грызуны — это обыкновенные мыши.
Их было очень много, и все они были чем—то заражены, как с гордостью объявил нам Валька. Он сказал, что в его ведении находятся также и летучие мыши и что он кормит их с рук червяками. В общем, это было довольно интересно, хотя в доме страшно воняло, а Валька все говорил и говорил без конца.
Мы слушали его с уважением. Особенно Кирен. Потом ее вдруг затрясло, и она сказала, что ненавидит мышей.
— Дура, — тихо сказала ей Катя.
Кирен засмеялась.
— Нет, правда, гадость, — сказала она.
Валька тоже засмеялся. Я видел, что он обиделся за своих мышей. Мы поблагодарили его и двинулись дальше.
— Вот скука! Посмотрим хоть обезьяны, — предложила Кирен.
И мы пошли смотреть обезьян.
Вот где была вонь! И не сравнить с Валькиными грызунами! Кирен объявила, что не будет дышать.
— Эх, ты, а как же сторожа? — сказала Катя.
И мы посмотрели на сторожа, который стоял у клеток с глупым, но значительным видом.
Это был Гаер Кулий! С минуту я сомневался — ведь я его больше десяти лет не видел. Но вот он выступил вперед и сказал своим густым противным голосом:
— Обезьяна—макака…
Он!
Я посмотрел на него в упор, но он меня не узнал. Он постарел, нос стал какой—то утиный. И кудри были уже не те — редкие, грязные, седые. От прежнего молодцеватого Гаера остались только усы кольцами да угри.
— На груди и брюхе животного, — продолжал Гаер с хорошо знакомым мне назидательно—угрожающим видом, — вы найдете сосцы, известные как органы молочного развития ихних детей.
Он, он! Мне стало смешно, и Катя спросила меня, почему я улыбаюсь. Я шепнул:
— Взгляни—ка на него.
Она посмотрела.
— Знаешь, кто это?
— Ну!
— Мой отчим.
— Врешь!
— Честное слово.
Она недоверчиво подняла брови, потом замигала и стала слушать.
— В следующей клетке вы найдете человекообразного обезьяну—гиббона, поражающего сходством последнего с человеком. У этого гиббона бывает известное помраченье, когда он, как бешеный, носится по своему помещению.
Бедный гиббон! Я вспомнил, как и на меня находило «помраченье», когда этот подлец начинал свои бесконечные разговоры.
Я взглянул на Катю и Киру. Конечно, они подумают, что я сошел с ума! Но я перестал бы себя уважать, если бы прозевал такой случай.
— Палочки должны быть попиндикулярны, — сказал я негромко.
Он покосился на меня, но я сделал вид, что рассматриваю гиббона.
— В следующей клетке, — продолжал Гаер, — вы найдете бесхвостую мартышку из Гибралтара. По развитию она, как дети. Она имеет карман во рту, куда обыкновенно кладет про запас лакомые куски своей пищи.
— Ну, понятно, — сказал я, — каждому охота схватить лакомый кусок. Но можно ли назвать подобный кусок обеспечивающим явлением — это еще вопрос.
Я сам не ожидал, что помню наизусть эту чушь. Кирка прыснула. Гаер замолчал и уставился на меня с глупым, но подозрительным видом. Какое—то смутное воспоминанье, казалось, мелькнуло в его тупой башке… Но он не узнал меня. Еще бы!
— Мы их обеспечиваем, — уже другим, угрюмо—деловым тоном сказал он. — Каждый день жрут и жрут. Человек иной не может столько сожрать, как такая тварь.
Он спохватился.
— Посмотрите на них с заду, — продолжал он, — и вы увидите, что эта область является у них ненормально красной. Это не кожа, а твердая кора, вроде мозоль.
— Скажите, пожалуйста, — спросил я очень серьезно, — а бывают говорящие обезьяны?
Кирен засмеялась.
— Не слыхал, — недоверчиво возразил Гаер. Он не мог понять, смеюсь я или говорю серьезно.
— Мне рассказывали об одной обезьяне, которая служила на пароходной пристани, — продолжал я, — а потом ее выгнали, и она занялась воспитанием детей.
Гаер снисходительно улыбнулся.
— Каких детей?
— Чужих. Она била их подставкой для сапог, — продолжал я, чувствуя, что у меня сердце застучало от этих воспоминаний, — особенно девочку, потому что мальчик, чего доброго, мог бы дать и сдачи.
Я говорил все громче. Гаер слушал, открыв рот. Вдруг он испуганно захлопнул рот и заморгал, заморгал.
— После обеда нужно было благодарить ее… — я отмахнулся от Киры, которая испуганно схватила меня за локоть. — Хотя эта подлая обезьяна не работала, а жила на чужой счет и только с утра до вечера чистила свои проклятые сапожищи. Впрочем, потом она поступила в батальон смерти и получила за это двести рублей и новую форму. Она говорила речи! — Кажется, я заскрежетал зубами. — А когда этот батальон разгромили, она удрала из города и унесла все, что было в доме.
Наверное, я уже здорово орал, потому что Катя вдруг стала между Гаером и мной.
Гаер пробормотал что—то и прислонился к клетке. Он узнал меня. Губы у него так и заходили.
— Саня! — повелительно сказала Катя.
— Подожди! — Я отстранил ее. — И это счастье, что он удрал. Потому что я бы его…
— Саня!
Помнится, меня поразило, что он неожиданно вскрикнул и схватился руками за голову. Я опомнился. Неловко улыбаясь, я посмотрел на Катю. Мне стало стыдно, что и так орал.
— Пошли, — коротко сказала она.
Мы шли по Зоопарку и молчали. Я видел, что Кирка испуганно хлопает глазами и держится от меня подальше. Катя что—то шепнула ей.
— Подлец! — пробормотал я.
Я еще не мог успокоиться.
— Сегодня же передам через Вальку заявление в Зоопарк. Зачем они держат такого подлеца? Он — белогвардеец.
— Я теперь тебя боюсь, — сказала Катя. — Ты, оказывается, бешеный. Вон, даже губы побелели.
— Это потому, что мне хотелось его убить, — сказал я. — Ладно, черт с ним! Поговорим о чем—нибудь другом. Как вам понравились гиббоны?
Глава 8. БАЛ.
При нашей школе была столярная мастерская, и я работал в ней по вечерам. Как раз в ту пору мы получили большой заказ на учебные пособия для сельских школ, и можно было хорошо заработать.
«Крестьянство в послеоктябрьской литературе» было окончено. Я рассердился и написал его в одну ночь. Но у меня были и другие долги, — например, немецкий, которого я не любил. Словом, в конце полугодия мы с Катей только раз собрались на каток — и то не катались. Лед был очень изрезан: с утра на катке тренировались хоккейные команды. Мы только выпили чаю в буфете.
Катя спросила меня, написал ли я заявление на отчима.
— Нет, не написал. Но Валька говорит, что его все равно уже нету.
— Где же он?
— А черт его знает. Сбежал.
Я видел, что Кате хочется спросить меня, почему я его так ненавижу, но мне неохота было вспоминать об этом подлеце, и я промолчал. Она все—таки спросила. Пришлось рассказать — очень кратко — о том, как мы жили в Энске, как умер в тюрьме отец и мать вышла за Гаера. Катя удивилась, что у меня есть сестра.
— Как ее зовут?
— Тоже Саня.
Но еще больше она удивилась, когда узнала, что я ни разу не написал сестре с тех пор, как уехал из Энска.
— Сколько ей лет?
— Шестнадцать.
Катя посмотрела на меня с негодованием.
— Свинья!
Это действительно было свинство, и я поклялся, что напишу в Энск.
— Когда школу кончу. А сейчас — что ж писать? Я уже принимался несколько раз. Ну, жив, здоров… Неинтересно.
Это была наша последняя встреча перед каникулами, потом снова занятия и занятия, чтение и чтение. Я вставал в шесть часов утра и садился за «Самолетостроение», а вечером работал в столярной, — случалось, что и до поздней ночи…
Но вот кончилось полугодие. Одиннадцать свободных дней! Первое, что я сделал, — позвонил Кате и пригласил ее в нашу школу на костюмированный бал.
В афише было написано, что бал — антирелигиозный. Но ребята равнодушно отнеслись к этой затее, и только два или три костюма были на антирелигиозные темы. Так, Шура Кочнев, о котором пели:
В двенадцать часов по ночам
Из спальни выходит Кочан, — оделся ксендзом. И очень удачно! Сутана и широкополая шляпа шли к его длинному росту. Он расхаживал с грозным видом и всему ужасался. Это было смешно, потому что он хорошо играл. Другие ребята просто волочили свои рясы по полу и хохотали.
Катя пришла довольно поздно, и я уже чуть было не побежал звонить ей по телефону. Она пришла замерзшая, красная, как бурак, и сразу, еще в раздевалке, побежала к печке, пока я сдавал ее пальто и калоши.
— Вот так мороз, — сказала она и приложилась щекой к печке, — градусов двести!
Она была в синем бархатном платье с кружевным воротничком, и над косой большой синий бант.
Удивительно, как шел ей этот бант и синее платье, и тоненькая коралловая нитка на шее! Она была такая крепкая, здоровая и вместе с тем легкая и стройная. Словом, едва только мы с ней вошли и актовый зал, где уже начались танцы, как самые лучшие танцоры нашей школы побросали своих дам и побежали к ней. Впервые в жизни я пожалел, что не танцую. Но делать нечего! Я сделал вид, что мне все равно, и пошел к артистам в уборные. Но там готовились к выступлению, и девочки выгнали меня. Я вернулся в зал. Как раз в это время вальс кончился. Я окликнул Катю. Мы уселись и стали болтать.
— Кто это? — вдруг спросила она с ужасом.
Я посмотрел.
— Где?
— Вон — рыжий.
Ничего особенного, это был только Ромашка! Он приоделся и был в том самом галстуке, который я брал у него под залог. На мой взгляд, он сегодня был совсем недурен. Но Катя смотрела на него с отвращением.
— Как ты не понимаешь — он просто страшный, — сказала она. — Ты привык, и поэтому не замечаешь. Он похож на Урию Гипа.
— На кого?
— На Урию Гипа.
Я притворился, что знаю, кто такой Урия Гип, и сказал многозначительно:
— А—а.
Но Катю провести было не так—то просто!
— Эх, ты, Диккенса не читал, — оказала она. — А еще считаешься развитым.
— Кто это считает, что я развитой?
— Все. Я как—то разговорилась с одной девочкой из вашей школы, и она сказала: «Григорьев — яркая индивидуальность». Вот так индивидуальность! Диккенса не читал!
Я хотел объяснить ей, что Диккенса читал и только не читал про Урию Гипа, но в это время опять заиграл оркестр, и наш учитель физкультуры, которого все звали просто Гоша, пригласил Катю, и я опять остался один. На этот раз меня пустили к артистам и даже дали работу: загримировать одну девочку под раввина. Это была нелегкая задача. Я провозился с ней полчаса, а когда вернулся в зал, Катя все еще танцевала — теперь уже с Валькой.
В сущности, это была довольно забавная картина: Валька глаз не сводил со своих ног, как будто это были черт знает какие интересные вещи, а Катька подталкивала его, учила на ходу и сердилась. Но мне почему—то стало скучно.
Кто—то нацепил мне на пуговицу номер — играли в почту. Я сидел, как каторжник, с номером на груди и скучал. Вдруг пришли сразу два письма: «Довольно притворяться. Скажите аткровенно, кто вам нравится. Пиши ответ N140». Так и было написано: «аткровенно». Другое было загадочное: «Григорьев — яркая индивидуальность, а Диккенса не читал». Я погрозил Катьке. Она засмеялась, бросила Вальку и села рядом со мной.
— У вас весело, — сказала она, — только очень жарко. Что — теперь станешь учиться танцевать?
Я сказал, что не стану, и мы пошли в наш класс. Там было устроено что—то вроде фойе: по углам стояли бутафорские кресла из трагедии «Настал час», и лампочки были обернуты красной и синей бумагой. Мы сели на мою парту — последнюю в правой колонне. Не помню, о чем мы говорили, о чем—то серьезном, — кажется, о говорящем кино. Катя сомневалась в этой затее, и я в доказательство привел ей какие—то данные сравнительной быстроты звука и света.
Она была совершенно синяя — над нами горела синяя лампочка, и, должно быть, поэтому я так осмелел. Мне давно хотелось поцеловать ее, еще когда она только что пришла, замерзшая, раскрасневшаяся, и приложилась к печке щекой. Но тогда это было невозможно. А теперь, когда она была синяя, — возможно. Я замолчал на полуслове, закрыл глава и поцеловал ее в щеку.
Ого, как она рассердилась!
— Что это значит? — спросила она грозно.
Я молчал. У меня билось сердце, и я боялся, что сейчас она скажет: «мы незнакомы» или что—нибудь в этом роде.
— Свинство какое! — сказала она с негодованием.
— Нет, не свинство, — возразил я растерянно.
С минуту мы молчали, а потом Катя попросила меня принести води. Когда я вернулся с водой, она прочитала мне целую лекцию. Как дважды два, она доказала, что я к ней равнодушен, что «это мне только кажется» и что если бы на ее месте в данную минуту была другая девушка, я бы и ее поцеловал.
— Ты просто стараешься себя в этом уверить, — сказала она убежденно, — а на самом деле — ничего подобного!
Она допускала, что я не хотел ее обидеть, — ведь верно же? Но все—таки мне не следовало так поступать именно потому, что я только обманываю себя, на самом деле ничего же чувствую…
— Никакой любви, — прибавила она, помолчав, и я почувствовал, что она покраснела.
Вместо ответа я взял ее руку и провел ею по своему лицу, по глазам. Она не отняла, и несколько минут мы сидели молча на моей парте в полутемном классе. Мы сидели в классе, где меня спрашивали и я «плавал», где я стоял у доски и доказывал теоремы, — на моей парте, в которой еще лежали скомканные Валькины шпаргалки. Это было странно. Но как хорошо! Не могу передать, как было хорошо в эту и минуту!
Потом мне показалось, что кто—то громко дышит в углу, я обернулся и увидел Ромашку. Не знаю, почему он так громко дышал, но у него был необыкновенно подлый вид. Разумеется, он сразу понял, что мы заметили его. Он что—то пробормотал и подошел к нам с вялой улыбкой.
— Григорьев, что ж ты меня не познакомишь?
Я встал. Должно быть, у меня был не особенно приветливый вид, потому что он испуганно заморгал и вышел. Это было довольно смешно, что он сразу так испугался. Мы оба прыснули, и Катя сказала, что он похож не только на Урию Гипа, но еще на сову, рыжую, с крючковатым носом и круглыми глазами. Она угадала: Ромашку в классе иногда дразнили совой. Мы вернулись в зал.
Шурка Кочнев встретил нас на пороге и комически ужаснулся. Я познакомил его с Катей, и он благословил ее, как настоящий ксендз, и даже сунул к губам дрожащую руку.
Танцы уже кончились, и началось концертное отделение — отрывки из «Ревизора», которого репетировал наш театр.
Мы сидели с Катей в третьем ряду, но ничего не слышали. По крайней мере, я. По—моему, и она тоже. Я шепнул ей:
— Мы еще поговорим. Хорошо?
Она серьезно посмотрела на меня и кивнула.
Глава 9. ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ. БЕССОННИЦА.
Это случалось со мной не в первый раз, что жизнь, которая шла одним путем, — скажем, по прямой, — вдруг делала крутой поворот, и начинались «бочки» и «иммельманы» /Названия фигур высшего пилотажа/.
Так было, когда восьмилетним мальчиком я потерял перочинный нож возле убитого сторожа на понтонном мосту. Так было, когда в распределителе Наробраза я начал со скуки лепить лясы. Так было, когда я оказался случайным свидетелем «заговора» против Кораблева и был с позором изгнан из дома Татариновых. Так было и теперь, когда я снова был изгнан, — и на этот раз навсегда!
Вот как начался очередной поворот. Мы с Катей назначили свидание на Оружейном, у жестяной мастерской, — и она не пришла.
Все не ладилось в этот печальный день! Я удрал с шестого урока, — это было — глуп, потому что Лихо обещал после занятий раздать домашние сочинения. Мне хотелось обдумать наш разговор. Но где тут думать, если через несколько минут я замерз, как собака, и только и делал, что зверски топал ногами и хватался за нос да за уши!
И все—таки это было дьявольски интересно! Как необыкновенно все изменилось со вчерашнего дня! Вчера, например, я мог бы сказать: Катька — дура! А сегодня — нет. Вчера я выругал бы ее за опоздание, а сегодня — нет. Но еще интереснее было думать о том, что это и есть та самая Катька, которая когда—то спросила меня, читал ли я «Елену Робинзон», которая взорвала лактометр и за это получила от меня но шее. Она ли это?
«Она!» — подумал я весело.
Но она была теперь не она, и я — не я.
Однако прошел уже целый час. Тихо было в переулке, только маленький носатый жестянщик несколько раз выходил из своей мастерской и смотрел на меня с пугливым, подозрительным видом. Я повернулся к нему спиной, но это, кажется, только усилило его подозрения. Я перешел на другую сторону, а он все стоял на пороге в клубах пара, как бог на потолке энского собора. Пришлось спуститься вниз, к Тверской…
Уже пообедали, когда я вернулся в школу. Я пошел на кухню погреться и получил от повара нагоняй и тарелку теплой картошки. Я молча съел картошку и отправился искать Вальку. Но Валька был в Зоопарке. Мое сочинение Лихо отдал Ромашке.
Я был расстроен и поэтому не обратил внимания на то, с каким волнением встретил меня Ромашка. Он просто завертелся, когда я вошел в библиотеку, где мы имели обыкновение учить уроки.
Несколько раз он засмеялся без всякой причины и поспешно отдал мне сочинение.
— Вот Лихосел так Лихосел, — сказал он заискивающе. — На твоем месте я бы пожаловался.
Я перелистал свою работу. Вдоль каждой страницы шла красная черта, а в конце было написано: «Идеализм. Чрезвычайно слабо».
Я равнодушно сказал: «Дурак», захлопнул тетрадь и вышел. Ромашка побежал за мной. Удивительно, как он юлил сегодня: забегал вперед заглядывал мне в лицо! Должно быть, он был рад, что я провалился со своим сочинением. Мне и в голову не приходила истинная причина его поведения.
— Вот так Лихосел, — все повторял он. — Хорошо про него Шура Кочнев сказал: «У него голова, как кокосовый орех: снаружи твердо, а внутри жидко».
Он неприятно засмеялся и опять забежал вперед.
— Иди ты к черту! — сказал я сквозь зубы.
Он отстал наконец…
Еще ребята не вернулись из культпохода, а я уже был в постели. Но, пожалуй, мне не следовало ложиться так рано. Сон прошел, чуть только я закрыл глаза и повернулся на бок.
Это была первая бессонница в моей жизни. Я лежал очень спокойно и думал. О чем? Кажется, обо всем на свете!
О Кораблеве — как я завтра отнесу к нему сочинение и попрошу прочитать. О жестянщике, который принял меня за вора. О книге Катиного отца «Причины гибели экспедиции Грили».
Но о чем бы я ни думал — я думал о ней! Я начинал дремать и вдруг с такой нежностью вспоминал ее, что даже дух захватывало и сердце начинало стучать медленно и громко. Я видел ее отчетливее, чем, если бы она была рядом со мною. Я чувствовал на глазах ее руку.
«Ну ладно — влюбился так влюбился. Давай—ка, брат, спать», — сказал я себе.
Но теперь, когда так чудно стало на душе, жалко было спать, хотя и хотелось немного. Я уснул, когда начинало светать и дядя Петя ворчал в кухне на Махмета, нашего котенка.
Глава 10. НЕПРИЯТНОСТИ.
Первое свидание и первая бессонница — это была все—таки еще прежняя, хорошая жизнь. Но на другой день начались неприятности.
После завтрака я позвонил Кате — и неудачно. Подошел Николай Антоныч.
— Кто ее спрашивает?
— Знакомый.
— А именно?
Я молчал.
— Ну—с?
Я повесил трубку…
В одиннадцать часов я засел в овощной лавке, из которой была видна вся Тверская—Ямская. На этот раз никто не принимал меня за вора. Я делал вид, что звоню по телефону, покупал моченые яблоки, стоял у дверей с равнодушным видом. Я ждал Нину Капитоновну. По прежним годам я знал, когда она возвращается с базара. Наконец она показалась — маленькая, сгорбленная, в своем зеленом бархатном пальто—салопе, с зонтиком — в такой мороз! — с неизменной кошелкой.
— Нина Капитоновна!
Она сурово взглянула на меня и, ни слова не сказав, пошла дальше. Я изумился.
— Нина Капитоновна!
Она поставила кошель на землю, выпрямилась и посмотрела на меня с негодованием.
— Вот что, голубчик мой, — сказала она строго. — Я на тебя, по старой памяти, не сержусь. Но только чтобы я тебя не видела и не слышала.
Голова у нее немного тряслась.
— Ты — сюда, а мы — туда! И чтобы не писал, не звонил! Вот уж могу сказать: не думала я! Видно, ошиблась!
Она подхватила кошель, и — хлоп! — калитка закрылась перед самым моим носом.
Открыв рот, я смотрел ей вслед. Кто из нас сошел с ума? Я или она?..
Это был первый неприятный разговор. За ним последовал второй, а за вторым — третий.
Возвращаясь домой, я встретил у подъезда Лихо. Вот уж когда не время было говорить с ним о моем сочинении!
Мы вместе поднимались по лестнице: он, как всегда, закинув голову, глупо вертя носом, а я — испытывая страшное желание ударить его ногой.
— Товарищ Лихо, я получил сочинение, — вдруг сказал я. — Вы пишете: «идеализм». Это уже не оценка, а обвинение, которое нужно сперва доказать.
— Мы поговорим потом.
— Нет, мы поговорим сейчас, — возразил я. — Я комсомолец, а вы меня обвиняете в идеализме. Вы ничего не понимаете.
— Что, что такое? — спросил он и нахмурился.
— Вы не имеете понятия об идеализме, — продолжал я, замечая с радостью, что с каждым моим словом у него вытягивается морда. — Вы просто не знали, чем бы меня поддеть, и поэтому написали: «идеализм». Недаром про вас говорят…
Я остановился на секунду, почувствовав, что сейчас скажу страшную грубость, Потом все—таки сказал:
— Что у вас голова, как кокосовый орех: снаружи твердо, а внутри жидко.
Это было так неожиданно, что мы оба остолбенели. Потом он раздул ноздри и сказал коротко и зловеще:
— Так?!
И быстро ушел.
Ровно через час после этого разговора я был вызван к Кораблеву. Это был грозный признак: Кораблев редко вызывал к себе на квартиру.
Давно не видел я его таким сердитым. Опустив голову, он ходил по комнате, а когда я вошел, посторонился с каким—то отвращением.
— Вот что! — У него сурово вздрогнули усы. — Хорошие сведения о тебе! Приятно слышать!
— Иван Павлыч, я вам сейчас все объясню, — возразил я, стараясь говорить совершенно спокойно. — Я не люблю критиков, это правильно. Но ведь это еще не идеализм! Другие ребята все списывают у критиков, и это ему нравится. Пусть он прежде докажет, что я — идеалист. Он должен знать, что это для меня — оскорбление.
Я протянул Кораблеву тетрадку, но он даже не взглянул на, нее.
— Тебе придется объяснить свое поведение на педагогическом совете.
— Пожалуйста!.. Иван Павлыч, — вдруг сказал я, — вы давно были у Татариновых?
— А что?
— Ничего.
Кораблев посмотрел мне прямо в глаза.
— Ну, брат, — спокойно сказал он, — я вижу, ты неспроста нагрубил Лихо. Садись и рассказывай. Только, чур, не врать.
И родной матери я не рассказал бы о том, что влюбился в Катю и думал о ней целую ночь. Это было невозможно. Но мне давно хотелось рассказать Кораблеву о переменах в доме Татариновых, о переменах, которые так не понравились мне!
Он слушал меня, расхаживая из угла в угол, Время от времени он останавливался и оглядывался с печальным выражением. Вообще мой рассказ, кажется, расстроил его. Один раз он даже взялся рукой за голову, но спохватился и сделал вид, что гладит себя по лбу.
— Хорошо, — сказал он, когда я попросил его позвонить к Татариновым и выяснить, в чем дело. — Я сделаю это. А ты зайди через час.
— Иван Павлыч, через полчаса!
Он усмехнулся — печально и добродушно…
Я провел эти полчаса в актовом зале. Паркет в актовом зале выложен елочкой, и когда я шел от окон к дверям, темные полоски казались светлыми, а светлые — темными. Солнце светило вовсю, у широких окон медленно кружились пылинки. Как все хорошо! И как плохо!
Когда я вернулся, Кораблев сидел на диване и курил. Мохнатый зеленый френч, который он всегда надевал, когда чувствовал себя плохо, был накинут на плечи, и мягкий ворот рубахи расстегнут.
— Ну, брат, напрасно ты просил меня звонить, — сказал он. — Я теперь знаю все твои тайны.
— Какие тайны?
Он посмотрел на меня, как будто впервые увидел.
— Только нужно уметь их хранить, — продолжал он. — А ты не умеешь. Сегодня, например, ты ухаживаешь за кем—нибудь, а завтра об этом знает вся школа. И хорошо еще, если только школа.
Должно быть, у меня был очень глупый вид, потому что Кораблев невольно усмехнулся, — впрочем, едва заметно. По меньшей мере, двадцать мыслей сразу пронеслись в моей голове. «Кто это сделал? Ромашка! Я его убью! Так вот почему Катя не пришла! Вот почему старушка меня прогнала!»
— Иван Павлыч, я ее люблю, — сказал я твердо.
Он развел руками.
— Мне все равно, пускай об этом говорит вся школа!
— Ну, школа—то — пожалуй, — сказал Кораблев. — Но вот что говорят Марья Васильевна и Нина Капитоновна, это тебе не все равно, не правда ли?
— Нет, тоже все равно! — возразил я с жаром.
— Позволь, но тебя, кажется, выгнали вон из дома?
— Из какого дома? Это не ее дом. Она только и мечтает, что кончит школу и уйдет из этого дома.
— Позволь, позволь… Значит, что же? Ты собрался жениться?
Я немного опомнился.
— Это никого не касается!
— Разумеется, — поспешно сказал Кораблев. — Но понимаешь, я боюсь, что это не так просто! Нужно все—таки и Катю спросить. Может быть, она еще и не собирается замуж. Во всяком случае, придется подождать, пока она вернется из Энска.
— А, — сказал я очень спокойно. — Они отправили ее в Энск? Прекрасно.
Кораблев снова посмотрел на меня — на этот раз с нескрываемым любопытством.
— У нее заболела тетка, и она поехала ее проведать, — сказал он. — Она поехала на несколько дней и к началу занятий вернется. По этому поводу, кажется, не стоит волноваться!
— Я не волнуюсь, Иван Павлыч. А что касается Лихо, — если хотите, я перед ним извинюсь. Только пускай и он возьмет назад свое заявление, что я идеалист…
Как будто ничего не случилось, как будто Катю не отправили в Энск, как будто я не решил убить Ромашку, — мы минут пятнадцать спокойно говорили о моем сочинении. Потом я простился, сказал, что, если можно, завтра снова зайду, и ушел.
Глава 11. ЕДУ В ЭНСК.
Убить Ромашку! Я ни минуты не сомневался в том, что он это сделал. Кто же еще? Он сидел в фойе и видел, как я поцеловал Катю.
С ненавистью поглядывая на его кровать и ночной столик, я полчаса ждал его в спальне. Потом написал записку, в которой требовал объяснений и грозил, что в противном случае перед всей школой назову его подлецом. Потом разорвал записку и отправился к Вальке в Зоопарк.
Конечно, он был у своих грызунов. В грязном халате, с карандашом за ухом, с большим блокнотом подмышкой, он стоял у клетки и кормил из рук летучих мышей. Он кормил их червями и при этом насвистывал с очень довольным видом.
Я окликнул его. Он обернулся с недоумением, сердито махнул рукой и сказал:
— Подожди!
— Валя! На одну минуту!
— Постой, ты меня собьешь. Восемь, девять, десять…
Он считал червей.
— Вот жадюга! Семнадцать, восемнадцать, двадцать…
— Валька! — взмолился я.
— Выгоню вон! — быстро сказал Валька.
Я с ненавистью посмотрел на летучих мышей. Они висели вниз головой, лопоухие, с какими—то странными, почти человеческими мордами. Мерзавцы! Ничего не поделаешь! Я должен был ждать, пока они нажрутся.
Наконец! Но, гладя себя по носу грязными пальцами, Валька еще с полчаса записывал что—то в блокнот. Вот кончилась и эта мука!
— Иди ты к черту! — сказал я ему. — Всю душу вымотал со своими зверями. У тебя есть деньги?
— Двадцать семь рублей, — с гордостью отвечал Валька.
— Давай все.
Это было жестоко: я знал, что Валька копит на каких—то змей. Но что же делать? У меня было только семнадцать рублей, а билет стоил ровно вдвое.
Валька слегка заморгал, потом серьезно посмотрел на меня и вынул деньги.
— Уезжаю.
— Куда?
— В Энск.
— Зачем?
— Приеду — расскажу. А пока вот что: Ромашка — подлец. Ты с ним дружишь, потому что не знаешь, какой он подлец. А если знаешь, то ты сам подлец. Вот и все. До свиданья.
Я был уже одной ногой за дверью, когда Валя окликнул меня — и таким странным голосом, что я мигом вернулся.
— Саня, — пробормотал он, — я с ним не дружу. Вообще…
Он замолчал и снова начал сандалить свой нос.
— Это я виноват, — объявил он решительно. — Я должен был тебя предупредить. Помнишь историю с Кораблевым?
— Еще бы мне ее не помнить!
— Ну вот! Это — он.
— Что он?
— Он пошел к Николаю Антонычу и все ему рассказал.
— Врешь!
Мигом вспомнил я этот вечер, когда, вернувшись от Татариновых, я рассказал Вальке о заговоре против Кораблева.
— Позволь, но ведь я же с тобой говорил.
— Ну да, а Ромашка подслушал.
— Что ж ты молчал?
Валька опустил голову.
— Он взял с меня честное слово, — пробормотал он. — Кроме того, он грозился, что ночью будет на меня смотреть. Понимаешь, я терпеть не могу, когда на меня смотрят ночью. Теперь—то я понимаю, что это — ерунда. Это началось с того, что я один раз проснулся — и вижу: он на меня смотрит.
— Ты просто дурак, вот что.
— Он записывает в книжку, а потом доносит Николаю Антонычу, — печально продолжал Валька. — Он меня изводит. Донесет, а потом мне рассказывает. Я уши затыкаю, а он рассказывает.
Года три тому назад в школе говорили, что Ромашка спит с открытыми глазами. Это была правда. Я сам видел однажды, как он спал, и между веками ясно была видна полоска глазного яблока — какая—то мутноватая, страшноватая… Это было неприятно — и спит, и не спит! Ромашка говорил, что он никогда не спит. Разумеется, врал — просто у него были короткие веки. Но находились ребята, которые верили ему. Его уважали за то, что он «не спит», и немного боялись. Должно быть, отсюда пошла и Валькина боязнь: ведь он пять лет проспал рядом с Ромашкой, на соседней койке.
Все это смутно пронеслось в моей голове. «Балда, подумал я. — Хорош естествоиспытатель!
— Эх, ты, тряпка! — сказал я. — Мне сейчас некогда разговаривать, но, по—моему, об этой книжечке ты должен написать в ячейку. По правде говоря, я не думал, что он тебя так оседлал. Сколько «честных» слов ты ему надавал?
— Не знаю, — пробормотал Валька.
— Посчитаем.
Он печально посмотрел на меня…
Из Зоопарка я поехал на вокзал за билетом, а оттуда в школу. У меня была хорошая готовальня, и я решил захватить ее с собой — на всякий случай, чтобы продать, если придется туго.
И вот ко всем моим глупостям прибавилась еще одна — и я с лихвой за нее расплатился!
В спальне было человек десять, когда я вошел, и, между прочим, Таня Величко, девочка из нашего класса.
Все были заняты — кто чтением, кто разговором.
Шура Кочнев изображал нового математика: подняв руки, он бросался к воображаемой доске и медленно, с достоинством садился. Кругом хохотали. Словом, никто не обращал внимания на Ромашку, который стоял на коленях у моей кровати и рылся в моем сундучке.
Эта новая подлость меня поразила. Кровь бросилась мне в голову, но я подошел к нему ровными шагами и спросил ровным голосом:
— Что ты ищешь, Ромашка?
Он испуганно поднял на меня глаза, и как я ни был взволнован, однако заметил, что в эту минуту он необыкновенно походил на сову: удивительно бледный, с красными большими ушами.
— Катины письма? — продолжал я. — Хочешь передать их Николаю Антонычу? Вот они. Получай!
И я с размаху ударил его ногой в лицо.
Все было сказано тихим голосом, и поэтому никто не ожидал, что я его ударю. Кажется, я двинул его еще два или три раза. Я бы убил его, если бы не Таня Величко. Пока мальчики стояли, разинув рты, она смело бросилась между нами, вцепилась в меня и оттолкнула с такой силой, что я невольно сел на кровать.
— Ты с ума сошел!
Сквозь какой—то туман я увидел ее лицо и понял, что она смотрит на меня с отвращением. Я опомнился.
— Ребята, я вам все объясню, — сказал я нетвердо.
Но они молчали. Ромашка лежал на полу, закинув голову, и тоже молчал. На щеке у него был синий кровоподтек. Я взял сундучок и вышел…
С тяжелым чувством я часа три бродил по вокзалу. С неприятным, отвратительным чувством я читал газету, изучал расписание, пил чай в буфете третьего класса. Мне хотелось есть, но чай показался мне невкусным, бутерброды не лезли в рот, — во рту был такой вкус, как будто я наелся червей, как Валькины летучие мыши. Я чувствовал себя каким—то грязным после этой сцены. Эх, не нужно было возвращаться в школу! Готовальня! На кой она мне черт? Неужели не достал бы я на обратный билет у тети Даши?
Глава 12. РОДНОЙ ДОМ.
Одно впечатление осталось у меня от этого путешествия по тем местам, где мы с Петькой Сковородниковым когда—то бродили, воруя и побираясь, — впечатление необыкновенной свободы.
Впервые в жизни я ехал по железной дороге с железнодорожным билетом. Я мог сидеть у окна, разговаривать с соседями, курить, если бы я вообще курил. Не нужно было лезть под лавку, когда проходил контролер. С равнодушным видом, не прерывая разговора, я отдал ему свой билет. Это было необыкновенное ощущение, какое—то просторное, хотя в вагоне было довольно тесно. Оно развлекало меня, и я думал теперь об Энске — о сестре, о тете Даше, о том, как я свалюсь к ним, как снег на голову, и как они меня не узнают.
С этой мыслью я уснул и проспал так долго, что соседи стали беспокоиться — не умер ли? Но, как видите, я не умер.
Как хорошо вернуться в родной город после восьмилетней разлуки! Все знакомо — и все незнакомо. Неужели это губернаторский дом? Когда—то он казался мне огромным. Неужели это Застенная? Разве она была такая узенькая и кривая? Неужели это Лопухинский бульвар? Но бульвар утешил меня: за липами вдоль всей главной аллеи тянулись прекрасные новые здания. Черные липы были как будто нарисованы на белом фоне, и черные тени от них косо лежали на белом снегу — это было очень красиво.
Я быстро шел и на каждом шагу, то узнавал старое, то поражался переменам. Вот приют, в который тетя Даша собиралась отдать нас с сестрой; он стал зеленого цвета, и на стене появилась большая мраморная доска с золотыми буквами. Я прочел и не поверил глазам: «В этом доме в 1824 году останавливался Александр Сергеевич Пушкин». Черт возьми! В этом доме! То—то задрали бы носы приютские, если бы они это знали.
А вот и «присутственные места», в которые мы с мамой когда—то носили прошение! Они стали теперь совсем «неприсутственными», старинные низкие решетки были сняты с окон, и у ворот висела дощечка: «Дом культуры».
А вот и Крепостной вал, — сердце у меня застучало. Гранитная набережная открылась передо мной, и я с трудом узнал в ней наш бедный пологий берег. Но еще больше меня поразило, что на том месте, где прежде стояли наши дома, был разбит сквер, и няньки с закутанными младенцами, как идолы, сидели на скамейках. Этого я не ожидал. Долго стоял я на Крепостном валу, изучая в немом изумлении сквер, гранитную набережную и бульвар, вдоль которого мы некогда играли в рюхи. На месте пустыря, за которым прежде начинались зады москательных рядов, стояло теперь высокое серое здание, и у подъезда в огромной шубе расхаживал охранник. Я подошел к нему.
— Энская электростанция, — важно ответил он, когда я показал на здание и спросил, что это за штука.
— Вы случайно не знаете, где живет Сковородников?
— Судья?
— Нет.
— Тогда не знаю. У нас один Сковородников — судья.
Я отошел. Может ли быть, что старик Сковородников стал судьей? Обернувшись, я вновь посмотрел на прекрасное высокое здание, построенное на месте наших нищих домов, и решил, что может.
— А каков из себя судья? Высокого роста?
— Высокого.
— Усатый?
— Нет, не усатый, — как бы обидясь за Сковородникова, возразил охранник.
Гм… не усатый? Мало надежды.
— А где этот судья живет?
— На Гоголевской, в доме бывшем Маркузе.
Я знал этот дом — один из лучших в городе, с львиными мордами по обеим сторонам подъезда. Снова я стал в тупик. Но делать было нечего, и я пошел на Гоголевскую, впрочем, мало надеясь, что старик Сковородников снял усы, стал судьей и поселился в таком великолепном доме.
Через полчаса я был на Гоголевской, у дома Маркузе. Львиные морды постарели за восемь лет, но все—таки это были еще внушительные, сердитые морды. В нерешительности стоял я у широкого крытого подъезда. Позвонить, что ли? Или спросить у милиционера, где адресный стол?
Кисейные занавески в тети Дашином вкусе виднелись за окнами, — я вдруг решился и позвонил.
Мне открыла девушка лет шестнадцати, в синем фланелевом платье, гладко причесанная, с прямым пробором и смуглая. Смуглая — это меня сбило.
— Здесь живут Сковородниковы?
— Да.
— А… Дарья Гавриловна дома?
— Она скоро придет, — ответила девушка, улыбаясь и разглядывая меня с любопытством. Она улыбалась совершенно как Саня, но Саня была светлая, с вьющимися косами и с голубыми глазами. Нет, не Саня.
— Можно подождать?
— Пожалуйста.
Я снял пальто в передней, и она провела меня в большую светлую комнату, чисто и даже богато прибранную. Главное место в ней занимал рояль — это было не похоже на тетю Дашу. Но портрет между вазами голубого стекла, портрет героя, сидящего на фоне снежных гор в камышовом кресле, — это была уже как бы сама тетя Даша.
Надо полагать, что я осматривался с довольно глупым, радостным выражением, потому что девушка глядела на меня во все глаза. Вдруг она наклонила голову и высоко подняла брови — совершенно как мать. Я понял, что это все—таки Саня.
— Саня? — сказал я не очень уверенно.
Она удивилась.
— Да.
— Постой, ты же была белая, — продолжал я дрожащим голосом. — В чем дело? Когда мы жили в деревне, ты была совершенно белая. А теперь стала какая—то черная.
Она остолбенела, даже открыла рот.
— В какой деревне?
— Когда умер отец, — сказал я и засмеялся. — Эх, ты, забыла! Все забыла! И меня не помнишь!
Язык у меня немного заплетался, — должно быть, от радости. Ведь я все—таки очень любил ее и восемь лет не видел, и она была так похожа на мать.
— Саня? — сказала и она, наконец. — Господи! Да ведь мы думали, что ты давно умер.
Она обняла меня.
— Саня, Саня! Неужели это ты? И тети Даши нет. Да садись же, что ты стоишь? Откуда ты? Когда приехал?
Мы сели рядом, но она сейчас же вскочила и побежала в переднюю за моим сундучком.
— Да подожди же! Куда ты? Скажи хоть, как ты живешь? Как тетя Даша?
— А ты—то как? Почему не написал ни разу? Ведь мы искали тебя. Даже давали объявления в газетах.
— Не читал, — сказал я с раскаянием.
Только теперь я в полной мере оценил, что это была за подлость — забыть о том, что у меня такая сестра. И такая чудная тетя Даша, которой нельзя было даже сказать, что я вернулся, потому что она могла умереть от радости, как мне только что заявила Саня.
— И Петя разыскивал тебя, — продолжала она. — Вот еще недавно писал в Ташкент. Он думает, что ты живешь в Ташкенте.
— Петька?
— Ну да.
— Сковородников?
— Ну какой же еще!
— Где он?
— В Москве, — сказала Саня.
Я был поражен.
— Давно ли?
— А вот как вы с ним удрали.
Петька в Москве! Я не мог придти в себя от изумления.
— Саня, да ведь и я живу в Москве!
— Ну да?
— Честное слово! Как же он? Что делает?
— Ничего, хорошо. Он в этом году школу кончает.
— Фу, черт! Да ведь и я же! У тебя его карточки нет?
Мне показалось, что Саня немного смутилась, когда я спросил о карточке. Она сказала: «Сейчас», вышла и сразу вернулась, точно вынула Петькину карточку из кармана.
— Послушай, ведь он красивый, — сказал я и захохотал. — Рыжий?
— Рыжий.
— Фу, черт, как хорошо! А старик? Как старик? Не ужели правда?
— Что правда?
— Судья?
— Эва! Да он уже пять лет судья.
Мы все спрашивали и перебивали друг друга и снова спрашивали. Потом Саня убежала на кухню, но я пошел за ней и сказал, что мне без нее скучно. Это была святая правда — без нее мне сразу стало скучно.
Мы поставили самовар, затопили плиту, и потом прозвенел глухой колокольчик в передней.
— Тетя Даша!
— Ты останься здесь, — сказала шепотом Саня, — а я ее подготовлю. Правда, у нее очень сердце плохое…
Она вышла, и вот я услышал в соседней комнате такой разговор:
— Тетя Даша, ты, пожалуйста, не волнуйся. У меня очень хорошая новость, так что ты должна не волноваться, а наоборот.
— Ну, говори, коза.
— Тетя Даша, ты сегодня пироги раздумала ставить, а придется.
— Петя приехал?
— Петя—то Петя, да не совсем. Тетя Даша, не волнуешься?
— Нет.
— Честное слово?
— Фу ты! Ну, честное слово.
— Вот кто приехал! — И Саня открыла дверь в кухню.
Замечательно, что тетя Даша узнала меня с первого взгляда.
— Саня, — тихо сказала она.
Она обняла меня. Потом села и закрыла глаза. Я взял ее за руку.
— Голубчик ты мой! Да ты ли это?
— Я, тетя Даша.
— Да не во сне ли я?
— Нет, тетя Даша.
Но тетя Даша, кажется, не поверила мне, потому что снова закрыла глаза, как будто и точно уснула.
— Голубчик ты мой! Жив? Да где же ты был? Ведь мы тебя по всему свету искали.
— Знаю, тетя Даша. Это я виноват.
— Виноват! Господи! приехал и еще говорит — виноват. Милый ты мой! Да какой же ты молодец стал! Какой красавец!
Тете Даше я всегда казался красавцем…
Что еще вспомнить, что еще рассказать об этой незабываемой встрече? Разве что тетя Даша вскочила на полуслове и сказала Сане шепотом, с ужасным выражением: «Не накормили?» Что я покатился со смеху, увидев заваленный всякой снедью стол и услышав, что это называется «закусить перед обедом».
С этой минуты я, кажется, только и делал, что ел. Рассказывал и ел. Потом тетя Даша объявила, что я грязный, и пришлось влезть в ванну и вымыться. Так прошел день.
К вечеру, намывшийся и объевшийся, я сидел в столовой, а Саня и тетя Даша сидели по правую и левую руку и смотрели на меня с такой любовью, что мне было совестно, честное слово! Потом пришел судья.
Охранник не наврал — старик снял усы. Он помолодел лет на десять, и теперь уже трудно было представить, что он варил мездровый клей и возлагал на него такие надежды.
Он знал, что я вернулся: Саня звонила ему по телефону.
— Ну, блудный сын, — сказал он и обнял меня. — И не боишься, что я тебе голову сниму? Ах, ты, прохвост!
Что я мог сказать в свое оправдание? Я только крякнул с раскаянием.
Поздней ночью мы с ним остались одни. Старик желал знать, что я делал и как жил с тех пор, как уехал из Энска. Точно, как судья, он строго спрашивал обо всех моих делах — школьных и личных.
Я сказал, что хочу быть летчиком, и он замолчал, надолго уставясь на меня из—под густых бровей с длинными жесткими волосами.
— Военным летчиком?
— Полярным. А придется — военным.
Он замолчал.
— Опасное, но замечательное, интересное дело, — сказал он.
Только одного я ему не рассказал: что приехал в Энск вслед за Катей. У меня язык не повернулся объявить ему, что если бы не Катя, быть может, еще немало времени прошло бы, прежде чем я вернулся в родной город, в родной дом.
Глава 13. СТАРЫЕ ПИСЬМА.
Я проснулся оттого, что кто—то приоткрыл дверь в столовую и тихо сказал: «Спит». За стеной осторожно зазвенела ложечка о стакан, и я понял, что Саня, чтобы не разбудить меня, завтракает в кухне. Я решил сейчас же встать и, кажется, встал. Но неизвестно, сколько времени прошло, и оказалось, что я не встал, а сплю и только ругаю себя во сне за то, что не встал.
Словом, я проспал часов до одиннадцати. Саня давно уже была в школе, старик на службе, а тетя Даша успела уже «поставить обед», как она мне сообщила.
За чаем она все ужасалась, что я ничего не ем.
— Вот как вас кормят, — сказала она с негодованием. — Цыган лучше свою лошадь кормил, и то подохла.
— Тетя Даша, я же вчера объелся! Честное слово, до сих пор живот болит. Тетя Даша, а ведь я вас на старом месте искал. Дома—то снесли?
— Снесли, — сказала тетя Даша и вздохнула.
Мы поговорили о соседях. Оказывается, Минька, который когда—то поразил мое воображение, служит теперь капитаном на пароходе «Тургенев», бывший «Нептун». Дядя Миша, староста артели грузчиков, умер в прошлом году, а сын его — председатель городского Совета. Я рассказал тете Даше о Гаере Кулии. Она ахала и ужасалась.
— Тетя Даша, а ты знаешь Бубенчиковых?
Бубенчиковы были родственниками Нины Капитоновны, и я не сомневался, что Катя поехала к ним.
— Оглашенных—то? Кто их не знает!
— Почему оглашенных?
— Их поп оглашал, — сказала тетя Даша. — Они попа прогнали, и он их огласил. Это давно было, до революции. Ты еще маленький был. А тебе зачем?
— Мне нужно им привет из Москвы передать, — соврал я.
Тетя Даша сомнительно покачала головой.
— Ну, разве привет…
Я знал адрес: собственный дом, у еврейской молельни. Но молельни теперь не было, и вообще все в городе переменилось, так что найти Бубенчиковых оказалось довольно трудно. Наконец я остановился перед высоким глухим забором, на котором висела дощечка: «Дом М.Г., Л.Г. и О.Г. Бубенчиковых. Лапутина, 8».
Калитка была на запоре, но я легко открыл ее и очутился в просторном саду, в глубине которого стоял маленький дом старинного вида, с деревянными колоннами и лепным орнаментом на фронтоне. Только одна дорожка вела от ворот — обыкновенная, свеже протоптанная дорожка, по которой гуляла коза, — и я с легким сердцем направился по этой дорожке к дому.
Это было именно так, то есть очень просто: я вошел в сад — еще, помнится, удивился, что он такой красивый, весь в снегу, ярко освещенный солнцем, — вошел и направился по дорожке навстречу козе. Коза заблеяла. И вдруг, как в сказке, все преобразилось! Где—то хлопнула дверь. Раздался крик, и я увидел, что из дому бежит старуха с палкой в руке. Возможно, что это была не палка, а кочерга.
— Машенька! Машенька! — кричала она. — Свой! Свой!
Это было приятно — услышать, что я — свой. Но радоваться было еще рано. Вторая старуха вышла из дому и, слегка оскалясь, побежала ко мне. В руках она держала щетку на колесиках, которой чистят ковры. Без сомнения, она хотела побить меня этой щеткой.
— Машенька! — вопила первая старуха. — Это свой!
Но, должно быть, коза не верила ей, потому что кричала все громче. Я хотел представиться Бубенчиковым, у меня была даже заготовлена первая фраза, но при таких обстоятельствах это показалось мне невозможным. Я немного постоял и медленно, чтобы не потерять достоинства, направился обратно к воротам.
Злобно бормоча что—то, мрачная старуха прошла вслед за мной несколько шагов и вернулась.
Вот так штука! На улице мне стало смешно, и, наверно, они слышали, как я засмеялся. Это было поразительно, что они даже не спросили меня, кто я такой и что мне нужно. Наверно, подумали, что я забрел к ним в сад по ошибке. Странно было также, что Катя не вышла из дому на весь этот переполох. Впрочем, все было странно!
Тетя Даша удивилась, что я так скоро вернулся домой.
— Тетя Даша, а Саня пришла?
— Она в третьем часу придет. У нее сегодня шесть уроков.
Я попросил у тети Даши конверт и бумагу и принялся за письмо. «Напишу Катьке, а Саня отнесет. Авось ее не так сурово встретят».
«Катя», — написал я и задумался. Как всегда в таких случаях, Петькин письмовник живо припомнился мне: «Встретя в вас, милостивая государыня, все добродетели той, которую я так долго оплакивал, почитаю своим долгом сделаться вашим супругом и дать нежную мать моим малюткам».
Я внезапно захохотал и очень испугал тетю Дашу.
«Катя, — написал я, — пытался пробиться к тебе, но отступил, встретив в лице козы и двух бабушек непреодолимую преграду. Как видишь, я в Энске и очень хочу тебя видеть. Приходи в Соборный сад часа в четыре. Эту записку тебе передаст — угадай кто? — Моя сестра. А.Григорьев».
— Тетя Даша, у Петьки были когда—то интересные книги. Где они, а? Вообще, где у вас книги?
Петькины книги нашлись в Саниной комнате на этажерке. Должно быть, они были не в особенной чести, потому что стояли на самой нижней полке среди всякого хлама. Мне стало грустно, когда я взял в руки «Страшную ночь, или необыкновенно чудесные приключения донского казака в горах Кавказа». Черт знает, какой я был тогда маленький и несчастный!
Пакет, завернутый в желтую, выгоревшую газету, упал на пол, когда, увлекшись розысками письмовника, я энергично передвинул книги. Это были старые письма! Я мигом узнал их. Это были письма, которые когда—то вода принесла к нам на двор в почтовой сумке. Долгие зимние вечера, когда тетя Даша читала их вслух, припомнились мне, — и как чудесны, как необыкновенны показались мне эти чтения!
Чужие письма! Кто знает, где теперь эти люди, что писали их? Вот хоть это письмо, в толстом пожелтевшем конверте, — быть может, кто нибудь ночей не спал, все его дожидался?
Машинально я открыл конверт и прочел несколько строк:
«Глубокоуважаемая Мария Васильевна!
Спешу сообщить Вам, что Иван Львович жив и здоров. Четыре месяца тому назад я, согласно его предписаниям, покинул шхуну, и со мной тринадцать человек команды…»
Я читал — и не верил глазам. Это было письмо штурмана, которое я некогда знал наизусть, которое читал в поездах между Энском и Москвой! Но совсем другое поразило меня.
«Св. Мария» — прочитал я дальше, — замерзла еще в Карском море и с октября 1913 года беспрестанно движется на север вместе с полярными льдами». «Св. Мария»! Так называлась шхуна капитана Татаринова. Я перевернул письмо и начал снова:
«Глубокоуважаемая Мария Васильевна!» — Мария Васильевна! — «Спешу сообщить Вам, что Иван Львович…» — Иван Львович! Катю зовут Катерина Ивановна!
Тетя Даша решила, что я сошел с ума, потому что я вдруг коротко заорал и начал с дьявольской быстротой перебирать старые письма.
Но я знал, что делал: тетя Даша когда—то читала мне другое письмо, в котором рассказывалось о жизни во льдах, о каком—то матросе, разбившемся насмерть, о том, как лед вырубали в каютах.
— Тетя Даша, а все они тут?
— Господи, да что случилось?
— Ничего, тетя Даша! Тут должна быть одна такая штука.
Я не слышал себя. Вот оно:
«Друг мой, дорогая моя, родная Машенька!
Вот уже около двух лет прошло с тех пор, как я послал тебе письмо через телеграфную экспедицию на Югорском Шаре. Но как много с тех пор переменилось, я тебе и передать не могу! Начать с того, что тогда мы шли свободно по намеченному курсу, а с октября 1913 года медленно двигаемся на север вместе с полярными льдами. Таким образом, волей—неволей мы должны были отказаться от первоначального намерения — пройти во Владивосток вдоль берегов Сибири. Но нет худа без добра! Совсем другая мысль теперь занимает меня. Надеюсь, она не покажется тебе — как некоторым моим спутникам — «детской» или «безрассудной»…
Здесь кончался первый лист. Я перевернул его, но на другой стороне ничего нельзя было прочитать, кроме нескольких бессвязных слов, чуть сохранившихся среди подтеков и пятен.
Второй листок начинался с описания шхуны:
«…достигающие местами значительной глубины. Среди одного такого поля и стоит наша „Св. Мария“, по самый планшир засыпанная снегом. Временами гирлянды инея срываются с такелажа и с тихим шуршаньем осыпаются вниз. Как видишь, Машенька, с горя я стал поэтом. Впрочем, у нас есть и настоящий поэт — наш повар Колпаков. Неунывающая душа! Целыми днями он распевает свою поэму. Вот тебе четыре строчки на память:
Под флагом матушки России Мы с капитаном в путь пойдем И обогнем брега Сибири Своим красавцем кораблем.Я пишу и перечитываю свое бесконечное письмо и снова пишу и вижу, что просто болтаю с тобой, а нужно сказать еще так много важного. Я посылаю с Климовым пакет на имя начальника Гидрографического управления. Это — мои наблюдения, письма служебные и отчет, в котором изложена история нашего дрейфа. Но на всякий случай пишу и тебе о нашем открытии: к северу от Таймырского полуострова на картах не значится никаких земель. Между тем, находясь на широте 79°35' между меридианами 86 и 87 к востоку от Гринвича, мы заметили резкую серебристую полоску, немного выпуклую, идущую от самого горизонта. Третьего апреля полоска превратилась в матовый щит лунного цвета, а на следующий день мы увидели очень странные по форме облака, похожие на туман, окутавший далекие горы. Я убежден, что это — земля. К сожалению, я не мог оставить корабль в тяжелом положении, чтобы исследовать ее. Но все впереди. Пока я назвал ее твоим именем, так что на любой географической карте ты найдешь теперь сердечный привет от твоего…»
Здесь кончалась оборотная сторона второго листа. Я отложил его и принялся за третий. Первые строки были размыты. Потом:
«…Горько подумать, что все могло быть совсем иначе. Я знаю, он будет оправдываться, пожалуй, сумеет убедить тебя, что я один во всем виноват. Молю тебя об одном: не верь этому человеку! Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны только ему. Достаточно, что из шестидесяти собак, которых он продал нам в Архангельске, большую часть еще на Новой Земле пришлось пристрелить. Вот как дорого обошлась нам эта услуга! Не только я один — вся экспедиция шлет ему проклятия. Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара. Остается делать все, что в наших силах. Как много я мог бы рассказать тебе о нашем путешествии! Для Катюшки хватило бы историй на целую зиму. Но какой ценой приходится расплачиваться, боже мой! Я не хочу, чтобы ты подумала, что наше положение безнадежно. Но вы все—таки не особенно ждите…»
Как молния в лесу вдруг освещает местность, и тесная картина внезапно изменяется, и видишь даже листья на дереве, которое минуту назад казалось не то зверем, не то великаном, так я понял все, читая эти строки. И даже такие мелочи припомнились мне, которые, казалось, были навсегда забыты.
Я понял лицемерные речи Николая Антоныча о «покойном брате». Я понял это фальшивое, значительное выражение лица, когда, рассказывая о нем Николай Антоныч строго сдвигал брови, как будто во всем, что случилось, были отчасти виноваты и вы. Я понял всю глубину низостями этого человека, притворявшегося, что он гордится своим благородством. Он не был назван, но это был он! Я не сомневался в этом.
У меня пересохло в горле от волнения, и я так громко говорил сам с собой, что тетя Даша испугалась не на шутку.
— Саня, да что с тобой?
— Ничего, тетя Даша. А где еще у вас эти старые письма?
— Да все тут!
— Не может быть! Помните, вы мне когда—то читали это письмо? Оно было длинное, на восьми страницах, — Не помню, голубчик
Больше я ничего не нашел в пакете — только три страницы из восьми. Но и этого довольно!
В Катиной записке я переправил «приходи в четыре» на «приходи в три». Потом на «приходи в два». Но было уже два, и я снова переправил на три.
Глава 14. СВИДАНИЕ В СОБОРНОМ САДУ. «НЕ ВЕРЬ ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ».
Мальчиком я тысячу раз бывал в Соборном саду, но тогда мне и в голову не приходило, что он такой красивый! Он расположен высоко на горе над слиянием двух рек, Песчинки и Тихой, и окружен крепостной стеной. Стена отлично сохранилась, но башни стали меньше с тех пор, как мы с Петькой встретились здесь в последний раз, чтобы дать друг другу «кровавую клятву дружбы».
Снегу было много, но все—таки я поднялся на первый скат у башни старца Мартына: нужно было посмотреть, что сталось с Ириновским лугом, с Никольской школой, с кожевенным заводом. Все оказалось на своем месте и везде снег и снег, до самого горизонта…
Наконец они пришли — Катя и Саня. Я видел, как Саня, похожая на бабушку в своем желтом меховом тулупе, повела вокруг рукой, как будто говоря: «Вот Соборный сад», — и сразу простилась и ушла, кивнув головой с таинственным выражением.
— Катя! — крикнул я.
Она вздрогнула, увидела меня и засмеялась…
С полчаса мы ругали друг друга: я ее — за то, что она не сообщила мне о своей поездке, она меня — за то, что я не дождался ее письма и приехал. Потом мы оба спохватились, что не рассказали друг другу самого важного. Оказывается, Николай Антоныч говорил с Катей. «Именем покойного брата» он запретил ей встречаться со мной. Он сказал длинную речь и заплакал.
— Ты можешь мне не поверить, Саня, — сказала Катя серьезно, — но я, честное слово, видела это своими глазами!
— Так, — сказал я и положил руку на грудь.
На груди, в боковом кармашке, завернутое в компрессную бумагу, которую я выпросил у тети Даши, лежало письмо капитана Татаринова.
— Послушай, Катя, — сказал я решительно, — я хочу рассказать тебе одну историю. В общем, так: представь, что ты живешь на берегу реки и в один прекрасный день на этом берегу появляется почтовая сумка. Конечно, она падает не с неба, а ее выносит водой. Утонул почтальон! И вот эта сумка попадает в руки одной женщины, которая очень любит читать. А среди ее соседей есть мальчик, лет восьми, который очень любит слушать. И вот однажды она читает ему такое письмо: «Глубокоуважаемая Мария Васильевна…»
Катя вздрогнула и посмотрела на меня с изумлением.
— «…Спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров, — продолжал я быстро. — Четыре месяца тому назад я, согласно его предписаниям…»
И я, не переводя дыхания, прочитал письмо штурмана наизусть. Я не останавливался, хотя Катя несколько раз брала меня за рукав с каким—то ужасом и удивлением.
— Ты видел это письмо? — спросила она и побледнела. — Он пишет об отце? — снова спросила она, как будто в этом могло быть какое—нибудь сомнение.
— Да. Но это еще не все!
И я рассказал ей о том, как тетя Даша однажды наткнулась на другое письмо, в котором говорилось о жизни корабля, затертого льдами и медленно двигающегося на север.
— «Друг мой, дорогая моя, родная Машенька…» — начал я наизусть и остановился.
Мурашки пробежали у меня по спине, горло перехватило, и я вдруг увидел перед собой, как во сне, мрачное, постаревшее лицо Марьи Васильевны, с мрачными, исподлобья, глазами. Она была вроде Кати, когда он писал ей это письмо, а Катя была маленькой девочкой, которая все дожидалась «письма от папы». Дождалась, наконец!
— Словом, вот, — сказал я и вынул из бокового кармана письма в компрессной бумаге. — Садись и читай, а я пойду. Я вернусь, когда ты прочитаешь.
Разумеет я, я никуда не ушел. Я стоял под башней старца Мартына и смотрел на Катю все время, пока она читала. Мне было очень жаль ее, и в груди у меня все время становилось тепло, когда я думал о ней, — и холодно, когда я думал, как страшно ей читать эти письма. Я видел, как бессознательным движением она поправила волосы, мешавшие ей читать, и как встала со скамейки как будто для того, чтобы разобрать трудное слово. Я прежде не знал — горе или радость получить такое письмо. Но теперь, глядя на нее, понял, что это — страшное горе! Я понял, что она никогда не теряла надежды! Тринадцать лег тому назад ее отец пропал без вести в полярных льдах, где нет ничего проще, как умереть от голода и от холода. Но для нее он умер только сейчас!
Когда я вернулся, у Кати были красные глаза, и она сидела на скамейке, опустив руки с письмами на колени.
— Замерзла? — спросил я, не зная, с чего начать разговор.
— Я не разобрала несколько слов… Вот эти: «Молю тебя…»
— Ах, вот эти! Здесь написано: «Молю тебя, не верь этому человеку…»
Вечером Катя была у нас в гостях, но мы ничего не говорили о старых письмах, — это было условленно заранее. Только тетя Даша не выдержала и рассказала историю утонувшего почтальона. Оказывается, он не случайно утонул, а утопился «по насердке любви», как она объяснила. Он был влюблен в одну девушку, а девушку отдали за другого.
— Хоть бы письма—то вперед разнес! — с досадой добавила тетя Даша.
Катя была очень грустна. Все ухаживали за ней, особенно Саня, которая сразу привязалась к ней, как это только девушки умеют. Потом мы с Саней проводили ее до самой козы, которая опять стояла на дорожке, но на этот раз не закатила истерики, только сердито затрясла бородой.
Старики еще не спали, когда мы вернулись домой. Судья с некоторым опозданием ругал тетю Дашу за то, что она не доставила почту — «хотя бы те письма, на коих можно было разобрать адреса», — и находил для нее только одно оправдание — десятилетнюю давность. Тетя Даша говорила о Кате. Моя судьба, по ее мнению, была уже решена.
— Ничего, понравилась, — сказала она вздохнув. — Красивая, грустная. Здоровая.
Я попросил у Сани карту нашего Севера и показал путь, который должен был пройти капитан Татаринов из Ленинграда во Владивосток. Только теперь я вспомнил об его открытии. Что это за земля к северу от Таймырского полуострова?
— Постой—ка, — сказала Саня. — Да ведь это Северная Земля!
Что за черт! Это была Северная Земля, открытая в 1913 году лейтенантом Велькицким. Широта 79°35' между восемьдесят шестым и восемьдесят седьмым меридианами. Очень странно!
— Виноват, товарищи, — сказал я и, должно быть, немного побледнел, потому что тетя Даша посмотрела на меня с испугом. — Я все понимаю! Сперва это была серебристая полоска, идущая от самого горизонта. Третьего апреля полоска превратилась в матовый щит. Третьего апреля!
— Саня… — с беспокойством начала было тетя Даша.
— Виноват, товарищи! Третьего апреля. А Велькицкий открыл Северную Землю осенью, не помню точно когда, но только осенью, в сентябре или октябре. Осенью, через полгода! Осенью, значит, он ни черта не открыл, потому что она была уже открыта.
— Саня! — сказал и судья.
— Открыта и названа в честь Марьи Васильевны, — продолжал я, крепко держа палец на Северной Земле, как будто боясь, как бы с ней опять не произошло какой—нибудь ошибки. — В честь Марьи Васильевны «Землей Марии» или что—нибудь в этом роде. А теперь садитесь, и я вам все объясню!..
Как уснуть после такого дня? Я пил воду, рассматривал карту. В столовой висели виды Энска, и я долго изучал их, не зная, что это Санины Картины, что она учится живописи и мечтает об Академии художеств. Я снова рассматривал карту. Я вспомнил, что Северной Землей эти острова стали называться недавно, что Велькицкий назвал их «Землей Николая Второго».
Бедный Катин отец! Он был удивительно, необыкновенно несчастлив. Ни в одной географической книге нет ни одного упоминания о нем, и никто в мире не знает о том, что он сделал.
Мне стало холодно от жалости и от восторга, и я лег, потому что был шестой час и на улице кто—то уже шаркал метлою. Но я не мог уснуть. Обрывки фраз из письма капитана мучили меня, я как будто слышал голос тети Даши и видел, как она читает это письмо, поглядывая через очки, вздыхая и запинаясь. Картина, некогда представившаяся моему воображению, — белые палатки на снегу, собаки, запряженные в сани, великан в меховых сапогах, в меховой высоченной шапке, — вновь вернулась ко мне, и мне захотелось, чтобы все это случилось со мною, чтобы я был на этом корабле, медленно двигающемся навстречу гибели вместе с дрейфующими льдами, чтобы я был капитаном, который пишет прощальное письмо жене, — пишет и не может окончить. «Я назвал ее твоим именем, так что на любой географической карте ты найдешь теперь сердечный привет от твоего…»
Как могла кончаться эта фраза?.. И вдруг что—то медленно прошло у меня в голове, очень медленно, как будто нехотя, и я сел на постели, не веря себе и чувствуя, что сейчас сойду с ума — сойду с ума, потому что я вспомнил:
«…привет от твоего Монготимо Ястребиный Коготь, как ты когда—то меня называла. Как это было давно, боже мой! Впрочем, я не жалуюсь… Впрочем, я не жалуюсь», — продолжал я вспоминать, бормотать, путаясь, что вот еще одно слово, еще одно, а дальше — забыл, не припомнил. «Я не жалуюсь. Мы увидимся, и все будет хорошо. Но одна мысль, одна мысль терзает меня!»
Я вскочил, зажег лампу и бросился к столу, где лежали карандаши и карты.
«Горько сознавать, — теперь я писал на карте, — горько сознавать, что все могло быть иначе Неудачи преследовали нас, и первая неудача — ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно, — та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю».
Николаю? Верно ли? Да, Николаю!
Я остановился, потому что дальше в памяти был какой—то провал, а уже потом — это я снова помнил очень ясно — что—то о матросе Скачкове, который упал в трещину и разбился насмерть. Но это было уже совсем не то. Это было содержание письма, а не текст, из которого я больше ничего не мог припомнить, кроме нескольких отрывочных слов.
Так я и не уснул. Судья встал в восьмом часу и испугался, найдя меня сидящим в одном белье у карты Севера, по которой я успел уже прочитать все подробности гибели шхуны «Св. Мария», — подробности, которые, верно, удивили бы и самого капитан: Татаринова, если бы он вернулся…
Накануне мы условились пойти в городской музей. Саня хотела показать нам этот музей, которым в Энске очень гордились. Он помещался в Паганкиных палатах — старинном купеческом здании, о котором Петя Сковородников когда—то рассказывал, что оно набито золотом, а в подвале замурован сам купец Паганкин, и кто войдет в подвал, того он задушит. И действительно, дверь в подвал была закрыта, и на ней висел огромный замок, наверно двенадцатого века, но зато окна открыты, и через них возчики бросали в подвал дрова.
На третьем этаже была выставка картин Саниного учителя художника Тува, и она, прежде всего, повела нас смотреть эти картины. Художник был тут же, при картинах, — маленький, в бархатной толстовке, приветливый, с большой черной шевелюрой, а которой сверкали толстые седые нити. Картины его были недурны, но скучноваты — снова Энск и Энск, ночью и днем, при лунном и солнечном освещении, Энск старый и новый. Впрочем, мы хвалили их самым бессовестным образом: уж больно милый был этот Тува, и Саня глядела на него с таким обожанием!
Должно быть, она догадалась, что нам с Катей нужно поговорить, потому что вдруг извинилась и осталась на выставке под каким—то пустым предлогом, а мы спустились вниз, в большой зал, где стояли рыцари, в сетчатых железных кольчугах, вылезавших из—под нагрудника, как рубашка из—под жилета.
Понятно, мне не терпелось рассказать Кате о своих ночных открытиях. Но как начать такой разговор? Она сама начала.
— Саня, — сказала она, когда мы остановились перед воином времен Стефана Батория, чем—то напоминавшим Кораблева, — я думала, о ком он пишет: «Не верь этому человеку».
— Ну?
— И решила, что это… не о нем.
Мы молчали. Она не отрываясь смотрела на воина.
— Нет, о нем, — возразил я довольно мрачно. — Между прочим, твой отец открыл Северную Землю. Именно он, а вовсе не Велькицкий. Я это установил.
Но это известие, через несколько лет поразившее географов всего мира, не произвело на Катю особенного впечатления.
— А почему ты думаешь, — продолжала она с некоторым трудом, — что это именно он… Николай Антоныч? Ведь там, в письме, нет никаких указаний?
— Указаний сколько угодно. — Я чувствовал, что начинаю сердиться. — Во—первых, насчет собак. Кто тысячу раз хвастался, что купил для экспедиции превосходных собак? Во—вторых…
Саня подошла, и мы замолчали. Ничего не понимая, мы смотрели на «быт древнерусских князей», на «курную избу крестьянина Энской губернии при капиталистическом строе». Саня что—то объясняла нам, мы не слушали, по крайней мере Катя, которая все время поглядывала на меня с расстроенным видом. Она как будто спрашивала меня: «Ты в этом уверен?» И я отвечал, не говоря ни слова: «Совершенно уверен».
Потом Саня простилась и ушла, а мы еще долго бродили по темным залам Энского городского музея.
— А во—вторых?
— А во—вторых, сегодня ночью я вспомнил еще одно место этого письма. Вот оно.
И я прочел это место, начиная со слов: «Монготимо Ястребиный Коготь». Я прочитал его отчетливо, громко, как стихотворение, и Катя слушала меня, широко открыв глаза, серьезная, как статуя. Вдруг какой—то холод мелькнул у нее в глазах, и я подумал, что она мне не верит.
— Ты мне веришь?
Она побледнела и сказала негромко:
— Да.
Больше мы не говорили об этом деле, Только я спросил, не помнит ли она, откуда это «Монготимо Ястребиный Коготь», и она сказала, что не помнит, — кажется, из Густава Эмара, а потом сказала, что я не знаю, как это страшно для мамы.
— Все это гораздо сложнее, чем ты думаешь, — заметила она грустно и совершенно как взрослая. — Маме очень тяжело живется, а уж то; что у нее за плечами, нечего и говорить! А Николай Антоныч…
И Катя замолчала. Но потом она объяснила мне, в чем тут дело. Это тоже было открытие, и, пожалуй, еще более неожиданное, чем открытие Северной Земли капитаном Татариновым. Оказывается, Николай Антоныч уже много лет влюблен в Марью Васильевну! Когда она была в прошлом году больна, он несколько дней совершенно не раздевался и нанял сестру, хотя это было совсем не нужно. После болезни он сам отвез ее в Сочи и устроил в гостиницу «Ривьера», хотя в санатории было бы гораздо дешевле. «Просто сошел с ума», — как сказала Нина Капитоновна. Весной он ездил в Ленинград и привез Марье Васильевне меховую жакетку с рукавами крылышками, очень дорогую. Он никогда не ложится спать, если Марьи Васильевны нет дома. Он уговорил ее бросить университет, потому что ей было трудно служить и одновременно учиться. Но самая удивительная история произошла этой зимой: вдруг Марья Васильевна сказала, что она больше не хочет его видеть. И он исчез. Он ушел, в чем был, и не являлся домой дней десять. Неизвестно, где он жил, — наверное, в номерах. Тут уж вступилась Нина Капитоновна. Она сказала, что это «какая—то инквизиция», и сама привела его домой. Но Марья Васильевна не разговаривала с ним еще целый месяц…
Представить себе, что Николай Антоныч сходит с ума от любви, — это было просто невозможно! Николай Антоныч, с его пухлыми пальцами, с золотым зубом, такой старый! Но, слушая Катю, я представил себе эти сложные и мучительные отношения. Я представил себе, как прожила Марья Васильевна эти долгие годы. Ведь она была красавица и в двадцать лет осталась одна. «Ни вдова, ни мужняя жена!» Она заставляла себя жить воспоминаниями из уважения к памяти мужа! Я представил себе, как Николай Антоныч годами ухаживал за ней, обходил ее, вкрадчивый, настойчивый, терпеливый. Он сумел убедить ее — и не только ее — в том, что он один понимал и любил ее мужа. Катя была права. Для Марьи Васильевны это письмо было бы страшным ударом. Уж не лучше ли оставить его в Саниной комнате, на этажерке, между «Царем—Колоколом» и «Приключениями донского казака на Кавказе»?
Глава 15. ГУЛЯЕМ. НАВЕЩАЮ МАТЬ. БУБЕНЧИКОВЫ. ДЕНЬ ОТЪЕЗДА.
Это была не особенно веселая, скорее даже грустная неделя в Энске. Но какие чудные воспоминания остались от нее на всю жизнь!
Мы с Катей гуляли каждый день, я показывал ей свои старые любимые места и говорил о своем детстве. Помнится, я где—то читал, что археологи по одной сохранившейся надписи восстанавливают историю и обычаи целого народа. Вот так и я — по сохранившимся кое—где уголкам старого Энска восстановил и рассказал Кате нашу прежнюю жизнь.
Но и сам я заново оценил этот прекрасный город. Мальчиком я не замечал всей прелести этих садов на горах, покатых улиц, высоких набережных, под углом расходящихся от Решеток — так и теперь еще называлось место слияния двух рек — Песчинки и Тихой…
Только один день был проведен без Кати. Я пошел на кладбище. Почему—то мне казалось, что от маминой могилы за эти годы и следа не осталось. Но я нашел ее. Она была обнесена ветхим деревянным заборчиком, и на покосившемся кресте еще можно было разобрать надпись: «Помяни, господи, душу рабы твоея». Конечно, стояла зима, и все могилы одинаково занесены снегом, но все же видно было, что это — заброшенная могила.
Мне стало грустно, и я долго ходил по дорожкам, вспоминая мать. Сколько ей было бы лет теперь? Сорок. Еще совсем молодая. Горько мне было подумать, что она могла бы счастливо жить теперь, вот хоть так же, как живет тетя Даша. Я вспомнил ее усталый, тяжелый взгляд, руки, изъеденные стиркой, и как она вечерами не могла есть от усталости, которая уже почти ничем не отличалась от смерти. А ведь какая она была умная! Подлец Гаер Кулий, вот кто околдовал и погубил ее!
Я вернулся к могиле и как бы простился с ней. Потом нашел сторожа, который гулко колол дрова в полуразбитой часовне.
— Дядя, — сказал я ему, — тут у вас есть могила Аксиньи Григорьевой. Вот на этой дорожке, за поворотом вторая.
Кажется, он притворился, что знает, о какой могиле я говорю.
— Нельзя ли ее прибрать? Я заплачу.
Сторож вышел на дорожку, посмотрел и вернулся.
— За этой могилой есть уход, — сказал он. — Сейчас зима, не видать. За другими — верно, нету ухода, кресты повытянуты или что там. А за этой есть.
Я дал ему три рубля и ушел.
Возвращаясь домой, я думал о Гаере Кулий, о маме. Как она могла влюбиться в такого человека? Невольно и Марья Васильевна припомнилась мне, и я решил раз и навсегда, что вовсе не понимаю женщин…
Мы встречались каждый день, но только накануне отъезда я удосужился спросить Катю о старухах Бубенчиковых: правда ли, что они — оглашенные? Катя удивилась.
— Разве? Я не знала, — сказала она. — Но это вполне может быть, потому что они атеистки и нигилистки. «Отцы и дети» читал?
— Читал.
— Помнишь, там есть нигилист Базаров?
— Помню.
— Ну вот, и они тоже такие нигилистки, как он.
— Постой, постой! Да ведь это же когда было?
— Ну так что ж! Они старые. А коза просто нервная. Они козье молоко пьют и меня упрашивали, но и отказалась. А когда коза нервничает, молоко портится.
— Ты меня просто дурачишь, — сказал я подумав.
— Нет, честное слово, — быстро возразила Катя.
Нервная коза, за которой ухаживают три нигилистки. Черт его знает! Все—таки это была какая—то ерунда!
И вот наступил последний, прощальный день! С шести часов утра тетя Даша пекла пироги, и, чуть проснувшись, я почувствовал запах шафрана и еще чего—то пахучего, вкусного, принадлежащего к тесту. Потом она вошла в столовую, где я спал, озабоченная, в очках, перепачканная мукою, и принесла за уголок письмо от Петьки.
— Нужно Саню разбудить, — сказала она строго. — Письмо от Петеньки.
Письмо было действительно от Петеньки, краткое, но «подходящее», как сказал судья. Во—первых, он объяснял, почему не приехал на каникулы: он был с экскурсией в Ленинграде. Во—вторых, он изумлялся моему появлению в Энске и выражал по этому поводу сердечные чувства. В—третьих, он страшно ругал меня за то, что я не писал, не искал его и вообще «вел себя, как равнодушная лошадь». В—четвертых, в конверте было еще одно письмо, для Сани, и она засмеялась и сказала: «Вот дурак какой, мог бы просто приписать». Но, очевидно, он не мог просто приписать, потому что Саня взяла письмо и читала его в своей комнате часа три, пока я не ворвался к ней и не потребовал, чтобы она остановила действия тети Даши, которая хотела дать мне в дорогу пирог метр на метр.
Должно быть, та же картина наблюдалась в доме номер восемь по Лапутину переулку, потому что Катя не могла даже выйти из дому в этот день. Ее не только снабжали продуктами, как будто она отправлялась на Северный полюс, — ее еще наряжали. Старинное, оставшееся без применения приданое трех нигилисток было пущено в ход — турецкие кружева, бархатные полосатые жакетки с буфами на плечах, тяжелые платья на подкладках.
Замечательно, что Саня, забежав к Бубенчиковым на минутку, опоздала к обеду. Она пришла немного смущенная и сказала, что это очень интересно. Все три старухи шьют, и выходит очень хорошенькое платье. Кате идет, а ей нет. Зато шапочка ей идет, и она себе непременно сделает такую.
— Одним словом, мы все перемерили, — сказала Саня и засмеялась. — Даже голова закружилась.
Судья успел со службы, чтобы отобедать вместе со мною в последний раз. Он принес бутылку вина, мы выпили, и он сказал речь. Это была очень хорошая речь, гораздо лучше, чем некогда на обеде, посвященном вступлению Гаера в батальон смерти. Петьку и меня он сравнил с орлами и выразил надежду, что мы еще не раз вернемся в родное гнездо. Он был бы рад похвастать, что вырастил таких ребят, но не может, потому что сама страна вырастила нас, не дала нам погибнуть. Так он сказал. Тетя Даша всплакнула в этом месте, как бы желая напомнить, что она и сама охотно взяла бы на себя наше воспитание, не прибегая к посторонней помощи… Я встал и ответил судье. Не помню, что я говорил, но тоже очень хорошо. В общем, я сказал, что хвастать нам еще нечем.
Мы до того дообедались, что чуть не опоздали. К вокзалу мы поехали на извозчиках. Первый раз в жизни я так богато ехал: на извозчике, с корзинкой в ногах. Я бы мог сказать об этой корзине, что она неизвестно откуда взялась (ведь я приехал в Энск с пустыми руками), если бы тетя Даша целый день на моих глазах не набивала ее пирогами.
Когда мы приехали, Катя стояла уже на ступеньках вагона, и старухи Бубенчиковы наперебой наставляли ее: чтобы она не простудилась в дороге, чтобы вещи не украли, чтобы на площадку не выходила, чтобы телеграфировала, как доедет, чтобы кланялась и писала.
Не знаю, может быть, они были и нигилистки. На мой взгляд — просто старые, закутанные тетушки в лисьих шубах, с большими смешными муфтами на шнурах.
Мое место было в другом вагоне, и поэтому мы только издали поклонились Кате и Бубенчиковым. Катя помахала нам, а старухи чопорно закивали головами.
Второй звонок! Я обнимаю Саню, тетю Дашу. Судья просит навестить Петьку, и я даю честное слово, что зайду к Петьке в первый же день, как приеду. Я зову Саню в Москву, и она обещает приехать на весенние каникулы, — оказывается, об этом уже сговорено с Петькой.
Третий звонок! Я — в вагоне. Саня что—то пишет по воздуху, и я в ответ пишу наудачу: «Ладно!» Тетя Даша начинает тихонько плакать, и последнее, что я вижу: Саня берет из ее рук платок и, смеясь, вытирает ей слезы. Поезд трогается, и милый энский вокзал трогается мне навстречу. Все быстрее! Вот и старые нигилистки проплывают мимо меня! Еще минута — и перрон обрывается. Прощай, Энск!
На следующей станции я переменился местами с каким—то почтенным дяденькой, которого устраивала моя нижняя полка, и переехал в Катин вагон. Во—первых, он был светлее, а во—вторых — Катин.
У нее все уже было устроено: на столике лежала чистая салфетка, окно завешено, как будто она сто лет жила в этом вагоне.
Мы оба только что отобедали, но нужно же было посмотреть, что старики положили в наши корзины.
В общем, Катина корзина все—таки побила мою. В ней оказались яблоки — чудесные зимние яблоки из собственного сада! Мы съели по яблоку и угостили соседа, маленького, небритого, сине—черного мужчину в очках, который все гадал, кто мы такие: брат и сестра — не похожи! Муж и жена — рановато!
Был уже третий час, и небритый сосед храпел во всю мочь, положив на нос маленький крепкий кулак, а мы с Катей все еще стояли и разговаривали в коридоре. Мы писали пальцами по замерзшему стеклу — сперва инициалы, а потом первые буквы слов.
— Как в «Анне Карениной», — сказала Катя.
Но, по—моему, это было ничуть не похоже на «Анну Каренину» и вообще ни на что не похоже.
Катя стояла рядом со мной и была какая—то новая. Она была причесана по—взрослому, на прямой пробор, и из—под милых темных волос выглядывало удивительно новое ухо. Зубы тоже были новые, когда она смеялась. Никогда прежде она так свободно и вместе с тем гордо не поворачивала голову, как настоящая красивая женщина, когда я начинал говорить! Она была новая, и снова совершенно другая, и я чувствовал, что страшно люблю ее — ну, просто больше всего на свете!
Вдруг становились видны за окнами ныряющие и взлетающие провода, и темное поле открывалось, покрытое темным снегом. Не знаю, с какой быстротой мы ехали, должно быть не больше сорока километров в час, но мне казалось, что мы мчимся с какой—то сказочной быстротой. Все было впереди. Я не знал, что ждет меня. Но я твердо знал, что это — навсегда, что Катя — моя, и я — ее на всю жизнь!
Глава 16. ЧТО МЕНЯ ОЖИДАЛО В МОСКВЕ.
Представьте себе, что вы возвращаетесь в свой родной дом, где провели полжизни, — и вдруг на вас смотрят с удивлением, как будто вы не туда попали. Такое чувство я испытал, вернувшись в школу после Энска.
Первый человек, которого я встретил еще в раздевалке, был Ромашка. Он перекосился, увидев меня, а потом улыбнулся.
— С приездом! — злорадно сказал он. — Апчхи! Ваше здоровье!
Этот подлец был чем—то доволен.
Ребят никого не было — последний день перед началом занятий, — и я прошел на кухню, чтобы поздороваться с дядей Петей. И дядя Петя встретил меня довольно странно.
— Ничего, брат, бывает, — шепотом сказал он.
— Дядя Петя, да что случилось?
Как будто не слыша меня, дядя Петя всыпал в котел пригоршню соли и замер. Он нюхал пар.
Кораблев мелькнул в коридоре, и я побежал за ним.
— Здравствуйте, Иван Павлыч!
— А, это ты? — серьезно отвечал он. — Зайди ко мне. Мне нужно с тобой поговорить.
Портрет молодой женщины стоял у Кораблева на столе, и я не сразу узнал Марью Васильевну — что—то уж слишком красива! Но я присмотрелся: на ней была коралловая ниточка, та самая, в которой Катя была у нас на балу. Мне стало веселее, когда я разглядел эту ниточку. Это был как бы привет от Кати…
Кораблев пришел, и мы стали говорить.
— Иван Павлыч, в чем дело?
— Дело в том, — не торопясь отвечал Кораблев, что тебя собираются исключить из школы.
— За что?
— А ты не знаешь?
— Нет.
Кораблев сурово посмотрел на меня.
— Вот это уж мне не нравится.
— Иван Павлыч! Честное слово!
— За самовольную отлучку на девять дней, — загнув палец, сказал Кораблев. — За оскорбление Лихо. За драку.
— Ах, так! Прекрасно, — возразил я очень спокойно. — Но, прежде чем исключать, будьте любезны выслушать мои объяснения.
— Пожалуйста.
— Иван Павлыч, — начал я торжественно. — Вы хотите знать, за что я дал в морду Ромашке?
— Без «морд», — сказал Кораблев
— Хорошо, без «морд». Я дал ему в морду потому, что он подлец. Во—первых, он рассказал Татариновым насчет меня и Кати. Во—вторых, он подслушивает, что ребята говорят о Николае Антоныче, а потом ему доносит. В—третьих, он без спросу рылся в моем сундучке. Это был форменный обыск. Ребята видели, как я его застал, и это верно — я его ударил. Я сознаю, что неправильно, особенно ногой, но ведь я тоже человек, а не камень. У меня сердце не выдержало. Это может с каждым случиться.
— Так. Дальше.
— Насчет Лихо вы уже знаете. Пускай он сперва докажет, что я — идеалист. Вы прочитали сочинение?
— Прочитал. Плохое.
— Ну, пусть плохое, но идеализм там и не ночевал, за это я могу поручиться.
— Допустим. Дальше.
— А дальше что же? Все.
— Нет, не все. Да ты знаешь, что тебя через милицию искали?
— Иван Павлыч… Ну, это верно. Я, правда, Вальке сказал, но пускай это не считается, ладно. Так неужели за то, что я на каникулах уехал — и куда же? — на родину, где я восемь лет не был, — меня исключат из школы?
Еще, когда Кораблев сказал насчет милиции, я понял, что без «грома» не обойтись. И не ошибся.
Однажды он уже орал на меня — в четвертом классе; когда Иська Грумант, купаясь, ободрал ногу о камни и я стал лечить его солнечными ваннами и два пальца пришлось отнять. Это был страшный «гром». Теперь он повторился. Выкатив глава, Кораблев кричал на меня, а я только робко говорил иногда:
— Иван Павлыч!
— Молчать!
И он сам умолкал на мгновенье — просто чтобы перевести дыхание…
Таким образом, я постепенно понял, что, действительно, во многом виноват. Но неужели меня исключат? Тогда все на свете прощай! Прощай, летная школа? Прощай, жизнь!
Кораблев замолчал, наконец.
— Ну просто из рук вон! — сказал он.
— Иван Павлыч, — начал я не очень дрожащим, а скорее этаким дребезжащим голосом, — я не стану вам возражать, хотя вы во многом не правы. Но это все равно. Ведь вы не хотите, чтобы меня исключили?
Кораблев молчал.
— Допустим.
— Тогда скажите сами, что я должен сделать.
— Ты должен извиниться перед Лихо.
— Хорошо. Только пускай сначала…
— Да я говорил с ним! — с досадой возразил Кораблев. — Он зачеркнул «идеализм». Но оценка осталась прежней.
— Оценка — пожалуйста. Хотя это неправильно, что я написал на «чрезвычайно слабо». Такой отметки вообще нет. Плохо с минусом, что ли?
— Во—вторых, — продолжал Кораблев, — ты должен извиниться перед Ромашкой.
— Никогда!
— Но ты же сам сказал: «Сознаю, что это неправильно».
— Да, сказал. Можете меня исключать. Я перед ним извиняться не стану.
— Послушай, Саня, — серьезно сказал Кораблев, — мне с большим трудом удалось добиться, чтобы тебя вызвали на заседание педагогического совета. Но теперь я начинаю жалеть, что хлопотал об этом. Если ты явишься и начнешь говорить: «Никогда! Можете исключать!» тебя наверняка исключат, можешь быть в этом совершенно уверен.
Он сказал эти слова с особенным выражением, и я сразу понял, на кого он намекает. Николай Антоныч, вежливый, обстоятельный, круглый, мигом представился мне. Вот кто сделает все, чтобы меня исключили!
— Мне кажется, что ты не имеешь права рисковать своим будущим ради мелкого самолюбия.
— Это не мелкое самолюбие, а честь, Иван Павлыч! — продолжал я с жаром. — Вы что же хотите? Чтобы я смазал историю с Ромашкой, потому что она касается Николая Антоныча, от которого зависит — исключат меня или нет? Вы хотите, чтобы я пошел на такую страшную подлость? Никогда! Я теперь понимаю, почему он станет настаивать на моем исключении! Он хочет избавиться от меня, чтобы я уехал куда—нибудь и больше не виделся с Катей. Как бы не так! Я все скажу на педсовете. Я скажу, что Ромашка — подлец и что только подлец станет перед ним извиняться.
Кораблев задумался.
— Постой, — сказал он. — Ты говоришь, Ромашов подслушивает, что ребята говорят о Николае Антоныче, а потом ему доносит. Но как ты это докажешь?
— У меня есть свидетель — Валька.
— Какой Валька?
— Жуков. Он мне буквально сказал: «Ромашка записывает в книжечку, а потом доносит Николаю Антонычу, что о нем говорят. Донесет, а потом мне рассказывает, Я уши затыкаю, а он рассказывает». Это я вам передаю буквально.
— Гм… интересно, — с живостью сказал Кораблев. — Так что же Валька молчал? Ведь он же, кажется, твой товарищ?
— Иван Павлыч, Ромашка на него влиял. Он на него смотрел ночью, а Валька этого не выносит. Потом он ему не просто так рассказывал, а под честным словом. Конечно, Валька — дурак, что давал ему честное слово, но раз под честным словом, он уже должен был молчать. Верно?
Кораблев встал. Он прошелся, вынул гребенку и стал расчесывать усы, потом брови, потом снова усы. Он думал. У меня сердце стучало, но больше я не говорил ни слова. Пускай думает! Я даже стал дышать потише — так боялся ему помешать.
— Ну, что ж, Саня, ведь ты все равно не умеешь хитрить, — сказал, наконец, Кораблев. — Как ты сейчас мне обо всем этом рассказал, так же расскажешь и на педсовете. Но с условием…
— С каким, Иван Павлыч?
— Не волноваться. Ты, например, сейчас сказал, что Николай Антоныч хочет тебя исключить из—за Кати. Об этом не следует говорить на совете.
— Иван Павлыч! Неужели я не понимаю?
— Ты понимаешь, но слишком волнуешься… Вот, что Саня, давай сговоримся. Я положу руку на стол — вот так, ладонью, вниз, а ты говори и на нее посматривай. Если я стану похлопывать по столу, — значит, волнуешься. Если нет, — нет.
— Ладно, Иван Павлыч. Спасибо. А когда заседание?
— Сегодня в три. Но тебя вызовут позже.
Он попросил меня прислать к нему Вальку, и мы расстались.
Глава 17. ВАЛЬКА.
Стараясь не очень волноваться, я на всякий случай уложил свои вещи, чтобы сразу уйти, если меня исключат. Потом прочитал стенгазету — обо мне ни слова, стало быть, этот вопрос не стоял на бюро. Или на каникулах не было ни одного заседания?
Это была самая страшная мысль: меня исключат не только из школы — из комсомола. В самом деле! Что ребята знают об этой истории? Что я ворвался в спальню, избил Ромашку и, никому не сказавшись, уехал в Энск? Конечно, я запятнал себя как комсомолец. Я обязан был объяснить свое поведение. Поздно!
Весь день я с тоской думал об этом. Комната комсомольской ячейки была закрыта, а из бюро была дома только Нинка Шенеман. Я ее не любил, и мне не хотелось говорить с ней о таком деле. По—моему, она была дура.
Я ждал Вальку, но время шло, а он не приезжал. Конечно, он был в Зоопарке! Я оставил ему мрачную записку — на случай, если разойдемся, и поехал на Пресню.
На этот раз я не сразу нашел его.
— Жуков у профессора, — сказал мне мальчик лет пятнадцати, немного похожий на Вальку, с таким же добрым и немного сумасшедшим лицом.
— А где профессор?
— На обходе.
Я переспросил.
— В парке, на обходе!
До сих пор я думал, что профессора делают обходы только в больницах. Но мальчик терпеливо объяснил мне, что не только в больницах, еще в зоопарках, и что в данном случае профессор обходит не больных, а зверей.
— Впрочем, случается, что и звери хворают, — добавил он подумав. — Хотя, разумеется, реже, чем люди.
Это был известный профессор Р., о котором Валька прожужжал мне все уши. Я сразу понял, что это — он, опять—таки потому, что он был тоже похож на Вальку, только на старого Вальку: с большим носом, в больших очках, в длинной шубе и в высокой каракулевой шапке.
Он стоял у обезьяньего флигеля, и вокруг него толпилось довольно много народу в белых халатах, надетых поверх пальто. Весь этот народ как бы стремился к нему, точно каждому хотелось о чем—нибудь ему рассказать. Но слушал он одного только Вальку, именно Вальку, и даже вынул из—под шапки большое морщинистое ухо.
Я остановился поодаль. Видно было, как Валька волнуется, моргает. «Молодец», — подумал я, сам не зная почему.
Он довольно долго говорил, а профессор все слушал и уже тоже стал моргать и внимательно шмыгать носом. Один раз он открыл рот и хотел, кажется, что—то возразить, но Валька энергично, сердито сунулся к нему, и профессор послушно закрыл рот.
Наконец Валька кончил, и профессор спрятал ухо и задумался. И вдруг, с каким—то веселым удивлением он хлопнул Вальку по плечу и заржал, совершенно как лошадь; все, громко разговаривая, двинулись дальше, а Валька остался стоять с идиотским, восторженным видом. Вот тут—то я его и окликнул:
— Валя!
— А, это ты!
Никогда еще я не видел его в таком волнении. У него даже слезы стояли в глазах. Он растерянно улыбался.
— Что с тобой?
— А что?
— Ты плачешь?
— Что ты врешь! — отвечал Валька.
Он вытер кулаком глаза и радостно, глубоко вздохнул.
— Валька, что случилось?
— Ничего особенного. Я в последнее время занимался змеями, и мне удалось доказать одну интересную штуку.
— Какую штуку?
— Изменение крови у гадюк в зависимости от возраста.
Я посмотрел на него с изумлением. Плакать от радости, что кровь у гадюк меняется в зависимости от возраста? Это не доходило до моего сознания.
— Поздравляю, — сказал я. — Мне нужно с тобой поговорить. Как ты? В состоянии?
— В состоянии.
Мы прошли к мышам.
— Ты знаешь, что меня хотят исключить из школы?
Должно быть, Валька знал об этом, но совершенно забыл, потому что он сперва широко открыл глаза, а потом хлопнул себя по лбу и сказал:
— Ах, да! Знаю!
— Это обсуждалось на бюро?
У меня был немного хриплый голос. Валька кивнул.
— Решили подождать, пока ты вернешься.
У меня отлегло от сердца.
— Ты написал насчет Ромашки в ячейку?
Валька отвел глаза.
— Видишь ли, — пробормотал он, — я не написал, а просто сказал ему, что если он еще будет приставать, тогда напишу. Он сказал, что больше не будет.
— Вот как! Значит, тебе наплевать, что меня исключают из школы?
— Почему? — с ужасом спросил Валька.
— Потому, что ты один мог бы подтвердить, что я бил его не только по личным причинам. А ты трус, и эта трусость переходит в подлость. Ты просто боишься за меня заступиться!
Это было жестоко — говорить Вале такие слова. Но я был страшно зол на него. Я считал, что Ромашка — общественно—вредный тип, с которым нужно бороться.
— Я сегодня подам, — упавшим голосом сказал Валька.
— Ладно, — отвечал я сухо. — Только имей в виду, я тебя об этом не прошу. Я только считаю, что это твой долг как комсомольца. А теперь вот что: тебя просил зайти Кораблев.
— Когда?
— Сейчас.
Он стал клянчить хоть четверть часа, чтобы покормить какую—то пятнистую жабу, но я, не слушая, надел на него пальто и отвез к Кораблеву…
Очень сердитый, он вернулся через полчаса и долго сопел, гладя себя по носу пальцем. Оказывается, Кораблев спросил его, правда ли, что он не любит, когда на него смотрят ночью. Это его поразило.
— И я не понимаю, откуда он это узнал! Это ты сказал ему, скотина?
— Нет, не я, — соврал я.
— Главное, он спрашивает: «А если на тебя смотрят с любовью?»
— Ну?
— Я сказал, что «тогда не знаю…»
В половине шестого за мной пришел сторож.
— Григорьев, пожалуйста, просят на педсовет, вежливо сказал он.
Глава 18. СЖИГАЮ КОРАБЛИ.
Это было самое обыкновенное заседание в нашей тесной учительской, за столом, покрытым синей суконной скатертью с оборванными кистями. Но мне казалось, что все смотрят на меня с каким—то таинственным, значительным видом. Серафима была в ботах, и даже это смутно представлялось мне какой—то загадкой. Кораблев смеялся, когда я вошел, и я подумал: «Нарочно!»
— Ну—с, Григорьев, — мягко начал Николай Антоныч, — ты, разумеется, знаешь, по какому поводу мы вызвали тебя на это заседание. Ты огорчил нас — и не только нас, но, можно сказать, всю школу. Огорчил дикими поступками, недостойными человеческого общества, в котором мы живем и развитию которого должны способствовать по мере своих сил и возможностей.
Я сказал:
— Прошу мне задавать вопросы.
— Николай Антоныч, позвольте, — живо сказал Кораблев. — Григорьев, расскажи, пожалуйста, где ты провел эти девять дней, с тех пор как убежал из дому?
— Я не убежал, а уехал в Энск, — отвечал я хладнокровно. — Там живет моя сестра, которую я не видел около восьми лет. Это может подтвердить судья Сковородников, у которого я останавливался, — Гоголевская, тринадцать, дом бывший Маркузе.
Если бы я прямо сказал: эти девять дней были проведены с Катей Татариновой, которую отправили в Энск, чтобы мы хоть на каникулах не встречались, — и тогда мои слова не произвели бы большего впечатления на Николая Антоныча! Он побледнел, замигал и кротко наклонил голову набок.
— Почему же ты никого не предупредил о своем отъезде? — спросил Кораблев.
Я отвечал, что считаю себя виновным в нарушении дисциплины и даю обещание, что этого больше не будет.
— Прекрасно, Григорьев, — сказал Николай Антоныч. — Вот это прекрасный ответ. Остается пожелать, чтобы ты так же удовлетворительно объяснил и другие свои поступки.
Он ласково смотрел на меня. У него было удивительное самообладание.
— Теперь расскажи нам о том, что у тебя произошло с Иваном Витальевичем Лихо.
До сих пор не могу понять, почему, рассказывая историю своих отношений с Лихо, я ни словом не упомянул об «идеализме». Должно быть, я считал, что раз Лихо снял это обвинение, нечего о нем и говорить. Это было страшной ошибкой. Кроме того, не стоило упоминать, что я пишу сочинения без «критиков». Это никому не понравилось. Кораблев нахмурился и положил руку на стол.
— Критики ты, значит, не любишь? — кротко сказал Николай Антоныч. — Что же ты сказал Ивану Витальевичу? Повтори дословно.
Перед всем педагогическим советом повторить то, что я сказал Лихо! Это было невозможно! Не будь Лихо такой болван, он сам отвел бы этот вопрос. Но он только смотрел на меня с торжествующим видом.
— Ну—с! — провозгласил Николай Антоныч.
— Николай Антоныч, позвольте мне, — возразил Кораблев. — Нам известно, что он сказал Ивану Витальевичу. Хотелось бы знать, чем Григорьев объясняет свое поведение.
— Виноват, виноват, — сказал Лихо. — А я требую, чтобы он повторил! Я даже в школе Достоевского, от дефективных, таких вещей не слышал.
Я молчал. Если бы я умел читать мысли на расстоянии, то, верно, прочитал бы у Кораблева в глазах: «Саня, скажи, что ты обиделся за „идеализм“. Но я не умел.
— Ну! — снисходительно повторил Николай Антоныч.
— Не помню, — пробормотал я.
Это было глупо, потому что всем сразу стало ясно, что я соврал. Лихо зафыркал.
— Сегодня он меня за плохую отметку обругал, а завтра зарежет, — сказал он. — Хулиганство какое!
Мне снова, как тогда на лестнице, захотелось ударить его ногой, но я, разумеется, удержался. Стиснув зубы, я молчал и смотрел на руку Кораблева. Рука поднялась, слегка похлопала по столу и спокойно легла на прежнее место.
— Конечно, сочинение плохое, — сказал я, стараясь не волноваться и думая с ненавистью о том, как бы выбраться из этого глупого положения. — Может быть, не на «чрезвычайно слабо», потому что такой отметки вообще нет, но я сознаю, что неважное. В общем, если совет постановит, чтобы я извинился, я, ладно, извинюсь.
Очевидно, и это было глупо. Все зашумели, как будто я сказал невесть что, и Кораблев взглянул на меня с откровенной досадой.
— Да, Григорьев, — неестественно улыбаясь, сказал Николай Антоныч. — Стало быть, ты готов извиниться перед Иваном Витальевичем только в том случае, если по этому поводу состоится постановление совета. Иными словами, ты не считаешь себя виновным. Ну что ж! Примем к сведению и перейдем к другому вопросу.
«…Рисковать своим будущим ради мелкого самолюбия», — припомнилось мне.
— Извиняюсь, — повернувшись к Лихо, сказал я неловко.
Но Николай Антоныч уже снова заговорил, и Лихо сделал вид, что не слышит.
— Скажи, Григорьев: вот ты дико избил Ромашова. Ты бил его ногами по лицу, причинив таким путем тяжкие увечья, заметно отразившиеся на здоровье твоего товарища Ромашова. Чем ты объясняешь это поведение, неслыханное в стенах нашей школы?
Кажется, больше всего я ненавидел его в эту минуту за то, что он говорил так длинно и кругло. Но рука Кораблева выразительно поднялась над столом, и я перестал волноваться.
— Во—первых, я не считаю Ромашова своим товарищем. Это было бы для меня позором — такой товарищ! Во—вторых, я ударил его только один раз. А в—третьих, что—то незаметно, что у него стало плохое здоровье.
Все зашумели с возмущением, но Кораблев чуть заметно кивнул головой.
— Мое поведение можно объяснить так, — продолжал я все более спокойно. — Я считаю Ромашова подлецом и могу доказать это когда угодно. Нужно было не бить его, а устроить общественный суд и позвать всю школу.
Николай Антоныч хотел остановить меня, но я не дал.
— Ромашов — это типичный нэпман, который говорит только о деньгах и думает только об одном: как бы разбогатеть! У кого всегда можно достать деньги под залог? — У Ромашова! У кого девчонки достают пудру и губную помаду? — У Ромашова! Он купит коробку пудры, а потом продает по щепотке. Это общественно—вредный тип, который портит всю школу.
Дальше я все время говорил в такой же форме, как будто и точно выступал общественным обвинителем на суде. Иногда моя речь была чем—то похожа на речи Гаера Кулия, но мне некогда было думать об этом сходстве.
— Но это еще не все! Я утверждаю, что Ромашов психологически влияет на более слабых ребят, с тем, чтобы взять их в свои руки. Если нужен пример, — пожалуйста! Валя Жуков. Ромашов воспользовался тем, что Валя нервный, и запугал его всяким вздором. Что он делает с ним? Он сперва берет с него честное слово, а потом рассказывает ему о своих подлых секретах. Я был просто поражен, когда узнал об этом. Комсомолец, который дает честное слово, что никому не расскажет, — о чем же? О том, чего он еще и сам не слыхал! Как это называется? Но это еще не все!
Кораблев давно уже похлопывал ладонью по столу. Но я больше не думал, волнуюсь я или нет. Мне казалось, что я ничуть не волнуюсь.
— Это еще не все! Я вас спрашиваю, — сказал я громко и обернулся к Николаю Антонычу, — мог ли существовать в нашей школе такой Ромашов, если бы у него не было покровителей? Не мог бы! И они есть у него! По крайней мере, мне известен один из них — Николай Антоныч!
Это было здорово сказано! Я сам не ожидал, что мне удастся так смело сказать! Все молчали, весь педагогический совет, и ждали — что—то будет. Николай Антоныч засмеялся и побледнел. Впрочем, он всегда немного бледнел, когда смеялся.
— Как это доказать? Очень просто. Николай Антоныч всегда интересовался, что о нем говорят в нашей школе. Не знаю, зачем ему это нужно! Факт тот, что для этой цели он нанял Ромашова. Я говорю: именно нанял, потому что Ромашов ничего не станет делать бесплатно. Он его нанял, и Ромашов стал подслушивать, что в школе говорят о Николае Антоныче, и доносить ему, а потом он брал с Жукова честное слово и рассказывал ему о своих доносах. Вы можете спросить меня: что же ты молчал. Я узнал об этом накануне отъезда, и Жуков тогда же обещал написать об этом в ячейку, но сделал это только сегодня.
Я замолчал. Кораблев снял руку со стола и с интересом обернулся к Николаю Антонычу. Впрочем, только он один держал себя так свободно. Остальным педагогам было как—то неловко.
— Ты кончил свои объяснения, Григорьев? — ровным голосом, как будто ничего не случилось, сказал Николай Антоныч.
— Да, кончил.
— Может быть, вопросы?
— Николай Антоныч, — любезно сказал Кораблев, я полагаю, что мы можем отпустить Григорьева. Может быть, мы пригласим теперь Жукова или Ромашова?
Николай Антоныч расстегнул верхнюю пуговицу жилета и положил руку на сердце. Он еще больше побледнел, и редкая прядь волос, зачесанная на затылок, вдруг отстала и свесилась на лоб. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Все бросились к нему. Так кончилось заседание.
Глава 19. СТАРЫЙ ДРУГ.
В школе только и говорили о моей речи на педсовете, и я поэтому был очень занят. Было бы преувеличением сказать, что я чувствовал себя героем. Но все—таки девочки из соседних классов приходили смотреть на меня и довольно громко обсуждали мою наружность. Впервые в жизни мне был прощен маленький рост. Оказалось даже, что я чем—то похож на Чарли Чаплина. Таня Величко, которую очень уважали в школе, подошла и сказала, что на каникулах она систематически выступала против меня, а теперь считает, что я правильно дал Ромашову в морду.
— Но ты должен был сперва доказать, что он — общественно—вредный тип, — сказала она разумно.
Словом, я был неприятно удивлен, когда в разгар моей славы комсомольская ячейка вынесла мне строгий выговор с предупреждением. Педагогический совет не собирался из—за болезни Николая Антоныча, но Кораблев сказал, что меня могут перевести в другую школу.
Это было не очень весело и, главное, как—то несправедливо! С постановлением ячейки я был согласен. Но переводить меня в другую школу! За что? За то, что я доказал, что Ромашка подлец? За то, что я уличил Николая Антоныча, который ему покровительствовал? В таком—то невеселом настроении я сидел в библиотеке, когда кто—то спросил в дверях громким шепотом:
— Который?
И я увидел на пороге длинного рыжего парня с шевелюрой, вопросительно смотревшего на меня.
Рыжие вообще любят носить шевелюру, но у этого парня она была какая—то дикая, как в учебнике географии у первобытного человека. Интересно, что сперва я подумал именно об этом, а уже потом понял, что это Петька — Петька Сковородников собственной персоной стоит на пороге нашей библиотеки и смотрит на меня с удивленным выражением. Я вскочил и бросился к нему, роняя стулья.
— Петя!
Мы пожали друг другу руки, а потом подумали и обнялись.
— Петя, ну как ты? Жив, здоров? Как же мы с тобой не встретились, ни разу!
— Это ты виноват, бес—дурак! — ответил Петька. — Я тебя по всему свету искал. А ты вот где приютился!
Он был очень похож на свою карточку, которую я видел у Сани, только на карточке он был причесан. Как я был рад! Я не чувствовал ни малейшей неловкости — точно встретился с родным братом.
— Петька! Черт возьми, ты молодец, что пришел! У меня твои письма! Вот!
Я отдал ему письма.
— Как ты меня нашел? Из Энска написали?
— Ага! Я тебя давно жду. Думаю: не идет, подлец. Ну, как старики?
— Старики на ять, — отвечал я.
Он засмеялся.
— Я думал, что ты в Туркестане живешь. Что ж ты? Так и не добрался?
— А ты?
— А я был, — сказал Петька. — Но мне не понравилось. Знаешь, жара, все время пить хочется, в тюрьму меня посадили, я соскучился и вернулся. Ты бы там подох.
Я провел его в спальню, но ребята обступили нас и стали смотреть прямо в рот, — и вдруг оказалось, что у нас в школе поговорить просто негде!
— А пошли на улицу, — предложил Петька. — Погода хорошая, почему не пройтись? А то ко мне?
— Ты один живешь?
Он показал на пальцах: вдвоем.
— Женился?
Он погрозил мне кулаком.
— С товарищем.
Мы взяли на дорогу по огромному куску энского пирога, оделись и стали спускаться по лестнице, разговаривая с набитыми ртами. И вот тут произошла очень странная встреча.
На площадке первого этажа, у географического кабинета, стояла женщина в шубке с беличьим воротником, Она стояла у перил и смотрела вниз, в пролет, — мне сперва показалось, что она собирается броситься в пролет, — она покачивалась у перил с закрытыми глазами. Но мы, должно быть, испугали ее, и она нерешительно подошла к двери. Это была Марья Васильевна, я сразу узнал ее, хотя у нее был незнакомый вид. Очень может быть, что, если бы я был один, она бы заговорила со мной. Но я был с Петькой и, кроме того, ел в эту минуту пирог, и она только молча кивнула в ответ на мой неловкий поклон и отвернулась.
Она похудела с тех пор, как я видел ее в последний раз, и лицо было неподвижное, мрачное… Думая об этом, я вышел на улицу, и мы с Петькой пошли гулять — опять вдвоем, опять зимой, в Москве, после долгой разлуки.
Удивительно, как Петина история была похожа на мою! Я слушал его с грустным чувством, как будто вспоминал старую книгу, прочитанную еще в детстве и пережитую с горечью и волнением. Но странно! Мне показалось, что тогда мы были опытнее, старше… Как будто мы были маленькими стариками.
В Ташкенте Петька прославился как гроза уток — не диких, разумеется, а домашних. Он выгонял уток на берег, а потом откручивал им головы и жарил на костре в саду детского дома. За это его, в конце концов, посадили в тюрьму, где он на всю жизнь получил отвращение к абрикосам: в тюрьме кормили отжимками абрикосов — на завтрак, на обед и на ужин. Потом его отпустили, он вернулся в Москву и попал в облаву на Казанском вокзале. В школу он поступил годом позже и догнал меня только в прошлом году, шагнув через класс.
— А помнишь: «Пфе! А, пфе! Як смиешь так робиць!»
— Ага! А помнишь: «Кто изменит этому честному слову, не получит пощады, пока не сосчитает, сколько деревьев в лесу, сколько падает с неба…»
Я сказал клятву до конца.
— Хорошо! — сказал с наслаждением Петька. — Хорошая клятва! Бороться и искать, найти и не сдаваться. А помнишь?
— А помнишь, — перебил я, — как мы твоего дядю искали? Кстати, где он? Ты его нашел?
Оказалось, что дядя умер на фронте от сыпного тифа.
— А помнишь?..
Так мы все время и говорили: «А помнишь…» Мы шли почему—то очень быстро, снег летел, на бульварах было много детей, и одна молоденькая няня посмотрела на нас и засмеялась.
— Стой! Зачем мы так бежим? — спросил Петька, и мы пошли помедленнее.
— Петя, есть предложение, — сказал я, когда, нагулявшись, мы сидели в кафе на Тверской.
— Давай!
— Я сейчас пойду звонить по телефону, а ты сиди, пей кофе и молчи.
Он засмеялся.
— Смешно! — сказал он. Я заметил, что он любит говорить «смешно» и «бес—дурак».
Телефон был далеко от нашего столика, у самого входа, и я нарочно говорил громко.
— Катя, мне очень хочется вас познакомить. Приходи, а? Что ты делаешь? Мне, между прочим, необходимо с тобой поговорить.
— Мне тоже. Я бы пришла. Но у нас все больны.
У нее был грустный голос, и мне вдруг страшно захотелось ее увидеть.
— Как все? Я только что видел Марью Васильевну.
— Где?
— Она шла к Кораблеву.
— А—а… — каким—то странным голосом сказала Катя. — Нет, бабушка больна.
— А что с ней?
— Да с табуретки упала, — с досадой сказала Катя. — Полезла зачем—то на полку и грохнулась. Теперь бок болит. Просто беда с ней! И не лежит ни минуты… Саня, я отдала письма, — вдруг шепотом сказала Катя, и я невольно плотнее прижал трубку к уху. — Я сказала, что ты был со мной в Энске, а потом отдала.
— Ну? — тоже шепотом спросил я.
— Очень плохо. Я тебе потом расскажу. Очень плохо.
Она замолчала, и я услышал по телефону ее дыхание.
Мы простились, и я вернулся к столику с таким чувством, как будто я очень виноват перед ней. Мне стало грустно и как—то тревожно на душе, и Петька, кажется, понял это с первого взгляда.
— Послушай, — сказал он. Он нарочно заговорил о другом. — Ты советовался с отцом насчет летной школы?
— Да.
— А он?
— Одобрил.
Петька помолчал. Он сидел, вытянув длинные ноги, и задумчиво трогал пальцами те места, где должны били со временем вырасти борода и усы.
— Мне тоже нужно с ним поговорить, — заметил он запинаясь. — Понимаешь, я в прошлом году хотел идти в Академию художеств.
— Ну?
— А в этом — раздумал.
— Почему?
— А вдруг таланта не хватит?
Я засмеялся. Но у него был серьезный, озабоченный вид.
— Вообще, если на то пошло, это странно, что ты идешь в Академию художеств. Мне всегда казалось, что ты станешь каким—нибудь путешественником или капитаном!
— Конечно, это интереснее, — нерешительно сказал Петя. — Но что же делать, если у меня талант?
— А ты кому—нибудь свои работы показывал?
— Показывал… …ову.
Он назвал фамилию известного художника.
— Ну?
— Говорит — ничего.
— Ну, тогда баста! Придется идти! Это, брат, было бы свинство, если бы ты с твоим талантом пошел куда—нибудь в летную школу! Может, ты в себе будущего Репина загубишь.
— Да нет, едва ли.
— А вдруг?
— Бес—дурак, ты смеешься, — с досадой сказал Петька. — Серьезный вопрос!
Мы расплатились, вышли, с полчаса бродили по Тверской, разговаривая обо всем сразу, — перелетая из Энска в Шанхай, который тогда был только что взят Народной армией, из Шанхая в Москву, в мою школу, а из моей школы в Петькину, — и стараясь доказать друг другу, что мы живем на свете не просто так, а философски целесообразно.
В кино «Арс» шло «Падение Романовых», мы остановились посмотреть фото. Все офицеры в свите были похожи на царя. Он сидел в большом смешном автомобиле, похожем на пролетку с откидывающимся верхом, и любезно улыбался.
— Да, черт возьми, — вздохнув, сказал Петька, — положение отчаянное!
— А давай я тебе прямо скажу, есть у тебя талант или нет.
— Много ты понимаешь!
— А понимаю!
И мы пошли к нему.
До прошлого года Петька, как и я, жил в детдоме.
Потом ему повезло: он подружился с одним рабфаковцем, у которого была комната на Собачьей Площадке, и они стали жить вместе. Фамилия рабфаковца была Хейфец, и он спал, когда мы пришли.
— Вот, — сказал Петька и, сняв лампочку, висевшую на спинке кровати, осветил одну из картин, которыми были увешаны довольно грязные стены. Я посмотрел сперва невооруженным глазом, потом сощурившись и через кулак.
Это был портрет — я сразу догадался чей: Петькиного приятеля Хейфеца, который как раз в эту минуту открыл глаза, потревоженный передвижением света, и сразу опять заснул, вздохнув и закрыв лицо рукою. Это был чудный портрет: задумчивые детские глаза и решительный лоб с прямыми, сросшимися бровями.
— Тушь?
— Да почти вода! — грустно отвечал Петька.
Портрет, был сделан слабой тушью, но с каким чувством контраста между черным и белым, как свободно!
— Да—а, — сказал я с невольным уважением. — Ну—ка, покажи еще что—нибудь!
Все остальные картины — это была моя сестра Саня. Саня в лодке и Саня у плиты, Саня в украинском костюме и Саня, как бабушка, в своем желтом меховом тулупе.
Я невольно вспомнил, как Саня смутилась, когда я спросил, нет ли у нее Петькиной карточки, и как быстро принесла ее — точно вышла за дверь и вынула карточку из кармана. Ну что ж! Подходяще, как говорит судья. Недаром Саня тоже собирается в Академию художеств!
Нужно отдать Петьке справедливость — он не старался сделать Саню лучше, чем она была на самом деле. Но он был склонен подчеркивать в ее лице монгольские черты: узковатый разрез глаз, широкие скулы и взгляд, какой—то восточный, татарский. Быть может, поэтому на некоторых полотнах она была так необыкновенно похожа на мать.
Некоторые Сани были нарисованы хуже, чем Хейфец, но Саня у плиты — снова здорово. Особенно плита: все так и кипело в горшках, белые маленькие катышки катились, кипели.
— Ну, брат, ничего не поделаешь!
— А что?
— Талант!
Петька вздохнул.
— Ну что художник! — сказал он. — Я тебе скажу откровенно, что я рисовать даже не люблю. Раньше любил, а теперь совершенно нет.
— Балда, да ведь это же редчайшая вещь!
— Да почему редчайшая? — с досадой возразил Петька. — Ты вот хочешь быть летчиком. Тебе это интересно. А мне рисовать — неинтересно.
— Тише, разбудишь.
— Да, разбудишь его, — сердито глядя на рабфаковца, сказал Петька.
— Ты с ним советовался?
— Он говорит, что я — больной.
Я засмеялся.
— А ведь были же такие случаи, — сказал Петька. — Например, Чехов. Доктор — и писатель.
— Были. Я бы на твоем месте знаешь что сделал?
— Ну?
— Пошел бы в летчики и полетал лет двадцать. А потом стал рисовать.
— Разучишься, забудешь!
Я просидел у Пети до позднего вечера, и Хейфец так и не проснулся. Мы пробовали разбудить его, но он только засмеялся во сне, как ребенок, и перевернулся на другой бок.
Глава 20. ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ.
Прошли те далекие времена, когда, возвращаясь после десяти часов домой, мы должны были с бьющимся сердцем обходить грозного Яфета, который в огромной шубе сидел на табурете перед входной дверью и спал — хорошо, если спал. Теперь я был выпускной, и мы могли возвращаться когда угодно.
Впрочем, было еще не так поздно — около двенадцати. Ребята еще болтали. Валя что—то писал, сидя на кровати с поджатыми ногами.
— Саня, тебя просил зайти Иван Павлыч, — сказал он. — Если ты придешь до двенадцати. Сейчас который?
— Половина.
— Вали!
Я накинул пальто и побежал к Кораблеву.
Это был необыкновенный и навсегда запомнившийся мне разговор, — и я должен передать его совершенно спокойно. Я не должен волноваться, особенно теперь, когда, прошло так много лет. Разумеется, все могло быть иначе. Все могло быть иначе, если бы я понял, какое значение имело для нее каждое мое слово, если бы я мог предположить, что произойдет после нашего разговора… Но этих «если бы» — без конца, а мне не в чем ни оправдываться, ни виниться. Итак, вот этот разговор.
Когда я пришел к Кораблеву, у него была Марья Васильевна. Она просидела у него весь вечер. Но она пришла не к нему, а ко мне, именно ко мне, и с первых же слов сказала мне об этом.
Она сидела выпрямившись, с неподвижным лицом и иногда поправляла узкой рукой прическу. На столе стояло вино и печенье, и Кораблев наливал и наливал себе, а она только раз пригубила и так и не допила свою рюмку. Все время она курила, и везде был пепел — и у нее на коленях. Знакомая коралловая нитка была на ней, и несколько раз она слабо оттянула ее — как будто нитка ее душила. Вот и все.
— Штурман пишет, что не рискует посылать это письмо почтой, — сказала она. — А между тем оба письма оказались в одной почтовой сумке. Как ты это объясняешь?
Я отвечал, что не знаю и что об этом нужно спросить штурмана, если он еще жив.
Марья Васильевна покачала головой.
— Если бы он был жив!
— Может, его родные знают. Потом, Марья Васильевна, — сказал я с неожиданным вдохновением, — ведь штурмана подобрала экспедиция лейтенанта Седова. Вот кто знает. Он им все рассказал, я в этом уверен.
— Да, может быть, — отвечала Марья Васильевна.
— Потом этот пакет для Гидрографического управления. Ведь если штурман отправил письма почтой, наверно, он и пакет той же почтой отправил. Нужно узнать.
Марья Васильевна снова сказала:
— Да.
Я замолчал. Я один говорил, Кораблев еще не проронил ни слова. Я не могу объяснить, с каким выражением он смотрел на Марью Васильевну. Вдруг он вставал из—за стола и начинал расхаживать по комнате, сложив руки на груди и приподнимаясь на цыпочках. Он был очень странный в этот вечер — какой—то летящий, точно на крыльях. Так и казалось, что усы его сейчас распушатся под ветром. Мне это не нравилось. Впрочем, я понимал его: он радовался, что Николай Антоныч оказался таким негодяем, гордился, что предсказал это, немного боялся Марьи Васильевны и страдал, потому что она страдала. Но больше всего он радовался, и это было мне почему—то противно.
— Что же ты делал в Энске? — вдруг спросила меня Марья Васильевна. — У тебя там родные?
Я отвечал, что — да, родные. Сестра.
— Я очень люблю Энск, — заметила Марья Васильевна, обращаясь к Кораблеву. — Там чудесно. Какие сады! Я потом уже не бывала в садах, как уехала из Энска.
И она вдруг заговорила об Энске. Она зачем—то рассказала, что у нее там живут три тетки, которые не верят в бога и очень гордятся этим, и что одна из них окончила философский факультет в Гейдельберге. Прежде она не говорила так много. Она сидела бледная, прекрасная, с блестящими глазами и курила, курила.
— Катя говорила, что ты вспомнил еще какие—то фразы из этого письма, — сказала она, вдруг забыв о тетках, об Энске. — Но я никак не могла от нее добиться, что это за фразы.
— Да, вспомнил.
Я ждал, что она сейчас попросит меня сказать эти фразы, но она молчала, как будто ей страшно было услышать их от меня.
— Ну, Саня, — бодрым фальшивым голосом произнес Кораблев.
Я сказал:
— Там кончалось: «Привет от твоего…» Верно?
Марья Васильевна кивнула.
— А дальше было так: «…от твоего Монготимо Ястребиный Коготь…»
— Монготимо? — с изумлением переспросил Кораблев.
— Да, Монготимо, — повторил я твердо.
— «Монтигомо Ястребиный Коготь», — сказала Марья Васильевна, и в первый раз голос у нее немного дрогнул. — Я его когда—то так называла.
Может быть, теперь это кажется немного смешным, что капитана Татаринова она называла «Монтигомо Ястребиный Коготь». Особенно мне смешно, потому что я теперь знаю о нем больше, чем кто—нибудь другой на земном шаре. Но тогда это ничуть не было смешно — этот все время спокойный и вдруг задрожавший голос.
Между прочим, оказалось, что это имя совсем не из Густава Эмара, как думали мы с Катей, а из Чехова. У Чехова есть такой рассказ, в котором какой—то рыжий мальчик все время называет себя Монтигомо Ястребиный Коготь.
— Хорошо, Монтигомо, — сказал я. — А мне помнится — Монготимо… «как ты когда—то меня называла. Как это было давно, боже мой! Впрочем, я не жалуюсь. Мы увидимся, и все будет хорошо. Но одна мысль, одна мысль терзает меня». «Одна мысль» — два раза, это не я повторил, а так и было в письме — два раза.
Марья Васильевна снова кивнула.
— «Горько сознавать, — продолжал я с выражением, — что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас, и первая неудача — ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно, — та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю».
Может быть, я напрасно сделал ударение на последнем слове, потому что Марья Васильевна, которая была очень бледна, побледнела еще больше. Уже не бледная, а какая—то белая, она сидела перед нами и все курила, курила. Потом она сказала совсем странные слова — и вот тут я впервые подумал, что она немного сумасшедшая. Но я не придал этому значения, потому что мне казалось, что и Кораблев был в этот вечер какой—то сумасшедший. Уж он—то, он—то должен был понять, что с ней происходит! Но он совсем потерял голову. Наверное, ему уже мерещилось, что Марья Васильевна завтра выйдет за него замуж.
— После этого заседания Николай Антоныч заболел, — сказала она, обращаясь к Кораблеву. — Я предложила позвать доктора — не хочет. Я не говорила с ним об этих письмах. Тем более, он такой расстроенный. Не правда ли, пока не стоит?
Она была подавлена, поражена, но я все еще ничего не понимал.
— Ах, вот как, не стоит! — возразил я. — Очень хорошо. Тогда я сам это сделаю. Я пошлю ему копию. Пусть почитает.
— Саня! — как будто очнувшись, закричал Кораблев.
— Нет, Иван Павлыч, я скажу, — продолжал я. — Потому что все это меня возмущает. Факт, что экспедиция погибла из—за него. Это — исторический факт. Его обвиняют в страшном преступлении. И я считаю, если на то пошло, что Марья Васильевна, как жена капитана Татаринова, должна сама предъявить ему это обвинение.
Она была не жена, а вдова капитана Татаринова. Она была жена Николая Антоныча и, стало быть, должна была предъявить это обвинение своему мужу. Но и это до меня не дошло.
— Саня! — снова заорал Кораблев.
Но я уже замолчал. Больше мне не о чем было говорить. Разговор наш еще продолжался, но говорить было больше не о чем. Я только сказал, что земля, о которой говорится в письме, это Северная Земля и что, стало быть, Северную Землю открыл капитан Татаринов. Но странно прозвучали все эти географические слова «Долгота, широта» здесь, в этой комнате, в этот час. Кораблев все метался по комнате, Марья Васильевна все курила, и уже целая гора окурков, розовых от ее накрашенных губ, лежала в пепельнице перед нею. Она была неподвижна, спокойна, только иногда слабо потягивала коралловую нитку на шее; точно эта широкая нитка ее душила. Как далека была от нее Северная Земля, лежащая между какими—то меридианами!
Вот и все. Прощаясь, я пробормотал еще что—то, но Кораблев, нахмурясь, пошел прямо на меня, так что я как—то незаметно оказался за дверью.
Глава 21. МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА.
Больше всего меня удивило, что Марья Васильевна ни словом не обмолвилась о Кате. Мы с Катей провели в Энске девять дней. А Марья Васильевна не сказала об этом ни слова.
Это было подозрительное молчание, и я думал о нем ночью, пока не заснул, потом утром на физике, обществоведении и особенно на литературе.
Пожалуй, на литературе мне следовало думать о других вещах, более близких к Гоголю и его бессмертной поэме «Мертвые души», которую мы тогда проходили. Мне следовало быть начеку, потому что Лихо, особенно после педсовета, из шкуры лез, только бы доказать всей школе, что если я не идеалист, так уж во всяком случае, знаю не больше, чем на «чрезвычайно слабо».
Но я почему—то не ждал, что он меня вызовет, и даже вздрогнул, когда он громко назвал мою фамилию.
— Мы слышали, как некоторые ораторы позволяют себе оскорблять заслуженных людей, — сказал он. — Посмотрим же, имеют ли они на это право.
И он спросил, читал ли я «Шинель» Гоголя, как будто таким образом можно было решить этот вопрос.
Здесь еще не было ничего особенного, хотя «Шинель» мы проходили в первой ступени, и это было хамство — спрашивать «Шинель», когда были заданы «Мертвые души». Но я спокойно ответил ему:
— Читал.
— Так—с. А в каком смысле следует понимать слова Достоевского: «Мы все вышли из гоголевской „Шинели“?
Я объяснил, что хотя это сказал Достоевский, но на самом деле из «Шинели» ничего не вышло, а в литературе и в обществе появилась потом совсем другая нота. «Шинель» — это примиренье с действительностью, а литература — например, Лев Толстой — была борьбой с действительностью.
— Ты споришь с Достоевским? — презрительно усмехаясь, спросил Лихо.
Я отвечал, что — да спорю и что спорить с Достоевским — это еще не идеализм.
В классе засмеялись, и Лихо побагровел. Кажется, он сразу хотел поставить мне «неуд», у него даже руки тряслись, но это было неудобно, и для приличия он задал мне еще один вопрос:
— Скажи, кого из героев Гоголя следует считать типом небокоптителя?
Я отвечал, что у Гоголя все герои — небокоптители, кроме типа Тараса Бульбы, который все—таки кое—что сделал согласно своим идеям. Но что Гоголя нельзя за это винить, потому что тогда была такая жизнь.
Лихо вытер пот и поставил мне «неуд».
— Иван Витальевич, я буду требовать, чтобы меня спросили в Академии наук, — сказал я садясь. — Мы с вами расходимся во взглядах на литературу.
Он что—то заквакал, но в это время раздался звонок.
Ребята считали, что в данном случае я был совершенно прав и что Лихо не имел права ставить мне «неуд» за то, что я не согласен с Достоевским, или за то, что я считаю всех гоголевских героев небокоптителями. Валя заметил, что у Гоголя есть еще какой—то положительный тип — помещик Костанжогло из второй части «Мертвых душ», которую Гоголь сжег, но я возразил, что раз сам Гоголь ее сжег, стало быть, не о чем и говорить. Кроме того, помещик не может быть положительным типом. В эту минуту я увидел Петьку.
Это было неожиданно — Петька у нас в школе, на большой перемене!
— Петя, ты что?
— У меня тут дела, — возразил Петька и засмеялся.
— Какие дела?
— Разные. Вот хочу с тобой поговорить.
— О чем?
— Насчет Репина. Ты вчера говорил ерунду. Репин не мог не рисовать, и если бы ты ему предложил пойти в летную школу, он бы знаешь, куда тебя послал?
Я смотрел на него во все глаза.
— Вот ты, оказывается, какой!
— А что?
— Правда, больной.
Петька нахмурился.
— Нет, — сказал он с досадой. — Я тебя серьезно спрашиваю.
— Я тебя тоже серьезно спрашиваю, почему ты не в школе?
— Я сегодня мотаю, — быстро сказал Петька. — Мне нужно это обдумать, а в школе я не могу думать. Мешают.
Перемена кончилась, но он сказал, что подождет меня в красном уголке, — у нас в этот день было четыре урока.
И он действительно не ушел. Он закинул голову на спинку стула, положил руки в карманы и закрыл глаза.
— Вот ты говоришь — летчик, — сказал он, когда, вернувшись через час, я нашел его в той же позе, на том же месте. — А может быть, у тебя нет никаких данных для летчика? Ты помнишь хоть один свой поступок в жизни, по которому можно было бы судить, что из тебя выйдет летчик?
Я вспомнил свое мгновенное твердое решение ехать в Энск за Катей.
— Есть.
— Например?
— Так я тебе и стану рассказывать!
— Допустим. А все—таки ты выбрал это логически, а не инстинктивно?
— Ясно — логически.
— Умом, а не сердцем? — сказал Петька и немного покраснел.
— Нет, сердцем.
— Врешь. Вот, например, другие ребята, которые идут в летчики, они строят модели, планеры.
— Ну и что же. Зато я теорию знаю.
Я мог бы ему возразить, что каждый год пытаюсь организовать в нашей школе кружок планеристов. Но эти кружки разваливались, потому что наши ребята интересовались исключительно театром. Кроме меня и Вальки, все хотели стать актерами. И, между прочим, многие стали, например, Гриша Фабер.
— А я считаю, — помолчав, сказал Петька, — что нужно знаешь какую профессию выбирать? В которой ты чувствуешь, что способен проявить все силы души. Я это читал, но это совершенно верно. Я вот не уверен, что как художник проявлю все силы души. А ты, значит, уверен?
— Уверен.
— Ну что ж, твое счастье.
Пора было обедать, но это был довольно интересный разговор, и я решил проводить Петьку до дому.
— Знаешь, а, по—моему, ты тоже не можешь не рисовать, — сказал я, когда, выйдя из школы, мы остановились на углу Воротниковского переулка. — Вот попробуй год или два — и соскучишься, потянет. И вообще, по—моему, это даже хорошо, что ты думаешь, что из тебя ничего не выйдет.
— Почему?
— Потому что это — «сомнения».
— Как «сомнения»?
— Очень просто. У настоящих художников непременно должны быть сомнения. То они тем недовольны, те этим. И очень хорошо, что ты сомневаешься, — сказал я с жаром. — Нет, Петька, это ясно: ты должен идти в Академию художеств.
Он вздохнул и покачал головой. Но, кажется, моя мысль о «сомнениях» понравилась ему.
Так мы шли по Воротниковскому и разговаривали и, помнится, остановились у афишной будки, и я, слушая Петьку, машинально читал названия спектаклей, когда какая—то девушка вдруг вышла из—за угла и быстро перебежала дорогу.
Она была без шапки и в платье с короткими рукавами — в такой мороз! Может быть, поэтому я не сразу узнал ее.
— Катя!
Она оглянулась и не остановилась, только махнула рукой. Я догнал ее.
— Катя, почему ты без пальто? Что случилось?
Она хотела заговорить, но у нее застучали зубы, и она должна была крепко сжать их, чтобы пересилить себя, и уже потом заговорила:
— Саня, я бегу к доктору. Маме очень плохо.
— Что с ней?
— Не знаю. Мне кажется, она отравилась…
Бывают такие минуты, когда жизнь вдруг переходит на другую скорость — все начинает лететь, лететь и меняется быстрее, чем успеешь заметить.
С той минуты, как я услышал: «Мне кажется, она отравилась», — все стало меняться быстрее, чем это можно было заметить, и эти слова время от времени страшно повторялись где—то в глубине души.
Вместе с Петькой, который ничего не понимал, но ни о чем не спрашивал, мы побежали к доктору на Пименовский, потом к другому доктору, который жил над бывшим кино Ханжонкова, и все трое вломились в его тихую, прибранную квартиру с мебелью в чехлах и с неприятной старухой, тоже в каком—то синем чехле.
Неодобрительно качая головой, она выслушала нас и ушла. По дороге она прихватила что—то со стола — на всякий случай, чтобы мы не стащили.
Через несколько минут вышел доктор — низенький, румяный, с седым ежиком и сигарой в зубах.
— Ну—с, молодые люди?
Пока он одевался, мы стояли в передней и боялись пошевелиться, а старуха в чехле тоже стояла и все время смотрела на нас, хотя из передней унести было нечего. Потом она притащила тряпку и стала вытирать наши следы, хотя никаких следов не было, только от Петькиных калош натекла небольшая лужа. Потом Петька остался торопить доктора, который все еще одевался — все еще одевался, хотя у Кати было такое лицо, что я несколько раз хотел заговорить с ней и не мог. Петька остался, а мы побежали вперед.
На улице я без разговоров надел на нее мое пальто. У нее волосы развалились, и она заколола их на ходу. Но одна коса опять упала, и она сердито засунула ее под пальто.
Карета скорой помощи стояла у ворот, и мы невольно остановились от ужаса. По лестнице санитары несли носилки с Марьей Васильевной.
Она лежала с открытым лицом, с таким же белым лицом, как накануне у Кораблева, но теперь оно было точно вырезанное из кости.
Я прижался к перилам и пропустил носилки, а Катя жалобно сказала: «Мамочка», — и пошла рядом с носилками. Но Марья Васильевна не открыла глаз, не шевельнулась. У нее был очень мертвый вид, и я понял, что она непременно умрет.
С убитым сердцем я стоял во дворе и смотрел, как носилки вкладывали в карету, как старушка дрожащими руками закутывала Марье Васильевне ноги, как у всех шел пар изо рта — и у санитара, который вынул откуда—то книгу и попросил расписаться, и у Николая Антоныча, который, болезненно заглядывая под очки, расписался в книге.
— Да не здесь, — грубо сказал санитар и, с досадой махнув рукой, положил книгу в большой карман халата.
Катя побежала домой и вернулась в своем пальто, а мое оставила на кухне. Она тоже села в карету. И вот дверцы, за которыми лежала страшная, изменившаяся, белая Марья Васильевна, закрылись, и карета, рванувшись, как самый обыкновенный грузовик, помчалась в приемный покой.
Николай Антоныч и старушка одни остались во дворе. Некоторое время они стояли молча. Потом Николай Антоныч повернулся и первый пошел в дом, механически переставляя ноги, как будто он боялся упасть. Таким я его еще не видел.
Старушка попросила меня встретить доктора и сказать, что не нужно. Я побежал и встретил доктора и Петьку на Триумфальной площади, у табачной будки. Доктор покупал спички.
— Умерла? — спросил он.
Я отвечал, что не умерла, а на скорой помощи отправили в больницу, и что я могу заплатить, если нужно.
— Не нужно, не нужно, — брезгливо сказал доктор.
Старушка сидела на кухне и плакала, когда, простившись с Петькой и пообещав завтра ему все рассказать, я вернулся на Тверскую—Ямскую. Николая Антоныча уже не было, он уехал в больницу.
— Нина Капитоновна, — спросил я, — может быть, вам что—нибудь нужно?
Долго она сморкалась, плакала, снова сморкалась. Я все стоял и ждал. Наконец она попросила меня помочь ей одеться, и мы поехали на трамвае в приемный покой.
Глава 22. НОЧЬЮ.
Ночью, все еще чувствуя скорость, от которой, кажется, свистело в ушах, все еще летя куда—то, хотя я лежал на своей постели, в темноте, я понял, что Марья Васильевна уже накануне, у Кораблева, решила покончить с собой.
Это было уже решено — вот почему она была так спокойна и так много курила и говорила такие странные вещи. У нее был свой загадочный ход мысли, о котором мы ничего не знали. Ко всему, о чем она говорила, присоединялось ее решение. Не меня она спрашивала, а себя и самой себе отвечала.
Может быть, она думала, что я ошибаюсь и что в письме речь идет о ком—нибудь другом. Может быть, она надеялась, что эти фразы, которые я вспомнил и которые Катя нарочно не передала ей, окажутся не такими уж страшными для нее. Может быть, она ждала, что Николай Антоныч, который так много сделал для ее покойного мужа, так много, что только за него и можно было выйти замуж, окажется не так уж виноват или не так низок.
А я—то? Что же я сделал?
Мне стало жарко, потом холодно, потом снова жарко, и я откинул одеяло и стал глубоко дышать, чтобы успокоиться и обдумать все хладнокровно. Я снова перебрал в памяти этот разговор. Как я теперь понимал его! Как будто каждое слово медленно повернулось передо мной, и я увидел его с другой, тайной стороны.
«Я люблю Энск. Там чудесно. Какие сады!» Ей было приятно вспомнить молодость в такую минуту. Она хотела как бы проститься с Энском — теперь, когда все уже было решено.
«Монтигомо Ястребиный Коготь, я его когда—то так называла». У нее задрожал голос, потому что никто не знал, что она его так называла, и это было неопровержимым доказательством того, что я верно вспомнил эти слова.
«Я не говорила с ним об этих письмах. Тем более, он такой расстроенный. Не правда ли, пока не стоит?» И эти слова, которые вчера показались мне такими странными, — как они были теперь ясны для меня! Это был ее муж, — может быть, самый близкий человек на свете. И она просто не хотел расстраивать его, — она знала, что ему еще предстоят огорчения.
Давно уже я забыл, что нужно глубоко дышать, и все сидел на кровати с голыми ногами и думал, думал. Она хотела проститься и с Кораблевым — вот что! Ведь он тоже любил ее и, может быть, больше всех. Она хотела проститься с той жизнью, которая у них не вышла и о которой она, наверное, мечтала. Я всегда думал, что она мечтала о Кораблеве.
Давно пора было спать, тем более, что завтра предстояла очень серьезная контрольная, тем более, что совсем не весело было думать о том, что произошло в этот несчастный день.
Кажется, я уснул, но на одну минуту. Вдруг кто—то негромко сказал рядом со мной: «Умерла». Я открыл глаза, но никого, разумеется, не было; должно быть, я сам сказал это, но не вслух, а в уме.
И вот, против своей воли, я стал вспоминать, как мы с Ниной Капитоновной приехали в приемный покой. Я старался уснуть, но ничего не мог поделать с собой и стал вспоминать.
…Мы сидели на большой белой скамейке у каких—то дверей, и я не сразу догадался, что носилки с Марьей Васильевной стоят в соседней комнате, так близко от нас.
И вот пожилая сестра вышла и сказала:
— Вы к Татариновой? Можно без пропуска.
И она сама торопливо надела на старушку, халат и завязала его.
У меня похолодело сердце, и я сразу понял, что если можно без пропуска, значит ей очень плохо, — и сразу же похолодело еще раз, потому что эта пожилая сестра подошла к другой сестре, помоложе, которая записывала больных, и та что—то спросила ее, а пожилая ответила:
— Ну, где там! Едва довезли.
Потом началось ожидание. Я смотрел на белую дверь и, кажется, видел, как все они — Николай Антоныч, старушка и Катя — стоят вокруг носилок, на которых лежит Марья Васильевна. Потом кто—то вышел, дверь на мгновение осталась открытой, и я увидел, что это совсем не так, что никаких носилок уже нет, и что—то белое с черной головой лежит на низком диване, и перед этим белым с черной головой кто—то, тоже в белом, стоит на коленях. Я увидел еще голую руку, свесившуюся с дивана, — и дверь захлопнулась. Потом раздался тонкий хриплый крик — и сестра, записывавшая больных, остановилась, замолчала и снова стала записывать и объяснять. Не знаю, как я понял это, но я понял, что это кричал Николай Антоныч. Таким тонким голосом? Как ребенок?
Пожилая сестра вышла из дверей и с неестественным деловым видом стала разговаривать с каким—то молодым парнем, который мял в руках шапку. Она посмотрела на меня — потому что я пришел с Ниной Капитоновной, — но сразу же отвела глаза. И я понял, что Марья Васильевна умерла.
Потом я слышал, как сестра сказала кому—то: «Жалко, красивая». Но это было уже совсем как во сне, и, может быть, это сказала не она, а кто—нибудь другой, когда Катя, и старушка вышли из этой комнаты, в которой она умерла.
Глава 23. СНОВА ПРАВИЛА. ЭТО НЕ ОН.
Это были очень грустные дни, и мне не хочется подробно писать о них, хотя я помню каждый разговор, каждую встречу, едва ли не каждую мысль. Это были дни, от которых как бы большая тень ложится на мою жизнь.
Сразу после похорон Марьи Васильевны я засел за работу. Мне кажется, было какое—то чувство самосохранения в том отчаянном упорстве, с которым я занимался, заставляя себя не думать ни о чем. Если бы Петька снова спросил меня, есть ли в моей жизни какой—нибудь поступок, по которому можно судить, что из меня выйдет летчик, я снова ответил бы ему «да» — и на этот раз с большим основанием.
Это было нелегко, особенно если представить себе, что на похоронах Марьи Васильевны я подошел к Кате и она отвернулась.
До сих пор не могу вспомнить об этом без волнения, — судите же, что я почувствовал тогда, как был поражен и взволнован!
Вот как это было. На похороны Марьи Васильевны неожиданна пришло очень много народу — сослуживцы и даже студенты, с которыми она когда—то училась в Медицинском институте. Она всегда казалась одинокой, а ее, оказывается, многие знали и любили. Среди этих чужих людей, говоривших шепотом и подолгу смотревших на ворота, из которых все не выносили гроба, стоял Кораблев — с измученными глазами, с большими усами, которые казались совсем огромными на его похудевшем, постаревшем лице.
Я давно заметил, что родные всегда выходят вместе с гробом, а у ворот стоят и потом распоряжаются похоронами посторонние люди. Но тут было иначе, — должно быть, потому, что из родных гроб выносить было некому.
Николай Антоныч стоял в стороне, опустив голову, и Нина Капитоновна держала его за руку. Казалось, она поддерживала его, хотя он стоял совершенно прямо. Старухи Бубенчиковы тоже были тут, похожие на монашенок, в старинных черных платьях со шлейфами.
Катя стояла подле них и упорно смотрела на ворота. Она была румяная, несмотря на все ее горе, которое было видно даже в том нетерпеливом движении, которым она поправляла шапку, иногда съезжавшую на лоб, — наверно, она плохо заколола косы…
Ждали уже с полчаса, а гроб все не выносили. И вот я вдруг решился и подошел к ней.
Не знаю, может быть, это было неловко, что я подошел к ней в такую минуту. Но мне хотелось сказать ей хоть одно слово.
— Катя!
Она взглянула на меня и отвернулась…
По целым дням я сидел за книгами. Я возобновил свой старый порядок, то есть стал вставать в шесть часов, обливался холодной водой, делал гимнастику перед открытым окном и занимался по расписанию. «Правила для развития воли», которые я составил в былые дни, опять пригодились мне, особенно одно: «Скрывать свои чувства или, по меньшей мере, не выражать их наружно». Я не выражал их наружно, хотя с каждым днем мне становилось все тяжелее. Как будто та большая тень, о которой я упомянул выше, все надвигалась на меня, и я видел ее сперва вдалеке, а потом уже ближе и ближе.
Это было мое последнее полугодие в школе, и я непременно хотел выйти по всем предметам на «весьма удовлетворительно». Это было совсем не так просто, особенно по литературе.
Но вот однажды и Лихо, кряхтя и ежась, поставил мне «вуд». За выпускное сочинение я не боялся, — махнув рукой, я написал его согласно всем требованиям этого болвана и знал, что он от одного только удовлетворенного самолюбия поставит мне самую высокую отметку.
Я вышел на одно из первых мест в классе, и только Валька был теперь впереди меня. Но у него были удивительные способности, и, кроме того, он был гораздо умнее, меня.
А тень все надвигалась. Кораблев при встрече смотрел на меня с усилием, точно ему тяжело было меня видеть. Николай Антоныч не ходил в школу, и хотя никто не упоминал о нашем столкновении на педсовете, однако все поглядывали на меня с каким—то упреком — как будто этот обморок, когда ему стало дурно на педсовете, а потом смерть Марьи Васильевны совершенно оправдали его.
Всем было тяжело меня видеть. Я был одинок, как никогда.
Но я еще не знал, какой удар меня ожидает.
Однажды — после смерти Марьи Васильевны прошло уже две недели — я зашел к Кораблеву. Я хотел попросить его пойти с нами в Геологический музей (я был тогда вожатым, и мои ребята просили показать им этот музей). Мы еще в первой ступени ходили туда с Кораблевым, и я помнил, как это было интересно.
Но он вышел ко мне очень взволнованный и попросил зайти потом.
— Когда, Иван Павлыч?
— Не знаю. Потом.
В передней висела шуба и шапка, а на столике лежал коричневый вязаный шарф, который когда—то на моих глазах вязала старушка. У Кораблева был Николай Антоныч.
Я ушел и с унылым сердцем принялся за книгу «Воздушный флот в, прошлом и будущем» — помню, что тогда читал эту книгу. Но не шло мое чтение — мысли бродили невесть где, и на каждой странице я должен был напоминать себе какое—нибудь из «правил для развития воли». Зачем Николай Антоныч пришел к нему? Ведь он не был у Кораблева уже года четыре. Чем Кораблев был так взволнован?
Когда я вернулся к нему, Николая Антоныча уже не было. Как, сейчас помню — топилась печка, и Кораблев в толстом мохнатом френче, который он всегда надевал, когда был немного пьян или болен, сидел у печки и смотрел на огонь. Он поднял голову, когда я вошел, и сказал:
— Что ты сделал, Саня! Боже мой, что ты сделал!
— Иван Павлыч!
— Боже мой, что ты сделал! — с отчаянием повторил Кораблев. — Ведь это не он, не он! И он доказал это бесспорно, неопровержимо.
— Я не понимаю, Иван Павлыч. О ком вы говорите?
Кораблев встал, потом сел и опять встал.
— У меня был Николай Антоныч. Он доказал мне, что в письме капитана речь идет не о нем. Это какой—то другой Николай. Какой—то промышленник фон Вышимирский.
Я был поражен.
— Иван Павлыч, это ложь, он все врет!
— Нет, это правда, — сказал Кораблев. — Это было огромное дело, о котором мы ничего не знаем. Там было много людей, какие—то купцы и поставщики, и капитан все знал с самого начала. Он знал, что экспедиция была снаряжена очень плохо, и он писал об этой Николаю Антонычу, я своими глазами видел эти письма.
Я слушал его, не веря ушам. Почему—то я всегда думал, что письмо, которое я нашел в Энске, — единственное, и это известие, что от капитана сохранились еще какие—то письма, ошеломило меня.
— Там было много неудач, — продолжал Кораблев. — Какой—то судовладелец снял команду перед выходом в море, с большим трудом достали радиотелеграф, и его пришлось оставить, потому что не достали радиста, и еще что—то, — и почему же Николай Антоныч во всем виноват? Ведь это же ясно, боже мой! И я… Я догадывался об этом… Но я…
Он не договорил, и вдруг я увидел, что он плачет.
— Иван Павлыч, — сказал я, стараясь не смотреть на эту невероятную картину — плачущего Кораблева. — Значит, выходит, что он не виноват, а какой—то там «фон». Почему же в таком случае Николай Антоныч всегда утверждал, что он руководил этим делом? Спросите у него, сколько сухого бульона взяла с собой экспедиция, сколько макарон, сухарей и кофе. Почему же он прежде никогда не упоминал об этом «фоне»?
Кораблев вытер платком глаза, усы. Он достал из стенного шкафчика водку, налил полстакана и тут же немного отлил назад дрожащей рукой. Он выпил водку и сел.
— Ладно, теперь все равно. — И он махнул рукой. — Но как я был слеп, страшно слеп! — вдруг снова с отчаянием сказал он. — Я должен был убедить ее в том, что это — невозможно, невероятно, что даже если это Николай Антоныч, — все равно нельзя в неудаче такого огромного дела винить одного человека. Я мог сказать, что ты настаиваешь, что это — он, потому, что ты его ненавидишь.
Я молча слушал Кораблева. Я всегда любил его и привык уважать, и мне неприятно было видеть его в таком жалком виде. Он сморкался, и у него были растрепаны волосы и усы.
— Ненавижу я его или нет, — оказал я спокойно, — это не имеет ни малейшего отношения к делу. И я вообще не знаю, что вы хотите этим сказать. Что я настаивал нарочно, то есть из подлых личных побуждений?
…Кораблев молчал.
— Иван Павлыч!
Он все молчал.
— Иван Павлыч! — заорал я. — Вы думаете, что я нарочно впутался в это дело, чтобы отомстить Николаю Антонычу? Вот почему вы говорили, что если даже это он, а не какой—то там «фон», — все равно в неудаче такого большого дела нельзя обвинять одного человека. Вы считаете, что я во всем виноват? Говорите же! Да? Считаете?
Кораблев молчал. У меня потемнело в глазах, и я услышал, как сильно и медленно бьется сердце.
— Иван Павлыч, — дрожащим, но решительным голосом сказал я. — Теперь мне остается хоть умереть, но доказать, что я — прав. И я докажу это. Я сегодня же пойду к Николаю Антонычу и попрошу его показать мне эти документы и письма. Он убедил вас, что в письме речь идет не о нем, а о каком—то «фоне». Пускай же он и меня убедит.
— Делай, что хочешь, — уныло сказал Кораблев.
Я ушел. Он не тронулся с места, так и остался у печки, усталый и в полном отчаянии. Мы оба были в отчаянии, но у меня к этому чувству присоединялось какое—то хладнокровное бешенство, а он был в безнадежной усталости, старый и совершенно один в пустой, холодной квартире.
Глава 24. КЛЕВЕТА.
Легко сказать: я пойду к нему и попрошу его показать эти письма. Мне тошно было и думать об этом. В самом деле, станет он говорить со мной! Он спустит меня с лестницы — и вся недолга. Не стану же я драться с ним. Он все—таки больной и старый.
Я бы не пошел. Но одна мысль не оставляла меня: Катя.
У меня начинала болеть голова, когда я вспоминал, как сурово она отвернулась от меня на похоронах. Теперь мне было ясно, почему она сделала это: Николай Антоныч уверил ее, что я во всем виноват.
Я представлял себе, как он разговаривает с нею, и сердце у меня так и ходило: «А, у твоего друга такая превосходная память. Почему же до поездки в Энск он ни разу не вспомнил об этих письмах?»
В самом деле, как мог я забыть о них? Я, который был так поражен ими в детстве? Я, читавший их наизусть в поездах между Энском и Москвою? Забыть об этих письмах, как будто с далеких звезд упавших в наш маленький город?
У меня было только одно объяснение — судите сами, верное или нет.
Когда Катя рассказывала мне историю своего отца, когда я рассматривал его на старых фото, в кителе с погонами, в фуражке с белым, поднятым сзади чехлом, когда я читал его книги, мне всегда казалось, что это было очень давно, во всяком случае за много лет до того, как я уехал из Энска. А письма — это было мое детство, то есть совсем другое время. Мне просто не пришло в голову, что эти два совершенно разных времени следовали одно за другим. Здесь была не ошибка памяти, а какая—то совсем другая ошибка.
Тысячу раз я думал о «фоне». Так это о нем писал капитан Татаринов: «Вся экспедиция шлет ему проклятия». Так это о нем он писал: «Всеми нашими неудачами мы обязаны только ему». А Кораблев сказал, что в неудаче такого дела нельзя винить одного человека. Капитан думал иначе.
Так это о нем он писал: «Вот как дорого обошлась нам эта услуга». А почему бы, собственно говоря, какому—то «фону» оказывать капитану Татаринову эту услугу? Услугу ему мог оказать богатый двоюродный брат — недаром же я столько слышал от него об этой услуге.
Словом, у меня не было никакого плана действий, когда, в синей парадной курточке, вечером второго февраля я пришел к Татариновым и сказал незнакомой девушке, которая открыла мне дверь, что мне нужен Николай Антоныч.
Через открытую дверь было видно, что в столовой пьют чай. Нина Капитоновна негромко сказала что—то, и я увидел ее в полосатой шали, сидящую у самовара…
Не знаю, что подумал, увидев меня, Николай Антоныч, но, появившись на пороге, он вздрогнул и немного отступил назад.
— Что тебе нужно?
— Я хотел поговорить с вами.
Он немного подумал.
— Зайди.
Я хотел пройти к нему в кабинет, но он сказал:
— Нет, сюда.
Потом я догадался, что это было нарочно: он заманил меня в столовую, чтобы расправиться со мной перед всеми.
Все немного испугались, когда вслед за ним я появился в столовой. Старухи Бубенчиковы, которых я вовсе не ожидал здесь увидеть, одновременно вскочили, и та, что в Энске гналась за мной, уронила на стол чайную ложечку. Катя вошла в столовую с другой стороны и так и замерла на пороге.
Я пробормотал:
— Может быть, здесь неудобно?
— Нет, здесь удобно.
Нужно было сразу поздороваться, как только я вошел, а теперь, пожалуй, не стоило, но я все—таки поклонился. Никто не ответил, только Нина Капитоновна чуть заметно кивнула.
— Ну—с?
— Вы сказали Ивану Павлычу, что капитан Татаринов писал вам о каком—то фон Вышимирском. Мне это необходимо знать, потому что выходит, будто я нарочно уверял Марью Васильевну только для того, чтобы как—то насолить вам. Но так думает, например, Кораблев. И другие. Одним словом, я прошу вас показать мне эти письма, посредством которых вы хотите доказать, что в гибели экспедиции виноват какой—то фон Вышимирский, а в смерти (я проглотил это слово) … во всем остальном — я.
Это была довольно длинная речь, но я приготовил ее заранее и поэтому сказал без запинки. Только запнулся, когда сказал о смерти Марьи Васильевны, и потом еще на слове «и другие», потому что подумал о Кате. Она все еще стояла на пороге, вытянувшись и затаив дыхание.
Теперь только, во время этой речи, я заметил, как постарел Николай Антоныч. Он стал похож на старую птицу с горбатым носом, щеки опустились, и даже золотой зуб, который прежде как—то освещал все лицо, потускнел.
Он слушал меня и громко дышал. Казалось, он не знал, что мне ответить. Но в эту минуту вторая Бубенчикова спросила его с удивлением:
— Кто это?
И он перевел дыхание и заговорил.
— Кто это? — свистящим шепотом переспросил он. — Это тот подлый клеветник, о котором я говорю вам ежедневно и ежечасно.
— Николай Антоныч, если вы хотите ругаться…
— Это человек, который убил ее, — повторил Николай Антоныч. У него задрожало лицо, и он стал ломать пальцы. — Это человек, оклеветавший меня самой страшной клеветой, какая только доступна воображению. Но я еще жив!
Никто и не думал, что он умер, и я хотел сказать ему об этом, но он опять закричал:
— Я еще жив!
Нина Капитоновна взяла его за руку. Он вырвал руку.
— Я мог бы прибегнуть к закону и засудить его за все… За все, что он сделал, чтобы отравить мою жизнь. Но есть другие законы, другой суд, и по этим законам он когда—нибудь еще почувствует, что он сделал. Он убил ее, — сказал Николай Антоныч, и слезы так и брызнули из его глаз. — Она умерла из—за него. Пускай же он живет, если может…
Нина Капитоновна отодвинула стул и взяла его под руку, точно боялась, что он сейчас упадет. Он мутно посмотрел на нее. Это была минута, когда я усомнился в своей правоте. Но только одна минута.
— Из—за кого же? Боже мой, из—за кого? — продолжал Николай Антоныч. — Из—за этого мальчишки, который так низок, что осмелился снова придти в дом, где она умерла. Из—за этого мальчишки с нечистой кровью…
Не знаю, что он хотел этим сказать, и почему его кровь была чище, чем моя. Ничего! Я молча слушал его. Катя стояла у стены, вытянувшись, очень прямая.
— …Снова осмелился придти в этот дом, из которого я его выбросил, как змею. Вот ведь есть же судьба, боже мой! Я отдал ей свою жизнь, я сделал для нее все, что только в силах был сделать человек для любимого человека, а она умирает из—за этой подлой, гнусной змеи, которая говорит ей, что я — не я, что я всегда обманывал ее, что я убил ее мужа, своего брата.
Меня поразило, что он говорил с такой страстью, совершенно не помня себя. Я чувствовал, что очень бледен. Но ничего! Я знал, что ему ответить.
— Николай Антоныч, — сказал я, стараясь не волноваться и замечая, однако, что язык не очень слушается меня. — Я не буду отвечать на ваши эпитеты, потому что понимаю, в каком вы состоянии. Вы действительно выгоняли меня, но я снова пришел и буду приходить снова до тех пор, пока не докажу, что я совершенно не виноват в смерти Марьи Васильевны. И что если кто—нибудь виноват, так уж во всяком случае, не я, а кто—то другой. Факт тот, что у вас имеются письма покойного капитана Татаринова, посредством которых вы убедили Кораблева и, очевидно, вообще всех, что я вас оклеветал. Я прошу вас показать мне эти письма, чтобы все могли убедиться, что я действительно та подлая змея, о которой вы только что говорили.
Страшный шум поднялся вслед за этими словами. Бубенчиковы, все еще не понимая, кричали наперерыв:
— Кто это?!
Но им никто не объяснял, кто я, и они кричали все громче. Нина Капитоновна тоже кричала на меня, чтобы я уходил. Только Катя не говорила ни слова. Она стояла у стены и смотрела то на Николая Антоныча, то на меня.
Вдруг все замолчали. Николай Антоныч отстранил старушку и вышел в свою комнату. Он вернулся минуту спустя, держа в руках груду писем. Не два и не три, а именно груду — штук сорок. Не думаю, что все это были письма капитана Татаринова, вернее всего — разные письма, от разных лиц — переписка, связанная с экспедицией, или что—нибудь в этом роде. Он бросил эти письма мне в лицо, потом плюнул мне в лицо и упал в кресло. Старухи бросились к нему.
Очень может быть, что если бы он плюнул и попал мне в лицо, я бы его ударил или даже убил — мне в лицо еще не плевали, и я, несмотря на все свои правила, мог за это убить человека. Но он не попал. И письма не долетели.
Понятно, я не стал собирать эти письма, хотя было мгновенье, когда я чуть—чуть не поднял одно из них — то, на котором была большая сургучная печать с надписью «Святая Мария». Я не стал поднимать их. Я был в этом доме в последний раз. Катя стояла между нами у кресла, в котором он лежал, стиснув зубы и хватаясь за сердце. Я посмотрел на нее — прямо в ее глаза, которые видел в последний раз.
— Ладно, — сказал я. — Я не стану читать эти письма, которые, вы бросили мне в лицо. Я сделаю другое. Я найду экспедицию, я не верю, что она исчезла бесследно, и тогда посмотрим, кто из нас прав.
Мне хотелось еще проститься с Катей и сказать ей, что я никогда не забуду, как она отвернулась от меня на похоронах. Но Николай Антоныч вдруг стал вставать с кресла, и снова поднялся ужасный шум. Старухи Бубенчиковы набросились на меня и чем—то больно ударили в спину. Я махнул рукой и ушел.
Глава 25. ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ.
Я был одинок, как никогда. С еще большим ожесточением я набросился на книги. Кажется, я совсем разучился думать. И очень хорошо. Лучше было не думать.
Вдруг я вообразил, что меня могут не принять в летную школу по состоянию здоровья, и принялся за гимнастику, за всякие прыжки, ласточки, мостики, стойки. Каждое утро я щупал мускулы и осматривал зубы. Проклятый рост в особенности беспокоил меня — от всех огорчений я стал, кажется, ниже ростом.
Однако в конце марта я собрал документы и отправил их в Совет Осоавиахима. К документам я приложил просьбу — послать меня в Ленинград, в летно—теоретическую школу.
Не нужно, кажется, объяснять, почему мне хотелось уехать из Москвы.
Петька тоже собирался в Ленинград. Он окончательно решил поступить в Академию художеств. Саня — тоже и с той же целью.
Когда—то я лепил коней барона Клодта, и мои представления о Ленинграде были связаны с этими чудными конями на мосту. Мне казалось, что в Ленинграде на каждом шагу памятники и мраморные здания. Петька посоветовал мне прочитать «Медный всадник», и мне еще больше захотелось в этот замечательный город. Но меня, конечно, могли и оставить в Москве, и послать в Севастополь.
На весенних каникулах мы с Петей съездили в Энск, между прочим, опять зайцами, потому что мы берегли деньги на «после школы».
Но это была совсем другая поездка, и сам я стал другим за эти полгода. Тетя Даша разохалась, увидев меня, а судья объявил, что за такой вид нужно отвечать в судебном порядке и что он «примет все меры, чтобы выяснить причины, по коим ответчик потерял равновесие духа».
Но «ответчик» ничего не рассказал ему об этих причинах. Очень грустный, он бродил по Соборному саду, по набережной у Решеток, по тем местам, которые он так недавно показывал «истцу» с косами и в сером треухе с не завязанными ушами.
Только Петьке я рассказал — и то очень кратко — о своем разговоре с Кораблевым и о том, как принял меня Николай Антоныч. Но Петька подошел к этой истории с неожиданной стороны. Он выслушал меня и сказал с вдохновением:
— Послушай, а вдруг найдешь!
— Что найду?
— Экспедицию.
«А вдруг найду», — подумалось мне.
Мурашки побежали у меня по лицу, и мне стало весело и страшно. «А вдруг найду». И, как в далеком детстве, словно туманная картина, представилось мне: белые палатки на снегу; собаки, тяжело дыша, тащат сани. Огромный человек, великан в меховых сапогах, идет навстречу саням, а я, тоже в меховых сапогах и в огромной шапке, стою с трубкой в зубах на пороге палатки…
Нужно сказать, что Петька вел себя в Энске очень странно. Он все время чувствовал вдохновение. Недаром за каждым обедом судья подмигивал мне и заводил разговор о пользе ранних браков. Саня краснела, а Петька слушал его с туманным выражением и ел, ел… Наблюдая за ним, я догадывался, что, должно быть, на зимних каникулах я был такой же: очень много ел и все, что мне говорили, понимал с небольшим опозданием. Но мне казалось, что у них это не так необыкновенно.
В Энске я все время думал о Кате. Среди Саниных книг нашелся «Овод», и, читая этот прекрасный роман, я находил, что история Овода очень похожа на мою. Так же, как Овод, я был оклеветан, и любимая девушка отвернулась от него, как от меня. Мне представлялось, что мы встретимся через четырнадцать лет и она меня не узнает. Как Овод, я спрошу у нее, показывая на свой портрет:
— Кто это, если я осмелюсь спросить?
— Это детский портрет того друга, о котором я вам говорила.
— Которого вы убили?
Она вздрогнет и узнает меня. Тогда я брошу ей все доказательства своей правоты и откажусь от нее.
Но мало было надежды на такую встречу! Внутренне я был уверен в своей правоте. Но холод иногда заходил в сердце — особенно когда я вспоминал об этом проклятом «фоне». Незадолго до поездки в Энск Кораблев сказал мне, что Николай Антоныч показал ему подлинную доверенность на ведение всех дел экспедиции, выданную капитаном Татариновым Николаю Иванычу фон Вышимирскому.
— Ты ошибся, — сказал он коротко и беспощадно…
Я один вернулся и Москву. Петька простудился и остался на несколько дней в Энске. У меня было такое впечатление, что он нарочно простудился. Во всяком случае, он был очень доволен.
Я скучал в Энске, и мне казалось — вот приеду в Москву, возьмусь за книги, и не будет у меня времени, чтобы скучать. Но нашлось время. Злой и молчаливый, я бродил по школе…
Именно в эти дни я, подрался с Мартыновой из нашего класса. Я дал ей по уху за подлость: она стащила у Тани Величко вечное перо, а потом попыталась свалить на Вальку, — но отчасти и за то, что она была девчонка.
На другой день меня вызвали в ячейку и спросили, в чем дело. У нас с девчонками были товарищеские отношения, но драться с ними — это было все—таки не принято, особенно в последнем классе. Я сказал, что Мартынова — подлец, а что она девчонка — не играет роли. Если бы я дал по уху мальчишке, вызвали бы меня или нет?
Ребята подумали и согласились, что нет.
Но вот однажды, вернувшись откуда—то домой, я нашел в подъезде, на столе, куда почтальоны клали всю нашу корреспонденцию, письмо—секретку: «А.Григорьеву девятого класса».
Я развернул письмо:
«Саня, мне хотелось бы поговорить с тобой. Если свободен, приходи сегодня в половине восьмого в сквер на Триумфальной».
Даже смешно вспомнить, как все переменилось, едва только я прочитал это письмо. Я встретил на лестнице Лихо и поклонился ему, за обедом я отдал Вальке свою гурьевскую кашу, и даже Мартынова перестала казаться мне таким подлецом, — пожалуй, не стоило бить ее по уху, тем более, что она как—никак девчонка.
И вот — шесть часов. Половина седьмого. Семь. В семь я был уже в сквере. Четверть восьмого. Половина восьмого. Темнеет, но фонари еще не горят, и разные нелепые мысли приходят мне в голову: «Фонари не зажгутся, и я ее не узнаю… Фонари зажгутся, но она не придет… Фонари не зажгутся, и она меня не узнает…»
Фонари зажигаются, и знакомый сквер, в котором мы с Петькой когда—то пытались продавать папиросы, в котором я тысячу раз зубрил уроки в весенние дни, шумный сквер, в котором только в семнадцать лет можно зубрить уроки, этот старый сквер, в котором вся наша школа и еще две — 143—я и 28—я — назначают свидания, — этот сквер преображается и становится, как театр. Сейчас мы встретимся. Вот и она!
Мы здороваемся и молчим. Совсем тепло, второе апреля, но вдруг начинает идти снег — как будто нарочно для того, чтобы я запомнил его на всю жизнь.
— Катя, я очень рад, что ты пришла. Мне тоже давно уже хочется поговорить с тобой. Тогда, у вас, я ничего не мог объяснить, потому что Николай Антоныч стал кричать, так что тут уж было не до объяснений. Конечно, если ты ему веришь…
Мне страшно окончить эту фразу, потому что, если она ему верит, я должен уйти из этого сквера, в котором мы сидим, бледные и серьезные, и разговариваем, не глядя друг на друга, — из этого сквера, в котором нет, кажется, никого, кроме нас, хотя на каждой скамейке кто—нибудь сидит и маленький сердитый сторож, прихрамывая, расхаживает по дорожкам.
— Не будем больше говорить об этом.
— Катя, я не могу не говорить об этом. Вообще нам не о чем говорить, если ты ему веришь.
Она смотрит на меня грустная и совсем взрослая — гораздо старше и умнее, чем я.
— Он говорит, что я во всем виновата.
— Ты?!
— Он говорит, что раз я первая поверила этой противоестественной мысли, что в папином письме речь идет о нем, — значит, я во всем виновата.
Я вспоминаю, как однажды Кораблев сказал о нем Марье Васильевне: «Поверьте мне, это человек страшный». Я вспоминаю, что писал о нем капитан: «Молю тебя, не верь этому человеку», — и мне становится холодно от мысли, что этот человек теперь станет уверять Катю, что она во всем виновата, что она убила мать, что она лишила его единственного счастья на земле и, стало быть, и перед ним виновата, что он один знает, как она теперь после этого преступления должна устроить свою жизнь… И все это медленно, день за днем. Длинными, круглыми словами, от которых начинает кружиться голова.
Я вскакиваю в отчаянии, в ужасе.
— Теперь он пятнадцать лет будет говорить, что ты виновата, и ты в конце концов поверишь ему, как поверила Марья Васильевна. Разве ты не понимаешь, что это власть? Если ты виновата, он получает над тобой полную власть, и ты будешь делать все, что он захочет.
— Я уеду.
— Куда?
— Еще не знаю. Я решила подать на геологоразведочный. Кончу и уеду.
— Ты никуда не уедешь. Может быть, ты еще могла бы уехать сейчас, а через четыре года… Ручаюсь, что никуда не уедешь… Он тебя заговорит. Ведь поверила же Марья Васильевна, что он — добрый и благородный и, главное, что она перед ним в долгу за все его заботы. Какого черта он пристал к тебе! Ведь он же говорил, что я во всем виноват.
— Он говорит, что ты просто убийца.
— Так.
— И что ему ничего не стоит, чтобы тебя расстреляли.
— Ладно. Все виноваты, кроме него. А я тебе скажу, что это — подлец, о котором даже страшно думать, что могут быть на земле такие люди.
— Не будем больше говорить об этом…
— Ладно. Теперь скажи: чему ты веришь из всей этой ерунды?
Катя долго молчит. Я снова сажусь рядом с нею. Очень страшно, но я беру ее за руку, и она не отодвигается, не отнимает руку.
— Я верю, что ты не нарочно говорил, что это — он. Ты, в самом деле, думал, что это — он.
— И теперь думаю.
— Но ты не должен был убеждать в этом меня и, тем более, маму.
— Но это он…
Катя отодвигается, отнимает от меня руку.
— Не будем больше говорить об этом.
— Ладно, не будем. Когда—нибудь я докажу, что это — он, хотя бы мне пришлось ухлопать всю свою жизнь.
— Это не он. И если ты не хочешь, чтобы я ушла, не будем больше говорить об этом.
— Ладно, не будем…
И больше мы не говорили об этом. Она спросила меня о весенних каникулах, о том, как я провел время в Энске, как поживают Саня и старики. И я передал ей привет от стариков и от Сани. Но я ничего не сказал о том, как мне было скучно без нее в Энске, особенно когда я один бродил по нашим местам, о том, как Петька много ел и все время чувствовал вдохновение, и о том, что у них это не так необыкновенно. Я не знал теперь, любит она меня или нет, и об этом невозможно было спросить, хотя мне все время очень хотелось. Но нельзя было даже произнести это слово — теперь, когда мы сидели и разговаривали, такие серьезные и бледные, и когда Катя была так похожа на мать. Я только вспомнил, как мы возвращались из Энска и писали пальцами по замерзшему стеклу и как вдруг за окном открывалось темное поле, покрытое снегом. Все переменилось с тех пор. И мы не могли теперь относиться друг к другу, как прежде. Но мне очень хотелось узнать, любит ли она меня, или больше не любит.
— Катя, — сказал я вдруг. — Ты меня не любишь?
Она вздрогнула и посмотрела на меня с изумлением. Потом она покраснела и обняла меня. Она меня обняла, и мы поцеловались с закрытыми глазами — по крайней мере я, но, кажется, и она тоже, потому что потом мы одновременно открыли глаза. Мы целовались в сквере на Триумфальной, в середине Москвы, в этом сквере, где нас могли видеть три школы — наша, 143—я и 28—я. Но это был горький поцелуй. Это был прощальный поцелуй. Хотя, расставаясь, мы условились о новой встрече, я чувствовал, что этот поцелуй — прощальный.
Вот почему, когда Катя ушла, я остался в сквере и долго еще бродил по дорожкам в тоске, садился на эту скамейку, уходил и опять возвращался. Я снял кепку, у меня горела голова и сердце ныло. Я не мог уйти…
Когда я вернулся домой, на столике у моей кровати лежал большой конверт, на котором стояла печать Осоавиахима и была крупно написана моя фамилия, имя и отчество. Впервые в жизни меня называли по имени и отчеству. Дрожащими руками я разорвал конверт. Осоавиахим извещал меня, что мои бумаги приняты и что второго мая мне надлежит явиться в медицинскую комиссию на предмет поступления в летную школу.
ЧАСТЬ 4. СЕВЕР
Глава 1. ЛЕТНАЯ ШКОЛА.
Лето 1928 года. Я вижу себя с узелком в руках на улицах Ленинграда. В узелке — «выходное пособие». Детдомовцы после окончания школы получали «выходное пособие» — ложку, кружку, две пары белья и «все для первого ночлега». Мы с Петей живем у Семы Гинзбурга, слесаря с «Электросилы», бывшего ученика нашей школы. Семина мама боится управдома, поэтому каждое утро я уношу «все для первого ночлега», а вечером опять приношу: я делаю вид, что только что приехал. В столовой по четным дням мы берем первое за пятнадцать копеек, а по нечетным — второе за двадцать пять. Мы бродим по широкому, просторному городу, по набережным вдоль просторной Невы, и Петя, который чувствует себя в Ленинграде, как дома, рассказывает мне о Медном всаднике, а я думаю: «Примут или не примут?»
Три комиссии — медицинская, мандатная и общеобразовательная. Сердце, легкие, уши, снова сердце! Кто я, где родился, где учился и почему хочу стать пилотом? Верно ли, что мне девятнадцать лет? Не подделаны ли года — на вид поменьше! Почему рекомендацию райкома подписал Григорьев, это кто же — брат или однофамилец?
И вот наконец — решительный день! Я стою перед Аэромузеем: здесь мы держали испытания. Это огромный дом со львами на проспекте Рошаля. Петя говорил, что эти львы описаны в «Медном всаднике» и будто на них спасался от наводнения Евгений, — до сих пор не знаю, правда это или нет. Мне не до Пушкина. Львы смотрят на меня с таким видом, как будто они сейчас начнут спрашивать: кто я, где родился и верно ли, что мне девятнадцать лет?
Но вот когда становится по—настоящему страшно: когда я поднимаюсь на второй этаж и на черной витрине нахожу список принятых в летную школу.
Я читаю: «Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк…» У меня темнеет в глазах, меня нет. Я снова читаю, «Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк». Меня нет! Я набираю побольше воздуху, чтобы спокойно прочесть: «Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк». Я смотрю на этот список, в котором есть, кажется, все фамилии на свете, кроме моей, и мне становится так скучно, как бывает, когда больше не хочется жить.
Под проливным дождем я возвращался домой. «Власов, Воронов, Голомб…» Счастливый Голомб!
Огромный мужчина, широкоплечий, с грубым лицом, какой—то Васко Нуньес Бальбоа, представляется мне, когда я произношу эту фамилию. Конечно! Куда же мне! Проклятый рост!
Петя открывает мне и пугается. Я — мокрый, бледный.
— Что с тобой?
— Петя, меня нет в списке.
— Врешь!
Семина мама вылетает на кухню и спрашивает, не встретил ли я управдома. Я молчу. Я сижу в кухне на стуле, и Петя, опустив голову, грустно стоит передо мной. Наутро мы вдвоем пошли в Аэромузей и нашли в списке мою фамилию. Она была в другом столбце, где тоже было несколько ребят на «Г» и Григорьевых даже два — Иван и Александр. Петя уверял, что я не нашел ее от волнения…
Время бежит, и вот я вижу себя в той же читальне Аэромузея, где мы сдавали испытания. Тринадцать человек, отобранных мандатной и медицинской комиссией, стоят в строю, и начальник школы — большой, рыжий, веселый — выходит и говорит:
— Внимание, товарищи учлеты!
Товарищи учлеты! Я — учлет! Мурашки бегут у меня по спине, и кажется, что меня окунули сперва в горячую, а потом в холодную воду. Я — учлет! Я буду летать! Я не слышу, о чем говорит начальник…
Время бежит. Мы приходим на лекции прямо с завода — Сема Гинзбург устроил меня подручным слесаря на «Электросилу».
Мы слушаем материальную часть, теорию авиации, моторы. Очень хочется спать после восьми часов на заводе, но мы слушаем материальную часть, теорию авиации, потом моторы, и только, время от времени Миша Голомб, который оказался такого же маленького роста, как и я, заваливается ко мне за спину и начинает тихонько сопеть. Потом он начинает сопеть погромче, и я осторожно бью его головой о стол…
Мы учимся в летной школе, но как не похожа она на то, что теперь называется, летной школой! У нас нет ни моторов, ни самолетов, ни помещения, ни денег. Правда, в Аэромузее стоит несколько старых, ободранных самолетов — при желании можно вообразить себя разведчиком на «хавеланде» или истребителем на «ньюпоре», летавшем в последний раз на фронтах гражданской войны. Но на этих заслуженных «гробах» нельзя учиться.
Мы собираем моторы. С мандатом Осоавиахима, с великолепным мандатом, согласно которому мы имеем полное право снять со стены любую часть самолета, мы ездим по всем красным уголкам Ленинграда. Иногда эти части висят и не в красных уголках, а где—нибудь в домкоме над столом бухгалтера, любителя авиации. Мы забираем их и увозим на аэродром. Иногда это происходит мирно, иногда со скандалом. Три раза мы с техником ездим в клуб швейников и доказываем заведующему, что старый мотор, который стоит у него в фойе, не имеет агитационного значения.
Как мы возимся со всем этим заржавленным утилем, когда он, наконец, попадает в наши руки! Мы чистим и чистим его, и потом снова чистим и чистим. Первые полгода мы кажется, только и делаем, что чистим и собираем моторы. Мне это труднее, чем другим, — у нас почти все слесари и шоферы. Но я нарочно берусь за самую трудную работу. Навсегда, на всю жизнь я запоминаю левую плоскость самолета «У—1», на котором мы учились. Это — самое грязное место в самолете, масло из мотора выбрасывается под левую плоскость, и я на пари мою ее каждый день до окончания школы. Лежа на спине, я снимаю грязь щепкой, потом щеткой, потом тряпкой, вода так и бежит по телу, от запаха касторки начинает мутить…
Разумеется, мы не очень—то похожи на будущих пилотов, особенно когда поздней ночью возвращаемся домой с аэродрома и весь трамвай начинает принюхиваться и смотреть на нас с негодованием. Но мы не смущаемся. Мишка говорит:
— От какого это дьявола так пахнет касторкой? Тьфу!
И демонстративно затыкает нос.
Наш день начинается очень рано — часов с семи утра. До десяти мы собираем моторы и по очереди объясняем Ване Грибкову, что такое горизонт. У нас был такой Ваня Грибков, которому вся школа объясняла, что такое горизонт. Потом приезжают инструкторы, и начинаются полеты.
Мой инструктор, он же начальник школы, он же заведующий материальной и хозяйственной частью — старый летчик времен гражданской войны. Это большой веселый человек, любитель необыкновенных историй, которые он рассказывает часами, вспыльчивый и отходчивый, смелый и суеверный. Свои обязанности инструктора он понимает очень просто: он ругает меня, и чем выше от земли, тем все крепче становится ругань. Наконец она прекращается — первый раз за полгода!.. Это было великолепно! Минут десять я летел в замечательном настроении. Не ругается — как же я, должно быть, здорово веду самолет! Несмотря на шум мотора, мне показалось, что я лечу в полной тишине — непривычное состояние!
Но тут же я понял, в чем дело: телефон разъединился, и трубка болталась за бортом. Я поймал ее и вместе с ней последнюю фразу:
— Лопата! Вам бы не летать, а служить в ассенизационном обозе!
Мой инструктор самую страшную ругань соединяет с вежливым обращением «на вы»…
Другой образ встает передо мной, когда я вспоминаю свой первый год в Ленинграде. На Корпусный аэродром каждый день приезжает Ч. У него скромное дело — на старой, не однажды битой машине он катает пассажиров. Но мы знаем, что это за человек, мы знаем и любим его задолго до того, как его узнала и полюбила наша страна. Мы знаем, о ком говорят летчики, собираясь в Аэромузее, который был в те годы чем—то вроде нашего клуба. Мы знаем, кому подражает начальник школы, когда он говорит, немного окая, спокойным басом:
— Ну, как дела? Получаются глубокие виражи? Только, чур, не врать! Ну—ка!
Со всех ног мы бежим к этому человеку, когда после своих удивительных фигур он возвращается на аэродром и зеленые, как трава, любители высшего пилотажа уползают чуть не на четвереньках, а он смотрит на нас из кабины без очков — летчик великого чутья, человек, в котором жил орел.
Вместе со стетоскопом, который оставил мне на память доктор Иван Иваныч, я всюду вожу с собой портрет этого летчика. Он подарил мне этот портрет не в Ленинграде, когда я был учлетом, а гораздо позже, через несколько лет, в Москве. На этом портрете написано его рукой: «Если быть — так быть лучшим». Это его слова…
Так проходил этот год — трудный, но прекрасный год в Ленинграде. Он был труден, потому что мы работали через силу и получали 46 рублей стипендии в месяц и обедали где придется или совсем не обедали и, вместо того чтобы учиться летать, три четверти времени тратили на чистку и сборку старых моторов. Но это был прекрасный год, потому что это был год мечтаний, который как бы пунктирной линией наметил мою будущую жизнь, год, когда я почувствовал, что в силах сделать ее такой, какой я хочу ее видеть.
Несмотря на то, что у меня не было ни одной свободной минуты, я вел нечто вроде дневника — запись некоторых мыслей и впечатлений. К сожалению, он не сохранился. Но я помню, что на первой странице была цитата из Клаузевица:
«Маленький прыжок легче сделать, чем большой. Однако, желая перепрыгнуть широкую канаву, мы не начнем с того, что половинным прыжком прыгнем на ее дно».
Это и была моя главная мысль в Ленинграде — двигаться вперед, не делая половинных прыжков.
Время бежит и останавливается только на один день, в конце августа 1930 года. В этот день я сижу за богатым столом, за огромным столом, составленным из десятка других столов — разной высоты и формы. Высокие окна, стеклянная крыша. Это ателье фотографа—художника Беренштейна, у которого снимает комнату моя сестра Саня.
Глава 2. САНИНА СВАДЬБА.
Я бывал у Сани каждый выходной день и должен сказать, — хотя, может быть, странно так говорить о сестре, — что она мне нравилась все больше и больше. Она была какая—то веселая, легкая и вместе с тем деловая.
Только что поступив в академию, она достала работу в Детском издательстве. Комнату она сняла превосходную, и фотограф—художник с семьей, для которого она тоже что—то делала, просто души в ней не чаял. Она постоянно была в курсе всех наших дел — Петиных и моих — и аккуратно писала за нас старикам. При этом она много работала в академии, и хотя у нее было не такое сильное и смелое дарование, как у Пети, но и она рисовала прекрасно. У нее была любовь к миниатюре — искусство, которым теперь почти не занимаются наши художники, и тонкость, с которой она выписывала все мелкие детали лица и одежды, была просто необыкновенная. Как и в детстве, она любила поговорить и, когда была задета чем—нибудь или увлечена, начинала говорить быстро и как—то так, что я в конце концов, ничего не понимал, в чем дело. Словом, это была чудная сестра, и вот теперь она выходила замуж.
Разумеется, нетрудно догадаться, за кого она выходила, хотя из всех ребят, собравшихся в этот вечер в ателье художника—фотографа, Петя меньше всех был похож на жениха. Он спокойно сидел рядом с каким—то остроносым мальчиком и молчал, а мальчик все наскакивал на него, точно хотел просверлить его своим носом. Я шепотом спросил у Сани, кто этот остроносый, и она ответила с уважением:
— Изя.
Но мне почему—то не понравился этот Изя.
Вообще это была странная свадьба. Весь вечер гости спорили о какой—то корове — правильно ли, что художник Филиппов уже два с половиной года рисует корову. Будто бы он расчертил ее на маленькие квадратики и каждый квадратик пишет отдельно. Я хотел сказать, что это просто больной, но Изя уже успел построить на этой корове целую теорию и даже назвал ее с окончанием на «изм». На молодых никто не обращал внимания.
Я шел на Санину свадьбу с торжественным чувством. Родная сестра выходит замуж — все—таки это не так уж часто бывает! Утром мы получили большую телеграмму от судьи и тети Даши на два адреса: жениху с невестой и копия — мне. Целый месяц я собирал для них маленький радиоприемник. Но этим художникам все было нипочем. Весь вечер они спорили о корове.
Впрочем, молодым было, кажется, весело, особенно Пете, который время от времени говорил: «Смешно!» — и оглядывался с довольным выражением. Саня была очень занята: тарелок не хватало, и гостей пришлось кормить в две смены.
Только на одну минуту она присела, раскрасневшаяся, захлопотавшаяся, в новом платье с прошивками, которое почему—то напомнило мне Энск и тетю Дашу. Я воспользовался этой минутой и встал.
— Внимание, тост! — с любопытством взглянув на меня, сказал Изя.
Все замолчали.
— Товарищи, во—первых, предлагаю выпить за молодую, — сказал я. — Хотя она мне сестра, но так как никому из гостей не приходит в голову, что нужно все—таки за нее выпить, приходится этот тост предложить мне.
Все закричали «ура» и стали чокаться с Саней.
— Во—вторых, я предлагаю выпить за молодого, — продолжал я, — хотя по сути дела он должен был прежде выпить за меня. Почему? Потому что именно я доказал ему, что он должен стать художником, а не летчиком. Возможно, я открываю тайну, но это факт, он хотел стать летчиком. Однажды мы спорили с ним об этом целый день, и он уверял меня, что совершенно не любит рисовать. Он боялся, что ему, как художнику, не удастся проявить все силы души.
Все захохотали, и я постучал ложечкой о стакан.
— Почему же я решил, что он должен стать именно художником? Очень просто: потому, что он показал мне свои картины. Могу удостоверить, что тогда его интересовал только один сюжет.
И я показал на Саню.
— Честное слово, все врет, — пробормотал Петя.
— Этот сюжет был изображен в самом разнообразном виде: в лодке, у плиты, на скамеечке у ворот, на скамеечке в саду, в пальто, без, пальто, в украинской кофточке и в синем халате. Тут уж нетрудно было предсказать: во—первых, что когда—нибудь Петя станет художником, а во—вторых, что когда—нибудь мы соберемся за этим столом и будем пить за наших молодых, что я и предлагаю сделать.
И я чокнулся с Саней и Петей и выпил свой стакан до дна.
Потом выпили за меня, а потом за Изю, и это было ошибкой, потому что Изя в ответ произнес огромную речь, с какими—то остроумными выпадами против художника Филипова, над которыми он один и смеялся. Петька слушал его с довольным видом и все говорил: «Смешно!», а потом вдруг побагровел и сказал, что Изя — «типичный ахрровский пошляк». «И притом бездарный пошляк», — добавил он подумав.
Но Изя не согласился, что он бездарный пошляк, и я не знаю, чем кончился бы спор, если бы в эту минуту не пришел Санин профессор, очень почтенный, с прекрасной черной бородой. Все побежали к нему навстречу, и спор прекратился.
По правде говоря, я впервые в жизни видел настоящего профессора. Он мне очень понравился. В два счета он напился и сказал мне, что всегда хотел стать авиатором, еще во время войны 1914 года. Потом он обнял Саню и целовал ее несколько дольше, чем это полагалось профессору с такой прекрасной почтенной бородой. Потом лег на диван и заснул.
Словом, на Саниной свадьбе было очень весело, но в глубине души я чувствовал тоску, в которой сам себе не хотел признаться. Художники казались мне какими—то странными — и это очень понятно, потому что у меня была другая жизнь и другой круг интересов. Впрочем, кажется, то же самое и они думали обо мне, — я почувствовал это во время моей речи.
Но была и другая причина, заставлявшая меня тосковать. И Саня догадалась о ней, потому что, когда профессор, проснувшись, объявил во всеуслышание, что до защиты диплома он запрещает Сане выходить замуж и все с хохотом окружили его, она тихонько поманила меня, и мы вышли на кухню.
— А тебе привет… Знаешь, от кого?
Я сразу понял, от кого, но сказал спокойно:
— Не знаю.
— От Кати.
— В самом деле? Спасибо.
Саня посмотрела на меня с огорчением. Она даже немного побледнела от огорчения и рассердилась на меня, — конечно, она прекрасно видела, что я притворяюсь.
— Ты все врешь, — сказала она быстро. — Подумаешь, какой Чайльд—Гарольд нашелся! Пожалуйста, не смей мне врать, особенно сегодня, когда моя свадьба. Я ей напишу, что ты целый день просил у меня это письмо, а я не дала.
— Ничего я у тебя не прошу.
— Ты просишь в душе, — убежденно сказала Саня, — а внешне притворяешься, что тебе безразлично. В общем, я могу тебе его дать, только последней страницы не читай, ладно?
Она сунула мне в руки письмо и убежала. Конечно, я прочитал письмо, а последнюю страницу — три раза, потому что там шла речь обо мне. Вовсе Катя не просила передать мне привет, а просто спрашивала, как мои дела и когда я кончаю школу. На вид это было обыкновенное письмо, а на самом деле — очень грустное. Там было, например, такое место:
«Теперь четыре часа, у нас уже темно, и я вдруг заснула, а когда проснулась, то не могла понять, что случилось хорошее. Оказывается, мне приснился Энск и будто тетки одевают меня в дорогу…»
Я несколько раз прочитал это место, и наш отъезд из Энска, памятный на всю жизнь, представился мне, Я вспомнил, как тетки вслед уходящему поезду кричали свои наставления и как я потом перешел в Катин вагон и мы стали смотреть, что старики положили в наши корзины. Маленький небритый сосед гадал, кто мы такие, и Катя стояла рядом со мной в коридоре. Она стояла рядом со мной, и я смотрел на нее и говорил с ней, — как это трудно было вообразить теперь, когда она была так далеко.
Я не слышал, как вернулась Саня.
— Прочитал?
— Саня, напиши ей, пожалуйста, что мои дела очень хороши, что школу я кончаю в октябре, а потом… Еще не знаю куда. Буду проситься на Север.
— Сейчас же садись и напиши ей все это сам!
— Нет, я не буду.
— А я тебя не отпущу, пока не напишешь!
— Саня!
— Вот я сейчас позову Петьку, — серьезным голосом сказала Саня, — и вообще всех, и мы станем на колени и будем тебя уговаривать, чтобы ты написал, потому что мы считаем, что ты поступаешь жестоко.
— Саня, иди ты к черту! Ты просто пьяна. Ну, я пойду.
— Куда? Ты с ума сошел?
— Нет, пойду. Поздно, а завтра рано вставать. И вообще…
Я не сказал, что «вообще», но она поняла и на прощанье сочувственно поцеловала меня в щеку.
Глава 3. ПИШУ ДОКТОРУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ.
Я сердился на Катю, потому что перед отъездом из Москвы хотел проститься с ней и написал ей письмо. Но она не ответила и не пришла, хотя знала, что я уезжаю надолго и что, может быть, мы не увидимся никогда. Конечно, я больше не стал ей писать. Что ж, наверно, Николай Антоныч уже успел уверить ее в том, что я оклеветал его «самой страшной клеветой, которая только доступна человеческому воображению», и что я — «мальчишка с нечистой кровью», из—за которого умерла ее мать.
Ладно, все еще впереди! У меня кружилась голова, когда я вспоминал об этой сцене.
Что же мог я сделать в Ленинграде, работая на заводе с восьми до пяти и в летной школе — с пяти до часу ночи?
Зимой, до полетов, мы занимались в читальне Аэромузея. И вот однажды я спросил зав музеем, не знает ли он чего—нибудь о капитане Татаринове. Нет ли в библиотеке каких—либо книг или его собственной книги «Причины гибели экспедиции Грили»?
Не знаю почему, но зав музеем отнесся к этому вопросу с большим интересом. Кстати сказать, он был одним из организаторов нашей летной школы, и учлеты постоянно обращались к нему со всеми своими делами.
— Капитан Татаринов? — переспросил он с удивлением. — Ого! Это здорово! А почему это тебя интересует?
Чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось бы рассказать ему все, что вы прочитали. Поэтому я ответил коротко:
— Я вообще люблю читать путешествия.
— Но об этом путешествии как раз почти ничего не известно, — сказал зав музеем. — А ну—ка, пойдем в библиотеку.
Конечно, без него я бы ничего не нашел, потому что все это были отдельные статьи в газетах, а книга только одна — маленькая брошюра в двадцать пять страниц, под названием «Женщина на море». Оказывается, капитан написал не только об экспедиции Грили.
Что же это была за книга? Я прочел ее два раза и решил, что это интересная книга, особенно если вспомнить, что ее написал морской офицер, И когда! В 1910 году, при царизме.
В этой книге доказывалось, что женщина может быть моряком, и приводились случаи из жизни рыбаков на побережье Азовского моря, когда женщины вели себя в опасных случаях не хуже мужчин и даже еще смелее. Капитан утверждал, что «недопущение женщин к профессии моряка» приносит, вопреки распространенному суеверию, много бед морякам, принужденным надолго отрываться от оставленных на берегу семейств, и что в будущем он видит на борту корабля «женщину—механика, женщину—штурмана, женщину—капитана».
Читая эту брошюру, я вспомнил пометки капитана на путешествии Нансена и его докладную записку об экспедиции к Северному полюсу в 1911 году, и мне впервые пришло в голову, что это был не только смелый моряк, но человек с необыкновенно ясной головой и с широкими, передовыми взглядами на жизнь.
Но авторы некоторых статей, очевидно, думали иначе. В «Петербургской газете», например, какой—то журналист выступал против экспедиции на том основании, что Совет министров «отклонил просьбу капитана Татаринова об ассигновании необходимых средств». Между прочим, эта статья была написана таким языком: «…ввиду того, что, по удостоверению заинтересованных ведомств, соображения об условиях практического осуществления обсуждающегося путешествия представляются недостаточно обоснованными, причем вообще намечаемая экспедиция капитана Татаринова носит непродуманный характер, Совет министров признал, что правительству через представителя Морского ведомства следует высказаться за отклонение сего предположения».
В другой газете я нашел интересное фото: красивый белый корабль, напомнивший мне каравеллы из «Столетия открытий». Это была шхуна «Св. Мария». Она выглядела тонкой, стройной, слишком тонкой и стройной, чтобы пройти из Петербурга во Владивосток вдоль берегов Сибири.
В следующем номере той же газеты был напечатан еще более интересный снимок: судовая команда шхуны. Правда, очень трудно было что—нибудь разобрать на этом снимке, но самое расположение фигур и то, что капитан сидел посредине, скрестив руки на груди, — все это показалось мне очень знакомым. Где я видел этот снимок? Конечно, у Татариновых, среди других старых фото, которые когда—то показывала мне Катя. Но я продолжал вспоминать. Нет, не у Татариновых! У доктора Ивана Ивановича — вот где я его видел!
В двадцать третьем году, когда я выписался из больницы, я зашел к нему проститься. Он уезжал на Север, и вот тогда—то, укладывая чемодан, он и выронил это фото. Я подобрал его, стал рассматривать и спросил, почему доктора нет среди судовой команды, а он ответил:
— Потому, что я не плавал на шхуне «Св. Мария». — А потом взял у меня карточку и добавил: Это у меня от одного человека осталось на память…
Кто же этот человек?
И вдруг у Меня мелькнула одна простая мысль. Но вместе с тем это была и необыкновенная мысль, которую мог подтвердить только сам доктор Иван Иванович. Я тут же решил написать ему. Прошло около семи лет с тех пор, как он уехал из Москвы, но я почему—то был совершенно уверен, что он жив и здоров и так же читает стихи Козьмы Пруткова, и так же, разговаривая, берет со стола какую—нибудь вещь и начинает подкидывать ее и ловить, как жонглер.
Вот что я ему написал:
«Уважаемый Иван Иванович!
Это пишет Вам «интересный больной», которого вы когда—то излечили от «слухонемоты», как вы определили. Помните ли вы меня еще или уже нет? Уезжая на Север, вы просили меня написать, что я делаю и как себя чувствую. И вот теперь, через семь лет, собрался, наконец, исполнить обещание. Я чувствую себя хорошо. Теперь я учлет, учусь в летной школе Осоавиахима и надеюсь когда—нибудь прилететь к вам на самолете. Пишу вам, между прочим, по делу: когда я был у вас в Москве, вы держали в руках фотокарточку с изображением судовой команды шхуны «Св. Мария» — капитан Татаринов, вышла из Петербурга в мае 1912 года, пропала без вести в Карском море осенью 1913 года. Помните, вы сказали, что это фото вам оставил на память какой—то человек, а кто именно, не сказали. Мне очень важно знать, кто этот человек. Конечно, вы вправе спросить: а почему это тебя интересует? Отвечу кратко: меня интересует все, что касается капитана Татаринова, потому что я знаком с его семейством и для меня очень важно представить этому семейству правильную картину его жизни и смерти.
Буду очень благодарен, если вы ответите мне. Проспект Рошаля, 12. Аэромузей, Летная школа Осоавиахима.
С приветом Александр Григорьев».Мог ли я рассчитывать, что получу ответ? Может быть, доктор уже давно вернулся в Москву? Может быть, переехал еще дальше на север? Или просто забыл меня и теперь читает письмо и не может понять — какое фото, какой Григорьев?
Глава 4. ПОЛУЧАЮ ОТВЕТ.
Прошел месяц, другой, третий. Мы кончили теоретические занятия и окончательно перебрались на Корпусный аэродром.
Это был «большой день» на аэродроме — 25 сентября 1930 года. До сих пор мы вспоминаем его под этим названием. Он начался как обычно: в семь часов утра мы уже сидели за нашим «утилем», кто—то уже пробовал «удивить» Мишу Голомба, который никогда ничему не удивлялся, Ваня Грибков уже спрашивал у кого—то, что такое горизонт.
— Ну вот там, где небо сливается с землей. Понимаешь?
— А почему, когда я лечу, не сливается?
В конце концов, Ваня понял, что такое горизонт. Но он находил его всегда на одном и том же месте — за «Путиловцем», на заливе. Туда он и летел. Только что оторвавшись от земли, он начинал «жать на горизонт». Так он и «жал» до тех пор, пака его не перевели в мотористы.
В девять часов приехал инструктор, и начались события: во—первых, он привез с собой какого—то внушительного дядю в косоворотке и золотых очках, — как вскоре выяснилось, секретаря райкома. Секретарь посмотрел на самолеты, потом на ящики из—под самолетов, в которых мы устроили мастерские, и сказал:
— Вот что, дорогой мой. Прежде всего, нам нужно наладить охрану: это не дело, что по аэродрому все время шляются какие—то подозрительные люди.
— Где? — спросил инструктор. — Ах, это? Это мои учлеты.
Во—вторых, только что мы проводили гостя, как инструктор накинулся на нас за то, что мы проливаем бензин. Он побагровел и стал приблизительно такого же цвета, как его шевелюра. Это было уже не в первый раз, и мы думали, что он поорет и перестанет.
Но он сел на корточки и стал совать палец в ямки около бочки с бензином. В ямках была вода, но он объявил, что это — бензин.
— Нет, вода! — возразил Голомб.
— А я говорю — бензин!
— Вода!
— Бензин!
— Ну, ладно, бензин, — согласился Голомб.
Инструктор сунул палец в другую ямку, понюхал и встал. Он грозно нахмурился и понюхал еще раз.
— Вода, — упавшим голосом пробормотал он, и мы так и сели на землю от смеха.
В—третьих… Но о том, что произошло в—третьих, нужно рассказать подробно.
Мы летали с ним в этот день несколько раз, и он все присматривался ко мне — и не ругал, против обыкновения.
— Ну—ка, — сказал он, наконец. — А теперь летите один.
Должно быть, у меня был взволнованный вид, потому что с минуту он смотрел на меня с внимательным добродушным выражением. Потом проверил, исправно ли работают приборы, и закрепил ремни в первой, теперь пустой кабине.
— Нормальный полет по кругу. Оторветесь, наберете высоту. Ниже полутораста метров не разворачивайтесь. Разворот, коробочка и на посадку.
С таким чувством, как будто это делаю не я, а кто—то другой, я вырулил на старт и поднял руку, прося полета. Стартер взмахнул белым флагом — можно идти. Я дал газ, и машина побежала по аэродрому…
Давно забыто было детское чувство досады, когда, впервые поднявшись в воздух, я понял, что такое полет. Тогда в глубине души мне все—таки казалось, что я полечу, как птица, а я сидел в кресле совершенно так же, как на земле. Я сидел в кресле, и мне некогда было думать ни о земле, ни о небе. Только на десятый или одиннадцатый самостоятельный полет я заметил, что земля расчерчена, как географическая карта, и что мы живем в очень точном геометрическом мире. Мне понравились тени от облаков, разбросанные здесь и там по земле, и вообще я догадался, что мир необыкновенно красив…
Итак, впервые я лечу один. Кабина инструктора пуста. Первый разворот. Она пуста, а машина летит. Второй разворот. С прекрасным чувством полной свободы я лечу совершенно один. Третий разворот. Нужно идти на посадку. Четвертый разворот. Внимание! Я убираю мотор. Земля все ближе. Вот она под самой машиной. Добираю ручку. Пробег. Стоп.
Кажется, это было сделано недурно, потому что даже наш сердитый инструктор одобрительно кивнул, я Миша Голомб за его спиной показал мне большой палец.
— Санька, ты молодец, — сказал он, когда мы присели покурить на пригорке, — честное слово! Между прочим, тебе письмо. Я сегодня был в Аэромузее, и сторож говорит: «Григорьеву. Может, передадите?»
И он протянул мне письмо. Это писал доктор Иван Иванович.
«Дорогой Саня! Очень рад, что ты хорошо себя чувствуешь. Однако напрасно ты пишешь, что я излечил тебя от „слухонемоты“. Такой, брат, и болезни нету. „Немота без глухоты“ — это так. Жду тебя с твоим самолетом, а то все приходится на собаках ездить. Так вот — насчет фотографии. Эту фотографию подарил мне штурман „Св. Марии“ Иван Дмитриевич Климов. В 1914 году его привезли в Архангельск с отмороженными ногами, и он умер в городской больнице от заражения крови. После него остались две тетрадки и письма — что—то много, — по—моему, штук двадцать. Конечно, это была почта, которую он привез с корабля, хотя возможно, что некоторые письма он написал дорогой — его подобрала где—то экспедиция лейтенанта Седова. Когда он умер, больница разослала эти письма по адресам, а тетрадки и фотографии остались у меня. Раз ты знаком с семейством капитана Татаринова и намерен „представить правильную картину его жизни и смерти“ (то есть, не семейства, очевидно, а капитана), тебя, понятно, интересует, что это за тетради. Это две обыкновенные ученические черновые тетради, исписанные карандашом, к сожалению, совершенно неразборчиво, так, что я несколько раз пробовал их прочитать и, наконец, отказался от этой мысли. Вот, кажется, и все, что я знаю. Это было в конце 1914 года, только что началась война, и экспедиция капитана Татаринова никого не интересовала. Тетради и фотографии и сейчас еще хранятся у меня — приезжай, то бишь прилетай, и читай, пока хватит терпения. Мой адрес: Заполярье, улица Кирова, 24.
Пожалуйста, пиши, интересный больной.
Твой доктор И.Павлов.
…Как сестра поживает? Печете ли вы еще картошку на палочках?»
Так я и думал! Фото осталось от штурмана. Доктор видел штурмана своими глазами! Того самого, который подписал: «с совершенным уважением штурман дальнего плавания И.Климов»! Того самого, который на всю жизнь поразил меня необыкновенными словами: «широта», «шхуна», «Фрам», и необыкновенной вежливостью: «спешу Вас уверить…», «надеясь вскоре увидеться с Вами…» Того самого штурмана, из письма которого я узнал, что экспедиция — это не только грязное подвальное помещение под почтой, а дальнее плавание, капитаны, плавучие льды.
Я решил, что сразу же после окончания школы поеду в Заполярье и прочитаю его тетради. Доктор «отказался от этой мысли». Он бы не отказался, если бы надеялся найти в них хоть одно слово, подтверждающее его правоту, если бы ему плюнули в лицо, если бы Катя думала, что он убил ее мать…
Должно быть, я начал говорить вслух, потому что у Миши Голомба, сидевшего на пригорке, был такой вид, как будто он собрался, наконец, удивиться.
— Мишка, — сказал я ему. — Кончим школу и айда на Север.
— Айда. А зачем?
— Нужно.
— Если нужно, айда!
— Значит, решено?
— Решено.
Впрочем, это было давно решено. Но на Север я попал только через три года.
Глава 5. ТРИ ГОДА.
Юность кончается не в один день — и этот день не отметишь в календаре: «Сегодня окончилась моя юность». Она уходит незаметно — так незаметно, что с нею не успеваешь проститься. Только что ты был молодой и красивый, а смотришь — и пионер в трамвае уже говорит тебе: «Дяденька». И ты ловишь в темном трамвайном стекле свое отражение и думаешь с удивлением: «Да, дяденька». Юность кончилась, а когда, какого числа, в котором часу? Неизвестно.
Так кончилась и моя юность. Но день, когда я понял, что совсем иначе смотрю на то, что составляло прежний смысл моих стремлений, — этот день я помню отлично…
Из Ленинграда меня послали в Балашов, и, только что окончив одну летную школу, я стал учиться в другой — на этот раз у настоящего инструктора и на настоящей машине.
Не запомню в своей жизни другой полосы, когда бы я работал с таким прилежанием.
— Знаете, как вы летаете? — еще в Ленинграде сказал мне начальник школы. — Как сундук. А для Севера нужно иметь класс.
Я изучил ночные полеты, когда сразу за стартом начинается тьма и все время, пока набираешь высоту, кажется, что ощупью идешь по темному коридору. Внизу на аэродроме ярко светится Т, и черное поле точно пунктирам обведено красноватыми огнями. Линия железной дороги мерцает сигналами разъездов, расставленных с необыкновенной ночной точностью, так не похожей на дневную. Темный воздух, невидимая земля. Но вот зарево появляется вдали, — еще несколько минут, и это не зарево, а город — тысячи огней, разноцветных, разнообразных… Фантастическая картина!
Я научился водить самолет вслепую, когда все вокруг окутано белой мглой и кажется, что ты летишь через миллионы лет в другую геологическую эпоху. Как будто не на самолете, а на машине времени ты несешься вперед и вперед!
Я понял, что летчик должен знать свойства воздуха, все его наклонности и капризы так же, как хороший моряк знает свойства воды…
Это были годы, когда Арктика, которая до сих пор казалась какими—то далекими, никому не нужными льдами, стала близка нам и первые великие перелеты привлекли внимание всей страны.
У каждого из нас был свой идеал летчика, и мы спорили без конца, доказывая, что А. летает лучше Л., а Ч. — лучше их обоих. Полковник американской армии Бен Эйельсон с продавленным своей же левой рукой сердцем, закутанный в национальный флаг, бы л только что переброшен летчиком С. в Америку, и этот перелет почему—то поразил наше воображение. Нет, это была еще юность!
Каждый день в газетах появлялись статьи об арктических экспедициях — морских и воздушных, — и я читал их с волнением. Всем сердцем я рвался на Север.
И вот однажды, — мне предстоял в этот день один из трудных зачетных полетов, — уже сидя в машине, я увидел в руках своего инструктора газету. А в газете я увидел то, что заставило меня снять шлем и очки и вылезть из самолета.
«Горячий привет и поздравление участникам экспедиции, успешно разрешившим задачу сквозного плавания по Ледовитому океану», — это было написано крупными буквами в середине первой страницы.
Не слушая, что говорит мне изумленный инструктор, я еще раз взглянул на эту страницу — мне хотелось прочесть ее одним взглядом. «Великий Северный путь открыт» — название одной статьи! «Сибиряков» в Беринговом проливе» — название другой! «Привет победителям» — третьей! Это было известие об историческом походе «Сибирякова», впервые в истории мореплавания прошедшего в одну навигацию Северный морской путь — путь, который пытался пройти капитан Татаринов на шхуне «Св. Мария».
— Что с вами? Вы больны?
— Нет, товарищ инструктор.
— Высота тысяча двести метров. Два глубоких виража в одну сторону и два в другую. Четыре переворота через крыло.
— Слушаю, товарищ инструктор!
Я был так взволнован, что чуть не попросил разрешения отложить полет…
Весь этот день я думал о Кате, о покойной Марье Васильевне, о капитане, жизнь которого таким удивительным образом переплелась с моей. Но теперь я думал о них иначе, чем прежде, и мои обиды представились мне в другом, более спокойном свете. Конечно, я ничего не забыл. Я не забыл мой последний разговор с Марьей Васильевной, в котором каждое слово имело тайный смысл, — ее прощание с молодостью и самой жизнью. Я не забыл, как на другой день мы со старушкой сидели в приемном покое, и дверь открылась, и я увидел что—то белое с черной головой и голую руку, свесившуюся с дивана. Я еще не забыл, как Катя отвернулась от меня на похоронах, и не забыл своих мечтаний о том, как мы встретимся через несколько лет и я брошу ей доказательства своей правоты. Я не забыл, как Николай Антоныч плюнул мне в лицо.
Но все это вдруг представилось мне как бы какой—то пьесой, в которой главное действующее лицо появляется в последнем акте, а до сих пор о нем лишь говорят. Все говорят о человеке, портрет которого висит на стене, — портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и глубоко сидящими в орбитах глазами…
Да, он был главным действующим лицом в этой истории, и если в ней так много места заняла моя юность, так это лишь потому, что самые интересные мысли приходят в голову, когда тебе восемнадцать лет. Он был великим путешественником, которого погубило непризнание, и его история выходит далеко за пределы личных дел и семейных отношений. Великий Северный путь открыт — вот его история. Сквозное плавание по Ледовитому океану в одну навигацию — вот его мысль. Люди, решившие задачу, которая стояла перед человечеством четыреста лет, — вот его люди. С ними он мог говорить, как с равными. Что же в сравнении с этим мои мечты, надежды, желания! Чего я хочу? Зачем я стал летчиком? Почему я стремлюсь на Север?
И вот так же, как в моей воображаемой пьесе, все вдруг расставилось по своим местам, и совсем простые мысли пришли мне в голову о моем будущем и о моем деле. Многое из того, что я знал о жизни полярных летчиков, как бы повернулось другой стороной, и я представил себе бесконечные полугодовые ночи за Полярным кругом, недели изнуряющего ожидания погоды, полеты над снежными горными хребтами, когда глаза невольно высматривают место для вынужденной посадки, полеты в пургу, когда не видишь крыльев своей машины, мучительную возню с запуском мотора на пятидесятиградусном морозе. Я вспомнил формулу одного из полярных летчиков: «Что значит лететь на Север? — Пурговать и греть воду». Я вспомнил страшные рассказы об арктических метелях, которые хоронят человека в двух метрах от дома.
Но разве испугались этих трудов и опасностей сибиряковцы, которые под парусами вывели потерявший винт ледокол к Берингову морю?
Нет, прав был Петя. Нужно выбирать ту профессию, в которой ты способен проявить все силы души. Я стремился на Север, к профессии полярного летчика, потому что это была профессия, которая требовала от меня терпения, мужества и любви к своей стране и своему делу.
Кто знает, может быть, и меня когда—нибудь назовут среди людей, которые могли бы говорить с капитаном Татариновым, как равные с равным?
Я отметил в памяти день, когда мне пришли в голову эти мысли, — 3 октября 1932 года.
За месяц до окончания Балашовской школы я подал заявление, чтобы меня послали на Север. Но школа не отпустила меня. Я остался инструктором и еще целый год провел в Балашове. Не могу сказать, что я был хорошим инструктором. Конечно, я мог научить человека летать, и при этом у меня не было ни малейшего желания ежеминутно ругать его. Я понимал своих учеников — мне, например, было совершенно ясно, почему один, выходя из самолета, спешит закурить, а другой при посадке показывает напускную веселость. Но я не был учителем по призванию, и мне скучно было в тысячный раз объяснять другим то, что я давно знал.
В августе 1933 года я получил отпуск и поехал в Москву. Литер у меня был до Энска через Ленинград, и меня ждали в Ленинграде и в Энске. Но я все—таки решил заехать в Москву, где меня не ждали.
У меня были дела в Москве. Во—первых, я должен был заехать в Главсевморпуть и поговорить о моем переводе на Север; во—вторых, мне хотелось повидать Валю Жукова и Кораблева. Вообще у меня было много дел, и я очень быстро доказал себе, что мне совершенно необходимо заехать в Москву…
Конечно, я совершенно не собирался звонить Кате, тем более, что за эти три года я только однажды получил от нее привет — через Саню — и все было давно кончено и забыто. Все было так давно кончено и забыто, что я даже решил позвонить ей и на всякий случай приготовил первую вежливо—равнодушную фразу. Но у меня почему—то задрожала рука, когда я снял трубку, и неожиданно я сказал другой номер — Кораблева.
Я не застал его, — он был в отпуске, — и незнакомый женский голос сообщил мне, что он вернется только к началу учебного года.
— Сердечный привет от его ученика, — сказал я. — Передайте, что звонил летчик Григорьев.
Я положил трубку. Это было в гостинице, и нужно было сперва вызывать город, а уже потом говорить номер, и я с тоской смотрел на телефон и не звонил — все думал. Что я скажу ей? Я не мог говорить с ней, как с чужим человекам.
И я решил сперва позвонить в Зоопарк Вале.
Но и Вали не было в Москве. Мне вежливо сообщили, что ассистент Жуков находится на Крайнем Севере и едва ли вернется в Москву раньше чем через полгода.
— А кто его спрашивает?
— Передайте привет, пожалуйста, — сказал я. — Это говорит летчик Григорьев.
Больше мне некому было звонить в Москве, разве только какому—нибудь секретарю из Управления гражданского воздушного флота. Но мне было не до секретарей. Я снял трубку и сказал:
— Город.
Город ответил, и я назвал номер.
Нина Капитоновна подошла к телефону, я сразу узнал ее добрый решительный голос.
— Можно Катю?
— Катю? — с удивлением переспросила Нина Капитоновна. — Ее нету.
— Нету дома?
— Дома нету и в городе. А кто ее спрашивает?
— Григорьев, — сказал я. — Не можете ли вы сообщить мне ее адрес?
Нина Капитоновна помолчала. Без сомнения, она не узнала меня. Мало ли Григорьевых на свете!
— Она на практике. Адрес: город Троицк, геологическая партия Московского университета.
Я поблагодарил и повесил трубку.
Больше я не мог оставаться в этом скучном номере совершенно один, а до двух часов, когда меня должен был принять секретарь Главсевморпути, было еще далеко. Я вышел и стал бесцельно бродить по Москве.
Никогда не следует одному бродить по тем местам, где вы были вдвоем. Обыкновенный сквер в центре Москвы кажется самым грустным местом в мире. Не слишком шумная, довольно грязная улица, которых было в Москве сколько угодно, наводит такую тоску, что невольно начинаешь чувствовать себя гораздо старше и умнее.
Как будто я сам через несколько лет спокойно заглянул себе в душу и оценил все — и ненужную горячность в делах, которые касаются самого дорогого на земле — человеческого сердца, и неуверенность в себе, преследующую меня, быть может, с тех пор, когда я был немым мальчиком и мир казался мне таким необъяснимо сложным. Мне казалось теперь, что во мне еще были последние черты этой немоты. Например, в своей любви я не сумел полностью высказать себя и промолчал о самом важном. Мне казалось, что моя любовь не удалась потому, что очень сложные обстоятельства обступили ее со всех сторон, — и это снова был тот же сложный мир, перед которым немым мальчиком я застывал в каком—то оцепенении.
Нет, все переменилось в моей душе, я чувствовал это! Я больше не был горячим мальчиком, стремившимся, не теряя ни минуты, доказать свою правоту. Я знал теперь, что мне нужнее всего — спокойствие и твердость.
С чувством грусти и жалости к самому себе я думал об этих годах моей юности и школьной любви. Теперь кончено было с юностью и любовь уже не та. Но, как и прежде, все было впереди, и я смотрел вперед с еще большей надеждой, чем прежде.
Я недолго пробыл в Москве. Меня очень вежливо приняли в Главсевморпути, потом в Управлении гражданского воздушного флота. Но нечего было и думать о Севере — так мне сказали — до тех пор, пока меня не отпустит Балашовская школа.
Только через полтора года мне удалось добиться назначения на Север — и то совершенно случайно. Я познакомился в Ленинграде с одним старым полярным летчиком, который хотел вернуться в центр: ему уже не по годам были тяжелые северные полеты. Мы обменялись. Он занял мое место, а я получил назначение вторым пилотом на одну из дальних северных линий.
Глава 6. У ДОКТОРА.
Нетрудно было найти этот дом, потому что вся улица состояла только из одного дома, а все остальные существовали только в воображении строителей Заполярья.
Уже темнело, когда я постучался к доктору, и как раз окна осветились, и чья—то тень задумчиво прошла за шторой. Мне долго никто не открывал, и я сам тихонько открыл тяжелую дверь и очутился в чистых, просторных сенях.
— Хозяева есть?
Никто не откликнулся. В углу стоял голик, и я почистил им валенки: снег был по колено.
— Дома кто—нибудь?
Никого. Только маленький рыжий котенок выскочил из—под вешалки, испуганно посмотрел на меня и удрал. Потом в дверях появился доктор.
Может быть, это невероятно с медицинской точки зрения, но он не только не постарел за эти годы, но даже помолодел и снова стал похож на того длинного, веселого, бородатого доктора, который в деревне учил нас с сестрой печь картошку на палочках.
— Вы ко мне?
— Доктор, я хочу пригласить вас к больному, — сказал я быстро. — Интересный случай: немота без глухоты. Человек все слышит и не может сказать «мама».
Доктор медленно поднял очки на лоб.
— Виноват…
— Я говорю: интересный случай, — продолжал я серьезно. — Человек может произнести только шесть слов: кура, седло, ящик, вьюга, пьют, Абрам. Больной Г. Описано в журнале.
Доктор подошел ко мне с таким видом, как будто собрался взять меня за язык или заглянуть в ухо. Но он просто сказал:
— Саня!
Мы обнялись.
— Прилетел все—таки!
— Прилетел.
— Ну, молодец! Летчик? Ну, молодец! Ну, молодец!
Он обнял меня за плечи и повел в столовую. Там стоял мальчик лет двенадцати, очень похожий на доктора. Он подал мне руку и сказал на «о»: «Володя».
Здесь было светлее, чем в сенях, и доктор снова принялся рассматривать меня со всех сторон и на этот раз, кажется, с трудом удержался, чтобы действительно не заглянуть в ухо.
— Ну, молодец, — снова, раз десять повторил он. — А сестра? Где она? Тоже летает?
— От сестры сердечный привет, — сказал я. — Она художница, вышла замуж и живет в Ленинграде.
— Уже замужем? С косичками?
Я засмеялся. Саня в детстве носила косички.
— Ох, я старик, — со вздохом сказал доктор. — Приезжает маленький худенький мальчик, который ходил в больших рваных штанах, и оказывается — он летчик. Девочка с косичками — художница, вышла замуж и живет в Ленинграде.
— Иван Иваныч, честное слово, вы не переменились. Просто поразительно. Даже помолодели!
Он засмеялся. Ему было приятно, что я так говорю, и я потом весь вечер время от времени повторял, что он помолодел или, во всяком случае, нисколько не переменился.
Мы сидели за чаем, когда пришла жена доктора, Анна Степановна, высокая полная женщина, которая показалась мне похожей в своей малице и пимах на какого—то северного бога. Она сняла малицу и сменила пимы и все—таки осталась такой большой, что даже длинный доктор выглядел в сравнении с ней каким—то не очень длинным, не говоря уже обо мне. У нее было совсем молодое лицо, и она очень подходила к этому чистому деревянному дому, к желтому полу и деревенским половикам. В ней было что—то старорусское, как, впрочем, и в самом Заполярье, хотя это был совершенно новый город, построенный только пять—шесть лет тому назад. Потом я узнал, что она поморка.
Мы заговорили о Заполярье, и я узнал историю этого удивительного деревянного города с деревянными тротуарами и мостовыми — города, в котором самая почва состоит из слежавшихся опилок.
— Как дождь пройдет, кажется, что идешь по квартире, — сказала Анна Степановна. — Все полы, полы. И шоссе деревянное.
Оказалось, что доктор приехал в Заполярье с первым пароходом и весь город был построен у него на глазах.
— Здесь в двадцать восьмом году была тайга, — сказал он. — А вот на этом месте, где мы сейчас сидим и пьем чай, били зайцев.
— А теперь стоит один дом, — сказала Анна Степановна, — а улицу собирались построить, да так и не собрались.
— А театр, скажешь, плохой?
— Театр хороший.
— К нам в прошлом году приезжал МХАТ, — сказал Володя и покраснел. — Мы их встречали с цветами. Они удивлялись, откуда у нас цветы, а у нас сколько угодно.
Все посмотрели на него, и он еще больше покраснел.
— Володя любит театр, — сказала Анна Степановна, — и еще очень любит…
— Мама!
Доктор засмеялся.
— Мамочка, можно тебя на минуту? — грозно сказал Володя и вышел.
Анна Степановна тоже засмеялась и пошла за ним.
— Стихи пишет, — шепотом сказал доктор. — Нет, теперь, когда вспоминаешь, очень интересно, — продолжал он. — Это было здорово! Когда первый лесозавод строили — в газете вместо даты печатали: столько—то дней до пуска лесозавода. Двадцать дней. Девятнадцать дней. И наконец — один день! А первые самолеты! Как их встречали! А ты? — вдруг спохватился доктор. — Как ты? Что собираешься делать?
— Собираюсь летать.
— Куда?
— Еще не знаю. Планы большие, а пока буду возить в Красноярск пушнину.
— А планы — новая трасса?
— Да… Иван Иваныч, — сказал я, когда было съедено все, что было на столе, и мы принялись за очень вкусное самодельное вино из морошки, — помните ли вы те письма, которыми мы обменялись, когда я еще был в Ленинграде?
— Помню.
— Вы написали мне очень интересное письмо об этом штурмане, — продолжал я, — и мне, прежде всего, хочется узнать, сохранились ли его черновые тетради?
— Сохранились.
— Очень хорошо. А теперь выслушайте меня. Это довольно длинная история, но я все—таки расскажу ее вам. Как известно, не кто иной, как вы, в свое время научили меня говорить. Вот и расплачивайтесь.
И я рассказал ему все — начиная с чужих писем, которые когда—то читала мне вслух тетя Даша. О Кате я сказал только несколько слов — в порядке информации. Но доктор в этом месте почему—то улыбнулся и сейчас же принял равнодушный вид.
— …Это был очень усталый человек, — сказал он о штурмане. — В сущности, он умер не от гангрены, а от усталости. Он истратил слишком много сил, чтобы избежать смерти, и на жизнь уже не осталось. Такое он производил впечатление.
— Вы говорили с ним?
— Говорил.
— О чем?
— По—моему, о каком—то южном городе, — сказал доктор, — не то о Сухуме, не то о Баку. Это у него была просто навязчивая идея. Все тогда говорили о войне: только что началась война. А он о Сухуме — как там хорошо, тепло. Должно быть, он был оттуда родом.
— Иван Иваныч, эти дневники, они у вас здесь? В этом доме?
— Здесь.
— Покажите.
Я часто думал об этих дневниках, и в конце концов, они стали казаться мне какими—то толстыми, в черном клеенчатом переплете. Но доктор вышел и через несколько минут вернулся с двумя узенькими тетрадочками, похожими на школьные словари иностранных слов. Невольное волнение охватило меня, когда я наудачу открыл одну из тетрадок:
«Штурману Ив. Дм. Климову.
Предлагаю Вам и всем нижепоименованным, согласно Вашего и их желания, покинуть судно с целью достижение обитаемой земли…»
— Доктор, но ведь у него превосходный почерк! Я читаю совершенно свободно!
— Нет, это у меня превосходный почерк, — возразил доктор. — Ты читаешь то, что мне удалось разобрать. Я в нескольких местах вложил листочки с прочитанным текстом. А все остальное — взгляни!
И он открыл тетрадку на первой странице.
Мне случалось видеть неразборчивые почерки: например, Валя Жуков писал так, что педагоги долгое время думали, что он над ними смеется. Но такой почерк я видел впервые: это были настоящие рыболовные крючки, величиной с булавочную головку, рассыпанные по странице в полном беспорядке.
Первые же страницы были залиты каким—то жиром, и карандаш чуть проступал на желтой прозрачной бумаге. Дальше шла какая—то каша из начатых и брошенных слов, потом набросок карты и снова каша, в которой не мог бы разобраться никакой графолог.
— Ладно, — сказал я и закрыл тетрадку. — Я это прочитаю.
Доктор с удовольствием посмотрел на меня.
— Желаю успеха, — сердечно сказал он.
Я остался у него ночевать, потому что стало темно, пока я сидел в гостях, и начиналась вьюга, а в Заполярье не принято выходить на улицу, когда начинается вьюга. Анна Степановна приготовила мне постель в Володиной комнате, на складной кровати, и я перед сном долго рассматривал Володю, который спал на боку, подложив под щеку аккуратно сложенные ладони. Во сне это был настоящий маленький доктор, только бороды не хватало. Складная кровать громко заскрипела, когда я сел на нее, собираясь снять сапоги. Он на мгновение открыл большие синие глаза и что—то пробормотал не просыпаясь.
Глава 7. ЧИТАЮ ДНЕВНИКИ.
Не могу назвать себя нетерпеливым человеком. Но, кажется, только гений терпения мог прочитать эти дневники! Без сомнения, они писались на привалах, при свете коптилок из тюленьего жира, на сорока пятиградусном морозе, замерзшей и усталой рукой. Видно было, как в некоторых местах рука срывалась и шла вниз, чертя длинную, беспомощную, бессмысленную линию.
Но я должен был прочитать их!
И снова я принимался за эту мучительную работу. Каждую ночь — а в свободные от полетов дни с утра — я с лупой в руках садился за стол, и вот начиналось это напряженное, медленное превращение рыболовных крючков в человеческие слова — то слова отчаяния, то надежды. Сперва я шел напролом — просто садился и читал. Но потом одна хитрая мысль пришла мне в голову, и я сразу стал читать целыми страницами, а прежде — отдельными словами.
Перелистывая дневники, я заметил, что некоторые страницы написаны гораздо отчетливее других, — например, приказ, который скопировал доктор. Я выписал из этих мест все буквы — от «а» до «я» — и составил «азбуку штурмана», причем в точности воспроизвел все варианты его почерка. И вот с этой азбукой дело пошло гораздо быстрее. Часто стоило мне, согласно этой азбуке, верно угадать одну или две буквы, как все остальные сами собой становились на место.
Так день за днем я разбирал эти дневники.
ДНЕВНИКИ ШТУРМАНА ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ
ИВ. ДМ. КЛИМОВА
Среда, 27 мая. Снялись поздно и за 6 часов прошли 4 версты. Сегодня у нас юбилейный день. Мы считаем, что всего отошли от судна 100 верст. Конечно, это не так уж много для месяца хода, но и дорога, зато такая, какой мы не ожидали. Справили мы свой юбилей торжественно: сварили из сушеной черники суп и подправили его для сладости двумя банками консервированного молока.
Пятница, 29 мая. Если мы доберемся до берега, то пусть эти люди — я не хочу даже называть их — помнят 29 мая, день своего избавления от смерти, и ежегодно чтут его. Но если спаслись люди, то все же утопили двустволку и нашу кормилицу—кухню. Благодаря этому мы должны были вчера есть сырое мясо и пить холодную воду, разведенную молоком. Эх, только бы привел мне бог благополучно добраться до берега с этими ротозеями!
Воскресенье, 31 мая. Вот тот официальный документ, на основании которого я должен был выступить во главе части команды:
«Штурману Ив. Дм. Климову.
Предлагаю Вам и всем нижепоименованным, согласно Вашего и их желания, покинуть судно с целью достижения обитаемой земли, сделать это 10—го сего апреля, следуя пешком по льду, везя за собой нарты с каяками и провизией, взяв таковой с расчетом на два месяца. Покинув судно, следовать на юг до тех пор, пока не увидите земли. Увидев же землю, действовать сообразно с обстоятельствами, но предпочтительно стараться достигнуть Британского канала между островами Земли Франца Иосифа, следовать им, как наиболее известным, к мысу Флора, где, я предполагаю, можно найти провизию и постройки. Далее, если время и обстоятельства позволят, направиться к Шпицбергену. Достигнув Шпицбергена, представится Вам чрезвычайно трудная задача найти там людей, о месте пребывания которых мы не знаем, но, надеюсь, на южной части его Вам удастся застать, если не живущих на берегу, то какое—нибудь промысловое судно. С Вами пойдут, согласно их желания, тринадцать человек из команды.
Капитан судна «Св. Мария»
Иван Татаринов.
10 апреля 1914 года,
в Северном Ледовитом океане».
Видит бог, как тяжело мне было уйти, оставив его в тяжелом, почти безнадежном положении.
Вторник, 2 июня. Еще на судне машинист Корнев сделал нам четыре пары очков, но нельзя сказать, что они достигают своего назначения, Стекла сделаны из бутылок от «джина». В передних нартах идут счастливцы «зрячие», а «слепцы» тянутся по их следам с закрытыми глазами, только по временам поглядывая сквозь ресницы на дорогу. Глаза болят от мучительного, нестерпимого света. Вот картина нашего движения, которой я никогда не забуду: мы идем мерно, в ногу, одновременно покачиваясь впереди, налегая на лямку грудью и держась одной рукой за борт каяка. Мы идем с плотно закрытыми глазами. В правой руке — лыжная палка, которая с механической точностью заносится вперед, откидывается вправо и медленно остается позади. Как однообразно, как отчетливо скрипит снег под наконечником этой палки! Невольно прислушиваешься к этому поскрипыванию, и кажется — ясно слышишь: «далеко, далеко». Как в забытьи, идем мы, механически переставляя ноги и налегая грудью на лямку… Сегодня мне представилось, что я иду по набережной жарким летом, в тени, высоких домов. В этих домах азиатские фруктовые склады, двери раскрыты настежь, и слышен ароматный, пряный запах свежих и сухих фруктов. Одуряюще пахнет апельсинами, персиками, сушеными яблоками, гвоздикой. Персы—торговцы поливают водой мягкую от жары асфальтовую панель, и мне слышится их спокойная гортанная речь. Боже, как хорошо пахнет, какая приятная прохлада!.. Я очнулся, споткнувшись о свою палку, схватился за каяк и остановился пораженный — снег, снег, снег, докуда видит глаз. По—старому ослепительно светит солнце, по—старому нестерпимо болят глаза.
Четверг, 4 июня. Сегодня, идя по следам Дунаева, я обратил внимание, что он плюет кровью. Осмотрел десны — цинга. Последние дни он жаловался на ноги.
Пятница, 6 июня. У меня не выходит из головы Иван Львович — в ту минуту, когда, провожая нас, он говорил прощальную речь и вдруг замолчал, сжав зубы и осмотревшись с какой—то беспомощной улыбкой. Он болен, я оставил его только что вставшим с постели. Боже мой, это самая страшная ошибка! Но не возвращаться же назад.
Суббота, 6 июня. Еще третьего дня Морев все приставал ко мне, будто с вершины тороса он видел какую—то «ровнушку», то есть совершенно ровный лед, который тянется на юг очень далеко. «Своими глазами видел, господин штурман! Такая ровнушка, что копыто не пишет». Сегодня утром его не оказалось в палатке. Он ушел без лыж, и следы его пим чуть заметны на тонком слое крепкого снега. Мы искали его целый день, кричали, свистели, стреляли. Он ответил бы нам — у него была с собой винтовка—магазинка и штук двенадцать патронов. Но ничего не было слышно.
Воскресенье, 7 июня. Из каяков, лыж и лыжных палок связали мачту вышиной в пять сажен, прикрепили к ней два флага и поставили на вершине холма. Если он жив, он увидит наши сигналы.
Вторник, 9 июня. Снова в путь. Осталось тринадцать человек — роковое число. Когда же, наконец, будет земля, хотя какая—нибудь, голая, неприветливая земля, которая стояла бы на месте, на которой мы не опасались бы ежеминутно, что нас относит на север!
Среда, 10 июня. Сегодня к вечеру снова видение южного города, набережной и ночного кафе с людьми в белых панамах. Сухум? Снова пряный, душистый запах фруктов и горькие мысли: «Зачем я пошел в это плавание, в холодное, ледяное море, когда так хорошо плавать на юге? Там тепло. В одной рубашке можно ходить и даже босиком. Можно есть много апельсинов, винограда и яблок». Странно, почему я никогда особенно не любил фруктов? Впрочем, и шоколад — хорошая вещь, с ржаными сухарями, как мы едим в полуденный привал. Только мы получаем его очень мало — по одной дольке, на которые разделена плитка. А хорошо бы поставить перед собой тарелку с просушенными ржаными сухарями, а в руку взять сразу целую плитку шоколада и есть, сколько хочется! Сколько верст до этой возможности, сколько часов, дней, недель!
Четверг, 11 июня. Дорога отвратительная, с глубоким снегом, под которым много воды. Полыньи все время преграждают наш путь. Прошли сегодня не более трех верст. Весь день — туман и тот матовый свет, от которого так сильно болят глаза. И сейчас эту тетрадь я вижу, как сквозь кисею, и горячие слезы текут по моим щекам. Завтра Троица. Как хорошо будет в этот день «там», где—нибудь на юге, и как плохо здесь, на плавучем льду, сплошь изрезанном полыньями и торосами, под 82—м градусом, широты! Лед переставляется ежеминутно, прямо на глазах, Одна полынья скрывается, другая открывается, как будто какие—то великаны играют в шахматы на исполинской доске.
Воскресенье, 14 июня. Вот открытие, о котором я ничего не сказал моим спутникам: нас проносит мимо земли. Сегодня мы достигли широты Франца—Иосифа и продолжаем двигаться на юг — между тем не видно и намека на острова. Нас проносит мимо земли. Это я вижу и по моему никуда не годному хронометру, и по господствующим ветрам, и по направлению выпущенного в воду линя.
Понедельник, 15 июня. Я оставил его больным, в отчаянии, которое только он был в состоянии утаить. Это лишает меня веры в наше спасение.
Вторник, 16 июня. Цинготных у меня теперь двое. Соткин тоже заболел, и десны у него кровоточат и припухли. Мое лечение заключается в том, что я посылаю их на лыжах искать дорогу, а на ночь даю облатку хины. Может быть, это жестокий способ лечения, но, по—моему, единственный до тех пор, пока человек не утратил нравственной силы. Самую тяжелую форму цинги я наблюдал у Ивана Львовича, который болел ею почти полгода и лишь нечеловеческим усилием воли заставил себя выздороветь, то есть просто не позволил себе умереть. И эта воля, этот широкий, свободный ум, эта неистощимая бодрость души обречены на неизбежную гибель.
Четверг, 18 июня. Широта 81. Опять приходится удивляться быстроте дрейфа на юг.
Пятница, 19 июня. Около четырех часов на OSO от нашей стоянки я увидел «нечто». Это были два розоватых — облачка над самым горизонтом, которые не меняли своей формы, пока их не закрыло туманом. Кажется, никогда мы не были окружены таким количеством разводьев, как теперь. Много летает нырков и визгливых белых чаек. Ох, эти чайки! Как часто по ночам они не дают мне заснуть, суетясь, споря и ссорясь между собой около выброшенных на лед внутренностей убитого тюленя. Они, как злые духи, издеваются над нами, хохочут до истерики, визжат, свистят и едва ли не ругаются. Как долго я буду помнить эти «крики чайки белоснежной», эти бессонные ночи в палатке, это незаходящее солнце, просвечивающее сквозь полотно ее!
Суббота, 20 июня. За неделю нашей стоянки мы продрейфовали со льдом к югу на целый градус.
Понедельник, 22 июня. Вечером я по обыкновению забрался на высокий ропак, чтобы осмотреть горизонт. На этот раз я увидел на О от себя что—то такое, от чего я в волнении должен был присесть на ропак и поспешно стал вытирать и глаза и бинокль. Это была светлая полоска, похожая на аккуратный мазок кистью по голому полю. Сперва решил, что это луна, но почему—то левая половина сегмента этой луны постепенно тускнела, а правая становилась резче. Ночью я раз пять выходил посмотреть в бинокль и каждый раз находил этот кусочек луны на том же месте. Я удивляюсь, что никто их моих спутников ничего не видит. Какого труда стоит мне сдержать себя, не вбежать в палатку, не закричать во весь голос: «Что вы сидите чучелами, что вы спите, разве вы не видите, что нас подносит к земле?» Но я почему—то молчу. Кто знает, быть может, и это мираж. Видел же я себя в южном городе, на набережной, жарким летом, в тени высоких домов!
(На этой фразе кончалась первая тетрадь, Вторая начиналась 11 июля).
Суббота, 11 июля. Убили тюленя, от которого собрали две миски крови и из этой крови и нырков сделали очень хорошую похлебку. Когда мы варим чай или похлебку, то обыкновенно шутить не любим. Сегодня утром мы съели ведро похлебки и выпили ведро чаю; в обед съели ведро похлебки и выпили ведро чаю; и сейчас на ужин мы съели больше чем по фунту мяса и дожидаемся с нетерпением, когда вскипит наше ведро чаю. А ведро у нас большое, в форме усеченного конуса. Мы бы, пожалуй, не прочь и сейчас сварить и съесть ведро похлебки, но мы стесняемся, надо «экономить». Аппетиты у нас не волчьи, а много больше; это что—то ненормальное, болезненное.
Итак, мы сидим на острове, под нами не лед, с которого мы не сходили два года, а земля и мох. Все хорошо, но одна мысль по—прежнему не дает мне покоя: зачем капитан не отправился с нами? Он не хотел оставить корабль, он не мог вернуться «с пустыми руками». «Меня заклюют, если я вернусь с пустыми руками». И потом эта детская, безрассудная мысль: «Если безнадежные обстоятельства заставят меня покинуть корабль, я пойду к земле, которую мы открыли». Мне кажется, последнее время он был немного помешан на этой земле. Мы видели ее в апреле 1913 вода.
Понедельник, 13 июля. На OSO море до самого горизонта свободно ото льда. Эх, «Св. Мария», вот бы куда, красавица, тебе попасть! Тут бы ты пошла чесать, не надо и машины!
Вторник, 14 июля. Сегодня Соткин и Корольков, уйдя на оконечность острова, сделали замечательную находку. Недалеко от моря они увидали небольшой каменный холм. Их поразила правильная форма этого холма. Подойдя ближе, они увидали недалеко бутылку из—под английского пива с патентованной, завинчивающейся пробкой. Ребята сейчас же разбросали холм и скоро под камнями нашли железную банку. В банке оказался очень хорошо сохранившийся английский флаг, а под ним такая же бутылка. На бутылке была приклеена бумажка с несколькими именами, а внутри — записка на английском языке. Кое—как, соединенными усилиями, вместе с Нильсом мы разобрали, что английская полярная экспедиция под начальством Джексона, отойдя в августе месяце 1897 года от мыса Флора, прибыла на мыс Мэри Хармсворт, где и положила этот флаг и записку. В конце сообщалось, что на судне «Виндворд» все благополучно.
Вот неожиданное разъяснение всех моих сомнений: мы находимся на мысе Мэри Хармсворт. Это юго—западная оконечность Земли Александры. Завтра мы предполагаем перейти на южный берег острова и отправиться к мысу Флора, в имение этого знаменитого англичанина Джексона.
Среда, 15 июля. Покинули лагерь. Нам предстоял выбор: идти ли всем по леднику и тащить за собой груз, или разделиться на две партии, из которых одна шла бы на лыжах по леднику, а другая, в пять человек, плыла бы вдоль ледника на каяках. Мы избрали этот последний способ передвижения.
Четверг, 16 июля. Утром Максим с Нильсом стали перегонять каяки ближе к месту нашей стоянки, и Нильса так далеко отнесло течением, что двоим пришлось отправиться ловить его. Я смотрел в бинокль и видел, как Нильс убрал весло и с самым беспомощным видом смотрел на идущий к нему на выручку каяк. Нильс очень болен, иначе я не могу объяснить его поведение. Да и вообще он стал какой—то странный: походка нетвердая и сидит все время в стороне. На ужин мы сегодня сварили двух нырков и одну гагу.
Пятница, 17 июля. Погода отвратительная. Продолжаем сидеть на мысе Гранта и ожидать береговую партию. Ночью прояснилось. Впереди, на ONO, кажется совсем недалеко, виден за сплошным льдом скалистый остров. Неужели это Нордбрук, на котором и есть мыс Флора? Приближается время, когда выяснится, прав ли я был, стремясь к этому мысу? Двадцать лет — срок большой. Может быть, там за это время и следа не осталось от построек Джексона? Но что было делать иначе? Делать большой обход? Да разве выдержали бы его мои несчастные, больные спутники, в лохмотьях, пропитанных ворванью и полных паразитов?
Суббота, 18 июля. Завтра, если позволит погода, мы отправимся дальше. Ждать я больше не могу. Нильс едва ходит, и Корольков немногим лучше его. Дунаев хотя и жалуется на ноги, но у него не заметно той страшащей меня апатии, того упадка сил, как у Нильса и Королькова. Что могло задержать пешеходцев? Не знаю, но оставаться здесь дольше — это верная смерть.
Понедельник, 20 июля. Остров Белль, Выходя из каяков, мы убедились, что Нильс уже не может ходить; он падал и старался ползти на четвереньках. Устроив нечто вроде палатки, мы затащили туда Нильса и закутали в наше единственное одеяло. Он все намеревался куда—то ползти, но потом успокоился. Нильс — датчанин. За два года службы на «Св. Марии» он научился хорошо говорить по—русски. Но со вчерашнего дня он забыл русскую речь. Больше всего поражают меня его бессмысленные, полные ужаса глаза — глаза человека, потерявшего рассудок. Мы сварили бульон и дали ему полчашки. Он выпил и лег. Жаль хорошего матроса, очень неглупого, старательного. Все легли спать, а я, взяв винтовку, пошел посмотреть с утесов на мыс Флора.
Вторник, 21 июля. Нильс умер ночью. Он даже не сбросил одеяла, в которое мы завернули его. Лицо его было спокойно и не обезображено предсмертными муками. Часа через два мы вытащили своего успокоившегося товарища и положили его на нарту. Могила была не глубока, так как земля сильно промерзла. Никто из нас не поплакал над этой одинокой далекой могилой. Смерть этого человека не очень поразила нас, как будто произошло самое обычное дело. Конечно, это не было черствостью, бессердечием. Это было ненормальное отупение перед лицом смерти, которая у всех нас стояла за плечами. Как будто и враждебно поглядывали мы теперь на следующего «кандидата», на Дунаева, мысленно гадая, «дойдет он или уйдет ранее». Один из спутников даже как бы со злостью прикрикнул на него: «Ну, ты чего сидишь, мокрая курица? За Нильсом, что ли, захотел? Иди, ищи плавник, шевелись!» Когда Дунаев покорно пошел, то ему еще вдогонку закричали: «Позапинайся у меня, позапинайся!» Это не было озлоблением против Дунаева. Не важен был теперь и плавник. Это было озлобление против болезни, забирающей товарища, призыв бороться со смертью до конца. Запинание, когда ноги подгибаются, как парализованные, очень характерно. Потом начинает плохо слушаться язык. Больной начинает старательно выговаривать некоторые слова, но, видя, что из этого ничего не выходит, как будто смущается и умолкает.
Среда, 22 июля. В три часа отправились к мысу Флора. Снова думал об Иване Львовиче. Я больше не сомневаюсь, что он немного помешан на этой земле, которую мы открыли. В последнее время он постоянно упрекал себя в том, что не отправил партию, чтобы исследовать ее. Он сказал о ней и в своей прощальной речи. Никогда не забуду этого прощанья, этого бледного, вдохновенного лица с делеким взглядом! Что общего с прежним румяным, полным жизни человеком, выдумщиком анекдотов и забавных историй, кумиром команды, с шуткой подступавшим к любому, самому трудному делу? Никто не ушел после его речи. Он стоял с закрытыми глазами, как будто собираясь с мыслями, чтобы сказать прощальное слово. Но вместо, слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз сверкнули слезы. Он заговорил сперва отрывисто, потом все более спокойно: «Нам всем тяжело провожать друзей, с которыми мы сжились за два года нашей борьбы и работы. Но мы должны помнить, что хотя основная задача экспедиции не решена, все же мы сделали немало. Трудами русских в историю Севера записаны важнейшие страницы — Россия может гордиться ими. На нас лежала ответственность — оказаться достойными преемниками русских исследователей Севера. И если мы погибнем, с нами не должно погибнуть наше открытие. Пускай же ваши друзья передадут, что трудами экспедиции к России присоединена обширная земля, которую мы назвали „Землей Марии“. Он помолчал, потом обнял каждого из нас и сказал: „Мне хочется сказать вам не „прощайте“, а «до свиданья“.
Четверг, 30 июля. Теперь нас осталось только восемь — четверо на каяках и четверо где—то на Земле Александры.
Суббота, 1 августа. Вот что произошло в этот день: мы были уже в двух—трех милях от мыса Флора, когда подул сильный NO ветер, который быстро стал крепчать и через полчаса дул, как из трубы, разводя крутую зыбь. Незаметно в тумане мы потеряли из виду второй каяк, с Дунаевым и Корольковым. Бороться с ветром и течением на этой зыби было невозможно, и мы пристали к одному из айсбергов побольше, с подветренной стороны, влезли на него и втащили каяк. Забравшись на айсберг, мы воткнули в его вершину мачту и подняли флаг в надежде, что если Дунаев увидит его, то догадается тоже взобраться на какую—нибудь льдину. Было довольно холодно, и мы, порядком устав, решили лечь спать. Надев на себя малицы, мы легли на вершине айсберга друг к другу ногами, так что ноги Максима находились у меня в малице, за моей спиной, а мои ноги — в малице Максима, за его спиной. Таким образом мы заснули и безмятежно спали 7—8 часов. Пробуждение наше было ужасно. Мы проснулись от страшного треска, почувствовали, что летим вниз, а в следующую минуту наш двуспальный мешок был полон водой, мы погружались в воду и, делая отчаянные усилия выбраться из этого предательского мешка, отбивались друг от друга ногами. Мы были в положении кошек, которых бросили в воду, желая утопить. Не могу сказать, сколько секунд продолжалось наше барахтанье, но мне оно показалось страшно продолжительным. Вместе с мыслями о спасении и гибели в голове моей пронеслись различные картины нашего путешествия: смерть Морева, Нильса, четырех пешеходцев. Теперь пришла наша очередь, и никто никогда не узнает об этом. В этот момент мои ноги попали на ноги Максима, мы вытолкали друг друга из мешка, а в следующее мгновение уже стояли мокрые на подводной «подошве» айсберга, швыряя на льдину сапоги, шапки, одеяла, рукавицы, плававшие вокруг нас в воде. Малицы были так тяжелы, что каждую мы должны были поднимать вдвоем, а одеяло так и не поймали — оно потонуло. Напрасно я ломал себе голову — что же нам теперь делать? Ведь мы замерзнем! Как бы в ответ на наш вопрос, с вершины полетел в воду наш каяк, который или сдуло ветром, или под которым подломился лед, как подломился он под нами. Теперь мы знали, что делать! Мы выжали свои носки и куртки, надели их опять, побросали в каяк все, что у нас осталось, сели и давай грести! Боже мой, с каким остервенением мы гребли! Только это, я думаю, и спасло нас. Часов через шесть мы подошли к мысу Флора…»
Среди ранних записей, вскоре после ухода штурмана с корабля, я нашел интересную карту. У нее был старомодный вид, и я подумал, что она похожа на карту, приложенную к путешествию Нансена на «Фраме».
Но вот что поразило меня: это была карта дрейфа «Св. Марии» с октября 1912 года по апрель 1914 года, и дрейф был показан на тех местах, где лежала так называемая Земля Петермана. Кто теперь не знает, что этой земли не существует? Но кто знает, что этот факт впервые установил капитан Татаринов на шхуне «Св. Мария»?
Что же он сделал, этот капитан, имя которого не встречается ни в одной географической книге? Он открыл Северную Землю, он доказал, что Земли Петермана не существует. Он изменил карту Арктики — и все же считал свою экспедицию неудачей…
Но вот что было самое главное: в пятый, в шестой, в седьмой раз перечитывая дневник уже по моей копии (так что мне больше не мешал самый процесс чтения), я обратил внимание на записи, в которых говорилось о том, как капитан относился к этому открытию:
«В последнее время он постоянно упрекал себя в том, что не отправил партию, чтобы исследовать ее» (то есть Северную Землю).
«…Если мы погибнем, с нами не должно погибнуть наше открытие. Пускай же наши друзья передадут, что трудами экспедиции к России присоединена обширная земля, которую мы назвали „Землей Марии“.
«Если безнадежные обстоятельства заставят меня покинуть корабль, я пойду к земле, которую мы открыли».
И штурман называет эту мысль детской и безрассудной.
Детской и безрассудной! В последнем письме капитана, которое когда—то читала мне тетя Даша, были эти два слова.
«Волей—неволей мы должны были отказаться от первоначального намерения пройти во Владивосток вдоль берегов Сибири. Но нет худа без добра! Совсем другая мысль теперь занимает меня. Надеюсь, что она не покажется тебе, как некоторым моим спутникам, „детской или безрассудной…“
Страница кончалась на этих словах, а следующего листа не хватало. Теперь я знал, что это за мысль: он хотел покинуть корабль и направиться к этой земле. Экспедиция, которая была главной целью его жизни, не удалась. Он не мог вернуться домой «с пустыми руками». Он стремился к своей земле, и для меня было ясно, что если где—либо еще сохранились следы его экспедиции, то их нужно искать на этой земле! Но, может быть, это было ясно только для меня? Может быть, это казалось мне таким ясным потому, что я знал женщину, именем которой была названа эта земля, и видел, как она умирала, и очень хотел найти следы этой экспедиции, и еще больше хотел доказать Кате, что я люблю ее и никогда не перестану любить.
Поздней ночью в марте 1935 года я переписал последнюю страницу этого дневника, последнюю, которую мне удалось разобрать.
В большом двухэтажном доме окрисполкома, где я тогда жил, все давно спали, и только из моего окна свет падал на тоненькие деревца у дороги, прикрытые снегом. У меня немного болела голова, глаза. Я оделся и вышел.
Было тихо, морозно и не очень темно — много звезд, и на западе — слабое северное сияние. И прежнее памятное чувство, которое я пережил на Балашовском аэродроме, вернулось ко мне.
Как будто в театре вдруг зажгли свет и я увидел рядом с собой людей, которых только что видел на сцене. Неужели это действительно было? Кажется, еще минуту тому назад нельзя было сказать — живые ли это люди, или только игра, которая побледнеет и исчезнет при ясном свете реальной мысли; но вот свет зажгли, и ничего не исчезло. Напротив, с необыкновенной ясностью, во всей жизненной полноте, я увидел вокруг себя этих людей с их страхами и болезнями, с отчаяньем, видениями и надеждами. Когда они покинули корабль, он стоял в ста семидесяти километрах от берега, а они прошли около двух тысяч километров по ледяной пустыне, потому что их проносило мимо земли. Среди них не было капитана, но этот страшный дневник был полон им — его словами, любовью к нему и опасениями за его жизнь! Прощальная речь была написана карандашом, врезавшимся в бумагу, — и это было самое разборчивое место во всем дневнике. «Но вместо слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз свернули слезы…»
Узнаю ли я когда—нибудь, что случилось с этим человеком, как будто поручившим мне рассказать историю его жизни, его смерти? Оставил ли он корабль, чтобы изучить открытую им землю, или погиб от голода вместе со своими людьми, и шхуна, замерзшая во льдах у берегов Ямала, годами шла путем Нансена к Гренландии с мертвой командой? Или в холодную бурную ночь, когда не видно ни звезд, ни луны, ни северного сияния, она была раздавлена льдами, и с грохотом полетели вниз мачты, стеньги и реи, ломая все на палубе и убивая людей, в предсмертных судорогах затрещал корпус, и через два часа пурга уже занесла снегом место катастрофы?
Или еще живут где—нибудь на безлюдном полярном острове люди со «Св. Марии», которые могли бы, рассказать о судьбе корабля, о судьбе капитана? Ведь прожили же несколько лет на необитаемом уголке Шпицбергена шесть русских матросов, били медведей и тюленей, питались их мясом, одевались в их шкуры, устилали шкурами пол своего шалаша, который они сделали из льда и снега?
Да нет, куда там! Минуло двадцать лет, как была высказана «детская», «безрассудная» мысль покинуть корабль и идти на Землю Марии. Пошли ли они на эту землю? Дошли ли?
Глава 8. СЕМЕЙСТВО ДОКТОРА.
Всю зиму я разбирал эти дневники, а между тем моя жизнь в Заполярье шла своим путем. Я возил в Красноярск инструменты для лесозаводов и в конце концов, довел этот маршрут до восьми с половиной летных часов. Я перебрасывал изыскательские партии в Норильск, возил учителей, врачей, партработников в глухие ненецкие районы. С известным летчиком М. я был на Диксоне. Мне приходилось летать по притокам Енисея — Курейке и Нижней Тунгуске.
Но, возвращаясь в Заполярье, я, прежде всего, отправлялся к доктору, — разумеется, после парикмахерской и бани.
Я очень привязался к доктору и его семейству, и они меня, кажется, полюбили. Это было очень смешно, что доктор относился ко мне, как к своему произведению, — он даже иногда прищуривал один глаз, как будто все—таки не совсем доверял, что я — тот самый худенький черный мальчик в больших штанах, который когда—то твердил: «кура, седло, ящик». Конечно, теперь он не казался мне таким загадочным, как в деревне, в детстве. Но и теперь никогда нельзя было сказать, что он станет делать в следующую минуту. Он мог, например, во время разговора вдруг бросить вам свой стул, и вы непременно должны были поймать его и бросить обратно. И через несколько минут такой гимнастики доктор как ни в чем не бывало садился на этот стул, и разговор продолжался. Ненцам, среди которых у него были настоящие друзья, он любил читать Козьму Пруткова.
Они приезжали к нему, смуглые, черноволосые, широколицые, в расшитых бисером оленьих шубах. Они сидели и разговаривали, а олени, серые, с печальными глазами, запряженные в высокие нарты, подолгу стояли у крыльца.
Доктор говорил по—ненецки, и ненцы приезжали к нему советоваться — иногда по очень важным делам. Не все было им ясно в новом социалистическом строе, и они не вполне доверяли какому—то Ваське—председателю, который в тундровом Совете считался главным специалистом по колхозным вопросам. Так, однажды они приехали, чтобы спросить, как, по мнению доктора, следует поступить с бандитом: самим ли убить его, или выдать властям? В другой раз они явились, чтобы выяснить, как смотрит доктор на примус — годится ли эта машина в хозяйстве?
И доктор длинно доказывал, что бандита нужно выдать властям, что примус годится в хозяйстве, и ненцы молча слушали его с серьезным детским выражением. Впрочем, вскоре и мне случилось выступить перед ненцами с большой речью о примусе, — но об этом ниже.
Во всяком случае, это была прочная дружба, и доктор рассказывал мне, что она началась после того, как в становище Хабарово он устроил глистогонный пункт. Это было настоящее торжество медицины. Доктора прозвали «изгоняющий червей», и слава его разнеслась по тундре…
В доме было много зверей: кот Филька, черепаха, еж и филин, который жил под столом и кричал «ай, ай, ай», когда садились обедать. Все это было Володино хозяйство, — и еще две собаки, Буська и Тога, которых он учил ходить в упряжи; ненцы подарили ему прекрасную упряжь, украшенную пластинками из мамонтовой кожи. Мне очень нравилось, что Володя не хвастает своими стихами. Это была его тайна, и за зиму я только один раз слышал, как он прочитал стихи. Сперва он долго бормотал их, не зная, что я в соседней комнате и все слышу. Потом оказал вслух, с выражением:
Эвенок Чолкар приезжает из школы домой, Луною улыбка блестит в его узких глазенках, Быстро с нарт соскочил он и радостно машет рукою, — В чум вливаются свежесть и радость ребенка…Потом снова начал бормотать.
Я рассказал ему историю капитана Татаринова и объяснил, какое значение имеют для этой истории дневники покойного Климова. И вот каждый раз, когда я приходил к доктору с новой разобранной страницей, являлся Володя и слушал наши разговоры с таким взволнованным лицом, что доктор, переглянувшись со мной, ласково обнимал его за плечи. Без сомнения, не одно стихотворение было посвящено этой истории, и, таким образом, жизнь капитана Татаринова описана не только в прозе.
Доктор заинтересовался болезнью, о которой пишет штурман, — это запинанье сперва в ногах, потом в речи и скорая, беспричинная смерть, — и Володя припомнил, что от такой же болезни умер Эванс, спутник капитана Скотта.
— Скотт пишет, что от этой болезни умирают самые сильные, — покраснев, сказал он. — Он думает — это что—то психическое.
Но особенно поразило его мое предположение, что, может быть, шхуна еще стоит с мертвой командой во льдах у какого—нибудь безлюдного острова. Он хотел что—то спросить, но промолчал, только по—детски открыл рот, и все лицо, щеки, даже шея покрылись гусиной кожей от волнения…
Главным человеком в доме была, разумеется, Анна Степановна. Все ее слушались, и даже филин, который никого не слушался и доктору всегда говорил «ай, ай, ай» с укоризненным выражением. Недаром ненцы говорили доктору: «Ой, хорошо, когда такой большой женка есть!» Она внушала уважение. Не только дома, но и во всем городе прислушивались к ее слонам.
Она была из известной морской семьи, и ее отец, дядя и все братья плавали капитанами на морских и речных судах. Иногда во время Карской — так называют в Заполярье месяцы август и сентябрь, когда наши ледоколы проводят через Карское море советские и иностранные пароходы, — эти братья и дядя появлялись в доме, такие же высокие и крепкие, как Анна Степановна, с большими усатыми лицами, с большими носами.
К истории капитана Татаринова Анна Степановна подошла с неожиданной стороны.
— Несчастные женщины! — сказала она, хотя о женщинах не было сказано ни слова. — И год ждут, и два; он, может быть, и умер давно, и следа не осталось, а они все ждут. Все надеются: может, вернется! А эти ночи бессонные! А дети! Что детям сказать? А эти чувства безнадежные, от которых лучше бы самой умереть! Нет, вы мне не говорите, — с силой сказала Анна Степановна, — я это видела своими глазами. И если вернется такой человек, — конечно, герой, что и говорить. Ну и она — героиня!
Глава 9. «МЫ, КАЖЕТСЯ, ВСТРЕЧАЛИСЬ…»
Володя заехал за мной в семь утра, я сквозь сон услышал, как он внизу ругает Буську и Тогу, двух своих передовых. Накануне мы с ним условились поехать в зверовой совхоз, и он вдруг предложил — на собаках.
— Они только поворачивать не умеют, — сказал он серьезно, — а так очень хорошо везут. А на поворотах я слезаю и сам поворачиваю.
Я было возразил, что, не лучше ли все—таки на лыжах, но Володя обиделся за своих собак, и пришлось согласиться.
— Даже мама может подтвердить, — сказал он строго, — что по прямой они везут превосходно.
Как настоящий ненец, он бодро крикнул «хэсь!», когда мы уселись на нарты, — и собаки помчались. Ого, как ударило мелким снегом в лицо, закололо глаза и занялось дыхание! Нарты подбросило на сугробе, я схватился за Володю, но он обернулся с удивлением, и я отпустил его и стал подпрыгивать на каких—то ремешках, натянутых, по—моему, очень слабо.
Мне пришла в голову мысль, что хорошо бы ехать немного потише, — но куда там! Нечего было и думать! Грозно подняв палку, Володя орал на своих собак, и они мчались все быстрее и быстрее. Конечно, я мог бы крикнуть Володе, чтобы он придержал собак. Но это был верный способ навсегда потерять его уважение. Все—таки я крикнул бы, пожалуй, — уж больно высоко подпрыгивали на сугробах эти проклятые нарты! Но в эту минуту Володя еще раз обернулся ко мне, и у него было такое раскрасневшееся счастливое лицо и ушанка с таким ухарским видом сбилась набок, что я решил лечь животом вниз и покориться.
Раз! Вдруг собаки остановились, как вкопанные, и я сам не знаю, каким образом удержался на нартах. Ничего особенного! Оказывается, пора уже было поворачивать на Протоку, и Володя остановил собак, чтобы переменить направление.
Не припомню, сколько раз я давал себе слово никогда больше не ездить на собаках, — вероятно, столько же, сколько поворотов до острова, на котором расположен зверовой совхоз. Но Володя был в восторге:
— Правда, здорово, а?
И я согласился, что «здорово».
Вот, наконец, и Протока! Мы врезались в кустарники, скатились с берега и, подпрыгивая, помчались по льду. Теперь я окончательно убедился, что по прямой Володины собаки везут превосходно. Ежеминутно они приноравливались рассадить наши нарты о неровно замерзшие льдины, и Володя чуть не сорвал голос, крича на них и ругаясь. Счастье, что противоположный берег был очень крутой и бег их, естественно, стал замедляться.
Но вот мы миновали Протоку, собаки прибавили ходу, залаяли, и вдруг — что это? Как будто в ответ, разноголосый лай послышался из—за елей — сперва отдаленный, потом все ближе и ближе. Это был протяжный, дикий, беспорядочный лай, от которого невольно даже сжалось сердце.
— Володя, откуда здесь столько собак?
— Это не собаки! Это лисицы!
— Почему же они лают?
— Они собакообразные! — обернувшись, крикнул Володя. — Они лают!
Мне случалось, конечно, видеть черно—бурых лисиц, но Володя объяснил, что в этом совхозе разводят серебристо—черных и что это совсем другое. Таких лисиц больше нет во всем мире. Считается, что белый кончик хвоста — красиво, а здесь в совхозе стараются вывести лисицу без единого белого волоска.
Словом, он действительно заинтересовал меня, и я был очень раздосадован, когда через четверть часа мы подъехали к воротам совхоза и сторож с винтовкой за плечами сказал нам, что питомник для осмотра закрыт.
— А для чего открыт?
— Для научной работы, — внушительно отвечал сторож.
Я чуть не сказал, что мы и приехали для научной работы, но вовремя посмотрел на Володю и придержал язык.
— А директора можно?
— Директор в отъезде.
— А кто его заменяет?
— Старший ученый специалист, — сказал сторож с таким выражением, как будто он и был этим старшим ученым специалистом.
— Ага! Вот его—то нам и нужно!
Я оставил Володю у ворот, а сам пошел искать старшего ученого специалиста.
Очевидно, в совхозе бывало не очень много народу, потому что только одна узенькая тропинка вела по широкому, покрытому снегом двору к дому, на который указал мне сторож. Этот дом еще издалека чрезвычайно напомнил мне грязновато—зеленую лабораторию Московского зоопарка, в которой Валя Жуков некогда показывал нам своих грызунов, — только та была немного побольше. Это было такое сильное впечатление сходства, что мне показалось даже, что я слышу тот же довольно противный мышиный запах, когда, отряхнув с валенок снег, я открыл дверь и очутился в большой, но низкой комнате, выходившей в другую, еще большую, в которой сидел за столом какой—то человек. Мне показалось даже, что этот человек и есть Валька, хотя в первую минуту я не мог отчетливо рассмотреть его после ослепительного снежного света, а он, к тому же, поднялся, увидев меня, и стал спиной к окну. Мне показалось, что этот человек смотрит на меня совершенно так же, как Валька, с таким же добрым и немного сумасшедшим выражением, что у него тот же самый черный Валькин пух на щеках, только погуще и почернее, и что он сейчас Валькиным голосом спросит меня: «Что вам угодно?»
— Валя! — сказал я. — Да ты ли это? Валька?
— Что? — растерянно спросил он и, как Валька, положил голову набок.
— Валька, скотина! — сказал я, чувствуя, как у меня сердце начинает прыгать. — Да ты что же! В самом деле не узнаешь меня?
Он стал неопределенно улыбаться и совать мне руку.
— Нет, как же, — фальшивым голосом сказал он. — Мы, кажется, встречались.
— Кажется! Мы, кажется, встречались!
Я взял его за руку и потащил к окну.
— Ну, смотри! Корова!
Он посмотрел и нерешительно засмеялся.
— Черт, неужели не можешь узнать? — сказал я с изумлением. — Да что же это? Может быть, я ошибаюсь?
Он захлопал глазами. Потом неопределенное выражение сбежало с его лица, и это стал уж такой Валька, такой самый настоящий, что его больше нельзя было спутать ни с кем на свете. Но, должно быть, и я еще больше стал самим собой, потому что он, наконец, узнал меня.
— Саня! — заорал он и задохнулся. — Так это ты?
Мы поцеловались и сразу же куда—то пошли, обнявшись, и на пороге он поцеловал меня еще раз.
— Так это ты? Черт возьми! Какой молодец! Когда ты приехал?
— Я не приехал, а я здесь живу.
— Как живешь?
— Очень просто. Я здесь уже полгода.
— Позволь, как же так? — пробормотал Валя. — Ну да, я редко бываю в городе, а то бы я тебя встретил. Гм… полгода! Неужели полгода?
Он провел меня в другую комнату, которая ничем, кажется, не отличалась от той, в которой мы только что были, — разве что в ней стояла кровать да висело ружье на стене. Но то был кабинет, а это спальня. Где—то поблизости была еще лаборатория, о чем, впрочем, нетрудно было догадаться, потому что в доме воняло. Мне стало смешно — так подходил к Вале, к его рассеянным глазам, к его шевелюре, к его пуху на щеках этот звериный запах. От Вали всегда несло какой—то дрянью.
Он жил в этом большом доме из трех комнат и кухни — один. Он—то и был старший ученый специалист, и ему по штату полагался этот большой пустой дом, с которым он не знал, что делать.
Я спохватился, что оставил Володю у ворот, и Валя послал за ним младшего ученого специалиста, который был, однако, старше Вали лет на тридцать, довольно внушительного мужчину, бородатого, с диким двойным носом. Но на Володю он, очевидно, произвел хорошее впечатление, потому что они явились через полчаса, дружески беседуя, и Володя объявил, что Павел Петрович — так звали мужчину — обещал ему показать лисью кухню.
— И даже накормить лисьим обедом, — сказал Павел Петрович.
— А что сегодня у нас?
— Помидоры и манная каша.
— Покажите ему «джунгли», — сказал Валя.
Володя покраснел и, кажется, перестал дышать, услышав это слово. Еще бы! Джунгли!
— Павел Петрович, а можно мне сперва в «джунгли»? — шепотом спросил он.
— Нет, сперва в кухню, а то завтрак пропустим!
Они ушли, и мы с Валей остались вдвоем. Он пустился было угощать меня, заварил чай и принес из кухни ватрушку.
— Это у нас в столовой готовят! Правда, недурно?
От ватрушки тоже пахло каким—то зверем. Я попробовал и сказал, как наш детдомовский повар, дядя Петя:
— А! Отрава!
Валя счастливо засмеялся.
— Где они все? Где Танька Величко? Гришка Фабер? Где Иван Павлыч? Что с ним?
— Иван Павлыч ничего, — сказал Валя. — Я как—то был у него. Он и о тебе справлялся.
— Ну?
— Я сказал, что не знаю.
— Ну да, ты не знаешь! Еще бы! А кто звонил тебе в Москве? Тебе передали?
— Передали. Но мне сказали, что звонил летчик. А я тогда не знал, что ты летчик.
— Врешь ты все! А как же ты здесь очутился?
— А я, понимаешь, придумал одну интересную штуку, — сказал Валька, — от которой они быстро растут.
— Кто?
— Лисицы.
Я засмеялся.
— Опять изменение крови в зависимости от возраста?
— Что?
— Изменение крови у гадюк в зависимости от возраста, — повторил я торжественно. — Это тоже была такая штука, которую ты придумал. Черт, но как я рад, что я тебя вижу!
И я действительно был очень рад, от всего сердца! Мы с Валей всегда любили друг друга, но мы не знали, как это хорошо — вдруг встретиться нежданно—негаданно через несколько лет, когда вся прежняя жизнь кажется полузабытой.
Мы стали говорить о Кораблеве, но в это время Валя вспомнил, что ему нужно дать лисенятам какое—то лекарство.
— Так распорядись, чтобы дали!
— Нет, понимаешь, это я должен сам дать, лично, — озабоченно сказал Валя. — Это вигантоль, от рахита. Ты подождешь меня? Я скоро вернусь.
Мне не хотелось расставаться с ним, и мы пошли вместе.
Глава 10. СПОКОЙНОЙ НОЧИ!
Начинало уже темнеть, когда Володя вернулся из «джунглей» — так, оказывается, назывался в совхозе отгороженный участок леса, где звери жили на свободе. Домики, в которых жили лисы, — вот что больше всего его поразило.
— Да, здорово, — сказал Володя, стараясь не очень показывать, что он просто в восторге. — И вообще они живут совершенно как люди. Завтракают, потом у них мертвый час, потом дети играют, а взрослые некоторые ходят в гости.
Валя уговорил меня остаться у него ночевать, и мы позвонили доктору, что Володя вернется домой один.
Заполярье — шумный город. Конечно, там не очень большое движение, хотя случается, что по улице одновременно двигаются, перегоняя друг друга, автомобили, олени, лошади и собачьи упряжки. Шумят пилы на лесозаводах — и в ушах днем и ночью отдается этот нарастающий воющий звук. В конце концов, его перестаешь замечать, но все—таки где—то далеко в голове звенит и звенит пила.
А здесь, в совхозе, было очень тихо. Мы гуляли в лесу и встретили Павла Петровича, который ходил ставить силки на куропаток, и долго разговаривали с ним о лесе, о Карской, о погоде.
— Валентин Николаевич, вы как, Дон—Карлоса сегодня себе на ночь будете брать? — спросил он, и это было очень смешно и приятно, что такой старый, почтенный мужчина с двойным носом называет Валю — Валентином Николаевичем и говорит с ним почтительно, как с настоящим старшим ученым специалистом. Дон—Карлосом звали лисенка, который боялся мороза.
Потом мы вернулись к Вале, выпили по рюмочке, и он объяснил мне, что действительно за последние полгода он почти не выходил из совхоза. У него была интересная работа: он потрошил желудки соболей и выяснял, из чего состоит их пища. Несколько желудков у него было своих, а еще штук двести любезно предоставил в его распоряжение какой—то заповедник. И он выяснил очень интересную штуку: что при заготовке мелких пушных видов следует щадить бурундука, которым главным образом и питается соболь.
Я молча слушал его. Мы были совершенно одни, в пустом доме, и комната была совершенно пуста — большая, неуютная комната одинокого человека.
— Да, интересно, — сказал я, когда Валя кончил. — Значит, соболь питается бурундуками. Здорово! А тебе — знаешь, что тебе нужнее всего? Знаешь, что тебе просто дьявольски нужно? Жениться!
Валя заморгал, потом засмеялся.
— Почему ты думаешь? — нерешительно спросил он.
— Потому что ты живешь, как собака. И знаешь, какая жена тебе нужна? Которая бы таскала тебе бутерброды в лабораторию и не очень старалась, чтобы ты обращал на нее внимание.
— Ну да, ты скажешь, — пробормотал Валя. — А что ж! Я и женюсь со временем. Мне нужно вот только диссертацию защитить, а потом я буду совершенно свободен. Я ведь теперь скоро в Москву вернусь. А ты?
— Что я?
— Что же ты не женишься?
Я помолчал.
— Ну, я особая статья. У меня другая жизнь. Я, видишь, как: сегодня здесь, а завтра — за тридевять земель. Мне нельзя жениться.
— Нет, тебе тоже нужно жениться, — возразил Валя. — Послушай, — с неожиданным вдохновением сказал он, — а помнишь, вы приходили ко мне в Зоопарк, и Катя была со своей подругой? Как ее звали? Такая высокая, с косами.
У него стало такое доброе, детское лицо, что я посмотрел и невольно стал смеяться.
— Ну как же! Кирен! Красивая, правда?
— Очень, — сказал Валя. — Очень.
— Он хотел постлать мне на своей кровати, но я не дал и лег на полу. Коек было сколько угодно, но я всегда любил спать на полу. Высокий сенник раздался, я сказал: «Ого», и Валя забеспокоился, что мне неудобно. Но мне было очень удобно — снизу было видно небо, такое тихое, будто и там кругом был лес и полно снега, и было очень хорошо смотреть на это небо и разговаривать. Спать не хотелось.
О чем только мы не переговорили! Мы вспомнили даже Валиного ежа, который был продан в университет за двадцать копеек. Потом опять вернулись к Кораблеву.
— Ты знаешь что, — вдруг сказал Валя, — конечно, может быть, я и ошибаюсь, — мне кажется, что он был немного влюблен в Марью Васильевну. Как ты думаешь?
— Пожалуй.
— Потому что — очень странная вещь. Я однажды зашел к нему и вижу: на столе стоит ее портрет. Я что—то спросил, потому что как раз на следующий день собирался к Татариновым, и он вдруг стал говорить о ней. Потом замолчал, и у него было такое лицо… Я решил, что тут что—то неладно.
— Валька, иди ты к черту! — сказал я с досадой. — Я не пойму, где ты живешь, честное слово! Немного влюблен! Он без нее жить не мог! И ведь вся эта история произошла перед твоими глазами. Ну, да ты тогда занимался гадюками, — понятно!
— Что ты говоришь! Вот бедняга!
— Да, он бедняга.
Мы помолчали. Потом я спросил:
— Ты часто бывал у Татариновых?
— Не очень часто. Раза три был.
— Ну, как они поживают?
Валя приподнялся на локте. Кажется, он хотел рассмотреть меня в темноте, хотя я сказал это совершенно спокойно.
— Ничего. Николай Антоныч теперь профессор.
— Вот как! Что же он читает?
— Педологию, — сказал Валя. — Уверяю тебя, очень почтенный профессор… И вообще…
— Что вообще?
— По—моему, ты в нем ошибался.
— В самом деле?
— Да, да, — с глубоким убеждением сказал Валя. — Ты в нем ошибался! Посмотри, например, как он относится к своим ученикам. Он просто готов за них в огонь и в воду. Ромашов рассказывал мне, что в прошлом году…
— Ромашов? Этот еще откуда взялся?
— Как откуда? Он—то меня к ним и привел.
— Так и он бывает у Татариновых?
— Он? Он Николая Антоныча ассистент. Он там каждый день бывает. И вообще он у них самый близкий человек в доме.
— Постой, что ты говоришь? Я не понимаю. Ромашка?
— Ну да, — сказал Валя. — Только его, понятно, теперь так никто не называет. Между прочим, он, по—моему, собирается жениться на Кате.
Что—то толкнуло меня прямо в сердце, и я сел, поджав под себя ноги. Валя тоже сел на кровати и уставился на меня с изумлением.
— Что? — спросил он. — Ах, да! Черт! Я совсем забыл!
Он забормотал, потом растерянно оглянулся и слез с кровати.
— Не то что собирается…
— Да нет, ты уж договаривай, — сказал я совершенно спокойно.
— То есть как договаривай? — пробормотал Валя. — Я тебе ничего не сказал. Я просто так думаю, но ведь мало ли что я думаю! Мне иногда приходят в голову такие мысли, что я сам удивляюсь.
— Валя!
— Да я не знаю! — в отчаянии сказал Валя. — Что ты ко мне пристал, скотина? Мне это просто кажется, но ведь мне иногда черт знает что кажется. Ты мне можешь не верить — и баста!
— Тебе кажется, что Ромашов хочет жениться на Кате?
— Нет! Черт! Я тебе говорю, что нет! Ничего подобного! Он стал одеваться шикарно, вот и все.
— Валя!
— Вот я тебе клянусь, что больше ничего не знаю.
— Он с тобой говорил?
— Ну, говорил. Он, например, рассказывал, что с тринадцати лет копил деньги, а сейчас взял да все и истратил за полгода — это, по—твоему, тоже имеет отношение, да?
Я больше не слушал его. Я лежал на полу, смотрел на небо, и мне казалось, что я лежу где—то в страшной глубине и надо мной шумит и разговаривает весь мир, а я лежу один, и мне некому сказать ни слова. Небо было еще темное и звезды видны, но неизвестно откуда уже залетал слабый, далекий свет, и я подумал, что мы проговорили всю ночь — и вот договорились!
— Спокойной ночи!
— Спокойной ночи, — ответил я машинально.
Уж лучше бы я уехал с Володей! Что—то сдавило мне горло, и захотелось встать и выйти на воздух, но я остался лежать, только повернулся и лег на живот, упершись в лицо руками. Так, значит, вот как! Это было еще невероятно, но об этом уже нельзя было забыть ни на одну минуту. Невероятен был только сам Ромашка, потому что я не мог вообразить его рядом с Катей. Но почему же я думал, что она до сих пор помнит меня? Ведь мы столько лет не встречались!
Я лежал и думал, думал — о чем придется, вовсе не только об этом. Я вспомнил, что Валя не любит, когда на него смотрят ночью, и как Кораблев однажды подшутил над ним, спросив: «А если смотрят с любовью?» Потом оказалось, что я думаю снова о Кате, и с какою живостью я вспомнил вдруг — не ее, а то чудное состояние души, которое я всегда испытывал, когда видел ее. Больше всего на свете мне хотелось бы в эту минуту заснуть, но я не мог не только закрыть глаза, но даже оторвать их от неба, которое очень медленно, но все же начинало светлеть.
Валя спал и, наверное, проснулся бы, если бы я вышел. Но мне не хотелось больше говорить с ним, и поэтому я лежал и лежал на животе, потом на спине, потом снова на животе, упершись в лицо руками.
Потом — должно быть, это было часов семь утра — зазвонил телефон, и Валя вскочил, заспанный, и побежал в соседнюю комнату, волоча за собой одеяло.
— Слушаю! Это — тебя, — сказал он, вернувшись через минуту.
— Меня?
Я накинул шубу и пошел к телефону.
— Саня! — это говорил доктор. — Куда ты пропал? Я звоню из окрисполкома. Передаю трубку.
— Да, я слушаю, — сказал я.
— Товарищ Григорьев, — сказал другой голос. Это был уполномоченный НКВД по Заполярью. — Срочное дело. Вам предстоит полет с доктором Павловым в становище Ванокан. Вы знаете Ледкова?
Еще бы! Это был член окрисполкома — один из самых уважаемых людей на Севере. Его все знали.
— Он ранен, требуется срочная помощь. Когда вы можете вылететь?
— Через час, — отвечал я.
— Доктор, а вы?
Я не слышал, что ответил доктор.
— И инструменты все в порядке? Отлично, через час я жду вас на аэродроме.
Глава 11. ПОЛЕТ.
Вот кто был на самолете утром пятого марта, когда мы поднялись в Заполярье и взяли курс на северо—восток: доктор, очень озабоченный, в темных очках, которые удивительно его изменили, мой бортмеханик Лури, один из самых популярных людей в Заполярье или в любом другом месте, где он появлялся хотя бы на три—четыре дня, и я.
Это был мой пятнадцатый полет на Севере, но впервые я летел в район, где еще не видели самолета. Становище Ванокан — это очень глухое место в районе одного из притоков Пясины. Впрочем, доктор бывал на Пясине и говорил, что найти Ванокан нетрудно.
Член окрисполкома был ранен. Это произошло на охоте, а может быть — и не на охоте. Во всяком случае, уполномоченный НКВД просил нас, то есть меня и доктора, выяснить, при каких обстоятельствах это произошло. В Ванокан мы должны были прилететь приблизительно в третьем часу, еще засветло. Но на всякий случай мы взяли с собой: продовольствие — из расчета на трех человек — на тридцать суток, примус, ракетницу с ракетами, ружье с патронами, лопаты, палатку, топор.
Насчет погоды я знал только одно: что в Заполярье прекрасная погода. Но какова она по маршруту — этого я не знал. «Заказывать» ее было и некогда и некому.
Итак, все было в порядке, когда мы поднялись в Заполярье и взяли курс на северо—восток. Все в порядке — и я не думал больше о том, что накануне ночью услышал от Вали. Внизу был виден Енисей — широкая белая лента среди белых берегов, вдоль которых шел лес, то приближаясь, то удаляясь. Голова у меня немного болела после бессонной ночи, и иногда начинало звенеть в ушах, но именно в ушах, а мотор работал превосходно.
Потом я ушел от реки, и началась тундра — ровная, бесконечная, снежная, ни одной черной точки, не за что уцепиться глазу…
Почему я был так уверен, что этого не может случиться? Мне следовало написать ей, когда она прислала мне привет через Саню. Но я не хотел уступать ей ни в чем до тех пор, пока не докажу, что я ни в чем не виноват перед нею. Но никогда нельзя быть слишком уверенным в том, что тебя любят. Что тебя любят, несмотря ни на что. Что может пройти еще пять или десять лет, и тебя не разлюбят.
Снег, снег, снег — куда ни взглянешь. Впереди были облака, и я набрал высоту и вошел в них: лучше идти вслепую, чем над этим бесконечным, унылым, белым, искажающим перспективу фоном…
У меня не было никакой особенной злобы к Ромашке, хотя, если бы он был сейчас здесь, вероятно, я бы убил его. Я не чувствовал к нему злобы, потому что это было невозможно — вообразить этого человека с кошачьими космами на голове, с пылающими ушами, этого, человека, который в тринадцать лет решил разбогатеть и все копил и считал свои деньги, вообразить его рядом с Катей! Это было так же бессмысленно, что он смеет желать этого, как если бы он пожелал стать другим — не самим собою, а таким, как Катя, с ее прямотой и красотой.
Мы прошли эту облачность и вошли в другую за которой шел снег и только где—то внизу начинал сверкать под солнцем, которое было закрыто от нас облаками.
У меня стали мерзнуть ноги, и я пожалел, что надел эти унты, которые были мне малы, а не другую, более просторную пару.
Значит, решено — я еду в Москву. Нужно только предупредить ее о моем приезде. Я должен написать ей письмо — такое письмо, чтобы она прочитала и не забыла.
Мы вышли из слоя темных облаков, и солнце, как всегда, когда выходишь, показалось особенно ярким, — а я все никак не мог решить, начать ли свое письмо просто «Катя» или «Дорогая Катя».
«Мы давно не переписывались, Катя, и ты, вероятно, будешь удивлена, взглянув на эту подпись. Как ты живешь? Я не писал тебе так долго потому, что думал, что ты сердишься на меня. Конечно, ты права, я виноват в том, что мы так долго не встречались. Мне нужно было заехать в Москву на обратном пути из Энска и встретиться с тобою, а не бродить вокруг твоего дома, как будто мне восемнадцать лет…»
Я уже забыл о письме. Мне нужно было просто увезти ее — ведь я же отлично знал, что она не должна оставаться в этом фальшивом и несчастном доме, с этим страшным и фальшивым Николаем Антонычем, которому она верит.
Вот и горы! Они торчали из облаков, освещенные солнцем, то голые, то покрытые ослепительным снегом. Я видел в зеркале, как Лури поднял руку, как будто поздоровался с ними, и что—то закричал доктору, и доктор, смешной, похожий на какого—то круглого забавного зверя, равнодушно кивнул головой.
В редких просветах были видны ущелья — прекрасные, очень длинные ущелья, — верная смерть в случае вынужденной посадки. Я невольно подумал об этом, а потом снова стал сочинять письмо и сочинял до тех пор, пока мне не пришлось заняться другими, более срочными делами.
Как будто и ветра не было, когда первые огромные тучи снега стали срываться с вершин и кружиться, поднимаясь все выше и выше.
Зеркало, в котором я только что видел доктора и Лури, вдруг потемнело, замерзло, а еще через десять минут уже нельзя было вообразить, что над нами только что было солнце и небо. Теперь не было ни земли, ни солнца, ни неба. Все перемешалось. Ветер догнал нас и ударил сперва слева, потом в лоб, потом снова слева, так что нас сразу унесло куда—то в сторону, где тоже был туман и шел снег, мелкий, твердый, который очень больно бил по лицу и сразу вцепился во все петли и щели одежды. Потом наступила ночь, так что, когда я снова посмотрел в зеркало, я больше уже ничего не увидел. Ничего не было видно вокруг, и некоторое время я вел самолет в полной темноте, как будто натыкаясь на стены, потому что всюду были настоящие стены из снега, со всех сторон подпираемого ветром. То я пробивал их, то отступал, то снова пробивал, то оказывался далеко под ними. Это было самое страшное — самолет вдруг падал на полтораста—двести метров, а я не знал, какой высоты были горы, почему—то не отмеченные на моей карте. Все, что я мог сделать, — это развернуться на сто восемьдесят градусов и пойти назад к Енисею. Я увижу берега, пройду над высоким берегом, и мы обойдем пургу или, в крайнем случае, вернемся назад в Заполярье.
Легко сказать — развернуться! Самолет почему—то затрясло, когда я дал левую ногу, и нас снова бросило в сторону, но я продолжал разворачиваться. Кажется, я что—то сказал машине. Именно в эту минуту я почувствовал, что с мотором творится что—то неладное, — жаль, потому что внизу были те же ущелья, которые — я очень на это рассчитывал — остались далеко позади. Они мелькнули и пропали, потом снова мелькнули — длинные и совершенно безнадежные, — нас бы не нашли, и никто бы никогда не узнал, как это случилось. Нужно было уйти от них, и я ушел, хотя самолет был то взвешен в воздухе, как будто эта проклятая пурга задумывалась на секунду, что бы еще с нами сделать, то болтался и шел, как хотел. Я ушел, но с мотором все—таки творилось что—то неладное, и нужно было садиться. Нужно было садиться очень медленно и следить за указателем поворотов, и не допускать кренов, и все время думать о земле, которая где—то внизу, и неизвестно, где она и какая. Что—то стучало у меня в голове, как часы, я громко разговаривал с самим собой и с машиной. Но я не боялся. Я помню только, как мне стало на мгновение жарко, когда какая—то масса пронеслась рядом с самолетом; я бросился в сторону от нее и чуть не царапнул крылом о землю.
Глава 12. ПУРГА.
Не стану рассказывать о тех трех сутках, которые мы провели в тундре, недалеко от берегов Пясины. Это одно из самых тяжелых воспоминаний в моей жизни и — главное — это однообразное воспоминание. Один час был похож на другой, другой — на третий, и только первые минуты, когда нам нужно было как—то укрепить самолет, потому что иначе его унесло бы пургою, уже не повторялись.
Попробуйте сделать это в тундре без всякой растительности, при ветре, достигающем десяти баллов! Не выключая мотора, мы поставили самолет хвостом к ветру. Пожалуй, нам удалось бы закопать его, — но стоило только поддеть снег лопатой, как его уносило ветром. Самолет продолжало швырять, и нужно было придумать что—то безошибочное, потому что ветер все усиливался и через полчаса было бы уже поздно. Тогда мы сделали одну простую вещь — рекомендую всем полярным пилотам: мы привязали к плоскостям веревки, а к ним, в свою очередь, лыжи, чемоданчики, небольшой ящик с грузом, даже воронку, — словом, все, что могло бы помочь быстрому завихрению снега. Через пятнадцать минут вокруг этих вещей уже намело сугробы, а в других местах под самолетом снег по—прежнему выдувало ветром.
Теперь нам больше ничего не оставалось, как ждать. Это было не очень весело, но это было единственное, что нам оставалось. Ждать и ждать, а долго ли — кто знает!
Я уже упоминал о том, что у нас было все для вынужденной посадки, но что станешь делать, скажем, с палаткой, если просто вылезть из кабины — это сложное, мучительное дело, на которое можно решиться только один раз в день и то только потому, что один—то раз в день необходимо вылезать из кабины!
Пальцы начинали болеть, прежде чем удавалось развязать шнурки на чехлах, и приходилось развязывать шнурки в три приема. Снег с первого шага сбивал с ног, так что нам пришлось выработать особый способ ходьбы — с наклоном в сорок пять градусов против ветра.
Так прошел первый день. Немного меньше тепла. Немного больше хочется спать, и, чтобы не уснуть, я придумываю разные штуки, которые берут очень много времени, но от которых очень мало толку. Я пробую, например, разжечь примус, а Лури приказываю разжечь паяльную лампу. Трудная задача! Трудно разжечь примус, когда ежеминутно чувствуешь с ног до головы собственную кожу, когда вдруг становится холодно где—то глубоко в ушах, как будто мерзнет барабанная перепонка, когда снег мигом залепляет лицо и превращается в ледяную маску. Лури пытается шутить, но шутки мерзнут на пятидесятиградусном морозе, и ему ничего не остается, как шутить над своей способностью шутить при любых обстоятельствах и в любое время.
Так кончается первая ночь. Еще немного меньше тепла. Еще немного больше хочется спать. А снег по—прежнему несется мимо нас, и, наконец, начинает казаться, что мимо нас пролетает весь снег, который только есть на земле…
Я снова оценил доктора Ивана Иваныча в эти дни, когда мы «куропачили» — так это называется — у берегов Пясины.
Сознание полной бездеятельности, полной невозможности выйти из безнадежного положения — вот что было тяжелее всего! Кажется, было бы легче, если бы я не был так здоров и крепок. Это чувство перемешивается с другим невеселым чувством: я не выполнил ответственного поручения, — а это еще и с третьим, которое никого не касается, с чувством оскорбленной гордости и обиды, — вот настроение, при котором нет аппетита и, в сущности говоря, не так уж страшно замерзнуть.
И доктор все понимал, все видел! Никогда в жизни я не находился под таким тщательным наблюдением. Для каждого из этих чувств у него был свой рецепт и даже, кажется, для того чувства, которое никого не касалось.
Третий день. Очень хочется спать. Все меньше тепла. Все больше сыреют малицы, и уже какой—то нервный холод заранее пробирает до костей, как подумаешь, что эта сырость может замерзнуть.
Но это даже лучше, может быть, что время от времени приходится выбирать из—под малицы лед, потому что просто сидеть и думать, думать без конца очень тоскливо. Потом еще поменьше тепла — ничего не поделаешь, ветер выдувает тепло, — и я надеваю на ноги под пимы летные рукавицы. Главное — не спать. Главное — не давать уснуть бортмеханику, который оказался самым слабым из нас, а на вид был самым сильным. Доктор время от времени бьет его и встряхивает. Потом начинает дремать и доктор, и теперь уже мне приходится время от времени встряхивать его — вежливо, но упрямо.
— Саня, да ничего подобного, я и не думаю спать, — бормочет он и с усилием открывает глаза.
А мне уже больше не хочется спать. Снег свистит в ушах и когда минутами наступает тишина, кажется, что вибрирующая тишина еще громче этого мрачного, мучительного, пустого свиста. Где—то далеко, на Диксоне, в Заполярье, радисты разговаривают о нас:
— Где они? Не пролетали ли там—то?
— Не пролетали.
Это было очень скучно — сидеть и ждать, когда же окончится эта пурга, — и я вспомнил наконец, что у меня есть книжка. Я перевязал малицу немного выше колен и влез в нее с головой и руками. Тесноватый домик, но если в левой руке над ухом держать карманный фонарик, а в правой книжку, — можно читать! У меня был фонарик с динамкой, и нужно было все время работать пальцами, чтобы он горел; но все время работать невозможно, и я разжимал пальцы, — тогда сразу становилось холодно, и все возвращалось на свои места, и я начинал чувствовать снег, который заносил меня сквозь щели кабины.
Через несколько лет я прочитал «Гостеприимную Арктику» Стифансона и понял, что это была ошибка — так долго не спать. Но тогда я был неопытный полярник, и мне казалось, что уснуть в таком положении и умереть — это одно и то же.
Должно быть, я все—таки уснул или наяву вообразил себя в очень маленьком узком ящике, глубоко под землей, потому что наверху был ясно слышен уличный шум и звон и грохот трамвая. Это было не очень страшно, но все—таки я был огорчен, что лежу здесь один и не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, а между тем мне нужно лететь куда—то и нет ни одной свободной минуты. Потом я почему—то оказался на улице перед освещенным окном магазина, а в магазине, не глядя на меня, ровными, спокойными шагами ходила и ходила Катя. Это была, несомненно, она, хотя я немного боялся, что, может быть, потом это окажется не она или что—нибудь другое помешает мне заговорить с ней. И вот я бросаюсь к дверям магазина — но все уже пусто, темно и на стеклянной двери надпись: «Закрыто».
Я открыл глаза — и снова закрыл: таким счастьем показалось мне то, что я увидел. Пурга улеглась. Снег больше не слепил нас — он лежал на земле. Над ним было солнце и небо, такое огромное, какое можно увидеть только на море или в тундре. На этом фоне снега и неба, шагах в двухстах от самолета, стоял человек. Он держал в руках хорей — палку, которой направляют оленей, и за его спиной стояли олени, запряженные в нарты. Вдалеке, точно нарисованные, но уже не так резко, видны были две крутые снежные горки, — без сомнения, ненецкие чумы. Это и была та темная масса, от которой я шарахнулся при посадке. Теперь они были завалены снегом, и только конуса, открытые сверху, чернели. Вокруг чумов стояли еще какие—то люди, взрослые и дети, и все были совершенно неподвижны и смотрели на наш самолет.
Глава 13. ЧТО ТАКОЕ ПРИМУС.
Я никогда не думал, что сунуть ноги в огонь — это счастье. Но это настоящее, ни на что не похожее счастье! Вы чувствуете, как тепло поднимается по вашему телу и бежит все выше и выше, и вот, наконец, неслышно, медленно согревается сердце.
Больше я ничего не чувствовал, ни о чем не думал. Доктор бормотал что—то за моей спиной, но я не слушал его, и мне наплевать было на этот спирт, которым он велел растирать мои ноги.
Дым яры, тундрового кустарника, похожий на дым горящей сырой сосны, стоял над очагом, но мне наплевать было и на этот дым — лишь бы было тепло. Мне тепло — этому почти невозможно поверить!
Ненцы сидели вокруг огня, поджав под себя ноги, и смотрели на нас. У них были серьезные лица. Доктор что—то объяснял им по—ненецки. Они внимательно слушали его и с понимающим видом кивали головами. Потом выяснилось, что они ничего не поняли, и доктор, с досадой махнув рукой, стал изображать раненого человека и самолет, летящий к нему на помощь. Это было бы очень смешно, если бы я мог не спать еще хоть одну минуту. То он ложился, хватаясь за живот, то подпрыгивал и кидался вперед с поднятыми руками. Вдруг он обернулся ко мне.
— Каково! Они все знают, — сказал он с изумлением. — Они даже знают, куда ранен Ледков. Это покушение на убийство. В него стреляли.
Он снова заговорил но—ненецки, и я понял сквозь сон, что он спрашивал, не знают ли ненцы, кто стрелял в Ледкова.
— Они говорят: кто стрелял — домой пошел. Думать пошел. День будет думать, два. Однако назад придет.
Теперь уже невозможно было не спать. Все вдруг поплыло передо мной, и мне стало смешно от радости, что я, наконец, сплю…
Когда я, проснулся, было совершенно светло, одна из шкур откинута и где—то в ослепительном треугольнике стоял доктор, а ненцы на корточках сидели вокруг него. Вдалеке был виден самолет, и все вместе так напоминало какой—то знакомый кинокадр, что я даже испугался, что он сейчас мелькнет и исчезнет. Но это был не кадр. Это был доктор, который спрашивал у ненцев, где находится Ванокан.
— Там? — кричал он сердито и показывал рукой на юг.
— Там, там, — соглашались ненцы.
— Там? — он показывал на восток.
— Там.
Потом ненцы все, как один, стали показывать на юго—восток, и доктор нарисовал на снегу огромную карту побережья Северного Ледовитого океана. Но и это мало помогло делу, потому что ненцы отнеслись к географической карте как к произведению искусства, и один из них, еще совсем молодой, изобразил рядом с картой оленя, чтобы показать, что и он умеет рисовать…
Вот что нужно было сделать, прежде всего: освободить самолет от снега. И мы никогда не справились бы с этим делом, если бы нам не помогли ненцы. В жизни моей я не видел снега, который был так мало похож на снег! Мы рубили его топорами и лопатами, резали ножами. Но вот, наконец, последний снежный кирпич был вырезан и отброшен, крепленье, которое я предлагал вниманию полярных пилотов, разобрано. Во всех котлах и чайниках уже грелась вода для запуска мотора. Молодой ненец, тот самый, который нарисовал на снегу оленя, а теперь вызвался быть нашим штурманом, чтобы показать дорогу до Ванокана, уже прощался с заплаканной женой, и это было очень забавно, потому что жена была в штанах из оленьей шкуры, и только цветные суконные лоскутки в косах отличали ее от мужчины. Солнце вышло из—за высоких перистых облаков — признак хорошей погоды, — и я сказал доктору, который уже пускал кому—то в глаза свинцовые капли, что пора «закругляться». В эту минуту Лури подошел ко мне и сказал, что мы лететь не можем.
Сломана была распорка шасси — без сомнения, когда при посадке я шарахнулся в сторону от чума. Ненцы освобождали от снега шасси — вот почему мы с Лури не заметили этого раньше.
Прошло уже полных четверо суток, как мы вылетели из Заполярья. Без сомнения, нас ищут, и найдут, в конце концов, хотя пурга отнесла нас в сторону от намеченной трассы. Нас найдут — но кто знает? Быть может, уже поздно будет лететь в Ванокан — или лететь за трупом?
Это было мое первое «боевое крещение» на Севере, и я вдруг испугался, что не сделаю ничего и вернусь домой с пустыми руками. Или — это было еще страшнее — меня найдут в тундре, беспомощного, как щенка, рядом с беспомощным самолетом. Что делать?
Я подозвал доктора и попросил его собрать ненцев…
Это было незабываемое заседание в чуме, вокруг огня, или, вернее, вокруг дыма, который уходил в круглую дырку над нашими головами. Совершенно непонятно, каким образом в чуме могло поместиться так много народу! В нашу честь был заколот олень, и ненцы ели его: сырым, удивительно ловко отрезая у своих губ натянутые рукой полоски мяса. Как только они не отхватывали ножом кончик носа!
Я не брезглив, но все—таки старался не смотреть, как они макают эти полоски в чашку с кровью и, причмокивая, отправляют, в рот…
— Плохо, — так я начал свою речь, — что мы взялись помочь раненому человеку, уважаемому человеку, и вот сидим здесь у вас четвертые сутки и ничем не можем ему помочь. Переведите, Иван Иваныч!
Доктор перевел.
— Но еще хуже, что прошло так много времени, а мы все еще далеко от Ванокана и даже не знаем толком, куда лететь — на север или на юг, на восток или на запад.
Доктор перевел.
— Но еще хуже, что наш самолет сломался. Он сломался, и без вашей помощи мы не можем его починить.
Ненцы заговорили все сразу, но доктор поднял руку, и они замолчали. Еще днем я заметил, что они относятся к нему с большим уважением.
— Нам было бы очень плохо без вас, — продолжал я. — Без вас мы бы замерзли, без вас мы не справились бы со снегом, которым был завален наш самолет, Переведите, Иван Иваныч!
Доктор перевел.
— Но вот еще одна просьба. Нам нужен кусок дерева. Нам нужен небольшой, но очень крепкий кусок дерева длиной в один метр. Тогда мы сможем починить самолет и лететь дальше, чтобы помочь уважаемому человеку.
Я старался говорить так, как будто в уме переводил с ненецкого на русский.
— Конечно, я понимаю, что дерево — это очень редкая и дорогая вещь. И я бы хотел дать вам за этот кусок крепкого дерева длиной в один метр очень много денег. Но у меня нет денег. Зато я могу предложить вам примус.
Лури — это было заранее условленно — вынул из—под малицы примус и поднял его высоко над головой.
— Конечно, вы знаете, что такое примус. Это машина, которая греет воду, варит мясо и чай. Сколько времени нужно, чтобы разжечь костер? Полчаса. А примус вы можете разжечь в одну минуту. На примусе можно даже печь пироги, и вообще это превосходная вещь, которая очень помогает в хозяйстве.
Лури накачал керосину, поднес спичку, и пламя сразу поднялось чуть не до потолка. Но проклятый примус как нарочно ни за что не хотел разжигаться, и нам пришлось сделать вид, что так и нужно, чтобы он разжигался не сразу. Это было не очень легко, потому что я ведь только что сказал, что разжечь его ничего не стоит.
— Подарите нам кусок крепкого дерева длиной в один метр, а мы взамен подарим вам этот примус.
Я немного боялся, что ненцы обидятся за такой скромный подарок, но они не обиделись. Они молча, серьезно смотрели на примус. Лури все подкачивал его, горелка раскалилась, красные искорки стали перебегать по ней. Честное слово, в эту минуту, в дикой далекой тундре, в ненецком чуме, он даже и мне показался на мгновение каким—то живым, горящим, шумящим чудом! Все молчали и смотрели на него с искренним уважением.
Потом старик с длинной трубкой в зубах, повязанный женским платком, что, впрочем, ничуть не мешало ему держаться с необыкновенным достоинством, поднялся и что—то сказал по—ненецки, мне показалось — одну длинную—предлинную фразу. Он обращался к доктору, но отвечал мне, и вот как перевел его речь Иван Иваныч:
— Есть три способа бороться с дымом: заслонить с наветренной стороны дымовое отверстие, и тяга станет сильнее. Можно поднять нюк, то есть шкуру, которая служит дверью. И Можно сделать над дверью второе отверстие для выхода дыма. Но чтобы принять гостя, у нас имеется только один способ: отдать ему все, что он хочет. Сейчас мы будем есть оленя и спать. А потом мы принесем тебе все дерево, какое только найдется в наших чумах. Что касается этого великолепного примуса, то ты можешь делать с ним все, что хочешь.
Глава 14. СТАРЫЙ ЛАТУННЫЙ БАГОР.
И вот, только что был съеден сырой олень с головой, ушами и глазами, как ненцы потащили к нам все свои деревянные вещи. Выдолбленная тарелка, крючок для подвешивания котла, какое—то ткацкое орудие — доска с круглыми дырками по бокам, полоз от саней, лыжи.
— Не годится?
Они удивлялись.
— Однако крепкое дерево, сто лет простоит.
Они притащили даже спинку стула, бог весть как попавшую в Большеземельскую тундру, Наш будущий штурман принес бога — настоящего идола, украшенного разноцветными суконными лоскутками, с остроконечной головкой и гвоздем, вбитым там, где у человека помещается пуп.
— Не годится? Однако крепкое дерево, сто лет простоит.
Признаться, мне стало стыдно за мой примус, когда я увидел, как этот ненец, что—то строго сказав своей бедной, заплаканной жене, вынес сундук, обитый жестью, без сомнения, единственное украшение чума. Он подошел ко мне очень довольный и поставил сундук на снег.
— Бери сундук, — перевел доктор. — Четыре крепких доски есть. Я комсомолец, мне ничего не надо. Я на твой примус плевать хотел.
Не знаю, может быть, доктор не совсем точно перевел последнюю фразу. Во всяком случае, это было здорово, и я от всей души пожал комсомольцу руку.
Случалось ли вам чувствовать, как вы полны одной мыслью, так что даже странным кажется, что есть на свете какие—нибудь другие желания и мысли, и вдруг точно буря врывается в вашу жизнь, и вы мгновенно забываете то, к чему только что стремились всей душой?
Именно это случилось со мной, когда я увидел старый латунный, багор скромно лежавший на снегу среди жердей, из которых строятся чумы.
Конечно, все было как—то необыкновенно, начиная с этого «ай—бурданья», когда я читал лекцию о примусе и ненцы слушали меня очень серьезно и между нами, как во сне, стоял прямой, точно сделанный из длинных серых лент, столб дыма.
Странными были эти домашние деревянные вещи, лежавшие на снегу вокруг самолета. Странным показался мне шестидесятилетний ненец с трубкой в зубах, что—то повелительно сказавший старухе, которая принесла нам кусок моржовой кости.
Но самым странным был этот багор. Кажется, во всем мире не было вещи более странной, чем он.
В эту минуту Лури выглянул из кабины и окликнул меня, и я что—то ответил ему очень издалека, из того далекого мира, в который меня внезапно перенесла эта вещь.
Что же это был за багор? Ничего особенного! Старый латунный багор. Но на этой старой, позеленевшей латуни было вырезано совершенно ясно: «Шхуна „Св. Мария“.
Я оглянулся: Лури еще смотрел из кабины, и это был, несомненно, Лури, с его бородой, над которой я каждый день издевался, потому что он отпустил ее, подражая известному полярному летчику Ф., и она совершенно не шла к его молодому, подвижному лицу.
Вдалеке, подле крайнего чума, стоял окруженный ненцами доктор Иван Иваныч.
Все было на месте — точно так же, как минуту назад. Но передо мной лежал багор с надписью «Шхуна „Св. Мария“.
— Лури, — сказал я совершенно спокойно, — иди сюда.
— Годится? — закричал из кабины Лури.
Он выскочил, подошел ко мне и с недоумением уставился на багор.
— Читай!
Лури прочитал.
— С какого—то корабля, — сказал он. — Со шхуны «Святая Мария».
— Не может быть! Не может быть, Лури!
Я поднял багор и взял его на руки, как ребенка, и Лури, должно быть, подумал, что я сошел с ума, потому что он пробормотал что—то и со всех ног бросился к доктору. Доктор пришел, с беспокойством взял меня за голову немного дрожавшими руками и долго смотрел в глаза.
— Товарищи, идите вы к черту! — сказал я с досадой. — Вы думаете, я сошел с ума? Ничего подобного! Доктор, этот багор со «Святой Марии»!
Доктор снял очки и стал изучать багор.
— Очевидно, ненцы нашли его на Северной Земле, — продолжал я волнуясь. — Или нет, конечно, не на Северной Земле, а где—нибудь на побережье. Доктор, вы понимаете, что это значит?
Ненцы давно уже стояли вокруг нас, и у них был такой вид, как будто они уже тысячу раз видели, как я показывал доктору этот багор, кричал и волновался.
Доктор спросил, чей багор, и старый ненец с неподвижным лицом, глубоко изрезанным морщинами, как на деревянной скульптуре, выступил и сказал что—то по—ненецки.
— Доктор, что он говорит? Откуда у него этот багор?
— Откуда у тебя этот багор? — спросил по—ненецки доктор.
Ненец ответил.
— Он говорит — нашел.
— Где нашел?
— В лодке, — перевел доктор.
— Как в лодке? А где он лодку нашел?
— На берегу, — перевел доктор.
— На каком берегу?
— Таймыр.
— Доктор, Таймыр! — заорал я таким голосом, что он снова невольно посмотрел на меня с беспокойством. — Таймыр! Самое близкое к Северной Земле побережье! А лодка где?
— Лодки нет, — перевел доктор. — Кусок есть.
— Какой кусок?
— Лодки кусок.
— Покажи!
Лури отвел доктора в сторону, и они о чем—то говорили шепотом, пока старик ходил за куском лодки. Кажется, Лури никак не мог проститься с мыслью, что я все—таки сошел с ума.
Ненец пришел через несколько минут и принес брезент, — очевидно, лодка, которую он нашел на Таймыре была из брезента.
— Не продается, — перевел доктор.
— Иван Иваныч, спросите у него, были ли в лодке еще какие—нибудь вещи? И если были, то какие и куда они делись?
— Были вещи, — перевел доктор. — Не знаю, куда делись. Давно было. Может быть, десять лет прошло. Иду на охоту, смотрю — нарты стоят. На нартах лодка стоит, а в лодке вещи лежат. Ружье было плохое, стрелять нельзя, патронов нету. Лыжи были плохие. Человек один был.
— Человек?!
— Постой—ка, — может быть, я наврал, — поспешно сказал доктор и переспросил что—то по—ненецки.
— Да, один человек, — повторил он. — Конечно, мертвый, медведи лицо съели. Тоже в лодке лежал. Все.
— Как все?
— Больше ничего не было.
— Иван Иваныч, спросите его, обыскал ли он этого человека, не было ли чего—нибудь в карманах: может быть, бумаги, документы?
— Были.
— Где же они?
— Где они? — спросил доктор.
Ненец молча пожал плечами. Кажется, самый вопрос показался ему довольно глупым.
— Из всех вещей остался только багор? Ведь был же он во что—то одет? Куда делась одежда?
— Одежды нет.
— Как нет?
— Очень просто, — сердито сказал доктор. — Или ты думаешь, что он нарочно берег ее, рассчитывая, что через десять лет ты свалишься к нему на голову со своим самолетом? Десять лет! Да еще, должно быть, десять, как он умер!
— Иван Иваныч, дорогой, не сердитесь. Все ясно! Нужно только записать этот рассказ — записать, и вы заверите, что сами слышали его, своими ушами. Спросите как его имя.
— Как тебя зовут? — спросил по—ненецки доктор.
— Вылка Иван.
— Сколько лет?
— Сто лет, — отвечал ненец.
Мы замолчали, а Лури так и покатился со смеху.
— Сколько? — переспросил доктор.
— Сто лет, — повторил ненец.
Доктор беспомощно оглянулся.
— Черт его знает, как сто по—ненецки, — пробормотал он. — Может быть, я ошибаюсь?
— Сто лет, — на чистом русском языке упрямо повторил Иван Вылка.
Все время, пока в чуме записывали его рассказ, он повторял, что ему сто лет. Вероятно, ему было меньше, — по крайней мере, на вид. Но чем дольше я всматривался в это деревянное лицо с ничего не выражавшим взглядом, тем все более убеждался, что он очень стар. Сто лет — это была его гордость, и он настойчиво повторял это, пока мы не записали в протоколе: «Охотник Иван Вылка, ста лет».
Глава 15. ВАНОКАН.
Честное слово, до сих пор не знаю, откуда ненцы достали этот кусок бревна, из которого мы сделали распорку. Они куда—то ходили ночью на лыжах, — должно быть, на соседнее кочевье, и когда мы утром вылезли из чума, где я провел не самую спокойную ночь в моей жизни, этот кусок кедрового дерева лежал у входа.
Да, это была не очень веселая ночь, и только Иван Иваныч спал у огня, и длинные концы его шапки, завязанные на голове, смешно торчали из малицы, как заячьи уши. Лури ворочался и кашлял. Я не спал. Ненка сидела у люльки, и я долго слушал однообразную мелодию, которую она пела как будто безучастно, но в то же время с каким—то самозабвением. Одни и те же слова повторялись ежеминутно, и, наконец, мне стало казаться, что из этих двух или трех слов состоит вся ее песня. Ребенок давно уже спал, а она еще пела. Круглое лицо иногда освещалось, когда сырой ивняк разгорался, и тогда я видел, что она поет с закрытыми глазами. Вот что она пела — утром доктор перевел мне эту песню:
Зимней порой Куда ни взгляну, Сыночек мой, Везде белое поле, Сыночек мой. На озеро взгляну — Только лед синеет, — Сыночек мой. На гору взгляну — Только камни чернеют, Сыночек мой. Милая тундра, Белое поле, Сыночек мой, Быстроногий мой. Какие у тебя милые ушки, Сыночек мой. Какие у тебя милые глазки, Сыночек мой. Какой у тебя милый носик, Сыночек мой. На небо взгляну — Облака белеют. Милая тундра.То чувство, которое я испытал во время разговора с Валей, вернулось ко мне, и с такой силой, что мне захотелось встать и выйти из чума, чтобы хоть не слышать этой тоскливой песни, которую ненка пела с закрытыми глазами. Но я не встал. Она пела все медленнее, все тише, и вот замолчала, уснула. Весь мир спал, кроме Меня; и только я один лежал в темноте и чувствовал, что у меня сердце ноет от одиночества и обиды. Зачем эта находка, когда все кончено, когда между нами уже нет и не будет ничего и мы встретимся, как чужие? Я старался справиться с тоской, но не мог и все старался и старался, пока, наконец, не уснул.
К полудню мы починили шасси. Мы выточили бревно и вставили его вместо распорки. Для большей прочности мы обмотали скрепы веревкой. У самолета был теперь жалкий, подбитый вид. Мы с Лури отошли и со стороны холодным взглядом оценили работу.
— Ну, как?
Лури с отвращением махнул рукой.
Ну что ж, будем считать, что все обстоит прекрасно. Нужно греть воду, пора запускать мотор.
Мы трамбуем снег в бидоны, ставим бидоны на примус. Томительное занятие! Плохо горит наш примус, «великолепная машина, без которой ничего не стоит любое хозяйство».
Но вот все в порядке, мотор разогрет, начинается запуск. Ненцы тянут за концы амортизатора.
— Внимание!
— Есть внимание!
— Раз, два, три — пускай!
Амортизатор срывается, ненцы падают в снег.
Снова:
— Внимание!
— Есть внимание!
— Раз, два, три — пускай!
Это повторяется четыре раза. Мотор вздрагивает, чихает, делает два десятка оборотов, останавливается и, наконец, начинает работать. Пора прощаться! Ненцы собираются у самолета, я жму им руки, благодарю за помощь, желаю счастья в охоте. Они смеются — довольны. Наш штурман, застенчиво улыбаясь, лезет в самолет. Не знаю, что он на прощанье сказал жене, но она стоит у самолета веселая, в шубе, расшитой вдоль подола разноцветным сукном, в широком поясе, в капоре с огромными меховыми полями, отчего лицо ее кажется окруженным сиянием.
И этот капор, высотой в полметра, увешанный какими—то побрякушками, а под капором маленькое круглое лицо — вот и все, что я вижу на прощанье.
По привычке я поднимаю руку, точно прошу старта у ненцев.
— До свиданья, товарищи!
Летим!..
Не стану рассказывать, как мы летели до Ванокана, как поразил меня наш штурман, читавший однообразную снежную равнину, как географическую карту. Над одним кочевьем он попросил меня немного постоять и был очень огорчен, узнав, что постоять, к сожалению, не придется.
Не стану рассказывать, как мы садились в Ванокане. Летчикам—испытателям хорошо известно это особенное профессиональное чувство, какая—то горючая смесь из риска, ответственности и азарта. В конце концов, мы тоже летели на машине новой конструкции, с деревянной распоркой — новость в самолетостроении! Кажется, я во время посадил самолет всей тяжестью на здоровую ногу, потому что он еще не остановился, а Лури уже выскочил из кабины, показывая мне большой палец.
Не стану рассказывать и о том, как нас встречали в Ванокане, как в трех домах распаялись самовары, а в четвертом выпал из люльки ребенок, которого доктору тут же пришлось лечить; о том, как нас закармливали семгой и пирогами; о том, как я организовал модельный кружок и катал пионеров на самолете; о том, как жители Ванокана уверяли меня, что в тот самый день и час, когда мы прилетели, над поселком кружились еще два самолета, и как я догадался наконец, что это и был наш самолет, сделавший три круга перед посадкой.
Но вот о чем нельзя не рассказать — о докторе Иване Иваныче в Ванокане.
Мы нашли Ледкова в плохом состоянии. Я не раз встречался с ним на собраниях и однажды даже возил из Красноярска в Игарку. Между прочим, он поразил меня своим знанием художественной литературы. Оказалось, что он окончил Педагогический институт в Ленинграде и вообще — образованный человек, читавший не только Льва Толстого, но и Вольтера. До двадцати трех лет он был пастухом в тундре, и ненцы недаром всегда говорили о нем с гордостью и любовью.
И вот этот прекрасный, умный человек и замечательный политический деятель лежал, раненный какой—то собакой, и, когда я вошел, я не узнал его: так он переменился.
Нельзя даже сказать, что он лежал. Он сидел на кровати, скрипя зубами от боли, И эта боль вдруг поднимала его; он вставал, хватаясь за спинку кровати, и одним махом перебрасывался на стул. Страшно было видеть, как боль швыряла это большое, сильное тело! Иногда она утихала на несколько минут, и тогда лицо его принимало человеческое выражение. Потом опять! Он закусывал верхнюю губу, глаза — страшные глаза силача, который не в силах справиться с собой, — начинали косить, и — раз! — он поднимался на здоровой ноге и с размаху швырял себя на кровать. Но и на кровати он поминутно пересаживался с места на место. Попала ли пуля в какое—нибудь нервное сплетение, или рана так болезненно загноилась — не знаю. Но в жизни моей я не видел более страшной картины! На него жалко было смотреть, и все лица невольно искажались, когда он начинал ерзать по кровати, мучительно стараясь усидеть, и вдруг — раз! — со всего размаху перекидывался на стул.
Было от чего потерять голову при виде такого больного! Но Иван Иваныч не потерял — напротив! Он вдруг помолодел, надул губы и стал похож на решительного молодого военного доктора, которого все боятся. Мигом он выгнал всех из комнаты больного, в том числе и председателя райисполкома, который почему—то непременно хотел присутствовать при осмотре Ледкова. Когда местная фельдшерица, сухонькая старушка в очках, трепеща, предстала перед ним, он спросил ее очень любезно:
— Ну—с, а случалось вам присутствовать при ампутации голени?
Какими—то умелыми, свободными движениями он в одну минуту переставил в комнате всю мебель. Он вынес лишний стол, а тот, на котором собирался производить операцию, выдвинул на середину комнаты, под висячую лампу.
Он приказал принести лампы со всего поселка, «да чтобы не коптили», и развесил их по стенам так, что комната сразу осветилась небывалым в Ванокане светом.
Он только поднял брови, а сухонькая фельдшерица выбежала с полотенцем, которое показалось ему не особенно чистым, и я слышал, как она сказала в кухне таким же злобно—любезным голосом, как доктор:
— Вы что, голубчики, вы меня в гроб вогнать хотите?
Но никто не хотел вогнать ее в гроб. Все бегали на цыпочках и называли доктора «он».
Отрывисто, хотя и вежливо, отдавая распоряжения, доктор не меньше получаса тер руки мылом и щеткой. Потом, не вытираясь, он вошел в комнату больного и остановился, расставив ноги, растопырив руки и критически оглядываясь вокруг. Потом дверь захлопнулась, и удивительная для Ванокана картина ослепительной комнаты с больным, лежащим на ослепительно белом столе, и людьми в ослепительно белых халатах исчезла.
Так вел себя наш Иван Иваныч в Ванокане. Через сорок минут он вышел из операционной. Нужно полагать, операция прошла превосходно, потому что, снимая халат, он сказал мне что—то по—латыни, а потом из Козьмы Пруткова:
— «Если хочешь быть счастливым — будь им!»
Рано утром мы вылетели из Ванокана и через три с половиной часа без всяких приключений опустились в Заполярье.
Об этом случае, то есть о блестящей операции, которую доктору удалось сделать в таких трудных условиях, и вообще о нашем полете была потом заметка в «Известиях». Она кончалась словами: «Больной быстро поправляется». И действительно, больной поправился очень быстро.
Мы с Лури получили благодарность, а доктор — почетную грамоту от Ненецкого национального округа.
Старый латунный багор висел теперь у меня в комнате на стене рядом с большой картой, на которую был нанесен дрейф шхуны «Св. Мария».
В начале июня я поехал в Москву. К сожалению, у меня было очень мало времени: меня отпустили только на десять дней, а за эти десять дней я должен был устроить не только свои личные дела, но и личные и общественные дела моего капитана.
Я много думал дорогой — о себе и о своих отношениях с Катей, и снова история ее отца поднялась над этими мыслями, как будто требуя особого внимания и уважения. Вольно или невольно, я встречался с ним на каждом круге своей жизни, и в конце концов из этих осколков его истории, которые я подобрал, составилась стройная картина. Старый латунный багор был последним логическим штрихом в этой картине доказательств. Самый сложный вопрос был решен этой находкой.
В самом деле, прочитав дневники штурмана, я спрашивал себя: «Узнаю ли я когда—нибудь, что случилось с капитаном Татариновым? Оставил ли он корабль, чтобы изучить открытую им землю, или погиб от голода вместе со своими людьми, и шхуна годами двигалась к берегам Гренландии, увлекаемая плавучими льдами?»
— Да, — мог я теперь ответить. — Он оставил корабль. Мы не знаем, при каких обстоятельствах это произошло — погибла ли часть команды, или шхуна была раздавлена льдами. Но он привел в исполнение свою «детскую, безрассудную» мысль.
Я спрашивал себя: «Дошел ли он до Северной Земли?»
— Да, — мог я теперь ответить. — Он дошел до Северной Земли. Иначе откуда взялись бы на побережье эти сани с брезентовой лодкой, которые нашел несколько лет назад охотник Иван Вылка?
Я спрашивал себя: «Где искать следы экспедиции и стоит ли их искать?»
— Да, — мог я теперь ответить. — Их стоит искать, потому что, логически рассуждая, можно с точностью до полу градуса определить район этих поисков. А научное значение задачи не вызывает сомнений.
Это был разговор, как на суде, — одни только вопросы и ответы. Но за сухими, холодными словами мне мерещились совсем другие слова, и я видел Катю, по которой так тосковал.
— Ты забыла меня? Это правда?
— Нет, — ответила она. — Но та жизнь, когда нам было по семнадцати лет, кончилась, а ты куда—то пропал, и я думала, что вместе с той жизнью окончилась и наша любовь.
— Ничего она не окончилась, — так я скажу ей. — Я знаю теперь о твоем отце больше тебя, больше всех людей на свете. Посмотри, что я привез тебе,
— здесь вся его жизнь. Я собрал его жизнь и доказал, что это была жизнь великого человека. Знаешь, почему я сделал это? Из любви к тебе.
Тогда она спросит:
— Так ты не забыл меня? Это правда?..
И я отвечу ей:
— Я бы не забыл тебя, даже если бы ты меня разлюбила.
Это был чудный разговор, который я придумал дорогой. И нельзя сказать, что он был совсем не похож на тот разговор, который вскоре произошел между мною и Катей. Он был и похож и не похож — как сон похож и не похож на реальную жизнь.
ЧАСТЬ 5. ДЛЯ СЕРДЦА.
Глава 1. ВСТРЕЧА С КАТЕЙ.
Десять дней — это не так много, чтобы расстроить одну свадьбу и устроить другую. Тем более, что у меня было много других дел в Москве: я собирался прочитать в Географическом обществе доклад «Об одной забытой полярной экспедиции», а между тем еще не написал его. Я должен был поставить в Главсевморпути вопрос о поисках «Св. Марии».
Валя подготовил некоторые дела: он договорился, например, с Географическим обществом о моем докладе. Но написать его он, конечно, не мог.
Я собирался остановиться у Кораблева, но потом передумал и заехал в гостиницу, ту самую, в которой останавливался два года назад, проездом из Балашова. Это была ошибка, потому что, как ни странно для бродячего человека, я не люблю гостиниц. В гостиницах у меня всегда становится меланхолическое настроение.
Я позвонил Кате, и она подошла к телефону.
— Я вас слушаю.
— Это говорит Саня.
Она замолчала. Потом спросила самым обыкновенным голосом:
— Саня?
— Он самый.
Она опять замолчала.
— Надолго в Москву?
— Нет, на несколько дней, — ответил я, тоже стараясь говорить обыкновенным голосом, как будто мне не казалось, что я вижу ее сейчас в том самом треухе с не завязанными ушами, в том пальто, мокром от снега, в котором она была на Триумфальной в последний раз.
— В отпуск?
— И в отпуск, и по делам.
Нужно было сделать усилие, чтобы не спросить ее: «Я слышал, что ты часто встречаешься с Ромашовым?» Я сделал это усилие и не спросил.
— А как Саня? — вдруг спросила она о сестре. — Мы с ней переписывались, а потом перестали.
Мы заговорили о Сане, и Катя сказала, что на днях в Москву приезжал один ленинградский театр, шла «Мать» Горького, и в программе было указано: «Художник — П. Сковородников».
— Да ну?
— И очень хорошие декорации. Смелые и вместе с тем простые.
Мне показалось, что она нарочно несколько раз не назвала меня по имени, а один раз назвала, понизив голос, как будто не хотела, чтобы дома знали, с кем она говорит. Ни разу она не сказала мне «ты», и мы говорили и говорили о чем—то обыкновенными голосами, пока мне не стало страшно, что все так — кончится, то есть мы поговорим обыкновенными голосами и разойдемся, и у меня не будет даже повода, чтобы позвонить ей снова.
— Катя, нам нужно встретиться. Когда ты можешь?
Я сказал, «Когда ты можешь?» И сразу стало ясно, что это было бы глупо, если бы я стал говорить ей «вы».
— У меня как раз сегодня свободный вечер.
— Часов в девять?
Я ждал, что она позовет меня к себе, но она не позвала, и мы условились встретиться — где же?
— Может быть, в сквере на Триумфальной?
— Этого сквера теперь нет, — холодно возразила Катя.
И мы условились встретиться между колоннами у Большого театра.
Вот и все, о чем мы говорили по телефону, и нечего было перебирать каждое слово, как я делал это весь первый длинный день в Москве.
Я поехал в Управление гражданского воздушного флота, потом к Вале в Зооинститут. Должно быть, у меня был рассеянный вид, потому что Валя несколько раз повторил мне, что завтра двадцатипятилетний юбилей педагогической деятельности Кораблева и что будет торжественное заседание в школе.
Наконец в девятом часу вечера я отправился к Большому театру…
Это была прежняя Катя с косами вокруг головы, завитками на лбу, которые я всегда вспоминал, когда думал о ней. Она побледнела и выросла и, конечно, была теперь не та девочка, которая когда—то поцеловала меня в сквере на Триумфальной. У нее стал сдержанный взгляд, сдержанный голос. Но все же это была Катя, и она совсем не стала так уж похожа на Марью Васильевну, как я этого почему—то боялся. Наоборот, все прежние Катины черты как—то определились, и она стала теперь еще больше Катя, чем прежде. Она была в белой шелковой блузке с короткими рукавами, синий бант с белыми горошинами приколот у выреза на груди, и у нее становилось строгое выражение, когда во время нашего разговора я старался заглянуть ей в лицо.
С таким чувством, как будто мы в разных комнатах и разговариваем через стену и только иногда приоткрывается дверь и Катя выглядывает, чтобы посмотреть, я это или не я, мы бродили по Москве в этот печальный день. Я говорил и говорил, — не запомню, когда еще я говорил так много. Но все это было совсем не то, что я хотел сказать ей. Я рассказал о том, как была составлена «азбука штурмана» и что это была за работа — прочитать его дневники. Я рассказал, как был найден старый латунный багор с надписью «Шхуна „Св. Мария“.
Но ни слова не было сказано о том, зачем я делал все это! Ни слова. Как будто эта история давно умерла и не была наполнена обидами, любовью, смертью Марьи Васильевны, ревностью к Ромашке, всей живой кровью, которая билась во мне и в Кате…
Это был год, когда Москва начинала строить метро, и в самых знакомых местах поперек улиц стояли заборы и нужно было идти вдоль этих заборов по гнущимся доскам и возвращаться, потому что забор кончался ямой, которой вчера еще не было и из которой теперь слышались голоса и шум подземной работы.
Таков был и наш разговор — обходы, возвращения и заборы в самых знакомых местах, знакомых с детства и школьных лет. Все время мы натыкались на эти заборы, особенно когда приближались к тому опасному месту, которое называлось «Николай Антоныч».
Я спросил, получила ли Катя мои письма — одно из Ленинграда, другое из Балашова, и, когда она сказала, что нет, намекнул, не попали ли эти письма в чужие руки.
— У нас в доме нет никаких чужих рук, — резко сказала Катя.
Мы вернулись на Театральную площадь. Был уже поздний вечер, но в ларьках еще продавали цветы, и после Заполярья мне казалось странным, что может быть так много всего, — людей, автомобилей, домов и лампочек, качавшихся в разные стороны друг от друга.
Мы сидели на скамейке, Катя слушала меня, подставив руку под голову, и я вспомнил, как она всегда любила долго устраиваться, чтобы было удобнее слушать. Теперь я понял, что переменилось в ней, глаза. Глаза стали грустные.
Это была единственная хорошая минута. Потом я спросил, помнит ли она наш последний разговор в сквере на Триумфальной, и она ничего не сказала. Это был самый страшный ответ для меня. Это был прежний ответ: «Не будем больше говорить об этом».
Быть может, если бы мне удалось как следует посмотреть ей в лаза, я бы многое понял. Но она смотрела в сторону, и я больше не пытался.
Я только чувствовал, что и она с каждой минутой становится все холоднее. Она кивнула головой, когда я сказал:
— Я буду держать тебя в курсе.
И вежливо поблагодарила меня, когда я пригласил ее на доклад.
— Спасибо, я непременно приду.
— Буду очень рад.
Мы помолчали.
— Я хотела тебе сказать, Саня, что очень тронута твоим отношением. Я была уверена, что ты давно забыл об этой истории.
— Нет, как видишь!
— Ты ничего не будешь иметь против, если я передам наш разговор Николаю Антоновичу?
— Напротив! Николаю Антонычу интересно будет узнать о моих находках. Ведь они касаются его очень близко — гораздо ближе, чем он может вообразить.
Они вовсе не касались его так уж близко, и у меня не было никаких оснований для намека, который я вложил в эти слова. Но я был очень зол.
Катя внимательно посмотрела на меня и немного подумала. Кажется, она еще о чем—то хотела спросить меня, но не решилась. Мы простились. Я ушел расстроенный, злой, усталый, и в гостинице у меня первый раз в жизни заболела голова.
Глава 2. ЮБИЛЕЙ КОРАБЛЕВА.
Назначить юбилей преподавателя средней школы на каникулах, когда школьники а разъезде и сама школа закрыта, — это была странная мысль. Я даже сказал Вале, что, по—моему, никто не придет.
Ничуть не бывало! Школа была полна. Ребята еще убирали лестницу ветками березы и клена. Груда веток лежала на полу в раздевалке, и огромная цифра «25» качалась над входом в зал, где было назначено торжественное заседание. Девочки тащили куда—то гирлянды, у всех был серьезный, озабоченный вид, и мне вдруг стало весело от этой беготни и волнения и оттого главным образом, что я вернулся в свою родную школу.
Но мне не дали особенно долго заниматься воспоминаниями. Я был в форме, и ребята мигом окружили меня. Еще бы! Летчик! Я не успевал отвечать на вопросы.
Потом девочка из старшего класса, напомнившая мне тетю Варю, нашу «хозяйственную комиссию», такая же толстая и румяная, подошла и сказала, покраснев, что меня ждет Иван Павлыч.
Он сидел в учительской, постаревший, немного согнувшийся, с седой — уже седой! — головой. Вот на кого он стал теперь похож — на Марка Твена! Конечно, он постарел, но мне показалось, что он стал крепче с тех пор, как мы виделись в последний раз. Усы, хотя тоже седоватые, стали еще пышнее и бодро торчали вверх, и над свободным мягким воротником была видна здоровая красная шея.
— Иван Павлыч, дорогой, поздравляю вас! — сказал я, и мы обнялись и долго целовали друг друга. — Поздравляю вас, — говорил я между поцелуями,
— и желаю, чтобы все ваши ученики были так же благодарны вам, как я.
— Спасибо, Санечка!
И он еще раз крепко обнял меня. Он был очень взволнован, и у него немного дрожали губы.
Через час он сидел на эстраде, в том самом зале, где мы когда—то судили Евгения Онегина, а мы, как почетные гости, сидели в президиуме по правую и левую руку от юбиляра. Мы — это Валя, надевший для торжественного дня ярко—зеленый галстук, инженер—строитель Таня Величко, которая стала высокой полной женщиной, так что даже трудно было поверить, что это та самая тоненькая принципиальная Таня, и еще несколько учеников Ивана Павлыча, которые в наше время были младшими и которых мы по—настоящему даже не считали за людей. Среди этого поколения было много курсантов, и я с удовольствием узнал трех ребят из моего пионеротряда.
Потом пришел великолепный, снисходительный в белых гетрах, в очень толстом вязаном жилете артист Московского драматического театра Гришка Фабер. Вот кто нисколько не переменился! С таким видом, как будто все, что происходит в этом зале, относится только к нему, он шикарно расцеловал юбиляра в обе щеки и сел, заложив ногу за ногу. Он сразу занял очень много места в президиуме, и стало казаться, что это его юбилей, а вовсе не Кораблева. С туманным видом он посмотрел на публику, потом вынул гребешок и причесался. Я написал ему записку: «Гришка, подлец, здорово!» Он прочитал и, снисходительно улыбаясь, помахал мне рукой.
Это был превосходный вечер, и он был так хорош потому, что все, кто выступал, говорили чистую правду. Никто не врал — без сомнения потому, что о Кораблеве не трудно было говорить чистую правду, — ведь он никогда и не требовал ничего другого от своих учеников.
Я бы хотел, чтобы через двадцать пять лет работы обо мне говорили так, как об Иване Павлыче в этот вечер.
От родителей, от выпуска тридцать первого года, от рабочих мебельной фабрики, от райсовета, от гороно! Все с цветами — и одна корзина больше другой. Но вот председатель объявил, что «от имени актеров, вышедших из стен нашей школы, сейчас выступит Григорий Иванович Фабер», и два здоровых парня принесли такую корзину, что все ахнули, — шепот так и побежал по рядам.
Гришка встал. Как всегда, он говорил прекрасно, только слишком орал, и мне показалось странным, что в театре его не научили говорить потише. Он назвал Ивана Павлыча «учителем жизни в искусстве» и добавил, что лично для него это сыграло огромную роль. Потом он еще раз расцеловал Кораблева и сел, очень довольный собой.
Цветов на эстраде становилось все больше, и Иван Павлыч сидел очень красный и время от времени растерянно поправлял усы. Кажется, он стеснялся, что чувствует себя таким счастливым. Когда его хвалили, у нем становились страдающие глаза.
Потом выступил лейтенант, который в наше время учился в каком—то там пятом классе, и сказал, что, поскольку товарищ Фабер говорил от имени артистов, он позволит себе произнести приветствие от имени курсантов и командиров Рабоче—крестьянской Красной Армии, также вышедших из стен этой школы.
— Дорогой Иван Павлыч, — сказал я, когда председатель дал мне слово, — теперь позвольте мне сказать от имени летчиков, потому что немало ваших учеников летают над нашей великой Советской страной, и все они без сомнения, присоединятся к каждому моему слову. Говорят, что писатели — инженеры человеческих душ. Но вы — тоже инженер человеческих душ. Однажды, например, проснувшись рано утром, я обнаружил, что мой сосед, не отрываясь, смотрит на потолок, и так внимательно, что даже не отвечает на мои вопросы. Я проследил за его взглядом и увидел, что на потолке нарисован черный кружок величиной с полтинник. Это повторилось и на следующий день. Два месяца мой сосед каждое утро смотрел на этот черный кружок. Как вы думаете, зачем он это делал? Конечно, он сам мог бы ответить на этот вопрос, потому что в данную минуту он является моим соседом за этим столом. — Валя смущенно засмеялся, а за ним президиум и весь зал. — Но так и быть — скажу за него: он развивал силу взгляда. Чей же взгляд так поразил его? Знаменитый взгляд Ивана Павлыча Кораблева. Дорогой Иван Павлыч! Теперь я могу вам откровенно признаться: мы не выдерживали вашего взгляда. Бывало, натворишь что—нибудь и только соберешься соврать, а встретишь вас или только вспомнишь о вас — и невольно говоришь правду. По—моему, это и есть самое главное, чему должна учить нас школа.
Я кончил речь и пошел к Ивану Павлычу целоваться. С другой стороны к нему полез целоваться Валька, и мы столкнулись лбами.
До сих пор мне хлопали довольно жидко, но когда мы столкнулись лбами, раздались оглушительные аплодисменты.
После меня выступила Таня Величко, но я уже не слушал ее, потому что приехал Николай Антоныч.
Он вошел в зал — толстый, солидный, снисходительный, в каких—то широких брюках, и, немного наклонясь вперед, стал пробираться к президиуму. Я видел, как наша бедная старая Серафима, та самая, которая когда—то по комплексному методу обучала нас «утке», побежала перед ним, расчищая дорогу, — а он шел, не глядя на нее и не улыбаясь.
Я не видел его после той безобразной сцены, когда он кричал на меня и ломал пальцы, а потом плевался, — и нашел, что с тех пор он значительно переменился. За ним шел какой—то человек, тоже довольно толстый и тоже немного наклонясь вперед и не улыбаясь.
Без сомнения я бы никогда не догадался, что это за человек, если бы Валя не шепнул мне в эту минуту: «А вот и Ромашка».
Как, это Ромашка? Такой причесанный, солидный, с таким большим, белым, вполне приличным лицом, в таком превосходном сером костюме? Куда делись желтые кошачьи космы? Куда делись неестественно круглые глаза — глаза совы, — которые не закрывались на ночь?
Все было приглажено, прибрано, по возможности смягчено, и даже тяжелый квадратный подбородок стал теперь не очень квадратный, а скорее полный и тоже вполне приличный. Если бы Ромашка мог по своему желанию вылепить себе новое лицо, он бы лучше, кажется, не вылепил. Пожалуй, на свежего человека он мог теперь произвести даже приятное впечатление.
Николай Антоныч прошел в президиум, он за ним, и все, что делал Николай Антоныч, делал за ним Ромашка. Николай Антоныч сдержанно, но в общем сердечно поздравил Кораблева, — не поцеловал, а только протянул руки. И Ромашка только протянул руки. Николай Антоныч окинул взглядом президиум и прежде всех поздоровался с заведующим гороно. И вслед за ним — Ромашка. Но — может быть, это покажется странным — Ромашка держался увереннее, смелее.
Меня Николай Антоныч не заметил, то есть сделал вид, что меня здесь нет. Но Ромашка, дойдя до меня, остановился и слегка развел руками, как будто удивляясь — я ли это? И как будто я никогда не бил его ногой по морде.
— Здравствуй, Ромашка! — сказал я равнодушно.
Он перекосился, но сейчас же сделал вид, что мы, как старые друзья, так и должны называть друг друга: «Санька, Ромашка». Он подсел ко мне и стал что—то говорить, но я довольно презрительно остановил его и отвернулся, как будто слушая Таню.
Не слушал я Таню! Все во мне кипело и бурлило, и только усилием воли я сохранил прежнее спокойное выражение.
Торжественная часть кончилась, и гостей пригласили к столу. Ромашка догнал меня в коридоре.
— Правда, прекрасно прошел юбилей Ивана Павлыча?
У него даже голос стал мягче, круглее.
— Да, очень хорошо.
— В самом деле, жаль, что мы так редко встречаемся. Все—таки старые товарищи. Ты где служишь?
— В гражданской авиации.
— Это я вижу, — сказал он и засмеялся. — Нет, «где» в другом смысле, в территориальном.
— На Крайнем Севере.
— Да! Черт! Совсем забыл! Ведь Катя же мне говорила! В Заполярье!
Катя! Катя ему говорила. Мне стало жарко, но я ответил совершенно спокойно:
— Да, в Заполярье.
Он замолчал. Потом спросил осторожно:
— Надолго… к нам?
— Еще не знаю, — ответил я тоже осторожно. — Это зависит от многих обстоятельств.
Мне самому понравилось, что я так спокойно, осторожно ответил, и с этой минуты все мое волнение как рукой сняло. Я стал холоден, любезен и хитер, как змея.
— Катя говорила, что ты собираешься выступить с докладом. Кажется, в Доме ученых?
— Нет, в Географическом обществе.
Ромашка посмотрел на меня с удовольствием — как будто он был доволен, что я собираюсь прочитать доклад в Географическом обществе, а не в Доме ученых. Так оно и было, но тогда я еще ничего не знал.
— Что же это за доклад?
— А вот приходи, — сказал я равнодушно. — Это тебе будет интересно.
Он снова перекосился, на этот раз заметно.
— Да, — сказал он, — нужно записать и не пропустить. — И он стал что—то аккуратно записывать в блокноте. — Как он называется?
— Забытая полярная экспедиция.
— Постой—ка! Это об экспедиции Ивана Львовича?
— Об экспедиции капитана Татаринова, — возразил я сухо.
Но он пропустил мимо ушей мою поправку.
— По новым материалам?
Знакомый тупой расчет мелькнул у него в глазах, и я сразу догадался, в чем дело.
«Ага, подлец, — подумал я хладнокровно, — тебя подослал Николай Антоныч. Тебе поручено узнать, не собираюсь ли я снова доказывать, что в гибели экспедиции виноват именно он, а не какой—то там фон Вышимирский!»
— Да, по новым.
Ромашка внимательно посмотрел на меня. На секунду он превратился в прежнего Ромашку, подсчитывающего, сколько процентов прибыли получится, если я проговорюсь, что это за материалы.
— Кстати, об экспедиции, — сказал он. — Ведь у Николая Антоныча тоже есть материалы. У него много писем и есть очень интересные, он мне как—то показывал. Ты бы к нему обратился!
«Ага, понятно, — подумал я снова. — Николай Антоныч поручил тебе свести нас, чтобы поговорить об этом деле. Он боится меня. Но он хочет, чтобы я сделал первый шаг. Не тут—то было!»
— Да нет, — ответил я равнодушно. — Он ведь, в сущности, мало знает. Как ни странно, но я знаю больше о его собственном участии в экспедиции, чем он сам.
Это был хорошо рассчитанный удар, и Ромашка, который все—таки был тупица, хотя и сильно развился, вдруг открыл рот и посмотрел на меня с откровенным затруднением.
«Катя, Катя», — подумал я и почувствовал, что у меня сердце сжимается от обиды за нее, за себя.
— Да—а, — протянул Ромашка. — Такие—то дела.
— Да, такие дела.
Мы подошли к столу, и разговор прекратился. С трудом я досидел до конца этот вечер — только ради Ивана Павлыча, чтобы его не обидеть. У меня было неважное настроение, и очень хотелось выпить, но я выпил только одну рюмку — за юбиляра.
Ромашка произнес этот тост. Он поднялся и долго, с достоинством ждал, когда за столом станет тихо. Самодовольное выражение мелькнуло на его лице, когда одна фраза вышла особенно складно. Он сказал что—то насчет «дружбы, связывающей всех учеников нашего дорогого юбиляра». При этом он обратился ко мне и поднял рюмку, показывая, что пьет и за меня. Я тоже вежливо приподнял рюмку. Должно быть, у меня был при этом не очень приветливый вид, потому что Иван Павлыч внимательно посмотрел сперва на него, потом на меня и вдруг — я не сразу вспомнил, что это значит, — положил руку на стол и показал на нее глазами. Рука поднялась, похлопала по столу и спокойно опустилась. Это был наш старый условный знак. Не волноваться! Мы оба одновременно рассмеялись, и мне стало немного веселее.
Глава 3. БЕЗ НАЗВАНИЯ.
В этот день у меня было назначено свидание с одним работником «Правды»: я хотел рассказать ему о своих находках. Два раза он откладывал — все был занят; наконец позвонил, и я поехал в «Правду».
Это был длинный внимательный дядя в очках, немного косой, так что все время казалось, что он смотрит в сторону и думает о чем—то своем. «Некоторым образом спец по летчикам», — сказал он. Кажется, он искренне заинтересовался моим рассказом, во всяком случае, со второго слова стал записывать что—то в блокнот. Он заставил меня нарисовать мой способ крепления самолета во время пурги и сказал, что я должен послать об этом статью в журнал «Гражданская авиация». Тут же он позвонил в «Гражданскую авиацию» и сговорился, кому и когда я сдам материал. Он очень хорошо понял — так мне показалось — значение экспедиции «Св. Марии» и сказал, что сейчас, когда у всех к Арктике такой огромный интерес, это своевременная и нужная тема.
— Но об этом уже была статья, — сказал он. — Помнится, в «Советской Арктике».
— В «Советской Арктике»?
— Да, в прошлом году.
Это была новость! Статья об экспедиции капитана Татаринова в «Советской Арктике» в прошлом году?
— Я не читал этой статьи, — сказал я. — Во всяком случае, автор не знает того, что знаю я. Я разобрал дневники штурмана — единственного члена экспедиции, который добрался до Большой Земли.
В эту минуту я понял, что передо мной настоящий журналист. У него вдруг заблестели глаза, он стал быстро записывать и даже сломал карандаш. Очевидно, это было что—то вроде сенсации. Он так и сказал:
— Да это сенсация!
Потом запер свой кабинет на ключ и повел меня к «начальству», как он объявил в коридоре.
У «начальства» я кратко повторил свой рассказ, и мы условились:
а) что я завтра принесу дневники в редакцию,
б) что «Правда» пошлет на мой доклад сотрудника и
в) что я напишу о своих находках статью, а там уже «мы посмотрим, где ее напечатать».
Мне нужно было поговорить в «Правде» и о розысках экспедиции, но я почему—то решил, что это особый вопрос, не имеющий отношения к печати. Жаль, потому что журналисты посоветовали бы, к кому обратиться в Главсевморпути, а может быть, даже позвонили бы по телефону.
Я просидел в приемной часа два — все дожидался чести увидеть одного из секретарей Главного управления. Наконец дождался. Меня провели в кабинет, и тут я просидел еще полчаса. Секретарю было некогда: в кабинет поминутно заходили моряки, летчики, радисты, инженеры, столяры, агрономы, художники, — и все время нужно было делать вид, что он прекрасно разбирается в авиации, агрономии, живописи и радио. Наконец он обратился ко мне.
— Исторически интересно, — сказал он, когда я кое—как окончил свой рассказ. — У нас другие задачи, более современные.
Я возразил, что прекрасно понимаю, что задача Главсевморпути отнюдь не заключается в поисках пропавших экспедиций. Но поскольку в этом году к Северной Земле отправляется высокоширотная экспедиция, вполне можно дать ей небольшое параллельное задание — обследовать район гибели капитана Татаринова.
— Татаринов, Татаринов… — припоминая, сказал секретарь. — Он об этом писал?
Я возразил, что он не мог об этом писать, так как экспедиция вышла из Петербурга приблизительно двадцать лет тому назад и последнее полученное известие было от 1914 года.
— Хорошо, тогда какой же Татаринов об этом писал?
— Татаринов — это капитан, — объяснил я терпеливо. — Он вышел осенью 1912 года на шхуне «Святая Мария» с целью пройти Северным морским путем, то есть тем самым Главсевморпутем, в управлении которого мы находимся. Экспедиция не удалась, но попутно капитаном Татариновым были сделаны важные географические открытия. Есть все основания утверждать, что Северная Земля, например, была открыта им, а не Велькицким.
— Ну да, совершенно верно, — сказал секретарь. — Об этой экспедиции была статья, и я ее читал.
— Чья статья?
— По—моему, тоже Татаринова. Экспедиция Татаринова, статья Татаринова. Так что же вы предлагаете? Я повторил свое предложение.
— Ладно, напишите докладную записку, — сказал секретарь таким тоном, как будто он сожалел, что мне придется писать это докладную записку, а потом она останется лежать у него в столе…
Я вышел.
Это не могло быть совпадением! В книжном магазине на улице Горького я перелистал все номера «Советской Арктики» за прошлый год. Статья называлась «Об одной забытой полярной экспедиции» — название моего доклада! — и была подписана: «Н.Татаринов». Ее написал Николай Антоныч!
Это была большая статья, написанная в духе воспоминаний, но в то же время с научным оттенком. Она начиналась рассказом о том, как летом 1912 года в Петербурге, у Николаевского моста, стояла шхуна «Св. Мария»: «Еще свежа была белая краска на ее стенах и потолках, как зеркало, блестело полированное красное дерево ее мебели, и ковры украшали полы ее кают. Кладовые и трюм были набиты всевозможными запасами. Чего только там не было! Орехи, конфеты, шоколад, различные консервированные компоты, ананасы, ящики с варенье и, печенье, пастила и много другого — вплоть до самого существенного, до консервированного мяса и целых штабелей муки и крупы».
Было смешно читать, как Николай Антоныч начинал, прежде всего, с продовольствия, — для меня это было лишней уликой. Но дальше он писал поумнее. Указывая, что экспедиция была снаряжена на общественные средства, он скромно намекал, что именно ему впервые пришла в голову мысль «пройти по стопам Норденшельда». Он с горечью указывал на препятствия, которые чинила ему реакционная печать и морское министерство. Он приводил надпись, которую сделал морской министр на рапорте о том, что «Св. Мария» пропала без вести: «Жаль, что капитан Татаринов не вернулся. За небрежное обращение с казенным имуществом я бы немедленно отдал его под суд».
С еще большей горечью он писал о том, как архангельские промышленники обманули его брата, подсунув ему плохих, невыезженных собак, едва ли не проданных уличными мальчишками «по двугривенному за пару», и как вообще пошатнулась организация всего дела, только что Николай Антоныч вследствие болезни был вынужден отойти от него. Он не называл фамилий промышленников — еще бы! Только один из них был обозначен буквой В. Николай Антоныч обвинял В. в том, что тот нажился на поставках мяса, которое пришлось выбросить в море, еще не дойдя до Югорского Шара.
Эта часть статьи была написана со знанием дела. Николай Антоныч даже приводил цитату из Амундсена: «Удача любой экспедиции полностью зависит от ее снаряжения», — и блестяще доказывал справедливость этой мысли на экспедиции своего «покойного брата». Он приводил отрывки из писем «покойного брата», который горько жаловался на торгашей, воспользовавшихся тем, что стоянка в Архангельске была сокращена и нужно было торопиться с выходом в море.
О самом путешествии Николай Антоныч почти не писал. Он упоминал только о том, что в Югорском Шаре «Св. Мария» встретила несколько торговых пароходов, стоявших на якорях в ожидании, когда разойдутся льды, заполнявшие южную часть Карского моря. Согласно рассказу одного из капитанов, «Св. Мария» на рассвете семнадцатого сентября смело вошла в Карское море и скрылась за линией горизонта, за сплошной линией льдов. «Задача, которую поставил перед собой И.Л.Татаринов, — писал дальше Николай Антоныч, — не была выполнена. Но попутно было сделано замечательное открытие. Речь идет об открытии Северной Земли, которую капитан Татаринов назвал „Землею Марии“…»
Я купил этот номер «Советской Арктики» — тем более, что в статье были ссылки на другие статьи того же автора по тому же вопросу, — и вернулся в гостиницу.
Нельзя сказать, что я вернулся в хорошем настроении. Мне почему—то казалось, что раз уж напечатана эта ложь и раз уж так давно напечатан — больше года, — значит, все кончено! Поздно возражать, и никто не станет слушать моих возражений. Он предупредил их. Это была ложь, но ложь, перепутанная с правдой. Он первый указал на значение экспедиции «Св. Марии». Он первый указал, что Северная Земля была открыта капитаном Татариновым за полгода до того, как ее впервые увидел Велькицкий, — конечно, он взял это из письма капитана, которое я передал Кате. Он опередил меня во всем.
Я расхаживал по своему номеру и свистел.
По правде говоря, больше всего мне хотелось сейчас поехать на вокзал и взять билет Москва — Красноярск, а оттуда самолетом до Заполярья. Но я не поехал на вокзал, — наоборот, сел за докладную записку. Я писал ее целый день, а когда работаешь целый день, разные невеселые мысли приходят и уходят, — ничего не поделаешь, помещение занято.
Глава 4. МНОГО НОВОГО.
Когда я вошел, Иван Павлыч сидел на корточках и растапливал печку, и это была такая привычная картина — Иван Павлыч в своем старом толстом мохнатом френче, растапливающий печку, что мне даже показалось, что не было всех этих лет, что я по—прежнему школьник и что сейчас будет страшный «гром», как в девятом классе, когда я уехал в Энск за Катей. Но он обернулся. «Как постарел», — подумал я, и все мигом вернулось на свое место.
— Наконец—то! — сказал Кораблев довольно сердито. — Что же ты ко мне не заехал?
— Спасибо, Иван Павлыч!
— Ты же писал — ко мне заедешь?
— Я бы все—таки вас стеснил.
Он посмотрел на меня, даже закрыл один глаз, чтобы оценить во всех деталях. Это был хозяйский взгляд — как на своих рук дело. Должно быть, я все—таки понравился, потому что он с удовольствием расчесал усы и велел мне садиться.
— Я тебя вчера как следует не рассмотрел, — сказал он, — некогда было.
Он накрыл на стол, достал из стенного шкафа бутылочку, нарезал хлеба, потом вытащил из—за окна холодную телятину и тоже нарезал. По—прежнему он жил один, но в старой сырой квартире стало уютнее и, кажется, не так сыро. Мне только не понравилось, что пока я рассказывал, он выпил эту бутылочку и почти не закусывал, — это меня огорчило…
Я сказал, что сейчас расскажу ему только самое главное, — но разве вспомнишь, что самое главное, когда через столько лет встречаешься с родным человеком? Иван Павлыч расспрашивал меня о Севере, о летной работе, и все оставался недоволен, что я отвечаю так кратко.
— Иван Павлыч, дорогой, что мне рассказывать об этом? Ведь я еще мало летал. Ну, чуть не замерз однажды! Вы помните доктора, который лечил меня, когда я удрал из школы? Вы еще ко мне приходили в больницу.
— Помню.
— Он тоже живет в Заполярье. Я его разыскал, и это единственный дом, в котором я бываю. Между прочим, замечено, Иван Павлыч, что я всю жизнь прислоняюсь к чужим семействам. Когда маленький был — к Сковородниковым, — помните, я вам рассказывал. Потом к Татариновым. А теперь к доктору.
— Пора, брат, уже и свое завести, — серьезно сказал Кораблев.
— Нет, Иван Павлыч.
— Почему так?
— У меня не идет это дело.
Кораблев помолчал. Он налил себе, мы чокнулись, выпили, и он снова налил. Потом расстегнул френч — приготовился к длинному разговору.
— Послушай, Саня, помнишь, что ты сказал мне, когда уезжал из Москвы? Ты сказал: «Теперь мне остается хоть умереть, но доказать, что я прав». Ну, как? Доказал?
Это был неожиданный вопрос, и я ответил не сразу. Конечно, я помнил наш разговор. Я помнил, как Кораблев кричал: «Что ты сделал, Саня! Боже мой, что ты сделал!» И как он плакал и говорил, что я во всем виноват, потому что я настаивал, что в письме капитана речь шла о Николае Антоныче, а на самом деле речь шла о каком—то фон Вышимирском.
На месте Кораблева я не стал бы напоминать об этом разговоре. Но ему, как видно, очень хотелось, чтобы я о нем вспомнил. Он серьезно смотрел на меня и, кажется, был чем—то втайне доволен.
— Я не знаю, кому это нужно, чтобы я что—то доказывал, — возразил я мрачно. — Не вижу, что это кому—нибудь нужно.
— Вот тут—то ты и ошибаешься, Саня, — сказал Кораблев. — Это очень нужно — и для тебя, и для меня, и еще для одного человека. Тем более, что ты оказался прав.
Я смотрел на него во все глаза. Прошло пять лет после нашего разговора. Я знал теперь об экспедиции капитана Татаринова больше всех на свете. Я разыскал дневники штурмана и прочитал их — это была самая трудная работа в моей жизни. Мне повезло: я встретился со старым ненцем, последним человеком, который своими глазами видел нарты, принадлежавшие экспедиции, и на этих нартах — мертвеца, — быть может, самого капитана. И я не нашел ни единого доказательства своей правоты.
И вот теперь, когда я вернулся в Москву и зашел к своему старому учителю, который — так мне казалось — давно забыл об этой истории, — теперь мне говорят: «Ты оказался прав!»
— Иван Павлыч, — начал я не очень твердым голосом, — вы все—таки не должны утверждать такие вещи, если у вас нет…
Я хотел сказать: «неопровержимых подтверждений», но он остановил меня. Как будто позвонили. Кораблев озабоченно закусил губу, оглянулся и взял меня за плечо.
— Вот что, Саня… Мне нужно поговорить с одним человеком, — сказал он. — А ты тут посиди.
И он провел меня в соседнюю комнату, напоминавшую большой, заваленный книгами шкаф, с дырявой зеленой портьерой на месте двери.
— И послушай — тебе это полезно.
Я забыл сказать, что Иван Павлыч в этот вечер сразу показался мне каким—то странным. Несколько раз он принимался тихонько свистать. Он расхаживал, положив руки на голову, и в конце концов, съел черенок от груши, которым ковырял в зубах. Теперь, посадив меня в «шкаф», он поспешно убрал со стола водку, потом вынул что—то из письменного стола, съел немного, подышал, широко открыв рот. Потом пошел открывать двери.
Как вы думаете, с кем он вернулся из передней? С Ниной Капитоновной! Это была Нина Капитоновна — согнувшаяся, еще больше похудевшая, со старческими тенями вокруг глаз, в своей неизменной бархатной безрукавке.
Она что—то говорила, но я не слушал, глядя, как Иван Павлыч заботливо усаживает гостью. Он стал было наливать ей чаю, но она остановила:
— Не хочу. Только что напилась. Ну, как?
— Да что—то неважно, Нина Капитоновна, — сказал Кораблев. — Спину ломит.
— Ну? Застариковал! Придумал тоже! Спину ломит. А нужно бомбангье натереть. И пройдет.
— Как, как вы сказали? Бомбангье?
— Бомбангье. Мазь такая. А вы водку пьете?
— Честное слово, не пью, Нина Капитоновна, — сказал Кораблев. — Совершенно бросил. Изредка одну рюмку перед обедом. Но это даже и врачи советуют.
— Нет, пьете. Вот я, когда была молодая, на хуторах жила. У меня ведь отец казак был. Бывало придет, на ногах не держится и говорит: «Это ничего, а самая смерть — это ежедневно пить по одной рюмке перед обедом».
Кораблев засмеялся. Нина Капитоновна посмотрела и тоже начала смеяться.
Потом она рассказала о какой—то пьянице—графине, которая «с утра, как проснется, — хлоп стакан водки! И ходит. Желтая такая, опухшая, простоволосая. Походит, походит и выпьет. Утром она еще нормальная, а к обеду уже качается. А вечером — полный дом гостей. Одета прекрасно, садится за рояль и поет. И добрая! Все к ней ходили. Чуть что — к графине! Прекрасный человек была! А пьяница!»
Кажется, Кораблеву не очень понравился этот пример, потому что он постарался перевести разговор на другую тему. Он спросил, как поживает Катя.
Нина Капитоновна тихонько махнула рукой.
— Ссоримся мы все с ней, — сказала она со вздохом. — Она очень самолюбивая. Одного дела не добьется — и за другое. От этого она такая и нервная.
— Нервная?
— Нервная. И гордая. И все молчит, — сказала Нина Капитоновна. — Я ведь на этих—то, что молчат, насмотрелась. Мне это ужасно не нравится, что она все молчит. Ну что молчать, я не понимаю. Скажи, что тебя тяготит. А она — нет.
— А вы бы у нее спросили, Нина Капитоновна.
— Не скажет. Я сама такая. Никогда не скажу.
— Я как—то встретил ее, и мне показалось — ничего, — сказал Кораблев.
— Она в театр шла — одна, правда, и это мне показалось странным. Но она была довольна весела и, между прочим, сказала, что ей предлагают комнату при геологическом институте.
— Предлагали. А она не переехала.
— Почему?
— Жалеет его.
— Жалеет? — снова переспросил Кораблев.
— Жалеет. И в память матери жалеет, и так. А он без нее — вот как: приходит, сейчас: «А Катя где? Звонила?»
Я сразу понял, кто это «он»: Николай Антоныч.
— Вот и не уехала. И все ждет кого—то.
Нина Капитоновна пересела на другое кресло, поближе.
— Я один раз письмо читала, — шепотом, лукаво сказала она и оглянулась, как будто Катя могла ее видеть. — Должно быть, они в Энске подружились, когда Катя на каникулах ездила. Его сестра. И она пишет: «В каждом письме одолевает просьбами: где Катя, что с ней, я бы все отдал, лишь бы увидеть ее. Он не может без тебя жить, и я не понимаю вашей беспричинной ссоры».
— Простите, Нина Капитоновна, я не понял. Чья сестра?
— Чья? Да этого. Вашего.
Кораблев невольно посмотрел в мою сторону, и я через дырку в портьере встретился с его глазами. Моя сестра? Саня?
— Ну что ж, наверно, так и есть, — сказал Кораблев, — наверно, и не может жить. Очень просто.
— «Одолевает просьбами, — с выражением повторила Нина Капитоновна. — И не может без тебя жить». Вот как! А она без него не может.
Кораблев снова посмотрел в мою сторону.
Мне показалось, что он улыбается под усами.
— Ну вот. А сама за другого собралась?
— Не собралась она. Не ейный это выбор. — Она так и сказала: «ейный».
— Не хочет она за этого Ромашова и я его не хочу. Попович.
— Как попович?
— Попович он. И брехливый. Что ему ни скажи, он сейчас же добавит. Я таких ненавижу. И вороватый.
— Да полно, Нина Капитоновна! Что вы!
— Вороватый. Он у меня сорок рублей взял, якобы на подарок, и не отдал. Конечно, я не напоминала. И все суется, суется. Боже мой! Если бы не старость моя…
И она горько махнула рукой.
Теперь представьте себе, с каким чувством я слушал этот разговор! Я смотрел на старушку через дырку в портьере, и эта дырка была как бы объективом, в котором все, что произошло между мной и Катей, с каждой минутой становилось яснее, словно попадало в фокус. Все приблизилось и стало на свое место, и этого всего было так много — и так много хорошего, что у меня сердце стало как—то дрожать и я понял, что страшно волнуюсь. Только одно было совершенно непонятно: я никогда не «одолевал» сестру просьбами и никогда не писал ей, что «не могу жить без Кати».
— Санька выдумала это, вот что, — сказал я себе. — Она все врала ей. И все это было правдой.
Нина Капитоновна еще рассказывала что—то, но я больше не слушал ее. Я так забылся, что стал расхаживать в своем «шкафу» и пришел в себя, лишь, когда услыхал строгое покашливание Кораблева.
Так я и сидел в «шкафу», пока Нина Капитоновна не ушла. Не знаю, зачем она приходила, — должно быть, просто душу отвести. Прощаясь, Кораблев поцеловал ей руку, а она его в лоб — они и прежде всегда так прощались.
Я задумался и не слышал, как он вернулся из передней, и вдруг увидел над собой, между половинками портьеры, его нос и усы.
— Жив?
— Жив, Иван Павлыч.
— Что скажешь?
— Скажу, что я страшный, безнадежный дурак, — ответил я, схватившись за голову. — Как я говорил с ней! Ох, как я говорил с ней! Как я ничего не понял! Как я ничего не сказал ей, а ведь она ждала! Что же она чувствовала, Иван Павлыч! Что она теперь думает обо мне!
— Ничего, передумает.
— Нет, никогда! Вы знаете, что я сказал ей: «Я буду держать тебя в курсе».
Кораблев засмеялся.
— Иван Павлыч!
— Ты же писал, что без нее жить не можешь.
— Не писал! — возразил я с отчаянием. — Это Санька выдумала. Но это правда! Иван Павлыч! Это абсолютная правда. Я не могу жить без нее, и у нас действительно беспричинная ссора, потому что я думал, что она меня давно разлюбила. Но что же делать теперь? Что делать?!
— Вот что, Саня: у меня назначено на девять часов деловое свидание, — сказал он. — В одном театре. Так что ты…
— Ладно, я сейчас уйду. А можно мне сейчас зайти к Кате?
— Она тебя выгонит, и будет совершенно права.
— Пусть выгонит, Иван Павлыч! — сказал я и вдруг поцеловал его. — Черт его знает, я не понимаю, что теперь делать? Как вы думаете, а?
— Теперь мне нужно переодеться, — сказал Кораблев и пошел в «шкаф», — а что касается тебя, то тебе, по—моему, нужно придти в себя.
Я видел, как он снял френч и, подняв воротник мягкой рубахи, стал повязывать галстук.
— Иван Павлыч! — вдруг заорал я. — Постойте! Я совсем забыл! Вы сказали, что я был тогда прав, когда мы спорили, о ком идет речь в письме капитана?
— Да.
— Иван Павлыч!
Кораблев вышел из «шкафа» причесанный, в новом сером костюме, еще молодой, представительный.
— Сейчас мы поедем в театр, — сказал он серьезно, — и ты все узнаешь. У тебя будет такая задача: сидеть и молчать. И слушать. Понимаешь?
— Ничего не понимаю. Едем.
Глава 5. В ТЕАТРЕ.
Московский драматический театр! Если судить по Грише Фаберу, можно было представить, что это большой, настоящий театр, в котором все актеры носят такие же шикарные белые гетры и так же громко, хорошо говорят. Вроде МХАТ. Но оказалось, что это маленький театр на Сретенке, в каком—то переулке.
Шел, как об этом извещала освещенная витрина у входа, спектакль «Волчья тропа», и в списке актеров мы тотчас же отыскали Гришу. Он играл доктора: «Доктор — Г.Фабер». Эта роль почему—то стояла на последнем месте.
Гриша встретил нас в вестибюле, такой же великолепный, как всегда, и немедленно пригласил в свою уборную.
— Я его позову, когда начнется второй акт, — загадочно сказал он Кораблеву.
Кого «его»? Я взглянул на Кораблева, но он в эту минуту вправлял в свой длинный мундштук папиросу сделал вид, что не заметил моего взгляда.
В Гришиной уборной сидели еще трое артистов, и у них почему—то был такой вид, как будто они сидят в своей уборной. Но пока Гриша усаживал нас, они деликатно вышли, и тогда он извинился за помещение.
— В моей личной уборной сейчас ремонт, — сказал он.
Мы заговорили о нашем школьном театре, вспомнили трагедию «Настал час», в которой Гриша когда—то играл приемыша—еврея, и я сказал, что, по—моему, он просто великолепно исполнял эту роль. Гриша засмеялся, и вдруг вся его важность слетела.
— Санька, я не понимаю, ты же тогда рисовал, — сказал он. — Что это ты вдруг стал летать на небо? Ходи к нам в театр, какого черта! Мы сделаем из тебя художника. Что, плохо?
Я сказал, что согласен. Потом Гриша еще раз извинился — скоро на сцену, его ждет гример — и вышел. Мы остались одни.
— Иван Павлыч, дорогой, объясните вы мне наконец, в чем дело? Зачем вы привезли меня сюда? Кто это «он»? С кем вы хотите меня познакомить?
— А ты глупостей не наделаешь?
— Иван Павлыч!
— Ты уже сделал одну глупость, — сказал Кораблев. — Даже две. Во—первых, не заехал ко мне. А во—вторых, сказал Кате: «Я буду держать тебя в курсе!»
— Иван Павлыч, ведь я же ничего не знал! Вы мне просто писали: заезжай ко мне, и я не подозревал, что это так важно. Скажите мне, кого мы тут ждем? Кто этот человек и почему вы хотите, чтобы я его видел?
— Ну ладно, — сказал Кораблев. — Только помни уговор: сидеть и не говорить ни слова. Это — фон Вышимирский.
Вы знаете, что мы сидели в Гришиной уборной в Московском драматическом театре. Но в эту минуту мне показалось, что все это происходит не в уборной, а на сцене, потому что едва Иван Павлыч произнес эти слова, как в комнату, нагнувшись, чтобы не удариться о низкий переплет двери, вошел фон Вышимирский.
Я сразу понял, что это он, хотя до сих пор мне даже и в голову никогда не приходило, что этот человек существует на свете. Мне всегда казалось, что Николай Антоныч выдумал фон Вышимирского, чтобы свалить на него все мои обвинения. Это была просто какая—то фамилия, и вот она вдруг реализовалась и превратилась в сухого длинного старика, сгорбленного, с желтыми седыми усами. Теперь он был, понятно, просто Вышимирский, а никакой не «фон». На нем была форменная куртка с блестящими пуговицами — гардеробщик! — на голове седой хохол, под подбородком висели длинные морщинистые складки кожи.
Кораблев поздоровался с ним, и он легко, даже снисходительно протянул ему руку.
— Вот, оказывается, кто меня ждет — товарищ Кораблев, — сказал он, — да еще не один, а с сыном. Сын? — спросил он быстро и быстро посмотрел на меня и на Кораблева, и снова на меня и на Кораблева.
— Нет, это не сын, а мой бывший ученик. А теперь он летчик и хочет познакомиться с вами.
— Летчик и хочет познакомиться, — неприятно улыбаясь, сказал Вышимирский. — Чем же летчика заинтересовала моя персона?
— Ваша персона интересует его в том отношении, — сказал Кораблев, — что он, видите ли, пишет историю экспедиции капитана Татаринова. А вы, как известно, принимали в этой экспедиции самое деятельное участие.
Кажется, это замечание не очень понравилось Вышимирскому. Он снова быстро взглянул на меня, и в его старых, водянистых глазах мелькнуло что—то — страх, подозрение? Не знаю.
Но тут же он приосанился и затрещал, затрещал. Поминутно он называл Ивана Павлыча «товарищ Кораблев» и хвастался невыносимо. Он сказал, что это была великая, историческая экспедиция и что он много работал, очень много, «чтобы все было великолепно». При этом он ни минуты не мог усидеть на месте — вставал, делал разные движения руками, хватал себя за левый ус и нервно тянул его вниз и так далее.
— Но это было очень давно, — наконец сказал он, как будто удивившись.
— Ну, не очень давно, — возразил Кораблев. — Незадолго до революции.
— Да, незадолго до революции. Я тогда не служил в артели инвалидов. Но это временное, эта служба, потому что у меня большие заслуги. Мы тогда много трудились. Это были большие труды.
Я хотел спросить, в чем, собственно говоря, заключались его труды, но Кораблев посмотрел на меня ровным, как бы ничего не выражавшим взглядом, и я послушно закрыл рот.
— Николай Иваныч, вы мне как—то рассказывали об этой экспедиции, — сказал он. — У вас, помнится, сохранились какие—то бумаги и письма. У меня к вам просьба: повторите ваш рассказ вот этому молодому человеку, которого вы можете называть просто Саня. Назовите день и час, когда к вам придти, и оставьте ему адрес.
— Пожалуйста! Буду очень рад! Я вас прошу к себе, хотя заранее извиняюсь за квартиру. Прежде у меня была квартира в одиннадцать комнат, и я этого не скрываю, а, наоборот, пишу в анкете, потому что принес много пользы народу. За это я хлопотал персональную пенсию, и мне ее дадут, потому что у меня большие заслуги. Эта экспедиция — только одна капля в море! Я построил мост через Волгу.
И он снова затрещал, затрещал. Со своим острым седым хохлом на голове он был похож на старую, замученную птицу.
Потом лампочка в Гришиной уборной на мгновенье погасла, — кончился акт! — и этот призрак прошлого века исчез так же внезапно, как и появился.
Весь этот разговор продолжался минут пять, но мне показалось, что он продолжался очень долго, как это бывает во сне. Кораблев посмотрел на меня и засмеялся, — должно быть, у меня был глупый вид.
— Иван Павлыч!
— Что, милый?
— Это он?
— Он.
— Может ли это быть?
— Может.
— Тот самый?
— Тот самый.
— Что он рассказывал вам? Он знает Николая Антоныча? Он у них бывает?
— Ну, нет, — сказал Кораблев. — Вот именно — нет.
— Почему?
— Потому что он ненавидит Николая Антоныча.
— За что?
— За разные штуки.
— Что же он рассказывал вам? Откуда взялась эти доверенность на имя фон Вышимирского, — помните, вы мне о ней говорили?
— А—а! Вот в этом все и дело! — сказал Кораблев. — Доверенность! Он затрясся, когда я спросил у него об этой доверенности.
— Иван Павлыч, прошу вас, расскажите вы мне все это толком! Вы думаете, это было хорошо, что вы в последнюю минуту сказали, что придет Вышимирский? Я только растерялся и, наверное, показался ему идиотом.
— Напротив, ты ему очень понравился, — серьезно сказал Кораблев. — У него взрослая дочь, и на всех молодых людей он смотрит с одной точки зрения: годен в женихи или не годен? Ты, безусловно, годен: молод, недурен собой, летчик.
— Иван Павлыч, — сказал я с упреком, — я вас не узнаю, честное слово. Вы очень переменились, просто очень! Зная, как все это для меня важно, вы надо мной смеетесь.
— Ну, ладно, Саня, не сердись, все расскажу, — сказал Кораблев. — А пока давай—ка отсюда удирать, а то, как словит нас сейчас Гриша да как засадит смотреть пьесу в Московском драматическом театре…
Но удрать не удалось. Лампочка еще раз мигнула, и в уборную поспешно вошел Гриша. Он был с рыжими бакенбардами, с длинным белым носом и гораздо больше похож на рыжего из цирка, чем на доктора, но на рыжего со смелым, благородным выражением лица. Мы с Иваном Павлычем не узнали его, и, к сожалению, последние слова: «Да как засадит смотреть пьесу в Московском драматическом театре», без сомнения, донеслись до него. Но Гриша, очевидно, не нашел в этих словах ничего обидного, а даже, наоборот, понял их как наше горячее желание немедленно пройти в зал и посмотреть пьесу и его самого в роли доктора.
— В чем дело, я вас сейчас же устрою! — сказал он.
По дороге — он вел нас какими—то внутренними артистическими ходами — я спросил, почему у него такой странный для доктора грим. Но он ответил важно:
— Это так задумано.
И я не нашелся, что ему возразить.
Иван Павлыч, кажется, был невысокого мнения о Гришином дарований. Но мне он искренне нравился, я находил в нем талант. В этой пьесе у него была очень маленькая роль, и, по—моему, он провел ее превосходно. Выйдя от больного, он задумался и довольно долго стоял на авансцене, «играя на нервах» и заставляя зрителя гадать, что же он сейчас скажет. Жаль, что по роли ему пришлось произнести совсем не то, что можно было ожидать, судя по всей его фигуре и смелому выражению лица. Он великолепно соображал что—то, выписывая рецепт, а принимая деньги, сделал неловкое движение рукой, как настоящий доктор. Пожалуй, он мог бы говорить не так громко. Но вообще он прекрасно провел роль, и я серьезно сказал Ивану Павлычу, что, по—моему, из него выйдет хороший актер.
Когда он взял деньги и вышел, налетев по дороге на стул, что тоже вышло вполне естественно, мы с Иваном Павлычем больше не смотрели на сцену.
Мне все время хотелось поговорить о Вышимирском, но в ложе зашикали, чуть только я раскрыл рот, и я успел только спросить:
— Как вы нашли его?
И Иван Павлыч успел ответить:
— Очень просто: его сын учится в нашей школе.
Глава 6. ОПЯТЬ МНОГО НОВОГО.
Я никогда ничего не понимал в векселях — самого этого слова уже не было, когда я начал учиться. Что такое «заемное письмо»? Что такое «передаточная надпись»? Что такое «полис»? Не полюс, это все знают, а именно «полис»? Что такое «дисконт»? Не дискант, а «дисконт».
Когда эти слова попадались мне в книгах, я почему—то всегда вспоминал энское «присутствие» — железные скамейки в полутемном высоком коридоре, невидимого чиновника за барьером, которому униженно кланялась мать. Это была прежняя, давно забытая жизнь, и она вновь постепенно оживала передо мной, когда Вышимирский рассказывал мне историю своего несчастья.
Мы сидели в маленькой комнате с подвальным окном, в котором все время была видна метла и ноги: наверно, стоял дворник. В этой комнате все было старое — стулья с перевязанными ножками, обеденный стол, на который я поставил локоть и сейчас же снял, потому что крайняя доска только и мечтала обвалиться. Везде была грязная обивочная материя — на окне вместо занавески, на диване поверх рваной обивки, и этой же материей было прикрыто висевшее на стене платье. Новыми в комнате были только какие—то дощечки, катушки, мотки проволоки, с которыми возился в углу за своим столом сын Вышимирского, мальчик лет двенадцати, круглолицый и загорелый. И сам этот мальчик был совершенно новый и бесконечно далек от того мира, который я смутно вспоминал теперь, слушая рассказ Вышимирского с его дисконтами и векселями.
Это был длинный путаный рассказ с бесконечными отступлениями, в которых было много вздора. Решительно все, что он делал в жизни, старик ставил себе в заслугу, потому что «все это для народа, для народа». В особенности он напирал на свою службу в качестве секретаря у митрополита Исидора, — он объявил, что прекрасно знает жизнь духовного сословия и даже специально изучил ее в надежде, что это «пригодится народу». Разоблачить этого митрополита он был готов в любую минуту.
Почему—то он ставил себе в заслугу и другую свою службу — у какого—то адмирала Хекерта. У этого адмирала был «умалишенный сын», и Вышимирский возил его по ресторанам, чтобы никто не мог догадаться, что он умалишенный, потому что «они скрывали это от всех»…
Но вот он заговорил о Николае Антоныче, и я развесил уши. Я был убежден, что Николай Антоныч всегда был педагогом. Типичный педагог! Ведь он и дома всегда поучал, объяснял, приводил примеры.
— Ничего подобного, — злобно сморщившись, возразил Вышимирский. — Это на худой конец, когда ничего не осталось. У него были дела. Он играл на бирже, и у него были дела. Богатый человек, который играл на бирже и вел дела.
Это была первая новость. За ней последовала вторая. Я спросил, какая же связь между экспедицией капитана Татаринова и биржевыми делами? Почему Николай Антоныч взялся за нее? Это было выгодно, что ли?
— Он взялся бы за нее с еще большей охотой, если бы экспедиция была на тот свет, — сказал Вышимирский. — Он на это надеялся, очень надеялся. Так и вышло!
— Не понимаю.
— Он был влюблен в его жену. Об этом тогда много говорили. Много говорили, очень. Это были большие разговоры. Но капитан ничего не подозревал. Он был прекрасный человек, но простой. И служака, служака!
Я был поражен.
— В Марью Васильевну? Еще в те годы?
— Да, да, да, — нетерпеливо повторил Вышимирский. — Тут были личные причины. Вы понимаете — личные. Личность, личность, личные. Он был готов отдать все свое состояние, чтобы отправить этого капитана на тот свет. И отправил.
Но любовь — любовью, а дело — делом. Николай Антоныч не отдал своего состояния, напротив — он его удвоил. Он принял, например, гнилую одежду для экспедиции, получив от поставщика взятку. Он принял бракованный шоколад, пропахший керосином, тоже за взятку.
— Вредительство, вредительство, — сказал Вышимирский. — План! Вредительский план!
Впрочем, сам Вышимирский прежде был, очевидно, другого мнения об этом плане, потому что он принял в нем участие и был послан Николаем Антонычем в Архангельск, чтобы встретить там экспедицию и дополнить ее снаряжение.
Вот тут—то и появилась на свет доверенность, которую Николай Антоныч показывал Кораблеву. Вместе с этой доверенностью Вышимирскому были переведены деньги — векселя и деньги…
И, сердито сопя носом, старик вынул из комода несколько векселей. В общем, вексель — это была расписка в получении денег с обязательством вернуть их в указанный срок. Но эта расписка писалась на государственной бумаге, очень плотной, с водяными знаками, и имела роскошный и убедительный вид. Вышимирский объяснил мне, что эти векселя ходили вместо денег. Но это были не совсем деньги, потому что «векселедатель» вдруг мог объявить, что у него нет денег.
Тут были возможны разные жульнические комбинации, и в одной из них Вышимирский обвинял Николая Антоныча.
Он обвинял его в том, что векселя, которые Николай Антоныч перевел на его имя вместе с доверенностью, были «безнадежные», то есть что Николай Антоныч заранее знал, что «векселедатели» уже разорились и ничего платить не станут. А Вышимирский этого не знал и принял векселя как деньги, — тем более, что «векселедатели» были разные купцы и другие почтенные по тем временам люди. Он узнал об этом, лишь, когда шхуна ушла, оставив долгов на сорок восемь тысяч. В уплату этих долгов никто, разумеется, не принимал «безнадежных» векселей.
И вот Вышимирский должен был заплатить эти долги из своего кармана. А потом он должен был заплатить их еще раз, потому что Николай Антоныч подал на него в суд, и суд постановил взыскать с Вышимирского все деньги, которые были переведены на его имя в Архангельск.
Конечно, я очень кратко рассказываю здесь эту историю. Старик рассказывал ее два часа и все вставал и садился.
— Я дошел до Сената, — наконец грозно сказал он. — Но мне отказали.
Ему отказали — и это был конец, потому что имущество его было продано с молотка. Дом — у него был дом — тоже продан, и он переехал в другую квартиру, поменьше. Жена у него умерла от горя, и на руках остались малолетние дети. Потом началась революция, и от второй квартиры, поменьше, осталась одна комната, в которой ему теперь приходится жить. Конечно, «это — временное», потому что «правительство вскоре оценит его заслуги, которые у него есть перед народом», но пока ему приходится жить здесь, а у него взрослая дочь, которая владеет двумя языками и из—за этой комнаты не может выйти замуж: мужу некуда въехать. Вот дадут персональную пенсию, и тогда он переедет.
— Куда—нибудь, хоть в дом инвалидов, — сказал он, горько махнув рукой.
Очевидно, этой взрослой дочери очень хотелось замуж, и она его выживала.
— Николай Иваныч, — сказал я ему. — Можно мне задать один вопрос: вы говорите, что он прислал вам эту доверенность в Архангельск. Каким же образом она снова к нему попала?
Вышимирский встал. У него раздулись ноздри, и седой хохол на голове затрясся от негодования.
— Я бросил эту доверенность ему в лицо, — сказал он. — Он побежал за водой, но я не стал ее пить. Я ушел, и со мной был обморок на улице. Да что говорить!
И он снова горько махнул рукой.
Я слушал его с тяжелым чувством. В этом рассказе было что—то грязное, такое же, как и все вокруг, так что мне все время хотелось вымыть руки. Мне казалось, что наш разговор будет новым доказательством моей правоты, таким же новым и удивительным, каким было внезапное появление этого человека. Так и вышло. Но мне было неприятно, что на этих новых доказательствах лежал какой—то грязный отпечаток.
Потом он снова заговорил о пенсии, что ему «непременно должны дать персональную пенсию, потому что у него сорок пять лет трудового стажа». К нему уже приходил один молодой человек и взял бумаги и, между прочим, тоже интересовался Николаем Антонычем, а потом не пришел.
— Обещал хлопотать хлопотать, — сказал Вышимирский, — а потом не пришел.
— Николаем Антонычем?
— Да, да, да! Интересовался, как же!
— Кто же это?
Вышимирский развел руками.
— Был несколько раз, — сказал он. — У меня взрослая дочь, знаете, и они тут пили чай и разговаривали. Знакомство, знакомство!
Слабая тень улыбки пробежала по его лицу: должно быть, с этим знакомством были связаны какие—то надежды.
— Да, любопытно, — сказал я. — И взял бумаги?
— Да. Для пенсии, для пенсии. Чтобы хлопотать.
— И спрашивал о Николае Антоновиче?
— Да, да. И даже — не знаю ли я еще кого—нибудь… Может быть, известно еще кому—нибудь, что он проделывал… эта птица! Я послал его к одному.
— Интересно. Что же это за молодой человек?
— Такой представительный, — сказал Вышимирский. — Обещал хлопотать. Он сказал, что все это нужно для пенсии, именно персональной, именно!
Я спросил, как его фамилия, но старик не мог вспомнить.
— Как—то на «ша», — сказал он.
Потом пришла взрослая дочь, которую действительно нужно было срочно выдать замуж. Но это была нелегкая задача, и вовсе не потому, что «мужу некуда въехать». Дело в том, что у дочери был огромный нос, и она шмыгала им с необыкновенно хищным видом. Не знаю, был ли это хронический насморк, или дурной характер заставлял ее поминутно делать такое движение, но когда я увидел, как она угрожающе шмыгнула на отца, мне сразу стало ясно, почему старику так хочется переехать в дом инвалидов.
Я очень приветливо поздоровался с нею, и она побежала куда—то и вернулась совсем другая: прежде на ней был какой—то арабский бурнус, а теперь — нормальное платье.
Мы разговорились: сперва о Кораблеве — это был наш единственный общий знакомый, — потом о его ученике, который по—прежнему возился в углу со своими катушками и не обращал на нас никакого внимания. У нас был бы даже приятный разговор, если бы не это движение, которое она делала носом. Она сказала, что не любит кино за то, что в кино все люди «какие—то мертвенно—бледные», но в это время старик опять влез со своей пенсией.
— Нюточка, как фамилия того молодого человека? — робко спросил он.
— Какого молодого человека?
— Который обещал похлопотать насчет пенсии.
Нюточка сморщилась. У нее дрогнули губы, и сразу несколько чувств отразилось на лице. Главным образом — негодование.
— Не помню, кажется, Ромашов, — отвечала она небрежно.
Глава 7. «А У НАС ГОСТЬ»
Ромашка! Ромашка бывал у них! Он обещал старику выхлопотать персональную пенсию, он ухаживал за Нютой с ее носом! В конце концов, он пропал, взяв какие—то бумаги, и старик даже не мог в точности припомнить, что это были за бумаги. Сперва я думал, что это другой Ромашов, однофамилец. Нет, это был он. Я подробно описал его, и Нюта сказала с ненавистью:
— Он!
Он ухаживал за ней, это совершенно ясно. Потом он перестал ухаживать, иначе она не стала бы ругать его так, как она его ругала. Он ходил к старику и выведывал все, что тому было известно о Николае Антоныче. Он собирал сведения. Зачем? Зачем он взял у Вышимирского эти бумаги, из которых, во всяком случае, можно вывести одно заключение, что до революции Николай Антоныч был не педагогом, а грязным биржевым дельцом?
Я возвращался от Вышимирского, и у меня голова кружилась. Тут могло быть только два решения: или для того, чтобы уничтожить все следы этого прошлого, или для того, чтобы держать Николая Антоныча в своих руках.
Держать его в руках? Зачем? Ведь это его ученик, самый преданный, самый верный! Так было всегда, еще в школе, когда он подслушивал, что ребята говорили о Николае Антоныче, а потом доносил ему. Это поручение! Николай Антоныч поручил ему выяснить все, что знает о нем Вышимирский. Он подослал Ромашку, чтобы взять бумаги, которые могли повредить ему как советскому педагогу.
Я зашел в кафе и съел мороженого. Потом выпил какой—то воды. Мне было очень жарко, и я все думал и думал. Ведь все—таки прошло много лет с тех пор, как мы с Ромашкой расстались после окончания школы. Тогда это была подлая, холодная душа. Но к Николаю Антонычу он был искренне привязан — или нам это казалось? Теперь я не знал его. Быть может, он переменился? Быть может, без ведома Николая Антоныча, из одной привязанности к нему он хотел уничтожить эти бумаги, которые могут бросить тень на доброе имя его учителя, его друга?
Но это была уже ерунда, и стоило только вспомнить самого Ромашку с его бледным лицом и неестественно круглыми глазами, чтобы вернуться к реальному представлению о нем.
Я съел еще мороженого, и девушка, которая мне подавала, засмеялась, когда я попросил третью порцию. Должно быть, ей понравилось, что я ем так много мороженого, потому что она подошла к зеркалу и стала поправлять наколку.
Нет, он ничего и никогда не сделал бы из одной привязанности к этому человеку. Здесь была какая—то тайная цель — я был в этом уверен. Я только не мог догадаться, что это была за цель, потому что мне приходилось судить по старым отношениям между Николаем Антонычем и Ромашкой, а новые я знал очень плохо.
Это могла быть какая—нибудь очень простая цель, связанная с повышением по службе. Ведь Николай Антоныч был профессором, а Ромашка его ассистентом. Даже деньги — недаром же в школе у него начинали пылать уши, когда он говорил о деньгах. Какое—нибудь жалованье, черт его знает!
Я позвонил Вале — мне хотелось посоветоваться с ним: ведь он все—таки бывал у Татариновых последние годы, но его не оказалось дома. Он где—то шлялся, как всегда, когда был очень нужен!
«Нет, не жалованье, не карьера, — продолжал я думать. — Этого он добился другими средствами, более простыми, стоит только посмотреть на него».
Пора было ехать домой, но вечер еще только что подошел, и это был такой московский вечер, такой не похожий на мои вечера в Заполярье, что мне захотелось пройтись пешком, хотя до гостиницы было далеко.
И я медленно пошел — сперва по направлению к улице Горького, потом по Воротниковскому переулку. Знакомые места! Гостиница осталась в стороне, а я все шел по Воротниковскому, а потом свернул на Садово—Триумфальную мимо нашей школы. А от Садово—Триумфальной, как известно, очень близко до Второй Тверской—Ямской, и я вышел на нее через несколько минут и остановился перед воротами знакомого дома. Я заглянул в ворота — и увидел знакомый маленький чистый двор и знакомый каменный сарай, в котором я когда—то колол дрова — помогал старушке. Вот лестница, по которой я летел кубарем, а вот обитая черной клеенкой дверь и медная дощечка с затейливо написанной фамилией: «Н.А.Татаринов»…
— Катя, я к тебе. Не прогонишь?
Потом Катя говорила, что едва она меня увидела, как сразу поняла, что я «совсем другой, чем был третьего дня у Большого театра». Но одного она не могла понять: почему, придя к ней неожиданно и «совсем другим», я весь вечер не сводил глаз с Николая Антоныча и Ромашки.
Конечно, это преувеличение, но я действительно посматривал на них. В этот вечер у меня голова работала, как на экзамене, и я все угадывал и понимал с полуслова.
Забыл сказать, что, еще сидя в кафе, я купил цветы. Я шел к Татариновым с цветами в руках, и это было как—то неловко: с тех пор, как мы с Петькой таскали левкои в энском садоводстве и после спектакля продавали их публике за пять копеек пучок, я не ходил по улицам с цветами в руках. Теперь, когда я пришел, нужно было отдать эти цветы Кате… Но я почему—то положил их на столик рядом с фуражкой.
Вероятно, я все—таки волновался, потому что сказал что—то, и у меня невольно зазвенел голос, и Катя быстро посмотрела мне прямо в лицо.
Мы пошли было в ее комнату, но в эту минуту Нина Капитоновна вышла из столовой. Я поклонился. Она посмотрела с недоумением и церемонно кивнула.
— Бабушка, это Саня Григорьев. Ты не узнала?
— Саня? Господи! Да неужели?
Она испуганно оглянулась, и через открытую дверь столовой я увидел Николая Антоныча, сидевшего в кресле с газетой в руках. Он был дома!
— Здравствуйте, Нина Капитоновна, дорогая! — сказал я. — Помните ли вы еще меня? Наверно, давно забыли?
— Вот! Забыла! Ничего я не забыла, — отвечала старушка.
И мы еще целовались, когда из столовой вышел и остановился в дверях Николай Антоныч.
Это была минута, когда мы снова оценили друг друга. Он мог не заметить меня, как он не заметил меня на юбилее Кораблева. Он мог подчеркнуть, что мы — незнакомы. Он мог, наконец, хотя это было довольно рискованно, снова указать мне на дверь. Он не сделал ни того, ни другого, ни третьего.
— А, молодой орел, — приветливо сказал он. — Залетел, наконец, и к нам? Давно пора.
И он смело протянул мне руку.
— Здравствуйте, Николай Антоныч!
Катя смотрела на нас с удивлением, старушка растерянно хлопала глазами, но мне было очень весело, и я мог теперь разговаривать с Николаем Антонычем сколько угодно.
— Да—а… Ну что ж, прекрасно. — Николай Антоныч серьезно смотрел на меня. — Давно ли, кажется, был мальчик, а вот, поди же, полярный летчик. И ведь что за профессию выбрал! Молодец!
— Обыкновенная профессия, Николай Антоныч, — отвечал я. — Такая же, как и всякая другая.
— Такая же? А самообладание? А мужество во время опасных случаев? А дисциплина — не только служебная, но и внутренняя, так сказать, самодисциплина!
По старой памяти мне стало тошно от этих фальшивых круглых фраз, но я слушал его очень внимательно, очень вежливо. Он показался мне гораздо старше, чем на юбилее, и у него было усталое лицо. Когда мы проходили в столовую, он обнял Катю за плечи, и она чуть заметно отстранилась.
В столовой, между прочим, сидела одна из тетушек Бубенчиковых, но теперь я уже не мог различить, была ли она той самой, которая хотела побить меня щеткой, или той, которая утешала козу. Во всяком случае, теперь она встретила меня очень любезно.
— Ну, ждем, ждем! — сказал Николай Антоныч, когда Нина Капитоновна, робко суетившаяся вокруг меня, налила мне чаю и подвинула все, что стояло на столе. — Ждем полярных рассказов. Слепые полеты, вечная мерзлота, дрейфующие льды, снежные пустыни!
— Все в порядке, Николай Антоныч, — возразил я весело. — Льды, как льды, пустыни, как пустыни.
Николай Антоныч засмеялся.
— Я встретил однажды старого приятеля, который в настоящее время служит в нашем торгпредстве в Риме, — сказал он. — Я его спрашиваю: «Ну, как Рим?» А он отвечает: «Да ничего! Рим как Рим». Похоже, правда?
У него был снисходительный тон. Катя слушала нас, опустив глаза. Нужно было поддержать разговор, и я действительно стал рассказывать о ненцах, о северной природе и, между прочим, о том, как мы с доктором летали в Ванокан. Нина Капитоновна все интересовалась, высоко ли я летаю, — и это напомнило мне тети Дашино письмо, которое я получил еще в Балашовской школе: «Раз уж не судьба тебе, как все люди, ходить по земле, то прошу тебя, Санечка, летай пониже».
Я рассказал о том, как Миша Голомб стащил у меня письмо и как с тех пор, стоило мне надеть шлем, как со всего аэродрома неслись крики:
— Саня, летай пониже!
Тот же Миша организовал в школе комический журнал под названием: «Летай пониже». В журнале был специальный отдел «Техника полета в рисунках» с такими стихами:
Хорошо скользить, когда есть высота, Плохо выравнивать на уровне крыши! Саня, не нужно собой рисковать, — Тетушка просит летать пониже.Кажется, я довольно удачно рассказал эту историю, все смеялись, и громче всех Николай Антоныч. Он так и закатился! При этом он побледнел, — он всегда немного бледнел от смеха.
Катя почти не сидела за столом, все вставала и подолгу пропадала на кухне, и мне казалось, что она уходит, просто чтобы остаться одной и немного подумать: такое у нее было выражение, когда она возвращалась. В одну такую минуту она, вернувшись, зачем—то подошла к буфету с плетеной сухарницей в руках и, как видно, забыла, зачем подошла. Я посмотрел ей прямо в глаза, и она ответила мне озабоченным, недоумевающим взглядом.
Должно быть, Николай Антоныч заметил, как мы обменялись взглядами. Тень легла на его лицо, и он стал говорить еще медленнее и круглее.
Потом пришел Ромашка. Нина Капитоновна открыла ему, и я слышал, как она сказала в передней с робким ехидством:
— А у нас гость!
Он довольно долго топтался в передней, — наверно, прихорашивался, — потом вошел и нисколько не удивился, увидев меня.
— А, вот что это за гость! — кисло улыбаясь, сказал он. — Рад, рад, очень рад. Очень рад.
Видно было, как он рад. Вот я действительно был рад! Едва он вошел, я стал следить за каждым его движением. Я не спускал с него глаз. Что это за человек? Каков он стал? Как он относится к Николаю Антонычу, к Кате? Вот он подошел к ней, заговорил с ней, и каждое его движение, каждое слово были как бы маленькой загадкой для меня, которую я тут же разгадывал и снова и снова напряженно, внимательно следил за ним и думал о нем.
Теперь, когда я увидел их рядом — его и Катю, мне стало даже смешно: так он был ничтожен в сравнении с ней, так некрасив и мелок. Он очень уверенно заговорил с ней, и я отметил в уме: «Слишком уверенно». Он что—то шутливо сказал Нине Капитоновне — никто не улыбнулся, и я отметил в уме: «Даже Николай Антоныч».
Впрочем, они сейчас же заговорили о своих профессиональных делах — о защите какой—то диссертации, которую Николай Антоныч считал плохой, а Ромашка — хорошей.
Это было сделано, конечно, для того, чтобы подчеркнуть, что мое присутствие для них безразлично. Но мне это даже понравилось, потому что я мог теперь молча сидеть, смотреть на них, слушать и думать.
«Нет, — думал я, — это не прежний Ромашка, который как бы гордился тем, что Николай Антоныч распоряжался им беспрекословно. Он говорит с ним пренебрежительно, почти нагло, и Николай Антоныч отвечает морщась, устало, Это сложные отношения, и они очень не нравятся Николаю Антонычу. Я был прав. Это — не поручение. Он взял у Вышимирского бумаги не для того, чтобы уничтожить их. Он сделал это, чтобы продать их Николаю Антонычу, — вот что на него похоже! И, должно быть, дорого взял. Или еще не продал, торгует».
Катя что—то спросила у меня, я ответил, Ромашка, слушая Николая Антоныча, посмотрел на нас с беспокойством, — и вдруг одна мысль медленно прошла среди других и как будто остановилась в стороне, дожидаясь, когда я подойду к ней поближе. Это была очень странная мысль, но вполне реальная для того, кто с детских лет знал Ромашова. Но сейчас я не мог останавливаться на ней, потому что она была страшная, и лучше было сейчас об этом не думать. Я только как бы взглянул на нее издалека.
Потом Николай Антоныч с Ромашкой зачем—то пошли в кабинет, и мы остались со старушками, одна из которых ничего не слышала, а другая притворялась, что ничего не слышит.
— Катя, — негромко сказал я. — Завтра в семь часов тебя просил зайти Иван Павлыч. Ты придешь?
Она молча кивнула.
— Ничего, что я пришел? Мне очень хотелось тебя увидеть.
Она снова кивнула.
— И забудь, пожалуйста, об этом вечере третьего дня. Все не то и не так, и вообще считай, что мы еще не встречались.
Она смотрела на меня молча — и ничего не понимала.
Глава 8. ВЕРЕН ПАМЯТИ.
Что же это была за мысль? Я думал над нею весь вечер и не заметил, как заснул, а утром проснулся с таким чувством, как будто и не спал — все думал.
Так было весь день. С этой мыслью я поехал в Главсевморпуть, в Географическое общество, в редакцию одного полярного журнала, По временам я забывал о ней, но это было так, как будто я просто оставлял ее у подъезда, а потом выходил и встречался с ней, как со старой знакомой.
В шестом часу, усталый и раздраженный, я добрался до Кораблева. Он работал, когда я пришел, — проверял тетради. Две большие кипы лежали подле него на столе, и он сидел в очках и читал, держа наготове руку с пером и время от времени безжалостно подчеркивая ошибки. Не знаю, что это была за работа — на каникулах, когда школа закрыта. Но он и на каникулах умел находить работу.
— Иван Павлыч, вы работайте, а я немного посижу. Ладно? Устал.
И некоторое время мы сидели в полной тишине, прерываемой только скрипом пера да сердитым ворчанием Кораблева. Прежде я не замечал, чтобы он так сердито ворчал за работой.
— Ну, Саня, как дела?
— Иван Павлыч, я хочу задать вам один вопрос.
— Пожалуйста.
— Вы знаете, что у Вышимирского до последнего времени бывал Ромашов?
— Знаю.
— А вам известно, зачем он к нему приходил?
— Известно.
— Иван Павлыч, — сказал я с упреком. — Вот я вас опять не узнаю, честное слово! Вам была известна такая вещь, и вы мне ничего не сказали.
Кораблев серьезно посмотрел на меня. Он был очень серьезен в этот вечер — должно быть, немного волновался, поджидая Катю, и не хотел, чтобы я догадался об этом.
— Я тебе много чего не сказал, Саня, — возразил он. — Потому что ты, хотя теперь и пилот, а вдруг можешь взять, да и двинуть кого—нибудь ногой по морде.
— Когда это было! Иван Павлыч, дело в том, что мне пришла в голову одна мысль. Конечно, может быть, я ошибаюсь. Тем лучше, если я ошибаюсь.
— Вот видишь, ты уже волнуешься, — сказал Кораблев.
— Я не волнуюсь, Иван Павлыч. Вы не думаете, что Ромашка мог потребовать от него… мог сказать, что он будет молчать, если Николай Антоныч поможет ему жениться на Кате?
Кораблев ничего не ответил.
— Иван Павлыч! — заорал я.
— Волнуешься?
— Я не волнуюсь. Но я одного не могу понять: как же Катя—то могла позволить ему даже думать об этом? Ведь это же Катя!
Кораблев задумчиво прошелся по комнате. Он снял очки, и у него стало грустное лицо. Я заметил, что он несколько раз взглянул на портрет Марьи Васильевны, тот самый, где она снята с коралловой ниткой на шее, портрет, который по—прежнему стоял у него на столе.
— Да, Катя, — медленно сказал он. — Которой ты совершенно не знаешь.
Это была новость. Я не знаю Катю!
— Ты не знаешь, как она жила эти годы. А я знаю, потому что… интересовался, — быстро сказал Кораблев. — Тем более, что ею больше никто, кажется, особенно не интересовался.
Это было сказано обо мне.
— Она очень тосковала после смерти матери, — продолжал он. — И рядом с нею был один человек, который тосковал так же, как она, или, может быть, еще больше Ты знаешь, о ком я говорю.
Он говорил о Николае Антоныче.
— Очень опытный, очень сложный человек, — продолжал Кораблев. — Человек страшный. Но он действительно всю жизнь любил ее мать, всю жизнь — не так мало. И эта смерть очень сблизила их, — вот в чем дело.
Он стал закуривать, и у него немного дрожали пальцы, когда он чиркнул спичкой, а потом тихонько положил ее в пепельницу.
— И вот появился Ромашов, — продолжал он. — Должен тебе сказать, что ты и его не знаешь. Это — тоже Николай Антоныч, только в другом роде. Во—первых, он энергичен. Во—вторых, у него нет совсем никакой морали — ни плохой, ни хорошей. В—третьих, он способен на решительный шаг, то есть человек дела. И вот этот человек дела, который очень хорошо знает, что ему нужно, в один прекрасный день явился к своему учителю и другу и говорит ему: «Николай Антоныч, вообразите, оказывается, этот Григорьев был совершенно прав. Вы действительно обокрали экспедицию капитана Татаринова. Кроме того, за вами числятся еще разные штуки, о которых вы не упоминали в анкетах…» Нина Капитоновна слышала этот разговор. Она его не поняла и прибежала ко мне. Ну, а я — понял.
— Так, — сказал я. — Интересно.
Мы помолчали.
— Ну, а дальше что же? — продолжал Кораблев. — Можно судить по результатам. Ты знаешь Николая Антоныча — он действует не торопясь: вероятно, сперва это было сказано полушутя, между прочим. Потом все серьезнее, чаще.
— Иван Павлыч, но ведь он же все—таки ее не уговорил, верно?
— Саня, Саня, ты чудак! Если бы он ее уговорил, разве стал бы я тебе писать, чтобы ты приехал? Но кто знает! Быть может, он добился бы своего, в конце концов, как он добился…
Я понял, что он хотел сказать: «Как он добился того, что Марья Васильевна стала его женой».
Я не знал, оставаться мне или уйти, — было уже семь часов, и каждую минуту могла позвонить Катя. Мне было просто физически трудно уйти от него. Я молча смотрел, как он курит, опустив седую голову и вытянув длинные ноги, и думал о том, как он глубоко любил Марью Васильевну, и как ему не повезло, и как он верен ее памяти, — вот почему он так пристально следил все эти годы за Катиной жизнью.
Потом он спохватился и сказал, что мне лучше уйти.
— Без тебя мне будет удобнее говорить с нею.
Он проводил меня, и мы расстались до завтра.
Было еще совсем светло, когда я вышел на улицу; солнце заходило, отражаясь в окнах на другой стороне Садовой.
Я стоял у подъезда и смотрел вдоль улицы — оттуда должна была придти Катя. Должно быть, я довольно долго ждал, потому что окна стали темнеть по очереди, слева направо. Потом я увидел ее — и вовсе не там: она вышла из Оружейного переулка и стояла на тротуаре, дожидаясь, пока проедут машины. Мне стало почему—то страшно, когда я увидел, как она переходит улицу, задумчивая, в том самом платье, в котором она была у Большого театра, и очень грустная. Теперь она была совсем близко, но она шла, опустив голову, и не видела меня. Впрочем, я и не хотел, чтобы она меня видела. Я мысленно пожелал ей бодрости и всего самого лучшего, что я только мог пожелать ей в эту минуту, и до самого подъезда проводил ее взглядом. Она исчезла в подъезде, но мысленно я шел за нею — я видел, как Иван Павлыч встречает ее, волнуясь и стараясь казаться совершенно спокойным, и как он долго, нервно вставляет папиросу в свой длинный мундштук, прежде чем начать разговор…
Теперь окна стали быстро темнеть, и красноватый отсвет держался только в двух крайних окнах крайнего дома, выходящего на Оружейный; в этом доме, когда я учился, был художественный подотдел Московского Совета.
Было только восемь часов, и мне не хотелось идти домой. Я долго сидел в садике какого—то дома; из этого садика был виден подъезд нашей школы. Несколько раз я заходил во двор, чтобы посмотреть, не зажегся ли уже свет в квартире Кораблева. Но они говорили в сумерках — Иван Павлыч говорил, а Катя слушала и молчала.
Другой разговор представился мне, когда я смотрел на эти темные окна: так же вдруг вставал и начинал расхаживать по комнате Кораблев, сложив руки на груди, не находя себе места. И Марья Васильевна сидела выпрямившись, с неподвижным лицом и иногда поправляла узкой рукой прическу: «Монтигомо Ястребиный Коготь, я его когда—то так называла». Уже не бледная, а какая—то белая, она сидела перед нами и все курила, везде был пепел — и у нее на коленях. Она была неподвижна, спокойна, только иногда слабо потягивала широкую коралловую нитку на шее, точно эта нитка ее душила. Они боялась правды, потому что не в силах была ее перенести. А Катя не боится правды, и все будет хорошо, когда она узнает ее.
…Давно уже горел свет, и на шторе я видел длинный черный силуэт Кораблева. Потом Катя появилась рядом с ним, но скоро ушла, как будто сказала только одну длинную фразу.
Теперь на улице совсем стемнело, и это было прекрасно, потому что стало, наконец, неудобно, что я так долго сижу в этом садике и время от времени хожу смотреть на окна.
И вдруг Катя вышла из подъезда одна и медленно пошла по Садовой.
Без сомнения, она шла домой. Но, как видно, она не очень—то торопилась домой, у нее было о чем подумать, прежде чем вернуться домой. Она шла и думала, и я шел за ней, и это было так, как будто мы одни шли в огромном городе, совершенно одни — Катя и я за ней, но она меня не видала. Трамваи оглушительно звенели, подлетая к площади, ревели перед красным огнем светофора машины, и мне казалось, что очень трудно думать, когда вокруг такой дьявольский шум, — еще не то придумаешь, не то, что нужно! Не то, что так нужно и мне, и ей, и капитану, если бы он был жив, Марье Васильевне, если бы она была жива, — всем живым и мертвым.
Глава 9. ВСЕ РЕШЕНО, ОНА УЕЗЖАЕТ.
В номере давно уже было совершенно светло, но я забыл погасить лампу и, должно быть, поэтому казался себе в зеркале немного бледным. Мне было холодно, и на спине то появлялась, то проходила «гусиная кожа». Я снял трубку. Долго не отвечали. Наконец ответили, и я узнал Катин голос.
— Катя. Это я. Ничего, что так рано?
Она сказала, что ничего, хотя еще только пробило восемь.
— Не разбудил?
— Нет.
Я не спал эту ночь и был уверен, что и она не спала ни минуты.
— Катя, можно мне приехать?
Она помолчала.
— Приезжай.
Совершенно незнакомая девушка, довольно толстая, с белокурыми косами вокруг головы, открыла мне и покраснела, когда я спросил:
— Катя дома?
— Дома.
Я рванулся куда—то, сам не знаю, куда, в общем — к Кате, но эта девушка закрыла дверь перед моим носом и сказала насмешливо:
— Что вы, товарищ командир! Не так скоро.
Потом она захохотала — и так оглушительно, и так без всякого повода, что тут уже не узнать ее было невозможно.
— Кирен!
Катя вышла из столовой, как раз когда мы шагнули друг к другу через какие—то чемоданы и чуть было не обнялись с разбегу, но Кирен застенчиво попятилась, и пришлось просто пожать ей руку.
— Кирен, да вы ли это? Откуда?
— Она самая, — хохоча, сказала Кирен. — Только, пожалуйста, не называйте меня Кирен. Я теперь уже не такая дура.
И мы снова стали усердно трясти друг другу руки… Должно быть, она ночевала у Кати, потому что на ней был Катин халат, от которого все время отлетали пуговицы, пока мы укладывали вещи. Два открытых чемодана стояли в передней, потом в столовой, и мы укладывали в эти чемоданы белье, книги, какие—то приборы, — словом, все, что было Катино в этом доме. Она уезжает. Куда? Я не спрашивал. Она уезжает. Все решено. Она уезжает.
Я не спрашивал, потому что я и так знал каждое слово ее разговора с Кораблевым и каждое слово, которое она сказала Николаю Антонычу, когда вернулась домой. Николая Антоныча не было в городе, — кажется, он был где—то в области, в Волоколамске, но все равно я знал каждое слово, которое она сказала бы ему, если бы, вернувшись от Кораблева, она нашла его дома.
Решительная, бледная, она ходила, громко разговаривала, распоряжалась, Но это было спокойствие потрясенного человека, и я чувствовал, что сейчас не нужно говорить ни о чем. Я только крепко пожал ее руки и поцеловал их, и она в ответ тихонько сжала мои пальцы.
Но вот кто действительно растерялся — старушка. Она сурово встретила меня, только кивнула и гордо прошла мимо. Потом вдруг вернулась и с мстительным видом сунула в чемодан какую—то блузку.
— И очень хорошо. А что же? Так и нужно.
Она долго сидела в столовой и ничего не делала, только критиковала нашу укладку, а потом сорвалась и как ни в чем не бывало, побежала на кухню ругать домработницу за то, что та чего—то там мало купила.
— Я ей тыщу раз говорила: видишь ливер — бери, — сказала она мне, вернувшись, — видишь заднюю часть хорошую — бери. «Да как же так, да я без вас не знаю». А что тут знать? Нерешительная. Я таких терпеть не могу.
— Бабушка, ничего не нужно, — сказала Катя.
— Не нужно? Как это так? Взяла бы.
Потом материальные заботы оставляли ее, и она начинала вздыхать и украдкой пить у буфета лавровишневые капли. Время от времени она забегала куда—нибудь, где никого не было, и уговаривала себя не волноваться. Но недолго действовали на нее эти самоуговоры — и снова нужно было бежать к буфету и украдкой пить лавровишневые капли…
Не много времени понадобилось нам, чтобы уложить Катины вещи. У нее было мало вещей, хотя она уезжала из дому, в котором провела почти всю свою жизнь. Все здесь принадлежало Николаю Антонычу. Но зато из своих вещей она ничего не оставила, — она не хотела, чтобы хоть одна какая—нибудь забытая мелочь могла ей напомнить о том, что она жила в этом доме.
Она уезжала отсюда вся — со всей своей юностью, со своими письмами, со своими первыми рисунками, которые хранились у Марьи Васильевны, с «Еленой Робинзон» и «Столетием открытий», которое я брал у нее в третьем классе.
В девятом классе я брал у нее другие книги, и, когда дошла очередь и до них, она позвала меня к себе и прикрыла дверь.
— Саня, я хочу подарить тебе эти книги, — сказала она немного дрожащим голосом. — Это папины, я всегда очень берегла их. Но теперь мне хочется подарить их тебе. Здесь Нансен, потом разные лоции и его собственная.
Потом она провела меня в кабинет Николая Антоныча и сняла со стены портрет капитана — прекрасный портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и светлыми живыми глазами.
— Не хочу оставлять ему, — сказала она твердо, и я унес портрет в столовую и бережно упаковал его в тюк с подушками и одеялом.
Это была единственная вещь, принадлежавшая Николаю Антонычу, которую Катя увозила с собой. Если бы она могла, она увезла бы самую память о капитане из этого подлого дома.
Не знаю, кому принадлежал маленький морской компас, который когда—то так поразил меня, — тайком от Кати я сунул и его в чемодан. Во всяком случае, он принадлежал капитану.
Вот и все. Вероятно, это было самое пустынное место на свете, когда, уложив вещи и взяв в руки пальто, мы прощались с Ниной Капитоновной в передней. Она оставалась, но ненадолго — пока Катя не переедет в комнату, которую ей предлагал институт.
— Ненадолго, — торжественно сказала старушка, заплакала и поцеловала Катю.
Кира споткнулась на лестнице, села на чемодан, чтобы не скатиться, и захохотала. Катя сердито сказала ей: «Кирка, дура!» А я шел за ними, и мне казалось, что я вижу, как Николай Антоныч поднимается по этой лестнице, звонит и молча слушает, что говорит ему старушка. Дрожащей рукой он проводит по лысой голове и идет в свой кабинет, механически переставляя ноги, как будто боится упасть. Один в пустом доме.
И он догадывается, что Катя не вернется никогда.
Глава 10. НА СИВЦЕВОМ—ВРАЖКЕ.
До сих пор это был самый обыкновенный кривой московский переулок, вроде Собачьей Площадки, на которой когда—то жил Петька. Но вот Катя переехала на Сивцев—Вражек — и с тех пор он удивительно переменился. Он стал именно тем переулком, в котором жила Катя и который поэтому был ничуть не похож на все другие московские переулки. И самое название, которое всегда казалось мне смешным, теперь стало значительным и каким—то «Катиным», как все, что было связано с нею…
Каждый день я приходил на Сивцев—Вражек. Кати с Кирой еще не было дома, и меня встречала и занимала разговорами Кирина мама. Это была чудная мама, артистка—декламаторша, выступавшая в московских клубах с чтением классических произведений, маленькая, седеющая и романтическая — не то, что Кира. Обо всем она говорила как—то восторженно, и сразу было видно, что она обожает литературу. Это тоже было не очень похоже на Киру, особенно если вспомнить, с каким трудом она когда—то одолела «Дубровского» и как была убеждена, что в конце концов «Маша за него вышла».
С этой мамой мы разговаривали иной раз часа по два, к сожалению, все о какой—то Варваре Робинович, тоже декламаторше, но знаменитой, у которой Кирина мама собиралась брать уроки, но раздумала, потому что эта Варвара приняла ее с «задранным носом».
Потом являлась Кира — и каждый раз говорила одно и тоже:
— Ай—ай—ай, опять одни, в темноте. Интересно, интересно… Саня, я просто дрожу за мать, — говорила она трагически. — Она в тебя влюбилась. Мамочка, что с тобой? Такое увлечение на старости лет! Боюсь, что это может кончиться плохо.
И, как всегда, мама обижалась и уходила на кухню, а Кира топала за ней — объясняться и целоваться.
Потом приходила Катя. Иван Павлыч был прав — я не знал ее. И дело вовсе не в том, что я не знал многих фактов ее жизни, — например, что в прошлом году ее партия (она работала начальником партии) нашла богатое золотое месторождение на Южном Урале или что на выставке фотолюбителей ее снимки заняли первое место. Я не знал ее душевной твердости, ее прямодушия, ее справедливого, умного отношения к жизни — всего, что Кораблев так хорошо назвал «нелегкомысленной, серьезной душой». Мне казалось, что она гораздо старше меня, — особенно, когда она начинала говорить об искусстве, от которого я здорово отстал за последние годы. Но вдруг в ней показывалась прежняя Катька, увлекавшаяся взрывами и глубоко потрясенная тем, что «сопровождаемый добрыми пожеланиями тлакскаланцев, Фердинанд Кортес отправился в поход и через несколько дней вступил в Гонолулу». О Фердинанде Кортесе я вспомнил, увидев на одном фото Катю верхом, в мужских штанах и сапогах, с карабином через плечо, в широкополой шляпе. Геолог—разведчик! Капитан был бы доволен, увидев это фото.
Так прошло несколько дней, а мы еще не говорили о том, что произошло после нашей последней встречи, хотя произошло так много, что разговоров об этом могло бы, кажется, хватить на целую жизнь. Мы как будто чувствовали, что нужно сначала хорошенько вспомнить друг друга. Ни слова о Николае Антоныче, о Ромашове, о том, что я виноват перед ней. Но это было не так—то легко, потому что почти каждый вечер на Сивцев—Вражек приходила старушка.
Сперва она приходила торжественная, церемонная, в платье с буфами и все рассказывала истории — это было, когда Николай Антоныч еще не вернулся. Так, она рассказала о своей подруге, которая вышла замуж за «попа—стрижака», и как поп нажился, а потом вышел на амвон и говорит: «Граждане, я пришел к убеждению, что бога нет». Не знаю, к чему это было рассказано, — должно быть, старушка находила между этим попом и Николаем Антонычем какое—то сходство.
Но вот однажды она прибежала расстроенная и сказала громким шепотом: «Приехал».
И сейчас же заперлась с Катей. Уходя, она сказала сердито:
— Нужно тактику иметь — жить с людьми.
Но Катя ничего не ответила, только молча, задумчиво поцеловала ее на прощанье.
Назавтра старушка пришла заплаканная, усталая, с зонтиком и села в передней.
— Заболел, — сказала она. — Доктора к нему позвала. Гомеопата. А он его прогнал. Говорит: «Я ей отдал всю жизнь, и вот благодарность».
Она всхлипнула.
— «Это последнее, что держало меня в жизни. Теперь — конец». В этом роде.
Очевидно, это был еще не конец, потому что Николай Антоныч поправился, хотя сильный сердечный припадок действительно уложил его на несколько дней в постель. Он звал Катю. Но она не пошла к нему. Я слышал, как она сказала Нине Капитоновне:
— Бабушка, больного или здорового, живого или мертвого, я не хочу его видеть. Ты поняла?
— Поняла, — отвечала Нина Капитоновна. — Вот и отец ее такой был, — уходя, жаловалась она Кириной маме. — Как переломит ее — у—у. Хоть под поезд бросай! Фанатичная.
Но Николай Антоныч поправился, и старушка повеселела. Теперь она забегала иногда по два раза в день — и таким образом у нас все время были самые свежие новости о Николае Антоныче и Ромашке. Впрочем, о Ромашке однажды упомянула и Катя.
— Он заходил ко мне на службу, — кратко сказала она, — но я попросила передать, что у меня нет времени и никогда не будет.
— …Письмо пишут, — однажды сообщила старушка. Все летчик Г., летчик Г. Донос, поди. И этот просто из себя выходит, — попович—то. А Николай Антоныч молчит. Распух весь, сидит и молчит. В шали моей сидит…
Несколько раз на Сивцев—Вражек приходил Валя, и тогда все бросали свои дела и разговоры и смотрели, как он ухаживает за Кирой. И он действительно ухаживал за ней по всем правилам и в полной уверенности, что об этом никто не подозревает.
Он приносил Кире цветы в горшках — всегда одни и те же, так что ее комната превратилась в маленький питомник чайных роз и примул. Меня и Катю он видел, очевидно, в каком—то полусне, а наяву только Киру и иногда Кирину маму, которой он тоже делал подарки, — так, однажды он принес ей «Чтец—декламатор» издания 1917 года.
Время от времени он просыпался и рассказывал какую—нибудь забавную историю из жизни тушканчиков или летучих мышей.
Хорошо, что Кире не много нужно было, чтобы рассмеяться…
Так проходили эти вечера на Сивцевом—Вражке — последние вечера перед моим возвращением на Север.
У меня было много хлопот: нельзя сказать, что мое предложение организовать поиски экспедиции капитана Татаринова было встречено с восторгом; или я бестолково взялся за дело?
Я написал несколько статей: о моем способе крепления самолета во время пурги — в журнал «Гражданская авиация», о дневниках штурмана — для «Правды» и докладную записку — в Главсевморпуть. Через несколько дней, как раз накануне отъезда, я должен был выступить со своим основным сводным докладом о дрейфе «Св. Марии» на выездной сессии Географического общества.
Очень веселый, я однажды вернулся к себе в первом часу ночи. Я подошел к портье за ключом, и он сказал:
— Вам письмо.
И дал мне письмо и газету.
Письмо было очень краткое: секретарь Географического общества извещал меня, что мой доклад не может состояться, так как я своевременно не представил его в письменном виде. Газета, только что я взял ее в руки, сама развернулась на сгибе. Статья называлась: «В защиту ученого». Я начал ее читать, и строчки слились перед моими глазами…
Глава 11. ДЕНЬ ХЛОПОТ.
Вот что было написано в этой статье:
1. Что в Москве живет известный педагог и общественник, профессор Н.А.Татаринов, автор ряда статей по истории завоевания и освоения Арктики.
2. Что некий летчик Г. ходит по разным полярным учреждениям и всячески чернит этого уважаемого ученого, утверждая, что профессор Татаринов обокрал (!) экспедицию своего двоюродного брата капитана И.Л.Татаринова.
3. Что этот летчик Г. собирается даже выступить с соответствующим докладом, считая, очевидно, свою клевету крупным научным достижением.
4. Что Управлению Главсевморпути следовало бы обратить внимание на этого человека, позорящего своими действиями семью советских полярников.
Статья была подписана «И.Крылов», и я удивился, как у редакции хватило совести подписывать такую статью именем великого человека. Я не сомневался, что Николай Антоныч сам написал ее, — это и было то «письмо», о котором говорила старушка. Газета была прислана почтой на мое имя.
«Черт возьми, а если это не он? — Был уже третий час, а я все ходил и думал. — Вот письмо из Географического общества — это, без сомнения, он. Еще Кораблев говорил, что Николай Антоныч состоит членом этого общества, и ругал меня за то, что я рассказал о своем докладе Ромашке. Но и статья — это он! Он растерялся. Катя уехала, и он растерялся».
И мне представилось, как он сидит в старушкиной шали и молчит, а Ромашка грубит ему. Это было очень возможно!
«…Меньше всего следовало бы им желать, чтобы меля вызвали в Главсевморпуть и потребовали объяснений! Только этого я и добиваюсь». Я думал об этом уже лежа в постели. «Позорящего своими действиями…» Какими действиями? Еще ни с кем я не говорил о нем. Они надеются, что я отступлю, испугаюсь…
Очень может быть, что если бы не эта статья, я так и уехал бы из Москвы, почти ничего не сделав для капитана. Но статья подстегнула меня. Теперь я должен был действовать — и чем скорее, тем лучше.
Не следует думать, что я был так же спокоен, как теперь, когда вспоминаю об этом. Несколько раз я ловил себя на довольно диких мыслях, в которых, между прочим, прекрасно разбирается уголовный розыск. Но стоило мне вспомнить Катю и ее слова: «Больного или здорового, живого или мертвого, я не хочу его видеть», как все становилось на место, и я сам удивлялся спокойствию, с которым говорил и действовал в этот хлопотливый день.
С утра был намечен план — очень простой, но, пожалуй, по этому плану видно, что мне уже надоело разговаривать с делопроизводителями и секретарями.
1. Поехать в «Правду». Все равно, мне нужно было в «Правду», потому что я должен был перед отъездом сдать обещанную статью.
2. Поехать к Ч.
Эта мысль — поехать к Ч., к знаменитому Ч., который был когда—то героем Ленинградской школы, а потом стал Героем Советского Союза, которого знает и любит вся страна, — была у меня еще ночью, но тогда она показалась мне слишком смелой. Удобно ли звонить ему? Помнит ли он меня? Ведь мы расстались, когда я был учлетом!
Но теперь я решился — что же, он не откажется принять меня, даже если не помнит!
Не знаю, кто подошел к телефону, должно быть жена.
— Это говорит летчик Григорьев.
— Да.
— Дело в том, что мне очень нужно повидать товарища Ч., — я назвал его по имени и отчеству. — Я приехал из Заполярья и вот… очень нужно.
— А вы заходите.
— Когда?
— Лучше сегодня, он в десять часов приедет с аэродрома…
Я приехал в «Правду» и на этот раз часа два ждал своего журналиста. Наконец он пришел.
— А, летчик Г.? — сказал он довольно приветливо. — Который позорит?
— Он самый.
— Что же так?
— Позвольте объясниться, — сказал я спокойно.
Это был очень серьезный разговор в кабинете ответственного редактора, разговор, во время которого на стол по очереди были положены:
а) Последнее письмо капитана (копия).
б) Письмо штурмана, которое начиналось словами: «Спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров» (копия).
в) Дневники штурмана.
г) Заверенная доктором запись рассказа охотника Ивана Вылки.
д) Заверенная Кораблевым запись рассказа Вышимирского.
е) Фотоснимок латунного багра с надписью «Шхуна „Св. Мария“.
Кажется, это был удачный разговор, потому что один серьезный человек крепко пожал мне руку, а другой сказал, что в одном из ближайших номеров «Правды» будет напечатана моя статья о дрейфе «Св. Марии».
От «Правды» до квартиры Ч. по меньшей мере, шесть километров, но только на полпути я вспоминаю, что можно было воспользоваться трамваем. Я лечу, как сумасшедший, и думаю о том, как я сейчас расскажу ему об этом разговоре в «Правде».
И вот я поднимаюсь по лестнице, по чистой лестнице нового дома, останавливаюсь перед дверью и вытираю лицо — очень жарко — и стараюсь медленно думать о чем—нибудь — верное средство перестать волноваться.
Дверь открывается, я называю себя и слышу из соседней комнаты его низкий окающий голос:
— Ко мне?
И вот этот человек, которого мы полюбили в юности и с каждым годом, не видя его в глаза, только слыша о его гениальных полетах, с каждым годом любили все больше, выходит ко мне и протягивает сильную руку.
— Товарищ Ч., — говорю я и называю его по имени и отчеству, — едва ли вы помните меня. Это говорит Григорьев. То есть не говорит, а просто Григорьев. Мы встречались в Ленинграде, когда я был учлетом.
Он молчит. Потом говорит с удовольствием:
— Ну как же! Орел был! Помню!
И мы идем в его кабинет, и я начинаю свой рассказ, волнуясь еще больше, потому что оказалось, что он меня помнит…
Это была та самая встреча с Ч., когда он подарил мне свой портрет с надписью: «Если быть — так быть лучшим». Он сказал, что я из той породы, «у которых билет дальнего следования». Он выслушал меня и сказал, что завтра же будет звонить начальнику Главсевморпути о моем проекте.
Глава 12. РОМАШКА.
В двенадцатом часу ночи я простился с Ч. и вернулся к себе. Поздний час для гостей. Но меня ждал гость — правда, непрошеный, но все—таки гость.
Портье сказал:
— К вам.
И навстречу мне поднялся Ромашка.
Нужно полагать, что он не только душой, но и телом приготовился к этому визиту, потому что таким роскошным я его еще не видел. Он был в каком—то широком пальто стального цвета и в мягкой шляпе, которая не сидела, а стояла на его большой неправильной голове. От него пахло одеколоном.
— А, Ромашка, — сказал я весело. — Здравствуй, Сова!
Кажется, он был потрясен таким приветствием.
— А, да, Сова, — улыбаясь, сказал он. — Я совсем забыл, что так меня называли в школе. Но удивительно, как ты помнишь эти школьные прозвища!
Он тоже старался говорить в непринужденном духе.
— Я, брат, все помню. Ты ко мне?
— Если ты не занят.
— Ничуть, — сказал я. — Абсолютно свободен.
В лифте он все время внимательно смотрел на меня: как видно, прикидывал, не пьян ли я и, если пьян, какую выгоду можно извлечь из этого дела. Но я не был пьян — был выпит только один стакан вина за здоровье великого летчика и моего старшего друга…
— Вот ты где живешь, — заметил он, когда я вежливо предложил ему кресло. — Хороший номер.
— Ничего.
Я ждал, что сейчас он спросит, сколько я плачу за номер. Но он не спросил.
— Вообще это хорошая гостиница, — сказал он, — не хуже «Метрополя».
— Пожалуй.
Он надеялся, что я первый начну разговор. Но я сидел, положив ногу на ногу, курил и с глубоким вниманием изучал «Правила для приезжающих», лежавшие под стеклом, которым был покрыт письменный стол. Тогда он вздохнул довольно откровенно и начал.
— Саня, нам нужно поговорить об очень многих вещах, — сказал он серьезно. — И мы, кажется, достаточно культурные люди, чтобы обсудить и решить все это мирным путем, Не так ли?
Очевидно, он еще не забыл, как я однажды решил «все это» не очень мирным путем. Но с каждым словом голос его становился тверже.
— Я не знаю, какие непосредственные причины побудили Катю внезапно уехать из дому, но я вправе спросить: не связаны ли эти причины с твоим появлением?
— А ты бы спросил об этом у Кати, — отвечал я спокойно.
Он замолчал. У него запылали уши, а глаза вдруг стали бешеные, лоб разгладился. Я смотрел на него с интересом.
— Однако мне известно, — начал он снова немного сдавленным голосом, — что она уехала с тобою.
— Совершенно верно. Я даже помогал ей укладывать вещи.
— Так, — сказал он хрипло. Один глаз у него теперь был почти закрыт, а другим он косил — довольно страшная картина. Таким я видел его впервые.
— Так, — снова повторил он.
— Да, так.
— Да.
— Мы помолчали.
— Послушай, — начал он снова. — Мы с тобой не договорили тогда на юбилее Кораблева. Должен тебе сказать, что в общих чертах я знаю эту историю с экспедицией «Святой Марии». Я тоже интересовался ею так же, как и ты, но, пожалуй, с несколько иной точки зрения.
Я ничего не ответил. Мне была известна эта точка зрения.
— Между прочим, тебе, кажется, хотелось узнать, какую роль играл в этой экспедиции Николай Антоныч. По крайней мере, так я мог судить по нашему разговору.
Он мог судить об этом не только по нашему разговору. Но я не возражал ему. Я еще не понимал, куда он клонит.
— Думаю, что могу оказать тебе в этом деле серьезную услугу.
— В самом деле?
— Да.
Он вдруг бросился ко мне, и я инстинктивно вскочил и стал за кресло.
— Послушай, послушай, — пробормотал он, — я знаю о нем такие вещи! Я знаю такую штуку! У меня есть доказательства, от которых ему не поздоровится, если только умеючи взяться за дело. Ты думаешь — он кто?
Три раза он повторил эту фразу, придвинувшись ко мне почти вплотную, так что мне пришлось взять его за плечи и слегка отодвинуть. Но он этого даже не заметил.
— Такие штуки, о которых он сам забыл, — продолжал Ромашка. — В бумагах.
Конечно, он говорил о бумагах, взятых им у Вышимирского.
— Я знаю, отчего вы поссорились. Ты говорил, что он обокрал экспедицию, и он тебя выгнал. Но это — правда. Ты оказался прав.
Второй раз я слышал это признание, но теперь оно доставило мне мало удовольствия. Я только сказал с притворным изумлением:
— Да что ты?
— Это он! — с каким—то подлым упоением повторил Ромашка. — Я помогу тебе. Я тебе все отдам, все доказательства. Он у нас полетит вверх ногами.
Нужно было промолчать, но я не удержался и спросил:
— За сколько?
Он опомнился.
— Ты можешь принять это как угодно, — сказал он. — Но я тебя прошу только об одном: чтобы ты уехал.
— Один?
— Да.
— Без Кати?
— Да.
— Интересно. То есть, иными словами, ты просишь, чтобы я от нее отступился?
— Я люблю ее, — сказал он почти надменно.
— Ага, ты ее любишь! Это интересно. И чтобы мы не переписывались, не правда ли?
Он молчал.
— Подожди—ка минутку, я сейчас вернусь, — сказал я и вышел.
Заведующая этажом сидела у столика в вестибюле; я попросил у нее разрешения позвонить по телефону и, пока разговаривал, все время смотрел вдоль коридора, не ушел ли Ромашка. Но он не ушел — едва ли ему могло придти в голову, кому я звоню по телефону.
— Николай Антоныч? Это говорит Григорьев. — Он переспросил. Наверно, решил, что ослышался. — Николай Антоныч, — сказал я вежливо, — извините, что я так поздно беспокою вас. Дело в том, что мне необходимо вас видеть.
Он молчал.
— В таком случае, приезжайте ко мне, — наконец сказал он.
— Николай Антоныч! Как говорится, не будем считаться визитами. Поверьте мне, это очень важно, и не столько для меня, как для вас.
Он молчал, и мне было слышно его дыхание.
— Когда? Сегодня я не приеду.
— Нет, именно сегодня. Сейчас. Николай Антоныч, — сказал я громко, — поверьте мне хоть один раз в жизни. Вы приедете. Я вешаю трубку.
Он не спросил, в каком номере я остановился, и это было, между прочим, лишним подтверждением, что газету со статьей «В защиту ученого» прислал именно он. Но сейчас мне было не до таких мелочей. Я вернулся к Ромашке.
Не запомню, когда еще я так врал и изворачивался, как в эти двадцать минут, пока не приехал Николай Антоныч. Я притворился, что мне совсем не интересно, кем прежде был Николай Антоныч, расспрашивал, что это за бумаги, и уверял гнусавым от хитрости голосом, что не могу уехать без Кати. Но вот в дверь постучали, я крикнул:
— Войдите!
И Николай Антоныч вошел и, не кланяясь, остановился у порога.
— Здравствуйте, Николай Антоныч! — сказал я.
Я не смотрел на Ромашку, потом посмотрел: он сидел на краешке стула, втянув голову в плечи, и беспокойно прислушивался — настоящая сова, но страшнее.
— Вот, Николай Антоныч, — продолжал я очень спокойно, — вам, без сомнения, известен этот гражданин. Это некто Ромашов, ваш любимый ученик и ассистент и без пяти минут родственник, если я не ошибаюсь. Я пригласил вас, чтобы передать в общих чертах содержание нашего разговора.
Николай Антоныч все стоял у порога — очень прямой, удивительно прямой, в пальто и со шляпой в руке. Потом он уронил шляпу.
— Этот Ромашов, — продолжал я, — явился ко мне часа полтора тому назад и предложил следующее: он предложил мне воспользоваться доказательствами, из которых следует: во—первых, что вы обокрали экспедицию капитана Татаринова, а во—вторых, еще разные штуки, касающиеся вашего прошлого, о которых вы не упоминаете в анкетах.
Вот тут он уронил шляпу.
— У меня создалось впечатление, — продолжал я, — что этот товар он продает уже не в первый раз. Не знаю, может быть, я ошибаюсь.
— Николай Антоныч! — вдруг закричал Ромашка. — Это все ложь. Не верьте ему. Он врет.
Я подождал, пока он перестанет кричать.
— Конечно, теперь это, в сущности, все равно, — продолжал я, — теперь это дело только ваших отношений. Но вы сознательно…
Я давно чувствовал, что на щеке прыгает какая—то жилка, и это мне не нравилось, потому что я дал себе слово разговаривать с ними совершенно спокойно.
— Но вы сознательно шли на то, что этот человек может стать Катиным мужем. Вы уговаривали ее — из подлости, конечно, — потому что вы его испугались. А теперь он же приходит ко мне и кричит: «Он у нас полетит вверх ногами».
Как будто очнувшись, Николай Антоныч сделал шаг вперед и уставился на Ромашку. Он смотрел на него долго, так долго, что даже и мне трудно было выдержать эту напряженную тишину.
— Николай Антоныч, — снова жалостно пробормотал Ромашка.
Николай Антоныч все смотрел. Но вот он заговорил, и я поразился: у него был надорванный, старческий голос.
— Зачем вы пригласили меня сюда? — спросил он. — Я болен, мне трудно говорить. Вы хотели уверить меня, что он негодяй. Это для меня не новость. Вы хотели снова уничтожить меня, но вы не в силах сделать больше того, что уже сделали — и непоправимо. — Он глубоко вздохнул. Действительно, я видел, что говорить ему было трудно.
— На ее суд, — продолжал он так же тихо, но уже с другим, ожесточенным выражением, — отдаю я тот поступок, который она совершила, уйдя и не сказав мне ни слова, поверив подлой клевете, которая преследует меня всю жизнь.
Я молчал. Ромашка дрожащей рукой налил стакан воды и поднес ему.
— Николай Антоныч, — пробормотал он, — вам нельзя волноваться.
Но Николай Антоныч с силой отвел его руку, и вода пролилась на ковер.
— Не принимаю, — сказал он и вдруг сорвал с себя очки и стал мять их в пальцах. — Не принимаю ни упреков, ни сожаления. Ее дело. Ее личная судьба. А я одного ей желал: счастья. Но память о брате я никому не отдам, — сказал он хрипло, и у него стало угрюмое, одутловатое лицо с толстыми губами. — Я, может быть, рад был бы поплатиться и этим страданием — уж пускай до смерти, потому что мне жизнь давно не нужна. Но не было этого, и я отвергаю эти страшные, позорные обвинения. И хоть не одного, а тысячу ложных свидетелей приведите, — все равно никто не поверит, что я убил этого человека с его мыслями великими, с его великой душой.
Я хотел напомнить Николаю Антонычу, что он не всегда был такого высокого мнения о своем брате, но он не дал мне заговорить.
— Только одного свидетеля я признаю, — продолжал он, — его самого, Ивана. Он один может обвинить меня, и если бы я был виноват, он один бы имел на это право.
Николай Антоныч заплакал. Он порезал пальцы очками и стал долго вынимать носовой платок. Ромашка подскочил и помог ему, но Николай Антоныч снова отстранил его руки.
— Здесь бы и мертвый, кажется, заговорил, — сказал он и, болезненно, часто дыша потянулся за шляпой.
— Николай Антоныч, — сказал я очень спокойно, — не думайте, что я намерен отдать всю жизнь, чтобы убедить человечество в том, что вы виноваты. Для меня это давно ясно, а теперь и не только для меня. Я пригласил вас не для этого разговора. Просто я считал своим долгом раскрыть перед вами истинное лицо этого прохвоста. Мне не нужно то, что он сообщил о вас, — больше того, я давно знаю все это. Хотите ли вы сказать ему что—нибудь?
Николай Антоныч молчал.
— Ну, тогда пошел вон! — сказал я Ромашке.
Он бросился было к Николаю Антонычу и стал ему что—то шептать. Но, как бесчувственный, стоял, глядя прямо перед собой, Николай Антоныч. Только теперь я заметил, как он постарел за эти дни, как был удручен и жалок. Но я не жалел его, — только этого еще не хватало.
— Вон! — снова сказал я Ромашке.
Он не уходил, все шептал. Потом он подхватил Николая Антоныча под руку и повел его к двери. Это было неожиданно — тем более, что я выгонял именно Ромашку, а не Николая Антоныча, которого сам же и пригласил. Мне хотелось еще спросить у него, кто написал статью «В защиту ученого» — И.Крылов не потомок ли баснописца? Но я опоздал, — они уже уходили.
Кажется, я все—таки не поссорил их. Они медленно шли под руку вдоль длинного коридора, и только на одну минуту Николай Антоныч остановился. Он стал рвать волосы. У него не было волос, но на пальцах оставался детский пух, на который он смотрел с мучительным изумлением. Ромашка придержал его за руки, почистил его пальто, и они степенно пошли дальше, пока не скрылись за поворотом.
Накануне отъезда Ч. позвонил мне и сказал, что он говорил с начальником Главсевморпути и сам прочитал ему мою докладную записку. Ответ положительный. В этом году уже поздно посылать экспедицию, но в будущем году — вполне вероятно. Проект разработан убедительно, подробно, но маршрутная часть нуждается в уточнении. Историческая часть весьма интересна. Буду вызван, извещение получу дополнительно.
Весь этот день я провел в магазинах: мне хотелось подарить что—нибудь Кате, мы опять расставались. Это было нелегкое дело. Бабу на чайник? Но у нее не было чайника. Платье? Но я никогда не мог отличить креп—сатэна от фай—дешина. Лейку? Лейка была бы ей очень нужна, но на лейку не хватало денег.
Без сомнения, я так бы ничего и не купил, если бы не встретил на Арбате Валю. Он стоял у окна книжного магазина и думал — прежде я бы безошибочно определил: о зверях. Но теперь у него был еще один предмет для размышлений.
— Валя, — сказал я. — Вот что. У тебя есть деньги?
— Есть.
— Сколько?
— Рублей пятьсот, — отвечал Валя.
— Давай все.
Он засмеялся.
— А что — ты опять собираешься в Энск за Катей?
Мы пошли в фотомагазин и купили лейку…
Для всех я уезжал ночью в первом часу, но с Катей мы стали прощаться с утра — я все забегал к ней то домой, то на службу. Мы расставались ненадолго: в августе она должна была приехать ко мне в Заполярье, а я ждал, что меня вызовут еще раньше — быть может, в июле. Но все—таки мне было немного страшно — как бы опять не расстаться надолго…
Валя принес на вокзал «Правду» с моей статьей. Все было напечатано совершенно так же, как я написал, только в одном месте исправлен стиль, а вся статья сокращена приблизительно наполовину. Но выдержки из дневника были напечатаны полностью: «Никогда не забуду этого прощанья, этого бледного вдохновенного лица с далеким, взглядом. Что общего с прежним румяным, полным жизни человеком, выдумщиком анекдотов и забавных историй, кумиром команды, с шуткой подступавшим к самому трудному делу. Никто не ушел после его речи. Он стоял с закрытыми глазами, как будто собираясь с силами, чтобы сказать прощальное слово. Но вместо слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз сверкнули слезы…»
Мы с Катей читали это в коридоре вагона, и я чувствовал, как ее волосы касаются моего лица, и чувствовал, что она сама чуть сдерживает слезы.
ЧАСТЬ 6, (рассказанная Катей Татариновой). МОЛОДОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Глава 1. «ТЫ ЕГО НЕ ЗНАЕШЬ»
Иван Павлович деликатно ушел из вагона, а Валя все передавал приветы какому—то Павлу Петровичу из зверового совхоза: «Фу, черт! И доктору! Чуть не забыл!», пока Кира не вернулась и не увела его за руку. Мы остались одни. Ох, как мне не хотелось, чтобы Саня уезжал!
Вот какой он был в эту минуту — мне хотелось запомнить его всего, а не только глаза, в которые я смотрела: он стоял без фуражки и был такой молодой, что я сказала, что ему еще рано жениться. В форме он казался выше, но все—таки был маленького роста и, должно быть, поэтому иногда невольно поднимался на цыпочки — и сейчас, когда я обернулась. Он был подтянутый, аккуратный, но на макушке торчал хохол, который удивительно шел ему, особенно когда он улыбался. В эту минуту, когда мы обнялись и я в последний раз обернулась с площадки, он улыбался и был похож на того решительного, черного, милого Саню, в которого я когда—то влюбилась.
Все где—то стояли, но я не видела никого и чуть не упала, когда спускалась с площадки. Ох, как мне не хотелось, чтобы он уезжал!
Он взмахнул фуражкой, когда тронулся поезд, и я шла рядом с вагоном и все говорила: «Да, да».
— Будешь писать?
— Да, да!
— Каждый день?
— Да!
— Приедешь?
— Да, да.
— Ты любишь меня?
Это он спросил шепотом, но я догадалась по движению губ.
— Да, да!
С вокзала мы поехали провожать Ивана Павловича, и дорогой он все говорил о Сане.
— Главное, не нужно понимать его слишком сложно, — сказал он. — А ты самолюбивая, и первое время вы будете ссориться. Ты, Катя, вообще его почти не знаешь.
— Здрасти!
— Знаешь, какая у него главная черта? Он всегда останется юношей, потому что это пылкая душа, у которой есть свои идеалы.
Он строго посмотрел на меня и повторил:
— Душа, у которой есть свои идеалы… А ты гордая — и можешь этого не заметить.
Я засмеялась.
— И ничего смешного. Конечно, гордая, и девочкой, между прочим, была совсем другая. А он — вспыльчивый. Ты вообще подумай о нем, Катя.
Я сказала, что я и так думаю о нем слишком много и не такой уж он хороший, чтобы о нем думать и думать.
Но вечером я так и сделала: села и стала думать о Сане. Все ушли. Валя с Кирой в кино, а Александра Дмитриевна в какой—то клуб — читать литмонтаж по Горькому «Страсти—мордасти», который она сама составила и которым очень гордилась, а я долго сидела над своей картой, а потом бросила ее и стала думать.
Да, Иван Павлович прав — я не знаю его! Мне все еще невольно представляется тот мальчик в куртке, который когда—то ждал меня в сквере на Триумфальной и все ходил и ходил, пока не зажглись фонари, пока я вдруг не решилась и не пошла к нему через площадь. Тот мальчик, которого я обняла, несмотря на то, что три школы — наша, 143—я и 28—я — могли видеть, как мы целовались! Но тот мальчик существовал еще только в моем воображении, а новый Саня был так же не похож на него, как не похож был наш первый поцелуй на то, что теперь было между нами.
Но я вовсе не понимала его слишком сложно! Я просто видела, что за тем миром мыслей и чувств, который я знала прежде, в нем появился еще целый мир, о котором я не имела никакого понятия. Это был мир его профессии — мир однообразных и опасных рейсов на Крайнем Севере, неожиданных встреч со знакомыми летчиками в Доме пилота, детских восторгов перед новой машиной, мир, без которого он не мог бы прожить и недели. Но мне в этом мире пока еще не было места. Однажды он рассказывал об опасном полете, и я поймала себя на очень странном чувстве — я слушала его, как будто он рассказывал о ком—то другом. Я не могла вообразить, что это он, застигнутый пургой, только чудом не погиб при посадке, а потом трое суток сидел в самолете, стараясь не спать и медленно замерзая. Это было глупо, но я сказала:
— А ты не можешь устроить, чтобы этого больше не было?
У него стало смущенное лицо, и он сказал насмешливо:
— Есть! Больше не будет.
…Разумеется, он сам мог бы передать мне свой разговор с Вышимирским. Но он попросил Ивана Павловича. Он почувствовал, что дело совсем не в том, что он лично оказался прав. Здесь была не личная правда, а совсем другая, и я должна была выслушать ее именно от Ивана Павловича, который любил маму и до сих пор одинок и несчастен. Я знала, что в этот вечер Саня ждал меня на улице, и нисколько не удивилась, увидев его у входа в садик на углу Воротниковского и Садовой. Но он не подошел, хотя я знала, что он идет за мной до самого дома. Он понял, что мне нужно побыть одной и что как бы я ни была близка к нему в эту минуту, а все—таки страшно далека, потому что он оказался прав, а я — не права и оскорблена тем, что узнала от Кораблева…
Мы провели только один вечер вместе за все время, что Саня был в Москве. Он пришел очень усталый, и Александра Дмитриевна сейчас же ушла, хотя ей хотелось рассказать нам о том, как трудно выступать перед публикой и как непременно нужно волноваться, а то ничего не выйдет. Солнце садилось, и узенький Сивцев—Вражек был так полон им, как будто оно махнуло рукой на всю остальную землю и решило навсегда поместиться в этом кривом переулке. Я поила Саню чаем — он любит крепкий чай — и все смотрела, как он ест и пьет, и, наконец, он заставил меня сесть и тоже пить чай вместе с ним.
Потом он вдруг вспомнил, как мы ходили на каток, и выдумал, что один раз на катке поцеловал меня в щеку и что «это было что—то страшно твердое, пушистое и холодное». А я вспомнила, как он судил Евгения Онегина и все время мрачно смотрел на меня, а потом в заключительном слове назвал Гришку Фабера «мастистый».
— А помнишь, «Григорьев — яркая индивидуальность, а Диккенса не читал»?
— Еще бы! А с тех пор прочитал?
— Нет, — грустно сказал Саня, — все некогда было. Вольтера прочитал — «Орлеанская девственница». У нас в Заполярье, в библиотеке, почему—то много книг Вольтера.
У него глаза казались очень черными в сумерках, и мне вдруг показалось, что я вижу только эти глаза, а все вокруг темнеет и уходит. Я хотела сказать, что это смешно, что в Заполярье так много Вольтера, но мы вдруг много раз быстро поцеловались. В эту минуту позвонил телефон, я вышла и целых полчаса разговаривала со своей старой профессоршей, которая называла меня «деточкой» и которой нужно было знать решительно все — и где я теперь обедаю, и купила ли я тот хорошенький абажур у «Мюра»… А когда я вернулась, Саня спал. Я окликнула его, но мне сразу же стало жалко, и я присела подле него на корточки и стала рассматривать близко—близко.
В этот вечер Саня передал мне дневник штурмана, и все бумаги, и фото. Дневник лежал в особой папке с замочком. Когда Саня ушел, я долго рассматривала эти обломанные по краям страницы, покрытые кривыми тесными строчками и вдруг — беспомощными, широкими, точно рука, разбежавшись, еще писала, а мысль уже бродила невесть где. Каким упорством, какой силой воли нужно обладать, чтобы прочитать эти дневники!
Багор с надписью «Св. Мария» остался в Заполярье, но Саня привез фото, и, должно быть, ни один багор в мире еще не был снят так превосходно!
Все это было как бы осколки одной большой истории, разлетевшейся по всему свету, и Саня подобрал их и написал эту историю или еще напишет. А я? Я не сделала ничего и, если бы не Саня, даже не узнала бы о своем отце ничего, кроме того, что мне было известно в тот прощальный день на Энском вокзале, когда отец взял меня на руки и в последний раз высоко подкинул и поймал своими добрыми большими руками.
Я обещала Сане писать каждый день, но каждый день писать было не о чем: по—прежнему я жила у Киры, много читала и работала, хотя это было не очень удобно, потому что ящики с коллекциями так и стояли в передней, а карту приходилось чертить на рояле.
Тем летом я впервые не ездила в поле — нужно было обработать материал 34—го и 35—го годов, и Башкирское управление, в котором я служила, разрешило мне остаться на лето в Москве.
Бабушка приходила ко мне каждый день, и вообще все было прекрасно — между прочим, еще и потому, что Валя с Кирой вдруг стали какие—то молчаливые, серьезные и все время сидели и тихо разговаривали в кухне. Больше им некуда было деться, потому что вся квартира состояла из одной большой старинной кухни, делившейся на «кухню вообще» и «собственно кухню». Валя с Кирой сидели за перегородкой, то есть в «собственно кухне», так что Александре Дмитриевне приходилось теперь готовить ужин в «кухне вообще».
Больше Валя не дарил цветов, — очевидно, у него не было денег, — но зато однажды принес белую крысу и очень огорчился, когда Кира заорала и вскочила на стол. Он долго объяснял ей, что это прекрасный экземпляр — крыса—альбинос, редкая штука! Но Кира все орала и не хотела слезать со стола, так что ему пришлось завязать крысу—альбиноса в носовой платок и положить на столик в передней. Но там ее нашла Александра Дмитриевна, вернувшаяся со своего концерта, и тут поднялся такой крик, что Вале пришлось уйти со своим подарком.
Но по ночам, когда мы с Кирой, нашептавшись вволю, по очереди говорили друг другу: «Ну, спать!», и она вдруг засыпала и во сне у нее становилось смешное, счастливое выражение лица, а эти минуты, когда я оставалась одна, тоска, наконец, добиралась до сердца. Я начинала думать о том, какая у них чудная любовь, самое лучшее время в жизни, и как она не похожа на нашу! Они — вместе и видятся каждый день, а мы так далеко друг от друга!
И, как из окна вагона, мне виделись поля и леса, и снова поля, потом — тайга и холодные ленты северных рек, и равнины, равнины, покрытые снегом, — бесконечные пространства земли, которые легли между нами.
«Конечно, мы увидимся, — я уверяла себя. — Я поеду к нему, и все будет прекрасно. Два года я не брала отпуска, а теперь возьму и поеду, или он приедет, быть может, еще в июле».
Но тоска все не проходила.
Карта была трудная, потому что в прежних картах многое было напутано и теперь все приходилось делать сначала. Но чем труднее, тем с большим азартом я работала в эти дни, после Саниного отъезда. Несмотря на мои тоскливые ночи, я жила с таким чувством, как будто все тяжелое, скучное и неясное осталось позади, а впереди — только интересное и новое, от которого замирает сердце и становится весело, и легко, и немного страшно.
Глава 2. НА СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКЕ.
Повсюду, где Саня был в последний день, он оставил мой телефон — и в Главсевморпути, и в «Правде». Я немного испугалась, когда он сказал мне об этом.
— А кто же я такая? Чтобы кого спрашивали?
— Катерину Ивановну Татаринову—Григорьеву, — серьезно ответил Саня.
Я решила, что он шутит. Но не прошло и трех дней после его отъезда, как кто—то позвонил и попросил к телефону Катерину Ивановну Татаринову—Григорьеву.
— Я вас слушаю.
— Это говорят из «Правды».
И журналист, фамилию которого я часто встречала в «Правде», сказал, что Санина статья вызвала много численные отклики и что об авторе пришел даже запрос из Арктического института.
— Поздравьте вашего мужа с успехом.
Я хотела сказать, что он еще не мой муж, но почему—то промолчала.
— Насколько мне известно, я имею удовольствие разговаривать с дочерью капитана Татаринова?
— Да.
— Нет ли у вас еще каких—либо материалов, относящихся к жизни и деятельности вашего отца?
Я сказала, что есть, но без разрешения Александра Ивановича — первый раз в жизни я назвала Саню по имени—отчеству — я, к сожалению, не могу ими распоряжаться.
— Ну, мы ему напишем…
Из «Гражданской авиации» тоже позвонили и спросили, куда послать номер с Саниной статьей о креплении самолета во время пурги, — а я даже и не знала, что он написал эту статью. Я попросила два номера — один для себя. Потом позвонили из «Литературной газеты» и спросили, какой Григорьев
— не писатель ли?
Но самым важным был разговор с Ч. Не знаю, что Саня рассказывал ему обо мне, но он позвонил и сразу стал говорить со мной, как со старой знакомой.
— Пенсию получаете?
Я не поняла.
— За отца.
— Нет.
— Нужно хлопотать.
Потом он засмеялся и сказал, что в Главсевморпути перепугались, что мой отец открыл Северную Землю, а у них записано, что кто—то другой.
— Вообще мне что—то не того… не нравятся эти разговоры.
— А я думала, что экспедиция решена.
— Решена, а теперь вдруг оказывается — не решена. Главное, я им говорю: вы его с «Пахтусовым» пошлите. А они говорят: там уже есть пилот. Мало ли что! Ведь у вашего—то определенная мысль!
Он так и говорил «ваш—то» и при этом басил и окал.
— Ну, ладно, я еще там… А вы к нам заходите.
Я сказала, что буду очень счастлива, и мы простились…
Каждый день я получала письмо, а то и два от Ромашова. «Вторая партия Башкирского геологического управления» — было написано на конверте, как будто письмо отправлялось в учреждение. Действительно, я была в те годы чем—то вроде учреждения — иначе никак нельзя было оформить мою работу в Москве. Но этот адрес был шуткой, и такой жалкой выглядела эта шутка, которую он повторял каждый день!
Сперва я читала эти письма, потом стала возвращать нераспечатанными, а потом перестала читать и возвращать. Но мне почему—то было страшно жечь эти письма; они валялись где попало, я невольно натыкалась на них — и отдергивала руку.
Точно так же я натыкалась и на автора этих писем. Прежде он всегда был очень занят, и я просто не могла понять, как он теперь находит время всегда стоять на улице, когда бы я ни вышла из дому. Я встречала его в магазинах, в театре, и это было очень неприятно, потому что он кланялся, а я не отвечала. Он делал движение, чтобы подойти, — я отворачивалась.
Он приезжал к Вале, плакал и страшно накричал на него, когда Валя в шутку привел ему подобный пример отвергнутой любви среди обезьян шимпанзе.
Словом, он занимал так много места в моей жизни, что, в конце концов, у меня началась какая—то болезнь: стоило мне закрыть глаза, как он мигом появлялся передо мной в новом сером пальто и в мягкой шляпе, которую он стал носить ради меня, — он сам однажды сказал мне об этом.
Конечно, это была очень странная мысль — идти к Ромашову и отобрать те бумаги, которые передал ему Вышимирский. Это была жестокая мысль — идти к нему после всех его писем и цветов, которые я отсылала. Но чем больше я думала, тем все больше мне нравилась эта мысль. Я представляла себе, как я войду и он растеряется и долго будет смотреть на меня, не говоря ни слова, как он потом побледнеет, бросится по коридору и распахнет дверь в свою комнату, а я скажу хладнокровно:
— Миша, я пришла к вам по делу.
Интересно, что все это произошло именно так, как я себе представляла.
Он был в теплой голубой пижаме, должно быть только что из ванны, и еще не успел причесаться — мокрые желтые волосы свисали на лоб. Он побледнел и стоял молча, пока я снимала жакетку. Потом бросился ко мне:
— Катя!
— Миша, я пришла к вам по делу, — сказала я хладнокровно. — Вы оденьтесь, причешитесь. Где мне подождать?
— Да, конечно, пожалуйста…
Он побежал по коридору и распахнул дверь в свою комнату.
— Вот сюда. Извините…
— Напротив, вы меня извините.
В прошлом году мы были у него в гостях втроем: Николай Антоныч, бабушка и я, и бабушка, между прочим, весь вечер намекала, что он взял у нее сорок рублей и не отдал.
Мне и тогда понравилась его комната, но сейчас, когда я вошла, она была особенно хороша. Она была очень приятно покрашена: стены светло—серые, а двери и стенной шкаф — еще немного светлее. Мебель была мягкая и удобная, и вообще все устроено удобно и красиво. Из окна была видна Собачья Площадка — мое любимое место в Москве. Почему—то я с детства всегда любила Собачью Площадку — и этот маленький памятник погибшим собакам, и все переулки, которые на нее выходили…
— Миша, — сказала я, когда он вернулся, причесанный, надушенный и в новом синем костюме, который я еще не видала, — я пришла, чтобы ответить на все ваши письма. Что за ерунду вы пишете, что я буду раскаиваться, если не выйду за вас замуж! Вообще это мальчишество — писать мне каждый день, когда вы знаете, что я даже не читаю ваших писем. Вы прекрасно знаете, что я никогда не собиралась за вас, и нечего писать, что я вас обманула.
Это было немного страшно — смотреть, как меняется у него лицо. Он вошел с нетерпеливым, радостным выражением, как бы надеясь и не веря себе, — а теперь, с каждым моим словом, надежда исчезала и лицо мертвело, мертвело, 0н отвернулся и смотрел в пол.
— Долго объяснять, почему я прежде позволяла говорить об этом. Тут было много причин. Но ведь вы же умный человек! Вы никогда не обманывались в том, что я вас не любила.
— А с ним ты будешь несчастна!
— Почему вы говорите мне «ты»? — спросила я холодно. — Я сейчас же уйду.
— А с ним ты будешь несчастна, — повторил Ромашов.
У него дрожали колени, он несколько раз как—то странно прикрывал глаза, и я вспомнила, как Саня рассказывал, что он спит с открытыми глазами.
— Я убью себя и вас, — наконец прошептал он.
— Если вы убьете себя, это будет просто прекрасно, — сказала я очень спокойно. — Я не хотела с вами ссориться, но если на то пошло, какое право вы имеете говорить подобные вещи? Вы затеяли интригу, как будто в наше время на девушках женятся с помощью каких—то идиотских интриг! Вы человек без всякого достоинства, потому что иначе вы не стали бы каждый день ходить за мной по пятам, как собака. Вообще вы должны слушать меня и молчать, потому что все, что вы скажете, я отлично знаю. А теперь вот что: что это за бумаги, которые вы взяли у Вышимирского?
— Какие бумаги?
— Миша, не притворяйтесь, вы отлично знаете, о чем я говорю. Это те самые бумаги, которыми вы пугали Николая Антоныча, что он прежде был биржевой делец, а потом предлагали Сане, чтобы он отказался от меня и уехал. Дайте их сюда сейчас же, слышите! Сию же минуту!
Он несколько раз закрыл глаза и вздохнул. Потом хотел встать на колени. Но я очень громко сказала:
— Миша, не смейте, вы слышите!
И он удержался, только стиснул зубы, и у него стало такое безнадежное лицо, что у меня невольно защемило сердце.
Не то, что мне было жаль его! Но у меня было такое чувство, как будто я все—таки виновата, что он так мучается и не может даже заставить себя сказать ни слова. Мне было бы легче, если бы он стал ругать меня. Но он молчал и молчал.
— Миша, — снова сказала я, начиная волноваться, — поймите, что вам теперь совершенно не нужны эти бумаги. Все равно ничего нельзя изменить, а между тем мне стыдно, что я почти ничего не знаю о моем отце, в то время как о нем уже пишут во всех газетах. Они мне нужны — лично мне и никому другому.
Не знаю, что ему почудилось, когда я сказала «нужны лично мне», но у него вдруг стали бешеные глаза, он закинул голову и легко прошелся по комнате. Он подумал о Сане.
— Ничего не дам, — грубо сказал он.
— Нет, дадите! Если вы не дадите, я буду думать, что это снова ложь — то, что вы мне писали.
Он вдруг вышел, и я осталась одна. Было очень тихо, только с улицы доносились детские голоса да осторожно раза два прогудела машина. Это было неприятно, что он ушел и не возвращался так долго. А вдруг он в самом деле сделал что—нибудь над собой! У меня похолодело сердце, я вышла в коридор и стали слушать. Ничего — только где—то льется и льется вода.
— Миша!
Дверь в ванную комнату была приоткрыта, я заглянула и увидела, что он стоит, наклонившись над ванной. Я не сразу поняла, что с ним, — в комнате было полутемно, он не зажег света.
— Я сейчас приду, — внятно сказал он, не оборачиваясь.
Он стоял, согнувшись в три погибели, держа голову под краном; вода лилась на его лицо и на плечи, и новый костюм был уже совершенно мокрым.
— Что вы делаете? Вы сошли с ума!
— Идите, я сейчас приду, — сердито повторил он.
Через несколько минут он действительно пришел без воротничка, с красными глазами — и принес четыре обыкновенные синие тетради.
— Вот они, — сказал он, — никаких бумаг у меня больше нет. Возьмите.
Возможно, что это снова была неправда, потому что я наудачу открыла одну тетрадь и там оказалось что—то печатное — точно вырванная из книги страница, — но теперь с ним больше нельзя было говорить, и я только поблагодарила очень вежливо:
— Спасибо, Миша.
Я вернулась домой, и прошло еще несколько часов, и прошел долгий вечер за чтением синих тетрадей, прежде чем я заставила себя забыть это лицо и как он вернулся в мокром костюме, похудевший и похожий на подбитую птицу.
Глава 3. СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ И ДОСТИЖЕНИЙ!
Передо мной лежали четыре толстые синие тетради — старые, то есть дореволюционные, потому что на обложках везде стояла фирма «Фридрих Кан». На первой странице первой тетради было написано великолепными буквами с тенями: «Чему свидетель в жизни был» и дата — 1916. Мемуары! Но дальше шли просто вырезки из старых газет, в том числе из таких, о которых я прежде никогда не слышала: «Биржевые ведомости», «Земщина», «Газета Копейка». Вырезки были наклеены вдоль, во всю длину столбцами, но кое—где и поперек, например: «Экспедиция Татаринова. Покупайте открытые письма!
1) Молебен перед отправлением.
2) Судно «Св. Мария» на рейде».
Я быстро перелистала тетрадь до конца, потом вторую, третью. Никаких «бумаг», как в разговоре с Иваном Павловичем я поняла это слово, тут не было, а были только статьи и заметки об экспедиции из Петербурга во Владивосток вдоль берегов Сибири.
Что же это были за статьи? Я начала читать их и не могла оторваться. Вся жизнь прежних лет открылась передо мной, и я читала с горьким чувством непоправимости и обиды. Непоправимости — потому что шхуна «Св. Мария» погибла прежде, чем вышла из порта, вот в чем я убедилась после чтения этих статей. И обиды — потому что я узнала теперь, как дерзко был обманут отец и как повредили ему доверчивость и прямота души.
Вот как описывал какой—то «очевидец» отплытие «Св. Марии»:
«…Бедно украшены флагами мачты уходящей в далекий путь шхуны. Приближается час отъезда. Последняя молитва „о плавающих и путешествующих“, последние напутственные речи… И вот медленно отчаливает „Св. Мария“, все дальше берег, уже дома и люди слились в одну пеструю полоску. Торжественный момент! С землей, с родиной порвалась последняя связь. Но грустно было нам и стыдно за эти бедные проводы, за равнодушные лица, на которых было написано лишь любопытство… Наступил вечер. „Св. Мария“ остановилась у устья Двины. Провожающие выпили по бокалу шампанского за успех экспедиции. Еще одно крепкое рукопожатие, еще одно объятие — и нужно переходить на „Лебедин“, чтобы возвращаться в город. И вот женщины стоят на борту маленького парохода и машут, машут… вытирают слезы и снова машут. Еще доносится нервный лай собак с удаляющейся шхуны. Все мельче она, и вот, наконец, превратилась в маленькую точку на темнеющем вечернем горизонте… Что ждет вас впереди, смелые люди?»
И вот ушла в далекое плавание шхуна, архангельский маяк послал ей вслед прощальный сигнал: «Счастливого плавания и достижений», и что же началось на берегу, боже мой! Какие грязные ссоры между торговцами, снаряжавшими шхуну, какие суды и аукционы — часть снаряжения и продовольствия пришлось оставить на берегу, и все это было продано с аукциона. И обвинения — в чем только не обвиняли моего отца! Не проходит и недели после отплытия шхуны, как его обвиняют в том, что он не застраховал ни себя, ни людей; в том, что он отплыл на три недели позже, чем этого требуют условия полярного плавания; в том, что он не дождался радиотелеграфиста. Его обвиняют в легкомыслии, в неумелом подборе команды, среди которой «нет ни одного лица, умеющего справляться с парусами». Над ним смеются, утверждают, что «в этой глупой авантюре, как в капле воды, отразилась наша современная напыщенная, бестолковая жизнь».
Через несколько дней после ухода «Св. Марии» в Карском море разразился жестокий шторм, и тотчас же распространились слухи о гибели экспедиции у берегов Новой Земли. «Кто виноват?», «Судьба „Св. Марии“, „Где искать Татаринова?“ — первое страшное впечатление детства вспомнилось мне при чтении этих статей: мама вдруг быстро входит в мою маленькую комнатку в Энске с газетой в руках, в своем чудном черном шуршащем платье, и не видит меня, хотя я говорю ей что—то и соскакиваю с кроватки и бегу к ней босиком, в одной рубашке. Пол холодный, но она не велит мне идти назад в кроватку и не поднимает с полу, а все стоит у окна с газетой в руках. Я тоже стараюсь дотянуться до окна, но вижу только наш садик, весь в мокрых осенних листьях клена, и мокрые дорожки и лужи, по которым еще шлепают последние крупные капли дождя. „Мама, зачем ты смотришь?“ Она молчит, я снова спрашиваю, и мне хочется к ней на руки, потому что становится страшно, что она все молчит. „Мама!“ Я начинаю реветь, и тогда она оборачивается и наклоняется, чтобы поднять меня, но что—то делается с нею, и она садится на пол, потом ложится и тихонько лежит, вытянувшись на полу, в своем чудном черном шуршащем платье. И вдруг безумный, бессознательный страх охватывает меня, я кричу и слышу только, как я ужасно кричу, и бьюсь обо что—то руками и ногами, и слышу испуганный мамин голос, и снова кричу и не могу остановиться. Потом я сплю и слышу сквозь сон, как бабушка разговаривает с мамой, как мама говорит:
— Она меня испугалась.
Но я молчу и притворяюсь, что сплю, потому что это все—таки мама и, потому что она говорит и плачет, как мама…
Только теперь, читая эти статьи, я поняла, что это было.
Но слухи оказались ложными, и через телеграфную экспедицию на Югорском Шаре капитан Татаринов прислал «сердечный привет и наилучшие благопожелания всем жертвователям и лицам, сочувствующим делу экспедиции».
Это письмо было напечатано в виде факсимиле, и над ним папин незнакомый портрет — в морской форме, в кителе с белыми погонами: изящный офицер со старомодно поднятыми кверху усами.
Недаром послал он «благопожелания всем жертвователям»: он надеялся, что сбор пожертвований даст возможность «Комитету по исследованию русских полярных стран» поддержать семьи экипажа. Об этом он писал в своем донесении, посланном через Югорскую экспедицию и напечатанном 16 июня в газете «Новое время»:
«Я убежден, что Комитет не оставит на произвол судьбы семейства тех, кто посвятил свою жизнь общему национальному делу».
Напрасная надежда! В той же газете, от 27 июня, я прочла отчет о заседании Комитета: «По словам секретаря Комитета Н.А.Татаринова, новая подписка дала совершенно ничтожные результаты. Равным образом не дали ожидаемых прибылей и многие другие способы, как устройство увеселительных развлечений и т.п. Таким образом, Комитет лишен возможности оказать семьям экипажа предполагаемую помощь в 1000 рублей, собираемую путем доброхотных даяний».
Странно и дико было мне читать об этих «доброхотных даяниях»… Может быть, и мы с мамой жили, как нищие, на эту милостыню, собираемую путем «доброхотных даяний»?
Но все это только мелькнуло у меня в голове, и я не стала особенно раздумывать над обидами, которым было почти столько же лет, сколько и мне. Другое остановило и поразило меня в старых газетах: в один голос они утверждали, что шхуну «Св. Мария» ждет неизбежная гибель. Иные рассчитывали с карандашом в руках, что она едва дойдет до Новой Земли. Другие предполагали, что она будет затерта первыми же льдами и погибнет несколько позже, пройдя вдоль Земли Франца—Иосифа в качестве «пленника полярного моря».
В том, что она не пройдет Северным морским путем в одну ли, в две ли, в три ли навигации, безразлично, — не сомневался никто.
Только какой—то поэт напечатал в архангельской газете стихи: «И.Л.Татаринову», по которым можно было судить, что он держался иного мнения:
Он здоров! Хранит его судьбина! Его энергия и риск Полярный разомкнули диск, И отступает спаянная льдина…Я много знала и прежде. В письме, которое Саня нашел в Энске, отец писал, что «из шестидесяти собак большую часть еще на Новой Земле пришлось застрелить. В записке, которую Саня составил со слов Вышимирского говорилось о гнилой одежде, о бракованном шоколаде. В газете „Архангельск“ я прочитала письмо купца Е.В.Демидова, который указывал, что „засолка мяса и приготовление готового платья не являются его специальностью“ и что „в данном случае он был только комиссионером. При всем этом, имея свое большое торговое дело, он не мог, конечно, смотреть за каждым куском мяса и рыбы, положенным в бочку. Все время получались такие телеграммы от капитана Татаринова: „Остановите заготовку — денег нет“. Или: „Продайте заготовленное — денег нет“. И так далее. Зачем же было снаряжать экспедицию, когда не было денег?.. Если что и оказалось худое при таком спешном деле, так виновных в этом искать надо бы не среди местных коммерсантов, а где—либо выше…“
Но я не знала — и Саня не знал, и я не понимаю, почему мама никогда не говорила об этом, — что «за три дня до выхода „Св. Марии“ в фор—трюме, в обеих сторонах его баргоута, под второй палубой, значительно ниже ватерлинии, обнаружены опасные для плавания вырезы борта вместе со шпангоутами, вплоть до наружной обшивки со следами топора и пилы. Дыры эти, обмеренные и сфотографированные, оказались: самая большая шириной в 12 дюймов и длиной в 2 фута и 4 дюйма, а другие немногим меньше. Происхождение этих дыр, весьма загадочное, заставляет, однако, вспомнить о том, что в случае гибели судна новый владелец его получил бы соответствующую страховку».
Конечно, не нужны были новые подтверждения, что отец погиб и никогда не вернется. Он не мог не погибнуть. Был послан на безусловную, верную смерть и погиб.
Глава 4. МЫ ПЬЕМ ЗА САНЮ.
Я уже говорила, что у меня было очень много работы в то лето, между прочим еще и потому, что моя помощница, студентка третьего курса, оказалась очень тупой, и приходилось не только делать все за нее, но еще и утешать ее, потому что она огорчалась, что она такая тупая. Сама я тоже многого не могла понять и каждые два—три дня бегала к моей старенькой профессорше, которая называла меня «деточкой» и все беспокоилась, что я похудела. И действительно, я очень похудела и побледнела, потому что никогда еще, кажется, столько не думала и не волновалась. Я волновалась, читая статьи; волновалась, когда опаздывали письма от Сани; волновалась, потому что бабушка сердилась на меня и даже одно время перестала ходить. Кроме того, я еще волновалась из—за Вали и Киры.
Все у них было очень хорошо — они по—прежнему сидели в своей кухне и шептались, а потом пили чай с серьезными, счастливыми, глупыми лицами; но однажды шепот вдруг прекратился, и, немного помолчав, они стали кричать друг на друга. Я испугалась и тоже стала кричать, но в это время Валя вышел, весь красный, и полез в стенной шкаф, очевидно спутав его с входной дверью. Я подала ему шляпу и робко спросила, что случилось, но он ответил:
— Спросите у вашей подруги, что случилось.
Не помню, когда я в последний раз видела, что Кира плачет. Кажется, в пятом классе, из—за «неуда» по черчению. Теперь она снова плакала и, как маленькая, вытирала глаза руками.
— Кира, что случилось?
— Ничего не случилось. Мы решили записаться, а он не хочет переезжать, вот и все.
— Из—за меня? Потому что тесно?
— Ничего не из—за тебя. Он говорит, что я сама должна догадаться. А я, честное слово, не могу. Он хочет, чтобы я к нему переехала. А я не хочу. Мне там нужно будет готовить и все, а когда мне готовить? Вообще здесь все есть и посуда, и скатерти, белье, все.
— И мама.
— Ну да, и мама.
Мы проговорили весь вечер, а ночью Кира пришла и сказала, что догадалась — просто он ее больше не любит. До семи утра я доказывала, что Валя ее любит и что так не волнуются, когда не любят. Не знаю, убедила ли я Киру, но только она вдруг сказала, «что она прекрасно знает, что он хороший, а она плохая и что она напишет ему письмо, что она его не стоит и что он ее не любит, потому что считает, что она дура».
— Только, прежде чем отослать, покажи мне, ладно? — сказала я сонным голосом, и последнее, что я еще видела, засыпая, — это была Кира, которая в одной рубашке сидела за столом и писала, писала…
Наутро мы с ней разорвали ерунду, которую она сочинила, и я отправилась к Вале. Он работал в Зоопарке, и я вспомнила, как мы однажды были у него с Саней и как он показывал нам своих грызунов. Теперь и дома этого уже не было, а стоял красивый белый павильон с колоннами, и Вале не нужно было уверять сторожа, что он — сотрудник лаборатории экспериментальной биологии. Но в этом красивом белом павильоне совершенно так же пахло мышами, и Валя был такой же — только в белом халате и небритый. Мне стало смешно, потому что ночью Кира сказала, что он теперь перестанет бриться.
Он усадил меня и сам уныло сел.
— Валя, во—первых, имей в виду, что я пришла по собственной инициативе, — начала я сердито. — Так что ты не думай, пожалуйста, что Кира меня прислала.
Он сказал дрогнувшим голосом: «Да?», и мне стало жаль его. Но я продолжала строго:
— Если у тебя есть серьезные причины остаться у себя, хотя на Сивцевом вам будет в тысячу раз удобнее, ты должен ей сказать, и баста. А не требовать, чтобы она сама догадалась.
Он помолчал.
— Понимаешь, в чем дело… я не могу переехать на Сивцев—Вражек, хотя, конечно, я не отрицаю, что это было бы просто прекрасно, Там, можно устроить что—то вроде кабинета и спальни, особенно если перегородку перенести, а где сейчас чулан — устроить маленькую лабораторию. Но это невозможно.
— Почему?
— Потому что… Послушай, а тебя она не заговаривает? — вдруг с отчаянием спросил он.
— Кто?
— Кирина мама.
Я так и покатилась со смеху.
— Да, тебе смешно, — говорил Валя, — конечно, тебе смешно. А я не могу. У меня начинается тошнота и слабость. Один раз спрашивает: «Почему ты такой бледный?» Я ей чуть не сказал… И все про какую—то Варвару Рабинович, будь она неладна… Нет, не перееду.
— Вот что, Валя, — сказала я серьезно, — уж не знаю, кто у вас там кого заговаривает, но ты, во всяком случае, ведешь себя по отношению к Кире очень глупо. Она плакала и не спала сегодня всю ночь, и вообще ты должен сразу же поехать к ней и объяснить, в чем дело.
У него стало несчастное лицо, и несколько раз он взволнованно прошелся по комнате.
— Не поеду!
— Валя!
Он упрямо молчал. «Ого, вот ты какой!» — подумала я с уважением.
— Тогда и не лезьте больше ко мне, и черт с вами! — сказала я сердито и хотела уйти, но он не пустил, и мы еще два часа говорили о том, как бы устроить, чтобы Кирина мама не говорила так много…
Это было не особенно удобно, но я все—таки рассказала Кире, в чем дело. Она очень удивилась, а потом сказала, что мама каждый день жалуется, что Валя ее заговаривает, и однажды даже лежала после его ухода с мокрой тряпкой на лбу и говорила, что больше не может слышать о гибридах чернобурых лисиц и что Кира сумасшедшая, если выйдет замуж за человека, который никому не дает открыть рта, а сам говорит и говорит, как какой—то громкоговоритель.
Она мигом собралась и поехала к Вале, — хотя я сказала, что на ее месте никогда бы первая не поехала, — и вечером они уже снова сидели в «собственно кухне» и шептались. Они решили попробовать все—таки устроиться на Сивцевом—Вражке.
Это был прекрасный вечер — лучший из тех, что я провела без Сани. Накануне я получила от него письмо — большое и очень хорошее, в котором он писал, между прочим, что много читает и стал заниматься английским языком. Я вспомнила, как он удивился, узнав, что я довольно свободно читаю по—английски, и как покраснел, когда при нем однажды заговорили о композиторе Шостаковиче и оказалось, что он прежде никогда даже не слышал этой фамилии. Вообще это было чудное письмо, от которого у меня стало весело и спокойно на душе. Тайком от «молодых» мы с Александрой Дмитриевной приготовили великолепный ужин с вином, и хотя любимый Валин салат с омарами мы посолили по очереди — сперва я, потом Александра Дмитриевна, — все—таки он был съеден в одну минуту, потому что оказалось, что Валя со вчерашнего дня не только не брился, но и ничего не ел.
Мы выпили за Санино здоровье, потом за его удачу во всех делах.
— В его больших делах, — сказал Валя, — потому что я уверен, что в его жизни будут большие дела.
Потом он рассказал, как в двадцать пятом году он работал в бюро юных натуралистов при Московском комитете комсомола, и как однажды уговорил Саню поехать на экскурсию в Серебряный Бор, и как Саня долго старался понять, почему это интересно, а потом вдруг стал говорить цитатами, и все поразились, какая у него необыкновенная память. Он процитировал:
Бороться, бороться, пока не покинет надежда, —
Что может быть в жизни прекрасней подобной игры?
и сказал, что ловить полевых мышей — это не его стихия.
Александре Дмитриевне хотелось тоже что—нибудь рассказать, и мы с Кирой боялись, что она опять заговорит о Варваре Рабинович. Но обошлось — она только прочитала нам несколько стихотворений и сказала, что у нее на стихи тоже необыкновенная память.
Так мы сидели и выпивали, и был уже двенадцатый час, когда кто—то позвонил, и Александра Дмитриевна, которая в эту минуту показывала нам, как нужно брать голос «в маску», сказала, что это дворник за мусором. Я побежала на кухню и так — с ведром в руке — и открыла дверь. Но это был не дворник. Это был Ромашов, который молча быстро отступил, когда я открыла дверь, и снял шляпу.
— У меня срочное дело, и оно касается вас, поэтому я решился придти так поздно.
Он сказал это очень серьезно, и я сразу поверила, что дело срочное и что оно касается меня. Я поверила, потому что он был совершенно спокоен.
— Пожалуйста, зайдите.
Мы так и стояли друг против друга — он со шляпой, а я с помойным ведром в руке. Потом я спохватилась и сунула ведро между дверей.
— Боюсь, это не совсем удобно, — вежливо сказал он: — у вас, кажется, гости?
— Нет.
— А можно здесь, на лестнице? Или спустимся вниз, на бульвар. Мне нужно сообщить вам…
— Одну минуту, — сказала я быстро.
Александра Дмитриевна звала меня. Я прикрыла дверь и пошла к ней навстречу.
— Кто там?
— Александра Дмитриевна, я сейчас вернусь, — сказала я быстро. — Или вот что… Пускай Валя через четверть часа спустится за мной. Я буду на бульваре.
Она еще говорила что—то, но я уже выбежала и захлопнула двери.
Вечер был прохладный, а я — в одном платье, и Ромашов на лестнице сказал: «Вы простудитесь». Должно быть, ему хотелось предложить мне свое пальто — и он даже снял его и нес на руке, а потом, когда мы сидели, положил на скамейку, — но не решился. Впрочем, мне было не холодно. У меня горело лицо от вина, и я волновалась. Я чувствовала, что этот приход неспроста.
На бульваре было тихо и пусто, только, опираясь на палки, сидели старики — по старику на скамейку — от памятника Гоголю до самого забора, за которым строили станцию «Дворец Советов».
— Катя, вот о чем я хотел сказать вам, — осторожно начал Ромашов. — Я знаю, как важно для вас, чтобы экспедиция состоялась. И для…
Он запнулся, потом продолжал легко:
— И для Сани. Я не думаю, что это фактически важно, то есть что это может что—то переменить в жизни, например, вашего дядюшки, которого это очень пугает. Но дело касается вас и поэтому не может быть для меня безразлично.
Он сказал это очень просто.
— Я пришел, чтобы предупредить вас.
— О чем?
— О том, что экспедиция не состоится.
— Неправда! Мне звонил Ч.
— Только что решили, что посылать не стоит, — спокойно возразил Ромашов.
— Кто решил? И откуда вы знаете?
Он отвернулся, потом взглянул на меня улыбаясь.
— Не знаю, как и сказать. Снова оказываюсь подлецом, как вы меня назвали.
— Как угодно.
Я боялась, что он встанет и уйдет — настолько он был спокоен и уверен в себе и не похож на прежнего Ромашова. Но он не ушел.
— Николай Антонович сказал мне, что заместитель начальника Главсевморпути доложил о проекте экспедиции и сам же и высказался против. Он считает, что не дело Главсевморпути заниматься розысками капитанов, исчезнувших более двадцати лет тому назад. Но, по—моему… — Ромашов запнулся: должно быть, ему стало жарко, потому что он снял шляпу и положил ее на колени, — это не его мнение.
— Чье же это мнение?
— Николая Антоновича, — быстро сказал Ромашов. — Он знаком с этим заместителем, и тот считает его великим знатоком истории Арктики. Впрочем, с кем же еще и посоветоваться о розысках капитана Татаринова, как не с Николаем Антоновичем? Ведь он снаряжал экспедицию и потом писал о ней. Он член Географического общества — и весьма почтенный.
Я была так взволнована, что не подумала в эту минуту ни о том, почему Николай Антонович так хлопочет, чтобы розыски провалились, ни о том, что же заставило Ромашова снова выдать его. Я была оскорблена — не только за отца, но и за Саню.
— Как его фамилия?
— Чья?
— Этого человека, который говорит, что не стоит разыскивать исчезнувших капитанов.
Ромашов назвал фамилию.
— С Николаем Антоновичем я, разумеется, не стану объясняться, — продолжала я, чувствуя, что у меня ноздри раздуваются, и стараюсь успокоиться. — Мы с ним объяснились раз навсегда. Но в Главсевморпути я кое—что расскажу о нем. У Сани не было времени, чтобы разделаться с ним, или он пожалел, не знаю… Да полно, правда ли это? — вдруг сказала я, взглянув на Ромашова и подумав, что ведь это же он, — он, который любит меня и, должно быть, только и мечтает, как бы вернее погубить Саню!
— Зачем я стану говорить неправду? — равнодушно возразил Ромашов. — Да вы узнаете! Вам тоже скажут… Конечно, нужно пойти туда и все объяснить. Но вы… не говорите, от кого вы об этом узнали. Или, впрочем, скажите, мне все равно, — надменно прибавил он, — только это может стать известно Николаю Антоновичу, и тогда мне не удастся больше обмануть его, как сегодня.
Николай Антонович был обманут ради меня — вот что он хотел сказать этой фразой. Он смотрел на меня и ждал.
— Я не просила вас никого обманывать, хотя, по—моему, нечего стыдиться, что вы решились (я чуть не сказала: «первый раз в жизни») поступить честно и помочь мне. Я не знаю, как вы теперь относитесь к Николаю Антоновичу.
— С презрением.
— Ладно, это ваше дело. — Я поднялась, потому что мне стало очень противно. — Во всяком случае, спасибо, Миша. И до свидания…
У Сивцева—Вражка я встретила всех троих: Александру Дмитриевну, Киру и Валю. Они бежали взволнованные, и Александра Дмитриевна говорила что—то: «Господи, да откуда же я знаю? Только сказала, что если я через десять минут не вернусь…»
Трамвай остановился как раз между нами, и, когда он прошел, все трое ринулись на бульвар с воинственным видом.
— Стоп!
— Да вот же она! Александра Дмитриевна! Она здесь! Катя, что случилось?
— А вино допили? — спросила я очень серьезно. — Если допили, нужно еще купить… Мне хочется еще раз выпить за Саню.
Глава 5. ЗДЕСЬ НАПИСАНО: «ШХУНА „СВ. МАРИЯ“.
Начальником Главсевморпути был в те годы известный полярный деятель, имя которого нетрудно найти на любой карте русской Арктики. Вероятно, попасть к нему было не так просто. Но Ч. позвонил, и я была принята в тот же день. Правда, пришлось подождать, но это было даже интересно, так как в приемной сидели моряки и летчики, только что вернувшиеся из Заполярья. Один был похож немного на Саню, я невольно несколько раз взглянула на него и прислушалась к тому, что он говорил. Но он, должно быть, понял меня иначе, потому что приосанился и глупо улыбнулся. Потом они ушли, и я еще долго сидела и сердилась на себя за тоску, которая нет—нет, да и подступала к сердцу…
Я очень хорошо помню свой разговор с начальником Главсевморпути, потому что в письме, которое в тот же вечер отправила Сане, повторила его слово в слово.
Сперва я волновалась и чувствовала, что бледна, но только что он спросил низким, вежливым голосом: «Чем могу служить?», как все мое волнение пропало. Потом оно вернулось, но это было уже другое, азартное волнение, от которого не помнишь себя и становится холодно и приятно.
— Летчик Григорьев представил вам проект поисковой экспедиции, — начала я, — и сперва было решено, что она состоится. Но вчера…
Он внимательно слушал меня. Он был так удивительно похож на свой портрет, тысячу раз печатавшийся в газетах и журналах, что у меня было странное чувство, как будто я разговариваю не с ним самим, а с его портретом.
— Нет, — возразил он, когда я спросила, думает ли и он, что не стоит заниматься розысками пропавших капитанов, — но мы внимательно взвесили все «за» и «против» и решили, что подобные поиски заранее обречены на неудачу. В самом деле: во—первых, места, указанные в проекте, более или менее изучены за последние годы, и, однако, до сих пор не было обнаружено никаких следов экспедиции «Святой Марии»; во—вторых, от Северной Земли до устья Пясины более тысячи километров, и организовать поиски на таком расстоянии — это очень сложная задача. Наконец — и это самое главное — у меня нет уверенности, что экспедицию вашего отца следует искать именно в этом районе.
— Нет никаких сомнений, что именно в этом, — возразила я энергично.
— Почему?
— Потому что… — Я вдруг забыла все доказательства, хотя еще в приемной повторила их еще раз и даже сосчитала на пальцах. — Потому что…
Он смотрел на меня и ждал. У него были совершенно светлые глаза, а борода черная, и он хладнокровно смотрел на меня и ждал. Это была страшная минута.
— Во—первых, это видно по дневникам штурмана, — сказала я немного дрожащим голосом. — Помните, он приводит слова отца: «Если безнадежные обстоятельства заставят меня покинуть корабль, я пойду к земле, которую мы открыли». Во—вторых… — И я вынула из портфеля фотографии, которые оставил мне Саня. — Вот взгляните… Здесь написано — «Шхуна „Святая Мария“. Этот багор найден на Таймыре.
— Положим. Но почему не допустить, что он принадлежал партии штурмана, который двумя месяцами раньше оставил шхуну?
— Потому что штурман… Где у вас карта? — спросила я, хотя огромная карта Арктики висела над письменным столом и я все время смотрела на нее, но, должно быть, не видела от волнения. — Он шел по дрейфующему льду и совсем в другом направлении. Можно? Я взяла указку и влезла на стул, потому что с полу мне было не достать до мыса Флора. — Вот как он шел. Он вернулся в Архангельск с экспедицией лейтенанта Седова. Но пойдем дальше, — продолжала я, чувствуя, что мне становится холодно и что я снова бледнею, но теперь уже от воодушевления. — Вы говорите, что от Северной Земли до устья Пясины — изученные места и странно, что до сих пор никто не наткнулся на следы экспедиции хотя бы случайно. А Русанов? Сколько лет прошло до тех пор, как были найдены остатки его снаряжения? И где же? В тех местах, куда ходили суда и тысячу раз бывали люди. А этот матрос Амундсена, которого нашли на Диксоне в трех километрах от станции?
Я тогда не знала, что могила этого матроса (его звали Тиссен) находится у портовой столовой и что каждый, кто после обеда отправляется на полярную станцию, проходит тот путь, который оставалось пройти Тиссену, то есть путь от жизни до смерти.
— Нет, дело не в том, что это изученные места, а в том, что отца никогда не искали. Вот его путь: от 79 градуса 35 минут широты между 86—м и 87—м меридианами к Русским островам, архипелагу Норденшельда. Потом, вероятно после долгих блужданий, от мыса Стерлегова к устью Пясины. Здесь старый ненец нашел лодку, поставленную на нарты. Потом к Енисею, потому что Енисей — это была единственная надежда встретить людей и помощь.
Я соскочила со стула. Он гладил бороду и смотрел на меня — кажется, с любопытством.
— Вы так уверены?
— Да. Не может быть иначе. Что же предлагает Григорьев? Ледокольный пароход «Пахтусов» направляется к Северной Земле для научных работ. Это гидрографическая экспедиция, верно?
— Да.
— Отлично. Дорогой он устраивает в нескольких местах базы для двух—трех поисковых партий. Григорьев считает, что нужны только две партии, по три человека в каждой. Мне кажется, что нужны три или моторный бот вместо третьей. Они пойдут мористой стороной прибрежных островов, а «Пахтусов» тем временем будет работать где—нибудь поблизости, так что от него можно будет почти не отрываться.
Я остановилась, потому что начальник Главсевморпути засмеялся и встал. Он обошел стол и сел рядом со мною.
— Да вы настоящая дочка капитана Татаринова, — весело сказал он. — Географ?
— Геолог.
— На котором курсе?
Я отвечала, что давно уже окончила университет и уже два года, как работаю в Башкирском геологическом управлении.
— У вас есть сестры, братья?
— Нет, я одна.
— А мать?
— Умерла.
Он деликатно помолчал некоторое время, потом вернулся к Саниному проекту.
— Конечно, все это далеко не так просто, — задумчиво сказал он. — Но не невозможно… Моторный бот тут, конечно, ни при чем. А вот Григорьева, очевидно, придется вызвать. Где он?
— В Заполярье.
У меня сердце стало биться и биться, и зачем—то я еще раз сказала:
— В Заполярье.
Он лукаво посмотрел на меня.
— Вот возьмем и вызовем, — с детским удовольствием повторил он, и я поняла, что Ч. рассказал ему обо мне и Сане. — Как вы полагаете, ведь он же нам тут необходим для решения этого вопроса?
— Мне кажется, да, — сказала я смело.
— Ну вот. Я был очень рад, — серьезно сказал он, вставая, — познакомиться с вами. Состоится ли экспедиция или нет, но это превосходно, что вы пришли ко мне и так энергично, горячо говорили.
Глава 6. У БАБУШКИ.
Я уже писала о том, что бабушка приходила ко мне каждый вечер. Она приходила надутая, важная и гордо разговаривала с Кириной мамой. Ей не нравилось, что я «живу у чужих людей», а дома — «чудная комната», и она боялась какой—то Доры Абрамовны, которая уже два раза «забегала и нюхала».
— Уже и старость моя стала, — однажды сказала она мне со слезами, — а в таком одиночестве я еще не жила.
Но вот однажды бабушка не пришла, а наутро позвонила и сказала, что у нее что—то стало с сердцем. Она рассердилась, когда я спросила, дома ли Николай Антонович.
— Глупый вопрос, — сказала она строго. — А где же ему быть? Как ты, что ли? Хатки считать?
Потом она сказала, что он ушел, и я живо собралась и поехала к ней.
Она лежала на диване, покрывшись своею старенькой зеленой шубкой. Лавровишневые капли стояли на столике подле дивана — единственное лекарство, которое она признавала, и она только махнула рукой, когда я спросила о ее здоровье.
— Чуть что, поклоны бьет, — сказала она сердито. — Сейчас видно, что в монашках жила. Религиозная. А я ее спрашиваю: «Тогда зачем служить?» И прогнала.
Она прогнала домработницу, и это было очень плохо, потому что домработница была, хотя религиозная, но хорошая, и прежде бабушке даже нравилось, что она когда—то жила в монашках.
— Бабушка, что же ты наделала? — сказала я. — Осталась больная и совершенно одна! Теперь я тебя к себе заберу.
— Не поеду. Вот еще!
Она наотрез отказалась раздеться и лечь в постель и сказала, что это — не сердце, а просто она вчера не готовила, а поела редьки с постным маслом, и это у нее — от редьки.
— Если ты не ляжешь, я сейчас же уйду.
— О! Напугала.
Однако она разделась, кряхтя легла в постель и вдруг уснула…
В маминой комнате всегда был почему—то сквозняк, когда открывали окна, и я, чтобы проветрить, открыла дверь в коридор. Потом зашла к себе, и как же неуютна и пуста показалась мне комната, в которой я прожила столько лет! Все стало даже лучше в ней после моего отъезда. Кровать была покрыта бабушкиным старинным кружевным покрывалом, занавески белые—пребелые и даже топорщились от крахмала, все чисто прибрано, и том энциклопедии, который я зачем—то читала перед отъездом, остался открытым на той же странице. Меня здесь ждали…
На окне, среди старых школьных учебников, я нашла тетрадку с цитатами из любимых книг: «Странная вещь сердце человеческое вообще, а женское в особенности. Лермонтов».
Это были чудные, смешные цитаты, и я прочитала их от первой до последней страницы. Как во сне — я была в гостях у какой—то знакомой девочки, которая так прекрасно думала обо всем и которой весь мир представлялся таким великолепным.
«Мир — театр, люди — актеры.
Шекспир».Мне показалось, что кто—то метнулся по коридору, когда с этой тетрадкой в руках я вышла из комнаты.
Конечно, мне не пришло в голову, что это моя больная бабушка бегала по коридору в своей зеленой бархатной шубке, но кто—то бегал — и именно в зеленой шубке. И все—таки бабушка, потому что когда я вернулась, она, хотя по—прежнему лежала в постели, но видно было, что только что бухнулась и даже не успела покрыться.
Это было очень смешно — так старательно она притворялась, даже зажмурила глаза, чтобы показать, что она все время спала и вовсе не думала бегать по коридору. Конечно, она подглядывала за мною — а вдруг мне захочется домой?
— Бабушка, а доктор был? — спросила я, когда она, наконец, открыла глаза и фальшиво громко зевнула.
Не был. Не хочет она доктора. Она знает, что это от редьки.
— А по телефону сказала, что сердце.
— И сердце от редьки.
— Что за глупости! Я сейчас же позову.
Но бабушка вспылила и сказала, что если я позову доктора, она сейчас же оденется и уйдет к Марии Никитичне — так звали соседку.
И прежде нужно было скандалить, чтобы позвать к бабушке доктора, поэтому я не стала настаивать, — тем более, что бабушке с каждой минутой становилось все легче. Наконец ей стало совсем хорошо, потому что она вдруг с ужасом понюхала воздух и, сказав: «Подгорел!..», накинула салоп и побежала в кухню.
Подгорел — не очень — пирог с мясом, который в чудо—печке стоял на керосинке, издавая великолепный запах, и бабушка объявила, что ей опять станет хуже, если я не попробую этого пирога.
Все это было совершенно в бабушкином духе — эти хитрости и в особенности мой любимый пирог с мясом, на который она не пожалела масла. Пирог должен был окончательно убедить меня в преимуществе своего дома перед «чужим». Но я съела два куска, потом поцеловала бабушку и сказала только, что очень вкусно.
Пока о Николае Антоновиче не было сказано ни слова. Но вот бабушка сделала равнодушное лицо, и я поняла, что сейчас начнется. Однако бабушка начала издалека.
— От Олечки с Ларой письмо получила, — сказала она строго. — Пишут «не входи, не входи в хозяйство», что это мне теперь тяжело.
Олечка и Лара — это были мои старенькие тетки Бубенчиковы, которые жили в Энске.
— А как мне не входить, когда ей замечанье делаешь, а она молчит. Еще делаешь — молчит. Из себя выходишь — молчит. Она по плану попа жила, — немного оживившись, сказала бабушка: — своим ничего, а все попам. Истеричка. Поп ей пишет: «Молчи, терпи и плачь». А она и рада. В гардероб гвозди набила, иконы навешала и все тихо так: «Слушаю». Я этаких ненавижу.
— Да уж теперь прогнала, бабушка, так что и говорить.
Бабушка помолчала.
— Весь дом сокрушился, — снова сказала она со вздохом. — Ты отступилась, и он—то, что же? Ему теперь тоже все равно стало, есть ли что, нет ли. Когда поест, когда нет.
«Он» — это был Николай Антонович.
— И пишет, пишет, — продолжала бабушка, — день и ночь, день и ночь. Как с утра чаю попьет, так сейчас же в мою шаль закутается — я за стол. И говорит: «Это, Нина Капитоновна, будет труд всей моей жизни. Виноват ли я, нет ли, пусть теперь об этом судят друзья и враги». А сам худой стал. Забывается, — шепотом сказала бабушка, — на днях в шапке к столу пришел. Наверное, с ума сойдет.
В эту минуту входная дверь негромко хлопнула, кто—то вошел в переднюю и остановился. Я посмотрела на бабушку, она испуганно отвела глаза, и я поняла, что это Николай Антонович.
— Ну, бабушка, мне пора.
— Нет, не пора. И пирог не доела.
Он вошел, слабо постучав и не дождавшись ответа.
Я обернулась, кивнула — и мне даже самой стало весело, так я равнодушно, смело кивнула.
— Как дела, Катюша?
— Ничего, спасибо.
Очень странно, но для меня он был теперь просто каким—то бледным, старым человеком, с короткими руками, с толстыми пальцам, которыми он неприятно нервно шевелил и все закладывал куда—то: за воротничок или в карманы жилетки, точно прятал. Он стал похож на старого актера. Когда—то я его знала — сто лет назад. А теперь мне было все равно, что он так бледен, и что у него такая жалкая, похудевшая шея, и что у него задрожали руки, когда он протянул их, чтобы подвинуть кресло
Первая неловкая минута прошла, он шутливо спросил что—то насчет моей карты, не спутала ли я Зильмердагскую свиту с Ашинской — еще в университете был со мной такой случай, — и я снова стала прощаться.
— До свиданья, бабушка.
— Я могу уйти, — негромко сказал Николай Антонович.
Он сидел в кресле, согнувшись и внимательно глядя на меня с простым, добродушным выражением. Таким он был, когда мы иной раз подолгу разговаривали — после маминой смерти. Но теперь это было для меня только далеким воспоминанием.
— Если ты торопишься, мы поговорим в другой раз.
— Бабушка, честное слово, меня ждут, — сказала я бабушке, которая крепко держала меня за рукав.
— Нет, не ждут. Как это так? Он тебе дядя.
— Полно, Нина Капитоновна, — добродушно сказал Николай Антонович, — не все ли равно — дядя я или не дядя. Очевидно, ты не хочешь выслушать меня, Катюша?
— Нет.
— Фанатичная, — с ненавистью сказала бабушка.
Я засмеялась.
— Я не могу говорить с тобой ни о том, как мне было тяжело, когда ты ушла, даже не простившись со мной, — торопливо, но тем же простым, добродушным голосом продолжал Николай Антонович, — ни о том, что вы оба были введены в заблуждение, поверив несчастному больному старику, лишь недавно выпущенному из психиатрической больницы.
Он посмотрел на меня поверх очков. Из психиатрической больницы! Это была новая ложь. Или не ложь — это теперь было для меня безразлично. Только одна мысль слабо кольнула меня — что это коснется Сани или будет ему неприятно.
— Боже мой! Чего только не вообразила эта бедная запутанная голова! И что я разорил его при помощи каких—то векселей, и что нарочно так плохо снарядил экспедицию — почему, как ты думаешь? Потому, что хотел погубить Ивана!
Николай Антонович от души рассмеялся.
— Из ревности! Боже мой! Я любил твою мать и из ревности хотел погубить Ивана.
Он снова засмеялся, но вдруг снял очки и стал вытирать слезы.
— Да, я любил ее, — плача, пробормотал он, — и, видит бог, все могло быть совсем иначе. Если бы я и был виноват, кто, как не она, меня наказала? Уж так наказала, как и не думалось никогда.
Я слушала его, как во сне, когда начинает казаться, что все это уже было когда—то — и покрасневшая лысая голова с несколькими волосками, и те же слова с тем же выражением, и неприятное чувство, с которым смотришь на старого плачущего мужчину.
— Ну? — грозно спросила бабушка.
— Бабушка, превосходный пирог, отрежьте—ка еще кусочек, — сказала я весело. — Я вас слушаю, Николай Антонович.
— Катя, Катя!
— Товарищи, знаете что, — сказала я, чувствуя, что мне становится даже как—то весело от злости. — В конце концов, я уже не маленькая — мне двадцать четыре года, и я могу, кажется, делать все, что мне нравится. Я больше не хочу здесь жить, понятно? Я выхожу замуж. Вероятнее всего, я буду жить на Крайнем Севере с моим мужем, которому здесь делать нечего, потому что он — полярный летчик. Что касается Николая Антоновича, то я уже много раз видела, как он плачет, и мне это надоело. Могу только сказать, что если бы он не был виноват, едва ли он стал бы возиться с этой историей всю жизнь. Едва ли, например, он стал бы хлопотать в Главсевморпути, чтобы Санина экспедиция провалилась.
Очевидно, в эту минуту мне было уже не так весело, как прежде, потому что бабушка испуганно смотрела на меня и, кажется, потихоньку крестилась. У Николая Антоновича дрожала на щеке жилка. Он молчал.
— И оставьте меня в покое, — сказала я с бешенством, — навсегда, навсегда!
Глава 7. ЗИМА.
В ноябре я получила комнату в одном из пригородов, на берегу Москвы—реки, и сразу же переехала, хотя Валя с Кирой в один голос заявили, что без меня из семейной жизни у них ничего не выйдет, а Александра Дмитриевна добавила, отведя меня в сторону, что теперь и она уйдет, потому что я была «все—таки каким—то громоотводом для чернобурых лисиц» и без меня Валя заговорит ее до смерти.
Комната была в новом доме, и нельзя сказать, чтобы этот пятиэтажный дом, одиноко торчавший на пустом берегу, имел особенно привлекательный вид. Рабочие только что ушли — и даже еще не ушли, а возились во дворе, убирая строительный мусор; ванны еще стояли на лестнице, здесь и там еще висели забытые ведра с краской.
Теперь до пригорода В. можно добраться в десять минут на метро, а тогда нужно было добрый час тащиться на трамвае. Теперь В. — та же Москва, а тогда это было скучное место, и наш неуклюжий одинокий дом, который так и хотелось огородить, выглядел очень странно рядом с дряхлыми дачами, украшенными столбиками, перильцами и резными петушками.
Но не только домом — и комнатой своей я не могла похвалиться. У нее было только одно достоинство — прекрасный вид на Москву—реку, которая и зимой была хороша, особенно под вечер, когда сумеречный рассеянный свет приходил откуда—то издалека и под сугробами появлялись чистые овальные тени. И мне представлялся маленький портовый городок за Полярным кругом, где по деревянным улицам ходят в упряжке олени. «Но рядом с оленями, — писал Сеня, — бегут вперегонки лесовозы и автомобили, лошади и ездовые собаки, и таким образом перед глазами проходит вся история человечества, начиная с родового строя и кончал социалистической культурой. Сейчас строим новый город, везде срубы и срубы, улицы засыпаны щепкой, и управление аэропорта переехало в новый великолепный трехэтажный дом с „холлом“ — по вечерам мы сидим в этом „холле“ и читаем Вольтера. Интересно, что этот „современный“ автор стал у нас уже так популярен, что цитаты из его произведений украшают стенные газеты. Я думаю о тебе так много, что мне даже странно, откуда берется время на все остальное! Это потому, что все остальное — это тоже каким—то образом ты, особенно в полете, когда думаешь что—нибудь или поешь и снова думаешь — все о тебе…»
В ту зиму у меня было довольно трудно с деньгами, потому что мне присылали деньги из Уфы, где находилось Башкирское геологическое управление, и часто задерживали. Время от времени приходилось посылать ругательные телеграммы. Кроме того, мне негде было обедать, а готовить себе я ленилась. Словом, я совершенно одичала и однажды, примерив свое шелковое парадное платье, села и стала плакать от злости.
Первый раз за всю зиму я собралась в театр — к Вахтангову, на премьеру «Человеческой комедии», — и оказалось, что у меня старомодное платье с какими—то хвостами, которых уже сто лет как никто не носит. Потом мы с Кирой что—то сделали с платьем — подкололи, подшили. Но вечер был испорчен.
Это была одинокая зима в В. — такая одинокая, что едва ли не самым частым моим гостем был Ромашов. Теперь трудно было представить себе, что это тот самый Ромашов, который говорил, что убьет меня и себя. Он приезжал вежливый, спокойный, всегда прекрасно, даже франтовато одетый и говорил со мной ровным голосом, вероятно, тем самым голосом, которым он читал лекции у себя в институте…
Однажды он приехал очень усталый и голодный. Я сказала:
— Миша, хотите чаю?
Он сухо поблагодарил и отказался. Очевидно, он хотел показать, что не стремится к другим отношениям, кроме деловых, а деловые — это была экспедиция и все, что к ней относилось.
Почему он занимался ею? Конечно, потому, что дело касалось меня и, следовательно, «не могло быть для него безразлично». Но здесь была и гордость — он как бы хотел показать, что я нисколько не обидела его своим отказом. И был, без сомнения, план, — вероятно, все тот же: жениться на мне с помощью каких—то тупых и сложных интриг. В нем самом было что—то тупое и одновременно сложное — в этой важности и в самом застывшем лице с детскими оттопыренными ушами. Но вдруг мелькало и что—то страшное. Недаром Иван Павлович как—то сказал, что это очень сложный человек, во всяком случае — способный на сильное движение души.
Но мне до его души было мало дела. Разумеется, я не писала Сане, что он у меня бывает. Саня сошел бы с ума — тем более, что у меня почему—то всегда получаются сухие, холодные письма…
Вдруг оказалось, что в Главсевморпути далеко не уверены в том, что поиски следует поручить именно Сане. Он еще молод, и, хотя у него большой стаж, на Севере он работал еще сравнительно мало. Он известен как хороший, исполнительный пилот, но справится ли он с таким сложным делом, требующим организационного дарования? Вообще, что он за человек — помнится, в каком—то журнале его ругали за клевету, он кого—то оклеветал, кажется Н.А.Татаринова, известного полярного деятеля и двоюродного брата капитана.
И я требовала, чтобы редакция журнала напечатала опровержение, я доказывала, что организация поисковой партии, состоящей из шести человек, не такое уж сложное дело, я требовала, чтобы поиски капитана Татаринова были поручены тому, кто с детских лет был воодушевлен этой мыслью, и никому другому.
Ромашов знал об этих хлопотах. О чем он думал, на что надеялся — я не спрашивала, и он не начинал разговора. Но был день, когда я догадалась о многом.
У меня не было никакого сомнения в том, что если экспедиция состоится, я поеду на Северную Землю вместе с Саней. Я написала об этом начальнику Главсевморпути и предложила свои услуги как геолог. Вскоре пришел ответ из сектора кадров и, к сожалению, совсем не тот, которого я ожидала: мне предлагали работу на одной из полярных станций — по моему выбору — и просили явиться в Главсевморпуть для переговоров.
В этот день я поздно вернулась домой — как всегда, когда попадала в «город», — и на лестнице вспомнила с досадой, что забыла запереть дверь. Между тем кто—то расхаживал у меня в комнате — без сомнения, воры. Но это были не воры. Это был Ромашов, который остановился, когда я вошла, и я сразу увидела, что он очень расстроен.
— Я прочитал это письмо, — сказал он, не здороваясь. — Вы хотите ехать в экспедицию, вот что!
Я посмотрела на него и невольно вспомнила, что в школе его дразнили «совой». У него были совершенно круглые глаза, и в эту минуту он был удивительно похож на сову. Но это была довольно большая сова, которая крикнула: «Вот что!» и с трудом перевела дыхание.
— А зачем вы читаете чужие письма? — спросила я довольно миролюбиво.
— Это не полагается, Миша.
— Вы скрываете от меня! А сами за моей спиной хлопочете чтобы уехать!
— Миша, что вы, в уме? Не хватает еще, чтобы я у вас спросилась!
Он вдруг как—то странно всхлипнул — не то засмеялся, не то заплакал.
— Я сам, — высоким голосом сказал он, — если вы хотите, сделаю это. Хорошо, вы поедете!
Я промолчала. Мне почему—то не хотелось его обижать.
— Почему вы молчите?
— Потому, что не намерена отвечать на ваш вздор
— Катя, Катя!
— Послушайте, — сказала я спокойно, — вам нужно, знаете что? Отдохнуть. Вы устали. С чего вы взяли, что я останусь в Москве?
— Да, вы останетесь.
Я хотела засмеяться, но он шагнул ко мне, и у него стало такое лицо, что, кажется, еще секунда, и он бы меня ударил.
— Ну, вот что, дорогой мой, — сказала я все еще спокойно, но уже не так, как бы мне хотелось, — где ваше пальто и шляпа?
— Катя! — снова с отчаянием пробормотал он.
— Вот вам и «Катя». Я знаю, на что вы рассчитываете, даже если бы я и осталась. Вы, вероятно, совсем сошли с ума, но это меня мало интересует. Ну—с?
Он молча надел пальто, шляпу и вышел.
Осенью 1935 года экспедиция была, наконец, решена. Известный полярник профессор В. выступил со статьей, в которой высказывал убеждение, что, судя по дневникам штурмана Климова, «материалы экспедиции Татаринова, если бы их удалось найти, могли бы иметь значение и для современного изучения Арктики». Даже мне эта мысль показалась слишком смелой. Но неожиданно она подтвердилась — и именно это обстоятельство сыграло самую большую роль в признании Саниного проекта. Дело в том, что, изучив карту дрейфа «Св. Марии» с октября 1912 по апрель 1914 года, профессор В. высказал предположение, что на широте 78(02'и долготе 64( должна находиться еще неизвестная земля. И вот эта гипотетическая земля, которую В. открыл, сидя в своем кабинете, была обнаружена во время навигации 1935 года. Правда, это оказалась не бог весть какая земля, а всего только клочок арктической суши, затерянной среди ползучих льдов и представлявшей собою крайне унылую картину, но, как бы то ни было, еще одно «белое пятно» было стерто с карты Советской Арктики, и это было сделано с помощью карты дрейфа «Св. Марии».
Не знаю, нужны ли были новые доводы в пользу Саниного проекта, но, так или иначе, «поисковая партия при высокоширотной экспедиции по изучению Северной Земли» была включена в план навигации следующего года. Весной Саня должен был приехать в Ленинград, и мы условились встретиться в Ленинграде, где я еще никогда не была.
Глава 8. ЛЕНИНГРАД.
О чем только не передумала, чего только не вообразила я в это утро 10 мая 1936 года, подъезжая к Ленинграду, где на другой день должна была встретиться с Саней! Вагон дребезжал и скрипел, должно быть попался старый, но я прекрасно, спокойно спала всю ночь, а проснувшись, стала мечтать и мечтать. И как же хорошо было мне мечтать, точно за тысячу километров слыша однообразный железный шум колес и сонное дыхание соседей! Как прекрасно я устраивала в своей жизни и то, что могло и то, чего не могло быть! Мне казалось, что все могло быть — и даже то, что мой отец жив и мы найдем его и вернемся вместе. Это было невозможно, но у меня было так просторно и тихо на душе, что я допустила и это. Я как бы приказала в душе, чтобы мы нашли его, — и вот он стоит, седой, прямой, и нужно, чтобы он уснул, а то он сойдет с ума от волнения и счастья.
Вагон раскачивался и скрипел, и это было как бы равномерная громкая музыка, которая все начиналась и начиналась. Я все ждала — что же дальше? — а она снова начиналась. Что еще придумать, что приказать себе — самое прекрасное, самое чудесное в жизни? И я придумала, что мы возвращаемся и нас встречают, как встречали героев—летчиков, спасших челюскинцев в 1933 году, когда эти люди, которых любили все и о которых все говорили, ехали в машинах, покрытых цветами, и вся Москва была белая от цветов и листовок и белых платьев, в которых женщины встречали героев. Но этого я хотела не для себя, а для Сани и для отца, если только допустить самое невозможное, что нельзя, допустить иначе, как только теперь, в полусне, в вагоне, под эту равномерную, монотонную музыку колес, которая все начиналась…
Тогда «стрела» приходила в Ленинград в 10.20, и соседи давно уже курили в коридоре, должно быть, ждали, когда я оденусь и выйду, а я все лежала. Я точно боялась, что долго теперь ко мне не вернется это чудное, детское состояние души.
Мы условились, что Санина сестра (которую я, в отличие от моего Сани, и в письмах всегда называла Сашей) встретит меня на вокзале «или Петя, — писала она, — если я буду нездорова». Она не раз мельком упоминала о своем нездоровье, но письма были такие веселые, с рисунками, что я не придавала этим упоминаниям никакого значения. Впрочем, я подозревала, в чем дело. В одном из писем Петя был изображен с книгою в одной руке и а младенцем — в другой, причем, как ни странно, они были похожи.
Все уже стояли в шляпах и пальто, и соседи помогли мне снять с полки мой чемодан — довольно тяжелый, потому что я взяла все, что у меня было, и даже несколько интересных образцов горных пород, точно предчувствовала, что теперь долго не вернусь в Москву. Я волновалась — Ленинград! Между голов вдруг стал виден перрон, и я сразу начала искать Сковородниковых, но перрон пробегал, а их не было, и я вспомнила с досадой, что не телеграфировала им номер вагона.
Носильщик вытащил мой чемодан, и мы с ним стояли, пока все не прошли, а Сковородниковых все не было.
— Может, у подъезда? — сказал носильщик.
Мы вышли к подъезду, и я простояла еще с добрых полчаса и, наконец, решила, что это свинство. Так приглашать к себе, а потом даже не встретить! И зная, что я в первый раз в Ленинграде.
Одну минуту я колебалась, не заехать ли в гостиницу, но немного беспокоилась, потому что это все—таки было странно, и поэтому поехала к Сковородниковым.
В сущности говоря, я их почти не знала. Мы познакомились с Сашей в Энске много лет тому назад и с тех пор виделись едва ли три—четыре раза. Но мы регулярно переписывались, и больше всего в те тяжелые годы, когда я была так одинока в Москве после маминой смерти. Она пересказывала мне Санины письма и всегда уверяла, что он любит меня, даже когда он забыл обо мне — в Балашове, а потом в Заполярье.
Она была моим другом, и я нисколько не сомневалась, что теперь, когда мы увидимся, так и окажется, что она — мой друг, тем более, что она была сестрой Сани.
С Петей я тоже встречалась очень мало. В Энске это был длинный, лохматый молодой человек, который всегда делал что—нибудь неожиданное — неожиданно приходил в гости, когда его никто не ждал, и так же неожиданно срывался с места и уходил. Несколько раз он приезжал в Москву с одним из ленинградских театров и всегда заходил ко мне — такой же быстрый, лохматый и «неожиданный», разве что стал немного постарше.
В одном из писем Саша подробно рассказывала и даже рисовала, как с вокзала проехать к ним, на проспект Карла Либкнехта, где они жили. Но я все перепутала и, выйдя на Невский, спросила у какого—то вежливого ленинградца в пенсне:
— Скажите, пожалуйста, как пройти на Невский проспект?
Это был позор, о котором я даже никому не сказала.
Потом меня зажали в трамвае, и единственное, что я успела заметить, это что в сравнении с Москвой улицы были пустоваты. Пустовата была и та, по которой, сойдя с трамвая, я тащилась с моим чемоданом. А вот и номер 79. «Фотограф—художник Беренштейн».
Здесь.
Я стояла на площадке третьего этажа, потирая пальцы, онемевшие от проклятого чемодана, когда внизу хлопнула дверь и длинный человек в макинтоше, с кепкой в руке промчался мимо меня, прыгая через ступеньку.
— Петя, это вы?
Должно быть, он был в эту пору необыкновенно далек от какой бы то ни было мысли обо мне, потому что он остановился, взглянул и, не найдя во мне ничего интересного, сделал движение, чтобы бежать дальше. Но какое—то смутное воспоминание все же остановило его.
— Не узнаете?
— Ну, что вы, конечно узнаю! Катя, я бегу из больницы, — с отчаянием сказал он, — сегодня ночью Сашу взяли в больницу.
— Да что вы?
— Да, взяли. Пойдемте к нам. Поэтому мы не могли вас встретить.
— Что же с ней?
— Разве она вам не писала?
— Нет.
— Ну, пойдемте, я вам все расскажу…
Очевидно, семейство фотографа—художника Беренштейна принимало близкое участие в делах Саши и Пети, потому что маленькая, изящно одетая женщина встретила Петю в передней и с волнением спросила:
— Ну, что?
Он отвечал, что ничего не знает и что его не пустили, но в эту минуту выбежала еще одна такая же маленькая, изящная женщина и тоже спросила с волнением:
— Ну, что?
И Петя ей тоже должен был подробно рассказать, что он ничего не знает и что его не пустили.
Саша ждала дочку или сына — вот почему ее увезли в больницу.
— Петя, что же вы так волнуетесь? Я уверена, что все будет прекрасно.
Мы были одни в его комнате, и он сидел напротив меня в кресле, опустив голову, подняв худые плечи. У него был очень унылый, расстроенный вид, и он болезненно сжал зубы, когда я сказала, что все будет прекрасно.
— Вы не знаете… Она очень больна, у нее грипп, и она кашляет. Она тоже говорила, что все будет прекрасно.
Он вскочил.
— Нужно поехать к Габричевскому. Я уже звонил, но он говорит, что ему неудобно, потому что Саша в другой больнице, а он в другой. Саша у Шредера.
Я поняла, что Габричевский — это врач, лечащий Сашу.
— Нет, поедем сперва к ней. Подумаешь, грипп! Я уверена, что все обойдется.
Он растерянно смотрел на меня.
— Да ну же, Петя, очнитесь! — сказала я с досадой.
Я ругала его всю дорогу, и он постепенно пришел в себя и даже неожиданно засмеялся, когда я нарисовала ему торжественную картину, как Саша возвращается домой с дочкой или сыном.
— Вы, конечно, — хотите сына?
— Ох, хоть лягушку, только бы все кончилось поскорее!
Не знаю, что это за клиника — Петя сказал, что очень хорошая, — но мне показалось странным, что в ней не было никакой приемной и все просто стояли внизу в подъезде, отгороженном от лестницы деревянным барьером. Несколько таких же, как Петя, расстроенных молодых отцов сидели на скамейках или уныло слонялись, наталкиваясь друг на друга. Петя тоже сел было на скамейку, но я потащила его наверх, и какая—то милая сестра сказала нам, что профессора нужно ловить в коридоре, когда он кончит обход и пойдет в другое отделение.
Мы словили его наконец, и он только зажмурился и засмеялся, когда Петя набросился на него, подпрыгивая от волнения.
Он провел нас к себе в кабинет, и стыдно признаться, но за полчаса, что мы разговаривали, я просто влюбилась в этого человека. У него были добрые голубые глаза, и он крепко держал Петю за руку, объясняя, чего нужно опасаться и чего не нужно. Он удивительно располагал к себе. Нельзя сказать, чтобы он говорил такие уж успокоительные вещи, но мы почему—то успокоились. Вообще профессор был почти уверен, что все кончится благополучно, «хотя грипп в таком положении — это, конечно, совсем лишняя штука». Про Сашу он сказал, что она — такой молодец, что ему редко приходилось видеть.
В прекрасном настроении мы вернулись домой, и тут Петя вспомнил, что я — с поезда, а он даже не напоил меня чаем. Двери захлопали, и я слышала, как кто—то сказал в коридоре:
— Петя, да полно вам, у нас еще горячий чайник.
Но он вернулся без чайника, взял из ящика стола деньги и снова ушел, хотя я клялась, что у меня все осталось с дороги и ничего не нужно…
Это была комната, в которой жили художники, — вот что бросалось в глаза с первого взгляда. Видно было даже, что здесь жили два художника и что им вдвоем было тесно. Пожалуй, можно было угадать, где работает один и где другой и где проходила зона, в которой они мешали друг другу.
Вот этот стол у окна, белый, красивый, хотя и очень простой, переделанный из чертежного, — без сомнения, Сашин. А вот этот грязный, на котором стоит макет и валяются в беспорядке карандаши, кисти и трубки бумаги, — без сомнения, Петин.
Жизнь совсем другая, удивительно не похожая на мою, была видна во всем, и я вдруг почувствовала, что жила в Москве, особенно последнее время, однообразно и скучно. Но это были люди искусства, таланта, а у меня не было никакого таланта, и я, конечно, совершенно напрасно расстроилась и напрасно думала об этом, пока не пришел Петя.
Он извинился, что не прибрано, — Сашу так неожиданно увезли, и мне стало стыдно, что, вместо того чтобы прибрать комнату, я стояла у окна, как дура…
— Ох, какой я голодный! Оказывается, я страшно голодный!
И мы сели пить чай и разговаривать о Саше.
Совсем забыла сказать, что, уходя из клиники, мы сговорились с одной сиделкой, что она будет звонить каждый час, как себя чувствует Саша. При этом Петя отдал ей все, что у него было, — должно быть, порядочно, потому что у нее сделалось испуганное лицо и она стала совать деньги обратно. Теперь она позвонила — в два часа дня — и сказала, что все идет нормально.
— Нормально? — кричал Петя.
— Нормально.
— А как себя чувствует?
— Нормально.
Через час она снова позвонила и опять сказала, что — нормально.
— Покряхтывает маленько, — добавила она подумав.
И я слышала, как тот же голос, который недавно предлагал Пете горячий чайник, сказал с негодованием:
— Петя, не сходите с ума. Что значит — покряхтывает? А вы бы, думаете, не кряхтели?
Так продолжалось весь день. К вечеру я робко сказала, что хорошо бы пройтись, посмотреть Ленинград, но у него стало такое расстроенное, испуганное лицо, что я осталась.
— Я буду вас развлекать, ладно?
И он стал показывать мне свою последнюю работу — проект памятника Пушкину к столетнему юбилею. Пушкин был изображен шагающим по набережной Невы, против ветра, в развевающейся шинели, с упрямым, вдохновенным лицом. Это был молодой, романтический Пушкин, похожий на негра, погруженный в себя и втайне веселый.
— Нравится?
— Очень. А я и не знала, что вы занялись скульптурой.
Он стал объяснять, почему он занялся скульптурой, потом неожиданно перешел к шахматному турниру в Москве с участием Ласкера и Капабланки, потом — к международному положению. При этом он все время прислушивался, не звонит ли телефон, и во всем, что он говорил — будь то итало—абиссинская война, — была только Саша и Саша…
В восемь часов сиделка почему—то не позволила, и мы опять побежали в клинику и снова говорили — на этот раз с той милой сестрой, которая посоветовала нам ловить профессора после обхода. В общем, все было хорошо, а сиделка не позвонила, потому что ей, оказывается, совестно было так часто беспокоить.
Мы вернулись, и Петя стал знакомить меня с семейством фотографа—художника, с его маленькой, изящной седой супругой и с такой же маленькой, изящной седой сестрой супруги. Сам хозяин почему—то жил постоянно в Москве, но мне показали его портрет, и он оказался представительным мужчиной с красивой шевелюрой и в бархатной куртке — настоящий фотограф—художник и даже, пожалуй, больше художник, чем фотограф.
Во втором часу меня отправили спать на Сашину постель, а Петя сказал, что ему не хочется спать, и устроился с книгой под телефоном. Сиделка звонила теперь аккуратно, но каждый раз извинялась за беспокойство. Я уснула после одного из таких разговоров, но спала, кажется, только одну минуту, когда кто—то быстро, коротко постучал в стену, и я вскочила, не понимая, где я и что со мной. В коридоре был свет, и оттуда слышались голоса, как будто несколько человек громко говорили, перебивая друг друга. В ту же минуту Петя, со сна показавшийся мне каким—то длинным уродом, вбежал в комнату и затанцевал, затанцевал…
Потом перегнулся через стол и стал что—то снимать со стены.
— Петя, куда вы? Что случилось?
— Мальчик! — заорал он. — Мальчик!
Все летело на пол, потому что он снимал со стены какой—то большой портрет в тяжелой раме и сперва стал на колени, а теперь ходил по столу и старался залезть между стеной и портретом.
— А Саша? Как Саша? Вы сошли с ума! Зачем вы снимаете эту картину?
— Я обещал подарить ее Розалии Наумовне, если все обойдется.
Он слез со стола, поцеловал меня и заплакал.
Глава 9. ВСТРЕЧА.
Все обошлось в тысячу раз лучше, чем можно было ожидать, и наутро мы уже послали Саше письмо, конфеты и корзину цветов — самую большую, какая только нашлась в магазине. Когда мы передавали все это, служитель сказал: «Ого!», и дежурная сестра тоже сказала: «Ого!»
Все обошлось, но профессор, в которого я накануне влюбилась, был, кажется, чем—то недоволен. Впрочем, может быть, это мне показалось. Почему—то Сашу долго не переводили в палату, но, в конце концов, перевели еще при нас. Мы подослали к ней сиделку, ту самую, что звонила, и она принесла от Саши записочку.
«Петенька очень похож на тебя, такой же носатый. Разве я не говорила, что все будет прекрасно? Катя, дорогая, целую, целую. Спасибо за чудные цветы. Не нужно присылать всего так много. Привет Беренштейнам.
Ваша Саша».Мне даже захотелось немного поплакать, когда я прочитала эту записку. Может быть, я немного всплакнула, но в это время кто—то в приемной спросил, который час, и оказалось, что уже без четверти десять.
И я простилась с Петей, которому ужасно не хотелось уходить из этого дома, и поехала на вокзал, потому что поезд из Мурманска приходил в 10.40.
Я замечала, что прежде, когда я видела Саню после очень долгой разлуки, какое—то странное чувство разочарования вдруг охватывало меня. Как будто уже не могло быть ничего лучше того, что я испытала, тысячи раз представляя в уме эту встречу. Так было со мной в Москве, когда Саня приехал с Севера и мы встретились у Большого театра. Тогда мне казалось, что должно произойти что—то необыкновенное, какая—то перемена во всем — и на земле, и на небе. Но ничего не произошло, кроме того, что мы оба потом жалели об этом свидании.
И вот теперь, когда я приехала на вокзал, я вдруг испугалась этого чувства: другие люди, так же как я, пришли, чтобы встретить кого—то, носильщики бежали к поезду, некрасивый кондуктор с седыми грязными усами за что—то грубо ругал проводника.
Но я поняла, что это чувство пройдет, потому что теперь у нас была совсем другая встреча…
Поезд показался — и волнение мигом передалось вдоль перрона. Встречающих было немного, но все—таки я встала далеко от всех, в стороне, чтобы он меня сразу заметил. Кажется, я была спокойна. Мне только казалось, что все происходит очень медленно — поезд медленно подходит к платформе, и первые пассажиры медленно сходят со ступенек и удивительно медленно идут ко мне навстречу — идут и идут, а Сани все нет, и опять идут, и у меня сердце начинает куда—то проваливаться, потому что его нет. Он не приехал.
— Катя!
Я оборачиваюсь. Он стоит у первого вагона, и я бегу к нему, бегу и чувствую, как все у меня внутри дрожит от волнения и счастья.
Мы тоже очень медленно шли по платформе, потому что все время останавливались, чтобы посмотреть друг на друга. Не помню, о чем мы говорили в первые минуты. Саня что—то быстро спрашивал, и я отвечала, не слыша. Потом я сказала о Саше, и мы снова остановились — на этот раз в неудобном месте, потому что нас сразу же стали очень толкать, — и долго говорили о Саше.
— А Петька? Он, наверно, весь Ленинград на ноги поднял. Он же сумасшедший. Ох! Как я давно их не видел!
Мы поехали в «Асторию», потому что Саня сказал, что ему удобнее остановиться в гостинице, и оттуда стали звонить Пете, сперва домой, потом в клинику. В клинике его уже знали и сказали, что он пошел покупать маковки.
— Что?
— Маковки.
— Пошел покупать маковки, — с недоумением сказала я и повесила трубку.
Саня так и покатился со смеху.
— Это он вспомнил, что Саша любит маковки, — Объяснил он. — Она всегда любила маковки. Ох! Милый! А «бес—дурак» он еще говорит? Он говорил «бес—дурак» и «смешно». Что ты смотришь?
Я смотрела, потому что он мне очень нравился, просто ужасно. Мы снова не виделись целый год, но странно, у меня было такое чувство, что мы в тысячу раз ближе, чем когда расставались. Мне почему—то показалось, что он стал выше ростом за этот год и шире в груди и плечах. У него определились черты, и лицо стало решительнее, сильнее, особенно линии подбородка и рта. Больше он не был похож на мальчика, и теперь о нем, пожалуй, нельзя было сказать, что ему еще рано жениться. Только на макушке торчал прежний упрямый хохол, хотя приглаженный и тоже какой—то постарше.
— Я забыл, какая ты красивая, — сказал он — Очень странно, но там мне это было почему—то неважно.
— А здесь?
Он поцеловал меня, и мы снова стали звонить Пете.
На этот раз он оказался дома и бешено завыл в телефон, когда я сказала, что Саня стоит рядом со мной и тащит из моих рук трубку. Они долго беспорядочно орали: «Эй! Ну как, старик, а?» И ругали друг друга «бес—дурак». Потом Саня спросил, достал ли он маковки, и, задыхаясь от смеха, стал показывать мне знаками, что не достал. В конце концов, они сговорились: Саня заедет в клинику, и они вместе попробуют пробиться к Саше.
— А я?
Он снова обнял меня.
— Куда же я теперь без тебя? — сказал он. — Теперь, брат, кончено. Баста, баста!
И он спросил меня шепотом, как тогда в поезде, когда я его провожала:
— Ты любишь меня?
— Да, да.
Конечно, к Саше нас не пустили, но мы опять передали ей записку и получили ответ, на этот раз с просьбой унять Петьку, который «всем надоел». Еще она писала, что ей хочется погулять с нами, и в заключение спрашивала, обедали ли мы и, если еще нет, чтобы захватили мужа, потому что он «может по двое суток не есть, если ему не напомнить».
Из обеда ничего не вышло. Сане нужно было в Арктический институт, и я пошла его провожать — не только потому, что мне этого хотелось, а потому, что пора было все—таки поговорить о деле, ради которого мы встретились в Ленинграде. Мои последние письма не дошли до него, и он не знал новостей о «Пахтусове», который — это только что было решено — пойдет через Маточкин Шар, а потом, обогнув Северную Землю, направится к Ляховским островам.
— Ну что ж, у нас будет больше времени, только и всего, — сказал Саня. — Меня больше всего беспокоит время.
Мы заговорили о составе поисковой партии, и он сказал, что предложил одного радиста с Диксона, потом доктора Ивана Ивановича и своего механика Лури, о котором он часто писал мне из Заполярья.
— Радист превосходный. Знаешь кто?
— Нет.
— Корзинкин, — торжественно сказал Саня. — Тот самый.
Я созналась, что впервые слышу эту фамилию, и Саня объяснил, что Корзинкин — один из двух русских, ходивших с Амундсеном на Южный полюс, и что Амундсен даже упоминает о нем в своей книге.
— Здорово, да? Пятый — я. А шестая — ты. Тебя предложил как «дочку».
— В самом деле? А мне казалось, что я имею некоторое право на участие в этой экспедиции не только как дочка капитана Татаринова. Что же, ты так и написал: профессия — дочка?
Саня смутился.
— А что? — пробормотал он. — Ничего особенного. Это глупо, да?
— Очень.
— А иначе вышло бы, что я хлопочу за жену. Неудобно.
— Саня, я вообще не просила тебя хлопотать, — сказала я спокойно. — Дочка, жена! Я еще и племянница и внучка. Я старый геолог, Саня, и просила начальника Главсевморпути, чтобы он включил меня в состав экспедиции в качестве геолога, а не твоей жены. Кстати, я еще не твоя жена, и если ты будешь так глупо вести себя, я вот возьму и выйду за другого. Мы, кажется, еще не записывались?
Мне стало даже жалко его, так он заморгал и неловко засмеялся и, сняв фуражку, вытер ладонью лоб.
— Катя, прости, честное слово! — пробормотал он.
Я быстро поцеловала его, хотя мы стояли уже во дворе перед самым зданием Арктического института, и сказала:
— Ни пуха, ни пера.
К шести часам он обещал позвонить или, если удастся, заехать к Пете.
Глава 10. НОЧЬ.
Он вернулся не к шести, а к одиннадцати, и не к Пете, а в «Асторию», и потребовал, чтобы мы немедленно приехали к нему ужинать, потому что он так и не обедал и голоден, как дьявол, а есть одному ему скучно.
Но Петю сморило после тревожного дня; кроме того, он для бодрости еще хватил водки и теперь лежал на диване и сонно таращил глаза, похожий на Петрушку со своим диким носом и нескладными руками и ногами.
…Я помню по числам все наши встречи с Саней, не только встречи, но и письма. В садике на Триумфальной мы встретились 2 апреля, а у Большого театра 13 июня. Этот вечер, памятный на всю жизнь, — когда он позвонил, вернувшись из Арктического института, и я поехала к нему — было 21 мая.
Мы знакомы с детских лет, и мне казалось, что я уже так хорошо знаю его, как он и сам, кажется, себя не знает. Но таким как в этот вечер, я прежде его не видала. Когда мы ужинали, я ему даже сказала об этом.
Проект был полностью принят, и ему наговорили в институте много комплиментов — очевидно, не без основания. Он виделся с профессором В., тем самым, который открыл остров на основании дрейфа «Св. Марии», и В. отнесся к нему превосходно. Он был в Ленинграде, прекрасном огромном городе, который он любил еще со времени летной школы, — в Ленинграде после тишины Заполярья! Все шло все удавалось.
И как видны были в его лице, во всех движениях, даже в том, как он ел, это счастье, эта удача! У него блестели глаза, он держался прямо и вместе с тем свободно. Если б я не была влюблена в него всю жизнь, так уж в этот вечер непременно бы влюбилась.
Мы что—то ели без конца, а потом пошли гулять, потому что я сказала, что еще не успела посмотреть Ленинград, и Саня загорелся и сказал, что он хочет сам «показать мне, что это за город».
Был третий час, и это был самый темный час ночи, но когда мы вышли из «Астории», было так светло, что я нарочно остановилась на улице Гоголя и стала читать газету.
Белая ночь! Но Саня сказал, что его не удивить белыми ночами и что в Ленинграде они хороши только тем, что не продолжаются по полгода.
Мы прошли под аркой Главного штаба, и великолепная пустынная площадь вдруг открылась перед нами — не очень большая, но просторная и какая—то сдержанная, не похожая на открытые площади Москвы. Очень обидно, но я не знала, что это за площадь, и Сане пришлось прочесть мне краткий урок русской истории с упоминанием 7 ноября 1917 года.
Потом мы пошли по улице Халтурина — я прочитала название под домовым фонарем — и долго стояли перед колоссами, поддерживающими на плечах высокий подъезд Эрмитажа. Не знаю, как Саня, а я смотрела на них с нежным чувством, точно они были живые, — им было так тяжело, и все—таки они были прекрасны.
Потом мы вышли на набережную, — вот где была эта белая ночь, — ни день, ни ночь, ни утро, ни вечер. Над зданиями Военно—медицинской академии небо было темно—синее, светло—синее, желтое, оранжевое, — кажется, всех цветов, какие только есть на свете! Где—то там было солнце. А над Петропавловской крепостью все было совершенно другим, туманно—серым, настолько другим, что нельзя было поверить, что это одно и то же небо. И мы сперва долго смотрели на крепость и на ее небо, а потом вдруг поворачивались к Военно—медицинской академии и к ее небу, и это был как будто мгновенный переезд из одной страны в другую — из неподвижной и серой в прекрасную, живую, с быстро меняющимися цветами.
Стало холодно, я была легко одета, и мы вдвоем завернулись в Санин плащ и долго сидели обнявшись и молчали.
Мы сидели на полукруглой гранитной скамейке, у самого спуска в Неву, и где—то внизу волна чуть слышно ударялась о каменный берег.
Не могу передать, как я была счастлива и как хорошо было у меня на душе этой ночью! Мы были вместе, наконец, и теперь не расстанемся никогда. И больше ничего не нужно было доказывать друг другу и не нужно было ссориться, как мы ссорились всю жизнь. Я взяла его руку, твердую, широкую, милую, и поцеловала, а он поцеловал мою.
Не помню, где мы еще бродили в эту ночь, только помню, что никак не могли уйти от Невы. Мечеть с голубым куполом и двумя минаретами повыше и пониже все время была где—то перед нами, и мы все время шли к ней, а она уходила от нас, как виденье.
Уже дворники подметали улицы и большой желтый круг солнца стоял довольно высоко над Выборгской стороной, и как нам ни жалко было расставаться с этой ночью, а она уходила, — когда Саня вдруг решил, что нужно немедленно позвонить Пете.
— Мы спросим его, — сказал он смеясь, — как он думал провести этот вечер.
Но я уговорила его не звонить, потому что телефон был в передней и мы разбудили бы все семейство фотографа—художника Беренштейна.
— Семейство очень милое, и это свинство — будить его ни свет, ни заря!
У мечети — мы все—таки дошли до мечети — Саня окликнул такси, и нам вдруг показалось так удобно в такси, что Саня стал уговаривать меня поехать еще на острова, а уж потом к Пете. Но ему предстоял трудный день, я хотела, чтобы сперва он заехал к себе и уснул хоть ненадолго…
И мы вернулись к нему в «Асторию» и стали варить кофе. Саня всегда возил с собой кофейник и спиртовку — он на Севере пристрастился к кофе.
— А страшно, что так хорошо, правда? — сказал он и обнял меня. — У тебя сердце так бьется! И у меня — посмотри.
Он взял мою руку и приложил к сердцу.
— Мы очень волнуемся, это смешно, правда?
Он говорил что—то, не слыша себя, и голос его вдруг стал совсем другой от волнения…
Мы пошли к Сковородниковым только в первом часу. Маленькая, изящная старая дама открыла нам и сказала, что Пети нет дома.
— Он уехал в клинику.
— Так рано?
— Да.
У нее было расстроенное лицо.
— Что случилось?
— Ничего, ничего. Он позвонил туда, и ему сказали, что Александре Ивановне стало немного хуже.
Глава 11. СЕСТРА.
И вот начались эти дни, о которых я еще и теперь вспоминаю с горьким чувством бессилия и обиды. По три раза в день мы ходили в клинику Шредера и долго стояли перед маленькой витриной, в которой висел температурный листок: «Сковородникова — 37; 37,3; 38,2; 39,9». Но это было не простое воспаление легких, когда на девятый день наступает кризис, а потом температура падает, как было у меня в школе. Это было проклятое «ползучее», как сказал профессор, воспаление. Были дни, когда у нее была почти нормальная температура, и тогда мы возвращались очень веселые и сразу начинали ждать Сашу домой. Розалия Наумовна — так звали супругу фотографа—художника — рассказывала, что она тоже болела воспалением легких и что эта болезнь просто пустяки в сравнении с гнойным плевритом, которым болела ее сестра Берта. Петя начинал говорить о своей скульптуре, и однажды мне даже удалось уговорить его сходить со мной в Эрмитаж. Но наутро мы снова молча стояли перед витриной и смотрели, смотрели, смотрели… Я заметила, что Петя однажды закрыл глаза и снова быстро открыл, как в детстве, когда думаешь, что откроешь глаза и увидишь совсем другое. Но он увидел то же, что видела я и что мы надеялись больше не видеть: «Сковородникова — 38,1, Сковородникова — 39,3, Сковородникова — 40».
Три дня подряд температура держалась на 40, потом резко упала — на несколько часов — и опять поднялась, на этот раз до 40,5. Я была уверена, что это не воспаление легких, и тайком от Сани поехала к профессору на квартиру. Но он подтвердил диагноз — фокус прослушивается совершенно ясно, — не один, а несколько и в обоих легких. Он сказал, что это не по его части и что Сашу уже смотрел терапевт.
— И что же?
— Грипп, осложнившийся воспалением легких.
Я знала, что он заходит к Саше по сто раз в день, что вообще в клинике относятся к ней прекрасно, но все—таки спросила, не думает ли он, что нужно пригласить еще какого—нибудь терапевта.
— Может быть, Габричевского?
— Конечно, пожалуйста. Я сам позвоню ему.
Но температура не упала оттого, что Сашу посмотрел Габричевский.
Я почти не видела Саню в эти дни; он только звонил иногда по ночам, да однажды я забежала к нему в институт, в маленькую комнатку, отведенную для снаряжения поисковой партии. Он сидел за столом, заваленным оружием, фотоаппаратами, рукавицами и меховыми чулками. Усатый, серьезный человек в кожаном пальто собирал у него на столе двустволку и ругался, что стволы не подходят к ложам.
— Ну, как она? Ты ее видела? Что говорят врачи?
Ежеминутно звонил телефон, и он, наконец, снял трубку и с досадой бросил ее на стол.
— Все то же.
— А температура?
— Сегодня утром было сорок и две.
— Черт! Неужели нет никакого средства?
Он очень похудел за эти дни, у него был тревожный, усталый вид, и он вообще не был похож на себя, особенно на себя в первый день приезда.
— Как ты похудела, — не спишь? — спросил он. — Я не понимаю, но все—таки, какое же положение?
— Непосредственной опасности нет.
— Что?
— Габричевский сказал, что непосредственной опасности нет.
— Да ну их к дьяволу! — злобно сказал Саня. — Не могут вылечить человека! Ведь она была здорова. Я же знаю, она никогда даже ничуть не болела.
Я сказала, что, наверно, теперь не увижу его несколько дней, потому что мне разрешили дежурить у Саши и с сегодняшнего вечера я перееду в больницу. Он взял меня за руку и с благодарностью посмотрел на меня. Потом проводил до ворот, и мы расстались…
Она лежала, глядя в потолок, изредка облизывая пересохшие губы, и не сразу узнала меня, может быть потому, что я была в колпаке и халате. Но первое время мне все казалось, что она принимает меня за кого—то другого.
Видно было, что она уже давно не спит и что у нее все перепуталось: утро и вечер — как будто время от нее уже отступило.
Что—то татарское стало заметно в ее лице, побледневшем под загаром, широковатом, с провалившимися глазами. Она всегда немного косила, и прежде это даже шло к ней, придавало ей невольное милое кокетство. Но теперь — это было почему—то ночами — ее тяжелый, косой взгляд исподлобья вдруг пугал меня. Она садилась в постели, прямая, смугло—бледная, с косами, переброшенными на грудь, и молчала, молчала — никакими силами я не могла уговорить ее лечь. Однажды это случилось при Сане, и он долго не мог придти в себя — так она напомнила ему мать.
Мне прежде почти не приходилось ухаживать за больными, особенно такими тяжелыми, как Саша, но я научилась. Это было трудно, потому что Саша почти не спала или засыпала и сразу же просыпалась, и нужно было все время следить за дыханием.
Были дни, когда жизнь возвращалась к ней — и с необыкновенной силой. Я помню один такой день, четвертый с тех пор, как я переселилась в больницу. Она хорошо спала ночь и утром проснулась и сказала, что хочет есть. Она выпила чаю с молоком и съела яйцо и, когда мы стали закутывать ее, чтобы проветрить палату, вдруг сказала:
— Катенька, да ты все время со мной? И ночуешь?
Должно быть, у меня немного задрожало лицо, потому что она посмотрела на меня с удивлением.
— Что ты? Я была очень больна? Да?
— Сашенька, мы сейчас откроем окно, а ты лежи тихонько и молчи, ладно? Ты была больна, а теперь ты поправляешься, и все будет прекрасно.
Она послушно замолчала и только ненадолго задержала мою руку в своей, когда я ароматическим уксусом вытирала ей лицо и руки. Потом принесли маленького, и мы стали рассматривать его, пока он ел, широко открыв глаза, с серьезным бессмысленным выражением.
— Очень похож, да? — спросила под маской Саша.
Ей нравилось, что он похож на Петю, и в самом деле что—то длинное было в этом профиле — хотя ему было всего десять дней, у него был уже профиль. Но мне казалось, что он похож на Саню, — не на свою мать, а именно, на моего Саню: он так отчаянно, решительно ел!
— А Петя как? Очень волнуется, да? Мне сегодня снилось, что он пришел и сидит здесь, в этой комнате, а его от меня скрывают. Я его вижу, а Марья Петровна говорит — его нет.
Марьей Петровной звали сиделку.
— А он сидит вот здесь, где ты, и молчит. Ему нельзя говорить, потому что его от меня скрывают. Господи, я опять забыла, ведь ты его почти не знаешь!
— Мне кажется, что я с ним сто лет знакома.
— А Саня? Когда вы едете?
— Должно быть, недели через две. Еще наш «Пахтусов» ремонтируется. Только в конце июня выйдет из дока.
— А что такое док?
— Не знаю.
Саша засмеялась.
— Вы счастливые, милые!
Мы разговаривали, наверное, целый час, между прочим о Петином «Пушкине», и Саша сказала, что ей тоже кажется, что хорошо.
— Он очень разбрасывается, — сказала она с огорчением. — Я сперва была против, когда он занялся скульптурой. Но у него это есть и в рисунке.
Она вспомнила, как мы познакомились в Энске, как я была у них в гостях и тетя Даша сказала про меня: «Ничего, понравилась. Такая красивая, грустная. Здоровая».
— А где тетя Даша? — спросила я. — Почему она не приехала? Первый внук, такое событие!
— Ты разве не знаешь? Она очень больна, у нее стало такое сердце, что врачи вот еще недавно велели ей лежать чуть не полгода. Мы с Петей часто ездим в Энск, почти каждое лето.
Она говорила еще с трудом и часто останавливалась, чтобы справиться с дыханием. Но все—таки со вчерашним днем не сравнить! Ей было гораздо лучше.
— А судья—то?
— Какой судья?
— Ну как же, наш судья!
И она рассказала мне, что судья Сковородников — Петин отец — награжден орденом «Знак Почета».
— Там хорошо, правда? — сказала она помолчав. — В Энске. Вы приедете?
— Ну конечно!
Петя вызвал меня после обхода, я полетела со всех ног и сказала, что Саше гораздо лучше. И вот что произошло в приемной: вместе с Петей какой—то молодой человек в косоворотке и кепке дожидался конца обхода. Я знала его по виду, потому что он часто одновременно с нами приходил в клинику по утрам. Мы знали, что фамилия его больной Алексеева и что у нее тоже держится высокая температура: на всей доске только у нее и у Саши. И вот, когда я стояла с Петей в приемной, вдруг вышла сестра и быстро сказала ему:
— Вы к Алексеевой? Пройдите, пройдите.
И мы слышали, как она шепнула нянечке, дежурившей у гардероба:
— Скорее дайте халат… Может быть, еще застанет.
Это было страшно, когда, стараясь ни на кого не смотреть, он стал торопливо надевать халат и все не мог попасть в рукава, пока, наконец, нянечка не накинула ему халат на плечи, как пальто.
Мы продолжали разговаривать, но Петя больше не слушал меня. Вдруг он так побледнел, что я невольно схватила его за руки.
— Что с вами?
— Ничего, ничего.
Я усадила его и побежала за водой. Ему стало дурно.
Профессор—терапевт, с которым я говорила в этот день, отменил сердечные лекарства и сказал, что мы вообще «слишком пичкаем Сашу лекарствами». Уходя, он сказал, что на днях читал о замечательном новом средстве против воспаления легких — сульфидине, недавно открытом учеными.
К вечеру Саше стало немного хуже, но я не очень расстроилась, потому что к вечеру ей обычно становилось хуже. Я читала, держа книгу под самой лампочкой, стоящей на кроватном столике, и набросив на абажур косынку, чтобы свет не беспокоил больную. Накануне Саня прислал мне несколько книг, и я читала, как сейчас помню, «Гостеприимную Арктику» Стифансона. Мое участие в экспедиции было окончательно решено, и именно как геолога. Через несколько дней я должна была явиться к профессору В., который был назначен руководителем научной части. Конечно, я не собиралась скрывать, что пока еще знаю о Севере очень мало. Книги, которые прислал Саня, непременно нужно было прочитать, потому что это были основные книги.
Должно быть, в третьем часу я встала, чтобы послушать Сашу, и увидела, что она лежит с открытыми глазами.
— Ты что, Сашенька?
Она помолчала.
— Катя, я умираю, — сказала она негромко.
— Ты поправляешься, сегодня тебе гораздо лучше.
— Так было бы не страшно, а что маленький — страшно.
У нее глаза были полны слез, и она старалась повернуть голову, чтобы вытереть их о подушку.
— Его возьмут в институт, да?
— Да полно тебе, Сашенька, в какой институт?
Я вытерла ей глаза и поцеловала. Лоб был очень горячий.
— Возьмут в институт, и я его потом не узнаю. А почему Пети нет? Почему его не пускают? Какое они имеют право его не пускать? Они думают, что я его не вижу? Вот же он, вот, вот!
Она хотела сесть, но я не дала. Сиделка вошла, и я послала ее за кислородной подушкой…
Что же рассказывать об ужасе, который начался с этой ночи!
Каждый час ей впрыскивали камфару, и все короче становились часы, когда она могла дышать без кислородной подушки. Температура падала, и уже ни камфара, ни дигален не действовали на сердце. Она лежала с синими пальцами, и лицо становилось уже восковым, но все еще что—то делали с этим бедным, измученным, исколотым телом.
Не знаю, как долго все это продолжалось, должно быть — долго, потому что снова была ночь, когда один из врачей, какой—то новый, которого я прежде не видала, осторожно вышел к нам в коридор из палаты. Мы стояли в коридоре. Саня, Петя и я. Нас зачем—то прогнали из палаты. Он остановился в дверях, потом медленно направился к нам.
Глава 12. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАНИЕ.
Как много узнаешь о человеке, когда он умирает! Я слушала речи на гражданской панихиде в Академии художеств и думала, что едва ли Саше при жизни говорили и половину того хорошего, что о ней говорили после смерти.
Гроб стоял на возвышении, и было очень много цветов, так что ее бледное лицо было едва видно между цветами. Все обращались к ней почему—то на «ты» и говорили, что она была «прекрасным художником», «прекрасным советским человеком» и что «внезапная смерть бессмысленно оборвала» и так далее. И так далеки были эти речи от мертвого торжественно—строгого лица!
Я плохо чувствовала себя и с трудом простояла до конца панихиды. Больше нечего было делать — после такой ежечасной, ежеминутной работы, работы самой души, которая всеми силами стремилась спасти близкого человека. Теперь я была свободна. В каком—то оцепенении я стояла у гроба. Саня стоял рядом со мной, но я почему—то видела его то ясно, то как в тумане. Не отрываясь, он смотрел на сестру, и у него было усталое, злое лицо, как будто он сердился, что она умерла.
Он все сделал — заказал гроб и машину, распоряжался, ездил в загс и на кладбище, меня отправил в «Асторию», а сам всю ночь провел с Петей. Теперь он стоял рядом со мной и смотрел, смотрел на сестру, как будто хотел насмотреться на всю жизнь. Я спросила у него, как Петя; он молча показал мне его в толпе, стоявшей в ногах у гроба.
Петя был ничего, но странным показалось мне его бледное, равнодушное лицо; он как будто терпеливо ждал, что вот, наконец, кончится эта длинная процедура и Саша снова будет с ним, и все снова будет прекрасно. Старик Сковородников, накануне приехавший на похороны, стоял за ним, и слезы нет—нет, да и скатывались по щекам в его большие, аккуратные седые усы. Потом у меня снова стал какой—то туман в глазах, и я не помню как кончилась панихида.
Должно быть, это было на второй или третий день после похорон Саши. Старик Сковородников возвращался в Энск и зашел к нам в «Асторию», чтобы проститься. У Сани кто—то был, кажется агент, отправлявший снаряжение в Архангельск, и мы прошли в спальню. Везде валялись ватные костюмы, варежки, рюкзаки… Экспедиция уже переехала в Санин номер из Арктического института.
Я усадила старика на кровать и стала угощать его кофе.
— Едете? — спросил он.
— Да, теперь скоро.
Мы помолчали.
— Извините, я вас еще мало знаю, — сказал он, — но много слышал и от души рад, что Саня, которого я считаю за сына, соединил свою жизнь именно с вами. Конечно, грустно, что так случилось… Отпраздновали бы вместе… Но в жизни не закажешь…
Он вздохнул и повторил еще раз:
— В жизни не закажешь… Мне Петя говорил, что вы заботились о Сашеньке, и я от души вам благодарен.
Я спросила, как здоровье Дарьи Гавриловны.
— Да в том—то и дело, что плохо. Не велят ей вставать. Одышка страшнейшая. Если бы она была здорова, мы бы немедля взяли к себе ребеночка. И Петя жил бы у нас хоть некоторое время. А теперь не то что взять — я не представляю себе, как и вернуться. Ведь она умрет, как узнает о Сашеньке. У нее вся жизнь была в Сашеньке и Пете.
Я знала, о чем он думает, вертя в руках старую медную зажигалку, переделанную из патрона, — должно быть, память со времен гражданской войны. Я сама подумала об этом, вернувшись на Петроградскую после похорон.
…Пуст был белый некрашеный стол, и не нужны никому маленькие кисти и неоконченный медальон—миниатюра в старинном духе, над которым Саша работала в последнее время.
«Так было бы не страшно, а что маленький — страшно». Она как бы оставила маленького сына у меня на руках. Она просила бы меня о нем, если бы умирала в сознании.
Глава 13. МАЛЕНЬКИЙ ПЕТЯ.
Я могла провести с мальчиком только две недели — наш отъезд был назначен на середину июня. Но две недели — это не так уж мало для грудного ребенка, которому и всего—то было только две недели. Теперь мне смешно вспомнить, как я боялась не только взять его на руки, но даже дотронуться до него, когда мы с Петей пошли в клинику, чтобы взять его домой. Я ахнула, когда, рассказывая, как нужно обращаться с грудными детьми, сестра высоко подняла его на ладони. Она подняла его одной рукой. Он заревел, а она сказала хладнокровно:
— Легкие развивает.
Бутылочки нужно было кипятить, кормить каждые три часа, купать через день. У меня голова пошла кругом от ее наставлений! Наконец, как это ни было страшно, я все—таки завернула ребенка и взяла его на руки. Должно быть, я сделала это слишком осторожно, потому что сестра засмеялась и сказала:
— Смелее, смелее!
И днем и ночью я была занята: то нужно было пеленать его, то кормить, то купать, утром и вечером я ездила в клинику за грудным молоком, — словом, возни было много. Но странно, с каждым днем мне было все труднее представить себе, что скоро не будет этих вечерних купаний, когда мальчик, который очень любил купаться, важный, как маленький король, лежал в корыте, и не будет бесконечных споров с Розалией Наумовной о соске — нужно ее давать или нет.
Разумеется, ничего не переменилось. Башкирское геологическое управление прислало мне командировку на год в распоряжение Арктического института, профессор В. вызвал меня, и мы подробно обсудили геологическую задачу высокоширотной экспедиции, причем я порядочно «плавала», потому что в геологии Крайнего Севера тогда еще ничего не понимала.
«Гостеприимную Арктику» я одолела, хотя не без труда, потому что читала ее по ночам, то засыпая, то просыпаясь, и, помнится, так и не поняла, почему она гостеприимная: мне показалось — не очень.
И каждый раз, когда я бралась за книгу, мальчик начинал свое «ля, ля», точно чувствовал, что я уезжаю.
Давно пора было подумать о том, как устроить его на время моего отъезда, и не раз я пыталась поговорить об этом с Петей. Но, молчаливый, подавленный, усталый, он слушал меня, опустив голову, и не отвечал ни слова.
— Зачем няню? — как—то спросил он, и я поняла, что ему будет тяжело увидеть в этой комнате чужого человека.
Он ничего не ел, несмотря на все мои уговоры. Где—то он потерял кепку, должно быть на улице, и все искал ее дома. Ни разу он не взглянул на ребенка — вот что меня в особенности поражало! Но однажды, когда под утро я задремала над книгой, вдруг шорох и бормотанье разбудили меня. Мне послышалось: «Бедный, милый!»
Петя стоял над кроваткой, в одном белье, ужасно худой, с открытой грудью. Широко открыв глаза, с каким—то болезненным недоумением вглядывался он в спящего мальчика.
Он испугался, когда я спросила его:
— Что вы, Петя?
И поспешно отступил от кроватки. Глаза у него были полны слез, губы дрожали…
Саня заезжал почти каждый день, и я всегда узнавала с первого взгляда, когда он доволен тем, как идут дела, и когда недоволен. Мы разговаривали, а потом он уходил в коридор покурить, и я вместе с ним, чтобы ему не было скучно.
— Какая ты… — сказал он однажды, когда маленький заплакал и я взяла его из кроватки и стала ходить по комнате, покачивая и напевая.
— Что?
— Да нет, ничего. Совсем мама.
Сама не знаю почему, но я почувствовала, что краснею. Он засмеялся, обхватил меня вместе с мальчиком и стал целовать…
— Не знаю, как быть, — сказал он мне я другой раз с усталым и озабоченным лицом: — несмотря на все мои хлопоты, денег отпустили мало. Денег мало, и поэтому времени мало.
— При чем же тут время?
— Над каждой ерундой часами думаешь — купить или нет. И все через бухгалтерию, будь она неладна!
У него появилась привычка покусывать нижнюю губу, когда он был расстроен, и вот он сидел и покусывал, и глаза были черные, сердитые.
— Ты не могла бы мне помочь? — нерешительно продолжал он. — Я знаю, что ты занята. Но, понимаешь, хоть разобраться в счетах.
На другой день, оставив Розалии Наумовне тысячу наставлений, расписав по часам, когда нужно кормить маленького, когда идти за молоком и так далее, я поехала к Сане в «Асторию» и осталась на ночь и на другой день, потому что он действительно не мог справиться без меня и нельзя было даже отлучиться из номера — каждые пять минут звонили по телефону.
Глава 14. НОЧНОЙ ГОСТЬ.
В одном разговоре со мной Ч. употребил выражение «заболеть Севером», и только теперь, помогая Сане снаряжать поисковую партию, я вполне поняла его выражение. Не проходило дня, чтобы к Сане не явился человек, страдающий этой неизлечимой болезнью. Таков был П., старый художник, друг и спутник Седова, в свое время горячо отозвавшийся на Санину статью в «Правде» и впоследствии напечатавший свои воспоминания о том, как «Св. Фока», возвращаясь на Большую Землю, подобрал штурмана Климова на мысе Флора.
Приходили мальчики, просившие, чтобы Саня устроил их на «Пахтусове» кочегарами, коками — кем угодно.
Приходили честолюбцы, искавшие легких путей к почету и славе, приходили бескорыстные мечтатели, которым Арктика представлялась страной чудес и сказочных превращений.
Среди этих людей однажды мелькнул человек, о котором я не могу не вспомнить теперь, когда все изменилось и прежние волнения и заботы кажутся незначительными и даже смешными. Как сонное, ночное виденье, он мелькнул и исчез, и долгое время я даже не знала, как его зовут и где Саня познакомился с ним. Но это была минута, когда будущее — и, может быть, близкое — вдруг представилось мне. Как будто я заглянула на несколько лет вперед, и сжалась душа, похолодело сердце…
Не дождавшись Сани, я уснула, забравшись с ногами в кресло, и, проснувшись среди ночи, увидела в номере незнакомого человека. Это был военный моряк, не знаю уж, в каком звании. Саня полусидел на столе, рисуя рожи, а он расхаживал по комнате — живой, быстрый, с казацким чубом и темными насмешливыми глазами.
Они говорили о чем—то серьезном, и я поскорее закрыла глаза и притворилась, что сплю. Это было приятно — слушать и дремать или притворяться, что дремлешь, — можно было не знакомиться, не причесываться, не переодеваться.
— Нет ничего проще, как доказать, что розыски капитана Татаринова не имеют ничего общего с основными задачами Главсевморпути. Это, конечно, ерунда — стоит только вспомнить розыски Франклина. Вообще людей нужно искать — это перестраивает географическую карту. Но я говорю о другом.
«Другое» — это была война, война в Арктике, на берегах Баренцева и Карского морей. Я прислушивалась — это было ново!
С карандашом в руках он стал подсчитывать количество полезных ископаемых на Кольском полуострове — это было уже по моей части. Но ночной гость считал все эти мирные минералы «стратегическим сырьем», необходимым в случае войны, и я сейчас же стала мысленно возражать ему, потому что была убеждена, что войны не будет.
— Уверяю вас, — живо говорил моряк, — что капитан Татаринов прекрасно понимал, что в основе каждой полярной экспедиции должна лежать военная мысль.
«Ясно, понимал, — сейчас же сказала я в той смешной дремоте, когда можно думать и говорить, и это то же самое, что ни говорить, ни думать. — А войны не будет!»
— …Давно пора построить оборонительные базы вдоль всего пути следования наших караванов… На Новой Земле, например, я бы с удовольствием увидел хорошую дальнобойную батарею…
«Вот так хватил! — сейчас же возразила я. — Это с кем же воевать? С белыми медведями, что ли?»
Но он говорил и говорил, и вдруг из этого тихого, ночного номера гостиницы, где я полу спала с ногами в кресле, где Саня только что прикрыл краем скатерти лампу, чтобы свет не падал мне в глаза, я перенеслась в какой—то странный полусожженный город. И здесь — тишина, но страшная, напряженная. Все ждут чего—то, говорят шепотом, и нужно идти вниз, в подвал, ощупывая в темноте отсыревшие стены. Я не иду. Я стою на крыльце пустого темного деревянного дома, и ясное, таинственное небо простирается надо мной. Где он теперь? Несется в страшной звездной пустоте самолет, мотор задыхается, с каждым мгновеньем тяжелеют обледеневшие крылья. Это будет — ничего нельзя изменить. Все глуше стучит мотор, машина вздрагивает, с далеких станций уже не слышны позывные…
— Правильно, старая история, — вдруг громко сказал моряк, и я проснулась и радостно вздохнула, потому что все это был вздор: на днях мы вместе едем на Север, и вот он стоит передо мной, мой Саня, усталый, умный и милый, которого я люблю и с которым теперь никогда не расстанусь.
— Но в Главсевморпути не интересуются историей. Почитали бы, черти, хоть статью в БСЭ! Кстати, там приводится интересная цитата из Менделеева. Вот послушайте, я списал ее. Замечательная цитата!
И, по—детски картавя, он прочел известные слова Менделеева, которые я, между прочим, встретила впервые где—то в бумагах отца: «Если бы хоть десятая доля того, что мы потеряли при Цусиме, была затрачена на достижение полюса, эскадра наша, вероятно, прошла бы во Владивосток, минуя и Немецкое море, и Цусиму…»
Саня как—то рассказывал мне, что тетя Даша любила спрашивать его:
«Ну как, Санечка, твое путешествие в жизни?»
Сидя в кресле с ногами, притворяясь спящей, лениво рассматривая сквозь прищуренные веки нашего неожиданного ночного гостя, с его пылкостью, детской картавостью и его смешным казацким чубом, могла ли я вообразить, что мое «путешествие в жизни» через несколько лет приведет Саню в дом этого человека?
Но не будем заглядывать в будущее. Скучно было бы жить, если бы мы заранее знали свое «путешествие в жизни».
Глава 15. МОЛОДОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Няня была найдена наконец, очень хорошая, с рекомендациями, толстая, чистая, с сорокалетним стажем — «не няня, а профессор», как с восторгом объявили мне Беренштейны. Она явилась, и следом за ней дворник втащил большой старинный сундук, из которого няня немедленно вынула белый передник, чепчик и старинную фотографию, на которой были еще немного видны нянины родители и она сама в виде семилетней девочки с остолбенелым выражением лица.
Передник и чепчик она надела, а фотографию повесила на место портрета, который Петя подарил Розалии Наумовне в честь рождения сына. С этой минуты всем стало ясно, кто является главным человеком в доме. Мне она сказала, что, согласно науке, у ребенка должна быть своя посуда, своя мебель, по возможности белая, и свой постоянный врач. Но что она, слава богу, выращивала детей без белой мебели, врача и своей посуды. Беренштейны слушали ее с благоговением и, кажется, немного боялись, а я нет. В сущности, это была добрая, простая старуха, глубоко убежденная в том, что ее профессия — важнее всех других на земле.
Решено было, что мы вернемся осенью и заберем маленького Петю вместе с Дарьей Тимофеевной — так звали няню — в Москву. С большим Петей было сложнее. Но вот однажды Саня увел его к себе, а меня прогнал, и, запершись, они провели вдвоем целый вечер. Не знаю, о чем они говорили, но, когда я вернулась во втором часу ночи, у обоих были красные глаза — вероятно, от дыма, в номере было сильно накурено, а окно почему—то закрыто.
— Ведь жить—то нужно, старик, — негромко сказал Саня, когда я вошла.
— Вот сын у тебя. Ты посмотри на все одним взглядом и подумай спокойно.
Петя вздохнул.
— Я постараюсь, — сказал он. — Ничего, это пройдет. Вы не беспокойтесь, ребята. Ты прав — что было, того не вернешь…
…Основная экспедиция запоздала со снаряжением, а наше снаряжение было готово и даже отправлено багажом в Архангельск, и у меня вдруг оказалось несколько свободных дней. У меня — потому что Саня все равно с утра до вечера пропадал в Арктическом институте. И вот в эти свободные два—три дня я решила хоть немного познакомиться с Ленинградом.
Глядя, как мальчишки лазают по пьедесталу Медного Всадника и садятся верхом на змея, я думала о том, что, если бы я родилась в Ленинграде, у меня было бы совсем другое детство — морское, балтийское. Именно здесь я должна была некогда прочитать «Столетие открытий».
Я была в квартире Пушкина, в голландском домике Петра, в Летнем саду.
На Неве стояли корабли, и однажды я видела, как матросы сходили на берег у Сената. Сигнальщик, стоя на парапете, передавал что—то флажками; оттуда, с корабля, чрез сиянье воздуха, солнца, Невы ему отвечали флажками; и все это было так празднично, так просторно, что у меня даже слезы подступили к глазам.
Впрочем, мне часто хотелось плакать в Ленинграде — горе и радость как—то перепутались в сердце, и я бродила по этому чудному просторному городу растерянная, очарованная, стараясь не думать о том, что скоро кончатся эти счастливые и печальные ленинградские дни.
Конечно, Саня видел, что со мной что—то происходит. Но ему, кажется, даже нравилось, что я стала такая сумасшедшая и что один раз даже приревновала его к девушке, которая принесла в номер обед.
Неожиданные страшные мысли приходили мне в голову, и случалось, что, едва выйдя на улицу, я спешила вернуться домой. Поднимаясь по лестнице в «Асторию», я гадала, дома ли Саня, хотя это можно было просто узнать у портье, без гаданья.
Все это было глупо, конечно, но я ничего не могла поделать с собой. Как будто мало было одного моего страстного желания и нужны были еще какие—то сверхъестественные, чудесные силы, чтобы все было, наконец, хорошо.
…На всю жизнь запомнилась мне эта ночь — последняя перед отъездом. Вечером я забежала на Петроградскую. Петеньку только что выкупали, он спал, няня в чепчике и великолепном белом переднике сидела на сундуке и вязала.
— Графьев выращивали, — гордо сказала она в ответ на мои последние просьбы и наставления.
Мне вдруг стало страшно, что такая ученая няня может наделать массу глупостей, но я посмотрела на мальчика и успокоилась. Он лежал такой чистенький, беленький, и все вокруг так и сверкало чистотой.
Большой Петя и Беренштейны собирались приехать на вокзал.
Саня — спал, когда я вернулась; какие—то деньги валялись на ковре, я подобрала их и стала читать длинный список дел, которые Саня оставил на завтра.
Была уже ночь, но в номере — светло: Саня не задернул шторы. Я сняла платье, умылась и надела халатик. Не знаю почему, но у меня горели щеки и совсем не хотелось спать, даже наоборот, хотелось, чтобы Саня проснулся.
Телефон зазвонил, я сняла трубку.
— Он спит.
— Давно уснул?
— Только что.
— Ну, ладно, тогда не будите.
Еще бы я стала его будить! Это был В., я узнала по голосу, и дело, наверно, важное — иначе он не стал бы звонить ночью. Все равно, хорошо, что я не разбудила Саню. Он крепко спал, одетый, на диване и, должно быть, волновался во сне. Тень пробегала по лицу, губы сжимались.
Ох, как мне хотелось, чтобы он проснулся! Я ходила по комнате, трогая горячие щеки. Это была чужая комната, и завтра здесь будут другие. Она была похожа на тысячу таких же комнат: с диваном, обитым голубым репсом, со шторами, обшитыми каймой с шариками, с маленьким письменным столом, на котором лежало стекло, — все равно: это был наш первый дом, и я хотела запомнить его навсегда.
Где—то за стеной играли на скрипке — уже давно, но я стала слушать только сейчас. Это играл тонкий рыжий мальчик, знаменитый скрипач, мне показали его в вестибюле. Я знала, что он живет рядом с нами.
Он играл совсем не то, о чем я думала: не это странное счастливое чувство, что Саня мой муж, а я его жена, — он играл наши прежние, молодые встречи, как будто видел нас на балу в четвертой школе, когда Саня поцеловал меня в первый раз…
«Молодость продолжается, — играл этот рыжий мальчик, который показался мне таким некрасивым. — За горем приходит радость, за разлукой — свидание. Помнишь, — ты приказала в душе, чтобы вы нашли его, — и вот он стоит, седой, прямой, и можно сойти с ума от волненья и счастья. Завтра в путь — и все будет так, как ты приказала. Все будет прекрасно, потому что сказки, в которые мы верим, еще живут на земле».
Я легла на пол, на ковер, и слушала, сжимая виски, и плакала, и ругала себя за эти глупые слезы. Но я так давно не плакала и всегда так старательно притворялась, что не могу и даже не умею плакать…
Я разбудила Саню в седьмом часу и сказала, что ночью звонил В.
— Сердишься?
— За что?
Он сидел на диване сонный и смотрел на меня то правым, то левым глазом.
— За то, что я тебя не разбудила.
— Сержусь, — сказал он и засмеялся. — Ты помолодела. Вчера В. спросил, сколько тебе лет, и я сказал — восемнадцать.
Он поцеловал меня, потом побежал в ванную, выскочил в одних трусиках и стал делать зарядку. Он и меня заставлял делать зарядку, но я начинала и бросала, а он делал аккуратно — два раза в день, утром и вечером.
Еще мокрый, растирая мохнатым полотенцем грудь, он подошел к телефону и снял трубку, хотя я сказала, что звонить В. еще рано. Я что—то делала: кажется, разжигала спиртовку, ставила кофе. Саня назвал В. по имени и отчеству. Потом каким—то странным голосом он спросил: «Что?» Я обернулась и увидела, что полотенце соскользнуло с плеча, упало, и он не стал поднимать его, а стоял, выпрямившись, и кровь отливала от его лица.
— Хорошо, я дам молнию, — сказал он и повесил трубку.
— Что случилось?
— Да нет, какая—то чушь, — поднимая полотенце, медленно сказал Саня.
— В. ночью получил телеграмму, что поисковая партия отменена. Мне приказано немедленно выехать в Москву, в Управление ГВФ, за новым назначением.
Глава 16. «Я ВИЖУ ТЕБЯ С МАЛЫШОМ НА РУКАХ»
Саня как—то говорил, что всю жизнь всегда бывало так: все хорошо — и вдруг крутой поворот, и начинаются «бочки» и «иммельманы». Но на этот раз можно было сказать, что машина пошла в штопор.
Разумеется, теперь, когда новые, в тысячу раз более сильные чувства заслонили все, чем мы жили, что радовало и огорчало нас до войны, кажется странным то необычайное впечатление, которое произвела на Саню эта неудача. Это было впечатление, которое отчасти даже изменило его взгляды на жизнь.
— Кончено, Катя, — с бешенством сказал он, вернувшись от В. — Север, экспедиция, «Святая Мария» — я больше не хочу слушать об этом. Все это детские сказки, о которых давно пора забыть.
И я дала ему слово, что мы вместе забудем об этих «детских сказках», хотя была уверена в том, что он не забудет о них никогда.
У меня была еще маленькая надежда, что Сане удастся в Москве добиться отмены приказа. Но телеграмма, которую я получила от него уже не из Москвы, а откуда—то по дороге в Саратов, убедила меня в обратном. Уже самое назначение, которое он получил, как бы подчеркнуло полный провал экспедиции. Он был переброшен в сельскохозяйственную авиацию — так называемую авиацию спецприменения, и должен был теперь не больше не меньше, как сеять пшеницу и опылять водоемы. «Отлично, я буду тем, за кого меня принимают, — писал он в первом письме из какого—то колхоза, в котором сидел уже вторую неделю, „согласовывая и увязывая“ вопросы своей работы с местными властями, — к черту иллюзии — ведь, право же, это были иллюзии! Но Ч. был все—таки прав — если быть, так быть лучшим. Не думай, что я сдался. Все еще впереди».
«Будем благодарны этой старой истории, — писал он в другом письме, — хотя бы за то, что она помогла нам найти и полюбить друг друга. Но я уверен, что очень скоро эти старые личные счеты окажутся важными не только для нас».
В критическом духе он писал мне о том, что постепенно привыкает к полезной роли «сеятеля злаков» и «неукротимого борца с саранчой». Но, очевидно, он увлекся этой работой, потому что вскоре я получила от него совсем другое письмо.
«Дорогая старушка, — писал он, — представь себе, есть на свете так называемая парижская зелень, которую нужно распылять над озерами по одиннадцати килограммов на километр. Для этого, представь себе, нужно иметь класс, хотя бы потому, что эти озера маленькие, в лесу и похожи друг на друга, как братья. Подходишь к такому озерку на полном ходу, сразу резко пикируешь — и круто вверх. Интересно, да? Как ни странно, но совсем другие, не сельскохозяйственные мысли одолевают меня, когда я пикирую над этими озерками или на бреющем полете сею пшеницу. Сто двадцать пять посадок в день — это пригодится, если парижскую зелень на моем самолете придется заменить другим, более основательным грузом. Все к лучшему, я ни о чем не жалею. Обнимаю тебя. Я вижу тебя с малышом на руках, ты ходишь и поешь, а косы плохо подколоты и расплелись, и ты подходишь ко мне и садишься на корточки, чтобы я подколол косы…»
Недаром я представлялась Сане с маленьким Петей на руках — я отдавала ему все свободное время. Он менялся с каждым днем, и так интересно было наблюдать, как он постепенно начинает различать меня, и Розалию Наумовну, и няню; как в бессмысленных, еще младенческих глазах вдруг мелькают удивление, внимание. Это может показаться невероятным, но ему еще не было месяца, а он уже улыбался. Он смотрел на лампочку и плакал, когда ее гасили. Первое время он пугался своих ручек, а потом подолгу смотрел на них и не пугался. Другие ребята в его возрасте бывают сморщенные, кислые, а он веселый, точно рад, что явился на свет. Мне казалось, что он похож на Саню больше, чем в клинике, когда я видела его в первый раз. Он родился с черными волосиками, но только на макушке, а теперь уже вся головка заросла, и он стал очень хорошенький, аккуратный…
Все вышло не так, как думалось, мечталось! Я приехала в Ленинград на две—три недели, чтобы встретиться с Саней, чтобы остаться с ним, где бы он ни был, и вот он снова был далеко от меня. Нежданно—негаданно у меня оказалась семья — маленький Петя, и большой, и няня, о которых нужно было заботиться и думать, причем никто не сомневался, что заботиться и думать нужно было именно мне.
Почему—то я продолжала заниматься геологией Севера, хотя дала Сане слово навсегда выкинуть Север из головы. С деньгами было плохо, и я взяла скучную работу в Геологическом институте.
Вероятно, прежде я бы терзалась, ругала себя и вообще думала о себе в тысячу ваз больше, чем нужно. Но странное спокойствие вдруг овладело мной. Точно вместе с «детскими сказками» я проводила свое самолюбие, гордость, свою обиду на то, что все произошло не так, как я страстно желала. «Что же делать, милый мой! — ответила я Сане, когда в одном письме он сетовал на себя за то, что вытащил меня в Ленинград и бросил, да еще с целым семейством. — Как говорит старый судья, в жизни не закажешь».
Я писала ему часто длинные письма о «научной» няне, о том, как быстро меняется маленький Петя, о том, как большой вдруг с жадностью накинулся на работу, и проект памятника Пушкину выходит замечательно, превосходно…
Но я не писала ни слова о том, как однажды, покупая что—то в «Гастрономе», на проспекте 25 Октября, я увидела за окном знакомую фигуру в сером пальто и в мягкой шляпе, той самой, которая была куплена ради меня и которая неловко стояла на квадратной большой голове…
Темнело, я могла ошибиться. Но нет, это был Ромашов. Сдержанный, бледный, немного наклонясь вперед, он медленно прошел мимо витрины и затерялся в толпе.
ЧАСТЬ 7. РАЗЛУКА.
Глава 1. ПЯТЬ ЛЕТ.
Не помню, где я читала стихотворение, в котором годы сравниваются с фонариками, висящими «на тонкой нити времени, протянутой в уме».
И одни фонарики горят ярким, великолепным светом, а другие чадят и дымно вспыхивают в темноте.
Мы живем в Крыму и на Дальнем Востоке. Я — жена летчика, и у меня много новых знакомых — жен летчиков в Крыму и на Дальнем Востоке… Так же, как они, я волнуюсь, когда в отряд приходят новые машины. Так же, как они, я без конца звоню в штаб отряда, надоедаю дежурному, когда Саня уходит в полет и не возвращается в положенное время. Так же, как они, я уверена, что никогда не привыкну к профессии мужа, и так же, как они, в конце концов, привыкаю. Это почти невозможно, но я не оставляю своей геологии, хотя старенькая профессорша, которая до сих пор зовет меня «деточкой», утверждает, что «не выйди я замуж, да еще за летчика, давным давно получила бы кандидата». Она берет свои слова обратно, когда поздней осенью 1936 года я возвращаюсь в Москву с Дальнего Востока с новой работой, которую я сделала вместе с Саней. Аэромагнитная разведка! Поиски железных руд с самолета.
Теперь Иван Павлович не мог бы сказать: «Ты его не знаешь». Как в заброшенном, покинутом доме горит по ночам загадочный свет и длинные, тонкие полоски пробиваются между щелями заколоченных ставен, так в далекой глубине Саниных мыслей и чувств я вижу свет арктических звезд, озаривших его детские годы. Закрыты, заколочены ставни. Но светлые полоски пробиваются, падают на дорогу, по которой мы идем, то находя, то теряя друг друга.
— Саня, теперь я поняла, кто ты.
Мы в купе международного вагона Владивосток—Москва. Невероятно, но факт — десять суток мы проводим под одной крышей, не расставаясь ни днем, ни ночью. Мы завтракаем, обедаем и ужинаем за одним столом. Мы видим друг друга в дневные часы — говорят, что есть женщины, которым это не кажется странным.
— Кто же?
— Ты — путешественник.
— Да, Владивосток—Иркутск, отлет с Приморского аэродрома, семь сорок четыре.
— Это ничего не значит. Тебя не пускают. Но все равно — ты путешественник по призванию, по страсти. Только путешественник мог спросить, сколько лет рыбе, которую мы съели за обедом.
Он смеется.
— Только путешественники так боятся канцелярских бумаг. Только путешественники так стесняются, когда дарят цветы. Только путешественники так свистят и думают о своем и по утрам мучают своих жен зарядкой из двадцати четырех упражнений.
— Не считая холодного обтирания.
— Да. Только путешественники так не стареют.
— Я старею.
— Ты знаешь, мне всегда казалось, что у каждого человека есть свой характерный возраст. Один родится сорокалетним, а другой на всю жизнь остается мальчиком девятнадцати лет. Ч. такой, и ты — тоже. Вообще многие летчики. Особенно те, которые любят перелетать океаны.
— А ты думаешь, я из тех, которые любят перелетать океаны?
— Да. Ты не бросишь меня, когда перелетишь океан?
— Нет. Но меня вернут с полдороги.
Я молчу. «Меня вернут» — это уже совсем другой разговор. Это разговор о том, как жизнь моего отца, которую Саня сложил из осколков, разлетевшихся от Энска до Таймыра, попала в чужие руки. Портрет капитана Татаринова висит в Географическом обществе, в Арктическом институте. Поэты посвящают ему стихи, в огромном большинстве довольно плохие. В БСЭ помещена большая статья о нем, подписанная скромными инициалами Н.Т. Его путешествие вошло в историю русского завоевания Арктики наряду с путешествиями Седова, Русанова, Толя…
И чем выше поднимается его имя, тем все чаще произносится рядом с ним имя его двоюродного брата, почтенного ученого—полярника, пожертвовавшего всем своим состоянием, чтобы организовать экспедицию «Св. Марии», и посвятившего всю свою жизнь биографии великого человека.
Заслуги Николая Антоныча оценены по достоинству, книга «В ледяных просторах» издается каждый год для детей и для взрослых. В газетах сообщается о каких—то «ученых советах» под его председательством. На «ученых советах» он произносит речи, и в этих речах я нахожу следы старого спора, окончившегося в тот день и час, когда женщину с очень белым лицом вынесли на холодный каменный двор и навсегда увезли из дома. Но нет, еще не кончился этот спор! Недаром же почтенный ученый не устает повторять в своих книгах, что в гибели капитана Татаринова виноваты «промышленники» и, в частности, некто фон Вышимирский. Недаром почтенный ученый приводит доводы, которыми некогда пытался уличить во лжи школьника, разгадавшего его тайну.
Теперь он молчит, этот школьник. Но все впереди.
Он молчит и работает без устали, днем и ночью. На Волге он опыляет водоемы. Он возит почту Иркутск—Владивосток и счастлив, когда удается за двое суток доставить во Владивосток московские газеты. Он получает звание пилота второго класса, и не он, а я оскорблена за него, когда он просит — в который раз! — отправить его на Север и когда вместо ответа его снова превращают в «воздушного извозчика», на этот раз между Симферополем и Москвою. Что же это за тайная тень, которая каждый раз ложится поперек его дороги? Не знаю. Не знает и он.
Он работает, и ему говорят, что он работает превосходно. Но только я одна догадываюсь, как устал он от этих однообразных рейсов, похожих один на другой, как тысяча братьев…
— На днях я нашел старую записную книжку. Знаешь, что написано на первой странице?
В белом платье я стою рядом с ним на белой, нарядной палубе парохода. Саня в отпуске, и я так счастлива, что он в отпуске и что мы вдруг решили поехать в Севастополь, а оттуда и сами не знаем куда.
— «Вперед» — называется его корабль. «Вперед», — говорит он и действительно стремится вперед. Нансен об Амундсене…» Это было моим девизом, когда мне было четырнадцать лет. Здорово, да? А теперь вперед и назад. Москва—Симферополь.
…То разгорается, то гаснет фонарик, то горе, то радость освещает его колеблющийся свет. Время бежит, не оглядываясь, и останавливается лишь на один вечер, когда Саня рассказывает — не мне — всю свою жизнь. В саду клуба летчиков в Татарском поселке происходит этот большой разговор. Сад разбит вдоль покатого склона, дорожки сбегают вниз и через заросли цветущего иудина дерева пробираются к морю. Гравий скрипит под осторожными шагами входящих летчиков. Вдруг налетает ветер и вместе с ним лепестки вишен и яблонь из садов Ай—Василя. Это открытое партийное собрание, открытое в буквальном смысле слова — на площадке перед эстрадой, под южным, быстро темнеющим небом.
Саня рассказывает связно, спокойно, но я—то знаю, что скрывается за этими внезапными паузами, которыми он останавливает себя, когда начинает говорить слишком быстро. Волнуется. Еще бы!
Я слушаю Саню — и наша полузабытая юность встает передо мной, как в кино, когда чей—нибудь голос неторопливо говорит о своем, а на экране идут облака и вдоль широкой равнины далеко простирается туманная лента реки. Утро. И юность кажется мне туманной, счастливой.
Худенький черный комсомолец с хохолком на макушке судит Евгения Онегина в четвертой школе. На катке он впервые говорит мне, что идет в летную школу. Я вижу его в Энске, в Соборном саду, потрясенного тем, что он прочел в старых письмах. В Москве, на Севере, снова в Москве — перед целым миром он готов отстаивать свою правоту.
Но довольно воспоминаний! Послушаем, что о нем говорят.
Его воспитала школа. Советское общество сделало его человеком — вот что о нем говорят. Он выделяется своей начитанностью, культурностью. Как летчик он еще в 1934 голу получил благодарность от Ненецкого национального округа за отважные полеты в трудных полярных условиях и с тех пор далеко продвинулся вперед, усвоив, например, технику ночного полета. Конечно, у него есть недостатки. Он вспыльчив, обидчив, нетерпелив. Но на вопрос: «Достоин ли товарищ Григорьев звания члена партии?» — мы должны ответить: «Да, достоин».
…Зимой 1937 гола Саню перебрасывают в Ленинград, мы живем у Беренштейнов, и все, кажется, было бы хорошо, если бы, просыпаясь по ночам, я не видела, что Саня лежит с открытыми глазами. Каждую неделю на Невском в театре кинохроники мы смотрим испанскую войну. Юноши в клетчатых рубашках скрываются среди развалин Университетского городка под Мадридом с винтовками в руках — и вот поднялись, пошли в атаку. Пятый полк получает оружие. Из осажденного Мадрида увозят детей, и матери плачут и бегут за автобусами, а дети машут, машут — да правда ли это? Правда. Так пускай же никогда и нигде не повторится эта горькая правда. Никогда и нигде! Откуда же эти подступившие к горлу слезы, это горькое предчувствие, этот вихрь волнения, вдруг проносящийся в темноте маленького, душного зала?
А через две недели мы с Саней стоим в тесной передней у Беренштейнов, среди каких—то старых шуб и ротонд, стоим и молчим. Последние четверть часа перед новой разлукой! Он едет в штатском, у него странный, незнакомый вид в этом модном пальто с широкими плечами, в мягкой шляпе.
— Саня, это ты? Может быть, это не ты?
Он смеется:
— Давай считать, что не я. Ты плачешь?
— Нет. Береги себя, мой дорогой, мой милый.
Он говорит «я вернусь» и еще какие—то ласковые перепутанные слова. А я не помню, что говорю, только помню, что прошу его не пренебрегать парашютом. Он не всегда берет с собой парашют.
Куда он едет? Не знаю. Он говорит, что на Дальний Восток. Почему в штатском? Почему, когда я начинаю спрашивать его об этой командировке, он не сразу отвечает на мои вопросы, а сперва подумает, потом скажет? Почему, когда поздней ночью ему звонят из Москвы, он отвечает только «да» или «нет», а потом долго ходит по комнате и курит, взволнованный, веселый и чем—то довольный? Чем он доволен? Не знаю, мне не положено знать. Почему я не могу проводить его на вокзал — ведь он же едет на Дальний Восток!
— Это не совсем удобно, — отвечает Саня, — я еду не один. Может быть, я еще не уеду. Если это будет удобно, я позвоню тебе с вокзала.
Он звонил мне с вокзала — поезд отходит через десять минут. Не нужно беспокоиться, все будет прекрасно. Он будет писать мне через день. Конечно, он не станет пренебрегать парашютом…
Время от времени я получаю письма с московским штемпелем. Судя по этим письмам, он аккуратно получает мои. Незнакомые люди звонят по телефону и справляются о моем здоровье. Где—то за тысячи километров, в горах Гвадаррамы, идут бои, истыканная флажками карта висит над моим ночным столиком, Испания, далекая и таинственная, Испания Хосе Диаса и Долорес Ибаррури становится близка, как улица, на которой я провела свое детство.
В дождливый мартовский день республиканская авиация, «все, что имеет крылья», вылетает навстречу мятежникам, задумавшим отрезать Валенсию от Мадрида. Это победа под Гвадалахарой. Где—то мой Саня?
В июле армия республиканцев отбрасывает мятежников от Брунето. Где—то мой Саня? Баскония отрезана, на старых гражданских самолетах, в тумане, над горами нужно лететь в Бильбао. Где—то мой Саня?..
«Командировка затягивается, — пишет он, — мало ли что может случиться со мной. Во всяком случае, помни, что ты свободна, никаких обязательств».
У букиниста на проспекте Володарского я покупаю русско—испанский словарь 1836 года, изорванный, с пожелтевшими страницами, и отдаю его в переплетную. По ночам я учу длинные испанские фразы: «Да, я свободна от обязательств перед тобой. Я бы просто умерла, если бы ты не вернулся». Или: «Дорогой, зачем ты пишешь письма, от которых хочется плакать?»
Я бормочу эти испанские фразы, и, должно быть, дико, странно звучат они в темноте, потому что «научная няня», думая, что я брежу, встает и тихо крестит меня…
И вдруг происходит то, что казалось невозможным, невероятным. Происходит очень простая вещь, от которой все становится в тысячу раз лучше — погода, здоровье, дела.
Он возвращается, — поздней ночью звонит Москва, испуганная Розалия Наумовна будит меня, я бегу к телефону… А еще через несколько дней похудевший, загорелый и впрямь чем—то похожий на испанца, он стоит передо мной. Своими руками я прикрепляю орден Красного Знамени к его гимнастерке.
…Осенью мы отправляемся в Энск. Петя с сыном и «научной няней» проводят в Энске каждое лето, в каждом письме тетя Даша зовет нас в Энск, и вот мы едем наконец — утром решаем, а вечером я стою у вагона и ругаю Саню, потому что до отхода поезда осталось не больше пяти минут, а его еще нет — поехал за тортом. Он вскакивает на ходу — запыхавшийся, веселый.
— Чудачка, у них же там нет таких тортов!
— Сколько угодно!
— А конфеты?
Пожалуй, таких конфет действительно нет в Энске: даже нельзя понять, как открывается коробка, и на маленьком красном медальоне написано золотыми буквами: «Будьте здоровы, живите богато».
Мы долго сидим в полутемном купе, не зажигая огня.
Когда это было? Как взрослые, мы возвращались из Энска, и старые нигилистки с большими смешными муфтами на шнурах провожали нас. Маленький небритый мужчина все гадал, кто мы такие: брат и сестра? Не похожи! Муж и жена? Рановато! А какие были яблоки — красные, крепкие, зимние! Почему получается, что такие яблоки едят только в детстве?
— Это и был день, когда я влюбился в тебя.
— Нет. Ты влюбился, когда мы однажды шли с катка и ты угощал меня стручками, а я отказалась, и ты отдал стручки какой—то девчонке.
— Это ты тогда влюбилась.
— Нет, я знаю, что ты. А то бы не отдал.
Он думает очень серьезно.
— А когда же ты?
— Не знаю… Всегда.
Мы стоим в коридоре и, как тогда, провожаем глазами ныряющие и взлетающие провода. Все уже не то и не так, а все—таки по—прежнему — счастье. Толстый усатый проводник все посматривает на нас — или на меня? — и, вздохнув, говорит, что у него тоже красивая дочка…
Энск. Раннее утро. Трамваи еще не ходят, и нужно идти через весь город пешком. Вежливый оборванец несет наши вещи и болтает, болтает без конца — напрасно мы уверяем его, что сами родом из Энска. Он знает всех: покойных Бубенчиковых, тетю Дашу, судью, в особенности судью, с которым ему не раз приходилось встречаться.
— Где же?
— В судебной камере Ленинского района.
На площади, у возов, с которых колхозники продают яблоки и капусту, с большим кочаном в руках, постаревшая, задумчивая — взять или нет? — стоит тетя Даша.
Саня окликает ее, она по—стариковски строго глядит на него из—под очков и вдруг беспомощно роняет кочан на землю.
— Санечка! Милые вы мои! Да как же это? На базар пришли?
— Нет, тетя Даша, это мы по дороге. Тетя Даша — жена.
Он подводит меня к тете Даше, и на Энском базаре прекращается торговля — даже лошади, и те, вынув морды из мешков, с интересом смотрят, как я целуюсь с тетей Дашей…
Дом Маркузе на Гоголевской с львиными мордами по обеим сторонам подъезда. Завтрак в тети Дашином вкусе, после которого страшно подумать, что бывают на свете еще обед и ужин. Разговор по телефону с судьей, который находится в районе на выездной сессии, судя по слабому, далекому голосу — где—то на той стороне земного шара. Маленький Петя, которому уже третий год, — а давно ли, кажется, обсуждался генеральный вопрос: давать ему соску или нет, укачивать его на руках или в кроватке?
Большого Петю мы находим в Соборном саду, на том самом месте, где он и Саня лежали когда—то, стараясь днем увидеть луну и звезды. Здесь они читали письмовник, здесь дали друг другу «кровавую клятву дружбы».
Сложив ноги, как турок, Петя сидит, держа на коленях большой полотняный альбом. Он пишет Решетки — то место, где Песчинка сливается с Тихой, и Покровский монастырь, белый, строгий, уже врезан в огромный солнечный воздух, а за ним, на том берегу, поля и поля.
— Виноват, гражданин, вы тут маляра не видали?
Он оборачивается и с изумлением смотрит на нас.
— Тут маляр проходил, — продолжает Саня, — такой в пиджачке, конопатый.
И Петя вскакивает — неуклюжий, длинный, худой.
— Приехали? И Катя? Ну, молодцы! Вот рад! Ну, рассказывайте! Саня, ведь ты оттуда?
— Я оттуда.
Часа два мы сидим у башни старца Мартына, потом спускаемся вниз на набережную и садами обходим весь город. Как он хорош осенью! Как красны клены в Ботаническом саду! Как хорошо пройтись по заброшенной, забытой аллее к обрыву, под которым правильными рядами стоят низкие яблони, обмазанные чем—то белым!
— Когда—то мы лазили сюда за яблоками. И ты врал, что у сторожей ружья заряжены солью.
— А вот и не врал! Интересно, какими мы были мальчиками? Вот ты, например, видишь себя мальчиком? Я — нет.
— Ты был довольно странным мальчиком. Помнишь, ты однажды выдумал, что у крыс бывает царица—матка? А Туркестан? Это была мечта. Ты уже и тогда был художником, во всяком случае — человеком искусства.
— А мне казалось, что именно ты будешь художником. Ведь ты хорошо лепил. Почему ты бросил?
Я смотрю на Саню — выдать или нет, но он делает мне страшные глаза, и я не говорю ни слова. В свободное время он и теперь еще лепит, разумеется, для себя.
Судья приезжает поздно вечером, когда мы его уже давно не ждем. Вдруг где—то за углом начинает стрелять и фыркать «газик», и старик появляется на дорожке в белом запыленном картузе, с двумя портфелями в руках.
— Ну, которые тут гости? Сейчас умоюсь и приду целоваться.
И мы слышим, как он долго, с наслаждением кряхтит в кухне, и тетя Даша ворчит, что он снова залил весь пол, а он все кряхтит и фыркает и говорит: «Ох, хорошо!» — и, наконец, появляется, причесанный, в туфлях на босу ногу, в чистой толстовке. По очереди он тащит нас на крыльцо — рассматривать, сперва меня, потом Саню. Орден он рассматривает отдельно.
— Ничего, — говорит он с удовольствием. — Шпала?
— Шпала.
— Значит, капитан?
— Капитан.
И он крепко жмет Санину руку.
Так проходит этот прекрасный вечер в Энске, — мы так редко собираемся всей семьей, а между тем очень любим друг друга, и теперь, когда мы, наконец, встречаемся, всем кажется странным, что мы живем в разных городах.
До поздней ночи мы сидим за столом и болтаем, болтаем без конца. Мы вспоминаем Сашу и говорим о ней просто, свободно, как если бы она была среди нас. Она среди нас — с каждым месяцем маленький Петя все больше становится похож на нее: тот же монгольский разрез глаз, те же поросшие мягкими темными волосиками виски. Наклоняя голову, он так же высоко поднимает брови…
Саня рассказывает об Испании, и странное, давно забытое чувство охватывает меня: я слушаю его, как будто он рассказывает о ком—то другом. Так это он, вылетев однажды на разведку, увидел пять «юнкерсов» и без колебаний пошел к ним навстречу? Это он, проносясь между «юнкерсами», стрелял почти наугад, потому что не попасть было невозможно? Это он, закрыв перчаткой лицо, в прогоревшем реглане, посадил разбитый самолет и через час поднялся в воздух на другом самолете?
Судья слушает его — и детским удовольствием сияют его глаза из—под косматых седых бровей. С бокалом в руке он встает и произносит речь — еще в поезде Саня говорил мне, что судья непременно скажет речь.
— Не буду говорить высоких слов, хотя то, что ты сделал, Саня, стоит, чтобы говорить об этом высокими словами. Когда—то ты сказал мне, что хочешь стать летчиком, и я спросил: «Военным?» Ты ответил: «Полярным. А придется — военным». И вот — военный, боевой летчик, ты сидишь передо мной, и я с гордостью вспоминаю, что могу законно считать тебя за родного сына. Но и другие мысли приходят в голову, когда я вижу тебя перед собой. Я хочу сказать о твоей благородной мечте найти экспедицию капитана Татаринова, мечте, согревшей твои молодые годы. Ты как бы поставил своей задачей вмешаться в историю и исправить ее по—своему. Это правильно. На то мы и большевики—революционеры. И, зная тебя с детских лет, я верю, что рано или поздно, но ты решишь эту большую задачу.
Мы чокаемся, и Саня говорит по—испански:
— Salud!.. Будем считать, что «путешествие в жизнь» еще только началось, — говорит он. — Корабль вчера покинул гавань, и еще виден вдалеке маяк, пославший ему прощальный привет: «Счастливого плавания и достижений». Когда—то, маленькие, но храбрые, мы шли по темным и тихим улицам этого города. Мы были вооружены одним финским ножом на двоих, тем самым ножом, для которого Петя сшил чехол из старого сапога. Но мы были вооружены лучше, чем это может показаться с первого взгляда. Мы шли, потому что дали друг другу клятву: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Мы шли — и путь еще не кончен.
И, высоко подняв бокал, Саня пьет до дна и со звоном разбивает его о стену…
В 1939 году мы в Москве — и часто бываем у Вали и Киры на Сивцевом—Вражке. Тесно стало в квартире на Сивцевом—Вражке.
В «кухне вообще» спит маленькая беленькая девочка с косичками и с таким же большим, крепким, как у мамы Киры, носом. В чулане, из которого Валя когда—то сделал фотолабораторию, висят пеленки. В «собственно кухне» Саня едва не садится на сверток, из которого выглядывает серьезное, рассеянное личико с черной прядкой волос на лбу — не хватает, кажется, только очков в роговой оправе, чтобы услышать лекцию о гибридах чернобурых лисиц.
Девочка уже читает стихи «с выражением», и вы чувствуете солидную школу Кириной мамы, во всем противоположную школе окончательно зазнавшейся Варвары Рабинович.
О чем же — бродяги и путешественники — мы с Саней думаем, сидя среди таких милых, таких «детных» друзей на Сивцевом—Вражке?
Конечно, о том, что всю жизнь мы живем под чужой крышей, о том, что у нас нет своего дома, хотя бы такого маленького и тесного, как у Вали и Киры.
И мы решаем, что теперь у нас будет такой дом — в Ленинграде…
То разгорается, то гаснет фонарик, то горе, то радость освещает его колеблющийся свет.
В ясный зимний день мы стоим у Кремлевской стены, перед черной мраморной дощечкой, на которой высечено простое имя человека, которого мы любили. Саня вспоминает, как однажды он шел к нему, стараясь медленно думать, чтобы перестать волноваться, и, когда пришел, обратился к нему, как будто по телефону:
— Товарищ Ч.? Это говорит Григорьев.
Прошел уже год, как большой город назван именем этого человека, сотни прекрасных улиц, театры, парки, сады, а нам с Саней все странным кажется, что никогда больше мы не услышим его низкий окающий голос…
В 1941 году мы переезжаем в Ленинград — окончательно, если это удастся. Мы снимаем дачу из трех комнат, с колодцем и старым, красивым, похожим на древнерусского стрельца хозяином, которого Петя немедленно принимается рисовать. Мы живем на даче всей семьей — оба Пети с «научной няней» в этом году не поехали в Энск, — купаемся в озере, пьем чай из настоящего пузатого медного самовара, и мне кажется странным, что такой прекрасной тишины, такого счастья другие женщины даже не замечают.
По субботам мы встречаем Саню. Всей семьей мы отправляемся на станцию, и, разумеется, больше всех ждет дядю Саню маленький Петя — в тайной надежде на этот раз получить броненосец. Надежда оправдывается — с большим великолепным кораблем Саня прыгает со ступенек прошедшего мимо нас вагона, машет нам, но почему—то идет рядом с вагоном. Поезд останавливается, он протягивает руку. Маленькая, сухонькая старушка спускается по лесенке с бодрым, озабоченным лицом. В одной руке у нее зонтик, в другой — полотняный кошель—саквояж. Я готова не поверить глазам. Но это бабушка — в нарядном чесучовом костюме, в задорной соломенной шляпке, бабушка, которую Саня почтительно ведет под руку, оберегая от шумной толпы, сразу заполнившей небольшой перрон…
Глава 2. О ЧЕМ РАССКАЗАЛА БАБУШКА.
Нужно сказать, что некоторые черты в характере моей бабушки стали казаться мне загадочными в последнее время. Всегда она с иронией относилась к картам, а тут вдруг увлеклась гаданьем, да так, что стала носить с собою колоду. Гадала она на червонного короля, с которым, очевидно, у нее были сложные отношения.
— Так ты вот что задумал, голубчик, — говорила она сердито, — хорошо! А казенный дом тебе не по вкусу?..
Вдруг она вскакивала среди разговора и спешила домой — «по хозяйству», хотя только что жаловалась, что дома скучно и нечего делать.
— Нет, нужно идти, — испуганно говорила она. — Как же! Обязательно нужно!
Всегда она очень любила ходить в кино, а теперь даже испугалась, когда я ее пригласила.
— Ходить в кинотеатр, — сказала она степенно, — следует исключительно в зависимости от качества фильма.
«Исключительно в зависимости от качества» — так обстоятельно моя бабушка прежде не говорила.
Разумеется, я догадывалась, кто был червонный король, которому в глубине души бабушка сулила казенный дом, и почему она вдруг начинала спешить домой, и откуда эти длинные круглые фразы. Николай Антоныч — вот кто занимал все мысли моей бедной бабки.
Это была его власть, его удивительное влияние!
Не раз я принималась уговаривать ее пожить со мной хотя бы те немногие дни, которые мы с Саней проводили в Москве, — какое там, не хотела и слышать!
— Уйду, а он найдет, — сказала она загадочно. — Нет, уж, видно, судьба такая.
— Как это найдет? Очень ты ему нужна! Да он тебя и искать не станет.
Бабушка помолчала.
— Нет, станет! Для него это важно.
— Почему?
— Потому что тогда выходит — все по его. Если я в его доме живу. Не по—вашему. Небось, он мне каждый вечер читает.
Каждый вечер Николай Антоныч читал бабушке свою книгу…
Мне очень хотелось, чтобы она переехала к нам, когда мы решили устроить свой дом в Ленинграде. Но с каждой новой встречей я убеждалась в том, что это невозможно. Все меньше бабушка ругала Николая Антоныча и все больше говорила о нем с каким—то суеверным страхом. Очевидно, в глубине души она была убеждена в его сверхъестественной силе.
— Я только подумаю, а он уже знает, — однажды сказала она. — На днях задумала пироги печь, а он говорит. «Только не с саго. Это тяжело для желудка».
Что же должно было случиться, чтобы, вдруг появившись на станции Л., моя бабушка бодро зашагала к нам с зонтиком в одной руке и полотняным саквояжем — в другой?
Дорогой она спросила, обязательно ли прописываться у нас на даче.
— Можно и так жить, без прописки, — отвечала я. — А почему это тебя беспокоит?
— Нет уж! Пускай пропишут, — махнув рукой, сказала бабушка, — теперь мне все равно.
Я тысячу раз писала и рассказывала ей о большом и маленьком Пете, о покойной Саше; Петя даже и бывал у нас, когда я девушкой жила на 2—й Тверской—Ямской, так что бабушка была с ним знакома. Но она так церемонно поздоровалась с ним, как будто увидала впервые. Маленького Петю она поцеловала с рассеянным видом, а о «научной няне» холодно заметила, что у нее «зверское выражение лица».
Не было ни малейших сомнений, что бабушка потрясена. Но чем? Это была загадка.
В мезонине — мы снимали две комнаты «с мезонином», который был как будто нарочно построен для бабушки: такой же маленький и сухонький, как она, — она, прежде всего, проверила шпингалеты на окнах и запираются ли двери на ключ.
— Ну, ладно, бабка, мне это надоело, — сказала я решительно. — Вот я закрою двери, никто не услышит. И чтобы сейчас же рассказать, в чем дело.
Бабушка помолчала.
— И расскажу! Ишь, напугала!
…Она поспала, умылась и явилась к столу помолодевшая, нарядная, в платье с буфами и в кремовых ботинках с длиннейшими носами.
— Экономку взял, — сказала она без предисловий. — И говорит: «Не экономка, а секретарь. Это будет мне помощь». А она мне на плиту грязные туфли ставит. Вот тебе и помощь!
Грязные туфли на плиту поставила какая—то Алевтина Сергеевна. Это было очень интересно. Мы сидели в саду, бабушка гордо рассказывала, и пока еще трудно было понять, в чем дело. Я видела, что Пете до смерти хочется ее нарисовать, и погрозила ему, чтобы не смел. Сане я тоже погрозила — он едва удерживался от смеха. Серьезно слушал только маленький Петя.
— Если ты секретарь, зачем туфли совать, где я готовлю? Это я не позволю никогда. А может быть, я сегодня плиту затоплю?
— Ну?
— И затопила.
— Ну?
— И сгорели, — гордо сказала бабушка. — Не ставь. Мы так и покатились со смеху.
Словом, экономка осталась без туфель, и это заставило Николая Антоныча пригласить к себе бабушку для серьезного разговора.
— «Я такой, я сякой!» — И бабушка надулась и изобразила, как Николай Антоныч говорит о себе. — А ты помолчи, если лучше всех. Пускай другие скажут. Квартиру мне показал: «Нина Капитоновна, выбирайте!»
Квартиру Николай Антоныч получил в новом доме на улице Горького, и моей бедной бабке было предложено выбрать любую комнату в этой великолепной квартире. Целый месяц он разъезжал по Москве — выбирал мебель. Квартира на 2—й Тверской—Ямской должна была, по мысли Николая Антоныча, превратиться в «Музей капитана Татаринова». Очевидно, его мало смущало то обстоятельство, что капитан Татаринов никогда не переступал порога этой квартиры.
— А я поклонилась и говорю: «Покорно вас благодарю. Я еще по чужим домам не жила».
Именно после этого разговора бабушке пришла в голову мысль — удрать от Николая Антоныча и переехать к нам. Но как же она боялась его, если вместо того, чтобы просто сложиться и уехать, она, прежде всего, помирилась с ним и даже постаралась расположить к себе экономку. Она разработала сложнейший психологический план, основанный на отъезде Николая Антоныча в Болшево, в Дом отдыха ученых. Впервые за двадцать лет она снялась с места и тайно исчезла из Москвы, с зонтиком в одной руке и полотняным саквояжем — в другой…
…Саня всегда вставал в седьмом часу, и мы еще до завтрака шли купаться. Так было и этим утром, которое ничем, кажется, не отличалось от любого воскресного утра.
Конечно, ничем! Но почему же я так помню его? Почему я вижу, точно это было вчера, как мы с Саней, взявшись за руки, бежим вниз по косогору и он, балансируя, скользит по осине, переброшенной через ручей, а я снимаю туфли, иду вброд, и нога чувствует плотные складки песчаного дна? Почему я могу повторить каждое слово нашего разговора? Почему мне кажется, что я до сих пор чувствую сонную, туманную прелесть озера, наискосок освещенного солнцем? Почему с нежностью, от которой начинает щемить на душе, я вспоминаю каждую незначительную подробность этого утра — капельки воды на смугло—румяном Санином лице, на плечах, на груди и его мокрый хохолок на затылке, когда он выходит из воды и садится рядом со мной, обняв руками колени? Мальчика в засученных штанах, с самодельной сеткой, которому Саня объяснял, как ловить раков — на костер и на гнилое мясо?
Потому что прошло каких—нибудь три—четыре часа, и все это — наше чудное купанье вдвоем, и сонное озеро с неподвижно отраженными берегами, и мальчик с сеткой, и еще тысяча других мыслей, чувств, впечатлений, — все это вдруг ушло куда—то за тридевять земель и, как в перевернутом бинокле, представилось маленьким, незначительным и бесконечно далеким…
Глава 3. «ПОМНИ, ТЫ ВЕРИШЬ».
Если бы можно было остановить время, я бы сделала это в ту минуту, когда, бросившись в город и уже не найдя Саню, я зачем—то слезла с трамвая на Невском и остановилась перед первой сводкой главного командования, вывешенной в огромном окне «Гастронома». Стоя перед самым окном, я прочитала сводку, потом обернулась, увидела серьезные, взволнованные лица, и странное чувство вдруг охватило меня: это чтение происходило уже в какой—то новой, неизвестной жизни. В неизвестной, загадочной жизни был этот вечер, первый теплый вечер за лето, и эти бледные, шагающие по тротуару тени, и то, что солнце еще не зашло, а над Адмиралтейством уже стояла луна. Первые в этой жизни слова были написаны жирными буквами во всю ширину окна, все новые и новые люди подходили и читали их, и ничего нельзя было изменить, как бы страстно этого ни хотелось.
Розалия Наумовна передала мне Санину записку, и я все вынимала ее из сумочки и читала.
«Милый Пира—Полейкин, — было торопливо написано на голубоватом листке из его блокнота, — обнимаю тебя. Помни, ты веришь».
Когда мы жили в Крыму, у нас был пес Пират, который всегда ходил за мной, когда я поливала клумбы, и Саня смеялся и называл нас обоих сразу «Пира—Полейкин»… «Помни, ты веришь» — это были его слова. Я как—то сказала, что верю в его жизнь. У него было превосходное настроение, вот в чем дело! Мы не простились, он уехал в одиннадцать, а в городе я его уже не застала, но об этом он даже не упоминал в своей записке, это было совершенно не важно.
Зачем—то я вернулась на дачу, провела там ночь, кажется, не спала ни одной минуты, и все—таки спала, потому что вдруг проснулась растерянная, с бьющимся сердцем: «Война. Ничего нельзя изменить».
Я встала и разбудила няню.
— Нужно укладываться, няня. Мы завтра едем.
— Семь пятниц на неделе! — сердито зевая, сказала няня.
Она сидела на кровати сонная, в длинной белой кофте и ворчала, а я ходила из угла в угол и не слушала ее, а потом распахнула окно. И там, в молодом, легком лесу, была такая тишина, такое счастье покоя!
Бабушка услышала наш разговор и позвала меня.
— Ну, Катя, что с тобой? — спросила она строго.
— Бабушка, мы не простились! Как это вышло, что мы не простились!
Она глядела на меня и целовала, потом украдкой перекрестила. «Хорошо, что не простились, — примета хорошая: значит, скоро вернется», — говорила она, а я чувствовала, что плачу и что я больше не могу, не могу, а что не могу, и сама не знаю…
Петя приехал вечерним поездом, озабоченный, усталый, но решительный, что было вовсе на него не похоже.
От него я впервые услышала о том, что детей будут вывозить из Ленинграда, и так дико показалось мне, что нужно уезжать с дачи, где было так хорошо, где мы с няней посадили цветы — левкои и табак — и первые нежные ростки уже показались на клумбах. Везти маленького Петю в переполненном, грязном вагоне, в жару — весь июнь был холодный, а в эти дни началась жара, духота, — и не только в Ленинград, а куда—то еще, в другой, незнакомый город!
Петя сказал, что Союз художников отправляет детей в Ярославскую область. Петеньку и Нину Капитоновну он уже записал. Насчет няни сложнее — придется хлопотать.
Очень быстро он уложил вещи, сбегал куда—то за подводой и отправился наверх, к бабушке, которая объявила, что в Ярославскую область она не поедет. Не знаю, о чем они говорили и почему именно к Ярославской области у бабушки было такое отвращение, но через полчаса они спустились вниз, очень довольные друг другом, и бабушка сейчас же принялась пришивать к мешкам лямки и язвительно критиковать научные действия няни.
Все что—то делали, кроме меня; даже маленький Петя, который деловито укладывал в детский фанерный чемоданчик свои игрушки и старался открутить у паяца голову, потому что она не влезала в чемоданчик.
Усталая, разбитая, я сидела среди всего этого разгрома и беспорядка отъезда и в конце концов, дождалась того, что Петя подошел ко мне и сказал ласково:
— Катя, голубчик, очнитесь!
…Не стану рассказывать о том, как мы вернулись в Ленинград, как Петя потащил меня в Союз художников и сказал кому—то, что я все могу, и как меня сейчас же засадили за бесконечные списки.
Детей приказано было отправлять без мам и нянек, и главная борьба шла вокруг этих мам и нянек, которых вычеркивали и потом они каким—то образом снова оказывались в списках.
Должно быть, я неважно справлялась с этим делом, потому что маленькая свирепая художница вдруг отобрала у меня эти списки, и уж у нее—то, надо полагать, ни одна мама или няня не получила ни малейшего снисхождения. Наша няня была вычеркнута одной из первых.
Ярославскую область нужно было еще отстаивать в горсовете, так же, как классные, а не товарные вагоны, так же, как сотни других вещей, которые невозможно было предвидеть, потому что все, что происходило в эти дни, никогда не происходило прежде.
И мы ходили в горсовет и к ректору Академии художеств, чтобы он позвонил в горсовет, принимали вещи и продукты в дорогу, шили нарукавники с номерами, и как—то получилось, что я тоже стала одной из тех женщин, которые должны были все знать и к которым обращались другие.
Отъезд был назначен на пятое июля, потом на шестое. Теперь кажется странным, что эти волнения и сборы, это горе предстоящей разлуки с детьми, каждый час подступавшие все ближе и, наконец, охватившие весь огромный четырехмиллионный город, что все это продолжалось всего несколько дней.
…Состав запоздал, и дети долго стояли в зале ожидания между рядами взрослых, — это было сделано, чтобы родители не мешали посадке. Но ряды давно сбились, и матери, усталые, подурневшие, давно уже стояли подле своих детей. Было жарко, дети просили пить, нужно было уговаривать их потерпеть, и эта пыль и духота июльского дня тоже как—то участвовали в общем горе разлуки.
Наконец двинулись — сперва старшие школьники, потом младшие, потом совсем маленькие, шести и семилетние лети. Они шли, взявшись за руки, бодро, но это было невозможно, невозможно видеть без слез, как они идут, такие маленькие и уже с мешками за спиной! Уезжают куда—то, — куда? Еще дома я сразу расстраивалась, когда под руки попадался Петенькин заплечный мешок. Каждый двинулся за своим ребенком, и я двинулась вслед за Петенькой, который шел в паре с кругленькой, аккуратной девочкой. Как все, я остановилась в заторе у входных дверей — дальше родителей не пускали. Как все, я проводила его взглядом, прикусив губу, чтобы все—таки не заплакать, а потом побежала на багажную станцию, потому что привезли вещи и нужно было присматривать, чтобы детский багаж не спутали со взрослым.
Поезд должен был отойти в четыре часа и отошел совершенно точно. Петя прибежал в последнюю минуту — потом я узнала, что он ездил с ректором в Смольный. Сына подали ему через окно, он взял его на руки и немного постоял, прижав к лицу его черную головку. Бабушка стала нервничать, и тогда он торопливо поцеловал мальчика и поскорее передал обратно…
До сих пор я волнуюсь, вспоминая, как уезжали дети, между прочим, еще потому, что не в силах рассказать об этом со всей полнотой. Казалось бы, так много пришлось пережить за годы войны, такие странные, необычайно сильные впечатления поразили душу и остались в ней навсегда, а все же эти дни стоят передо мной отдельно, как бы в стороне…
Глава 4. «НЕПРЕМЕННО УВИДИМСЯ, НО НЕ СКОРО».
От бабушки долго не было телеграммы, хотя в Худфонде говорили, что эшелон благополучно прибыл и что в Ярославле детей встретили с цветами. Но из Ярославля они должны были ехать еще в какой—то Гнилой Яр, и мне почему—то казалось, что детям не может быть хорошо в селе с таким отвратительным названием. От Кирки я получила отчаянное письмо, она тоже куда—то эвакуировалась со всеми ребятами и мамой. Валя остался в Москве — это была их первая разлука, — и, к моему изумлению, она боялась не фашистских бомб, которые, разумеется, могли залететь и на Сивцев—Вражек, а какой—то Жени Колпакчи, которая кокетничала с Валей. Письмо было размазанное, бедная Кирка плакала над ним, и я от души пожалела ее, хотя было совершенно ясно, что с войной она поглупела.
Саня — это было самое большое беспокойство, с мучительными снами, в которых я сердилась на него — за что? — и он слушал, нахмурясь, бледный и ужасно усталый…
В конторе бывшего кино «Элит» Розалия Наумовна устроила санитарный пост, и оборонная тройка райсовета предложила мне работать сестрой, потому что Розалия Наумовна сказала, что у меня «большой опыт ухода за больными».
— Имейте в виду, товарищ Татаринова—Григорьева, — сказал мне по секрету седой добродушный доктор, член оборонной тройки, — что если вы откажетесь, мы немедленно отправим вас на строительство укреплений…
Работать на укреплениях, или «на окопах», как говорили в Ленинграде, было, разумеется, тяжелее, чем сестрой. Но я поблагодарила и отказалась.
Мы поехали под вечер и всю ночь рыли противотанковые рвы за Средней Рогаткой. Грунт попался глинистый, твердый, и нужно было сперва дробить его киркой, а уж тогда пускать в ход лопату. Я попала в бригаду одного из ленинградских издательств, уже показавшую высокий класс по «рытью могилы для Гитлера», как шутили вокруг. Это были почти исключительно женщины: машинистки, корректоры, редакторы, и я удивилась, что многие из них почему—то были прекрасно одеты. У одной черненькой хорошенькой редакторши я спросила, почему она приехала на рытье окопов в таком нарядном платье, и она засмеялась и сказала, что у нее «просто нет ничего другого». Меня всегда интересовал этот круг людей совсем другого мира — мира театра, литературы, искусства. Но, очевидно, не до искусства было этим красивым, интеллигентным девушкам, дробившим кирками твердую, как камень, темно—красную глину, и даже когда заходил разговор о чем—нибудь в этом роде — о последней театральной премьере или о том, что художнику Р. не следовало браться за оформление «Сильвы», — за всем этим мучительно неотвратимо стояла война, о которой забыть было невозможно.
Я оказалась в паре с черненькой редакторшей, и она сказала, что вчера отправились на фронт ее муж и два брата. О младшем она очень беспокоилась — он слабый, еще совсем мальчик, и муж очень отговаривал его, но ничего нельзя было сделать. Я рассказала ей о Сане, и некоторое время мы работали молча — в глубине окопа ставили носилки на землю, другие девушки наваливали на носилки глину, мы тащили ее наверх и опрокидывали на отвесной стороне окопа. Я не сказала ей, что с первого дня войны у меня не было известий о Сане. Накануне я звонила матери одного летчика из его отряда, и она сказала, что получила письмо из Рыбинска. Быть может, и Саня в Рыбинске? Должно быть, там формируется летная часть. Но с равным основанием я могла назвать и другой город в Советском Союзе. Больше я не должна была знать, где он и что с ним. Если он умрет, я не буду знать, когда и как это случилось. Быть может, в этот час я буду в театре, или буду спать, ничего не чувствуя, или буду разговаривать с кем—нибудь и смеяться, как сейчас, когда бригадир посоветовал нам работать машинально, то есть думая о чем—нибудь другом, и мы с черненькой редакторшей посмотрели друг на друга и рассмеялись. Это был превосходный совет — нам было о чем подумать.
Ночь переломилась незаметно; в сером, неопределенно рассеянном свете, неподвижно стоявшем между небом и землей, вдруг проглянуло что—то утреннее, свежее, точно самый ветерок, пробежавший по полю и тронувший кусты, которыми были замаскированы зенитки, был другого, утреннего света. Вдали, над городом, поднялись и скрылись в лучах еще невидимого солнца серебристые, похожие на огромных добродушных рыб аэростаты воздушного заграждения.
Все немного побледнели к утру, одной девушке стало дурно, но все—таки наша бригада закончила свой «урок» раньше других. Хотелось пить, и моя новая подруга потащила меня в очередь за квасом. Палатки были разбиты возле старенькой, заброшенной церкви, мы стали в очередь, и редакторша вдруг предложила мне забраться на колокольню.
Это было глупо, у меня ныла спина, и вообще я очень устала, но я так же неожиданно согласилась.
По воткнутым в землю носилкам, на которых висела стенгазета, я отыскала наш участок, к нему уже подходили новые люди. Неужели мы сделали так мало? Но он переходил в другой, другой — в третий, и так далеко, как достигал взгляд, женщины дробили глину в глубоких, трехметровых, с одной стороны отвесных, с другой — покатых рвах, выбрасывали лопатами, вывозили на тачках… Среди них не было ни одной, которая не рассмеялась бы от души, если бы месяц тому назад ей сказали, что, бросив дом, свою работу, она ночью поедет за город в пустое поле и будет рыться в земле и строить рвы, бастионы, траншеи… Но они поехали, и вот почти уже закончены эти гигантские пояса, охватывающие город и обрывающиеся лишь у дорог, на которых стоят скрещенные рельсы.
Не знаю, как объяснить чувство, с которым я смотрела на бедное поле, разрезанное огромными полукружиями и освещенное неярким медленным светом ленинградского солнца. Мне стало страшно, как перед бурей, от которой никуда не уйдешь. Но и смелость, какая—то молодая, веселая, вдруг проснулась в душе.
В полдень я вернулась домой и у подъезда встретила взволнованную Розалию Наумовну, которая объявила, что только что видела, как на Невском задержали шпиона.
— Такой толстый, с усами, — типичная шпионская рожа! Тьфу! — И она плюнула с отвращением. — И какое счастье, что со мной не было Берты! Она сошла бы с ума!
Берта была очень пуглива.
На площадке второго этажа мы остановились, потому что Розалия Наумовна стала изображать, как это случилось. В это время какой—то военный, спускавшийся по лестнице, громко стуча сапогами, не дойдя до нас, перегнулся через перила, посмотрел вниз, и я узнала Лури.
Лури был штурман, Санин товарищ, они вместе работали на Севере, потом расстались, и где бы Саня ни служил, он всегда говорил, что ему не хватает Лури. «Шурку бы сюда!» — писал он мне из Испании. Время от времени Лури появлялся у нас — веселый, хвастливый, с бородой, которая делала его похожим на иностранца.
— Катерина Ивановна! — Он лихо откозырял мне. — Стучал, звонил, потерял надежду и бросил письмо в ящик.
— От Сани?
— Так точно.
И так же лихо Лури откозырял Розалии Наумовне.
Он сказал, что у него, к сожалению, ровно пятнадцать минут, и я не стала читать при нем Санино письмо, только взглянула, и одна фраза в конце прочлась сама собой: «Непременно увидимся, но не скоро».
— Откуда вы? Вы в армии? В Ленинграде? Где Саня?
Лури был в армии и в Ленинграде. На эти два вопроса ему нетрудно было ответить. Но я еще раз настойчиво спросила:
— Где Саня?
И, немного подумав, он неопределенно ответил:
— В полку.
— Вы не хотите сказать, да? Но он здоров?
— Как штык, — смеясь, сказал Лури.
Розалия Наумовна побежала ставить кофе, хотя Лури повторил и даже «поклялся честью, что у него ровно пятнадцать минут»; мы остались одни, и я выудила у него, что где—то — неизвестно где — организуется полк особого назначения, что в основном летный состав — ГВФ, по полторы—две тысячи часов налета, и что сейчас все переучиваются на новых машинах.
Что—то очень холодное медленно вошло в сердце, когда я услышала эти слова: «полк особого назначения», но я не стала расспрашивать, что это такое, — все равно Лури не ответил бы. Я только спросила, долго ли Саня будет переучиваться, и Лури, снова подумав, отвечал, что недолго. На все он отвечал помолчав, подумав, и тревога сквозила за его беспечным тоном.
Я написала Сане несколько слов, и Лури ушел, столкнувшись на пороге с Розалией Наумовной и пообещав еще раз зайти, «если это будет возможно». Мы еще несколько минут постояли у открытой двери и, прощаясь, вдруг обнялись, крепко расцеловались…
Письмо было грустное, хотя о том, что оно грустное, только я одна могла догадаться.
Саня спрашивал о Пете большом и маленьком и советовал немедленно увезти мальчика из Ленинграда.
«Хорошо бы в Энск, к старикам!» Но тут же он беспокоился о судье и тете Даше, и можно было понять из одной осторожной фразы, что Энск бомбили, хотя он был еще очень далеко от линии фронта. Словом, Саня что—то знал, что—то плохое, вот откуда это «непременно увидимся, но не скоро».
Да, не скоро. Наступают трудные дни. Я расхаживала, стараясь ступать только на темные квадратики паркета, и когда я шла к окну, темные были одни, а когда назад — другие.
Полк особого назначения — «ну что ж, и нечего холодеть», — это было сказано сердцу, с которым снова что—то сделалось, когда я вслух повторила эти слова. «Он был в Испании и вернулся. Нужно только почаще писать ему, что я верю».
Вот когда я почувствовала, что смертельно устала. Я легла, закрыла глаза, и сразу все поехало: девушки, поднимающие носилки с тяжелой, твердой глиной, тачки, медленно сползающие по доскам, солнце, поблескивающее на темно—красных срезах окна.
Потом откуда—то появился свет, неяркий, медленный после белой ночи, все стало бледнеть, уходить, и я почувствовала, что засыпаю. Все было хорошо, очень хорошо, только хотелось, чтобы не было этого унылого долгого стона, или песни, которую кто—то завел за спиной…
— Катя, тревога!
Розалия Наумовна трясла меня за плечо.
— Вставайте, тревога!
…В конце июля я встретила на Невском Варю Трофимову, жену одного летчика, Героя Советского Союза, с которым Саня служил в «авиации спецприменения». Когда—то мы с этой Варей ездили к мужьям в Саратов, и еще тогда я, помнится, удивилась, узнав, что она зубной врач.
Это была высокая, румяная женщина, сильная, с решительной походкой. Чем—то она напоминала мне Кирку, особенно когда громко смеялась, показывая длинные красивые зубы.
— А Гриша—то мой, — вздохнув, сказала она. — Берлин бомбит. Читали?
Мы разговорились, и она предложила мне работать в стоматологической клинике Военно—медицинской академии.
Я задумалась, и Варя сразу же сказала, что «прежде нужно посмотреть, что это такое», а то она порекомендовала одну дамочку, а та «поработала два дня и ушла, потому что ей, видите ли, не понравился запах».
«Дамочек» Варя ненавидела — это я тоже помнила еще со времен саратовской поездки.
Нужно сказать, что запах действительно был невозможный, и я почувствовала это, едва войдя в коридор, по обеим сторонам которого были, расположены палаты. Запах был такой, что меня сразу стало тошнить, и тошнило все время, пока Варя Трофимова знакомила меня с другими сестрами, с рентгенологом, с женой главного врача и с кем—то еще и еще.
Здесь лежали люди, раненные в лицо. Только что я пришла, как привезли юношу, у которого все лицо было сорвано миной…
И, ухаживая за этими людьми, — я поняла это на второй или третий день работы, — нужно было все время как бы уверять их, что это ничего не значит, что не беда, если останется рубец, что нужно только потерпеть и почти ничего не будет заметно. Мне случалось потом работать в клинике полевой хирургии, и там не было этой тайной, но сквозящей за каждым словом боязни уродства, этого ужаса, с которым человек бросал первый взгляд на свое обезображенное лицо, этого бесконечного стояния перед зеркалом накануне выписки, этих беспомощных попыток приукрасить себя, прихорошиться…
Впрочем, нужно сказать, что иногда мы вовсе не кривили душой, уверяя, что «ничего не будет заметно». Я прежде никогда не думала, что можно, например, сделать новый нос или пересадить на лицо кусок кожи. Сколько раз случалось, что на первых перевязках страшно было взглянуть на раненого, а через два—три месяца он возвращался в свою часть с едва заметными следами ран, которые должны были, казалось, обезобразить его навсегда.
Мне было трудно в стоматологической клинике, особенно первое время, и я была рада, что мне трудно и что нужно так внимательно следить за каждым словом и держаться уверенно, даже когда очень тяжело на душе.
Петина часть стояла на Университетской набережной. Сразу же после отъезда детей он записался в народное ополчение. В свободное время я забегала к нему, мы сидели на бревнах, сваленных у парапета, или прохаживались от Филологического института до Сфинксов. Другие памятники были уже сняты или завалены мешками с песком, а Сфинксы почему—то еще лежали, как прежде, в далекие мирные времена, до 22 июня 1941 года. Бесстрастно уставясь на всю эту скучную человеческую возню, лежали они на берегу Невы, и у них были широко открытые глаза и высокомерные лапы. У Пети становилось доброе, хитрое лицо, когда он смотрел на Сфинксов.
— Сделать такую лапу и умереть, — как—то сказал он мне и стал длинно, интересно рассказывать, почему это гениальная лапа.
Мы с Розалией Наумовной перечинили ему все белье, но он ничего не взял, хотя белье, которое он получил в батальоне, было гораздо хуже. Вообще он очень старался поскорее стать настоящим солдатом.
Глава 5. БРАТ.
Накануне я была у него, и он ничего не сказал — очевидно, приказ был получен ночью. Я дежурила. Розалия Наумовна вызвала меня и сказала, что Петя звонил домой, просил зайти: если можно — немедленно, но, во всяком случае, не позже полудня. Мое дежурство кончалось только в полдень, но я отпросилась. Варя Трофимова заменила меня, и еще не было десяти часов, как я уже была у Филологического института. Знакомый боец из Петиного батальона мелькнул в окне, я окликнула его.
— Сковородникова? Сейчас сообразим…
Петя торопливо вышел из ворот, мы поздоровались и пошли по набережной, к Сфинксам.
— Катя, мы сегодня уходим, — сказал он. — Я очень рад.
Он замолчал. Он был взволнован.
— Никто не думал. Мы должны были на днях отправиться в учебный поход. Но, очевидно, положение изменилось.
Я кивнула. Раненые в последнее время поступали из—под Луги — нетрудно было догадаться о том, что положение изменилось.
— Я написал письма, — продолжал он и стал рыться в сумке. — И хотел просить вас… Вот это не нужно посылать.
Он достал конверт, не заклеенный, ненаписанный, и протянул его мне.
— Это — Петьке. Вы ему отдадите, если меня…
Он хотел сказать «убьют», даже губы сложил, и вдруг улыбнулся по—детски.
— Понятно, не сейчас отдадите, а так — лет через десять.
— Саня никогда не стал бы писать таких писем.
— У него нет сына.
Должно быть, у меня немного дрогнуло лицо, потому что он испугался — подумал, что обидел меня… Мы остановились, и он крепко взял меня за руку.
— Что же Саня? Где он?
— Не знаю.
— Я писал ему на ППС, но не получил ответа. Все равно — он живив, и с ним ничего не случится.
— Почему?
Он помолчал.
— Верю, что не случится. Помните, он говорил: «Небо меня не подведет. Вот за землю я не ручаюсь».
И правда, Саня так говорил. Но это было давно, а теперь, во время войны, как—то пусто прозвучали эти слова.
— А это отцу. — Петя достал из сумки второе письмо. — Если он жив.
Видите, все такие письма, что никак не пошлешь почтой, — добавил он горько. — Работы мои возьмут в Русский музей. Я уже сговорился.
Я даже руками всплеснула.
— Да нет, это просто так, — поспешно сказал Петя, не потому, что могут убить, а вообще. И Косточкин сделал то же, и Лифшиц, и Назаров.
Это были художники.
— Мало ли что может случиться… Да не со мной же, господи, — добавил он уже нетерпеливо. — Или вы думаете, что Москву бомбят, а Ленинград так и не тронут?
Я этого не думала. Но он так распорядился всеми своими делами, как будто в глубине души и не надеялся на возвращение.
— Нам еще кажется, что мы — одно, а война — другое, — задумчиво сказал он. — А на самом деле…
В конце концов, он стал совать мне свои часы, но тут уж я возмутилась и стала так ругать его, что он засмеялся и положил часы обратно.
— Чудачка, мне же выдали новые, с компасом, — сказал он. — Ведь вы знаете, Катя, кто я? Младший лейтенант, — пожалуйста, не шутите!
Не знаю, когда он успел получить младшего лейтенанта, — он всего—то был в армии месяц. Но он сказал, что еще в академии прошел курс и числился командиром запаса.
Мы дошли до Сфинксов и, как всегда, остановились у того места, где почему—то был снят парапет и кусок сломанных перил болтался на талях. Вздохнув, Петя уставился на Сфинксов — прощался? Длинный, подняв голову, стоял он, и что—то орлиное было в этом худом профиле с гордо прикрытыми, рассеянными глазами. «Плевал он на эту смерть», как рассказывал мне потом, через много дней, командир его батальона. Как ни странно, но именно в этот день, прощаясь с Петей у Сфинксов, я почувствовала эту гордость, это презрение.
Он знал, что я всегда считала Петеньку за сына. Но, наверно, нужно было еще раз сказать ему об этом всеми словами. Расставаясь, непременно нужно говорить все слова — уж кому—кому, а мне—то пора было этому научиться! Но я почему—то не сказала ему и, вернувшись домой, сразу же пожалела об этом.
Он снова взял меня за руки, поцеловал руки, мы крепко обнялись, и он чуть слышно сказал:
— Сестра…
Я проводила его до института и пешком пошла на Петроградскую, хотя чувствовала усталость после бессонной ночи.
Жарко было, свежий асфальт у Ростральных колонн плавился и оседал под ногами. Легкий запах смолы доносился от барок, стоявших за Биржевым мостом, и Нева, великолепная, просторная, не шла, а шествовала, раскинувшись на две такие же великолепные, просторные Невы, именно там, где это было прекрасно. И странно, дико было подумать о том, что в какой—нибудь сотне километров отсюда немецкие солдаты, обливаясь потом, со звериной энергией рвутся к этим зданиям, к этому праздничному летнему сиянию Невы, к этому новому, молодому скверу между Биржевым и Дворцовым мостами.
Но пока еще тихо, спокойно было вокруг, в сквере играли дети, и старый сторож с металлическим прутиком в руке шел по дорожке, останавливаясь время от времени, чтобы наколоть на прутик бумажку.
Глава 6. ТЕПЕРЬ МЫ РАВНЫ.
Как прежде я помнила по числам все наши встречи с Саней, так же теперь я запомнила, и, кажется, навсегда, те дни, когда получала от него письма. Второе письмо, если не считать записочки, в которой он называл меня «Пира—Полейкин», я получила 7 августа — день, который потом долго снился мне и как—то участвовал в тех мучительных снах, за которые я даже сердилась на себя, как будто за сны можно сердиться.
Я ночевала дома, не в госпитале, и рано утром пошла разыскивать Розалию Наумовну, потому что квартира оставалась пустая. Я нашла ее во дворе: трое мальчиков стояли перед ней, и она учила их разводить краску.
— Слишком густо так же плохо, как и слишком жидко, — говорила она. — Где доска? Воробьев, не чешись. Попробуйте на доске. Не все сразу.
По инерции она и со мной заговорила деловым тоном:
— Противопожарное мероприятие: окраска чердаков и других деревянных верхних частей строений. Огнеупорный состав. Учу детей красить.
— Розалия Наумовна, — спросила я робко, — вы еще не скоро вернетесь домой? Мне должны позвонить.
Я ждала звонка из Русского музея. Петины работы давно были упакованы, но за ними почему—то не присылали.
— Через час. Пойду с детьми на чердак, задам каждому урок и буду свободна. Катя, да что же это я! — сказала она живо и всплеснула руками. — Вам же письмо, письмо! У меня руки в краске, тащите!
Я залезла к ней в карман и вытащила письмо от Сани…
Как всегда, я сначала пробежала письмо, чтобы поскорее узнать, что с Саней ничего не случилось, потом стала читать еще раз, уже медленно, каждое слово.
«Помнишь ли ты Гришу Трофимова? — писал он уже в конце, прощаясь. — Когда—то мы вместе с ним распыляли над озерами парижскую зелень. Вчера мы его похоронили».
Я плохо помнила Гришу Трофимова, он сразу же куда—то улетел, едва я приехала в Саратов, и я вовсе не знала, что он служит в одном полку с Саней. Но Варя, несчастная Варя мигом представилась мне — и письмо выпало из рук, листочки разлетелись.
…Пора было ехать в госпиталь, но я зачем—то побрела домой, совсем забыв, что отдала Розалии Наумовне ключ от квартиры. На лестнице меня встретила «научная няня» и сразу стала жаловаться, что никак не может устроиться — никто не берет, потому что «не хватает питания», и что одна домработница поступила в Трест зеленых насаждений, а ей уже не под силу, и т.д. и т.д. Я слушала ее и думала: «Варя, бедная Варя».
Уже приехав в госпиталь и не зайдя в «стоматологию», где она могла увидеть меня, я снова перечла письмо и вдруг подумала о том, что Саня прежде никогда не писал мне таких писем. Я вспомнила, как однажды в Крыму он вернулся бледный, усталый и сказал, что от духоты у него весь день ломит затылок. А наутро жена штурмана сказала мне, что самолет загорелся в воздухе, и они сели с бомбами на горящем самолете. Я побежала к Сане, и он сказал мне смеясь:
— Это тебе приснилось.
Саня, который всегда так оберегал меня, который сознательно не хотел делить со мной все опасности своей профессиональной жизни, вдруг написал — и так подробно — о гибели товарища. Он описал даже могилу Трофимова. Саня описал могилу!
«В середине мы положили неразорвавшиеся снаряды, потом крупные стабилизаторы, как цветы, потом поменьше, и получилась как бы клумба с железными цветами».
Не знаю, может быть, это было слишком сложно — недаром Иван Павлович когда—то говорил, что я понимаю Саню слишком сложно, — но «теперь мы равны» — вот как я поняла его письмо, хотя об этом не было сказано ни слова. «Ты должна быть готова ко всему — я больше ничего от тебя не скрываю».
Шкаф с халатами стоял в «стоматологии», я поскорее надела халат, вышла на площадку — госпиталь был через площадку — и, немного не дойдя до своей палаты, услышала Варин голос.
— Нужно сделать самой, если больной еще не умеет, — сердито сказала она.
Она сердилась на сестру за то, что та не промыла больному рот перекисью водорода, и у нее был тот же обыкновенный, решительный голос, как вчера и третьего дня, и та же энергичная, немного мужская манера выходить из палаты, еще договаривая какие—то распоряжения. Я взглянула на нее: та же, та же Варя! Она ничего не знала. Для нее еще ничего не случилось!
Должна ли я сказать ей о гибели мужа? Или ничего ненужно, а просто в несчастный день придет к ней «похоронная» — «погиб в боях за родину», — как приходит она к сотням и тысячам русских женщин, и сперва не поймет, откажется душа, а потом забьется, как птица в неволе, — никуда не уйти, не спрятаться. Принимай — твое горе.
Не поднимая глаз, проходила я мимо кабинета, в котором работала, Варя, как будто я была виновата перед ней, в чем — и сама не знала.
День тянулся бесконечно, раненые все прибывали, пока, наконец, в палатах не осталось мест, и старшая сестра послала меня к главврачу спросить, можно ли поставить несколько коек в коридоре.
Я постучалась в кабинет, сперва тихо, потом погромче. Никто не отвечал. Я приоткрыла дверь и увидела Варю.
Главврача не было, должно быть она ждала его, стоя у окна, немного сутулясь, и крепко, монотонно выбивала пальцами дробь по стеклу.
Она не обернулась, не слышала, как я вошла, не видела, что я стою на пороге. Осторожно она сделала шаг вдоль окна и несколько раз сильно ударила головой об стену.
Впервые в жизни я увидела, как бьются головой об стену. Она билась не лбом, а как—то сбоку, наверно чтобы было больнее, и не плакала, с неподвижным выражением, точно это было какое—то дело. Волосы вздрагивали — и вдруг она прижалась лицом к стене, раскинула руки…
Она знала. Весь этот трудный, утомительный день, когда пришлось даже отложить несрочные операции, потому что не хватало рук на приеме, когда больных некуда было класть и все нервничали, волновались, она одна работала так, как будто ничего не случилось. В первой палате она учила разговаривать одного несчастного парня, лежавшего с высунутым языком, — и знала. Она долго скучным голосом отделывала повара за то, что картофель был плохо протерт и застревал в трубках, — и знала. То в одной, то в другой палате слышался ее сердитый, уверенный голос — и никто, ни один человек в мире не мог бы догадаться о том, что она знала.
Глава 7. «ЕКАТЕРИНЕ ИВАНОВНЕ ТАТАРИНОВОЙ—ГРИГОРЬЕВОЙ».
Все чаще я оставалась в госпитале на ночь, потом на двое—трое суток и, наконец, стала приходить домой только тогда, когда Розалия Наумовна просила меня об этом.
— Что—то мне стало скучно без вас, Катя, — говорила она.
«Скучно» — это означало, что она снова не знает, что делать с Бертой, которая становилась все более пугливой и молчаливой и уже не ходила по очередям, а целые дни лежала на диване и, главное, почти перестала есть.
Плохи были ее дела, и я советовала Розалии Наумовне немедленно увезти ее из Ленинграда. Но Розалия Наумовна боялась отпустить ее одну, а сама об отъезде не хотела и слышать.
…Тихо было в квартире и пусто, тонкие полоски света лежали на мебели, на полу, солнце сквозило через щели прикрытых ставен. Я подсела к Берте, задумалась, потом очнулась, как от сна, от беспокойных, утомительных мыслей, которые точно за руку увели меня из этой комнаты, где стояла мебель в чехлах и худенькая старушка в чистой ночной кофточке сидела и с детским вниманием вырезала бумажные салфетки — за последнее время это стало ее любимым занятием.
— Вот так возьмешь, да и сойдешь с ума…
Должно быть, я сказала это вслух, потому что Берта на мгновение оторвалась от своих салфеток и рассеянно посмотрела на меня.
— Там вас ждут, Катя, — сказала она, помолчав.
— Кто ждет?
— Не знаю.
Я побежала к себе. Совершенно незнакомый старый человек спал в моей комнате, сложив на животе руки.
— Он сказал, что знает меня? — спросила я, выйдя на цыпочках и вернувшись к Берте.
— Роза говорила с ним. А что?
— Да ничего, просто я вижу этого человека первый раз в жизни.
— Что вы говорите? — с ужасом спросила Берта. — Он же сказал, что знакомый!
Я успокоила ее. Но никогда у меня не было такого почтенного знакомого, длинного, бородатого, с полосками от пенсне на носу. Мне стало смешно. Вот так штука! Это был моряк — китель и противогаз висели на стуле.
Наконец он проснулся. Длинно зевнув, он сел и, как все близорукие люди, пошарил вокруг себя — должно быть, искал пенсне. Я кашлянула. Он вскочил.
— Катерина Ивановна?
— Да.
— В общем, Катя, — добродушно сказал он. — А я вот пришел и уснул, как это ни странно.
Я смотрела на него во все глаза.
— Вам, конечно, трудно меня узнать. Но зато с вашим Саней мы знакомы… сколько, давай бог?
Он считал в уме.
— Двадцать пять лет. Господи ты мой! Двадцать пять лет, не больше и не меньше.
— Иван Иваныч?
— Он самый.
Это был доктор Иван Иваныч, о котором я тысячу раз слышала от Сани. Он научил Саню говорить, и я даже помнила эти первые смешные слова: «Абрам, кура, ящик». Он летал с Саней в Ванокан, и если бы не его удивительная энергия, плохо было бы дело, когда трое суток Сане пришлось «пурговать» без малейшей надежды на помощь! Мне всегда казалось, что даже в том восторге, с которым Саня говорил о нем, было что—то детское, сказочное. И действительно, он был похож на доктора Айболита, со своим румяным морщинистым лицом, с толстым носом, на котором задорно сидело пенсне, с большими руками, которыми он смешно размахивал, когда говорил, точно бросал вам в лицо какие—то вещи.
— А я—то ломала голову, какой же знакомый! Доктор, но откуда же вы? Вы же были где—то далеко?
— Нет, недалеко. На шестьдесят девятой параллели.
— Вы моряк?
— Я моряк, красивый сам собою, — сказал доктор. — Все расскажу. Один стакан чаю!
Он зачем—то поцеловал меня, приложился бородкой, и я побежала ставить чай. Потом вернулась и сказала, что Саня до сих пор возит с собой стетоскоп, который доктор когда—то забыл в занесенной снегом избушке в глухой далекой деревне под Энском.
Он засмеялся, и через несколько минут мы сидели и разговаривали, как будто тысячу лет знакомы. Так оно и было — хотя не тысячу, но очень давно, с тех пор, когда я впервые услышала о нем от Сани.
Доктор служил на флоте совсем недавно, с начала войны. Он сам попросился, хотя Ненецкий национальный округ протестовал и какой—то Ледков говорил с ним целую ночь — все убеждал остаться. Но доктор настоял. Его сын Володя был в армии на Ленинградском фронте, и доктор считал, что надо воевать, а не сидеть у черта на куличках. Он был назначен в Полярное на базу подводного флота. Полярное — это не Заполярье. Это военный городок на Кольском заливе, в двух тысячах километров от Заполярья. Морские летчики в Полярном сказали ему, что Саня в АДД (авиация дальнего действия), что он летал на Кенигсберг и что один из полков АДД, по слухам, вскоре прилетит на Север.
— Как на Кенигсберг? Я ничего не знаю.
— Здрасти! — сердито сказал доктор. — А кто должен знать, голубчик, если не вы?
— Откуда? Ведь Саня об этом не напишет.
— Положим, — согласился доктор. — Все равно, надо знать, надо знать.
Я принесла чай, он залпом выпил стакан и сказал: «Недурственно».
— Сейчас на фронтах тяжело, — сказал он. — Я видел Володю, и он тоже говорил, что тяжело. Именно здесь, под Ленинградом. Позвольте, но я же привез вам письмо!
— От кого?
— От старого друга, — загадочно сказал доктор и стал искать противогаз, который висел у него под носом: очевидно, письмо было в противогазе. — Служит с Володей в одной части. Именно он сказал мне, что вы в Ленинграде. Уезжая, просил передать вам письмо.
«Екатерине Ивановне Татариновой—Григорьевой», — было написано на конверте — и адрес, очень подробный. И второй адрес — госпиталя, на случай, если доктор не найдет меня дома. Почерк был ясный, острый и незнакомый. Нет, знакомый. С изумлением я смотрела на конверт. Письмо было от Ромашова.
— Ну, что? — торжественно спросил доктор. — Узнала?
— Узнала. — Я бросила письмо на стол. — Вы с ним знакомы?
— Познакомились у Володи. Превосходный человек. Заведует хозяйством, и Володя говорит, что он без него, как без рук. Очень милый. К сожалению, уехал.
Я что—то пробурчала.
— Да, очень милый, — продолжал доктор. — Пьет, правда, но кто не пьет?
— Интересно, откуда же он знает, что я в Ленинграде?
— Вот так раз! Разве он у вас не был?
Я промолчала.
— Да—с, — поглядев на меня поверх пенсне, сказал доктор. — Я полагал, что именно друг. Он, например, рассказал мне всю вашу жизнь, особенно последние годы, о которых я знал очень мало.
— Это страшный человек, доктор.
— Ну да!
— И вообще, ну его к черту. Еще чаю?
Доктор выпил второй стакан, тоже залпом, потом стал угощать меня концентратом — шоколад с какао.
— Очень странно, — задумчиво сказал он. — И что же, не станете читать письмо?
— Нет, прочитаю.
Я разорвала конверт. «Катя, немедленно уезжайте из Ленинграда, — было написано крупно, торопливо. — Умоляю вас. Нельзя терять ни минуты. Я знаю больше, чем могу написать. Да хранит Вас моя любовь, дорогая Катя! Вот видите, какие слова. Разве я посмел бы написать их, если бы не сходил с ума, что вы останетесь одна в Ленинграде? До Тихвина можно доехать на машине. Но лучше поездом, если они еще ходят. Не знаю, боже мой! Не знаю, увижу ли я Вас, моя дорогая, счастье мое и жизнь…»
Глава 8. ЭТО СДЕЛАЛ ДОКТОР.
Каждый вечер мы собирались на Петроградской. Как—то я пригласила Варю Трофимову, и с доктором она впервые заговорила о муже. Он что—то спросил очень просто, она ответила, и сразу стало видно, как это важно для нее — говорить о муже, и как трудно скрывать свое горе. На другой день она принесла его письма, мы вспомнили саратовскую поездку, даже всплакнули — это было так давно, и мы были тогда такие девчонки! У нее были спокойные, грустные глаза, когда я ее провожала. Ей стало легче жить.
Это сделал доктор.
За ту неделю, что он провел у нас, положение на Ленинградском фронте ухудшилось, немцы подтянули свежие силы, тревоги начинались с утра. Я плохо спала — волновалась за Саню. Однажды, когда я только что легла, не раздеваясь, доктор постучал, вошел и в темноте сунул мне в руку маленького медвежонка.
— Работа Панкова, — сказал он, — отличный ненецкий мастер. На память. От имени доктора Ивана Иваныча этот белый медведь будет говорить вам, что Саня вернется.
Конечно, это была просто ерунда, но теперь, когда тоска добиралась до сердца, я вынимала из сумки медвежонка, смотрела на него, и, честное слово, мне становилось веселее.
По утрам доктор пел или бормотал стихи, комические, должно быть, собственного сочинения, потом долго мылся в ванной и уверял, что между его мытьем и немецкими налетами существует таинственная связь: стоит ему залезть в ванну, как немедленно начинается тревога. Так и было несколько раз. К столу он приходил с мокрой, симпатичной бородкой и первым делом бросал мне стул, который я должна была поймать за ножки и бросить обратно. У него были какие—то веселые странности. Он любил удивлять.
Да, это была отличная неделя, которую доктор провел у меня! Это было так, как будто в грозе и буре вдруг послышался спокойный человеческий голос.
Но вот пришел день, когда он сложил свой мешок и связал книги, которые накупил в Ленинграде.
Я поехала провожать его…
Кажется, никогда еще на Невском не было так много народу. Беспокойно оглядываясь на усталых, запыленных детей, женщины везли на садовых тележках узлы, сундуки, корыта… Не городские, загорелые старики, сгорбясь, шагали по тротуарам навстречу движению. Это были колпинцы, детскосельцы… Пригороды входили в город!
Добрых два часа мы добирались до Московского вокзала. Я не позволила доктору тащить через площадь его мешок, потащила сама и остановилась на углу Старо—Невского, чтобы взяться удобнее. Иван Иваныч прошел вперед. Широкий подъезд был совершенно пуст — это показалось мне странным.
«Наверно, теперь садятся с Лиговки», — подумала я.
Удивительно, как запомнилась мне эта минута: площадь Восстания, залитая солнцем, длинный доктор в морской шинели, поднимающийся по ступеням, тень, которая сломилась на ступенях, поднималась за ним, тревожная пустота у главного входа…
Дверь была закрыта. Доктор постучал. Полная женщина в железнодорожной фуражке выглянула и сказала ему не знаю что, два слова. Он постоял, потом медленно вернулся ко мне. У него было строгое лицо.
— Ну—ка, давайте сюда мешок, Катя, — сказал он, — и — айда домой. Последняя дорога перерезана. Поезда больше не ходят…
Доктор улетел через несколько дней.
Глава 9. ОТСТУПЛЕНИЕ.
Шофер в первый раз вел машину на этот участок фронта, и несколько раз мы останавливались у развилки дорог, чтобы посмотреть на карту. Мы ехали уже больше часу, и я удивлялась, что немцы все—таки еще далеко от Ленинграда. Но здесь был самый отдаленный участок — за Ораниенбаумом через Гостилицы, по направлению к Копорью. Моряки держали эти места под огнем дальнобойных судовых батарей.
Мы ехали в дивизию народного ополчения, и дорогой я стала надеяться, что увижу Петю, потому что он служил именно в этой дивизии, и я даже знала фамилию комиссара полка.
…Уже волокли тягачи навстречу нам подбитые пушки. Легко раненные по двое, по трое брели по открытой, среди полей, пыльной дороге. Где—то впереди дорога простреливалась, об этом мне сказала коротенькая, крепкая, с детскими щечками санитарка Паня. Косички у нее были заплетены вокруг головы, и каждый раз, когда машину подбрасывало на выбоинах, она не могла удержаться от смеха.
Мы проскочили место, которое простреливалось, хотя что—то раза два рванулось за нами, и, приоткрыв заднюю дверь, я увидела на дороге опускающееся облачко пыли. На полном ходу мы влетели в деревню, шофер затормозил, и пока он ругался, рассматривая надорванное крыло, мы с Паней пошли искать командира медсанбата.
Деревня была самая обыкновенная, и все вокруг самое обыкновенное: свежие плетни из ракиты, кое—где пустившие ростки, кирпичные очаги во дворах, амбары с оторванными, повисшими на одной петле дверями, за которыми чувствовалась прохладная темнота и пахло молодым сеном. Здесь стоял штаб дивизии, а передовая была отсюда за два—три километра, «вон там, где лесочек», сказала мне сандружинница в штанах, с большим наганом на ремне, указав в ту сторону, где луга переходили в жидкий перелесок, а за ним, сияя под солнцем, стояла березовая роща.
Раненых приказано было везти, когда начнет смеркаться, поближе к ночи, и только что выдавалась свободная минута, как я начинала искать Петю. Я спрашивала раненых, сандружинниц, связного комиссара дивизии, о котором мне сказали, что он знает всех командиров. Комиссар Петиного полка, тот самый, фамилию которого я знала, накануне был убит — об этом мне сообщили в политотделе.
— Скорняков тоже убит, — сказал мне огромный, плотный человек с двумя шпалами инструктора политотдела.
Должно быть, я побледнела, потому что он перестал есть суп — я застала его за обедом — и, оглянувшись, строгим, рычащим голосом спросил командира, лежащего под шинелью на лавке:
— Рубен, Скорняков убит?
Командир под шинелью сказал, что убит.
— Сковородников, — не своим голосом поправила я. — Почему Скорняков? Младший лейтенант Сковородников!
— Сковородников? Такого не знаю. Обедали?
— Да, спасибо.
У меня ноги еще дрожали, когда я вышла из политотдела…
Самолет кружил над деревней, сандружинницы шли задними дворами, и слышно было, как они кричали: «Маруся, воздух!» Снаряды все чаще ложились вдоль улицы и теперь стало ясно, что немцы бьют не по батареям, а по самой деревне. Наши отходили — в одну минуту деревня наполнилась людьми в грязных, красных от глины шинелях и так же быстро опустела. Худенький горбоносый юноша со сжатыми губами, с разлетающимися бровями забежал в медсанбат, попросил напиться. Паня подала ему — и с такой сильной, чистой нежностью, какой я не испытала ни к кому на свете, я смотрела, как он пьет, как ходит вверх и вниз его худой кадык, как со злобой косятся его глаза на дорогу, по которой еще отходили наши.
Мы выехали в девятом часу, и весь медсанбат снялся вместе с нами. Березовая роща, которая еще так недавно была легкой, сияющей, спокойной, теперь горела, и ветер гнал прямо на нас темные, шаткие столбы дыма. Это было кстати: мы без труда проскочили ту часть дороги, которая простреливалась, — на выезде из деревни. Теперь не так трясло — машина была полна, но каждый раз, когда она ныряла в рытвину, раздавался стон, и мы с Паней совсем замотались, следя, чтобы кто—нибудь из раненых не ударился головой о раму.
Это было 8 сентября — день, когда, готовясь к решительному штурму, немцы впервые начали серьезно бомбить Ленинград. Мрачное зарево пожара летело навстречу машине. Мы выехали на Международный, и стало казаться, что весь город охвачен огнем. Говор послышался среди раненых, и в красных отблесках, искоса забегавших в автобус, я увидела, что один из них, плечистый моряк с забинтованной головой, рвет на себе тельняшку и плачет.
Глава 10. А ЖИЗНЬ ИДЕТ.
Деревянные щиты перед окнами магазинов уже поста — рели, потрескались, облупились; в садах и парках давно заросли травой: щели и траншеи; в квартирах с утра был полумрак, потому что тревога объявлялась по многу раз в день и не имело смысла все время открывать и закрывать ставни. «Окопы», на которые я ездила в июле, давно превратились в сильные укрепления с дзотами, стальные каркасы для которых отливались на заводах.
Кажется, никогда в жизни я столько не работала, как этой осенью в Ленинграде. Я училась на курсах РОКК ездила на фронт и даже получила благодарность в приказе за то, что под сильным огнем вывезла раненых с линии фронта.
А писем все не было — все чаще приходилось мне вынимать из сумки белого медвежонка. Писем не было — напрасно искала я Саню среди летчиков, награжденных за полеты в Берлин, Кенигсберг, Плоешти.
Но я работала, «набирая скорость», как на сумасшедшем поезде, который мчится вперед, не разбирая сигнальных огней, — только свистит и бросается в сторону ветер осенней ночи!
И вот пришел день, когда поезд промчался мимо, а я одна осталась лежать под насыпью, одинокая, разбитая, умирающая от горя.
Еще в детстве мне почему—то было стыдно рассказывать сны. Как будто я сама доверяла себе заветную тайну, а потом сама же раскрывала ее, рассказывая то, что было известно мне одной в целом свете. Но этот сон я все—таки должна рассказать.
Я уснула в госпитале после дежурства, на десять минут, и мне приснилось, что я сижу у окна и занимаюсь испанским. Так и было, когда мы жили в Крыму: Саня сердится, что я забросила языки, и я стала снова заниматься испанским. Но разве Крым за окном? Словно в раю, клонится вниз тяжелая ветка сливы с матовыми синими плодами, прозрачные желтые персики светятся, тают на солнце, и всюду — цветы, и цветы: табак, левкои, розы. Тишина — и вдруг оглушительный птичий крик, взмахи крыльев, волнение! Я бросаю книгу — и в сад, через стол, через окно. И что же? Коршун или ворон, не знаю, большая птица с горбатым клювом сидит на платане, раскинув острые крылья. И эта птица держит в клюве другую, маленькую, кажется, соколенка. Она держит соколенка за ноги, и тот уже не кричит, только смотрит, смотрит на меня человеческими глазами. У меня сердце падает, я кричу, ищу что—нибудь, палку, а коршун поднимается медленно и летит. Голова его повернута в сторону от меня. Летит, раскинув, распластав неподвижные крылья.
— Вот, Лукерья Ильинична, объясните сон, — сказала я нашей канцеляристке, пожилой, старомодной и чем—то всегда напоминавшей мне тетю Дашу.
— Ваш муж прилетит.
— Почему же? Ведь улетел коршун и птичку унес?
Она подумала.
— Все равно прилетит.
Весь день я была под впечатлением этого страшного, глупого сна, а вечером уговорила Варю поехать ко мне ночевать.
Тревоги начались, как обычно, в половине восьмого. Первую мы пересидели, хотя Розалия Наумовна звонила по телефону и от имени группы самозащиты приказывала спуститься. Вторую тоже пересидели. В бомбоубежищах на меня всегда находила тоска, и я давно решила, что если мне «не повезет» — пускай это случится на свежем воздухе, под ленинградским небом. Кроме того, мы жарили кофе — важное дело, потому что это был не только кофе, но и лепешки, если к гуще прибавить немного муки.
Но началась третья тревога, бомбы упали близко, дом качнулся, точно сделал шаг вперед и назад, в кухне посыпались с полок кастрюли, и Варя взяла меня за руку я повела вниз, не слушая возражений. Женщины стояли в темном подъезде и говорили быстро, тревожно. Я узнала знакомый голос дворничихи татарки Гюль Ижбердеевой, которую все в доме почему—то называли Машей.
— Девятка побита, — сказала она. — Очень побита. Комендант велел — бери лопата, пошла, отрывать нада.
«Девятка» — это был дом, в котором помещался гастрономический магазин номер девять.
— Бери лопата, пошла. Все пошла! Кому нет лопата, там дадут. Бери, бабка, бери! Тебя побьют, тебя отрывать будут.
Она гремела в темноте лопатами, одну сунула мне, другую Варе. Ужас как не хотелось идти! Мне уже случалось «отрывать», когда разбомбили нейрохирургическую клинику Военно—медицинской академии. Но женщины в подъезде поворчали и пошли — и мы пошли за ними.
Ночь была великолепная, ясная — самая «налетная», как говорили в Ленинграде. Похожая на желтый воздушный шар луна висела над городом, первые заморозки только что начались, и воздух был легкий, крепкий. Гулять бы в такую ночь, сидеть на набережной с милым другом под одним плащом, и чтобы где—то внизу волна чуть слышно ударялась о каменный берег!
А мы шли, усталые, молчаливые, злые, с лопатами на плечах, доставать из—под развалин дома живых или мертвых.
«Девятка» была расколота надвое — бомба пробила все пять этажей, и в черном неправильном провале открылся узкий ленинградский двор с фантастическими ломаными тенями. Дом упал фасадом вперед, обломки загородили улицу, и в этой каше битого кирпича, мебели, арматуры торчало черное крыло рояля. С третьего этажа висел, накренясь, буфет, на стене были ясно видны пальто и дамская шляпа.
Как и тогда, на развалинах клиники, тихо было вокруг, люди неторопливо, со странным спокойствием приближались к дому, и голоса были неторопливые, осторожные. Женщина закричала, бросилась на землю, ее отнесли в сторону, и снова стало тихо. Мертвый старик в белом, засыпанном известью и щебнем пальто лежал на панели, на него натыкались, заглядывали в лицо и медленно обходили.
Вода залила подвалы. Прежде всего, нужно было что—то сделать с водой, и худенький ловкий сержант милиции, распоряжавшийся спасательными работами, поставил нас с Варей на откачку воды, к насосу.
Снова двинулась и остановилась под ногами земля, и прямо над нами, догоняя друг друга, пошли в небо желтой дугой трассирующие пули. Прожектора, чудесно укорачиваясь и удлиняясь, скрестились, и мне показалось, что в одной из точек скрещения мелькнул маленький самолетик.
Зенитки стали бить — только что далеко, а вот уже ближе и ближе, точно кто—то огромный шагал через кварталы, ежеминутно стреляя вверх из тысячи пистолетов. Не отрываясь от работы, я взглянула на небо и поразилась: так странен был контраст между безумством шарящих прожекторов и спокойствием чистой ночи с равнодушно желтой луной, так страшна и нарядна была картина войны с коротким треском пулеметов, стремительным полетом разноцветных ракет в ясном, высоком небе.
Санитарные машины остановились у веревок, которыми милиция огородила разрушенный дом. Работа шла полным ходом, шум и гулкие голоса доносились из подвала, и люди выходили, бледные, мокрые до пояса. Жертв, кажется, было немного.
Раскрасневшаяся, красивая Варя выдирала из груды сломанной мебели матрацы, одеяла, подушки, укладывала раненых, делала кому—то искусственное дыхание, кричала на санитаров и два врача, приехавшие с санитарной машиной, бегали, как мальчики, и слушались каждого ее слова.
Подоткнув юбку, она спустилась в подвал и вылезла оттуда, таща за плечи мокрого человека. Худенький сержант подбежал, помог, санитары подтащили носилки.
— Посадите! — повелительно сказала она.
Это был красноармеец или командир, без фуражки, в почерневшей от воды шинели. Его посадили. Голова упала на грудь. Варя взяла его за подбородок, и голова легко, как у куклы, откинулась назад. Что—то знакомое мелькнуло в этом бледном лице с темно—желтыми космами волос, облепившими лоб, и несколько минут я работала, стараясь вспомнить, где я видела этого человека. — Вот так, сейчас будет здоров, — низким, сердитым голосом сказала Варя.
Она разжала ему зубы, сунула пальцы в рот. Онз амотался, затрепетал у нее в руках, хрипя и рывками втягивая воздух.
— Ага, кусаешься, милый! — снова сказала Варя.
Ручка насоса то поднималась, то опускалась, и мне то видно, то не видно было, что Варя делает с ним. Теперь он сидел, тяжело дыша, с закрытыми глазами, и при свете луны лицо его казалось белым, удивительно белым, с приплюснутым носом и квадратной нижней челюстью, точно очерченной мелом, — лицо, которое я видела тысячу раз, а теперь не верила глазам, не узнавала…
До сих пор не понимаю, почему я не позволила отправить Ромашова — это был он — в больницу. Может показаться невероятным, но я обрадовалась, когда, сидя на земле в расстегнутой шинели, он поднял глаза и сквозь туман, которым был еще полон страшноватый, неопределенный взгляд, увидел меня и сказал чуть слышно: «Катя». Он не удивился, убедившись в том, что именно я стою перед ним с какой—то бутылочкой в руках, которую Варя велела ему понюхать. Но когда я взяла его за руку, чтобы проверить пульс, он стиснул зубы, дрожа, сказал еще раз, погромче: «Катя, Катя».
К утру мы вернулись домой. Мы шли, шатаясь, мы с Варей не меньше чем Ромашов, хотя бомба не пробила над нами пять этажей и мы не болтались, не захлебывались в залитом водой подвале. Мы шли, а Маша с какой—то женщиной волокли за нами Ромашова. Он все беспокоился, не пропал ли его мешок, заплечный мешок и Маша наконец сердито сунула ему мешок под нос и сказала:
— Ты не мешок думай. Ты бога думай. Ты жизнь, дурак, спасал. Тебе молиться, куран читать нада!
Кофе — это было очень кстати, когда мы доплелись и, сдав Ромашова Розалии Наумовне, повалились в кухне на кровать, грязные и растрепанные, как черти.
— В общем, я так и не поняла, что это за дядя, — сказала Варя.
— Самый плохой человек на земле, — ответила я устало.
— Дура, зачем же ты его привела?
— Старый друг. Что делать?
Мне стало жарко от кофе, я начала снимать платье, запуталась, и последнее, что еще прошло перед глазами, было большое белое лицо, от которого я беспомощно отмахнулась во сне.
Глава 11. УЖИН. «НЕ ОБО МНЕ РЕЧЬ».
Он еще спал, когда мы уходили, — Розалия Наумовна постелила ему в столовой. Одеяло сползло, он спал в чистом нижнем белье, и Варя мимоходом привычным движением поправила, подоткнула одеяло. Он дышал сквозь сжатые зубы, между веками была видна полоска глазного яблока — уж такой Ромашов, что его нельзя было спутать ни с одним Ромашовым на свете!
— Так — самый плохой? — шепотом спросила Варя.
— Да.
— А, по—моему, ничего.
— Ты сошла с ума!
— Честное слово — ничего. Ты думаешь, почему он так спит? У него короткие веки.
Отчего мне казалось, что к вечеру Ромашов должен исчезнуть, как виденье, принадлежащее той исчезнувшей ночи? Он не исчез. Я позвонила — и не Розалия Наумовна, а он подошел к аппарату.
— Катя, мне необходимо поговорить с вами, — почтительным, твердым голосом сказал он. — Когда вы вернетесь? Или разрешите приехать?
— Приезжайте.
— Но я боюсь, что в госпитале это будет неловко.
— Пожалуй. А домой я вернусь через несколько дней.
Он помолчал.
— Я понимаю, что у вас нет ни малейшего желания видеть меня. Но это было так давно… Причина, по которой вы не хотели со мной встречаться…
— Ну, нет, не очень давно…
— Вы говорите об этом письме, которое я послал с доктором Павловым? — спросил он живо. — Вы получили его?
Я не ответила.
— Простите меня.
Молчание.
— Это не случайно, что мы встретились. Я шел к вам. Я бросился в подвал, потому что кто—то закричал, что в подвале остались дети. Но это не имеет значения. Нам необходимо встретиться, потому что дело касается вас.
— Какое дело?
— Очень важное. Я вам все расскажу.
У меня сердце екнуло — точно я не знала, кто говорит со мной.
— Слушаю вас.
Теперь он замолчал и так надолго, что я чуть не повесила трубку.
— Хорошо, тогда не нужно. Я ухожу, и больше вы никогда не увидите меня. Но клянусь…
Он прошептал еще что—то; мне представилось, как он стоит, сжав зубы, прикрыв глаза, и тяжело дышит в трубку, и это молчание, отчаяние вдруг убедили меня. Я сказала, что приду, и повесила трубку.
На столе стояли сыр и масло — вот что я увидела, когда, открыв входную дверь своим ключом, остановилась на пороге столовой. Это было невероятно — настоящий сыр, голландский, красный, и масло тоже настоящее, может быть даже сливочное, в большой эмалированной кружке. Хлеб, незнакомый, не ленинградский, был нарезан щедро, большими ломтями. Кухонным ножом Ромашов открывал консервы, когда я вошла. Из мешка, лежавшего на столе, торчала бутылка…
Растрепанная, счастливая Розалия Наумовна вышла из спальни.
— Катя, как вы думаете, что делать с Берточкой? — шепотом спросила она. — Я могу ее пригласить?
— Не знаю.
— Боже мой, вы сердитесь? Но я только хотела узнать…
— Миша, — сказала я громко, — вот Розалия Наумовна просит меня выяснить, может ли она пригласить к столу свою сестру Берту.
— Что за вопрос! Где она? Я сам ее приглашу.
— Вас она испугается, пожалуй.
Он неловко засмеялся.
— Прошу, прошу!
Это был очень веселый ужин. Бедная Розалия Наумовна дрожащими руками готовила бутерброды и ела их с религиозным выражением. Берта шептала что—то над каждым куском — маленькая, седая, с остреньким носиком, с расплывающимся взглядом. Ромашов болтал не умолкая, — болтал и пил.
Вот когда я как следует рассмотрела его!
Мы не виделись несколько лет. Тогда он был довольно толст. В лице, в корпусе, немного откинутом назад, начинала определяться солидность полнеющего человека. Как все очень некрасивые люди, он старался тщательно, даже щегольски одеваться.
Теперь он был тощ и костляв, перетянут новыми скрипящими ремнями, одет и гимнастерку с двумя шпалами на петлицах, — неужели майор? Кости черепа стали видны. В глазах, немигающих, широко открытых, появилось, кажется, что—то новое — усталость?
— Я изменился, да? — спросил он, заметив, что я гляжу на него. — Война перевернула меня. Все стало другим — душа и тело.
Если бы стало все другим, он бы не доложил мне об этом.
— Миша, откуда у вас столько добра? Украли?
Очевидно, он не расслышал последнего слова.
— Кушайте, кушайте! Я достану еще. Здесь все можно достать. Вы просто не знаете.
— В самом деле?
— Да, да. Есть люди.
Не знаю, что он хотел сказать этими словами, но я невольно положила свой бутерброд на тарелку.
— Вы давно в Ленинграде?
— Третий день. Меня перебросили из Москвы в распоряжение начальника Военторга. Я был на Южном фронте. Попал в окружение и вырвался чудом.
Это было правдой, страшной для меня правдой, а я слушала его небрежно, с давно забытым чувством власти над ним.
— Мы отступали к Киеву. Мы не знали, что Киев отрезан, — сказал он. — Мы думали, что немцы черт знает где, а они встретили нас под Христиновкой, в двухстах километрах от фронта. Сущий ад, — добавил он смеясь, — но об этом потом. А сейчас я хотел сказать вам, что видел в Москве Николая Антоныча. Как ни странно, он никуда не поехал.
— В самом деле? — сказала я равнодушно.
Мы помолчали.
— Вы, кажется, собирались поговорить о чем—то, Миша? Тогда пойдемте ко мне.
Он встал и выпрямился. Вздохнул и поправил ремень.
— Да, пройдемте. Вы позволите взять с собой вино?
— Пожалуйста.
— Какое?
— Я не буду пить — какое хотите.
Он взял со стола бутылку, стаканы и, поблагодарив Розалию Наумовну, прошел за мной. Мы уселись — я на диван, он у стола, который был когда—то Сашиным и на котором так и стояли нетронутыми ее кисти в высоком бокале.
— Это длинный рассказ.
Он волновался. Я была спокойна.
— Очень длинный и… Вы курите?
— Нет.
— Многие женщины во время войны, стали курить.
— Да, многие. Меня ждут в госпитале. Вам дается ровно двадцать минут.
— Хорошо, — задумчиво, по слогам сказал Ромашов. — Вы знаете, что в августе я уехал с Ленинградского фронта. Мне не хотелось уезжать, я рассчитывал встретиться с вами. Но приказ есть приказ.
Саня часто повторял эту фразу, и мне неприятно было услышать ее от Ромашова.
— Не буду рассказывать о том, как я попами на юг. Мы дрались под Киевом и были разбиты.
Он сказал: «мы».
— В Христиновке я присоединился к санитарному эшелону, который шел в обход Киева, на Умань. Это были обыкновенные теплушки, в которых лежали раненые. Много тяжелых. Ехали три, четыре, пять дней, в жаре, в духоте, в пыли…
Берта молилась в соседней комнате.
Он встал и нервно закрыл дверь.
— Я был контужен дня за два до того, как присоединился к эшелону.
Правда, легко — только по временам начинало покалывать левую сторону тела. Она у меня буреет, — напряженно улыбнувшись, добавил Ромашов. — Еще и теперь.
Варя, которая в ту ночь раздевала и одевала Ромашова, говорила, что у него левая сторона обожжена; должно быть, это и было то, что он назвал «буреет».
— И вот мне пришлось заняться хозяйством нашего эшелона. Прежде всего, нежно было наладить питание, и я с гордостью могу сказать, что в пути — мы ехали две недели — от голода ни один человек не умер. Но не обо мне речь.
— О ком же?
— Две девушки, студентки Пединститута из Станислава, ехали с нами.
Они носили раненым еду, меняли повязки, делали все, что могли. И вот однажды одна из них позвала меня к летчику — раненый летчик лежал в одной из теплушек.
Ромашов налил вина.
— Я спросил девушек, что случилось. «Поговорите с ним!» — «О чем?» — «Не хочет жить: говорит, что застрелится, плачет». Мы прошли к нему, — не знаю, как получилось, что в этой теплушке я не был ни разу. Он лежал вниз лицом, ноги забинтованы, но так небрежно, неумело. Девушки подсели к нему, окликнули…
Ромашов замолчал.
— Что же вы не пьете, Катя? — немного охрипнувшим голосом спросил он.
— Все я один. Напьюсь, что станете делать?
— Прогоню. Досказывайте вашу историю.
Он выпил залпом, прошелся, сел, Я тоже пригубила. Мало ли летчиков на свете!
Глава 12. ВЕРЮ.
Вот эта история, как ее рассказал Ромашов.
Саня был ранен в лицо и ноги, рваная рана на лице уже подживала. Он не сказал, при каких обстоятельствах был ранен, — об этом Ромашов узнал совершенно случайно из многотиражки «Красные соколы», где была помещена заметка о Сане. Он вез мне этот номер газеты и, без сомнения, довез бы, если бы не глупая история, когда он чуть не утонул в подвале, спасая детей. Но это не имеет значения — он помнит заметку наизусть:
«Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут четырьмя истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз двумя „юнкерсами“. На объятой пламенем машине Григорьев успешно протаранил „юнкерс“. Летчики энской части всегда будут хранить память о сталинских соколах — коммунистах капитане Григорьеве, штурмане Лури, стрелке—радисте Карпенко и воздушном стрелке Ершове, до последней минуты своей жизни боровшихся за отчизну».
Может быть, текст неточен, слова стоят в другом порядке, но за содержание заметки Ромашов ручался головой. Он держал этот номер в планшете, вместе с другими бумагами, очень важными, планшет попал в воду, газета превратилась в мокрый комочек, и, когда он ее просушил, как раз той полосы, на которой была напечатана заметка, не оказалось. Но и это не имеет значения.
Итак, Саню считали погибшим, но он не погиб, он был только ранен в лицо и в ноги. В лицо легко, а в ноги, очевидно, серьезно — во всяком случае, сам передвигаться не мог.
«Как он попал в эшелон?» — «Не знаю, — сказал Ромашов, — мы не говорили об этом». — «Почему?» — «Потому что через час после нашей встречи в двадцати километрах от Христиновки эшелон расстреляли немецкие танки». Он так и сказал: «расстрляли».
Это было неожиданно — наткнуться на немецкие танки в нашем тылу. Эшелон остановился — с первого выстрела был подбит паровоз. Раненые стали прыгать под насыпь, разбежались, и немцы через эшелон стали стрелять по ним шрапнелью.
Прежде всего, Ромашов бросился к Сане. Нелегко было под огнем вытащить его из теплушки, но Ромашов вытащил, и они спрятались за колеса. Тяжело раненные кричали в вагонах: «Братцы, помогите!», а немцы все били, уже близко, по соседним вагонам. Больше нельзя было лежать за колесами, и Саня сказал: «Беги, у меня есть пистолет, и они меня не получат». Но Ромашов не оставил его, поволок в сторону, канавой, по колено в грязи, хотя Саня бил его по рукам и ругался. Потом один лейтенант с обожженным лицом помог Ромашову перетащить его через болото, и они остались вдвоем в маленькой мокрой осиновой роще.
Это было страшно, потому что большой немецкий десант захватил ближайшую станцию, вокруг шли бои, и немцы в любую минуту могли появиться в этой рощице, которая на открытой местности была единственным удобным для обороны местом. Необходимо было, не теряя времени, двигаться дальше. Но у Сани открылась рана на лице, температура поднялась, он все говорил Ромашову: «Брось меня, пропадешь!» А один раз сказал: «Я думал, что в моем положении придется тебя опасаться». Когда он опускал ноги, у него появлялась мучительная боль — кровь приливала к ранам. Ромашов сделал ему костыль: расщепил сук, сверху привязал шлем, и получился костыль. Но Саня все равно не мог идти, и тогда Ромашов пошел один, но не вперед, а назад, к эшелону, — он надеялся отыскать давешних девушек из Станислава. До эшелона он не дошел — за болотом по нему открыли огонь. Он вернулся.
— Я вернулся через час или немного больше, — сказал Ромашов, — и не нашел его. Роща была маленькая, и я пересек ее вдоль и поперек. Я боялся кричать, но все же крикнул несколько раз — никакого ответа. Я искал его всю ночь, наконец, свалился, уснул, а утром нашел то место, где мы расстались: мох был сорван, примят, самодельный костыль стоял под осиной…
Потом Ромашов попал в окружение, но пробился к своим с отрядом моряков из Днепровской флотилии. Больше он ничего не слышал о Сане…
Тысячу раз представлялось мне, как я узнаю об этом. Вот приходит письмо, обыкновенное, только без марки, я открываю письмо — и все перестает существовать, я падаю без слова. Вот приходит Варя, которую я столько раз утешала, и начинает говорить о нем — сперва осторожно, издалека, потом: «Если бы он погиб, что ты стала бы делать?» И я отвечаю: «Не пережила бы». Вот в военкомате я стою среди других женщин, мы смотрим друг на друга, и у всех одна мысль: «Которой сегодня скажут — убит?» Все передумала я, только одно не приходило мне в голову: что об этом расскажет мне Ромашов.
Конечно, все это была ерунда, которую он сочинил или прочитал в журнале. Вернее всего, сочинил, потому что характерный для него расчет был виден в каждом слове. Но как несправедливо, как тяжко было, что на меня за что—то свалилась эта неясная, тупая игра! Как я не заслужила, чтобы этот человек явился в Ленинград, где и без него было так трудно, — явился, чтобы подло обмануть меня!
— Миша, — сказала я очень спокойно. — Вы написали мне: «Счастье мое и жизнь». Это правда?
Он молча смотрел на меня. Он был бледен, а уши — красные, и теперь, когда я спросила: «Это правда?», они стали еще краснее.
— Тогда зачем же вы придумали так мучить меня? Я должна сознаться, что иногда немного жалела вас. Этого не бывает, чтобы женщина хоть раз в жизни не пожалела того, кто любит ее так долго. Но как же вы не понимаете, тупой человек, что если бы, не дай бог, Саня погиб, я стала бы вас ненавидеть? Вы должны сознаться, что все это ложь, Миша. И попросить у меня прощенья, потому что иначе я действительно прогоню вас, как негодяя. Когда это было — то, что вы рассказывали?
— В сентябре.
— Вот видите — в сентябре. А я получила письмо от десятого октября, в котором Саня пишет, что жив и здоров и может быть, прилетит на денек в Ленинград, если позволит начальство. Ну—ка, что вы на это скажете, Миша?
Не знаю, откуда взялись у меня силы, чтобы солгать в такую минуту! Не получала я никакого письма от десятого октября. Уже три месяца, как не было ни слова от Сани.
Ромашов усмехнулся.
— Это очень хорошо, что вы не поверили мне, — сказал он. — Я боялся другого. Пусть так, все к лучшему.
— Значит, все это — ложь?
— Да, — сказал Ромашов, — это ложь.
Он должен был убеждать меня, доказывать, сердиться, он должен был, — как тогда на Собачьей Площадке, — стоять передо мной с дрожащими губами. Но он сказал равнодушно:
— Да, это ложь.
И у меня забилось, упало, опустело сердце.
Должно быть, он почувствовал это. Он подошел и взял меня за руку — смело, свободно. Я вырвала руку.
— Если бы я хотел обмануть вас, я просто показал бы вам газету, в которой черным по белому напечатано, что Саня погиб. А я рассказал вам то, чего не знает никто на свете. И это смешно, — сказал он надменно, — что я сделал это будто бы из низких личных побуждений. Или я думал, что подобное известие может расположить вас ко мне? Но это — правда, которую я не смел скрыть от вас.
По—прежнему я сидела ровно, неподвижно, но все вокруг стало медленно уходить от меня: Сашин стол с кисточками в высоком бокале и этот рыжий военный у стола, фамилию которого я забыла. Я молчала, и мне не нужно было ничего, но этот военный почему—то поспешно ушел и вернулся с маленькой седой, изящной женщиной, которая схватилась за голову, увидев меня, и сказала:
— Катя, боже мой! Дайте воды, воды! Да что же с вами, Катя?
Глава 13. НАДЕЖДА.
— Варенька, что со мной? Я больна?
— Ничуть не больна — здорова.
Она махнула рукой, и, осторожно скрипя сапогами, кто—то вышел и сказал негромко.
— Очнулась.
— Кто это?
— Да все тот же — рыжий твой, — с досадой сказала Варя.
Я помолчала.
— Варенька, ты знаешь?
— Боже мой, да еще ничего не случилось. Ну, ранен, эка штука! Голубчик ты мой, — она прижалась ко мне, обняла. — Да разве можно так? Что же мне—то тогда — умереть? И ведь какая внешность обманчивая! Я бы о тебе ничего подобного никогда не сказала. Или прежде очень измучилась? Или он сказал неосторожно?
— Нет, осторожно. Это пройдет.
— Ну, конечно, пройдет. Уже прошло. Кофе хочешь?
Я опять помолчала.
— Варенька!
— Что, голубчик?
— Я надеюсь.
— Ну, конечно, еще бы не так! И нужно надеяться! Я тебе говорю — вот запомни мои слова — никуда не денется, вернется твой Саня.
Газету «Красные соколы», в которой была напечатана заметка о Сане, очень трудно было достать в Ленинграде. Сперва я старалась достать, даже узнала у одного военного корреспондента, в какой части выходит эта газета. Потом перестала, когда Петя написал мне, что он читал заметку своими глазами: «Я думаю и думаю о вас, дорогая Катя. Саня погиб мужественно, великолепно! Для меня он был самым близким человеком на свете, с детских лет милым и любимым братом. Всегда у него что—то звенело в душе, и легче становилось жить, как, бывало, прислушаешься к этому молодому звону. Это было наше детство, наша мечта, наша клятва, которую он помнил всю жизнь. Как бы мне хотелось увидать вас, разделить ваше горе!»
В ответ я подробно изложила рассказ Ромашова и прибавила, что не теряю надежды…
Все реже я возвращалась домой. Я кончила курсы РОКК и стала работать в госпитале уже не «общественницей», а профессиональной сестрой. И голод долго не мешал мне, куда дольше, чем, например, Варе, которая на вид была гораздо крепче, чем я. Для меня было легче, что горе свалилось на меня в такие тяжелые дни в Ленинграде, где можно было попасть под артиллерийский снаряд, лежа в своей постели, где улицы были занесены первым снегом, а окна стояли открытыми, потому что многие ленинградцы, когда еще было тепло, перешли на казарменное положение и уже не вернулись домой.
Легче потому, что, сопротивляясь всему, что принесла блокада, я невольно сопротивлялась и собственному горю. И Ромашов, как ни странно, понимал меня. Недаром он совершенно перестал уговаривать меня уехать из Ленинграда…
Он повторил свой рассказ, и я узнала много новых подробностей, о которых в первый раз он не упомянул ни слова. Когда Ромашов с лейтенантом тащили Саню через болото, они сложили руки крестом, и он обнял их руками за шеи. Одну из девушек звали Катей, и Саня ужасно обрадовался и потом только и звал ее: «Катя, Катя!» Когда Саня сказал: «А я думал, что мне придется тебя опасаться», Ромашов только засмеялся в ответ, и это действительно было смешно — каждую минуту в рощице могли появиться немцы.
Это была правда, зачем ему лгать? Ведь если бы он захотел обмануть меня, он просто показал бы газету, в которой черным по белому напечатано, что Саня погиб. Так он сказал — и это тоже было правдой. «Но ведь это Ромашов, — так я говорила себе. — Ромашов с его немигающими глазами. Ромашов, Сова, как называл его Саня».
«Война меняет людей, — так я отвечала себе. — Он видел смерть, ему стало скучно в этом мире притворства к лжи, который прежде был его миром. Он сделал для Сани все, что мог, — и сделал именно потому, что невозможно было предположить, что он способен на это».
Как—то мельком я сказала ему, что была бы очень рада увидеть Петю.
— Готово, — объявил он мне через несколько дней, — завтра приедет.
Возможно, что это было простым совпадением, хотя Ромашов уверял, что он устроил вызов через ректора Академии художеств. Но прошло несколько дней, и Петя приехал.
Я не видела его три с половиной месяца. Я провожала его с чувством страха за его рассеянность, поэтичность, погруженность в себя — черты, которые меньше всего могли пригодиться ему на фронте. А в комнату вошел крепкий, загорелый человек, не сутулый, как прежде, а прямой, с прямым, уверенным взглядом.
Мы обнялись.
— Катя, теперь и я думаю, что Саня вернется, — сразу сказал он. — Он воскрес, когда его считали погибшим. Теперь кончено. Будет жить. Это наша такая фронтовая примета. И в части уже знают, что он жив. Иначе прислали бы извещение, это же совершенно ясно!
Это было далеко не ясно, но я слушала, и у меня не было силы не верить…
Петя явился ко мне очень рано, в шестом часу утра. Мы ждали Ромашова до полудня. Петя рассказывал, и я слушала его с таким чувством, как будто это был не Петя, а его младший брат — грубоватый, румяный, в полушубке, который крепко пахнул овчиной, с желтыми пальцами, которыми он ловко сворачивал огромные «козьи ножки». Это была история характера — то, что он рассказал о себе. Художник, человек искусства, он и первые дни на фронте увидел не войну, а как бы панораму войны. Он был одно, война — другое. Но вот прошла неделя, другая. Он убил первого немца.
— Как случилось, что я, художник Сковородников, убил человека? Но я убил человека, который не имел права называть себя так. Убивая его, я защищал это право.
Так он стал «атомом войны». Больше он не наблюдал ее как художник. Он был теперь солдатом и делал все, что в его силах, чтобы стать настоящим солдатом.
— Что же мне делать в этом старом мире? — сказал он, легко оглянувшись кругом.
Мы не дождались Ромашова, и я ушла первая, потому что видела, что Пете хочется побыть одному в этом «старом мире». Обернувшись с порога, я увидела, как он взял одно из своих свернутых трубкой полотен и стал осторожно развертывать его вдруг задрожавшими, огрубевшими пальцами.
Я позвонила Ромашову из госпиталя.
— Приехал? — весело сказал он. — Вот видите. А вы сомневались!
— Да, приехал. Приходите вечером, он хочет вас видеть.
— Вечером, к сожалению, не могу, — неотложное дело.
— Нет, придете.
— Никак не могу.
— Придете, вы слышите, Миша?
И я бросила трубку.
Он пришел. Мы сидели в столовой, он появился в дверях и сразу же с протянутой рукой направился к Пете.
— Рад, рад, — сказал он, — очень рад. Признаться, я не думал, что выйдет, честное слово! Но вы, оказывается, знаменитый человек. Если бы вы не были знаменитым человеком, — ничего бы не вышло.
— Очень вам благодарен, товарищ майор, — казенным голосом отвечал Петя.
— Полно, какой майор! Интендант второго ранга, и только! Колеса не соберусь прицепить, вот и хожу майором!
Петя посмотрел на него, потом куда—то мимо, в угол. Очевидно, он полагал, что нет ничего легче, как прицепить колеса, чтобы интенданта второго ранга впредь никто не принимал за майора.
— Ну, как на фронте, что слышно? Мне только что сказали, что Лигово взято.
— Насколько мне известно, не взято, — сказал Петя.
— Вот, извольте! А я уже думал: ну, кончено, на днях рванем в Москву в международном вагоне. Придется подождать, да?
Такими словами — «рванем» — об этом не говорилось в Ленинграде. Мне стало неловко. Но Петя, кажется, ничего не заметил.
Мы помолчали.
— Итак, — сказал Ромашов, — вопрос первый и единственный — Саня?
Почему он держался так неопределенно, так странно? Почему он улыбался то с какой—то робостью, то с гордым, надменным выражением? Почему он рассказал длинную историю о каких—то пожарных, которые в маскировочных халатах под артиллерийским огнем копали картошку? Не знаю, мне было все равно. Я думала только о Сане…
— Есть только один путь, — с каким—то тайным самодовольством сказал, наконец, Ромашов. — Дело в том, что эти места под Киевом находятся сейчас в руках партизанских отрядов. Без сомнения, партизаны держат связь с командованием фронта. Нужно включиться в эту связь — то есть поручить кому—то собрать все сведения о Сане.
Положив ногу на ногу, подпирая кулаком подбородок, Петя, не отрываясь, смотрел на него.
— Здесь две трудности, — продолжал Ромашов. — Первая: мы в Ленинграде. Вторая: этот приказ — разыскать Саню или собрать сведения о нем может дать только одна очень высокая инстанция, и добраться до нее чрезвычайно трудно. Но нет ничего невозможного. У меня есть знакомства здесь, в Ленинградском штабе партизанских отрядов. Я сделаю это, — прибавил он побледнев. — Разумеется, если какие—либо исключительные обстоятельства не помешают.
«Исключительных обстоятельств» было сколько угодно — сама жизнь состояла из одних «исключительных обстоятельств». Все, что находилось по ту сторону Ладожского озера, давно уже называлось «Большой Землей», и поддерживать с нею даже простую телеграфную связь день ото дня становилось все труднее.
— Петя, что вы молчите?
— Я слушаю, — точно очнувшись, сказал Петя. — Что же, все правильно. Мне трудно сказать, насколько возможно рассчитывать на эту связь, особенно сейчас. Но начинать все—таки нужно немедленно. В этом отношении товарищ Ромашов совершенно прав. А в часть я бы на вашем месте написал, Катя.
— Голубчик, родная моя, — сказал он, когда Ромашов ушел, — что мне сказать вам? Он очень, очень не понравился мне, но мало ли что, правда? Это ничего не значит. В нем есть что—то неприятное, холодное, скрытное и вместе с тем какая обнаженность чувств в каждом движении, в каждом слове! Мне даже захотелось нарисовать его. Этот череп квадратный! Но все это пустяки, пустяки! Главное, что он, по—моему, человек дела.
— О да!
— И привязан к вам.
— Без сомнения.
— А вы не можете пойти вместе с ним в штаб партизанских отрядов?
— Конечно, могу.
— Вот и пойдите. И непременно нужно писать, запрашивать, это очень важно. Вам самой будет легче. Как вы похудели, измучились! — сказал он и взял меня за руки. — Бедная, родная! Вы, должно быть, не спите совсем?
— Нет, сплю.
— Саня вернется, вернется, — говорил он, и я слушала, закрыв глаза и стараясь удержать дрожащие губы. — Все снова будет прекрасно, потому что у вас такая любовь, что перед ней отступит самое страшное горе: встретится, посмотрит в глаза и отступит. Больше никто, кажется, и не умеет так любить, только вы и Саня. Так сильно, так упрямо, всю жизнь. Где же тут умирать, когда тебя так любят? Нельзя, никто бы не стал, я первый! А Саня? Да разве вы позволите ему умереть?
Он говорил, я слушала, и на душе становилось легче. Смутное, далекое воспоминание вдруг мелькнуло передо мной: Саня спит одетый и усталый, ночь, но в комнате светло. Худенький мальчик играет за стеной, а я лежу на ковре и слушаю, слушаю, сжимая виски. «За горем приходит радость, за разлукой — свиданье. Все будет прекрасно, потому что сказки, в которые мы верим, еще живут на земле…»
До фронта можно было доехать на трамвае, Петина дивизия стояла теперь в Славянске. Он просил не провожать его — это было рискованно, в Рыбацком без пропуска меня могли задержать. Но я поехала.
— Ну задержат, подумаешь! Комендант меня уже знает.
В трамвае было тесно, шумно, но мне все—таки еще раз удалось посмотреть бабушкины письма. Петя на днях получил от бабушки с одной почтой четыре закрытых письма и двенадцать открыток. Так и бывало в те дни в Ленинграде — по две—три недели с «Большой Земли» никто не получал ни слова, и вдруг приходила целая пачка писем. Дома я успела прочитать только открытки. В одной из них маленький Петя приписал огромными квадратными буквами: «Папа, у нас живет кролик», и я так живо представила, как он пишет, наклоняя голову и поднимая брови — с той милой манерой, которую я любила и которая делала его похожим на мать. Он был здоров, сыт и в безопасности, бабушка тоже. Чего же еще желать в такое тяжелое время?
— Правда же, Петя?
— Конечно, да, — грустно отвечал он. — Но как я скучаю без него, если бы вы знали!
Трамвай шел уже вдоль Рыбацкого, кто—то сказал, что на конечной остановке будут выпускать по одному, проверять документы. Петя беспокоился за меня, и я решила вернуться.
— Будьте здоровы, дорогой!
— Ладно, ладно, буду здоров, — отвечал он весело. Так бывало отвечал маленький Петя.
Через головы чужих, озабоченных, занятых своими делами людей мы протянули друг другу руки, и, быть может, поэтому я подумала с раскаянием, что почти ничего о нем не узнала. «Но ведь не в последний же раз мы видимся, — сказала я себе. — Отпрошусь в госпитале, его часть стоит совсем близко».
Если бы я знала, как много дней, томительных и тревожных, пройдет, прежде чем мы встретимся снова!
Глава 14. ТЕРЯЮ НАДЕЖДУ.
Берта умерла в середине декабря, в один из самых «налетных» дней, когда бомбежка началась с утра, или, вернее, не прекращалась с ночи. Она умерла не от голода — бедная Розалия Наумовна десять раз повторила, что голод тут ни при чем.
Ей непременно хотелось похоронить сестру в тот же день, как полагается по обряду, Но это было невозможно. Тогда она наняла длинного, грустного еврея, и тот всю ночь читал молитвы над покойницей, лежавшей на полу, в саване из двух не сшитых простынь — тоже согласно обряду. Бомбы рвались очень близко, ни одного целого стекла не осталось в эту ночь на проспекте, Максима Горького, на улицах было светло и страшно от зарева, от розово—красного снега, а этот грустный человек сидел и бормотал молитвы, а потом преспокойно уснул; войдя в комнату с рассветом, я нашла его мирно спящим подле покойницы, с молитвенником под головой.
Ромашов достал гроб — тогда, в декабре, это было еще возможно, — и, когда худенькая старушка легла в этот огромный, грубо сколоченный ящик, мне показалось, что и в гробу она забилась в угол со страху.
Могилу нужно было копать самим — могильщики заломили, по мнению Ромашова, «неслыханную» цену. Он нанял мальчиков — тех самых, которых Розалия Наумовна учила красить.
Очень оживленный, он десять раз бегал вниз во двор, шептался о чем—то с комендантом, похлопывал Розалию Наумовну по плечу и в конце концов, рассердился на нее за то, что она настаивала, чтобы Берту так и похоронили, в саване из не сшитых простынь.
— Простыни можно променять! — закричал он. — А ей они не нужны. В лучшем случае через два дня с нее эти простыни снимут.
Я прогнала его и сказала Розалии Наумовне, что все будет так, как она хочет.
Было раннее утро, мелкий и жесткий снежок крутился и вдруг, точно торопясь, падал на землю, когда, толкаясь о стены и неловко поворачивая на площадках, Ромашов с мальчиками снесли гроб и поставили его во дворе на салазки. Я хотела дать мальчикам денег, но Ромашов сказал, что сговорился за хлеб.
— По сто грамм авансом, — весело сказал он. — Ладно, ребята?
Не глядя на него, мальчики согласились.
— Катя, вы идете наверх? — продолжал он. — Будьте добры, принесите, пожалуйста. Хлеб лежит в шинели.
Не знаю, почему он положил хлеб в шинель, — должно быть, спрятал от Розалии Наумовны или давешнего еврея. Шинель висела в передней, он давно уже носил полушубок.
Я поднялась и, помнится, подумала на лестнице, что следует одеться потеплее. Меня с ночи немного знобило, и лучше было бы, пожалуй, не ходить на кладбище, до которого считалось добрых семь километров. Но я боялась, что без меня Розалия Наумовна свалится по дороге.
Завернутый в бумагу кусок хлеба лежал в кармане шинели, я стала доставать его. Вместе с хлебом полез какой—то мягкий мешочек. Мешочек упал, и я открыла дверь на лестницу, чтобы подобрать его — в передней было темно. Это был желтый замшевый кисет; среди других подарков мы посылали на фронт такие кисеты. Я подумала — и развязала его; карточка, сломанная пополам, лежала в нем и какие—то кольца. «Променял где—нибудь», — подумала я с отвращением. Карточка была очень старая, покоробившаяся, с надписью на обороте, которую трудно было разобрать, потому что буквы совершенно выцвели и слились. Я уже совсем собралась сунуть карточку обратно в кисет, но странное чувство остановило меня. Мне представилось, что некогда я держала ее в руках.
Я вышла — на лестнице было светлее — и стала по буквам разбирать надпись: «Если быть…» — прочитала я. Белый острый свет мелькнул перед моими глазами и ударил прямо в сердце. На фотографии было написано: «Если быть, так быть лучшим».
Не знаю, что сталось со мной. Я закричала, потом увидела, что сижу на площадке и шарю, шарю, ищу это фото. Через какую—то темноту перед глазами я прочитала надпись и узнала Ч. я шлеме, делавшем его похожим на женщину, Ч. с его большим орлиным лицом, с добрыми и мрачными из—под низких бровей глазами. Это была карточка Ч., с которой никогда не расставался Саня. Он носил ее в бумажнике вместе с документами, хотя я тысячу раз говорила, что карточка изотрется в кармане и что нужно остеклить ее и поставить на стол.
С бешенством бросилась я обратно в переднюю, сорвала с вешалки шинель и, бросив ее на площадку, вывернула карманы. Саня умер, убит. Не знаю, что я искала. Ромашов утаил его. В другом кармане были какие—то деньги, я скомкала их и швырнула в пролет. Убил и взял это фото. Я не плакала. Украл документы, все бумаги и, может быть, медальон, чтобы никто не узнал, что этот мертвый в лесу, этот труп в лесу — Саня. «Другие бумаги, очень важные, они лежали в планшете», — мысленно услышала я, и словно кто—то зажег фонарь перед каждым словом Ромашова.
Это фото было в планшете. Другие бумаги и газета «Красные соколы» тоже были в планшете, но они размокли, пропали — ведь сам Ромашов сказал: «Газета превратилась в комочек». А фотография сохранилась, быть может, потому, что Саня всегда носил ее обернутой в кальку.
Внизу слышались голоса. Розалия Наумовна звала меня. Я спрятала фотографию на груди, положила кисет в карман шинели. Я повесила шинель на прежнее место и, спустившись во двор, отдала хлеб Ромашову.
Он спросил:
— Что с вами? Вы нездоровы?
Я ответила:
— Нет, здорова.
Ничего не было. Не было пустынных бесшумных улиц, по которым, медленно передвигая ноги, как в страшном медленном сне, молча шли люди. Не было застрявших среди улиц обледеневших трамваев, с которых свисали, как с крыш деревенских домов, толстые карнизы снега. Не бежал все дальше и дальше от нас узкий след салазок, на которых лежало маленькое, как у ребенка, спеленутое тело. Только теперь я вспомнила, что Ромашов распорядился оставить гроб, не поместившийся на маленьких салазках.
— Ничего, продадим, — сказал он.
И Розалия Наумовна, должно быть, сошла с ума, потому что сказала, что по обряду так и нужно — без гроба. Я вспомнила об этом и сразу забыла. Девочка с крошечным старым лицом ступила в снег, чтобы пропустить нас — двоим было не разойтись на узкой дорожке, проложенной вдоль Пушкарской. Странно болтаясь в широком пальто, прошел еще кто—то — мужчина с портфелем, висящим на веревочке через плечо. Я увидела их — и тоже сразу забыла. Я видела все: бесшумные, занесенные снегом улицы, спеленутый труп на саночках и еще другой труп, который какая—то женщина везла по той стороне, но все останавливалась и, наконец, отстала. Как тени бесшумно, бесследно скользят по стеклу, так проходил передо мной белый, потонувший в снегу, стынущий город.
Другое видела я, другое терзало сердце: вытянув ноги в грязных, желтых от крови бинтах, Саня лежит, прижавшись щекою к земле, и убийца стоит над ним — одни, одни в маленькой мокрой осиновой роще!
Глава 15. ДА СПАСЕТ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ!
До еврейского кладбища было далеко, не добраться, и Розалия Наумовна решила похоронить сестру на Смоленском. За шестьсот граммов хлеба грустный еврей, читавший над Бертой молитвы, согласился придти на православное кладбище, чтобы проводить свою «клиентку», как он сказал, согласно обряду.
Я плохо помню эти проводы, продолжавшиеся весь день — от самого раннего утра до сумерек, подступивших по декабрьскому рано. Как будто старая немая кинолента шла передо мной, и сонное сознание то следовало за ней, то оступалось в снег, заваливший Васильевский остров.
Вот мы идем, не чувствуя ничего, кроме холода, усталости и нелюбви к окостеневшему трупу. Мальчики тащат Берту по очереди, в гору вдвоем, а на скатах она поспешно съезжает сама, точно торопясь поскорее освободить нас от этих скучных забот, которые она невольно нам причинила.
Блестит на солнце привязанная к трупу лопата, и, глядя на этот блеск, я почему—то вспоминаю Крым и море. Нам было так хорошо в Крыму! Саня вставал в пять часов, я готовила ему легкий завтрак, когда знала, что он идет на высокий полет. Мы купили душ «стандарт», я все приладила, устроила, и после душа Саня садился за стол в желтой полосатой пижаме. Как—то мы поехали в Севастополь, море было неспокойно, погода хмурилась — летчикам всегда давали отпуска в самое неподходящее время. Я огорчилась, и Саня сказал: «Ничего, я тебе организую погоду». И правда, только отвалил пароход, как стала прекрасная погода.
Как весело, как легко было мне стоять с ним на белой нарядной палубе, в белом платье, говорить и смеяться и стараться быть красивой, потому что я знала, что ему нравится, когда я нравлюсь другим! Как ослепительно сверкало солнце везде, куда ни кинешь взгляд, — на медных поручнях капитанского мостика, на гребешках закидывавшейся под ветром волны, на мокром крыле нырнувшей чайки!
…Сгорбившись, посинев, держа под руку Розалию Наумовну, чуть двигавшуюся — так тепло она была одета, — я плетусь за салазками, то уходящими от нас довольно далеко, то приближающимися, когда мальчики останавливаются, чтобы покурить. Мы две одинаковые жалкие старушки, я — совершенно такая же, как она. Должно быть, это сходство приходит в голову и Ромашову, потому что он догоняет нас и говорит с раздражением:
— Зачем вы пошли? Вы простудитесь, сляжете. Вернитесь домой, Катя.
Я гляжу на него: жив и здоров. В белом крепком полушубке, ремни крест на крест, на поясе кобура. Жив! Открытым ртом я вдыхаю воздух. И здоров! Я наклоняюсь и кладу в рот немного снега. Все поблескивает привязанная к трупу лопата, я все смотрю да смотрю на этот гипнотический блеск.
Кладбище. Мы долго ждем в тесной, грязной конторе с белыми полосами заиндевевшей пакли вдоль бревенчатых стен. Опухшая конторщица сидит у буржуйки, приблизив к огню толстые, замотанные тряпками ноги. Ромашов за что—то кричит на нее. Потом нас зовут — могила готова. Опираясь на лопаты, мальчики стоят на куче земли и снега. Неглубоко же собрались они запрятать бедную Берту! Ромашов посылает их за покойницей, и вот ее уже везут. Длинный грустный еврей идет за салазками и время от времени велит постоять — читает коротенькую молитву. Ромашов раскладывает на снегу веревку, ловко поднимает покойницу, ногой откатывает салазки. Теперь она лежит на веревках. Розалия Наумовна в последний раз целует сестру. Еврей поет, говорит то высоко, с неожиданными ударениями, то низко, как старая, печальная птица…
Мы возвращаемся в контору погреться. Мы — это я и Ромашов. Он делает мне таинственный знак, хлопает по карману, и, когда все направляются к воротам, мы заходим в контору — погреться.
— Налить?
Ох, как загорается, заходится сердце, какие горячие волны бегут по рукам и ногам! Мне становится жарко. Я расстегиваюсь, сбрасываю теплый платок; на легких, веселых ногах я хожу, хожу по конторе.
— Еще?
Опухшая женщина с жадностью смотрит на нас, я велю Ромашову налить и ей. И он наливает — «Эх, была не была!» — веселый, бледный, с красными ушами, в треухе, лихо сбитом на затылок. Мне тоже весело, я шучу: я беру со стола одну из черных крашеных могильных дощечек и протягиваю ее Ромашову:
— Для вас.
Он смеется:
— Вот теперь вы стали прежняя Катя!
— А все не ваша!
Он подходит ко мне, берет за руки. У него начинает дрожать рот, маленькие, точно детские, зубы открываются, — странно, прежде никогда я не замечала, какие у него острые маленькие зубы.
— Нет, моя, — говорит он хрипло.
Я отнимаю у него правую руку. Молоток лежит на окне — должно быть, им прибивают к могильным крестам дощечки. Очень медленно я беру с окна этот молоток, небольшой, но тяжелый, с железной ручкой…
Если бы удар пришелся по виску, я бы, пожалуй, убила Ромашова. Но он отшатнулся, молоток скользнул и рассек скулу. Женщина вскочила, закричала, бросилась в сени. Ромашов догнал ее, втолкнул назад, захлопнул дверь. Потом подошел ко мне.
— Оставьте меня! — сказала я с отчаянием, с отвращением. — Вы — убийца! Вы убили Саню.
Он молчал. Кровь лила из рассеченной скулы. Он отер ее ладонью, стряхнул на пол, но она все лила на плечо, на грудь, и весь полушубок был уже в мокрых розовых пятнах.
— Надо зажать, — не глядя на меня, пробормотал он. — У вас не найдется чистого носового платка, Катя?
— Хорошо, пусть так — я убил его! Тогда зачем же я берег это фото? Мы хотели зарыть документы, Саня держал их в руках и, должно быть, выронил фото. Я не сказал вам, что нашел его, — я боялся, что вы не поверите мне. Боже мой, вы не знаете, что такое война! Сумасшедшая мысль, что я мог убить своего! Кто бы он ни был, как бы я ни относился к нему! Убить раненого, Катя! Да это бред, которому никто не поверит!
Не в первый раз Ромашов повторял эти слова: «Никто не поверит». Он боялся, что я напишу о своих подозрениях в Военный трибунал или прокурору. Он оставил конторщице на кладбище все свои деньги и хлеб, и я слышала, как он сказал ей: «Никому ни единого слова». Он не пошел в больницу. Розалия Наумовна остановила кровь и залепила пластырем большой рубец на скуле.
— Да, я не любил его, это правда, которую я не собираюсь скрывать, — продолжал Ромашов, — но когда я нашел его с отбитыми ногами, с пистолетом у виска, в грязной теплушке, я подумал не о нем — о вас. Недаром же он обрадовался, увидев меня: он понял, что я — это его спасенье. И не моя вина, что он куда—то пропал, пока я ходил за людьми, чтобы отнести его на носилках.
Он бегал по маленькой кухне, бегал и говорил, говорил… Он брался руками за голову, и тогда на тени, метавшейся за ним по стене, бесшумно вырастали две смешные носатые морды. Детское, забытое воспоминание чуть слышно коснулось меня. «А вот корова рогатая» — это говорит мама; я лежу в кроватке, а мама сидит рядом, держит руки перед стеной и смеется, что я смотрю не на тень, а на руки. «А вот козел бородатый»… У меня были мокрые глаза, но я не вытирала слез — очень холодно было вытаскивать руку из—под всех этих одеял, пальто и старого лисьего меха.
— И надо же было проклятой судьбе, чтобы я встретился с ним в эшелоне! Я мог убить его. Каждый день из теплушек выносили по несколько трупов, никто бы не удивился, если бы этого летчика, который пропал и хотел застрелиться, нашли наутро с простреленной головой! Но я не мог убить его, — закричал Ромашов, — потому что не он, а вы лежали бы наутро с простреленной головой! Я понял это, когда он спросил у одной из девушек, как ее зовут, она ответила «Катя», и у него просветлело лицо. Я понял, что ничтожен, мелок перед ним со всеми своими мыслями о его смерти, которая должна была принести мне счастье. И я решил сделать все, чтобы спасти его для вас. А теперь вы смеете утверждать, что я убил Саню! Нет, — торжественно сказал Ромашов, — клянусь матерью, которая родила меня на это несчастье и горе! Святыней моей клянусь — любовью к вам! Если он погиб, не виноват я в этой смерти ни словом, ни делом!
Он стал застегивать полушубок и все не мог попасть крючком в петлю — руки дрожали.
Если бы я могла, если бы смела снова поверить ему! Но равнодушно смотрела я на тощее лицо с неестественно запавшими глазами, на желтые космы волос, падающие на лоб, на безобразный пластырь, перекосивший, стянувший щеку.
— Уходите.
— Вы плохо себя чувствуете, позвольте мне остаться.
— Уходите.
Не знаю, плакал ли он когда—нибудь. Но лицо его было залито слезами, когда, опустившись на колени, он уткнулся головой в постель и замер, вздрагивая и нервно глотая. «Саня жив, — вдруг подумала я, и рванулось, замерло сердце от счастья. — Или уже не человек, а какой—то демон стоит на коленях передо мной? Нет, нет. Невозможно, немыслимо так притворяться».
— Уходите.
Не знаю, куда я гнала его. Уже скоро месяц, как он жил у нас, — Розалия Наумовна зачем—то прописала его. Была ночь и тревога. Но он вышел, и я осталась одна.
«Тик—так», — стучал метроном. Кто—то, помнится, говорил мне, что только в Ленинграде передают стук метронома во время тревоги. Стекла вздрагивали и вместе с ними — желтый листок коптилки, стоявшей на столе. Что же было там, в маленькой мокрой осиновой роще?
Под шубами, под одеялами, под старым лисьим мехом я не слышала, как сыграли отбой. Сыграли — и вновь началась тревога. «Тик—так, — застучал метроном. — Веришь — не веришь».
Это сердце стучало и молилось зимней ночью, в голодном городе, в холодном доме, в маленькой кухне, чуть освещенной желтым огоньком коптилки, которая слабо вспыхивала, борясь с тенями, выступавшими из углов. Да спасет тебя любовь моя! Да коснется тебя надежда моя! Встанет рядом, заглянет в глаза, вдохнет жизнь в помертвевшие губы! Прижмется лицом к кровавым бинтам на ногах. Скажет: это я, твоя Катя! Я пришла к тебе, где бы ты ни был. Я с тобой, что бы ни случилось с тобой. Пускай другая поможет, поддержит тебя, напоит и накормит — это я, твоя Катя. И если смерть склонится над твоим изголовьем и больше не будет сил, чтобы бороться с ней, и только самая маленькая, последняя сила останется в сердце — это буду я, и я спасу тебя.
Глава 16. ПРОСТИ, ЛЕНИНГРАД!
В январе 1942 года меня увезли из Ленинграда. Я была очень слаба, врачи не велели отправлять эшелоном, и Варя устроила меня на самолет.
За день до отъезда мне позвонили из сортировочного госпиталя и сказали, что лейтенант Сковородников ранен и просил передать привет.
— Вы сестрица его?
— Да, — отвечала я дрожащим голосом. — Тяжело ранен?
— Никак нет. Надеется на встречу.
Я хотела идти, но Варя не пустила меня. Вероятно, она была права — я умерла бы дорогой. Так слабо, чуть слышно билось во мне дыхание жизни, так бесконечно далеко был этот госпиталь, на Васильевском острове, — на краю света! Варя надеялась, что удастся перебросить Петю в Военно—медицинскую академию, разумеется не в «стоматологию» — он был ранен в грудь и левую руку, — а в отделение полевой хирургии. Но это отделение было очень близко от «стоматологии». Она дала мне слово, что будет ежедневно заходить к нему и вообще заботиться о его здоровье. Без сомнения, она не догадывалась о том, как важно для нее самой — не только для Пети — сдержать это слово.
Как в легком, отлетающем сне, я смутно помню высокое деревянное строение — ангар? — в котором я долго сидела на полу среди таких же, как я, закутанных молчаливых людей. Потом нас повели, куда—то узкой тропинкой по чистому снежному полю, мимо глубоких воронок, в которых валялись обломки разбитых самолетов, мимо полу засыпанных снегом розовых горок, — я не сразу догадалась, что это коровье мясо, которое на самолетах привезли в Ленинград. Потом по шаткой железной лесенке мы поднялись в самолет, пустой и холодный, с голыми лавками по бокам, с пулеметом, стоявшим на подставке под откинутым прозрачным колпаком.
Вот и все. Маленький сердитый летчик в меховых сапогах прошел в кабину. Мотор заревел, качнулось и пошло мелькать направо и налево равнодушное сияющее поле. Я очнулась в эту минуту. Прости, Ленинград!
Я лечу над Ладожским озером, по которому через несколько дней пройдут первые машины с ленинградцами на «Большую Землю», с хлебом и мукой — в Ленинград. Вехи стоят здесь и там, намечая «дорогу жизни», люди работают по самое сердце в снегу.
Я лечу над картой великой войны, и уже не маленький сердитый летчик в меховых сапогах, а само Время сидит за штурвалом моего самолета.
Вперед и вперед смотрит оно, и странные, величественные картины открываются перед его глазами. По бесконечным магистралям тянутся на восток разобранные на части цехи гигантских заводов. Запорошенные снегом, идут и идут станки, и кажется, чтобы пустить их, нужны годы и годы. Но еще не тает снег, еще скупо греет зимнее солнце, а уже в глухих заповедных степях, где прежде одни кибитки лениво тащились от юрты до юрты, где бродили стада да старый казах—пастух играл на самодельной домбре, поднимаются, и день ото дня все выше, корпуса многоэтажных зданий. Откатилась, сжалась, затаила дыхание, приготовилась к разбегу страна…
А меня чуть живую везут в Ярославль, в «ленинградские» палаты, где лежат, стараясь не думать о еде, очень тихие люди. Врачи не велят думать о еде, недоверчивых они ведут в кладовые. Полны кладовые!
Бабушка находит меня в этой больнице — и не находит: в недоумении стоит она на пороге, обводя глазами палату. Она смотрит на меня и не узнает, пока мне не становится смешно и я не окликаю ее, смеясь и плача…
Вперед, вперед! День и ночь. И снова день. Но давно смешались день и ночь, и кажется, само солнце не знает, когда, в какой час подняться над потрясенной землей.
Немецкий солдат лежит в снегу, выставив из снежного сугроба окостеневшие ноги. Судорожно сжимает он в пальцах чужую землю, и рот его набит чужой землей — точно хотел он проглотить ее и задохся.
Русский солдат рванулся вперед, занес гранату, и в это мгновенье ударила его в сердце роковая пуля. Прислонившись к сосне, так и застыл он на сорокаградусном морозе. Как ледяная статуя, он стоит с гордо откинутой головой в порыве не помнящего себя вдохновения боя.
Это — зима сорок первого года.
Но вот проходит эта памятная всему миру зима. Дыханье новых сил поднимается на всем необозримом пространстве Советского Союза. Как ветер, доносится оно до «ленинградских» палат. И вновь разгорается сердце. Жизнь стучит и зовет, и уже досада на себя, на свое бездействие и слабость томит и волнует душу…
В марте я выхожу из больницы. Бабушка ведет меня на вокзал, и голова моя кружится, кружится от бегущих, сверкающих на солнце ручейков талой воды вдоль дороги, от воздуха, от мельканья людей и машин. Мы едем в Гнилой Яр.
Напрасно казалось мне, что детям не может быть хорошо в селе с таким неприятным названьем! Хорошо детям в этом селе. Петенька вырос, окреп и стал совсем деревенским мальчишкой, с облупившимся на солнце носом, с золотистыми волосиками на загорелых ногах.
Он уже стесняется, когда я целую его при других ребятах, он собирает марки и презирает Витьку Котелкова за то, что тот плакал и «ябедает» маме. Он переписывается с отцом, и — очень странно — время от времени папа передает ему привет от какой—то тетеньки по имени Варя.
— Она старая?
— Нет, молодая.
— А чего она кланяется? Познакомиться хочет?
— Наверно…
Сельское кладбище раскинулось на высоких холмах, в ясный день издалека видны его кресты и пятиконечные звезды. Мы — в лощине между кладбищем и дорогой, за которой бесконечные, темно—зеленые, светло—зеленые, простираются поля и поля. Мы в тени, между кустами дикой малины.
— А мама ведь тоже была молодая, когда она умерла?
— Совсем молодая.
О чем думает он, срывая травинку, по которой ползет и вдруг взлетает майский жучок?
— А дядя Саня был похож на маму?
— Был!
Он робко смотрит на меня, гладит по руке, целует. Я плачу, и слезы падают прямо на его загорелый, облупившийся нос. Обнявшись, мы молча сидим в кустах дикой малины, а поодаль сидит, косясь, равнодушная, постылая Санина смерть.
Вперед, вперед! Не оглядываясь, не вспоминая…
Лето 1942 года. Лагерь Худфонда переведен в Новосибирскую область. Я возвращаюсь в Москву, суровую, затемненную, с крышами, на которых стоят зенитки, с площадями, на которых нарисованы крыши.
Метро, такое же чистое и новое, ничуть не изменившееся за год войны. Гоголевский бульвар — дети и няни. Сивцев—Вражек, кривой, узенький, милый, все тот же, несмотря на два новых дома, свысока поглядывающих на облупившихся, постаревших соседей. Знакомая грязная лестница. Медная дощечка на двери: «Профессор Валентин Николаевич Жуков». Ого, профессор! Это новость! Я звоню, стучу! Дверь открывается. Бородатый военный в очках стоит на пороге.
Разумеется, я сразу узнала его. Кто же другой мог уставиться на меня с таким неопределенно вежливым выражением? Кто же другой мог так смешно положить голову набок и поморгать, когда я спросила:
— Здесь живет профессор Валентин Николаевич Жуков?
Кто же другой мог так оглушительно заорать и наброситься на меня и неловко поцеловать куда—то в ухо? И при этом наступить мне на ногу так, что я сама заорала.
— Катя, милая, как я рад! Это чудо, что ты меня застала!
Он подхватил мой чемодан, и мы пошли — куда же, если не в «кухню вообще», ту саму о, которая была одновременно кабинетом, столовой и детской. Но, боже мой, во что превратилась эта старинная уютная кухня! Какие—то плетенки с кашей стояли на столе, пол был не подметен, обрывки синей бумаги висели на окнах…
Валя взял меня за руки.
— Все знаю, все. — У него дрогнуло лицо, и он крепко зажмурился под очками. — Дорогой друг, дорогой Саня… Но ведь есть надежда. Иван Павлыч читал мне твое письмо, мы советовались с одним полковником, и он тоже сказал, что очень многие возвращаются, очень.
Я сказала: «Да, многие», и он снова обнял меня.
— Я тебя никуда не пущу, — энергично сказал он. — Квартира совершенно пустая, и тебе будет очень удобно. Я уже немного прибрал, когда Иван Павлыч сказал, что ты приедешь. Здесь надо помыть, да? — нерешительно спросил он.
Я засмеялась. Он сел на кровать и тоже стал смеяться.
— Честное слово, некогда. Я ведь здесь почти не живу — все время на фронте. А зимой тут было очень прилично. Зимой я взял зверей к себе, потому что в институте был дьявольский холод.
Разумеется, он взял не всех зверей, а только ценные экземпляры, и это была превосходная мысль, хотя бы потому, что какая—то редкая заморская крыса, которая до сих пор решительно отказывалась иметь детей, у Вали родила — так подействовала на нее семейная обстановка. Мебель Валя сжег, и это тоже было только к лучшему, потому что Кира, без сомнения, очень огорчилась бы, увидев, во что превратили ее «ценные экземпляры».
— Но из необходимой мебели я стопил только кухонный стол, — озабоченно сказал Валя, — так что главное все—таки осталось. Вот стулья, тумбочка, которую Кира очень любила, портьеры и тик далее.
Весной звери вернулись в институт, а Валя получил звание капитана и стал работать в Военно—санитарном управлении. Я спросила, кому он нужен на фронте со своими грызунами, и он сказал очень серьезно:
— А вот это уже военная тайна.
В общем, все было превосходно. Плохо только, что зимой он «пережег проклятый лимит» и свет выключили — просто пришли и перерезали провод. Но, в конце концов, день сейчас длинный, а по ночам Валя работает при спиртовой лампочке — великолепная штука!
— А воду согреть на этой лампочке можно?
Валя растерянно посмотрел на меня.
— Боже мой, что я за болван! — закричал он. — Ты с дороги, а я даже не предложил тебе чаю.
— Нет, мне нужно много воды, — сказала я, — очень много. У тебя ведро найдется?
Он только ахнул и жалобно завыл, когда, разувшись и подоткнув юбку, я с мокрой тряпкой в руке принялась наводить порядок.
Сандаля пальцами нос, он с изумлением смотрел, как я выгребаю из—под кровати картофельную шелуху, как сдираю с окон грязную бумагу, как растет на полу гора заплесневелого хлеба.
Вот так—то, босиком, в подоткнутой юбке, я стояла на столе и наматывала на швабру мокрую тряпку, чтобы смести со стен паутину, когда кто—то постучал и Валя побежал в переднюю, прихватив ведро с грязной водой.
Я слышала, как он шепотом сказал кому—то: «Ничего, хорошо держится! Молодец, превосходно!» И больше уже ничего не было слышно.
Длинная фигура мелькнула мимо открытых дверей. Кто—то снял шляпу, поставил палку, вынул гребешок и расчесал перед зеркалом седые усы. Кто—то вошел, остановился и уставился на меня с удивлением.
— Иван Павлыч, дорогой!
Он знал, что я должна приехать, — мы переписывались, и не было ничего неожиданного в том, что он нашел меня у Вали; но как будто только во сне могла я увидеть эту встречу, так мы бросились в объятия друг друга. Я не сдержалась, заплакала, и он тоже всхлипнул и полез в карман за платком.
— Что же не ко мне? — сердито спросил он и стал долго вытирать глаза, усы.
— Иван Павлыч, сегодня собиралась заехать!
Я одевалась за открытой дверцей шкафа, и мы говорили, говорили без конца, о том, как я летела, как была больна, о ленинградской блокаде, о нашем наступлении под Москвой… Теперь стало видно, как постарел Иван Павлыч, как покрылся морщинами его высокий лоб и на щеках появилась неровная, старческая краснота. Но он был еще статен, изящен.
В последний раз мы виделись в сороковом году. Но, боже мой, как давно это было! Вдруг, соскучившись по старику, мы нагрянули к нему с тортом и французским вином на Садово—Триумфальную, в его одинокую, холостую квартиру. Как он был доволен, как смаковал вино, как они с Саней хохотали, вспоминая Гришу Фабера и трагедию «Настал час», в которой Гриша играл главную роль приемыша—еврея! До поздней ночи сидели мы у камина. То был другой мир, другое время!
— Постарел, да? — спросил он, заметив, что я все смотрю на него.
— Мы все постарели, Иван Павлыч, милый. А я?
Он помолчал. Потом сказал грустно:
— А ты, Катя, стала похожа на мать…
Был уже вечер. Валя зажег свою лампочку, но мы сразу же погасили ее — приятно было сидеть без затемнения у открытого окна, при мягком, падавшем из переулка вечернем свете. Там, в переулке, была легкая, прозрачная темнота, а у Вали — комнатная, совсем другая. Незаметно смеркалось, и уже не Ивана Павловича я видела, а только его седые усы, и не Валю, а только его очки, поблескивающие при каком—то повороте. Это было мгновение тишины, когда с удивительной силой я почувствовала себя среди настоящих, верных, на всю жизнь друзей. «Может быть, самое тяжелое уже позади, — сказала я себе, — раз так случилось, что эти люди, которые так любят меня, — раз они будут теперь вместе со мной, чтобы все в жизни стало легче и лучше? Раз такая тишина и так смутно видны в темноте эти добрые седые усы?»
ЧАСТЬ 8, (рассказанная Саней Григорьевым). БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ.
Глава 1. УТРО.
Катя сидела на балконе у Нины Капитоновны; сквозь сон я слышал их негромкие, чтобы не разбудить меня, голоса. Вчерашний вечер живо представился мне.
Ради приезда Нины Капитоновны впервые был вынесен в садик обеденный стол, мы долго ждали ее, и, наконец, она явилась, торжественная, строгая, в новом платье с буфами образца 1908 года и в ботинках с пуговицами и длиннейшими носами.
Как чудно рассказала она об экономке Николая Антоныча, которая поставила на плиту свои грязные туфли! Как представляла в лицах поездку в собственной машине на новую квартиру — Николай Антоныч получил новую квартиру на улице Горького, в четыре комнаты, с газом и паровым отоплением! Она сказала голосом Николая Антоныча: «Выбирайте любую, Нина Капитоновна», и ответила своим голосом, с гордым выражением: «Мне, спасибо, Николай Антоныч, о зеленой декорации думать пора, а чужого от чужого не надо».
И я представил себе, как в Москве, в превосходной новой квартире, пользуясь светом, воздухом, газом и паровым отоплением, сидит старый человек и пишет все наоборот — то есть все белое называет черным, а все черное — белым.
Пора было вставать, четверть седьмого, но это было так приятно — лежать на спине с закрытыми глазами и слушать, как Катя ходит по старенькой дачке и сухие половицы осторожно скрипят у нее под ногами. Вот она постояла у моей двери — наверно, послушала, сплю ли я, и подумала, что жалко будить. Вот пошла на кухню и сказала «научной няне», что, может быть, сегодня не стоит идти на базар, потому что все равно с десятичасовым я уеду.
Жена! Мы так часто разлучались, и я так привык представлять ее в воображении, что представил и сейчас, хотя она была рядом: в полосатом шелковом халатике и причесанную, или, вернее, непричесанную, именно так, как мне понравилось в то утро, когда я впервые увидел ее с этой небрежной, наскоро заколотой косой. Мы так часто разлучались, что каждый раз у нас все как бы начинялось сначала.
Половина седьмого. Она вошла на цыпочках и поцеловала меня.
— Ты сто лет спишь. Купаться пойдем?
— А хорошо?
Это я спросил о погоде.
— Очень.
— Тогда пойдем.
— На речку?
Речка была совсем близко, под косогором. Но мы любили купаться на озере и пошли на озеро, хотя времени было маловато.
Мало сказать, что погода была хороша, — за все лето не было такого прекрасного утра! Солнце как будто торопилось как можно скорее сделать все сияющим, великолепным. Там, на озере, оно уже сделало все великолепным и теперь, царственно раскинувшись, наступало на нас, и белый ночной парок поспешно испуганно таял, запутавшись в лесу среди маленьких елей. Только одна осина осталась от мостков через Коровий ручей, которые мы с Петей смастерили в прошлое воскресенье; я перемахнул по этой осине, а Катя пошла вброд, и, боже мой, как я запомнил ее в эту минуту! Она шла, придерживая халатик, осторожно и с наслаждением пробуя ногою песчаное дно; полотенце скользнуло с плеча, и она ловко поймала его над самой водой.
Мы поднялись наверх, к старинному шведскому кладбищу, обогнули его — вот и озеро. Вдоль низкого, осененного ракитами берега голый, синий от холода мальчик тянул сетку — ловил раков, чудак! Кто же в восьмом часу ловит раков?!
Катя стала смеяться, когда я вытащил его из воды вместе с сеткой и прочел небольшую лекцию о ловле раков, в частности голубых, которые идут исключительно на гнилое мясо. Здесь вообще была мелочь, — в Энске вот были раки!
Песок чуть дымился в тех местах, где солнце успело согреть его сквозь ветки ракиты. Здесь, под ракитами, была тень, а солнце — там, на озере, от берега несколько метров, и, как всегда, мы с Катей поплыли к солнцу и стали «загорать» в воде с закинутыми под голову руками…
Почему я вновь начинаю свой рассказ именно с этого утра, которое ничем, кажется, не отличалось от любого другого воскресного утра? Потому что такою ушла от меня прежняя жизнь, а на смену ей мгновенно возникла и по—своему распорядилась и мною, и Катей, и всеми нашими мыслями, чувствами и впечатлениями совсем другая…
Эта другая жизнь была война, и, быть может, я не стал бы писать о ней именно потому, что это была совсем другая жизнь, если бы то, что произошло со мной на войне, не переплелось самым удивительным образом с историей капитана Татаринова и «Св. Марии».
Глава 2. ОН.
Со странным чувством невозможности передать то, что я вижу, вглядываюсь я в отрывочные картины первых дней и недель войны. Я вижу большую, темную комнату крестьянской избы, стол, тускло освещенный огарком, завешенные плащ—палаткою окна. Дверь открывается, человек в расстегнутом кителе входит, шарит в печи, жадно ест. Это — Гриша Трофимов. Другой встает с койки и садится к столу рядом с ним. Это — Лури. И я слышу тихий разговор, от которого сердце начинает биться сильно и редко.
— На Ладоге был?
Ест и молча кивает Гриша.
— Ну, и что?
— То самое.
— А на Званке?
Ест. Молчит. Был на Званке.
И смотрят друг другу в лицо ленинградцы. Это первая ночь ленинградской блокады.
Я вижу вымпел с запиской, летящей через борт моего самолета, — так мы спасали людей, которые были уверены, что они находятся в окружении, и ошибались.
Я вижу первую могилу, которую мы украсили железными цветами из стабилизаторов и снарядов и над которой проносились как можно ниже, возвращаясь домой после боевых полетов.
И снова озеро встает передо мной — то самое озеро, в сонной утренней рамке которого последним виденьем явилась прежняя жизнь. Теперь оно сумрачно, хмуро. Тускло блестит, точно налитая вровень с берегами, вода, сизый дым ползет по ее туманному зеркалу. Это горит подожженный немцами лес.
Вечерами мы выходим из подземного блиндажа на склоне горы. Катера стоят под ракитами, мы мчимся среди брызг, плеска и пены по темной воде. Из стены леса, как огромные морские птицы, выплывают навстречу нам самолеты. Это — озеро Л., наша третья и четвертая база!
Я вижу многое. Но все, что я вижу, как бы проходит передо мной на фоне карты, которая каждый день открывается под крыльями моего самолета, — карты с ломающимися линиями фронта, с разливающейся все шире черной волной германского наступления.
Каждый день в часть прибывали новые летчики, все больше из ГВФ, — с одними я работал еще на Севере, с другими на Дальнем Востоке. Это были опытные пилоты, многие первого и второго класса, а трое даже «миллионеры», то есть налетавшие более миллиона километров, и забавно было наблюдать, с какими смешными ошибками становились военными эти штатские люди. Об этом мы говорили часто, очень часто и в столовой и на дому, в землянке, где мы жили втроем: я с Лури и техник. Может быть, мы говорили об этом так часто потому, что молчаливо условились не говорить о «другом». О «другом» за нас говорили газеты.
В августе я с экипажем был переброшен в распоряжение ВВС Южного фронта.
Ночь была темная, «раменская», как назвал ее Лури. Моросил дождь, очень мелкий, переходивший в черно—белый туман, неподвижно стоявший над водою. Темно — хоть выколи глаз! Я бы не нашел катера, если бы техник не помигал нам фонариком, догадавшись, что я заблудился.
Полковник подозвал меня, и мы немного постояли молча — в темноте мне чуть видно было это энергичное, с коротким вздернутым носом, еще совсем молодое лицо. Говорить было, в сущности, не о чем. Но он все—таки спросил, взял ли я сабы (светящиеся бомбы). Я ответил, что взял. О сабах он спросил из вежливости, потому что на последнем разборе полетов я доказывал, что сабы во много раз увеличивают точность ночного бомбометания.
…Очевидно, Лури был не в духе, иначе он не настроился бы на эту унылую румынскую станцию. Я вспомнил, как он проснулся и не узнал меня, когда я разбудил его перед полетом. У него было усталое лицо, и, садясь на койке, он не сказал своей любимой цитаты из «Ваших крыльев»: «Если вы переутомлены, лучше не летайте, пока не отдохнете…»
От самого побережья прожектора устроили за нами световую погоню; их туманные блики то возникали, то расплывались в молочной бездне над нами. Это было еще полбеды. Мы шли в снегопаде, снег задувал в щит. Теперь Лури ловит Констанцу, и черт знает какую ерунду передает эта самая Констанца! Посвистываешь и думаешь, а вокруг вырастают и клубятся темные горы. Думаешь и посвистываешь, а горы нужно обходить, а под нижней кромкой облаков не пройдешь — снегопад, леденеет машина. Посвистываешь и думаешь: «Вот видишь, а ты сердилась, что я ничего не пишу тебе о полетах».
Облака кончились именно тогда, когда стало казаться, что иначе и не бывает. Они не кончились, а как бы раздвинулись, и впереди открылся просторный коридор, наполненный великолепным утренним перламутровым светом. На нижнем слое облаков была видна наша тень и на верхнем — тоже. Это было странно, хотя бы потому, что ни один предмет в природе не может, как известно, отбрасывать одновременно две тени. Кажется, я удивился, а может быть, и нет, потому что понял, что вторая тень вовсе не наша, а «мессера», который шел довольно высоко над нами. Хорошо, если бы он был один. Но за ним, как рыбы на солнце, блеснули второй и третий.
Согласно всем правилам, мы должны были удрать от них возможно скорее. И мы бы удрали, если бы облака не остались где—то далеко позади в виде неподвижно мрачного синего здания. Удирать было некуда, и уже — трр, трр, — точно камешки посыпались на плоскости, разбежались по кабине.
Это был самый обыкновенный, ничем не замечательный бой, и я не стану рассказывать о нем, тем более, что он окончился очень скоро. Нам сразу удалось сбить один из «мессеров» — как он был в развороте, так и упал на землю. Два других сделали горку и, мешая друг другу, попытались пристроиться к хвосту нашего самолета. Это было, конечно, умно, но не очень, потому что мы были не такие люди, чтобы позволить заходить себе в хвост. Они зашли раз — и не вышло. Зашли другой — и чуть не попали под нашу «трассу». Короче говоря, мы отстреливались, как могли, они отстали наконец, и я повел самолет по прямой, линия фронта была недалеко.
Легко сказать — я вел самолет по прямой. Четверть левой плоскости была снесена, баки пробиты, Я был ранен в ногу и в лицо, кровь заливала глаза.
…Странная слабость охватила меня. Кажется, именно в это мгновенье я вспомнил детские страшные сны, в которых меня убивали, топили, — и чувство счастья, когда проснешься — и жив.
«Но теперь, — это была очень спокойная мысль, — теперь я уже не проснусь».
Должно быть, я потерял сознание, но ненадолго, потому что очнулся от звука собственного голоса, как будто стал говорить еще до того, как вернулось сознание. Я приказывал экипажу прыгать с парашютами. Радист и воздушный стрелок прыгнули, а Лури ворчливо сказал: «Ладно, ладно!», как будто речь шла о скучной прогулке, на которую он был готов согласиться только из уважения ко мне.
…Самое трудное было бороться с этим туманом, от которого закрывались глаза, слабели и падали руки. Кажется, только раз в тысячу лет мне удавалось справиться с ним, и тогда я понимал, хотя не все, но зато самое важное, то, что необходимо было исправить сию же минуту. Тысяча лет — и я с трудом вывел машину, тащить приходилось одной левой ногой. Еще тысяча — и я увидел «юнкерсы», два «юнкерса», которые были много ниже меня и, как тяжелые большие быки, неторопливо ползли нам навстречу. Это был, разумеется, конец, и они даже не торопились прикончить нас — я понял это с первого взгляда.
Лури прыгнул, они стали стрелять по нему. Убили? Потом вернулись, встали по сторонам и пошли рядом со мною.
…Какое лицо у этого немца — красивое или безобразное, старое или молодое? Мне все равно: не солдат, а убийца летит рядом со мной. Не солдат, а злодей обгоняет меня, отходит в сторону, вновь приближается и смотрит, не торопится, наслаждается своим торжеством.
Не знаю, как это объяснить, но мне представилось, что я вижу и его и себя в эту минуту: себя, схватившегося слабыми руками за руль, с залитым кровью лицом, на распадающемся самолете. И его — поднявшего очки, смотрящего на меня с выражением холодного любопытства и полной власти надо мной. Может быть, я сказал что—то Лури, забыв, что он прыгнул и что они, наверно, убили его. Немец стал проходить подо мною, плоскость с желтым крестом показалась слева. Я нажал ручку, дал ногой и бросил на эту плоскость машину.
Не знаю, куда пришелся удар, должно быть, по кабине, потому что немец даже не раскрыл парашюта. Я убил его. Что это было за счастье!
И вот огромное, великолепное чувство охватило меня. Жить! Я победил его, этого убийцу, который, повернув голову, подняв очки, хладнокровно ждал моей смерти. Жить! Мне было все равно, пока я не увидел его. Я был ранен, я знал, что они добьют меня. Так нет же! Жить! Я видел землю, вот она, совсем близко, пашня и белая пыльная дорога.
Что—то горело на мне, реглан и сапоги, но я не чувствовал жара. Это было невозможно, но мне как—то удалось сделать перелом над самой землей. Я отстегнул ремни — и это было последнее, что мне удалось сделать в этот день, в эту неделю, в этот месяц, в эти четыре месяца… Но не станем забегать вперед.
Глава 3. ВСЕ, ЧТО МОГЛИ.
Мне очень хотелось пить, и всю дорогу, пока они тащили меня в село, я просил пить и спрашивал о Лури. В селе мне дали ведро воды, и я не понял, почему женщины громко заплакали, когда я засунул голову в ведро и стал пить, ничего не видя и не слыша. Лицо у меня было опалено, волосы слиплись, нога перебита, на спине две широкие раны. Я был страшен.
…Блаженное чувство становилось все шире, все тверже во мне. Я лежал у сарая, на сене, в деревенском дворе, и мне казалось, что это чувство идет от покалывания травинок, от запаха сена, от земли, на которой меня не убьют. Меня привезли на старой белой лошади, она была поодаль привязана к тыну, и у меня навернулись слезы от этого чувства, от счастья, когда я посмотрел на нее. Кажется, мы сделали все, что могли. Я не беспокоился о радисте и воздушном стрелке, только сказал, чтобы меня не увозили отсюда, пока они не придут, «Лури тоже жив, — с восторгом думалось мне, — иначе не может быть, если мы так прекрасно отбились. Он жив, сейчас я увижу его».
Я увидел его. Лошадь захрапела, рванулась, когда его принесли, и какая—то суровая старая женщина — единственная, которую я почему—то запомнил, — подошла и молча ткнула ее кулаком в морду.
У него было спокойное лицо, совсем нетронутое, только ссадина на щеке — должно быть, проволокло парашютом, когда приземлился. Глаза открыты. Сперва я не понял, почему все сняли шапки, когда его опустили на землю. Давешняя старуха присела подле него и стала как—то устраивать руки… А потом я трясся на телеге в санбат; какая—то другая, не деревенская, женщина держала меня за руку, щупала пульс и все говорила:
— Осторожнее, осторожнее.
Я удивлялся и думал: «Почему осторожнее? Неужели я умираю?» Наверно, я сказал это вслух, потому что она улыбнулась и ответила:
— Останетесь живы.
И снова тряслась и подпрыгивала телега, голова лежала на чьих—то коленях, я видел Лури, лежавшего у крыльца с мертвыми сложенными руками, и рвался к нему, а меня не пускали.
Земля вставала то под левым, то под правым крылом. Какие—то люди толпились передо мной, я искал среди них мою Катю. Я звал ее. Но не Катя, у которой становилось строгое выражение, когда я обнимал ее, не Катя, которая была моим счастьем, вышла из нестройной туманной толпы и встала передо мною. Повернув голову, как птица, подняв очки, вышел он и уставился на меня с холодным вниманием.
— Ну, что, — сказал я этому немцу, — чья взяла? Я жив, я над лесом, над морем, над полем, над всей землей пролечу! А ты мертв, убийца! Я победил тебя!
Глава 4. «ЭТО ТЫ, СОВА?»
Нас везли в теплушках, только впереди были два классных вагона, и, должно быть, плохи были мои дела, если маленький доктор с умным, замученным лицом после первого же обхода велел перевести меня в классный. Я был весь забинтован — голова, грудь, нога — и лежал неподвижно, как толстая белая кукла. Санитары на станции переговаривались под нашими окнами: «Возьми у тяжелых». Я был тяжелый. Но что—то стучало, не знаю где — в голове или в сердце, — и мне казалось, что это жизнь стучит и возится, и строит что—то еще слабыми, но цепкими руками.
Я познакомился с соседями. Один из них был тоже летчик, молодой, гораздо моложе меня. Мне не хотелось рассказывать, как я был ранен, а ему хотелось, и несколько раз я засыпал под его молодой глуховатый голос.
— Только я вышел из атаки, вижу — бензозаправщики. «Все», — думаю. Прицелился, нажимаю, бью. «Довольно, — думаю, — а то врежусь, пожалуй». Отвернул — и тут меня что—то ударило. Отошел я от этого места, нажимаю на педаль, а ноги не чувствую. «Ну, — думаю, — оторвало мне ногу». А в кабину не смотрю, боюсь…
Он летал на «Чайке» и был ранен в районе Борушан гораздо тяжелее, чем я, — так мне казалось. Потом я понял, что ему, наоборот, казалось, что я ранен гораздо тяжелее, чем он.
…Это были коротенькие мирные пробуждения, когда, слушая Симакова — так звали моего соседа, — я смотрел на медленно проходящую за окнами осеннюю степь, на белые мазанки, на тяжелые тарелки подсолнухов в огородах у железнодорожных будок. Все, кажется, было в порядке: санитары приносили и шумно ставили на пол ведра с супом, койка покачивалась, следовательно, мы двигались вперед, хотя и медленно, потому что то и дело приходилось пропускать идущие на фронт составы с вооружением.
Но были и другие пробуждения, совсем другие! Наш поезд был уже не только военно—санитарный — вот что я понял во время, одного из этих томительных пробуждений. Платформы со станками были прицеплены к теплушкам, кухня сломалась, и нужно было ждать станции, чтобы купить молока и помидоров. Маленький доктор кричал надорванным голосом и грозил кому—то револьвером. На площадках, на буферах сидели со своими узлами женщины из Умани, Винницы, и «души нехватало», как сказал один санитар, чтобы высадить этих женщин, потрясенных, потерявших все, бесчувственных от горя.
Затерянный где—то в огромной сплетающейся сетке магистралей, наш ВСП уже не шел по назначению, а отступал вместе с народом.
…Большие, синие, твердые, как камни, мухи влетали в окна, и не согнать их было с загнивающих, не менявшихся уже третьи сутки повязок, — вот что увидел я, проснувшись вновь от жары, от тоски. Был полдень, мы стояли в поле. Босоногая девчонка с лукошком помидоров вышла из помятого квадрата пшеницы, который был виден из моего окна; несколько легко раненных бросились к ней, она остановилась и со всех ног побежала назад, роняя свои помидоры.
…Прошло всего несколько дней, как с борта моего самолета я видел то, чего не видел — так мне казалось — ни один участник войны на земле. Но как бы в алгебраических формулах раскрывалась тогда передо мной картина нашего отступления. Теперь эти формулы ожили, превратились в реальные факты.
Не с высоты шести тысяч метров теперь я видел наше отступление! Я сам отступал, измученный ранами, жаждой, жарой и еще более — невеселыми мыслями, от которых так же не мог отделаться, как от этих синих твердых мух, садившихся на бинты с отвратительным громким жужжаньем.
Это было под вечер, и мы, очевидно, уже не стояли на месте, потому что моя «люлька» ритмично покачивалась в такт движениям вагона. Заходящее солнце косо смотрело в окно, и в его красноватом луче был ясно виден пыльный, тяжелый, пропахший йодом воздух. Кто—то стонал, негромко, но противно, — даже не стонал, а гудел сквозь зубы, однотонно, как зуммер. Я окликнул соседа. Нет, не он. Но где я слышал этот унылый голос? И почему я так стараюсь вспомнить, где я его слышал?
И вдруг школьные парты выстроились передо мной, и, как наяву, я увидел много живых детских смеющихся лиц. Урок интересный — о нравах и обычаях чукчей. Но разве до урока, если пари заключено, если рыжий мальчик с широко расставленными глазами держит меня за палец и хладнокровно режет его перочинным ножом?
— Ромашка! — сказал я громко.
Он замолчал — конечно, от удивления.
— Это ты, Сова?
Он долго пробирался под койками, между ранеными, лежавшими на полу, и, наконец, вынырнул где—то среди торчавших забинтованных ног.
— В чем дело? — глядя прямо на меня и не узнавая, осторожно спросил он.
Мне показалось, что он стал немного больше похож на человека, хотя все еще, как говорила тетя Даша, «не страдал красотой». Во всяком случае, от его прежней мнимой внушительности теперь ничего не осталось. Он был тощ и бледен, уши торчали, как у Петрушки, левый глаз осторожно косил.
— Не узнаешь?
— Нет.
— А ну подумай.
Он никогда не умел по—настоящему скрывать своих чувств, и теперь они стали проходить передо мной по порядку или, точнее, в полном беспорядке. Недоумение. Испуг. Ужас, от которого задрожали губы. Снова недоумение. Разочарование.
— Позволь, но ты же убит! — пробормотал он.
Глава 5. СТАРЫЕ СЧЕТЫ.
В старинных русских песнях поется о доле, и хотя я совсем не фаталист, это слово невольно пришло мне в голову, когда в газете «Красные соколы» я прочел заметку о собственной смерти. Я помню ее наизусть.
«Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут четырьмя истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз двумя „юнкерсами“. На объятой пламенем машине Григорьев успешно протаранил „юнкерс“. Летчики энской части всегда будут хранить память о сталинских соколах — коммунистах капитане Григорьеве, штурмане Лури, стрелке—радисте Карпенко и воздушном стрелке Ершове, до последней минуты своей жизни боровшихся за отчизну».
Надо же было какому—то военному корреспонденту — это я узнал лишь летом 1943 года — явиться в деревню П., как только меня увезли! Колхозники видели воздушный бой, он расспросил их. Он сфотографировал остатки сгоревшей машины. Ему сказали, что я безнадежен.
Потому ли, что я действительно лишь чудом спасся от смерти, или потому, что впервые в жизни пришлось мне прочитать собственный некролог, но эта заметка произвела на меня оскорбительное впечатление. Мысли мои вдруг разбежались. Катя представилась мне. Не та Катя, которая — я это знал, — вдруг проснувшись, встает с постели и бродит по комнате, думая обо мне. Нет, другая, мрачная, постаревшая Катя, которая прочтет эту заметку и положит газету на стол, и сделает еще что—то, как будто ничего не случилось, быть может, заплетет и распустит косу с неподвижным лицом — и вдруг покатится на пол, как кукла…
— Так, — сказал я. — Бывает.
И я смял газетку и швырнул ее в окно. Ромашов ахнул. Все время, пока мы разговаривали, он поглядывал в окно, — поезд стоял. Потом подобрал газетку — очевидно, ему доставляло удовольствие хоть читать, что я умер, раз уж собственными глазами он убедился в обратном.
— Итак, ты жив. Я не верю глазам! Дорогой…
Это было сказано: «дорогой».
— Черт возьми, как я рад! Это совпадение? Однофамилец? Впрочем, не все ли равно! Ты жив, это основное.
Он стал спрашивать, куда я ранен, тяжело ли, задета ли кость, и т.д. И я снова разочаровал его, сказав, что ранен легко и что знакомый врач устроил меня в классный вагон.
— Но воображаю, как будет расстроена Катя! — сказал он. — Ведь эта заметка могла дойти до нее.
Я сказал: «Да, могла», и стал расспрашивать его о Москве. Ромашов мельком сказал, что нет еще и месяца, как он из Москвы.
Не только что разговаривать с ним, и притом самым мирным образом, но с первого слова дать ему понять, что между нами ничего не изменилось, — вероятно, именно так я должен был поступить. Но человек — странное существо, это старая новость. Я смотрел на его напряженное, неестественно бледное лицо, и ничто, кроме привычного презрения, перемешанного даже с каким—то интересом, не шевельнулось во мне. Разумеется, он как был, так и остался в моих глазах подлецом. Но в эту минуту он представился мне каким—то давно знакомым, привычным, так сказать, «своим» подлецом!
И он понял, все понял! Он заговорил о Кораблеве — знаю ли я, что, несмотря на свои шестьдесят три года, старик записался в народное ополчение и что в «Вечерней Москве» по этому поводу была помещена заметка? Он рассказал — с ироническим оттенком — о Николае Антоныче, который получил не только новую квартиру, но и научную степень. Какую же? Доктора географических наук — и без защиты диссертации, что, по мнению Ромашова, было почти невозможно.
— И знаешь, кто сделал ему карьеру? — со злобой, с блеском в глазах сказал Ромашов. — Ты.
— Я?
— Да. Он — Татаринов, а ты сделал эту фамилию знаменитой.
Он хотел сказать, что моя работа по изучению экспедиции «Св. Марии» впервые привлекла общее внимание к личности капитана Татаринова и что Николай Антоныч воспользовался тем, что он носит ту же фамилию. И — нужно отдать Ромашову должное — он выразил эту мысль как нельзя короче и яснее.
Впрочем, меньше всего мне хотелось разговаривать с ним на эту тему. Он понял это и заговорил о другом.
— Знаешь, кого я встретил на Ленинградском фронте? — сказал он. — Лейтенанта Павлова.
— А кто такой лейтенант Павлов?
— Вот тебе и на! А он—то утверждал, что знает тебя с детства. Такой огромный, плечистый парень.
Но я никак не мог догадаться, что этот огромный, плечистый парень и есть тот самый Володя с детскими синими глазами, который писал стихи и катал меня на собаках Буське и Тоге.
— Да, боже мой, к нему отец приезжал, старый доктор!
— Иван Иваныч!
Даже от Ромашова мне было приятно узнать, что доктор Иван Иваныч жив и здоров и даже служит на флоте. Какой молодец!
Несколько раз Ромашов упомянул, что он был на Ленинградском фронте. Катя осталась в Ленинграде, я беспокоился о ней. Но не хватало еще, чтобы я спрашивал у Ромашова о Кате!
Вообще теперь, когда он уже немного привык к тому, что я жив, ему смертельно захотелось рассказать о себе. Он уже, кажется, гордился тем, что встретил меня в ВСП, что он ранен так же, как и я, и т.д.
Война застала его в Ленинграде заместителем директора по хозяйственной части одного из институтов Академии наук. У него была броня, но он отказался, тем более что весь институт до последнего человека записался в народное ополчение. Под Ленинградом он был ранен и остался в строю. Прежнее начальство, которое теперь стало крупным военным начальством, вызвало его в Москву. Он получил новое назначение и не доехал — под Винницей разбомбили поезд. Взрывной волной его ударило о телеграфный столб, и теперь всю левую сторону тела время от времени начинает «невыносимо ломить».
— Ведь я во сне стонал, когда ты услышал, — объяснил он. — И доктора не знают, что делать со мной, решительно не знают.
— Ну, а теперь признавайся, — сказал я строго: — что ты соврал и что правда!
— Абсолютно все правда!
— Ну да!
— Ей—богу! Вообще прошли те времена, когда нам нужно было как—то хитрить друг перед другом.
Он сказал «нам».
— Теперь, брат, кончено. У меня одна жизнь, у тебя — другая. Что нам делить теперь? Ты, опять не поверишь, но, честное слово, я иногда удивляюсь, вспоминая историю, которая поссорила нас. В сравнении с тем, что происходит на наших глазах, она представляется просто вздором.
— Еще бы!
— И довольно об этом!
Он вопросительно посмотрел на меня. Очевидно, не был уверен — согласен ли я, что об «этом» довольно.
Но я был согласен. Не до старых счетов было мне в эти дни! Тоска томила меня. То думал я о том, что стал жалок, беспомощен со своей перебитой ногой перед лицом гигантской тени, которая надвинулась на нашу страну и вот теперь идет за нами, догоняет наш заблудившийся поезд. То госпиталь представлялся мне: день тянется бесконечно, однообразно, сестра в тапочках заходит и ставит на столик цветы, и, боже мой, как я не хотел всей душой, изо всех сил этого покоя, этих цветов на столе, этих бесшумных госпитальных шагов!
То мысль, страшнее которой я уже ничего не мог придумать, приходила ко мне. Эта мысль была: «Я больше не буду летать». Мне сразу становилось жарко, я начинал дышать открытым ртом, и сердце уходило так далеко, откуда, кажется, уже невозможно вернуться.
Глава 6. ДЕВУШКИ ИЗ СТАНИСЛАВА.
Выше я рассказал о том, как раненые бросились подбирать помидоры. Это было одно из самых горьких и томительных моих пробуждений. И вот две девушки — тогда я увидел их впервые, — одетые во что—то штатское, вдруг появились в толпе. Они даже ничего не сделали, а только что—то сказали одному и другому быстро — певуче, по—украински, — и раненые молча разошлись по вагонам.
Это были студентки педтехникума из Станислава — обе крупные, черные, с низкими бровями, с низкими голосами и необыкновенно «домашние», несмотря на свою решительную, сильную внешность. Только что присоединившись к нам, они достали воды и бережно роздали ее, по кружке на брата. Они принесли откуда—то не бог весть что — лукошко калины, но как приятно было сосать горьковатую ягоду, как она освежала!
Почему среди тысяч людей, прошедших передо мной в те дни, я остановился на этих девушках, о которых даже ничего не знаю, кроме того, что одну из них звали Катей?
Потому что… Но я снова забегаю вперед.
Я лежал у окна спиной к движенью. Уходящая местность открывалась передо мной, и поэтому я увидел эти три танка, когда мы уже прошли мимо них. Ничего особенного, средние танки! Открыв люки, танкисты смотрели на нас. Они были без шлемов, и мы приняли их за своих. Потом люки закрылись, и это была последняя минута, когда еще невозможно было предположить, что по санитарному эшелону, в котором находилось, вероятно, не меньше тысячи раненых, другие, здоровые люди могут стрелять из пушек.
Но именно это и произошло.
С железным скрежетом сдвинулись вагоны, меня подбросило, и я невольно застонал, навалившись на раненую ногу. Какой—то парень, гремя костылями, с ревом бросился вдоль вагона, его двинули, и он ткнулся в угол рядом со мной. Я видел через окно, как первые раненые, выскочив из теплушек, бежали и падали, потому что танки стреляли по ним шрапнелью.
Мой сосед Симаков смотрел рядом со мной в окно. У него было белое лицо, когда, одновременно обернувшись, мы взглянули в глаза друг другу.
— Надо вылезать!
— Пожалуй, — сказал я. — Для этого нужны пустяки: ноги.
Но все же мы сползли кое—как с наших коек, и толпа раненых вынесла нас на площадку.
Никогда не забуду чувства, с необычайной силой охватившего меня, когда, преодолевая мучительную боль, я спустился с лесенки и лег под вагон. Это было презрение и даже ненависть к себе, которые я испытал, может быть, впервые в жизни. Странно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Это были трупы. Другие бежали и падали с криком, а я сидел под вагоном, беспомощный, томящийся от бешенства и боли.
Я вытащил пистолет — не для того, чтобы застрелиться, хотя среди тысячи мыслей, сменивших одна другую, может быть, мелькнула и эта. Кто—то крепко взял меня за кисть…
Это была одна из давешних девушек, именно та, посмуглее, которую звали Катей. Я показал ей на Симакова, который лежал поодаль, прижавшись щекой к земле Она мельком взглянула на него и покачала головой. Симаков был убит.
— К черту, я никуда не пойду! — сказал я второй девушке, которая вдруг появилась откуда—то, удивительно неторопливая среди грохота и суматохи обстрела. — Оставьте меня! У меня есть пистолет, и живым они меня не получат.
Но девушки схватили меня, и мы все втроем скатились под насыпь. Ползущий, желтый, похожий на китайца Ромашов мелькнул где—то впереди в эту минуту. Он полз по той же канаве, что и мы; мокрая глинистая канава тянулась вдоль полотна, сразу за насыпью начиналось болото.
Девушкам было тяжело, я несколько раз просил оставить меня. Кажется, Катя крикнула Ромашову, чтобы он подождал, помог, но он только оглянулся и снова, не прижимаясь к земле, пополз на четвереньках, как обезьяна.
Так это было, только в тысячу раз медленнее, чем я рассказал.
Кое—как перебравшись через болото, мы залегли в маленькой осиновой роще. Мы — то есть девушки, я, Ромашов и два бойца, присоединившиеся к нам по дороге. Они были легко ранены, один в правую, другой в левую руку.
Глава 7. В ОСИНОВОЙ РОЩЕ.
Я послал этих двух бойцов в разведку, и, вернувшись, они доложили, что на разных направлениях стоит до сорока машин, причем откуда—то взялись уже и походные кухни. Очевидно, танки, обстрелявшие наш эшелон, принадлежали к большому десанту.
— Уйти, конечно, можно. Но, поскольку капитан не может самостоятельно двигаться, лучше воспользоваться дрезиной.
Дрезину они нашли под насыпью у разъезда.
Помнится, именно в это время, когда мы стали обсуждать, можно ли поднять дрезину и поставить ее на рельсы, Ромашов лег на спину и начал стонать и жаловаться на сильные боли. Возможно, что у него действительно начался припадок, потому что, когда девушки расстегнули его гимнастерку, у него оказалась совершенно красной левая половина тела. Прежде я никогда не слыхал о подобных контузиях. Так или иначе, но в таком состоянии он, разумеется, не мог идти с бойцами к разъезду. Пошли девушки — все такие же неторопливые, решительные, не спеша переговариваясь по—украински низкими, красивыми голосами.
И мы с Ромашовым остались одни в маленькой мокрой осиновой роще.
Притворялся он или ему было действительно плохо? Пожалуй, не притворялся. Несколько раз он дернулся, как припадочный, потом погудел и затих. Я сказал:
— Ромашов!
Он молча лежал на спине с высоко поднятой грудью, и у него был совершенно мертвый, белый нос. Я снова окликнул его, и он отозвался таким слабым голосом, как будто уже побывал на том свете и теперь без всякого удовольствия возвращается в эту рощицу, находящуюся в районе действий немецкого десанта.
— Здорово схватило! — стараясь улыбнуться, пробормотал он.
Он поднял веки и с трудом привстал, машинально снимая с лица налипшие листья осины.
Мне трудно рассказать о том, как прошел этот день, вероятно потому, что, несмотря на всю сложность положения, он был довольно скучный, в особенности по сравнению с тем, что произошло наутро. Мы ждали и ждали без конца. Я лежал под разваленной поленницей на кучах прошлогодних листьев. Ромашов сидел, как турок, поджав под себя ноги, и кто знает, о чем он думал, полузакрыв птичьи глаза и положив руки на худые колени.
Роща была сырая, а тут еще недавно прошел дождь, и повсюду — на ветках, на паутине, дрожащей от тяжести, — блестели и глухо падали крупные капли. Таким образом, мы не страдали от жажды.
Раза два заглянуло к нам солнце. Сначала оно было справа от нас, потом, описав полукруг, оказалось слева, — стало быть, прошло уже часа три, как бойцы и девушки отправились налаживать дрезину.
Уходя, та, которую звали Катей, сунула мне под голову свой заплечный мешок. Очевидно, в мешке были сухари — что—то хрустнуло, когда я кулаком подбил мешок повыше. Ромашов стал ныть, что он умирает от голода, но я прикрикнул на него, и он замолчал.
— Они не вернутся, — через минуту нервно сказал он. — Они бросили нас.
Он оправился от своей дурноты и уже разгуливал, рискуя выдать нас, потому что рощица была редкая, а до полотна открывалась пустынная местность.
— Это ты виноват, — снова сказал он, вернувшись и садясь на корточки подле меня. — Ты отправил их всех. Нужно было, чтобы одна осталась.
— В залог?
— Да, в залог. А теперь пиши пропало! Так они и вернутся за нами! Это ручная дрезина, она вообще может взять только четырех человек.
Вероятно, у меня было плохое настроение, потому что я вытащил пистолет и сказал Ромашову, что убью его, если он не перестанет ныть. Он замолчал. Морда у него искривилась, и он, кажется, с трудом удержался, чтобы не заплакать.
Вообще говоря, плохо было дело! Уже первые сумерки, крадучись, стали пробираться в рощу, а девушки не возвращались. Разумеется, я и мысли не допускал, что они могли уехать на дрезине без нас, как это подло предполагал Ромашов. Пока лучше было не думать, что они не вернутся.
Лежа на спине, я смотрел в небо, которое все темнело и уходило от меня среди трепещущих жидких осин. Я не думал о Кате, но что—то нежное и сдержанное прошло в душе, и я почувствовал: «Катя». Это был уже сон, и если бы не Катя, я прогнал бы его, потому что нельзя было спать, я это чувствовал, но еще не знал — почему. Испания представилась мне или мое письмо из Испании, — что—то очень молодое, перепутанное, не бои, а крошечные фруктовые садики под Валенсией, в которых старухи, узнав, что мы русские, не знали, куда нас посадить и что с нами делать. «Так что все—таки помни, так я писал Кате, хотя чувствовал, что она рядом со мной, — ты свободна, никаких обязательств».
Мне было страшно расстаться с этим сном, хотя и холодно было промокшей ноге, хотя далеко сползла с плеча и подмялась шинель. Я держал Катю за руки, я не отпускал этот сон, но уже случилось что—то страшное, и нужно было заставить себя проснуться.
Я открыл глаза. Освещенный первыми лучами солнца, туман лениво бродил между деревьями. У меня было мокрое лицо, мокрые руки. Ромашов сидел поодаль в прежней сонно—равнодушной позе. Все, кажется, было, как прежде, но все было уже совершенно другим.
Он не смотрел на меня. Потом посмотрел — искоса, очень быстро, и я сразу понял, почему мне так неудобно лежать. Он вытащил из—под моей головы мешок с сухарями. Кроме того, он вытащил флягу с водкой и пистолет.
Кровь бросилась мне в лицо. Он вытащил пистолет!
— Сейчас же верни оружие, болван! — сказал я спокойно.
Он промолчал.
— Ну!
— Ты все равно умрешь, — сказал он торопливо. — Тебе не нужно оружия.
— Умру я или нет, это уж мое дело. Но ты мне верни пистолет, если не хочешь попасть под полевой суд. Понятно?
Он стал коротко, быстро дышать.
— Какой там полевой суд! Мы одни, и никто ничего не узнает. В сущности, тебя уже давно нет. О том, что ты еще жив, ничего неизвестно.
Теперь он в упор смотрел на меня, и у него были очень странные глаза — какие—то торжественные, широко открытые. Может быть, он помешался?
— Знаешь что? Глотни—ка из фляги, — сказал я спокойно, — и приди в себя. А уж потом мы решим — жив я или умер.
Но Ромашов не слушал меня.
— Я остался, чтобы сказать, что ты мешал мне всегда и везде. Каждый день, каждый час! Ты мне надоел смертельно, безумно! Ты мне надоел тысячу лет!
Безусловно, он не был вполне нормален в эту минуту. Последняя фраза «надоел тысячу лет» убедила меня.
— Но теперь все кончено, навсегда! — в каком—то самозабвении продолжал Ромашов. — Все равно ты умер бы, у тебя гангрена. Теперь ты умрешь скорее, сейчас, вот и все.
— Допустим! — Между нами было не больше трех шагов, и, если удачно бросить костыль, возможно, я мог бы оглушить его. Но я еще говорил спокойно. — Но за чем же ты взял планшет? Там мои документы.
— Зачем? Чтобы тебя нашли просто так. Кто? Неизвестно. (Он пропускал слова.) Мало ли валяется, чей—то труп. Ты будешь трупом, — сказал он надменно, — и никто не узнает, что я убил тебя.
Теперь эта сцена представляется мне почти фантастической. Но я не изменил и не прибавил ни слова.
Глава 8. НИКТО НЕ УЗНАЕТ.
Мальчиком я был очень вспыльчив и прекрасно помню то опасное чувство наслаждения, когда я давал себе полную волю. Именно с этим чувством, от которого уже начинала немного кружиться голова, я слушал Ромашова. Нужно было приказать себе стать совершенно спокойным, и я приказал, а потом незаметно отвел руку за спину и положил ее на костыль.
— Имей в виду, что я успел написать в часть, — сказал я ровным голосом, который удался мне сразу. — Так что на эту заметку ты рассчитываешь напрасно.
— А эшелон?
С тупым торжеством он взглянул на меня. Он хотел сказать, что после обстрела ВСП нет ничего легче, как объяснить мое исчезновение. В эту минуту я понял, что он очень давно, может быть со школьных лет, желал моей смерти.
— Допустим. Но, как ни странно, ты ничего не выиграешь на этом, — сказал я что—то такое — все равно что, лишь бы затянуть время.
Поленница мешала замахнуться. Нужно было незаметно отодвинуться от нее и ударить сбоку, чтобы вернее попасть в висок.
— Выиграю я или нет, это не имеет значения! Ты все равно проиграл. Сейчас я застрелю тебя. Вот!
И он вытащил мой пистолет.
Если бы я поверил, что он действительно может застрелить меня, возможно, что он бы решился. В таком азарте я еще не видел его ни разу. Но я просто плюнул ему в лицо и сказал:
— Стреляй!
Боже мой, как он завыл и закрутился, заскрипел и даже защелкал зубами! Он был бы страшен, если бы я не знал, что за этими штуками нет ничего, кроме трусости и нахальства. Борьба с самим собой — выстрелить или нет? — вот что означал этот дикий танец. Пистолет жег ему руку, он все наставлял его на меня с размаху и дрожал, так что я стал бояться, в конце концов, как бы он нечаянно не нажал собачку.
— Мерзавец! — закричал он. — Ты всегда мучил меня! Если бы ты знал, кому ты обязан своей жизнью, ничтожество, подлец! Если бы я мог, боже мой! И зачем, зачем тебе жить? Все равно ногу отнимут. Ты больше не будешь летать.
Это может показаться смешным, но из всех его идиотских ругательств самыми обидными показались мне именно слова о том, что я больше не буду летать.
— Можно подумать, что я больше всего мешал тебе в воздухе, — сказал я, чувствуя, что у меня страшный голос, и все еще стараясь говорить хладнокровно. — А на земле мы были Орестом и Пиладом.
Теперь он стоял боком ко мне да еще прикрыв левой ладонью глаза, как бы в отчаянии, что никак не может уговорить меня умереть. Минута была удобная, и я бросил костыль. Нужно было метнуть его, как копье, то ест сильно откинуться, а потом послать все тело вперед, выбросив руку. Я сделал все, что мог, и попал, но, к сожалению, не в висок, а в плечо и, кажется, не особенно сильно.
Ромашов остолбенел. Как кенгуру, он сделал огромный неуклюжий прыжок. Потом обернулся ко мне.
— Ах, так! — сказал он и выругался. — Хорошо же!
Не торопясь, он уложил мешки. Он связал их, чтобы было удобно нести, и надел один на правую, другой на левую руку. Не торопясь, он обошел меня, наклонился, чтобы поднять с земли какую—то ветку. Помахивая ею, он пошел по направлению к болоту, и через пять минут уже среди далеких осин мелькала его сутулая фигура. А я сидел, опершись руками о землю, с пересохшим ртом, стараясь не крикнуть ему: «Ромашов, вернись!», потому что это было, разумеется, невозможно.
Глава 9. ОДИН.
Оставить меня одного, голодного и безоружного, тяжело раненного, в лесу, в двух шагах от расположения немецкого десанта — я не сомневаюсь в том, что именно это было тщательно обдумано накануне. Все остальное Ромашов делал и говорил в припадке вдохновения, очевидно надеясь, что ему удастся испугать и унизить меня. Ничего не вышло из этой попытки, и он ушел, что было вполне равносильно, а может быть, даже хуже убийства, на которое он не решился.
Не могу сказать, что мне стало легче, когда эта трезвая мысль явилась передо мною. Нужно было двигаться или согласиться с Ромашовым и навсегда остаться в маленькой осиновой роще.
Я встал. Костыли были разной высоты. Я сделал шаг. Это была не та боль, которая без промаха бьет куда—то в затылок и от которой теряют сознание. Но точно тысячи дьяволов рвали мою ногу на части и скребли железными скребками едва поджившие раны на спине. Я сделал второй и третий шаг.
— Что, взяли? — сказал я дьяволам.
И сделал четвертый.
Солнце стояло уже довольно высоко, когда я добрался до опушки, за которой открылось давешнее болото, пересеченное единственной полоской примятой, мокрой травы. Красивые зеленые кочки—шары виднелись здесь и там, и я вспомнил, как они вчера переворачивались у девушек под ногами.
Какие—то люди ходили по насыпи — свои или немцы? Наш поезд еще горел; бледный при солнечном свете огонь перебегал по черным доскам вагонов.
Может быть, вернуться к нему? Зачем? Раскаты орудийных выстрелов донеслись до меня, глухие, далекие и как будто с востока. Ближайшей станцией, до которой нам оставалось еще километров двадцать, была Щеля Новая. Там шел бой, следовательно, были наши. Туда я и направился, если можно так назвать эту муку каждого шага.
Роща кончилась, и пошли кусты с сизо—черными ягодами, название которых я забыл, похожими на чернику, но крупнее. Это было кстати — больше суток я ничего не ел. Что—то неподвижно—черное лежало в поле за кустами, должно быть мертвый, и всякий раз, когда, навалившись на костыли, я тянулся за ягодой, этот мертвый почему—то беспокоил меня. Потом я забыл о нем — и снова вспомнил с неприятным чувством, от которого даже дрожь прошла по спине. Несколько ягод упало в траву. Я стал осторожно опускаться, чтобы найти их, и точно игла кольнула меня прямо в сердце: это была женщина. Теперь я шел к ней, как только мог быстрее.
Она лежала на спине с раскинутыми руками. Это была не Катя, другая. Пули попала в лицо, красивые черные брови были сдвинуты с выражением страдания.
Кажется, именно в это время я стал замечать, что говорю сам с собой и притом довольно странные вещи. Я вспомнил, как называется та сизо—черная ягода, похожая на чернику, — гонобобель, или голубика, — и страшно обрадовался, хотя это было не бог весть какое открытие. Я стал вслух строить предположения о том, как была убита эта девушка: вероятнее всего, она вернулась за мной, и немцы с насыпи дали по ней очередь из автомата. Я сказал ей что—то ласковое, стараясь ее обнадежить, как будто она не была мертва, безнадежно мертва, с низкими, страдальчески сдвинутыми бровями.
Потом я забыл о ней. Я шел куда—то и болтал, и мне ужасно не нравилось, что я так странно болтаю. Это был бред, подступивший удивительно незаметно, с которым я уже не боролся, потому что бороться нужно было только с одним непреодолимым желанием — отшвырнуть костыли, натершие мне подмышками водяные мозоли, и опуститься на землю, которая была покоем и счастьем.
…Должно быть, я ничего не видел вокруг себя задолго до того, как потерял сознание, — иначе, откуда мог бы появится рядом с моей головой этот пышный бледно—зеленый кочан капусты? Я лежал в огороде и с восторгом смотрел на кочан. Вообще все было бы превосходно, если бы пугало в черной изодранной шляпе не описывало медленные круги надо мной. Ворона, сидевшая на его плече, кружилась вместе с ним, и я подумал, что если бы не эта госпожа с плоско мигающим глазом, все на свете действительно было бы превосходно. Я закричал на нее, но таким беспомощно—хриплым голосом, что она только посмотрела на меня и равнодушно шевельнула крыльями, точно пожала плечами.
Да, все было бы превосходно, если бы я мог остановить этот медленно кружащийся мир. Может быть, тогда мне удалось бы рассмотреть рубленый некрашеный домик за огородом, крыльцо и во дворе высокую палку колодца. То темнело, то светлело одно из окон, и, кто знает, может быть, мне удалось бы увидеть того, кто ходит по дому и тревожно смотрит в окно.
Я встал. До порога было шагов сорок — пустяки в сравнении с тем расстоянием, которое я прошел накануне. Но дорого достались мне эти сорок шагов! Без сил упал я на крыльцо, загремев костылями.
Дверь приоткрылась. Мальчик лет двенадцати стоял на одном колене за табуретом. Лежа на крыльце, я не сразу различил его в глубине темноватой комнаты с низким потолком и большими двухэтажными нарами, отделенными ситцевой занавеской. Он целился прямо в меня, даже зажмурил глаз и крепко прижался щекой к прикладу.
— Вот что, нужно мне помочь, — сказал я, стараясь остановить эту комнату, которая уже начала вокруг меня свое проклятое медленное движение, — я раненый летчик из эшелона.
— Кирилл, отставить! — сказал мальчик с ружьем. — Это наш.
Мне показалось, что он раздвоился в эту минуту, потому что еще один совершенно такой же мальчик осторожно выглянул из—за полога. В руке он держал финский нож. Он еще пыхтел и моргал от волнения.
Глава 10. МАЛЬЧИКИ.
Я плохо помню то, что было потом, и дни, проведенные у мальчиков, представляются мне в каких—то клубах пара. Пар был самый реальный, потому что большой чайник с утра до вечера кипел на таганчике в русской печке. Но был еще и другой, фантастический пар, от которого я быстро и хрипло дышал и обливался потом. Иногда он редел, и тогда я видел себя на постели, с ногой, под которую была подложена гора разноцветных подушек. Это сделали мальчики, чтобы кровь отлила от ран. Я уже узнал, что их зовут Кира и Вова, что они сыновья стрелочника Ионы Петровича Лескова, что отец накануне ушел на станцию, а им приказал запереться и никого не пускать. Они были близнецами — и это я превосходно знал, но все—таки пугался, когда видел их вместе: они были совершенно одинаковые, и это снова было похоже на бред.
…Точно два человека боролись во мне — один веселый, легкий, который старался припомнить и живо представить себе все самое хорошее в жизни, и другой — мрачный и мстительный, не забывающий обид, томящийся от невозможности отплатить за унижение.
То представлялось мне, как высокий бородатый человек, такой замерзший, что он даже не в силах запереть за собой дверь, входит в избу, где живем мы с сестрою. Но это не доктор Иван Иваныч. Это я. Без сил я падаю на крыльцо, дверь распахивается, мальчики целятся в меня, а потом говорят: «Это наш».
И все мне казалось, что они потому отнеслись ко мне так сердечно, что когда—то, много лет назад, мы с сестрой помогли доктору, — одинокие, заброшенные дети в глухой, занесенной снегом деревне.
То видел я себя с оскаленными от злобы зубами, с пистолетом в руке, под вагоном. Странно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Что же я сделал, в чем провинился, что пропустил самое важное, самое необходимое в жизни? Как случилось, что эти люди пришли к нам и осмелились подло стрелять в раненых, точно не было на свете ни справедливости, ни чести, ни того, чему я учился в школе, ни того, во что я свято верил и что с детства привык уважать и любить?
Я старался ответить на этот вопрос и не мог, потому что у меня пропадало дыхание, и мальчики с беспокойством глядели на меня и все говорили, что если бы пришел отец, он бы что—то сделал со мной и мне сразу стало бы лучше.
И отец пришел. Без сомнения, это был он, такой же неуклюжий, как мальчики, с мрачным лицом и сияющими голубыми глазами. Они сияли в ту минуту, когда, опустив руки и сгорбившись, он остановился подле постели.
— Десант разбит, — сказал он, — мы окружили их у Щели Новой и уничтожили всех до одного.
Потом он замолчал, уставясь на меня исподлобья, и я подумал, что, должно быть, плохи мои дела, если на меня смотрят такими добрыми глазами, если у меня спрашивают имя и отчество, фамилию и звание и, вздохнув, прикалывают к стене — чтобы не затерялся — листок бумаги. Но это еще не беда, пусть прикалывает, все равно я не стану смотреть на этот листок. И, взяв стрелочника за руку, я начинаю с жаром рассказывать о том, как встретили меня его сыновья. Может быть, я рассказываю слишком долго и немного путаюсь и повторяюсь, потому что он кладет мне на лоб что—то холодное и просит, чтобы я непременно уснул.
— Усните, усните!
Я знаю, что он будет доволен, если мне удастся уснуть, и закрываю глаза и притворяюсь, что сплю. Но картина, которую я нарисовал перед ним, остается — где—то в бесконечной перспективе, между раздвинутых стен.
Тысячи маленьких домов представляются мне. Тысячи мальчиков стоят на коленях перед табуретами, на которых лежат тысячи ружей. Тысячи других прячутся за ситцевыми занавесками с ножами в руках. На великой Русской равнине, от горизонта до горизонта, в каждом доме в глубине темноватых комнат мальчики ждут врага. Ждут, чтобы убить его, когда он войдет.
Глава 11. О ЛЮБВИ.
Если сравнить, как это делают поэты, жизнь с дорогой, то можно сказать, что на самых крутых поворотах этой дороги я всегда встречал регулировщиков, которые указывали мне верное направление. Этот поворот отличался от других лишь тем, что меня выручил стрелочник, то есть профессиональный регулировщик.
Двое суток я пролежал в его доме, то приходя в себя, то снова теряя сознание, и, открывая глаза, неизменно видел этого мрачного человека, который стоял у моей постели, не отходя ни на шаг, точно не пускал меня в ту сторону, где дорога срывается в пропасть. Иногда он превращался в мальчика с такими же удивительно светлыми глазами, и мальчик тоже твердо стоял на своем месте и держал меня здесь, в этой комнате с маленькими окнами и низким потолком, и ни за что не пускал туда, где (если верить газете «Красные соколы») я однажды уже успел побывать.
Замечательно, что ни разу — ни наяву, ни в бреду — я не вспомнил о Ромашове. Был ли это инстинкт самосохранения? Вероятно, да — это воспоминание не прибавило бы мне здоровья.
Но когда движение было восстановлено, когда семейство — на дрезине, без сомнения той самой, до которой не добрались девушки из Станислава, — доставило меня в Заозерье и, сияя тремя парами голубых глаз, застенчиво простилось со мной, когда я вновь оказался в ВСП и на этот раз в настоящем — с ванной, радио и вагоном читальней, — когда, вымытый, перебинтованный, сытый, с ногой, задранной к потолку по всем правилам медицинской науки, я проспал всю Среднюю Россию и уже где—то за Кировом, в другом, тыловом мире показались незатемненные, что было очень странно, окна, — вот когда я вспомнил и повторил в уме все, что произошло между мною и Ромашовым.
Я вспомнил наш разговор накануне того дня, когда эшелон обстреляли немецкие танки.
— Сознайся, что у тебя в жизни были подлости, — сказал я, — то есть подлости с твоей собственной точки зрения.
— Допустим, — хладнокровно отвечал он. — Но что значит подлость? Я смотрю на жизнь, как на игру. Вот сейчас, например. Разве сама судьба не сдала нам на руки карты?
Не судьба, а война сдала эти карты. Не война, а отступление, потому что, если бы не отступление, он никогда не решился бы украсть у меня пистолет и бумаги и бросить меня в лесу одного.
Точно как на суде, я разобрал его поступок со всех точек зрения, в том числе и с военно—юридической, хотя об этой науке у меня было довольно смутное представление.
Я вспомнил всю историю наших отношений, очень сложную, в особенности если вообразить (теперь это было почти невозможно), что когда—то он серьезно собирался жениться на Кате.
Примирился ли он с тем, что она потеряна для него навсегда? Не знаю. Он женился на какой—то Алевтине Сергеевне, и Нина Капитоновна рассказала, что он страшно напился и плакал на свадьбе. И, слушая Нину Капитоновну, Катя смутилась и покраснела. Что же, она догадалась, что Ромашов все еще любит ее?
Без сомнения, он не помнил себя, когда кричал мне с пистолетом в руке: «Если бы ты знал, кому ты обязан жизнью!»
Но все—таки — кому?
Да, нетрудно было найти статью, согласно которой военный суд имел право расстрелять интенданта второго ранга Ромашова.
Но, быть может, есть на свете еще один суд, приговор которого по всей совести нельзя предсказать заранее? На котором обвиняемый скажет:
— Да, я хотел убить его.
И потом:
— Но не убил, потому что люблю ту, которая не в силах перенести эту смерть.
Нет такого суда! Не из любви к Кате, а из трусости он не убил меня! Да и что это за любовь, боже мой! Разве это та любовь, которая делает жизнь высокой и чистой? Которая превращает ее во что—то новое, великолепное? Которая, не спрашиваясь, делает человека в тысячу раз интереснее и добрее, чем прежде?
Нет, то была не любовь, а какое—то, бог весть, сложное, запутанное чувство, в котором оскорбленное самолюбие мешалось со страстью и, возможно, участвовал даже расчет, от которого (я в этом уверен) никогда не была свободна эта скучная душа подлеца.
Но все—таки я представил себе этот фантастический суд.
Я решил, что Иван Павлыч — кто же еще, если не наш старый, строгий учитель? — будет судить Ромашова. И мне померещилось, что я вижу одинокую комнату с камином и самого Ивана Павлыча в толстом мохнатом френче. Сурово вздрагивают седые усы, и глаза смотрят печально и сурово. Он сидит за столом, а Ромашов, равнодушно—сонно щуря глаза, стоит перед ним. Он думает, что я мертв давным—давно. Не все ли равно, что скажет ему наш старый учитель!
Но еще кто—то бродит по комнате, останавливается у камина, протягивает руки к огню. Свидетельница стоит у камина и греет руки, думая о чем—то своем…
Далеко была моя свидетельница! Кто знает, жива ли она? Вот уже два месяца, как я ничего не знаю о ней. И какие два месяца — осень 1941 года!
Она живет в городе, окруженном с юга и с севера, с запада и с востока, в городе, где мы решили устроить свой дом, если это когда—нибудь станет возможно. Бомбят и обстреливают этот город и делают все, что только в силах, чтобы голодной смертью умерли его жители, которые не желают сдаваться. Льют тяжелые пушки и тащат их за тысячи километров. Из самой Германии везут бетон и заливают им стенки траншей и дотов. Каждую ночь освещают ракетами небо над Невой, чтобы не проскочила по темной воде баржа с мукой или хлебом. Трудятся ожесточенно, свирепо — все для того, чтобы умерла моя Катя.
Глава 12. В ГОСПИТАЛЕ.
Не знаю, откуда взялось у меня это представление о госпитале: розы на ночном столике, ослепительные палаты, бесшумные сестры, скользящие между коек, как феи, и т.д. Должно быть, из какого—нибудь рассказа. Действительность оказалась гораздо проще.
Это было огромное здание, переполненное до такой степени, что койки стояли во всех коридорах и даже в столовой, которая была устроена, впрочем, также в каком—то проходном помещении. Прежде здесь находился медицинский институт — еще висели на стенах муляжи с мертвыми, страшными лицами, наполовину содранными, чтобы показать, как расположены нервы. В витринах еще сохранились расписание лекций и грозные приказы деканов.
Актовый зал, в котором я лежал, вполне соответствовал своему назначению. Но для палаты он был слишком велик — мне казалось, что конец его даже исчезал из глаз, как бы в тумане. В самом деле, когда широкие наклоненные столбы зимнего солнца пересекали зал, они немного дрожали, как в настоящем тумане. Здесь лежало около ста человек, почти все рядовые бойцы. У меня не было документов, и, пока из части не прислали справку, что есть на свете такой капитан, я лежал с рядовыми бойцами. Впрочем, разница сказывалась лишь в том, что нам выдавали махорку, а в командирские палаты — легкий табак.
Со всех фронтов собрались люди в нашей огромной палате, очень многие — с Ленинградского, и, нужно сказать, мало утешительного могли в ту зиму рассказать люди с Ленинградского фронта.
Я писал Кате еще с дороги, а из госпиталя почти каждый день. И на Петроградскую к Беренштейнам я писал, и Пете на полевую почту, и в Военно—медицинскую академию, где Катя работала с Варей Трофимовой, как она писала мне еще в июле. Железнодорожной связи с Ленинградом не было, но все же письма доставлялись на самолетах, и я не мог понять, почему не доходят мои. Между прочим, это так и осталось загадкой. Я писал бабушке в Ярославскую область, не зная, что детский лагерь Худфонда был вторично эвакуирован куда—то под Новосибирск. Я успокаивал себя только тем, что если бы с Катей случилось несчастье, кто—нибудь непременно ответил бы мне.
…Мне запомнился этот несчастный день — 21 февраля 1942 года. Одна из общественниц — так называли в госпитале женщин, которые добровольно и бесплатно ухаживали за нами, — рассказала, как она встречала на станции ленинградский эшелон с ремесленниками и учащимися спецшкол. Это была суровая женщина, которая со спокойствием, поразившим меня, однажды сказала, что у нее муж и сын погибли на фронте. Но она заплакала, рассказывая о том, как мальчиков на руках выносили из теплушек.
Я с трудом заставил себя съесть обед в этот день. Нога, уже больше месяца лежавшая в гипсе, вдруг разболелась так, что я просто не находил себе места. Врач назначил меня на рентген, и вот тут я «поддался беде», как любила говорить тетя Даша.
Во—первых, рентген показал, что нога неправильно срослась и нужно снимать гипс и ломать какие—то кости, — словом, начинать лечение сначала. Во—вторых, в кабинете был дьявольский холод, а меня держали часа полтора, и я, должно быть, простудился, потому что уже к вечеру заметил, что несу вздор, — это у меня всегда было первым признаком повышения температуры.
Короче говоря, я заболел воспалением легких. Это задержало вторичную операцию, и врачи начали серьезно опасаться, что я останусь хромым.
Но, кажется, я слишком подробно пишу о своих болезнях — скучная материя, в особенности как подумаешь, что я был ранен на третий месяц войны, не сделав почти ничего.
Почти ничего — в то время как уже совершилось «чудо под Москвой», как писали иностранные газеты, когда на триста километров к западу от Москвы из всех сугробов торчали окостеневшие, в дурацких эрзац—валенках ноги! Почти ничего — в то время как уже шла полным ходом работа по созданию новейшей морской авиации дальнего действия, — без меня, как будто я пятнадцать лет не крестил небо над морем во всех направлениях! Почти ничего — и я даже чувствовал, что с каждым днем от меня уходит то, что можно назвать «чувством войны», и подступает все ближе всякая ерунда госпитальной жизни.
Выше я упомянул, что из полка мне прислали справку, а вслед за ней я получил письмо от Миши Голомба, старого друга, с которым я когда—то летал на «гробах» в летной школе Осоавиахима. Я не поверил глазам, когда взглянул на подпись. Но это был Миша; он служил теперь в нашем полку — приехал через два дня после того, как в газете появился мой некролог.
«Саня, наконец, ты удивил меня, — писал он, — причем, заметь, не тогда, когда мы получили твое письмо и убедились в том, что ты жив, но когда мне сказали, что ты сгорел. Дело в том, что это на тебя не похоже. Теперь представь, что никому, в том числе и тебе, не приходится возражать против этой ошибки. Люди стали писать на бомбах «За Григорьева», так что и после смерти ты продолжал воевать. Полковник сказал речь, в которой упомянул, что ты представлен к ордену Красного Знамени. Так что поздравляю тебя и желаю счастья и счастья».
Ранней весной я стал понемногу выходить, или, вернее, выползать, в госпитальный садик. Впервые увидел я город, в котором провел уже почти полгода, и хотя только одна улица — аллея, засаженная липами, открылась передо мной, но по ней можно было, кажется, судить и обо всем М—ове. Потом, когда меня стали выпускать в город — сперва на костыле, потом с палочкой, — я убедился в том, что не ошибся. Город был просторный, спокойный. Все лучшие улицы стремились взлететь на высокий берег Камы, и этот разбег напомнил мне родной Энск с его взгорьями на берегах Песчинки и Тихой. Прежде мне не случалось жить в М—ове, я только пролетал над ним два—три раза.
Я был в театре — Ленинградский театр оперы и балета был эвакуирован в М—ов, — и странным показалось мне то чувство возвращения времени, которое я испытал, когда раздвинулся занавес и великолепно одетые мужчины и женщины плавно, неторопливо прошлись по сцене, как будто и не было никакой войны.
Конечно, не стоило бы и упоминать в этой книге, что я ходил в театр. Но, точно колесики в часах, так цепляется в жизни одно за другое. На балете «Лебединое озеро» я встретил Аню Ильину, жену моего товарища, с которым мы служили на Дальнем Востоке. Нам с Катей нравились Ильины. Это были ровные, вежливые, веселые люди, любившие театр и спорт, в особенности теннис. Аня так и запомнилась мне с ракеткой в руке, в белом платье. И, может быть, именно потому, что они были такие вежливые, со всеми одинаково ровные и напоминавшие прекрасную пару из какого—нибудь романа, к ним относились недоверчиво и, в общем, довольно плохо. А нам с Катей всегда казалось, что они вполне заслужили свое положение и счастье. Говорили, что Ильину везет. И действительно, все у него получалось удивительно вовремя и складно. Эти удачи продолжались и во время войны, потому что, начав ее подполковником, он весной 1942 года был уже генерал—майором.
Мы с Аней обрадовались, встретившись на спектакле, и условились встретиться снова, на другой день, у нее дома. Она была здешняя. В начале войны муж отправил ее с дочкой к родителям в М—ов.
…Это был дом, не тронутый войной. Впервые после фронта и госпиталя я был в таком доме. Мы сидели в столовой. Без сомнения, те же салфеточки лежали на стеклянной доске буфета, те же безделушки стояли на кустарных резных полочках, развешанных по стенам, и шелковый коврик над тахтой, должно быть, точно так же висел до войны. Я смотрел на изящную, приветливо—ровную женщину, которая сидела в этой красивой комнате, и мне было мучительно жаль мою Катю.
— Если бы я мог поехать хоть на два—три дня в Ленинград! Я бы нашел ее. Не сомневаюсь, что она в Ленинграде. Но меня не отпустят. А Дмитрий в Москве?
— Да.
И Аня сразу поняла, почему я спросил ее о муже.
— Он поможет вам, непременно! Я сейчас же напишу ему. Что нужно сделать?
— Вызвать меня в Москву, — сказал я, — потому что иначе комиссия направит меня в тыл.
— А когда комиссия?
— В мае.
— Вот и прекрасно. Я успею получить от Мити ответ. Он знает, с кем нужно переговорить?
— С отделом кадров ВВС Наркомата флота.
Аня записала в книжечку: «С отделом кадров…»
— Досадно, что вы не можете прямо из М—ова лететь в Ленинград. Сюда ходит «Дуглас». Правда, его давно не было, но говорят, что скоро придет. Как только подсохнут аэродромы. Я бы могла вас устроить.
Я поблагодарил ее и сказал, что это было бы, разумеется, превосходно, но что есть на свете такая книга — «Дисциплинарный устав», чтение которой не располагает к подобным полетам.
Меньше всего мог я предполагать, что пройдет всего несколько дней, и я смогу лететь куда угодно, не заглядывая в эту суровую книгу.
Глава 13. ПРИГОВОР.
Медицинская комиссия всегда была для меня чем—то вроде суда, причем на этом суде мне каждый раз приходилось признавать себя виновным в том, что природа не создала меня высоким, широкоплечим человеком с квадратной челюстью и мускулами, способными выжать четыре пуда. Именно с этим неприятным чувством, совершенно голый, стоял я перед комиссией в М—ове. Я приседал, закрывал глаза, протягивал вперед руки, стараясь, чтобы они не дрожали, дрыгал ногой и великолепно узнавал на большом расстоянии самые мелкие буквы. Потом старая, седая женщина—врач послушала мое сердце и принялась стучать пальцами по спине и груди. Очевидно ей что—то не понравилось у меня в груди, потому что она приостановилась, нахмурилась и снова прошлась, точно сыграла гамму. Потом сказала:
— Дышите.
Вовсе не легкие беспокоили меня, когда я шел на комиссию. Нервничая, я почему—то начинал прихрамывать на раненую ногу — вот это было неприятно, особенно когда я думал о том, как нога будет вести себя в обстановке боевого полета. Легкие у меня всегда были превосходные, хотя в детстве я перенес испанку, потом тяжелый плеврит. Но на старую сердитую майоршу медицинской службы именно мои легкие произвели почему—то невыгодное впечатление. Она стучала и вертела меня и снова стучала и заставляла ложиться, точно решилась непременно доказать, что я болен, болен, болен… Болен и больше не буду летать.
Прошло уже около полугода, с тех пор как я спрятал очень далеко, в самую глубину души, эту страшную мысль — спрятал и завалил чем попало. Но она не умерла и никуда не ушла, а только притаилась где—то рядом с другим беспокойством — о Кате.
И вот теперь, когда я голый стоял перед комиссией, со следами ран на ногах и спине, теперь стало невозможно скрывать эту мысль ни от себя, ни от других. Должно быть, докторша прочитала ее в моих глазах, потому что, уже взяв в руки перо, не решилась, однако, написать заключение, а передала меня председателю комиссии, низенькому толстому врачу в роговых очках, и тот тотчас же принялся энергично выстукивать меня по ребрам, по лопаткам, но не пальцами, я маленьким молотком. И молоток стучал то звонко, то глухо, точно спрашивал:
«Неужели ты болен, болен, болен? Болен и больше не будешь летать?»
— Не нужно волноваться, капитан, — сказал врач, мельком взглянув мне в лицо и засовывая резиновые трубки в большие волосатые уши. — Подлечитесь, и все будет в порядке.
Врач послушал меня и что—то отметил в истории болезни. Он повторил с ласковым выражением:
— Все будет в порядке.
Но он дал мне полугодовой отпуск, а я знал, в каких случаях медкомиссия давала подобное заключение строевому командиру в 1942 году.
Кажется, у меня был неважный вид, когда я вернулся в госпиталь, потому что мой сосед—армеец, без ног, но такой полный и румяный, что всегда было странно, когда его на носилках приносили из ванны, оторвался от книги, взглянул на меня и ничего не спросил. Потом не выдержал и все—таки спросил:
— Ну, как?
И я почему—то сказал ему, что мне дали инвалидность, хотя в заключение вовсе не было этого слова. Принесли обед, я машинально съел его и ушел, хотя мне очень хотелось лечь и сунуть голову под подушку. Да, в заключение не было этого слова, и нечего было повторять и повторять его, каждый раз точно ныряя с головой в темную илистую болотную воду!
Может быть, нужно было убеждать их — эту старую ведьму с ее костяшками, сыгравшую на моих ребрах нечто вроде похоронного марша? Этого толстяка, который и промолчал и сказал о том, что я не буду больше летать? Может быть, я должен был потребовать, чтобы меня направили в гарнизонную комиссию?
Я шел по улице—аллее, круто спускавшейся к Каме, и свистел — не очень громко, чтобы не остановить внимания прохожих. На стене лучшего в городе здания авиашколы я в тысячный раз прочел надпись на мраморной доске: «Здесь учился Попов, изобретатель радио, гениальный русский ученый».
Прихрамывая, я поднялся на высокий берег, и мутноватая, еще весенняя, с желто—серым отливом Кама открылась передо мной с ее пристанями и пароходами, тянущими огромные баржи, свистками и голосами людей, далеко разносящимися над широкой, просторной водой…
«Жаль, что вы не можете прямо из М—ова лететь в Ленинград. Я бы могла вас устроить».
Что ж, теперь все в порядке. Садись и лети! И не нужно никаких разрешений. Из кабины ты перешел в помещение для пассажиров. Кресло удобное, откинулся и лежи, отдыхай!
Наверно, я сказал это вслух, потому что стоявшие на берегу «ремесленники» в больших, не по росту, курточках и фуражках засмеялись и немного прошли за мной. И мне вспомнилось, как после Испании мы с Катей поехали в Энск и как мальчики в Энске ходили за мной и все делали совершенно так же, как я. Я остановился, чтобы купить в ларьке папирос, и они остановились и купили те же папиросы, что я. Мне захотелось купаться. Катя осталась в Соборном саду, а я спустился к Тихой, разделся и бросился в воду. И они разделись немного поодаль и бросились в воду, совершенно так же, как я. Еще бы: летчик, который дрался в Испании и вернулся с орденом Красного Знамени на груди! А теперь?
Пальцы у меня немного дрожали, но я все—таки свернул папиросу, закурил и некоторое время неподвижно стоял на берегу, глядя на всю эту незнакомую разнообразную жизнь большой реки. Прошел серый пассажирский пароход. Я прочитал название «Ляпидевский» и подумал: «А вот ты не стал Ляпидевским». Потом прошел еще один такой же небольшой пароход. Я прочел название «Каманин» и подумал: «И Каманиным, брат, тоже!» вдалеке у пристани стоял «Мазурук», и я невольно улыбнулся, подумав, что мне придется до поздней ночи укорять себя, если окажется, что в Камском пароходстве все суда названы фамилиями знаменитых летчиков, да еще моих хороших знакомых.
Так или иначе, теперь никто не мешал мне лететь в Ленинград, чтобы найти жену или убедиться в том, что я потерял ее навсегда.
Три недели я ждал самолета. Привык ли я к своей болезни, или надежда тайком пробралась в сердце и стала шептать — уверять, что все обойдется, но понемногу я очнулся от неожиданного удара и привел в порядок все свои мысли и чувства.
Не о себе я думал теперь — о Кате. О ней — когда слушал по радио «Романс Нины», который она любила. О ней — когда смотрел разыгранный ранеными спектакль. Как редко мы бывали в театре! О ней — когда все спали в огромной палате и только здесь и там раздавался стон или быстрое, хриплое бормотанье.
Наконец Аня Ильина позвонила в госпиталь и сказала, что самолет пришел. Она познакомила меня с летчиком, огромным, добродушным майором, летавшим в М—ов по поручению штаба Ленфронта, и он охотно согласился взять меня в Ленинград.
Глава 14. ИЩУ КАТЮ.
Шесть месяцев я провел на земле! Как же передать чувство, с которым я, наконец, оставил ее? Ничего не изменилось, напротив — еще горше стало у меня на душе, когда я подумал, что впервые в жизни лечу пассажиром. Но за годы работы я привык лучше чувствовать себя в воздухе, чем на земле. С наслаждением смотрел я в окно, точно проверяя, не случилось ли чего—нибудь плохого со всем этим просторным хозяйством весенних черных полей, светлых вьющихся рек, темно—зеленого бархата леса. С наслаждением прошел в кабину, всем телом почувствовав ее привычную рассчитанную тесноту. С наслаждением ждал, как пилот станет обходить грозу, — над Череповцом мы встретили ее, великолепную, с тучами, похожими на дворцы, стены которых разламывались от молний. Невольно вспомнились мне впечатления первых полетов, когда небо еще не стало для меня просто трассой.
…На случайной машине, приехавшей в Бернгардовку за матрицами «Правды», я добрался до Литейного проспекта. Оттуда нужно было идти пешком или ждать трамвая; единственный трамвай ходил на Петроградскую — тройка. Но ленинградцы, расположившиеся на остановке, как дома, сказали, что ждать придется, возможно, около часа. Майор, которому тоже нужно было на Петроградскую, удерживал меня, тем более что у меня был тяжелый заплечный мешок — я привез для Кати продукты. Но разве мог я ждать, если должен был уже двадцать раз переводить дыхание при одной мысли, что мы с Катей, наконец, в одном городе, что, может быть, она в эту минуту… не знаю что — ждет меня, больна, умирает.
Не помня себя, пролетел я по аллее вдоль Летнего сада. Все я видел, все понимал: и огороды на Марсовом поле, среди которых стояли замаскированные зенитные батареи; и то, что никогда еще не бывало такой необыкновенной пышной зелени в Ленинграде; и то, что город был так прекрасно убран, — перед отъездом я читал в газетах о том, как триста тысяч ленинградцев весной 1942 года вышли на улицы и убрали свой город. Но все, что я видел, оборачивалось ко мне одной стороной: где Катя, найду ли я Катю? Мне казалось, что нет, не найду — если почти во всех домах были выбиты стекла и дома стояли молчаливые, как бы с печально опущенными глазами. Не найду — раз на каждой стене были впадины и разрушения от артиллерийских снарядов. Найду — раз даже у памятника Суворову на площади были засеяны морковка и свекла и молодые ростки стояли так твердо, как будто для них нельзя было и придумать лучших природных условий. Я вышел к Неве, невольно нашел глазами адмиралтейский шпиль, — и не знаю, как передать, но это было Катино — то, что он потускнел, как на старой гравюре. Мы не простились, когда началась война, но другое прощание, перед Испанией, так живо вспомнилось мне, что я почти физически увидел ее в темной передней у Беренштейнов, среди старых шуб и пальто. Что нужно сделать, чтобы все стало так, как тогда? Чтобы я снова обнял ее? Чтобы она спросила:
«Саня, это ты? Может быть, это не ты?»
Издалека увидел я дом, в котором жили Беренштейны. Дом стоял на месте и, как ни странно, показался мне еще красивее, чем прежде! Окна были целы, фасад нарядно отсвечивал, точно свежая краска еще блестела на солнце. Но чем ближе я подходил, тем все больше беспокоила меня эта загадочная нарядная неподвижность. Еще десять, пятнадцать, двадцать шагов — и кто—то сильно взял меня за сердце, потом отпустил, и оно забилось, забилось… Дома не было. Фасад был нарисован на больших фанерных листах.
Весь долгий летний день шумел в моих ушах далекий артиллерийский прибой — то набегал, то откатывался, как будто таща за собой крупную, гулкую гальку.
Весь день я искал Катю.
Женщина с треугольным зеленым лицом, которую я встретил подле разбитого дома, направила меня к доктору Ованесяну, члену райсовета. Старый армянин, черно—седой, небритый и добродушный, сидел в конторе бывшего кино «Элит» — теперь здесь помещался штаб ПВХО района. Я спросил его, знал ли он Екатерину Ивановну Татаринову—Григорьеву. Он ответил, что, «конечно, знал и даже в начале войны предлагал ей работать у него медсестрой».
— И что же?
— Она отказалась и уехала на окопы, — сказал доктор. — И больше, я ее, к сожалению, не видел.
— Может быть, вы знали и Розалию Наумовну, доктор?
Он посмотрел на меня добрыми старыми глазами, пожевал и выпятил губу.
— А вы кем приходитесь Розалии Наумовне?
— Никем. Просто знакомый.
— Ага.
Он помолчал.
— Это была отличная, превосходная женщина, — вздохнув, сказал он. — Мы отправили ее в стационар, но было уже поздно, и она умерла…
Я вернулся во двор разбитого дома. Фасад рухнул, но сторона, выходившая во двор, сохранилась. Сам не зная зачем, я поднялся по засыпанной щебнем лестнице до первой площадки. Дальше шли какие—то железные прутья и балки, торчавшие в пустоте лестничной клетки, и лишь на высоте третьего этажа вновь начались ступени.
Когда—то в этом доме жила сестра, которую я любил. Здесь мы отпраздновали ее свадьбу. Каждый выходной день я приходил сюда, учлет в синей спецовке, мечтавший о счастье великих открытий. Здесь мы с Катей всегда останавливались, когда приезжали в Ленинград, и когда бы мы ни приехали, в этом доме нас принимали, как самых близких и дорогих друзей. В этом доме Катя прожила больше года, когда я дрался в Испании. В этом доме она жила теперь, во время блокады, страдая от голода и холода, работая и помогая другим, распространяя на других свет своей чистоты и душевной силы. Где же она? Ужас охватил меня. Я сжал зубы, чтобы удержать дрожь.
В эту минуту послышался детский голос, и в проломе стены, как раз над моей головой, показался мальчик лет двенадцати, смуглый и широкоскулый.
— Вам кого, товарищ командир?
— Ты здесь живешь?
— Точно.
— Один?
— Зачем один? С матерью.
— А мать сейчас дома?
— Дома.
Он показал мне, как пройти, — в одном месте по узкой доске над провалом, — и через несколько минут я беседовал с его матерью, усталой женщиной с расплывающимися глазами — татаркой, как я понял с первого ее слова. Это была дворничиха дома N79, и она, разумеется, отлично знала и Розалию Наумовну и Катю.
— Когда девятку побила, она отрывать пошла, — сказала она о Кате, и мальчик, чисто говоривший по—русски, объяснил, что «девятка» — это дом, в котором помещался гастрономический магазин N9. — Знакомый отрыла. Рыжий такой. Потом она ейной квартире жила.
— Отрыла рыжего знакомого, — быстро перевел мальчик, — и он потом жил в ейной квартире.
— Вторая старушка помирал, Хаким хоронить пошла.
— Вторая старушка — Розалии Наумовны сестра, — объяснил мальчик. — Я
— Хаким. Когда она померла, мы ее хоронить везли. На Смоленское. И рыжий этот там был. Он нас и нанимал. Тоже военный, майор.
Теперь нужно было спросить о Кате. Мне было страшно, но я спросил. Сердито тряся головой, дворничиха сказала, что она сама «три месяца в больнице лежал, мулла звал, ни один мулла в Ленинграде нет, все мулла помер». А когда она вернулась, квартира Розалии Наумовны уже стояла пустая.
— Жакт надо спросить, — сказала она, подумав, — а жакт тоже нет, помер. Может, уехала? Она рыжего отрыла, у него хлеб был. Большой мешок, сам нес, меня не давал. А я ему сказал: «Ты дурак жадный. Мы тебе жизнь спасал. Тебе не хлеб, тебе молиться, куран читать нада».
Катя уже не жила у Розалии Наумовны, когда в дом попала бомба, — это было все, что я узнал. Я говорил еще, с какими—то женщинами, которые плакали, рассказывая о том, как помогала им Катя. Хаким привел своих товарищей, и они пожаловались на рыжего майора, который обещал им по триста граммов за «захоронение», а потом «зажилил» и выдал только по двести.
Бог весть, что это был за рыжий майор. Петя? Но Петя был не майор, да и невозможно было представить, что Петя способен украсть сто граммов у голодных мальчишек. Все равно! Кто бы ни был этот человек, он помог Розалии Наумовне похоронить сестру. Кто знает, может быть в трудные дни он поддерживал Катю? На похоронах она была вместе с ним и, очевидно, не так уж была слаба, если смогла добраться до Смоленского кладбища с Петроградской. Но с тех пор никто больше не видел ее — не видел ни живой, ни мертвой.
Шел уже шестой час, когда, измученный, с головной болью, я отправился в Военно—медицинскую академию. Академия была эвакуирована, но клиники, с первого дня войны ставшие госпиталями, остались. Осталась и стоматологическая, в которой работала Катя. Меня отослали в канцелярию, и старая машинистка, чем—то напомнившая мне тетю Дашу, сказала, что Катя была очень плоха и доктор Трофимова помогла ей эвакуироваться из Ленинграда.
— Куда?
— Вот этого не могу сказать, не знаю.
— А сама доктор Трофимова в Ленинграде?
— Как отправила вашу супругу, сама сейчас же на фронт, — отвечала машинистка, — и с тех пор ни о той, ни о другой не было никаких известий.
Глава 15. ВСТРЕЧА С ГИДРОГРАФОМ Р.
Теперь я понял, что это было наивно: полгода писать Кате, не получая в ответ ни слова, и все—таки надеяться, что стоит мне приехать в Ленинград — и, протянув руки, она встретит меня у порога. Как будто не было страшной зимы сорок первого года, эшелонов с умирающими мальчиками, специальных больниц для ленинградцев во многих городах Союза. Как будто не было этих лиц со странно расплывающимся, водянистым взглядом. Как будто не доносился то с запада, то с востока гул артиллерийской стрельбы.
Я думал об этом, сидя в канцелярии стоматологической клиники и слушая рассказ машинистки о том, как молоденький краснофлотец, как две капли воды похожий на ее погибшего сына, вдруг пришел и отдал ей триста граммов хлеба, когда у нее уже не было сил подняться с постели.
— А Катерина Ивановна найдется, — сказала она. — Ей сон приснился, что орел летит. Я говорю — муж. Она не поверила. И вот, видите, по—моему, вышло. И теперь я вам говорю — найдется!
Да, может быть. «Умирала, в то время как я, в сущности говоря, прекрасно жил в М—ове», — думал я, тупо глядя на старую женщину, которая все уверяла меня, что Катя найдется, вернется. «Обо мне заботились, меня лечили. А у нее не было ста граммов хлеба, чтобы заплатить мальчикам, похоронившим Берту». И с бешенством, с отчаяньем думал я о том, что еще в январе должен был лететь в Ленинград, настаивать, требовать, чтобы меня выписали из госпиталя, и, кто знает, быть может, вышел бы здоровее, чем сейчас, и нашел бы, спас мою Катю.
Но поздно было жалеть о том, чего никогда не вернешь. «Я — как все», — писала мне Катя из Ленинграда. Только теперь понял я, что она хотела сказать этими простыми словами.
Старая женщина, которой, вероятно, пришлось пережить гораздо больше, чем мне, все утешала меня. Я попросил у нее кипятку и угостил салом и луком, что было еще редкостью в Ленинграде.
С этой минуты как бы холод поселился в моей душе. Ко всему, что я ни делал, о чем ни думал, всегда присоединялось: «А Катя?»
…Еще в М—ове я восстановил по памяти почти все телефоны моих ленинградских знакомых. Но кому ни звонил я из клиники, никто не отвечал, точно эти звонки терялись где—то в таинственной пустоте Ленинграда. Наконец я набрал последний номер — единственный, в котором не был уверен, и долго держал трубку, слушая какие—то далекие шорохи и за ними еще более далекие нетерпеливые голоса.
— Алло, я вас слушаю, — неожиданно сказал низкий мужской голос.
— Можно попросить…
Я назвал фамилию.
— Это я.
— С вами говорит летчик Григорьев.
Молчание.
— Не может быть! Александр Иваныч?
— Да.
— Вот и не верь в судьбу! Третий день, как я только и думаю, где бы мне вас найти, дорогой Александр Иваныч.
Лет шесть тому назад, когда экспедиция по розыскам капитана Татаринова была решена и я занимался организацией ее в Ленинграде, профессор В. познакомил меня с одним моряком, ученым—гидрографом, преподавателем училища имени Фрунзе.
Мы провели вместе только один вечер, но часто потом я вспоминал этого человека, с необычайной отчетливостью нарисовавшего передо мною картину будущей мировой войны.
Он пришел тогда поздно. Катя уже спала, забравшись в кресло с ногами. Я хотел разбудить ее, он не дал, и мы стали что—то пить и закусывать маслинами — у Кати всегда были в запасе маслины.
Север глубоко занимал его. Он был уверен, что в будущей войне Север с его неисчерпаемым стратегическим сырьем должен сыграть огромную роль. Он смотрел на Северный морской путь как на военную дорогу и утверждал, что неудачи русско—японской кампании были результатом непонимания этой мысли, высказанной еще Менделеевым. Он требовал, чтобы военные базы были построены вдоль всех маршрутов, по которым идут караваны.
Помнится, тогда меня поразила эта точка зрения. Я снова оценил ее 14 июня 1942 года, за несколько дней до полета в Ленинград, когда, сидя на берегу Камы, услышал далекий голос диктора, с торжественным выражением читавшего договор между Англией и Советским Союзом. Нетрудно было догадаться, о каких путях шла речь в этом договоре, и встреча с «ночным гостем», как потом называла этого гидрографа Катя, припомнилась мне.
В 1936 — 1940 годах я не раз встречался с ним, читал его статьи и книгу «Моря Советской Арктики», ставшую знаменитой и переведенную на все европейские языки. С неизменной симпатией я следил за его судьбой, так же как он, кажется, следил за моею. Я знал, что он ушел из училища Фрунзе, командовал гидрографическим судном, работал в Гидрографическом управлении наркомата ВМФ. Незадолго до войны он защищал докторскую диссертацию — объявление о ней я прочел в «Вечерней Москве».
Я буду называть его Р.
…Это был редчайший случай — «раз в тысячу лет», как сказал Р., —что я застал его дома. Квартира была запечатана, и он распечатал ее и зашел к себе две минуты назад, и то лишь потому, что надолго уезжает из Ленинграда.
— Куда?
— Далеко. Вот заходите, расскажу. Где вы остановились?
— Пока нигде.
— Очень хорошо. Я жду вас.
Он жил у Литейного моста, в новом доме, в просторной квартире, разумеется, запущенной за год войны, но в которой чувствовалось что—то поэтическое, точно это была квартира артиста. Может быть, художественно сшитые куклы, стоявшие на пианино под стеклянными колпаками, внушили мне эту мысль, или множество книг на полу и на полках, или сам хозяин, встретивший меня попросту, в рубахе, под распахнувшимся воротом которой была видна полная волосатая грудь. Где—то я видел подобный портрет Шевченко. Но Р. был не поэтом, а контр—адмиралом, в чем нетрудно было убедиться, взглянув на его китель, висевший на спинке кресла.
Где и когда бы мы ни встречались, с первого слова он начинал рассказывать о том, что сейчас было для него самым главным, без сомнения, потому, что наш интерес друг к другу всегда основывался на «самом главном» и мало касался личных или служебных дел.
Но на этот раз он, прежде всего, расспросил меня о том, где я был и что делал за год войны.
— Да, не повезло, — сказал он, когда я рассказал ему о своих неудачах. — Но вы наверстаете. Что же вы, то на Балтике, то на Черноморском флоте? А Северу изменили? Ведь я считал, что вы северный человек — и навеки.
Это было слишком сложно — рассказывать, как я «изменил» Северу, и я только возразил, что ушел из гражданской авиации, лишь, когда потерял надежду вернуться на Север.
Р. замолчал. Не знаю, о чем он думал, щуря черные живые глаза и теребя свой казацкий чуб, поседевший и поредевший. Мы сидели в креслах у окна, разумеется выбитого, как и во всей квартире. Литейный мост был виден, а за ним суда, странно—резко раскрашенные так, чтобы трудно было разобрать, где кончается дом на набережной и начинается корабль. Пусто было на улицах — «как в пять часов утра», подумалось мне, и я вспомнил — Катя однажды сказала мне, что это было ошибкой с ее стороны, что она не родилась в Ленинграде.
Я задумался и вздрогнул, когда Р. окликнул меня.
— Знаете что, ложитесь—ка спать, — сказал он. — Вы устали. А завтра поговорим.
Не слушая возражений, он принес подушку, снял с дивана валики, заставил меня лечь. И я мгновенно уснул, точно кто—то подошел на цыпочках и, недолго думая, набросил на все, что произошло в этот день, темное, плотное одеяло.
Было еще очень рано — должно быть, часа четыре, — когда я открыл глаза. Но Р. уже не спал — завешивал старыми газетами книжные полки, и я подумал почему—то с тоской, что сегодня он уезжает. Он подсел ко мне, не дал встать, заговорил: без сомнения, это и было то «самое важное», о чем он сказал бы мне вчера, если бы я не был так измучен.
…В наши дни каждый школьник хотя бы и общих чертах представляет себе, что происходило на большой морской дороге из Англии и Америки в Советский Союз летом 1942 года. Но именно летом 1942 года то, что рассказывал Р., было новостью даже для меня, хотя я не переставал интересоваться Севером и ловил на страницах печати каждую заметку о действиях ВВС Северного флота.
Он развернул карты, приложенные к одной из его книг, и не сразу нашел ту, на которой мог показать границы театра, — таков был, по его словам, этот огромный театр, на котором действовали наши морские и воздушные силы. Очень кратко, однако гораздо подробнее, чем мне потом приходилось читать даже в специальных статьях, он нарисовал передо мною картину большой войны, происходящей в Баренцевом море. С жадностью слушал я о смелом походе подводной лодки—малютки в бухту Петсамо, то есть в главную морскую базу врага, о Сафонове, сбившем над морем двадцать пять самолетов, о работе летчиков, атакующих транспорты под прикрытием снежного заряда, я еще не забыл, что такое снежный заряд. Я слушал его, и впервые в жизни сознание неудачи язвительно кололо меня. Это был мой Север — то, о чем рассказывал Р.
От него я впервые узнал, что такое «конвой». Он указал мне возможные «точки рандеву», то есть тайно условленные пункты, где встречаются английские и американские корабли, и объяснил, как происходит передача их под охрану нашего флага.
— Вот где они идут, — сказал он и показал, разумеется в общих чертах, путь, о котором в 1942 году не принято было распространяться. — Колонна в стод—вести судов. Вы догадываетесь, не правда ли, в каком месте им приходится особенно трудно? — И не очень точно он показал это место. — Но оставим в покое западный путь, тем более что здесь (он показал где) сидят чрезвычайно толковые люди. Поговорим о другом, не менее важном… Ворота, которые немцы стремятся захлопнуть, — живо сказал он и закрыл ладонью выход из Баренцева в Карское море, — потому что они прекрасно понимают хотя бы значение энских рудников для авиамоторостроения. Но, конечно, и транзитное значение Северного морского пути ужасно не нравится им, тем более, что весной этого года они уже стали надеяться…
Он не договорил, но я понял его. Случайно мне было известно, что весной немцам удалось серьезно повредить порт, имевший для западного пути большое значение.
— Представьте же себе, куда докатилась война, — продолжал Р., —если не так давно у Новой Земли немецкая подводная лодка обстреляла наши самолеты. Но и этого мало. Сегодня я лечу в Москву на самолете, который прислал за мной военный совет Северного флота. Летчик, майор Карякин, рассказал мне, что он две недели охотился за немецким рейдером, — где, как бы вы думали? В районе…
И он назвал этот очень отдаленный район.
— Короче говоря, война уже идет в таких местах, где прежде кочевали одни гидрографы да белые медведи. Так что пришлось вспомнить и обо мне, — сказал Р. и засмеялся. — И не только вспомнили, но и… — у него стало доброе, веселое лицо, — но и поручили одно интереснейшее и важнейшее дело. Конечно, я ничего не могу рассказать вам о нем, потому что это именно и есть военная тайна. Скажу только, что, прежде всего, я подумал о вас. Это, конечно, чудо, что вы позвонили. Александр Иваныч, — серьезно и даже торжественно сказал он, — я предлагаю вам лететь со мною на Север.
Глава 16. РЕШЕНИЕ.
Он уехал, и я остался один в пустой летней, как будто ничьей квартире. Все три просторные комнаты были к моим услугам, и я мог бродить и думать, думать сколько угодно. В пятнадцать часов Р. собирался вернуться, и я должен был сказать ему одно короткое слово:
— Да.
Или другое, немного длиннее:
— Нет.
И такая далекая, трудная дорога раскинулась между этими двумя словами, что я шел и шел по ней, отдыхал и снова шел, а все не видать было ни конца, ни края!
Немцы обстреливали район. Первая пристрелочная шрапнель разорвалась уже давно, а дымовое облачко, медленно рассеиваясь, все еще висело над Литейным мостом. Разрывы, прежде далекие, вдруг стали приближаться — справа налево, грубо шагая между кварталами прямо к этому дому, к этим пустынным комнатам, по которым я бродил между «да» и «нет», находившимися так бесконечно далеко друг от друга.
…Должно быть, это была детская. Грустно повесив голову, черный одноглазый Мишка сидел на шкафу, роллер валялся в углу, на низеньком круглом столе стояли какие—то коллекции, игры, — и мне представился маленький Р., такой же энергичный, сдержанно пылкий, со смешным казацким чубом, с круглым лицом. В этой комнате я отдыхал от «да» или «нет». Здесь можно было подумать даже о доме, который мы с Катей собирались некогда устроить в Ленинграде. А где дом, там и дети.
Все ближе подступали разрывы снарядов. Вот один ударил совсем рядом, двери распахнулись, где—то с веселым звоном посыпались стекла. В наступившей тишине чьи—то гулкие шаги послышались на улице, и, выглянув в окно, я увидел двух мальчиков с ужасными, как мне показалось, лицами, бежавших к дому. Вот они поравнялись, первый хлопнул второго по спине и с хохотом повернул обратно. Они играли в пятнашки.
…Р. вернется в пятнадцать часов, и я скажу ему:
— Да.
Как не бывало полугода томительного безделья — томительного и постыдного для каждого советского человека во время войны! Я поеду на Север. Чем дальше он был от меня в эти годы, тем ближе и привлекательнее становился он для меня. Разве не дрался я, как умел, на Западе и на Юге? Но там, на Севере, нужно мне быть, защищая края, которые я понимал и любил.
И вдруг я останавливался и говорил себе:
— Катя.
Уехать и оставить ее? Уехать далеко, надолго? Не попробовать разыскать Петю, у которого — кто знает? — быть может, просто переменился номер полевой почты? Не предпринять других поисков здесь, в Ленинграде, и на Ленинградском фронте? Куда бы ни была эвакуирована Катя, при любых обстоятельствах она стремилась бы соединиться с Ниной Капитоновной и маленьким Петей. Потерять этот след, слабый, едва заметный, но, возможно, ведущий туда, где она живет, мучаясь, потому что проклятая заметка не могла не дойти до нее?
Решено! Я останусь в Ленинграде еще на несколько дней. Я найду Катю и тогда поеду на Север.
Р. вернулся в пятнадцать часов. Я сообщил ему свое решение. Он выслушал меня и сказал, что на моем месте поступил бы так же.
— Но нужно, чтобы в Москву мы приехали вместе. Я оформлю вас в управлении, а потом Слепушкин отпустит вас на две недели для устройства семейных дел. Шутка сказать — жена! Да еще такая жена! Я же помню Екатерину Ивановну. Она умница, добрая и вообще редкая прелесть!
Не буду рассказывать о том, как на другой день я вернулся на Петроградскую и снова обошел многих жильцов дома N79; о том, как в Академии художеств я пытался узнать, где Петя, и узнал лишь, что он был ранен и лежал в сортировочном госпитале на Васильевском. Скульптор Косточкин навещал его. Но этот скульптор умер от голода, а Петя (по слухам) вернулся на фронт. О том, как я выяснил, почему не доходили мои письма в детский лагерь Худфонда, который был вновь эвакуирован под Новосибирск; о том, как доктор Ованесян ходил со мною в райсовет и накричал на какого—то равнодушного толстяка, который отказался навести справку о Кате.
Эшелоны в январе шли на Ярославль, где были устроены специальные больницы для ленинградцев. Это был единственный бесспорный факт, который мне удалось установить, и, по мнению всех ленинградцев, с которыми я говорил, Катю нужно было искать в Ярославле.
Два обстоятельства убедили меня в том, что это именно так. Во—первых, лагерь Худфонда до второй эвакуации находился в Ярославской области, в деревне Гнилой Яр. Во—вторых, Лукерья Ильинична — так звали машинистку стоматологической клиники — вдруг объявила мне, что она вспомнила: доктор Трофимова отправила Катю именно в Ярославль.
— Господи боже ты мой! — сказала она с досадой. — Да мыслимо ли в таком деле соврать? Я забыла, потому что у меня память стала слаба, и это от сахару, который я совершенно не ем. Но хотя не ем, а вспомнила! И я вам говорю — найдется она в Ярославле.
Самолет Р. уходил в полночь. Я созвонился и приехал за десять минут до старта.
Глава 17. ДРУЗЬЯ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО ДОМА.
Если проложить на карте Москвы путь, который я прошел в течение немногих часов между самолетом и поездом, можно подумать, что я нарочно сделал решительно все, чтобы не встретиться с теми, кого я давно и страстно хотел увидеть. Я сказал «страстно», и это было именно так, хотя одних людей я хотел увидеть по одним причинам, а других по совершенно другим. И те и другие были в Москве. Быть может, если снова взглянуть на карту, их путь прошел в этот день рядом с моим. Или пересек его двумя минутами позже. Или прошел навстречу по соседней улице, за узкой линией зданий. Так или иначе, мне не повезло, и, за одним исключением, я не встретил ни тех, ни других.
Прямо с аэродрома я поехал на Садовую, в Воротниковский переулок, к Кораблеву, — благо весь мой багаж составлял маленький чемоданчик.
…Покосился старый деревянный флигель, затерянный среди высоких, надстроенных домов, похожий на дачу со своими ставнями и верандой. Уже не один Иван Павлыч, как прежде, занимал половину нижнего этажа, и хотя с первого взгляда непривычно пустой показалась мне Москва, однако в этом маленьком доме почти из каждого окна торчала голова. Женщины вязали на крыльце, и едва я появился, как, по меньшей мере, два десятка глаз встретили меня с любопытством, точно это было в Энске, на нашем дворе.
— Вам кого?
— Кораблева.
— А, Ивана Павлыча? По коридору вторая дверь налево.
— Это мне известно, — поднимаясь на крыльцо, сказал я. — А он дома?
— Постучитесь, кажется дома.
В последний раз я видел Ивана Павлыча перед войной. Не предупредив старика, мы с Катей вдруг явились к нему с тортом и французским вином. Он долго брился и разговаривал с нами из соседней комнаты, а мы рассматривали старые школьные фотографии.
Наконец Иван Павлыч вышел — в новой паре, в твердом воротничке, с закрученными по—молодому усами. И теперь в темном коридоре я видел его именно таким, как в тот прекрасный памятный вечер. Сейчас он выйдет и с первого взгляда узнает меня:
«Ты ли это, Саня?»
Но два и три раза постучал я в знакомую, обитую войлоком дверь. Тишина. Ивана Павлыча не было дома.
«Дорогой Иван Павлыч! — Я писал ему, отойдя в сторону, потому что женщины смотрели на меня, а мне не хотелось, чтобы они заметили, что я волнуюсь. — Не знаю, удастся ли мне снова зайти к вам. Сегодня я еду в Ярославль, куда еще в январе месяце была эвакуирована Катя. Возможно, что оттуда поеду и дальше — до тех пор, пока не найду ее. Не могу в этой записке объяснить, что произошло со мною и как мы потеряли друг друга. Если бы оказалось, что вы слышали о ней или Валя (которого, впрочем, надеюсь сегодня увидеть), прошу вас, напишите немедленно по адресу: Полярное, политуправление, контр—адмиралу Р., для меня. Дорогой Иван Павлыч, может быть, известие о моей смерти донеслось и до вас, но это пишу вам именно я, ваш Саня».
Десять рук протянулось одновременно, чтобы взять у меня это письмо…
На метро, которое стало, кажется, еще красивее и солиднее, чем прежде, я проехал до Дворца Советов. Как будто война уже давным—давно кончилась, с таким видом сидели на Гоголевском бульваре старики, опираясь на свои стариковские толстые палки. Дети играли — и в эту минуту, занятый своими заботами и волнениями, я впервые почувствовал, что ведь это — Москва, Москва!
Медная дощечка висела на Валиной двери: «Профессор Валентин Николаевич Жуков». Ого! Профессор! Я позвонил, постучал, потом двинул в дверь ногою…
Ничего удивительного не было в том, что летом 1942 года, когда почти все москвичи жили на работе, да еще днем, в служебное время, я не застал профессора Жукова дома. Но то, что Валька, мой Валька, шлялся где—то, в то время как он был мне дьявольски нужен, возмутило меня. Я снова ударил в дверь ногою, и, как живая, она вдруг подалась. Что—то жалобно скрипнуло в ней. Я дернул за ручку, и она отворилась.
Конечно, квартира была пуста, и слабая надежда, что Валька, может быть, спит, пропала в это мгновение. Я прошел в «кухню вообще», которая некогда была одновременно и столовой и детской. Как ни странно, но была прибрана «кухня вообще»! Стол покрыт скатертью, белая, вырезанная узорами бумага висела на полках. Можно было подумать, что женская рука прошлась по этим чисто обметенным стенам, по окнам, на которых стояли свежие ландыши и ночная фиалка. Валька, покупающий цветы, — нужно быть великим художником, чтобы вообразить такую картину.
Я прошел в «собственно кухню». Узкая железная кровать стояла у стены, в ногах было аккуратно сложено женское платье. У Кати было когда—то такое же синее в белую горошинку платье. Что же за женщина жила в «соломенной» Валиной квартире? Кира с детьми уехала в начале войны, я знал об этом еще из первых Катиных писем. «Кто же успел окрутить тебя, милый мой?» И мне вспомнилось Катино письмо, в котором она подсмеивалась над Кирой, приревновавшей своего мужа, погруженного в изучение гибридов чернобурых лисиц, к какой—то «Женьке Колпакчи с разными глазами». Не потеряла времени Женька Колпакчи, даром что с разными глазами!
Так или иначе, но я не застал и Вали.
«Дорогой мой, милый Валечка, — написал я ему, — по дороге в Ярославль, где надеюсь найти Катю или хоть разузнать о ней, заехал к тебе и, к глубокому сожалению, не нашел тебя дома. Уже минуло полгода, как у меня нет никаких известий о Кате. Она переписывалась с Кирой, когда была в Ленинграде, — может быть, Кира или ты что—либо знаете о ней? Я был ранен, лежал в М—ове, писал тебе, но не получил ответа. Многое было пережито, но насколько было бы легче, если бы мы с Катей не то что встретились, но хоть узнали друг о друге, что живы! Пиши мне на Северный флот, Полярное, политуправление, контр—адмиралу Р., для меня. Это лишь вероятный адрес, но другого у меня пока нет. Будь здоров, дорогой друг. Дверь открылась сама. Теперь тебе придется ломать ее, — это все—таки лучше, чем оставить квартиру открытой. Может быть, мне удастся перед отъездом еще раз зайти к тебе».
Я положил эту записку на стол в «кухне вообще». Потом пристроил крючок, чтобы он сам упал на петлю, сильно захлопнул дверь, и она превосходно закрылась.
Еще одно важное дело было у меня в этом районе. Недалеко от Вали жил человек, которого я непременно хотел навестить, не особенно заботясь о том, обрадуется ли гостю хозяин.
Давно собирался я навестить его!
В госпитале бессонными ночами, задыхаясь в бреду, я думал об этом свиданье. Он был мне так нужен, что, кажется, не стоило и умирать, прежде чем я не увижу его!
Не раз я рисовал себе эту встречу. То хотелось мне явиться перед ним в легкую минуту его жизни, где—нибудь в театре, когда самая мысль обо мне будет бесконечно далека от него. То где—то в гостинице я запирал дверь на ключ и смотрел на него улыбаясь. Случалось, что в предрассветном сумраке я видел его на соседней койке: поджав под себя ноги, сидел он, и странно равнодушен был взгляд плоских, полу прикрытых глаз.
Глава 18. СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ. КАТИН ПОРТРЕТ.
Однажды, проходя со мною по Собачьей Площадке, Катя сказала:
— Здесь живет Ромашов.
И указала на серовато—зеленый дом, кажется ничем не отличавшийся от своих соседей по правую и по левую руку. Но и тогда и теперь что—то неопределенно подлое померещилось мне в этих облупленных стенах.
Под воротами не висел, как до войны, список жильцов, и мне пришлось зайти в домоуправление, чтобы узнать номер квартиры.
И вот что произошло в домоуправлении: паспортистка, сердитая старомодная дама в пенсне, вздрогнула и сделала большие глаза, когда я спросил ее о Ромашове. В маленькой дощатой комнатке стояли и сидели люди в передниках, очевидно дворники, и между ними тоже как бы прошло движение.
— А вы бы ему позвонили, — посоветовала паспортистка. — У него как раз вчера телефон включили.
— Да нет, лучше я так, без звонка, — возразил я улыбаясь. — Это будет сюрприз. Дело в том, что я его старый друг, которого он считает погибшим.
Кажется, ничего особенного не было в этом разговоре, но паспортистка неестественно улыбнулась, а из соседней, тоже дощатой комнаты вышел очень спокойный молодой, с медленными движениями человек в хорошенькой кепке и внимательно посмотрел на меня.
Нужно было вернуться на улицу, чтобы зайти в подъезд, и у подъезда я немного помедлил. Оружия не было, и, может быть, стоило сказать несколько слов милиционеру, стоявшему на углу. Но я передумал: «Никуда не уйдет».
Ни одной минуты не сомневался я, что он в Москве, вероятно не в армии, а если в армии, все равно живет на своей квартире. Или на даче. По утрам он ходит в пижаме. Как живого, увидел я перед собой Ромашку в пижаме, после ванны, с торчащими желтыми космами мокрых волос. Это было видение, от которого лиловые круги пошли перед моими глазами. Нужно было успокоиться, то есть подумать о другом, и я вспомнил о том, что в семнадцать часов Р. будет ждать меня в Гидрографическом управлении.
— Кто там?
— Можно товарища Ромашова?
— Зайдите через час.
— Может быть, вы позволите мне подождать Михаила Васильевича? — сказал я очень вежливо. — Второй раз, к сожалению, не смогу зайти. Боюсь, он будет огорчен, если наша встреча не состоится.
Цепочка звякнула. Но ее не сняли, напротив — надели, чтобы, приоткрыв дверь, посмотреть на меня. Снова звякнула — вот теперь сняли. Но еще какие—то запоры двигались, железо скрежетало, звенели ключи. Старый человек в широких штанах на подтяжках, в расстегнутой нижней рубахе впустил меня в переднюю и, сгорбившись, недоверчиво уставился на меня. Что—то аристократически надменное и вместе с тем жалкое виднелось в этом сухом, горбоносом лице. Желто—седой хохол торчал над лысым лбом. Длинные складки кожи свисали над кадыком, как сталактиты.
— Фон Вышимирский? — спросил я с недоумением. Он вздрогнул. — То есть не «фон», но все равно, Вышимирский. Николай Иваныч, не правда ли?
— Что?
— Вы не помните меня, уважаемый Николай Иваныч? — продолжал я весело.
— Я же был у вас.
Он засопел.
— У меня было много, тысячи, — хмуро сказал он. — За стол садилось до сорока человек.
— Вы работали в Московском драматическом театре и еще носили такую куртку с блестящими пуговицами. Мой приятель Гриша Фабер играл рыжего доктора, и Иван Павлыч Кораблев познакомил нас в его уборной.
Почему мне стало так весело? Как хозяин, стоял я в квартире Ромашова. Через час он придет. Я немного подышал полуоткрытым ртом. Что я сделаю с ним?
— Не знаю, не знаю! Как фамилия?
— Капитан Григорьев, к вашим услугам. Вы что же, теперь живете здесь? У Ромашова?
Вышимирский подозрительно посмотрел на меня.
— Я живу там, где прописан, — сказал он, — а не тут. И управдом знает, что я живу там, а не тут.
— Ясно.
Я вынул портсигар, весело хлопнул по крышке и предложил ему папиросу. Он взял. Двери в соседнюю комнату были открыты, и все там было чистое, светло—серое и темно—серое — стены и мебель: диван, перед ним круглый стол. И даже чей—то большой портрет над диваном был в гладкой светло—серой раме. «Все в тон», — тоже очень весело подумалось мне.
— Какой Иван Павлыч? Учитель? — вдруг спросил Вышимирский.
— Учитель.
— Ну да, Кораблев. Это был отличный человек, превосходный. Валечка учился у него. Нюта нет, она кончила женскую гимназию Бржозовской. А Валечка учился. Как же! Он помогал, помогал… — И на старом усатом лице мелькнуло бог весть какое, но доброе чувство.
Притворно спохватившись, старик пригласил меня в комнаты — мы еще стояли в передней — и даже спросил, не с дороги ли я.
— Если с дороги, — сказал он, — то в военной столовой по командировке можно за гроши получить вполне приличный обед с хлебом.
Он еще трещал что—то, я не слышал его. Пораженный, остановился я на пороге. Это был Катин портрет — над диваном в светло—серой раме, — великолепный портрет, который я видел впервые. Она была снята во весь рост, в беличьей шубке, которая так шла к ней и которую она шила перед самой войной. И еще хлопотала, чтобы попасть к какой—то знаменитой портнихе Манэ, и еще сердилась на меня за то, что я не понимал, что шапочка должна быть тоже меховая и такая же муфта. Что же это значит, боже мой?
По меньшей мере, десять мыслей, толкая друг друга, встали передо мной, и в том числе одна, настолько нелепая, что теперь мне даже стыдно вспомнить о ней. О чем только не подумал я, кроме правды, которая оказалась еще нелепее, чем эта нелепая мысль!
— Признаться, я никак не ожидал встретить вас здесь, Николай Иваныч, — сказал я, когда старик сообщил, что после театра он поступил в психиатрическую, тоже в гардероб, и его уволили, потому что «сумасшедшие незаконно объявили завхозу, что он крадет суп и кушает его по ночам». — Что же, вы работаете у Ромашова? Или просто поддерживаете знакомство?
— Да, поддерживаю. Он предложил мне помочь в делах, и я согласился. Я служил секретарем у митрополита Исидора, и не скрываю этого, а напротив, пишу в анкетах. Это была огромная работа, огромный труд. Одних писем в день мы получали полторы тысячи. Здесь тоже. Но здесь я работаю из любезности. Я получаю рабочую карточку, потому что Михаил Васильевич устроил меня в свое учреждение. И в учреждении известно, что я работаю здесь.
— А разве Михаил Васильевич теперь не в армии? Когда мы расстались, он носил военную форму.
— Да, не в армии. Как особо нужный, не знаю. У него броня до окончания войны.
— Что же это за письма, которые вы получаете?
— Это дела, очень важные, — сказал Вышимирский, — крайне важные, поскольку мы имеем задания. В настоящее время нам поручено найти одну женщину, одну даму. Но я подозреваю, что это не задание, а личное дело. Любовь, так сказать.
— Что же это за женщина?
— Дочь исторического лица, которое я прекрасно знал, — с гордостью сказал Вышимирский. — Может быть, вы слышали, — некто Татаринов? Мы разыскиваем его дочь. И давно бы нашли, давно. Но страшная путаница. Она замужем, и у нее двойная фамилия.
Глава 19. «ТЫ МЕНЯ НЕ УБЬЕШЬ».
Как будто жизнь остановилась с разбегу и, не рассчитав инерции движения, я крепко стукнулся лбом о воображаемую стену, с таким чувством смотрел я на старого, в общем нормального человека, стоявшего передо мной в светлой, тоже нормальной комнате и сообщившего, что Ромашов разыскивает Катю, то есть делает то же, что я.
Но наш разговор продолжался, как если бы ничего не случилось. От Кати Вышимирский перешел к какому—то члену месткома, который не имел права называть его «бывшим», потому что у него «пятьдесят лет трудового стажа», а потом пустился в воспоминания и рассказал, что когда в 1908 году он выходил из театра, капельдинер кричал: «Карета Вышимирского!», и подкатывала карета. Он ходил в цилиндре и плаще, теперь таких вещей не носят, и «очень жаль, потому что это было красиво».
— Когда он умер? — спросил он вдруг, сильно потянув вниз свои сталактиты.
— Кто?
— Кораблев.
— Почему же умер? Он жив и здоров, Николай Иваныч, — сказал я шутливо, в то время как все дрожало во мне и я думал: «Сейчас все узнаешь, но будь осторожен». — Так вы говорите, это личное дело, да? Насчет дамы?
— Да, личное. Но очень серьезное, очень. Капитан Татаринов — историческое лицо. Михаил Васильевич был в Ленинграде. Он находился в осаде и так голодал, что ел обойный клей. Отрывал старые обои, варил и ел. Потом он уехал в командировку за мясом, и, когда вернулся, — уже никого. Увезли.
— Куда?
— Вот это и есть вопрос, — торжественно сказал Вышимирский. — Вы знаете, что происходило с этой эвакуацией? Иди ищи! И главное, если бы ее увезли в эшелоне. Тогда только выяснить — чей? Например, Хладкомбината. Куда он уехал? В Сибирь? Значит, она в Сибири. Но ее отправили самолетом.
— Как самолетом?
— Да, именно. Очевидно, как привилегированную. И вот — пропала. Ищи. Только известно, что самолет пролетел через Хвойную, то есть именно через ту станцию, на которой Михаил Васильевич брал мясо.
Должно быть, я инстинктивно чувствовал, когда нужно помолчать, а когда произнести два или три слова. Все было в порядке. Какой—то военный, должно быть недавно из госпиталя, худой и черный, зашел к приятелю, с которым расстался на фронте, и вот расспрашивает, что он поделывает и как живет. «Сейчас все узнаешь, но будь осторожен».
— Ну и как же? Нашли?
— Нет еще. Но найдем, — сказал Вышимирский, — по моему проекту. Я написал в Бугуруслан, в Центральное бюро справок, но это ерунда, потому что нам прислали десять Татариновых и сто Григорьевых, а мы не знаем, на какую фамилию напирать в качестве первой. Тогда я лично обратился во все губернские города к председателям исполкомов. Это был большой труд, большое задание. Но капитан Татаринов был мой друг, и для его дочери я три месяца писал стандартный запрос — прошу вашего распоряжения, эвакопункт, историческое лицо, ждем ответа. И получили.
Резкий звонок раздался. Вышимирский сказал:
— Это он.
И у него стало испуганное лицо, острый седой хохол затрясся на голове, усы повисли. Он вышел в переднюю, а я, помедлив, встал у стены, подле двери, чтобы Ромашов, войдя, не сразу заметил меня.
Он мог выскочить на площадку, потому что Вышимирский в передней сказал ему:
— Вас ждут.
Он быстро спросил:
— Кто?
И старик ответил:
— Какой—то Григорьев.
Но он не выскочил, хотя вполне мог успеть — я не торопился. Он стоял в темном углу между платяным шкафом и стеною и вскрикнул, увидев меня, а потом по—детски поднял и прижал к лицу кулаки. В наружной двери торчал ключ, я повернул его, вынул и положил в карман. Вышимирский стоял где—то между нами, я наткнулся на него и переставил, как куклу. Потом зачем—то толкнул, и он механически упал в кресло.
— Ну, пойдем поговорим, — сказал я Ромашову.
Он молчал. В руках у него была кепка, он сунул ее в рот и прикусил, зажав зубами. Я снова сказал:
— Ну!
И он бешено тряхнул головой.
— Не пойдешь?
Он крикнул:
— Нет!
Но это была последняя минута отчаяния, охватившего его, когда он увидел меня. Я рванул его за руку, он выпрямился, и, когда мы вошли в комнату, только один глаз немного косил, а лицо стало уже совершенно другим, ровным, с неподвижным выражением.
— Жив, как видишь, — сказал я негромко.
— Да, вижу!
Теперь я мог рассмотреть его. Он был в легком сером костюме, на лацкане желтая ленточка — знак тяжелого ранения, в то время как он был контужен очень легко, под ленточкой — пуговица, светящаяся в темноте. Он пополнел, и если бы не торчащие красные уши, которые, кажется, не хуже этой пуговицы могли светить в темноте, никогда еще он не выглядел таким представительным господином.
— Пистолет.
Я думал, что он начнет врать, что сдал пистолет, когда демобилизовался. Но пистолет был именной, я получил его от командира полка за бомбежку моста через Нарову. Сдавая пистолет, Ромашов выдал бы себя. Вот почему он молча выдвинул ящик письменного стола и достал пистолет. Пистолет был не заряжен.
— Документы.
Он молчал.
— Ну!
— Размокли, пропали, — поспешно сказал он. В Ленинграде бомбоубежище затопило водой. Я был без сознания. Только фото Ч. сохранилось, я передал его Кате. Я спас ее.
— В самом деле?
— Да, я спас ее. Поэтому я не боюсь. Все равно ты меня не убьешь.
— Посмотрим. Рассказывай все, скотина, — сказал я, взяв его за ворот и сразу отпустив, потому что у него мягко подалось горло.
— Я отдал ей все, когда она умирала. Ах, ты мне не веришь! — с отчаяньем закричал он, как—то подлезая под меня сбоку, чтобы заглянуть в глаза. — Но ты поверишь мне, потому что я расскажу тебе все. Ты ничего не знаешь. Я не люблю тебя.
— Неужели?
— Но за что мне любить тебя? Ты отнял у меня все, что было хорошего в жизни. Я могу многое, очень многое, — сказал он надменно. — Мне всегда везло, потому что кругом дураки. Я бы сделал карьеру. Но я плевал на карьеру!
«Плевал на карьеру» — это было сказано слишком сильно. Насколько мне было известно, Ромашов не только не плевал, а напротив, стремился сделать карьеру, разбогатеть и т.д. И это вполне удалось ему, в особенности, если вспомнить, что он всегда, еще в школе, был ужасным тупицей.
— Так слушай же, — сказал Ромашов, побледнев еще более, хотя это было, кажется, уже невозможно. — Ты поверишь мне, потому что я скажу тебе все. Экспедиция по розыскам капитана Татаринова — я провалил ее! Сперва я помогал Кате, потому что был уверен, что ты поедешь один. Но она решила ехать с тобой, и тогда я провалил экспедицию. Я написал заявление, очень рискованное, — я бы сам полетел вверх тормашками, если бы мне не удалось его подтвердить. Но мне удалось.
Стопочка бумаги лежала в сером кожаном бюваре с золотыми буквами «М.Р.». Я потянул один лист, и Ромашов замер, вытаращив глаза и глядя куда—то поверх моей головы. Казалось, он стремился заглянуть вперед, в свое будущее, чтобы узнать, угадать, чем грозит ему это простое движение, которым я потянул из бювара лист бумаги и положил его перед собой.
— Да, запиши, — сказал он, — этот человек, который остановил экспедицию, был впоследствии сослан и умер. Но все равно, запиши, если для тебя все это еще имеет значение.
— Ни малейшего, — ответил я хладнокровно.
— Я написал, что ты маньяк со своей идеей найти капитана Татаринова, который где—то пропал двадцать лет назад, что ты всегда был маньяк, я знаю тебя со школы. Но что за всем этим стоит другое, совершенно другое. Ты женат на дочери капитана Татаринова, и этот шум вокруг его имени необходим тебе для карьеры. Я писал не один.
— Еще бы!
— Ты помнишь статью «В защиту ученого»? Николай Антоныч напечатал ее, мы сослались на нее в заявлении.
— То есть в доносе?
Я уже записывал, и как можно быстрее.
— Да, в доносе. И мы подтвердили, подтвердили все! Одну бумажку я подсунул Нине Капитоновне, она подписала, и как трудно было устроить, чтобы ее не вызывали потом, боже мой, как трудно! Ты даже не знаешь, как все это повредило тебе! И в ГВФ, и потом, когда ты был уже в армии, наверно, наверно!
Как передать чувство, с которым выслушал я это признание? Я не знал, зачем говорит он правду, — впрочем, очень скоро стал ясен этот несложный расчет. Но как бы обратным светом озарилось все, о чем волей—неволей думалось мне, где бы я ни был и что бы ни случалось со мною.
Глава 20. ТЕНЬ.
— Это началось давно, еще в школе, — продолжал Ромашов. — Я должен был просиживать ночи, чтобы ответить урок так же свободно, как ты. Мне хотелось не думать о деньгах, потому что я видел, что деньги нисколько не занимают тебя. Я мечтал стать таким, как ты, стать тобою, и мучился, потому что всегда и во всем ты был выше и сильнее, чем я.
Трясущимися пальцами он вынул из стеклянной коробочки, стоявшей на столе, папиросу и стал искать огонь. Я чиркнул зажигалкой. Он прикурил, затянулся и бросил.
— Случалось, что я встречал тебя на улицах, — прячась в подъездах, я шел за тобою, как тень. Я сидел в театре за твоею спиной, и кажемся, боже мой, чем же отличался я от тебя? Но я знал, что вижу другое на сцене, потому что на все смотрел другими глазами, чем ты. Да, не только Катя была нашим спором. Все, что я чувствовал, всегда и везде боролось с тем, что чувствовал ты. Вот почему я знаю все о тебе: ты работал в сельскохозяйственной авиации на Волге, потом на Дальнем Востоке. Ты снова стал проситься на Север — тебе отказали. Тогда ты поехал в Испанию — господи, это было так, как будто все, над чем я трудился долгие годы, неожиданно совершилось само. Но ты вернулся, — с отвращением закричал Ромашов, — и с тех пор все пошло хорошо у тебя. Ты поехал с Катей в Энск, — видишь, я знаю все и даже то, что ты давно забыл. Ты мог забыть, потому что был счастлив, а я — нет, потому что несчастен.
Он судорожно вздохнул и закрыл глаза. Потом открыл, и что—то очень трезвое, острое, бесконечно далекое от этих страстных признаний мелькнуло в его быстром взгляде. Я молча слушал его.
— Да, я хотел разлучить вас, потому что эта любовь всю жизнь была твоим удивительным счастьем. Я умирал от зависти, думая, что ты любишь просто потому, что любишь, а я — еще и потому, что хочу отнять ее у тебя. Быть может, это смешно, что с тобой я говорю о любви! Но кончился спор, я проиграл, и что теперь для меня это унижение в сравнении с тем, что ты жив и здоров и что судьба снова обманула меня!
Телефонный звонок послышался в передней. Вышимирский сказал:
— Да, пришел. Откуда говорят?
Но почему—то не позвал Ромашова.
— И вот началась война. Я сам пошел. У меня была броня, но я отказался. Убьют — и прекрасно! Но втайне я надеялся — ты погибнешь, ты! Под Винницей я лежал в сарае, когда один летчик вошел и остановился в дверях, читая газету, «Вот это ребята! — сказал он. Жаль, что сгорели». — «Кто?» — «Капитан Григорьев с экипажем». Я прочел заметку тысячу раз, я выучил ее наизусть. Через несколько дней я встретил тебя в эшелоне.
Это было очень странно — то, что он как бы искал у меня же сочувствия в том, что, вопреки его надеждам, я оказался жив. Но он был так увлечен, что не замечал нелепости своего положения.
— Ты знаешь, что было потом. Бред, о котором мне совестно вспомнить! Еще в поезде меня поразило, что ты как бы не думал о Кате. Я видел, что эта грязь и бестолочь терзают тебя, но все это было твоим, ты отдал бы жизнь, чтобы не было этого отступления. А для меня это значило лишь, что ты снова оказался выше и сильнее меня.
Он замолчал. Как будто и не было никогда на свете осиновой рощи, кучи мокрых листьев и поленницы, которая помешала мне размахнуться, как будто я не лежал, опершись руками о землю и стараясь не крикнуть ему: «Вернись, Ромашов!» — так он сидел передо мною, представительный господин в легком сером костюме. У меня даже руки заныли — так захотелось ударить его пистолетом.
— Да, это глубокая мысль, — сказал я, — кстати, подпиши, пожалуйста, эту бумагу.
Пока он каялся, я писал «показание», то есть краткую историю провала поисковой партии. Это было мукой для меня, я не умею писать канцелярских бумаг. Но «показание М.В.Ромашова», кажется, удалось, может быть потому, что я так и писал: «Подло обманув руководство Главсевморпути» и так далее…
Ромашов быстро прочитал бумагу.
— Хорошо, — пробормотал он, — но прежде я должен объяснить тебе…
— Ты сперва подпиши, а потом объяснишь.
— Но ты не знаешь…
— Подписывай, подлец! — сказал, я таким голосом, что он отодвинулся с ужасом и как—то медленно, словно нехотя, застучал зубами.
— Пожалуйста.
Он подписал и злобно бросил перо.
— Ты должен благодарить меня, а ты хочешь сыграть на моей откровенности. Ладно!
— Да, хочу сыграть.
Он посмотрел на меня и, должно быть, вот когда от всей души пожалел, что не прикончил меня в осиновой роще!
— Я вернулся в Москву, — продолжал он, — и сразу же стал хлопотать, чтобы меня перевели в Ленинград. Я ехал через Ладожское, немцы топили суда, но я добрался — и вовремя. Слава богу, слава богу, — добавил он торопливо, — еще день, много два, и мне досталось бы лишь похоронить ее.
Возможно, что это была правда. Еще, когда Вышимирский сказал, что Ромашов был в Ленинграде, я вспомнил рыжего майора, о котором рассказывали дворничиха и дети. «Она рыжего отрыла, у него хлеб был. Большой мешок, сам нес, мне не давал». Но другое волновало меня. Ромашов мог уверить Катю, что я погиб — разумеется, в бою, а не в осиновой роще.
— И вот Ленинград. Ты не представляешь, что это было. Я получал триста грамм и половину приносил Кате. В конце декабря мне удалось достать немного глюкозы, я искусал себе пальцы, пока нес ее Кате. Я свалился подле ее постели, она сказала: «Миша!» Но у меня не было силы подняться. Я спас ее, — мрачно повторил он, как будто страшная мысль, что я могу не поверить, снова поразила его, — и если сам не погиб, то лишь потому, что твердо знал, что нужен ей и тебе.
— И мне?
— Да, и тебе. Сковородников написал ей, что ты убит, она была полумертвая от горя, когда я приехал. И ты бы видел, что с нею сталось, когда я сказал, что видел тебя! Я понял в эту минуту, что жалок, — полным голосом сказал Ромашов, так громко, что в передней послышался даже какой—то стук, точно Вышимирский свалился со стула, — жалок перед этой любовью. И горько, мучительно раскаялся я в эту минуту, что хотел убить тебя. Это был ложный шаг. Твоя смерть не принесла бы мне счастья.
— Все?
— Да, все. В январе меня командировали в Хвойную, я отлучился на две недели, привез мясо, но квартира была уже пуста. Варя Трофимова, наверно ты знаешь ее, отправила Катю самолетом.
— Куда?
— В Вологду, я выяснил точно. А потом в Ярославль.
— Кого ты запросил в Ярославле?
— Эвакопункт, у меня знакомый начальник.
— И получил ответ?
— Да. Но там только написано, что она прошла через эвакопункт и отправлена в больницу для ленинградцев.
— Покажи—ка.
Он нашел в столе и подал письмо. «Станция Всполье, — прочитал я. — В ответ на ваш запрос…»
— А почему Всполье?
— Там эвакопункт, это в двух километрах от Ярославля.
— Теперь все?
— Все.
— Так слушай же меня, — стараясь не волноваться, сказал я Ромашову. — Я не могу прощать или не прощать тебя, что бы ты ни сделал для Кати. Это уже не наш личный спор, после того, что ты сделал со мной. Не со мной спорил ты, когда хотел добить меня, тяжело раненного, обокрал и бросил в лесу одного. Это — воинское преступление. Ты его совершил, и тебя, прежде всего, будут судить как подлеца, который нарушил присягу.
Я взглянул ему прямо в глаза — и поразился. Он не слушал меня. Кто—то поднимался по лестнице, двое или трое, стук шагов гулко отдавался в лестничной клетке. Ромашов беспокойно оглянулся, привстал. Постучали, потом позвонили.
— Открыть? — спросил за стеной Вышимирский.
— Нет! — крикнул Ромашов. — Спросите, кто, — как бы опомнясь, добавил он негромко и прошелся по комнате легким, почти танцующим шагом.
— Кто там?
— Откройте, из домоуправления.
Ромашов вздохнул сквозь сжатые зубы.
— Скажите, что меня нет дома.
— Я не знал. Тут звонили, и я сообщил, что вы дома.
— Конечно, дома, — сказал я громко.
Ромашов бросился на меня, схватил за руки. Я оттолкнул его. Он завизжал, потом пошел за мною в переднюю и встал, как прежде, между стеною и шкафом.
— Одну минуту, — сказал я, — сейчас открою.
Вошли двое — пожилой мужчина, очевидно управдом, судя по угрюмому, хозяйскому выражению лица, и тот молодой, с медленными движениями, в хорошенькой кепке, которого я видел в домоуправлении. Сперва молодой посмотрел на меня, потом, не торопясь, — на Ромашова.
— Гражданин Ромашов?
— Да.
Вышимирский лязгнул зубами так громко, что все обернулись.
— Оружие?
— Не имеется, — отвечал Ромашов почти хладнокровно. Только какая—то жилка билась на его неподвижном лице.
— Ну что же, соберите вещи. Немного: смену белья. Управдом, пройдите с арестованным. Товарищ капитан, прошу вас предъявить документы…
— Николай Иванович, это чушь, ерунда! — громко сказал Ромашов откуда—то из второй комнаты, где он собирал в заплечный мешок свои вещи. — Я вернусь через несколько дней. Все та же глупая история с требухой. Помните, я рассказывал вам — требуха из Хвойной.
Вышимирский снова лязгнул. По всему было видно, что он никогда не слыхал ни о какой требухе.
— Саня, я надеюсь, что ты найдешь ее в Ярославле, — еще громче сказал Ромашов, — передай ей…
Я видел из передней, как он уронил мешок и немного постоял с закрытыми глазами.
— Ладно, ничего, — пробормотал он.
— Виноват, не найдется ли у вас стакана воды? сказал Вышимирскому человек в хорошенькой кепке.
Вышимирский подал. Теперь все стояли в передней — Ромашов с мешком за спиной, управдом, который так и не сказал ни слова, растерянный Вышимирский с пустым стаканом в руке. Минуту все молчали. Потом агент толкнул дверь.
— До свидания, простите за беспокойство.
И вежливо пригласил Ромашова пройти.
Вероятно, если бы у меня было время, я бы постарался найти глубокий смысл в том, что судьба, явившись на квартиру Ромашова в лице представителя московской милиции, так решительно помешала закончить наш разговор. Но поезд в Ярославль отходил в 20.20, а мне еще нужно было:
а) явиться к Слепушкину, и не только явиться, но оформиться, что могло занять часа полтора;
б) зайти в наградной отдел — еще в М—ове я получил известие, что мой второй орден Красного Знамени утвержден и я могу получить в наркомате документ;
в) достать что—нибудь на дорогу: почти все, что я привез из М—ова, я оставил одному балтийскому летчику однополчанину в Ленинграде;
г) достать билет, что, впрочем, мало беспокоило меня, потому что я уехал бы и без билета.
Кроме того, мне еще нужно было написать о Ромашове военному прокурору.
Все это казалось мне совершенно необходимым, то есть моя жизнь в оставшиеся до поезда четыре или пять часов должна была состоять именно из этих забот. А на самом деле мне нужно было просто вернуться к Вале Жукову, от которого я был в пяти минутах ходьбы, и тогда — кто знает? — у меня, может быть, нашлось бы время даже и для того, чтобы подумать над той смесью правды и лжи, которой пытался оправдаться передо мною Ромашов.
Я даже постоял на Арбатской площади: «Не заглянуть ли хоть на две минуты к Вале?» Но вместо Вали я зашел в парикмахерскую — нужно было побриться и сменить воротничок, прежде чем являться в Гидрографическое управление, где один контр—адмирал намеревался представить меня другому.
Ровно в 17 часов я пришел к Слепушкину, а в 18 был уже зачислен в кадры ГУ с откомандированием на Крайний Север, в распоряжение Р. Два или три года тому назад за этими скупыми канцелярскими словами открылась бы передо мною далекая дикая линия сопок, освещенная робким солнцем первого полярного дня, а теперь, полный забот и волнений, я машинально сунул удостоверение в карман и, думая о том, что напрасно не попросил Р. снестись с Ярославлем по военному телеграфу, вышел из управления.
Не буду рассказывать о том, как я потерял полтора часа в наградном отделе, и т.д. Но об этой, последней в Москве, памятной встрече я должен рассказать.
Очень усталый, с заплечным мешком в одной руке, с чемоданом в другой, на станции «Охотный ряд» я спустился в метро. Служебный день кончился, и хотя летом 1942 года в метро было еще просторно, перед эскалатором стояла толпа. Движущаяся лента поднималась навстречу, я всматривался в лица москвичей, вдруг подумав, что за весь этот хлопотливый, утомительный день так и не увидел Москвы. Издалека приметил я грузного человека в толстой кепке, в пальто с широкими квадратными плечами, который не поднимался, а плыл, вырастал, снисходительно дожидаясь, когда доставит его наверх эта шумная машина.
Это был Николай Антоныч.
Узнал ли он меня? Едва ли. Но если и узнал — что было ему до какого—то маленького капитана в потертом кителе, с некрасивым мешком, из которого торчала горбушка хлеба?
Равнодушно скользнул он по моему лицу сонными и властными глазами.
ЧАСТЬ 9. НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ.
Глава 1. ЖЕНА.
Точно сиянием светящейся бомбы озарен ночной, незнакомый вокзал на Всполье, полный забот, трудов и волнений войны. Чего не увидишь в этом ярком, неестественном свете! Старший собирает команду, ругаясь, и люди строятся, не выспавшиеся, хмурые, — война! На платформе в ларьке выдают довольствие по командировкам, по аттестату, и бережно берут черный хлеб солдатские руки, — война! Девочка лет пяти потерялась, отстала от эшелона, и уже по радио зовут ее мать — зовут и не могут дозваться, — война! Моряк с мешком в одной руке, с чемоданом в другой слезает с московского поезда, спрашивает, где эвакопункт, и становится в очередь к начальнику в маленькой грязной комнате, битком набитой сидящим, стоящим и спящим народом, — война!
Все вижу я и все помню. Но медленно среди света и тени находит дорогу сознание, над которым зажглась и повисла гигантская светящаяся бомба войны.
Я вижу себя шагающим в город вдоль ночных, по—летнему тихих полей. Прожектора бродят в покорном, мерцающем покорными звездами небе, Вот и город — на каждой улице меня останавливает и проверяет документы комендантский патруль. Вот и больница для ленинградцев — дежурная сестра обстоятельно объясняет мне, что прошло уже три месяца, как в больнице нет ни одного ленинградца.
— Канцелярия откроется в девять часов, — говорит она, — а сейчас половина четвертого ночи.
Я ложусь на клеенчатый низкий диван. Я сплю и не сплю. Где моя Катя?
Наутро главный врач ведет меня в свой кабинет белый стол, матовые окна, низкая белая кушетка, покрытая свежей простыней. Далекое воспоминание охватывает меня — семнадцатилетний мальчик, я сижу в приемном покое, я там, за приоткрытой дверью, на низкой белой кушетке лежит Марья Васильевны с белым, точно вырезанным из кости лицом.
— Имя, отчество, фамилия, возраст? — спрашивает главный врач.
Я называю имя, отчество, фамилию, возраст, и, завязывая халат, входит сестра, которой он поручает найти Катину карточку и историю болезни.
Мы курим и разговариваем, разговариваем и курим. Тысяча английских самолетов вновь атаковала Бремен. Что в Москве — правда ли, что подняли хлебную норму? Теперь, когда между нами, США и Англией подписано соглашение, не думаю ли я, что скоро откроется второй фронт?
А в соседней комнате сестра перебирает карточки. Карточка — смерть, карточка — жизнь.
Звонит телефон, и главный врач долго ругает завхоза. Я молчу. Насколько все—таки легче молча ждать, что принесет мне сестра — Катину смерть или жизнь!
И сестра возвращается, наконец. Еще доругивая завхоза, главный врач берет карточку в маленькие, почти детские руки.
— Ну что ж, все в порядке, — говорит он — Состояние приличное. Выписалась в марте месяце сорок второго года.
Наверно, я бледнею немного больше, чем полагается в подобных случаях, потому что он встает, обходит стол и, положив руку на мое плечо, повторяет:
— Состояние приличное. Выписалась в марте месяце сорок второго гола.
И от души смеется, когда я прихожу в отчаяние, узнав, что в феврале у Кати было всего сорок два процента гемоглобина.
Уехала с лагерем в Новосибирск, теперь это совершенно ясно. Хорошо бы в самый город… Нет! Лагерь расположился в каком—то колхозе, в двухстах километрах от Новосибирска.
В Ярославском облисполкоме я записываю точный адрес: станция Верхне—Ядомская, село Большие Лубни, Щукинского района, Щукинского сельсовета, и так далее — из двадцати пяти слов телеграммы Катин адрес занимает семнадцать. Я прибавляю к нему свой — и для того, чтобы выразить все, что я чувствую и думаю, остается четыре слова.
Кроме этой телеграммы, я отправляю из Ярославля еще три: в Энск тете Даше с извещением, что Катя жива и я вскоре надеюсь ее увидеть. В Москву Вале Жукову о том, что я не нашел Катю и что она, очевидно, выехала с лагерем в Новосибирск. В Москву же Слепушкину с просьбой разрешить мне дальнейшие розыски жены, как это было условленно в личном разговоре.
К сожалению, мне не удалось достать отдельный номер, а так хотелось остаться одному, отдохнуть и подумать! Впрочем, мой сосед, пожилой пехотный майор, без сомнения, нуждался в отдыхе не меньше, чем я, потому что в восемь часов вечера уже завалился спать, и ничто не могло разбудить его — ни скрип койки, на которой всю ночь я ворочался с боку на бок, ни то, что дежурная по коридору дважды приходила проверять затемнение.
Ночью он проснулся, чтобы покурить, и долго молча сидел, поджав под себя ноги, как турок. Я тоже закурил. Ничего я не знал о нем, он ничего обо мне — но мы молчали и думали об одном, глядя на красные огоньки наших папирос в темноте. Война соединила нас, двух незнакомых мужчин, в этом номере, и то, о чем мы думали, было войной. Накануне, после двухсот пятидесяти дней обороны, наши части оставили Севастополь.
Сосед докурил и уснул, я тоже. Но, должно быть, ненадолго, потому что в коридоре кто—то громко сказал.
— Половина второго.
Севастополь представился мне — не тот суровый, раскаленно—пыльный, как бы рванувшийся навстречу своей великой доле, который я видел в сентябре сорок первого года, а прежний, полный смеха и молодых голосов. По воскресеньям мы с Катей приезжали в Севастополь; катера стояли у причалов, на Историческом бульваре, так далеко, как только видит глаз, моряки гуляли с девушками в белых платьях и газовых шарфах. Мы любили смешную игру, которую придумала Катя: как будто она — моя девушка, мы только что познакомились и теперь, так же как эти ребята, должны назначать свиданья, писать письма и называть друг друга на «вы». Как прекрасно все было тогда! Я вставал в пять часов, а Катя уже готовила завтрак — легкий, когда я шел на высокий полет. Потом был жаркий, интересный день, и не только потому, что были интересные полеты, а потому, что я знал, что впереди еще «наше время», когда мы будем купаться в черной, опрокинувшей небо воде и маяк на Хараксе будет медленно загораться и гаснуть.
Наверно, это было очень трудно — быть моей женой. Но Катя говорила, что ей было трудно, только когда она не знала, где я и что со мной.
И с необычайной ясностью вспомнилась мне наша единственная за всю жизнь ссора. Это было в Ленинграде, в 1936 году, когда поисковая партия была решена и со дня на день мы должны были ехать на Север. Не прошло и месяца, как скончалась, оставив маленького сына, моя сестра Саня, мы волновались, не знали, как оставить ребенка, и решились наконец, когда покойная Розалия Наумовна нашла «научную няню». Решились и собрались — и вдруг Петенька захворал.
…Бледная, расстроенная, Катя сидела над бельевой корзиной, в которой лежал, раскинувшись, больной ребенок, и горько заплакала, едва я вошел. Я обнял ее.
— Да что с тобой, полно же, — говорил я и гладил ее по мокрой щеке. — Ты поедешь. Ты догонишь нас в Архангельске, вот и все.
Что еще я мог ей сказать? В Архангельске поисковая партия должна была провести не более суток.
— О, как мне не хочется снова расставаться с тобой!
— Еще все устроится.
— Ничего не устроится. Всю зиму я хлопотала, чтобы экспедиция состоялась. Я сделала все, чтобы ты уехал, и вот теперь ты уедешь, и я даже не буду знать, где ты и что с тобой.
— Катя! Катя!
— Не нужно мне ничего. Не нужно этой экспедиции, все равно ты ничего не найдешь. Господи, неужели не стою я этого счастья, о котором другие женщины даже и не думают никогда! Да мало ли что может случиться с тобой!
Она видела, что я начинаю сердиться. Но она была в отчаянии, у нее сердце томилось, она вставала и начинала ходить, крепко прижимая руки к груди.
— Я знаю, ты не хотел, чтобы я ехала с тобой! Вот скажи, что это неправда.
— Ну, полно!
— Хорошо, — сказала она с тем спокойным отчаянием, которого, кажется, испугалась сама, — кончим этот спор. Я еду. Ты не хочешь, я знаю, потому что не любишь меня…
Мы говорили до утра. На другой день Петеньке стало лучше, а еще через день он был совершенно здоров.
Это был первый и последний разговор о том, что всю жизнь мучило и волновало ее. Ей было тяжело, когда она думала, что никогда не проникнет в тот мир, ради которого я так часто забывал о ней, покидал ее! И еще тяжелее, когда она старалась не думать об этом.
Что же нужно было переломить в душе, чтобы проводить меня, как она проводила меня в Испанию? Когда в Сарабузе я впервые повел в ночной полет свою эскадрилью, от жены своего штурмана я случайно узнал, что Катя не спала всю ночь, дожидаясь меня.
Где же ты, Катя? У нас одна жизнь, одна любовь — приди ко мне, Катя! Впереди еще много трудов и забот, война еще только что началась. Не покидай меня. Катя! Я знаю, тебе было трудно со мной, ты очень боялась за меня, всю жизнь мы встречались под чужой крышей, а разве я не понимаю, как нужен, как важен для женщины дом? Может быть, я мало любил тебя, мало думал о тебе… Прости меня, Катя!
…Не знаю, наяву или во сне я умолял ее не покидать меня, хоть присниться, не верить тому, что я никогда не вернусь!
Глава 2. ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ КОНЧИЛОСЬ.
Не знаю, было ли часа четыре ночи, когда, открыв глаза, я увидел над собой бледное, сонное лицо дежурной по коридору.
— Вы Григорьев?
— Да.
— Телеграмма. Надо расписаться. Зайдите, товарищ, — сказала она, и, осторожно стуча сапогами, красноармеец вошел и остановился у порога. — С военного телеграфа.
Я расписался и вскрыл телеграмму. «Немедленно выезжайте Архангельск прибытие сообщите Лопатин».
Разумеется, телеграмма была из ГУ. Но почему не Слепушкин, с которым я договорился о дальнейших розысках Кати, если не найду ее в Ярославле, ответил мне, я какой—то Лопатин? Почему немедленно? Почему в Архангельск? Правда, для любых гидрологических работ по Северному морскому пути основной базой оставался Архангельск. Но разве Р. не говорил, что мы встретимся в Полярном, где его планы должен был утвердить командующий Северным флотом?
Все это разъяснилось — и очень скоро. Но тогда, в Ярославле, в маленьком, грязном номере гостиницы, приподняв синюю бумажную штору, я читал и перечитывал телеграмму, и досадное чувство запутанности, неясности, которое чем—то грозило Кате и отнимало у меня надежду вскоре увидеть ее, — это чувство все больше волновало меня.
Так ничего и не придумав, я вновь отправился на телеграф, и в село Большие Лубни, Щукинского района, Щукинского сельсовета и т.д. полетела еще одна, на этот раз срочная телеграмма. Накануне я послал простую, потому что у меня было только семьсот рублей, а путь предстоял далекий.
Теперь мне предстоял недалекий путь — только тысяча километров на север от Кати…
С той минуты, как в М—ове я занял место в пассажирской кабине, прошло всего восемь дней. Но так много увидел я за эти восемь дней, что душа как бы отказалась принять все впечатления и согласилась лишь на те, которые были связаны с моей судьбой. Более полугода я видел одно и то же: стены госпитальной палаты — и за ними чужой уральский город на берегу Камы. Но вот он остался бог весть где, пропал, потонул в сизой дымке, как не был, а навстречу мне полетели моментальные снимки Ленинграда, Москвы, Ярославля. Я сказал моментальные. Но это были как бы запечатленные навек моментальные снимки. И равно вечен был суровый, требовательный Ленинград с его забитыми окнами—веками, под которыми таилась небывалая воля, и ночной вокзал на Всполье с его бессонницей, усталостью и грязью войны…
Вот что я узнал, явившись прямо с поезда в штаб Беломорской военной флотилии; Лопатин, которого я ругал всю дорогу, оказался начальником отдела кадров Гидрографического управления — лишь теперь я припомнил, что в наркомате слышал эту фамилию. Никакой путаницы не было в его телеграмме. Со времени моего отъезда из Москвы на Крайнем Севере произошли события, которые заставили контр—адмирала Р. немедленно вылететь к месту назначения. В Полярном ни ему, ни мне уже нечего было делать, потому что командующий флотом, инспектируя базы, сам выехал в Архангельск. Свидание его с Р. состоялось третьего дня. Очевидно, план «интереснейшей штуки» был утвержден, потому что немедленно после этого свидания Р. вылетел на Диксон. Без сомнения, он очень торопился или мог обойтись без меня, иначе на мой счет в штабе флотилии были бы оставлены указания…
— Вы опоздали, капитан, — сказал мне начальник отдела кадров, добродушный седой человек, с усами и подусниками, похожий на старого матроса времен первой севастопольской обороны. — Ума не приложу, что теперь с вами делать. Вдогонку посылать не станем.
И он приказал мне явиться через несколько дней…
Но как изменился Архангельск, как, оставшись самим собою, он стал удивительно не похож на себя!
Американские матросы бродили по улицам, в шапочках с помпонами, в клешах, в шерстяных рубашках, обтягивающих талию и свободно выпущенных на штаны. Англичане; с начальными буквами HMS (его величества корабль) на бескозырке, держались немного строже, но и у них был беспечный вид, совершенно отличавший их от наших моряков и казавшийся мне странным. Негры встречались на каждом шагу, черные и оливково—черные, должно быть, мулаты. Китайцы стирали рубахи в Северной Двине, прямо под набережной, и, громко болтая на своем гортанно—глухом языке, растягивали их под солнцем между большими камнями.
А Двина, такая просторная, русская, что другой такой, казалось, и не могло быть на свете, свободно раскинувшись, вела вперед свои полные воды. Как ножом отваливая сверкающую волну, проходили катера все на ту сторону, к торговому порту…
Не иностранцы, на которых я смотрел с острым, но поверхностным любопытством, занимали меня в эти дни. Это был город Седова, Пахтусова. На кладбище в Соломбале я долго стоял у могилы «корпуса штурманов поручика и кавалера Петра Кузьмича Пахтусова, скончавшегося 36 лет от роду от понесенных в походах трудов и огорчений». Отсюда капитан Татаринов повел в далекий путь свою белую шхуну. Здесь умер в городской больнице штурман Климов, единственный участник экспедиции, добравшийся до Большой Земли. В местном музее экспедиции «Св. Марии» был посвящен целый отдел, и среди знакомых экспонатов я нашел интересные, новые для меня воспоминания художника П., друга Седова, о том, как штурман Климов был найден на мысе Флора.
С утра, написав очередное письмо в село Большие Лубни и не зная, чем еще заняться, я спускался вниз к Кузнечихе. Острый запах соснового бора стоял над рекой, мост был разведен, маленький пароходик, огибая бесконечные плоты, возил народ к пристани от пролета. Куда ни взглянешь, везде было дерево и дерево — узкие деревянные мостки вдоль приземистых николаевских зданий, в которых были разбиты теперь госпитали и школы, деревянные мостовые, а на берегах целые фантастические здания из штабелей свеже распиленных досок. Это была Соломбала, и я нашел дом, в котором жил капитан Татаринов летом 1913 года, когда снаряжалась «Св. Мария».
Он спускался с крыльца этого маленького бревенчатого дома и шел через садик — широкоплечий, высокий, в белом кителе, с усами, по—старинному загнутыми вверх. Упрямо наклонив голову, он слушал какого—нибудь купца Демидова, который требовал у него денег за солонину или «приготовление готового платья». А там, в торговом порту, среди тяжелых грузовых пароходов с боковыми колесами была чуть видна тонкая и стройная шхуна — слишком тонкая и стройная, чтобы пройти из Архангельска во Владивосток вдоль берегов Сибири.
Одно незначительное, но важное для меня событие странным образом оживило эти туманные картины.
…Накануне пришел конвой, и я поехал в порт Б. посмотреть, как разгружают иностранные суда.
Ого, как вырос, каким просторно—прочно—солидным стал этот старинный порт! Должно быть, километра два прошел я вдоль причалов, а все еще не было конца подъемным кранам, складывающим в высокие прямоугольные штабеля военные и невоенные грузы. И порт еще достраивали, удлиняли. Я дошел до конца и остановился, чтобы одним взглядом окинуть плавно заворачивающую, как бы откинувшуюся назад линию — панораму причалов. И вот именно в эту минуту маленький пароходик, энергично пыхтя, обогнул большое американское судно с «харрикейном» на носу и стал подходить к причалу. Я взглянул на его название: «Лебедин», и, помнится, подумал, что это красивое имя стало, очевидно, традиционным в северных водах. Так звался пароход, на котором друзья и родные Татаринова подошли к его шхуне, чтобы в последний раз обнять капитана и пожелать ему «счастливого плавания и достижений». Возможно ли, что это тот самый «Лебедин», который в одной статье был назван «первым русским ледоколом»? Конечно, нет!
Матрос катил по сходням бочку с горючим, я попросил его позвать капитана, и минуту спустя румяный парень лет двадцати пяти, в простой синей спецовке, вышел на палубу, вытирая тряпкой черные от масла руки.
— Товарищ капитан, у меня к вам исторический вопрос, — сказал я. — Вы случайно не знаете, до революции ваш буксир тоже звался «Лебедином»?
— Да.
— Когда он спущен?
— В 1907 году.
— И всегда ходил под этим названием?
— Всегда.
Я объяснил ему, в чем дело, и он со спокойной гордостью оглядел свое судно, точно никогда и не сомневался, что оно займет свае место в истории русского флота. Быть может, это покажется немного смешным, но встреча с «Лебедином» обрадовала и необычайно оживила меня. Я прочел жизнь капитана Татаринова, но последняя ее страница осталась закрытой.
«Еще ничего не кончилось, — как будто сказал мне этот старый буксир с таким румяным, молодым капитаном. — Кто знает, может быть, придет время, когда тебе удастся открыть и прочитать, эту страницу».
Явившись в третий раз к начальнику отдела кадров, я попросил его послать меня в полк или, если это невозможно, направить в распоряжение командования ВВС Северного флота.
Без сомнения, он был уже в курсе моих личных и служебных дел, потому что, помолчав, спросил с добродушно—одобрительным видом:
— А здоровье?
Я отвечал, что здоровье в полном порядке. Это была правда или почти правда — на Севере я всегда чувствовал себя лучше, чем на юге, западе и востоке.
— Ладно, чем в такое время болтаться без дела, пускай найдут применение, — неопределенно, но вполне разумно сказал начальник отдела кадров.
Конечно, он имел в виду применение на земле. «Черта с два, буду летать», — немедленно подумал я, глядя на его старую, но крепкую руку, которая вывела и дважды подчеркнула мою фамилию на перекидном блокноте—календаре.
Глава 3. СВОБОДНАЯ ОХОТА.
Все превосходно — капитан является в полк, командир полка представляет его товарищам, экипажу. Этот задумчивый, равнодушный штурман—латыш с трубкой, в широких штанах, заменит ли он дорогого погибшего Лури?
Среди летчиков капитан находит своих бывших учеников еще по Балашовской школе. Он живет в новом рубленом доме, стены которого еще пахнут смолой, в просторной комнате, вместе со своим экипажем, и вид из окна напоминает ему молодость в маленьком городе за Полярным кругом.
С изумлением он убеждается в том, что многие летчики знают его и даже считают несправедливым (разумеется, без малейших оснований), что у него только два ордена, а не четыре. Итак, все прекрасно. Но на деле все далеко не так прекрасно, как это кажется с первого взгляда. На деле капитан не спит по ночам, читая и перечитывая письмо из села Большие Лубни, в котором какой—то директор Перышкин сообщает ему, что Катерина Ивановна Григорьева—Татаринова, насколько ему известно, выехала из лагеря еще в мае месяце, то есть «до отъезда такового в Новосибирскую область», причем о бабушке и маленьком Пете директор Перышкин почему—то не упоминает ни слова.
На деле полк, в который командующий ВВС направил капитана, — торпедно—бомбардировочный; следовательно, капитан должен изучить новую специальность.
На деле он глубоко потрясен, потому что в первом же полете убеждается, что совершенно отвык от Севера, так отвык, что забыл даже «чувство земли», которое здесь всегда было немного другим.
Но все это еще не беда. Все придет в свое время. Все можно исправить, кроме непоправимого, которое приходит не спрашиваясь и от которого никуда не уйдешь.
Я не стану особенно много рассказывать о воздушной войне на Севере, хотя это очень интересно, потому что нигде не проявились с таким блеском качества русского летчика, как на Севере, где ко всем трудностям и опасностям полета и боя часто присоединяется плохая погода и где в течение полугода стоит полярная ночь. Один британский офицер при мне сказал: «Здесь могут летать только русские». Конечно, это было лестное преувеличение, но мы вполне заслужили его.
Сама обстановка боя на Севере тоже была куда сложнее, чем на других воздушных театрах войны. Немецкие транспорты обычно шли почти вплотную к высоким берегам — так близко, как только позволяла приглубость. Топить их было трудно — не только потому, что вообще очень трудно топить транспорты, а потому, что выйти на транспорт из—под высокого берега невозможно или почти невозможно. Мы не могли пользоваться почти половиной всех румбов (180°), а попробуйте—ка без этой половины атаковать корабль, над которым нужно пройти как можно ниже, чтобы торпеда, сброшенная в воду, вернее попала в цель! При этом корабль не ждет, разумеется, когда его утопят, а вместе с конвоем открывает огонь из всех своих зениток, пулеметов и орудий главного калибра. Сжав зубы, не узнавая себя в азарте боя, лезешь ты в этот шумный разноцветный ад!
Вероятно, если бы час за часом, день за днем рассказать, как мы жили на Н., получилась бы однообразная картина. Полеты и разборы полетов. Ученье, то есть те же полеты. Обеды в длинном деревянном бараке и за столом — разговор о полетах. По вечерам — офицерский клуб, открывшийся при мне, которым в особенности увлекалась молодежь, с завидной легкостью переходившая от смертельной опасности торпедной атаки к танцам и болтовне с девушками. Девушкам — младшим офицерам — разрешалось в штатском платье являться на эти вечера.
Быть может, именно эти переходы, как ничто другое, отражали не простоту или мнимое однообразие, а, напротив, необычайность, почти фантастичность, которой на самом деле была полна наша жизнь. Лететь в темноте под крутящимся снегом, лететь над морем на пробитом, как решето, самолете, после боя, который еще звенит в остывающем теле, и через два часа явиться в светлые нарядные комнаты офицерского клуба, пить вино и болтать о пустяках — как же нужно было относиться к смерти, чтобы не замечать этого контраста или, по меньшей мере, не думать о нем? Впрочем, и я думал о нем только в первые дни.
Выше я упомянул, что в особенности молодежь увлекалась клубом. Но почти весь полк состоял из молодых людей — только трем или четырем «старикам», вроде меня, было за тридцать. Герой Советского Союза, которого все называли просто Петей, потому что иначе и нельзя было назвать этого румяного горбоносого юношу с азартно вылупленными глазами, командовал полком. Ему едва исполнилось двадцать четыре года.
Это тоже был вопрос, о котором стоило подумать, — один из многих вопросов, которые нежданно—негаданно накатили на меня, когда я приехал на Север. Новое поколение летчиков было выдвинуто войной, поколение, у которого нам еще приходилось кое—чему поучиться. Разумеется, между нами не было никакой пропасти — почему—то полагается думать, что между «отцами и детьми» непременно должна быть пропасть. Но что—то было — недаром же на Н. я был менее осторожен, чем всегда, и легче шел на разные рискованные штуки.
Кто знает, может быть именно потому, что я так «помолодел», судьба, которая сурово расправилась со мной в начале войны, здесь, на Н., отнеслась ко мне совершенно иначе.
В июле я ходил еще с бомбами на Киркинес — и довольно удачно, как показали снимки. В начале августа я уговорил командира полка отпустить меня на «свободную охоту» — так называется полет без данных разведки, но, разумеется, в такие места, где наиболее вероятна встреча с немецким конвоем. И вот в паре с одним лейтенантом мы утопили транспорт в четыре тысячи тонн. Утопил, собственно говоря, лейтенант, потому что моя торпеда, сброшенная слишком близко, сделала мешок под килем и «ушла налево». Но все было проверено в этом бою, в том числе и раненая нога, которая вела себя превосходно. Я был доволен, хотя на разборе полетов командир эскадрильи (некогда в Балашове я чуть не отчислил его от школы, потому что у него никак не выходил разворот) с неопровержимой ясностью доказал, что именно так «не следует топить транспорты». Через два—три дня ему пришлось повторить свои доказательства, потому что я прошел над транспортом еще ниже — так низко, что принес домой кусок антенны, застрявшей в плоскости самолета. При этом транспорт — мой первый — был потоплен, так что доказательства, не потеряв своей стройности, приобрели лишь теоретическое значение.
Короче говоря, в середине августа я утопил второй корабль — в шесть тысяч тонн, охранявшийся сторожевиком и миноносцем. На этот раз я шел в паре с командиром эскадрильи и, к своему удовольствию, заметил, что он атаковал еще ниже, чем я. Разумеется, самому себе он выговора не сделал.
Так шла моя жизнь — в общем, очень недурно. В конце октября командующий ВВС поздравил меня с орденом Александра Невского.
У меня были уже и друзья на Н. — неподвижный, молчаливый штурман, с трубкой, в широких штанах, оказался умным, начитанным человеком. Правда, он говорил немного, а в полете и вообще не говорил, но зато на вопрос: «Где мы?» — всегда отвечал с точностью, которая меня поражала. Мне нравилась его манера выводить на цель. Мы были разные люди, но невозможно не полюбить того, кто каждый день рядом с тобой делит тяжелый, рискованный труд полета и торпедной атаки. Если уж нас ждала смерть, так общая, в один день и час. А у кого общая смерть, у тех и общая жизнь.
Не только со своим штурманом я близко сошелся на Н. Но это была не та дружба, по которой я тосковал. Недаром же от этой поры у меня сохранилась груда не отправленных писем — я надеялся, что мы с Катей прочтем их после войны.
Между тем друг, и самый истинный, был так близко, что стоило только сесть на катер — и через двадцать минут я мог обнять его и рассказать ему все, о чем я рассказывал Кате в своих не отправленных письмах.
Глава 4. ДОКТОР СЛУЖИТ В ПОЛЯРНОМ.
Всю ночь мне снилось, что я снова ранен, доктор Иван Иваныч склоняется надо мной, я хочу сказать ему: «Абрам, вьюга, пьют», — и не могу, онемел. Это был повторяющийся сон, но с таким реальным, давно забытым чувством немоты я видел его впервые.
И вот, проснувшись еще до подъема и находясь в том забытьи, когда все чувствуешь и понимаешь, но даешь себе волю ничего не чувствовать и не понимать, я стал думать о докторе и вспомнил рассказ Ромашова о том, как доктор приезжал к сыну на фронт. Не знаю, как это объяснить, но что—то неясное и как бы давно беспокоившее меня почудилось мне в этом воспоминании. Я стал перебирать его слово за словом и понял, в чем дело: Ромашов сказал, что доктор служит в Полярном.
Тогда, в эшелоне, я решил, что это просто вздор. Представить, что доктор может расстаться с городом, в котором даже олени поворачивали головы, когда он проходил! С домом на улице его имени! С ненцами, которые прозвали его «изгоняющим червей» и приезжали советоваться о значении примуса в домашнем хозяйстве! Ромашов ошибся — не в Полярном, а в Заполярье.
Но в то утро на Н., сам не зная почему, я подумал: «А вдруг не ошибся?»
В самом деле — мог ли доктор приехать из Заполярья, которое было за тридевять земель, в Ленинград летом 1941 года? Что, если он действительно служит в Полярном и я вот уже три месяца живу бок о бок с моим милым, старым, дорогим другом?..
Дежурный вошел, сказал негромко:
— Подъем, товарищи. И захлопал глазами, увидев, что одной рукой я поспешно натягиваю брюки, а другой снимаю китель, висевший на спинке стула.
Замечательно, что доктор вспомнил обо мне в тот же день и час — он уверял меня в этом совершенно серьезно. Накануне он прочел приказ о моем награждении и сперва не подумал, что это я, потому что «мало ли Григорьевых на свете». Но на другой день, под утро, еще лежа в постели, решил, что это без сомнения я, и так же, как я, немедленно бросился к телефону.
— Иван Иваныч, дорогой, — сказал я, когда хриплый, совершенно невероятный для Ивана Иваныча голос донесся до меня, как будто с трудом пробившись сквозь вой осеннего ветра, разгулявшегося в то утро над Кольским заливом. — Это говорит Саня Григорьев. Вы узнаете меня? Саня!
Осталось неизвестным, узнал ли меня доктор, потому что хриплый голос перешел в довольно мелодичный свист. Я бешено заорал, и телефонистка, оценив мои усилия, сообщила, что «докладывает военврач второго ранга Павлов».
— Что докладывает? Вы ему скажите — говорит Саня!
— Сейчас, — сказала телефонистка. — Он спрашивает, идете ли вы сегодня в полет.
Я изумился:
— При чем тут полет? Вы ему скажите — Саня.
— Я сказала, что Саня, — сердито возразила телефонистка. — Будете ли вы сегодня вечером на Н. и где вас найти?
— Буду! — заорал я. — Пускай идет в офицерский клуб. Понятно?
Телефонистка ничего не сказала, потом что—то персставилось в трубке, и уже как будто не она, а кто—то другой буркнул:
— Придет.
Я еще хотел попросить доктора заглянуть в политуправление, узнать, нет ли для меня писем, — прошло дней десять, как я не справлялся о письмах, между тем адрес политуправления в Полярном был оставлен Кораблеву и Вале. Но больше ничего уже не было слышно.
Конечно, это было чертовски приятно — узнать, что доктор в Полярном и что я сегодня увижу его, если не разыграется шторм. Но все—таки для меня так и осталось загадкой, почему, придя в клуб, я выпил сперва белого вина, потом красного, потом снова белого и т.д. Разумеется, все было в порядке, тем более, что командующий ВВС ужинал в соседней комнате с каким—то военным корреспондентом. Но знакомые девушки, время от времени, между фокстротами, садившиеся за мой столик, очень смеялись, когда я объяснял им, что если бы я умел танцевать, у меня была бы совершенно другая, блестящая жизнь. Все неудачи произошли только по одной причине — никогда в жизни я не умел танцевать.
В сущности, здесь не было ничего смешного, и мой штурман, например, который, задумчиво посасывая трубочку, сидел напротив меня, сказал, что я совершенно прав. Но девушки почему—то смеялись.
В таком—то прекрасном, хотя и немного грустном настроении я сидел в офицерском клубе, когда у входа появился и стал осторожно пробираться между столиками высокий пожилой моряк с серебряными нашивками, по—моему, доктор Иван Иваныч.
Возможно, что я подумал о том, как он сгорбился и постарел, как поседела его бородка! Но все это, разумеется, был только мираж, а на деле прежний загадочный доктор моего детства шел ко мне, подняв очки на лоб и собираясь, кажется, взять меня за язык или заглянуть в ухо.
— Доктор, я хочу пригласить вас к больному, — сказал я серьезно. — Интересный случай! Человек может произнести только шесть слов: кура, седло, ящик, вьюга, пьют и Абрам.
— Саня!
Мы обнялись, взглянули друг на друга и опять обнялись.
— Дорогой Иван Иваныч, я немного пьян, неправда ли? — сказал я, заметив, что тень огорчения скользнуло по его доброму, смешному лицу. — Мы чертовски продрогли на аэродроме, и вот… Познакомьтесь, майор Озолин.
— Давно ли ты здесь, Саня? — говорил доктор, когда штурман, пробормотав что—то, ушел, чтобы не мешать нашей встрече. — Каким образом мы могли так долго не встретиться, Саня?
— Три месяца. Конечно, я виноват.
— Разве ты не знал, что я в Полярном? Ведь я же оставил Катерине Ивановне адрес!
— Кому?
Должно быть, у меня дрогнуло лицо, потому что он поправил очки и уставился на меня с тревожным выражением.
— Твоей жене, Саня, — осторожно сказал он. — Надеюсь, она здорова? Я был у нее в Ленинграде.
— Когда?
— В прошлом году, в августе месяце. Где она, где она? — спрашивал он, подвинувшись ко мне совсем близко и беспокойно моргая.
— Не знаю. Можно вам налить?
И я взялся за бутылку, не дожидаясь ответа.
— Полно, Саня, — мягко сказал доктор и отставил в сторону сперва свой стакан, потом мой. — Расскажи мне все. Ты помнишь Володю? Он убит, — вдруг скандал он, как будто чтобы доказать, что теперь я могу рассказать ему все. И у него глаза заблестели от слез под очками.
Опустив головы, сидели мы в светлом, шумном офицерском клубе. Оркестр играл фокстроты и вальсы, и медь слишком гулко отдавалась в небольших деревянных залах.
Молодые летчики смеялись и громко разговаривали в коридоре, отделявшем гостиные от ресторана. Быть может, вот этот, лет двадцати, с таким великолепным разворотом плеч, с такими сильными, сросшимися бровями, еще сегодня ночью, в тумане, над холодным, беспокойным морем, увидит смерть, которая, как хозяйка, войдет в кабину его самолета… Точно что—то огромное, каменное, неудобное было внесено в дом, где мы прекрасно жили, и теперь, чтобы разговаривать, танцевать и смеяться, не думая об этом каменном и неудобном, нужно было умереть, как умер Володя.
Когда—то он писал стихи, и четыре строчки о том, как «эвенок Чолкар приезжает из школы домой», до сих пор я знал наизусть. Он гордился тем, что в Заполярье приезжал МХАТ, и встречал артистов с цветами. Это было счастье для доктора, что у него был такой сын, и вот старик сидит передо мной, повесив голову и стараясь справиться со слезами.
— Но где же Катя, что с ней?
Я рассказал, как мы потеряли друг друга.
— Господи, да ведь это же ты пропал, не она! — с изумлением сказал доктор. — Ты воевал на трех морях, был ранен, лежал в госпитале, не она. Жива и здорова! — торжественно объявил он. — И разыскивает тебя день и ночь. И найдет — или я не знаю, что такое женщина, когда она любит. Вот теперь действительно налей. Мы выпьем за ее здоровье…
Уже было сказано самое главное, уже прошла горькая минута сознания, что жизнь продолжается, хотя я не нашел жену и не знаю, жива ли она, а доктор потерял сына, а мы все никак не могли перешагнуть через эту минуту. Слишком много было пережито за последние годы — так много, что прежние мостики между нами показались теперь хрупкими и далекими. Но у нас был один общий могущественный интерес, и едва отступило видение горя, как он ворвался в нашу беседу.
Конечно, это был Север. Как два старых опытных врача у постели больного, мы заговорили о том, как защитить Север, как уберечь его, как сделать, чтобы он стал самым лучшим, веселым и гостеприимным местом на свете. Я рассказал доктору об однополчанах, о молодежи, которая превосходно дерется и при этом очень мало думает о будущем Севера и еще меньше о его прошлом.
— Некогда, вот и не думают, — сказал доктор. — Может быть, и правильно, что не думают, — добавил он помолчав.
Но, вместо того чтобы доказать, что это правильно, он стал рассказывать «о тех, кто думает», то есть о коренных северянах.
Он рассказал о братьях Анны Степановны, которые служили на транспортных судах, а теперь на морских охотниках сражаются так, словно всю жизнь были военными моряками.
— Нет, ничего не пропало даром, — заключил он. — А что Север — фасад наш, как писал Менделеев, для меня никогда еще не было так очевидно, как теперь, во время войны!
Пора было уходить. Мы остались в ресторане одни. У доктора еще не было ночлега, следовательно, чтобы устроить ему койку, нужно было пораньше вернуться в полк.
Вообще вечер кончился, в этом не было никаких сомнений. Но, боже мой, как не хотелось соглашаться с тем, что он уже кончился, в то время как мы не сказали друг другу и десятой доли того, что непременно хотели сказать! Ничего не поделаешь! Спустившись вниз, мы надели шинели, и теплый, светлый, немного пьяный мир остался за спиной, и впереди открылась черная, как вакса, Н., по которой гулял нехороший, невежливый, невеселый нордовый ветер.
Глава 5. ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ.
Подводники были главными людьми в здешних местах — и не только потому, что в начале войны они сделали очень много, едва ли не больше всех на Северном флоте, но потому, что характерные черты их быта, их отношений, их напряженной боевой работы накладывали свой отпечаток на жизнь всего городка. Нигде не может быть такого равенства перед лицом смерти, как среди экипажа подводной лодки, на которой либо все погибают, либо все побеждают. Каждый военный труд тяжел, но труд подводников, особенно на «малютках», таков, что я бы, кажется, не согласился променять на один поход «малютки» десять самых опасных полетов. Впрочем, еще в детстве мне представлялось, что между людьми, спускающимися так глубоко под воду, непременно должен быть какой—то тайный уговор, вроде клятвы, которую мы с Петькой когда—то дали друг другу.
В паре с одним капитаном мне удалось потопить третий транспорт в конце августа 1942 года. «Малютка» знаменитого Ф. с моей помощью утопила четвертый. Об этом не стоило бы и упоминать — я шел пустой и мог только сообщить в штаб координаты германского судна, но Ф. пригласил меня на «поросенка», и с этого «поросенка» начались события, о которых стоит рассказать.
Кто не знает знаменитой флотской традиции — отмечать каждое потопленное судно торжественным обедом, на котором командование угощает победителей жареным поросенком? Накануне были пущены ко дну транспорт, сторожевик и эсминец, и озабоченные повара в белых колпаках внесли не одного, а целых трех поросят в просторную офицерскую столовую, где буквой «П» стояли столы и где за перекладиной этой буквы сидел адмирал — командующий Северным флотом.
Аппетитные, нежно—розовые, с бледными, скорбными мордами поросята лежали на блюде, и три командира стояли над ними с большими ножами в руках. И это было традицией — победители должны своими руками разделить поросенка на части. Ну и части! Огромный ломоть, набитый кашей и посыпанный затейливыми стружками хрена, плывет ко мне через стол! И нужно справиться с ним, чтобы не обидеть хозяев.
Адмирал встает с бокалом в руке. Первый тост — за командиров—победителей, за их экипажи. Я смотрю на него — он приезжал в наш полк, и мне запомнилось живое, молодое движение, с которым, закинув голову, он остановился, слушая командира полка, отдававшего рапорт. Он молод — всего на четыре года старше меня. Впрочем, я помню его еще по Испании.
За тех, кто в море, — второй тост! Звенят стаканы. Стоя пьют моряки за братьев, идущих на подвиг в пустыне арктической ночи. За воинскую удачу и спокойствие сердца в опасный, решительный час!
Теперь адмирал смотрит на меня через стол — я сижу справа от него, среди гостей—журналистов, которым Ф. с помощью вилки и ножа наглядно показывает, каким образом был потоплен эсминец. Не сводя с меня глаз, адмирал что—то говорит соседу, и сосед, командир дивизиона, произносит третий тост. За капитана Григорьева, который «умело навел на германский караван подводную лодку». И адмирал показывает жестом, что пьет за меня…
Много было выпито в этот вечер, и я не стану перечислять всех тостов, тем более, что журналисты, о которых я упомянул, рассказали об этом «тройном поросенке» в периодической прессе. Скажу только, что адмирал исчез совершенно неожиданно — вдруг встал и вышел. Проходя за моим стулом, он наклонился и, не давая мне встать, сказал негромко:
— Прошу вас сегодня зайти ко мне, капитан.
Глава 6. БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ.
Машина оторвалась, и через несколько минут эта каша из дождя и тумана, до которой на земле нам не было никакого дела, стала важной частью полета, который, как всякий полет, складывается из: а) задачи и б) всего, что мешает задаче.
Мы пошли «блинчиком», то есть с маленьким креном, развернулись и встали на курс.
Итак, задача, или «особое задание», как сказал адмирал: немецкий рейдер (очевидно, вспомогательный крейсер) прошел в Карское море, обстрелял порт Т. и бродит где—то далеко на востоке. Я должен был найти и утопить его — чем скорее, тем лучше, потому что наш караван с военными грузами шел по Северному морскому пути и находился сравнительно недалеко от этого порта. Да и вообще нетрудно было представить себе, что может сделать в мирных водах большой военный корабль!
…Как ни лень было тянуть, а пришлось добирать до пяти с половиной. Но и здесь не было ничего, кроме все той же унылой облачной каши, которую кто—то вроде самого господа—бога круто размешивал великанской ложкой.
Итак — найти и утопить! Нельзя было даже сравнивать, насколько первое было сложнее второго! Но как был поражен адмирал, когда я исправил на его карте почти все острова восточной части архипелага Норденшельда!
— Вы были там?
— Нет.
Он не знал, что я был и не был там. Карта архипелага Норденшельда была исправлена экспедицией «Норда» перед самой войной. Я не был там. Но когда—то в этих местах прошел капитан Татаринов и мысленно я, вслед за ним, тысячу раз.
Да, прав был доктор Иван Иваныч: ничто не пропадает даром! Жизнь поворачивает туда и сюда и падает, пробиваясь, как подземная река в темноте, в тишине вечной ночи, и вдруг выходит на простор, к солнцу и свету, как вышла сейчас моя машина из облачной каши, выходит, и оказывается, что ничто не пропадает даром!
Это была привычная мысль — как шла бы моя жизнь на Севере, если бы Катя нашлась и мы вместе жили на Н.
Она бы проснулась, когда в четвертом часу ночи я зашел бы домой перед полетом. Она была бы румяная, теплая, сонная. Быть может, войдя, я поцеловал бы ее не так, как всегда, и она сразу поняла бы, как важно и интересно для меня то, что поручил адмирал.
Так это было тысячу раз, но будет ли когда—нибудь снова?
Вот мы сидим и пьем кофе, как в Сарабузе, Ленинграде, Владивостоке, когда я будил ее ночью. В халатике, с косами, заплетенными на ночь, она молча смотрит на меня и вдруг бежит куда—то, вспоминает, что у нее есть что—то вкусное для меня — пьяная вишня или маслины, которые мы оба любили. И потом, в полете, весь экипаж хвалит мою жену и ест маслины или пьяную вишню.
Да, это была моя Катя, с ее свободой и гордостью и любовью, от которой вечно, должно быть до гроба, будет кружиться моя голова. Катя, о которой я ничего не знаю, кроме того, что ее нет со мной. Хотя бы, поэтому нужно непременно найти и утопить этот рейдер.
— Штурман, курс!
На три градуса разошлись пилотский и штурманский курсы и превосходно сошлись, когда из карманов были выброшены портсигары, фонарики, зажигалки…
О чем я думал? О Кате. О том, что лечу в те места, куда некогда должен был отправиться с нею и куда меня не пускали так долго. Разве не знал я, наверное, безусловно, что придет время, и я прилечу в эти места? Разве не чертил с точностью до полуградуса маршрут, по которому, как в детском ослепительном сне, прошли люди со шхуны «Св. Мария» — прошли, тяжело дыша, с закрытыми, чтобы не ослепнуть, глазами? Прошли, и впереди — большой человек, великан в меховых сапогах…
Но это был уже бред. Я прогнал его. Новая Земля была недалеко.
Вы бы соскучились, если бы я стал подробно рассказывать о том, как мы искали рейдер. Однообразна пустыня арктических морей, трудно найти замаскированную, чуть заметную полоску военного корабля в этой беспредельной пустыне. Добрых две недели мы перелетали с базы на базу. Один из полетов продолжался семь часов — лучше, если бы он был покороче, потому что, пройдя над Карским морем в двух направлениях и вернувшись к Новой Земле, мы не нашли ее, как будто эти огромные острова до сих пор просто по ошибке значились на географической карте. Пока хватало горючего, в черном тумане мы ходили над ней, и если бы ветер, на наше счастье, не проделал в тумане небольшую светлую дырку, пожалуй, мне бы не удалось дописать эту книгу. Мы бросились к этому пятнышку, сразу закрыли газ и благополучно сели.
В другой раз мы на шлюпке подрулили под птичий базар. Миллионы черно—белых кайр сидели на скалах — так много, что весь берег мили на две казался круто посыпанным солью. Они кричали, хлопали крыльями, свистели, срывались и, расталкивая соседей, вновь садились на отвесные скалы, и в общем оглушительном шуме слышались отдельные возгласы, точно это и был базар, на котором ссорились, сидя на возах, бранчливые бабы. Вонь была страшная, и, разумеется, взглянув на это любопытное явление, нужно было немедленно отвернуть. Но стрелок—радист, где—то читавший о чайках—бургомистрах, на беду, нашел пару этих огромных птиц, сидевших отдельно над общим гнездовьем и как будто с важностью наблюдавших за порядком на шумном базаре. Он выстрелил и убил бургомистра. Но, боже мой, как расплатились мы за этот злосчастный выстрел! Все пропало — и земля, и небо! Черно—белая буря крыльев снялась с берега и рванулась над шлюпкой, крича свистя и разрывая воздух. Шум гигантского водопада обрушился на нас — и хорошо, если бы только шум! Сутки после этого случая мы мылись сами и отмывали шлюпку, причем я нашел помет даже в боковом, застегнутом на пуговицу кармане реглана.
В общем, это были две тяжелые недели на Новой Земле. Каждый раз мы стартовали с надеждой встретить рейдер, хотя мне давно было ясно, что его нужно искать гораздо восточнее, и ходили, ходили над морем, пока не кончалось горючее и пока штурман не спрашивал меня хладнокровно:
— Домой?
И «дом» открывался — причудливо изрезанные дикие горы, синие ледники, как бы расколотые вдоль и готовые скользнуть в бездонные снеговые ущелья.
Но вот пришла минута, когда кончилась наша «новоземельская жизнь» — превосходная минута, о которой стоит рассказать немного подробнее.
Я стоял у амбара, крыша которого была обложена тушками убитых птиц, а на стенах распялены шкуры тюленей. Два маленьких ненца, похожих на пингвинов в своих меховых костюмах с глухими рукавами, играли на берегу, а я разговаривал с их родителями — маленькой, как девочка, мамой и таким же папой, с коричневой, высовывающейся из малицы головой. Помнится, речь шла о международных делах, и хотя анализ безнадежного положения Германии был взят мною из очень старого номера «Правды», ненец собирался сегодня же рассказать его приятелю, который жил сравнительно недалеко от него — всего в двухстах километрах. Маленькая жена едва ли разбиралась в политике, но кивала блестящей черной, стриженной в скобку головкой и все говорила:
— Холосо, холосо.
— Хочешь ехать на фронт? — спросил я ненца.
— Хоцу, хоцу.
— Не боишься?
— Зацем бояться, зацем?
Это и была минута, когда я увидел штурмана, который бежал ко мне, — не шел, а именно, бежал по берегу от мыска, за которым стоял самолет.
— Перебазируемся!
— Куда?
— В Заполярье!
Он сказал «в Заполярье», и, хотя не было ничего невозможного в том, что нас перебрасывали в Заполярье, то есть именно в те места, где, по—моему, и нужно было разыскивать рейдер, я был поражен! Ведь это было мое Заполярье!
— Не может быть!
Штурман уже принял прежний хладнокровно—неторопливый, латышский вид.
— Прикажете проверить?
— Не нужно.
— Когда вылетаем?
— Через двадцать минут.
Глава 7. СНОВА В ЗАПОЛЯРЬЕ.
Не дорога, а засаженная кедрами аллея вела к городу от аэродрома, и, глядя на эти шумные, богато раскинувшиеся кедры, я невольно подумал о том, что все—таки давно я не был в этом городе моей молодости и самых смелых за всю жизнь надежд.
Мне не сразу удалось найти улицу доктора Павлова по той причине, что в «мои» времена на этой улице стоял только один дом, принадлежавший самому доктору, а все остальные существовали лишь на плане, висевшем в окрисполкоме. Теперь среди высоких соседей затерялся маленький дом, в котором за чтением дневников штурмана Климова я некогда проводил свои вечера. Что это были за милые молодые вечера! Осторожно поскрипывали в соседней комнате половицы под легкими шагами Володи. Доктор вдруг крякал, крепко потирал руки и читал вслух понравившееся ему место из книги, а потом начинал кричать на ежа, который почему—то любил жевать его ночные туфли. Анна Степановна входила ко мне — большая, решительная, справедливая, которой можно было все сказать, все доверить, — и молча ставила передо мной тарелку с огромным куском пирога.
…Она и теперь не согнулась, не поддалась горю, только поседела, и две большие, глубокие складки повисли над опустившимся ртом. Что—то мужское показалось в ее фигуре и выражении лица, как это бывает у очень больших стареющих женщин.
— Как же вас называть теперь? — сказала она с недоумением, когда мы встретились в садике перед домом и вошли в столовую, кажется, совершенно прежнюю, с желтым чистым полом и деревенскими половиками. — Вы же мальчиком были тогда. Сколько лет прошло? Пятнадцать? Двадцать?
— Только девять, Анна Степановна. А называйте Саня. Для вас я всегда буду Саня.
С первого взгляда она поняла, что я знаю о Володе, но долго не говорила о нем из того душевного такта, который — я это почувствовал — не позволил ей так сразу, в первые минуты встречи, заставить меня разделить с нею горе. Я сам что—то начал, но она перебила и быстро сказала: «Потом!»
— Что же вы, к нам? Надолго ли? Как я рада, что живы—здоровы!
— Ненадолго, Анна Степановна. Сегодня же улетаем.
— Морской летчик, в орденах, — оказала она, как будто вместе со мной гордилась, что я морской летчик и в орденах. — Откуда же теперь? С какого фронта?
— Сейчас с Новой Земли, а прежде из Полярного. Да прямо от Ивана Иваныча!
— Полно!
— Честное слово.
Анна Степановна замолчала.
— Значит, видели его?
— Да какое там видел! Мы встречаемся очень часто. Разве он не писал вам об этом?
— Писал, — сказала Анна Степановна, и я понял, что она знает о Кате.
Но мне не нужно было останавливать ее, как она остановила меня, когда я заговорил о Володе. Кто же глубже и сильнее, чем она, мог почувствовать мою тоску и волнение, — все, о чем я ни с кем не мог говорить? Она не утешала меня, не сравнивала своего горя с моим — только обняла и поцеловала в голову, а я поцеловал ее руки.
— Ну, как же старик мой? Здоров?
— Совершенно здоров.
— Стар уж стал служить, — задумчиво сказала Анна Степановна. — Ему тут легко с местным народом, на воле. А это не шутка — в шестьдесят один год военная служба. Можно, я друзьям сообщу, что вы прилетели? Как у вас время?
Я сказал, что время до ночи, и, поставив передо мной хлеб, рыбу и кружку самодельного вина, которое очень вкусно делали в Заполярье, она накинула платок, извинилась и вышла.
Да, это было легкомысленно с моей стороны — позволить Анне Степановне сообщить друзьям, что я прилетел. Не прошло и получаса, как легковая машина остановилась у садика, и я с удивлением увидел в ней весь свой экипаж. Стрелок и радист чему—то громко смеялись, а штурман в знаменитых на весь Северный флот широких парадных штанах сидел рядом с шофером и равнодушно пускал в воздух большие шары дыма.
— Саня, за нами прислал товарищ Ледков, — сказал он, когда я вышел. — Садись и едем к нему немедля. Мы позавтракаем у него, а потом…
— Какой товарищ Ледков?
— Не знаю. Высокая дама в платке приехала на аэродром и сказала, что за нами послал товарищ Ледков. Она вышла у окрисполкома.
— Ледков? Постойте—ка… ах, помню! Ну, конечно, Ледков!
Это был тот самый член окрисполкома, за которым мы с Иваном Иванычем некогда летали в становище Ванокан, где Ледков лежал, тяжело раненный в ногу. На ненецком Севере он был известен не меньше, чем знаменитый Илья Вылка на Новой Земле. Кстати сказать, совсем недавно в Полярном доктор рассказывал о Ледкове, каким он стал энергичным, смелым работником и как сумел в первые же недели подчинить всю жизнь огромного округа, с разбросанным кочевым населением, задачам войны.
— Между прочим, — сказал доктор, — он интересовался, нашел ли ты капитана Татаринова. Помнишь, когда мы ждали тебя с экспедицией — ведь он даже ездил в какие—то стойбища, опрашивал ненцев. По его сведениям, в одном из родов должны были храниться предания о «Святой Марии».
Нетрудно представить себе, что Ледков (я смутно помнил его и удивился, когда еще далеко не старый человек с крепким, точно сложенным из булыжников лицом и острыми китайскими усами, встречая нас, вышел на крыльцо окрисполкома) радушно принял нас в Заполярье. После обеда, на котором я произнес длинную речь, посвященную доктору Ивану Иванычу и его боевой деятельности на Северном флоте, мы поехали на лесозавод, потом в новую поликлинику и т.д. Везде мы что—то ели и пили, и везде я рассказывал об Иване Иваныче, так что, в конце концов, мне самому стало казаться, что без участия Ивана Иваныча зашита наших северных морских путей могла бы, пожалуй, потерпеть неудачу.
С глубоким интересом осматривал я Заполярье. Когда я уехал, городу едва пошел шестой год, Теперь ему минуло пятнадцать, и с первого взгляда можно было заключить, что он не потерял времени даром, в особенности, если вспомнить, что три самых дорогих года были отданы на войну.
И здесь, за две с половиной тысячи километров от фронта, она чувствовалась, если вглядеться, во многом. Как прежде, в порту готовились к Карской, но уже не стояли у причалов огромные иностранные пароходы, не сновали по городу веселые, удивленные негры. Как прежде, на лесную биржу с верховьев Енисея, Ангары, Нижней Тунгуски прибывали плоты, и домики на плотах с дымящимися трубами, с развешанным на веревках бельем, как прежде, создавали на Протоке мирное впечатление плавучей деревни. Но опытный взгляд легко мог определить далеко не мирное назначение деревянного сырья, из которого состояла эта деревня.
Однако совсем другая черта поразила меня, когда уже под вечер мы поехали в Медвежий Лог, где когда—то стоял единственный чум моего приятеля эвенка Удагира, а теперь раскинулись два великолепных, просторных квартала двухэтажных домов: мне представилось, что в здешних местах уже как бы перекинут мост между «до войны» и «после войны». Отразившая нападение и победившая жизнь с прежним суровым упрямством утверждала себя в великой северной стройке.
Перед вылетом еще нужно было кое—что сделать, и я отправил штурмана и стрелков на аэродром, а сам остался с Ледковым в его кабинете в окрисполкоме.
Анна Степановна ушла. Но мы условились, что я непременно загляну к ней проститься перед отлетом.
— Ну, скажите откровенно, — сказал Ледков, — как там наш старик? Ведь мы без него, как без рук. И это совсем нетрудно устроить.
— Что именно?
— Вызвать и демобилизовать. Он из возраста вышел.
— Нет, не останется, — сказал я, вспоминая, как сердился Иван Иваныч, когда командир дивизиона не разрешил ему идти в рискованный поход на подводной лодке. — Может быть, в отпуск? А так, насовсем, не захочет. Особенно теперь.
Это «теперь» было сказано в смысле близкого окончания войны, но Ледков понял меня иначе: «Теперь, когда убит Володя».
— Да, жалко Володю, — сказал он. — Что это был за скромный, благородный мальчик! И прекрасные стихи писал. Вы знаете, доктор тайком посылал их Горькому, и потом у Володи была переписка с Горьким. Одну фразу из письма Горького Володе мы взяли как тему для школьного плаката…
И он показал мне этот плакат: «Едва ли где—нибудь на земле есть дети, которые живут в таких же суровых условиях, как вы, но будущей вашей работой вы сделаете всех детей земли такими же гордыми смельчаками». Над этой действительно великолепной фразой был нарисован Горький, немного похожий на ненца.
Мы сидели в креслах у широкого окна, из которого открывалась панорама новых улиц, бегущих от прибрежья к тайге. Лесозавод дымил, электротележки бегали между штабелями у биржи, а вдалеке, нетронутые, сизые, стояли леса и леса…
Это была минута молчания, когда мы не говорили ни слова, но там, за окном, шел властный немой разговор — разговор, который начался в ту минуту, когда советский человек впервые вступил на забытые берега Енисея.
Я искоса взглянул на Ледкова. Он встал и, прихрамывая, — он был на протезе, — подошел к окну. Волнение пробежало по его суровому солдатскому лицу с умными, между припухших монгольских век, глазами я понял, что и он оценил эту минуту.
— Вы много сделали, — сказал я ему.
— Нет, едва коснулись, это первый шаг, — отвечал он. — До войны нам казалось, что сделано много. А теперь я вижу, что из тысячи задач мы решили две или три.
Прощаясь, я спросил о его давней поездке в ненецкие стойбища, где якобы должны были храниться какие—то предания о людях со шхуны «Св. Мария». Правда ли, что он ездил туда и опрашивал ненцев?
— Как же, ездил. Это стойбище рода Яптунгай.
— И что же?
— Нашел.
Как будто мне было семнадцать лет — так вдруг крепко стукнуло сердце.
— То есть? — спросил я хладнокровно.
— Нашел и записал. Сейчас, пожалуй, не вспомню, где эта запись, — сказал он, окидывая взглядом вертящуюся этажерку с множеством папок и свернутых трубок бумаги. — В общем, примерно так: в прежнее время, когда еще «отец отца жил», в род Яптунгай пришел человек, который назвался матросом со зверобойной шхуны, погибшей во льдах Карского моря. Этот матрос рассказал, что десять человек спаслись и перезимовали на каком—то острове к северу от Таймыра. Потом пошли на землю, но дорогой «очень шибко помирать стали». А он «на одном месте помирать не захотел», вперед пошел. И вот добрался до стойбища Яптунгай.
— А имени его не сохранилось?
— Нет. Он скоро умер. У меня записано: «Пришел, говорил — жить буду. Окончив говорить — умер».
Карта Ненецкого округа с куском Карского моря висела в кабинете Ледкова, я нашел привычный маршрут — к Русским островам, к мысу Стерлегова, к устью Пясины…
— А в каком районе кочует род Яптунгай?
Ледков указал. Но еще прежде, чем он указал, я нашел глазами и точно отметил северную границу района.
— Это был матрос со «Святой Марии».
— Вы думаете?
— А вот сосчитаем. По его словам, со шхуны спаслось десять человек.
— Да, десять.
— Со штурманом Климовым ушло тринадцать. На шхуне осталось двенадцать. Из них двое — механик Тисс и матрос Скачков — погибли в первый год дрейфа. Остается десять. Но дело даже не в этом. Я и прежде мог с точностью до полуградуса указать путь, которым они прошли. Но мне было неясно, удалось ли им добраться до Пясины.
— А теперь?
— Теперь ясно.
И я указал точку — точку, где находились остатки экспедиции капитана Татаринова, если они еще находились где—нибудь на земле…
— Дорогая Анна Степановна, это страшное свинство, что я так засиделся с Ледковым, — сказал я, заехав к Анне Степановне ночью и найдя ее поджидающей меня за накрытым столом. — Но надо ехать. Только расцелую вас
— и айда.
Мы обнялись.
— Когда вы вернетесь?
— Кто знает? Может быть, завтра. А может быть, никогда.
— «Никогда» — это слово страшное, я его знаю, — сказала она, вздохнув, и перекрестила меня. — И вы не говорите его. Вернетесь и будете счастливы, и мы, старики, еще погреемся подле вашего счастья.
…Поздней ночью — о том, что была поздняя ночь, можно было догадаться, лишь взглянув на часы, — мы стартовали из Заполярья. Красноватое солнце высоко стояло на небе. Как дым огромного локомотива, бежали, быстро нарастая, пушистые облака.
Думал ли я, что наступает день, которого я ждал всю мою жизнь? Нет! Экипаж без меня проверял моторы, и я беспокоился, основательно ли была сделана эта проверка.
Глава 8. ПОБЕДА.
Мы вылетели в два часа ночи, а в половине пятого утра утопили рейтер. Правда, мы не видели, как он затонул. Но после нашей торпеды он начал «парить», как говорят моряки, то есть потерял ход и скрылся под облаками пара.
В общем, это произошло приблизительно так: он шел с таким видом, что между мною и штурманом произошел краткий спор (который лучше не приводить в этой книге) по вопросу о том, не принадлежит ли этот корабль к составу Северного флота. Убедившись, что это не так, мы ушли от него, как это любил делать мой штурман. Потом резко развернулись и взяли курс на цель.
Жаль, что я не могу нарисовать ту довольно сложную фигуру, которую мне пришлось проделать, чтобы сбросить торпеду по возможности точно. Это была восьмерка, почти полная, причем в перехвате я произвел две атаки — первая была неудачной. Потом мы стали уползать, именно уползать, потому что, как это вскоре выяснилось, и немцы не потеряли времени даром.
Еще во время первого захода стрелок закричал:
— Полна кабина дыму!
Три сильных удара послышались, когда я заходил второй раз, но некогда было думать об этом, потому что я уже лез на рейдер со стиснутыми зубами. Зато теперь у меня было достаточно времени, чтобы убедиться в том, что машина разбита. Горючее текло, масло текло, и если бы не штурман, своевременно пустивший в ход одну новую штуку, мы бы давно погорели. Правый мотор еще над целью перешел с маленького шага на большой, а потом на очень большой — можно сказать, на гигантский.
Конечно, у нас были лодочки и можно было приказать экипажу выпрыгнуть с парашютами. Но эти лодочки мы испытывали под Архангельском, на тихом, глухом озерке, и то, вылезая из воды, дрожали, как собаки. А здесь под нами было такое неуютное, покрытое мелкобитым льдом холодное море!
Не буду перечислять тех кратких докладов о состоянии машины, которые делал мой экипаж. Их было много — гораздо больше, чем мне бы хотелось. После одного из них, очень печального, штурман спросил:
— Будем держаться, Саня?
Еще бы нет! Мы вошли в облачко, и в двойном кольце радуги я увидел внизу отчетливую тень нашего самолета. К сожалению, он снижался. Без всякого повода с моей стороны он вдруг резко пошел на крыло, и если бы можно было увидеть смерть, мы, без сомнения, увидели бы ее на этой плоскости, отвесно направленной к морю.
…Сам не знаю как, но я вывел машину. Чтобы облегчить ее, я приказал стрелку сбросить пулеметные диски. Еще десять минут — и самые пулеметы, кувыркаясь, полетели в море.
— Держимся, Саня?
Конечно, держимся! Я спросил штурмана, как далеко до берега, и он ответил, что недалеко, минут двадцать шесть. Конечно, соврал, чтобы подбодрить меня, — до берега было не меньше чем тридцать.
Не впервые в жизни приходилось мне отсчитывать такие минуты. Случалось, что, преодолевая страх, я отсчитывал их с отчаянием, со злобой. Случалось, что они лежали на сердце, как тяжелые круглые камни, и я тоскливо ждал — когда же, наконец, скатятся в прошлое еще один мучительный камень—минута!
Теперь я не ждал. С бешенством, с азартом, от которого какое—то страшное веселье разливалось в душе, я торопил и подталкивал их.
— Дотянем, Саня?
— Конечно, дотянем!
И мы дотянули. В полукилометре от берега, на который некогда было даже взглянуть, мы плюхнулись в воду и не пошли ко дну, как это ни было странно, а попали на отмель. Ко всем неприятностям теперь присоединились ледяные волны, которые немедленно окатили нас с головы до ног. Но что значили эти волны, и то, что машину мотало с добрый час, пока мы добрались до берега, и тысяча новых трудов и забот в сравнении с короткой фразой в очередной сводке Информбюро: «Один наш самолет не вернулся на базу»?
Почему я решил, что это залив Миддендорфа и что, следовательно, мы сели далеко от жилых мест? Не знаю. Штурману было не до вычислений, и, пока мы шли над морем, его интересовал единственный курс — берег. Теперь ему было снова не до вычислений, потому что я приказал закрепить машину, и мы работали до тех пор, пока не повалились кто где на сухом берегу, между камней, припекаемых солнцем. Тихо лежали мы, глядя в небо — чистое, просторное, ни облачка, ни тучки — и думая каждый о своем. Но это свое у каждого определялось общим чувством: «Победа».
Мы лежали совершенно без сил, трудно было даже стряхнуть с лица налипший песок, и он сам засыхал под солнцем и отваливался кусками. Победа. Погасшая трубка лежала у штурмана на груди, он вдруг громко всхрапнул, и трубка скатилась. Победа. Ничего не надо, только смотреть в это полное голубизны, сияния, могущества небо и чувствовать под ладонями теплые гальки. Победа.
Все было победой, даже то, что страшно хотелось есть, а я не мог заставить себя подняться, чтобы достать из машины бутерброды, которые Анна Степановна сунула мне на дорогу…
Не стоит рассказывать о том, как мы осматривали машину. Очевидно, причиной дыма, о котором доложил стрелок, был снаряд, разорвавшийся в кабине. Если не считать сотни или две пробоин, самолет выглядел вполне прилично — хотя бы в сравнении с той грудой железа, на которой мне иногда приходилось садиться. Но у него был один недостаток — он больше не мог летать, и своими средствами невозможно было привести в порядок моторы.
За обедом — у нас был превосходный обед: на первое суп из сухого молока, шоколада и сливочного масла, а на второе тот же суп, но уже в сухом виде, — было решено.
а) закрепить машину там, где она стояла, глубоко врезавшись в песчаную «кошку», — все равно мы не могли поднять ее на высокий берег;
б) оставить при машине стрелка;
в) идти искать людей и помощь.
Я забыл упомянуть, что еще когда мы тянули над морем, кто—то, кажется радист, заметил на берегу не то дом, не то деревянную вышку. Она пропала, едва мы подрулили под берег, — скрылась за поворотом. Возможно, что это был навигационный знак — то есть прибрежное сооружение, которое очень редко посещается судами. Тогда нам от него было бы мало толку. А если нет?
Впрочем, можно было и никуда не ходить, а после обеда снова завалиться между камней, выбрав уютное подветренное местечко, и отдыхать, глядя на проходящие голубоватые льдины, с которых, звеня и сверкая, сбегала вода. Но радио, к сожалению, было разбито, и как его ни вертел упрямый радист, оно было немо, как камень.
Словом, все—таки нужно было идти. Куда? Очевидно, к этому навигационному знаку, который мог оказаться электромаяком, или туманной предостерегательной станцией, или еще чем—нибудь в этом роде.
— Но, прежде всего, — сказал я штурману, где мы?
Прошло не меньше четверти часа, прежде чем он ответил на этот вопрос! Правда, он называл не те координаты, которые назвал я, когда Ледков спросил, где же, по моему мнению, находятся остатки экспедиции капитана Татаринова.
Но координаты штурмана были так близки к этой точке — точке, в которую я ткнул пальцем на карте Ледкова, — что я невольно осмотрелся вокруг — не увижу ли сейчас в двух шагах, вот за тем камнем, самого капитана…
ЧАСТЬ 10. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА.
Глава 1. РАЗГАДКА.
Пришлось бы написать еще одну книгу, чтобы подробно рассказать о том, как была найдена экспедиция капитана Татаринова. В сущности говоря, у меня было очень много данных — гораздо больше, чем, например, у известного Дюмон—Дюрвиля, который еще мальчиком с поразительной точностью указал, где он найдет экспедицию Лаперуза. Мне было даже легче, чем ему, потому что жизнь капитана Татаринова тесно переплелась с моей и выводы из этих данных, в конечном счете, касались и его и меня.
Вот путь, которым он должен был пройти, если считать бесспорным, что он вернулся к Северной Земле, которая была названа им «Землей Марии»: от 79°35' широты, между 86—м и 87—м меридианами, к Русским островам и к архипелагу Норденшельда. Потом — вероятно, после многих блужданий — от мыса Стерлегова к устью Пясины, где старый ненец встретил лодку на нартах. Потом к Енисею, потому что Енисей — это была единственная надежда встретить людей и помощь. Он шел мористой стороной прибрежных островов, по возможности — прямо…
Мы нашли экспедицию, то есть то, что от нее осталось, в районе, над которым десятки раз летали наши самолеты, везя почту и людей на Диксон, машины и товары на Нордвик, перебрасывая геологические партии для розысков угля, нефти, руды. Если бы капитан Татаринов теперь добрался до устья Енисея, он встретил бы десятки огромных морских судов. На островах, мимо которых он шел, он увидел бы теперь электрические маяки и радиомаяки, он услышал бы наутофоны, громко гудящие во время тумана и указывающие путь кораблям. Еще триста—четыреста километров вверх по Енисею, и он увидел бы Заполярную железную дорогу, соединяющую Дудинку с Норильском. Он увидел бы новые города, возникшие вокруг нефтяных промыслов, вокруг шахт и лесозаводов.
Выше я упомянул, что с первых дней на Севере я писал Кате. Груда не отправленных писем осталась на Н., я надеялся, что мы вместе прочтем их после войны. Эти письма стали чем—то вроде моего дневника, который я вел не для себя, а для Кати. Приведу из него лишь те места, в которых говорится о том, как была открыта стоянка.
1. «…Я был поражен, узнав, как близко подступила жизнь к этому месту, которое казалось мне таким бесконечно далеким. В двух шагах от огромной морской дороги лежит оно, и ты была совершенно права, когда говорила, что „отца не нашли лишь потому, что никогда не искали“. Между маяком и радиостанцией проведена телефонная линия, и не временная, а постоянная, на столбах. Горнорудные разработки ведутся в десяти километрах к югу, так что если бы мы не открыли стоянку, через некоторое время шахтеры наткнулись бы на нее.
…Штурман первый поднял с земли кусок парусины. Ничего удивительного! Мало ли что можно найти на морском берегу! Но это была парусиновая лямка, в которую впрягаются, чтобы тащить нарты. Потом стрелок нашел алюминиевую крышку от кастрюли, измятую жестянку, в которой лежали клубки веревок, и тогда мы разбили ложбину от холмов до гряды на несколько квадратов и стали бродить — каждый по своему квадрату…
Я где—то читал, как по одной надписи, вырезанной на камне, ученые открыли жизнь целой страны, погибшей еще до нашей эры. Так постепенно стало оживать перед нами это место. Я первый увидел брезентовую лодку, то есть, вернее, понял, что этот сплющенный блин, боком торчащий из размытой земли, — лодка, да еще поставленная на сани. В ней лежали два ружья, какая—то шкура, секстант и полевой бинокль, все заржавленное, заплесневелое, заросшее мхом. У гряды, защищающей лагерь с моря, мы нашли разную одежду, между прочим расползшийся спальный мешок из оленьего меха. Очевидно, здесь была разбита палатка, потому что бревна плавника лежали под углом, образуя вместе со скалой закрытый четырехугольник. В этой «палатке» мы нашли корзинку из—под провизии с лоскутом парусины вместо замка, несколько шерстяных чулок и обрывки белого с голубым одеяла. Мы нашли еще топор и «удочку» — то есть бечевку, на конце которой был привязан самодельный крючок из булавки. Часть вещей валялась около «палатки» — спиртовая лампочка, ложка, деревянный ящичек, в котором лежало много всякой всячины и, между прочим, несколько толстых, тоже самодельных, парусных игл. На некоторых вещах еще можно было разобрать круглую печать «Зверобойная шхуна „Св. Мария“ или надпись „Св. Мария“. Но этот лагерь был совершенно пуст — ни живых, ни мертвых».
2. «…Это была самодельная походная кухня — жестяной кожух, в который было вставлено ведро с крышкой. Обычно под такое ведро подставляют железный поддонок, в котором горит медвежье или тюленье сало. Но не поддонок, а обыкновенный примус стоял в кожухе; я потряс его — и оказалось, в нем еще был керосин. Попробовал накачать — и керосин побежал тонкой струйкой. Рядом мы нашли консервную банку с надписью: „Борщ малороссийский. Фабрика Вихорева. Санкт—Петербург, 1912“. При желании можно было вскрыть этот борщ и подогреть его на примусе, который пролежал в земле около тридцати лет».
3. «…Мы вернулись в лагерь после безуспешных поисков по направлению к Гальчихе. На этот раз мы подошли к нему с юго—востока, и холмы, которые казались нам однообразно волнистыми, теперь предстали в другом, неожиданном виде. Это был один большой скат, переходящий в каменистую тундру и пересеченный глубокими ложбинами, как будто вырытыми человеческой рукой. Мы шли по одной из этих ложбин, и никто сначала не обратил внимания на полу развалившийся штабель плавника между двумя огромными валунами. Бревен было немного, штук шесть, но среди них одно отпиленное. Отпиленное — это нас поразило! До сих пор мы считали, что лагерь был расположен между скалистой грядой и холмами. Но он мог быть перенесен, и очень скоро мы убедились в этом.
Трудно даже приблизительно перечислить все предметы, которые были найдены в этой ложбине. Мы нашли часы, охотничий нож, несколько лыжных палок, два одноствольных ружья системы «Ремингтон», кожаную жилетку, трубочку с какой—то мазью. Мы нашли полу истлевший мешок с фотопленками. И наконец — в самой глубокой ложбине мы нашли палатку, и под этой палаткой, на кромках которой еще лежали бревна плавника и китовая кость, чтобы ее не сорвало бурей, под этой палаткой, которую пришлось вырубать изо льда топорами, мы нашли того, кого искали…
Еще можно было догадаться, в каком положении он умер, — откинув правую руку в сторону, вытянувшись и, кажется, прислушиваясь к чему—то. Он лежал ничком, и сумка, в которой мы нашли его прощальные письма, лежала у него под грудью. Без сомнения, он надеялся, что письма лучше сохранятся, прикрытые его телом».
4. «…Не было и не могло быть надежды, что мы увидим его. Но пока не была названа смерть, пока я не увидел ее своими глазами, все светила в душе эта детская мысль. Теперь погасла — но ярко загорелась другая: не случайно, не напрасно искал я его — для него нет и не будет смерти. Час назад пароход подошел к электромаяку, и моряки, обнажив головы, перенесли на борт гроб, покрытый остатками истлевшей палатки. Салют раздался, и пароход в знак траура приспустил флаг. Я один еще брожу по опустевшему лагерю „Св. Марии“ и вот пишу тебе, мой друг, родная Катя. Как бы мне хотелось быть сейчас с тобою! Скоро тридцать лет, как кончилась эта мужественная борьба за жизнь, но я знаю, что для тебя он умер только сегодня. Как будто с фронта пишу я тебе — о друге и отце, погибшем в бою. Скорбь и гордость за него волнуют меня, и перед зрелищем бессмертия страстно замирает душа…»
Глава 2. САМОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ.
«Как бы мне хотелось быть сейчас с тобою», — я читал и перечитывал эти слова, и они казались мне такими холодными и пустыми, как будто в пустой и холодной комнате я говорил со своим отражением. Катя была нужна мне, а не этот дневник — живая, умная, милая Катя, которая верила мне и любила меня. Когда—то, потрясенный тем, что она отвернулась от меня на похоронах Марьи Васильевны, я мечтал о том, что приду к ней, как Овод, и брошу к ее ногам доказательства своей правоты. Потом я сделал то, что весь мир узнал об ее отце и он стал национальным героем. Но для Кати он остался отцом — кто же, если не она должна была первая узнать о том, что я нашел его? Кто же, если не она говорила мне, что все будет прекрасно, если сказки, в которые мы верим, еще живут на земле? Среди забот, трудов и волнений войны я нашел его. Не мальчик, потрясенный туманным видением Арктики, озарившим его немой, полусознательный мир, не юноша, с молодым упрямством стремившийся настоять на своем, — нет, зрелый, испытавший все человек, я стоял перед открытием, которое должно было войти в историю русской науки. Я был горд и счастлив. Но что мог я сделать с моим сердцем, которое томилось горьким чувством, что все могло быть иначе!
Лишь в конце января я вернулся в полк. На следующий день меня вызвал командующий Северным флотом.
…Никогда не забуду этого утра — и вовсе не потому, что своими бледными и в то же время смелыми красками оно представилось мне как бы первым утром на земле. Для Крайнего Севера это характерное чувство. Но точно ожидание какого—то чуда стеснило мне грудь, когда, покурив и поболтав с командиром катера, я поднялся и встал на палубе среди тяжелого, разорванного тумана. То заходил он на палубу, то уходил, и между его дикими клочьями показывалась над сопками полная луна с вертикальными, вверх и вниз, снопами. Потом она стала ясная, как бы победившая все вокруг, но побледневшая, обессилевшая, когда оказалось, что мы идем к утреннему, розовому небу. Через несколько минут она в последний раз мелькнула среди проносящегося, тающего тумана, и голубое, розовое, снежное утро встало над Кольским заливом.
Мы вошли в бухту, и такой же, как это утро, белый, розовый, снежный городок открылся передо мной.
Он был виден весь, как будто нарочно поставленный на серый высокий склон с красивыми просветами гранита. Белые домики с крылечками, от которых в разные стороны разбегались ступени, были расположены линиями, одна над другой, а вдоль бухты стояли большие каменные дома, построенные полукругом. Потом я узнал, что они так и назывались — циркульными, точно гигантский циркуль провел этот полукруг над Екатерининской бухтой.
Поднявшись на высокую лестницу, которая вела под арку, перекинутую между этими домами, я увидел бухту от берега до берега, и непонятное волнение, которое все утро то пробуждалось, то утихало в душе, вновь овладело мною с какой—то пронзительной силой. Бухта была темно—зеленая, непроницаемая, лишь поблескивающая от света неба. Что—то очень далекое, южное, напоминающее высокогорные кавказские озера, было в этой замкнутости берегов, — но на той стороне убегали сопки, покрытые снегом, и на их ослепительном фоне лишь кое—где был виден тонкий черный рисунок каких—то невысоких деревьев.
Я не верю в предчувствия, но это слово невольно пришло мне в голову, когда, пораженный красотой Полярного и Екатерининской бухты, я стоял у циркульного дома. Точно это была моя родина, которую до сих пор я лишь видел во сне и напрасно искал долгие годы, — таким явился передо мной этот город. И в радостном возбуждении я стал думать, что здесь непременно должно произойти что—то очень хорошее для меня и даже, может быть, самое лучшее в жизни.
В штабе еще никого не было. Я пришел до начала занятий. Ночной дежурный сказал, что, насколько ему известно, мне приказано явиться к десяти часам, а сейчас половина восьмого.
Не знаю отчего, но с облегчением, точно это было хорошо, что еще половина восьмого, я вышел и снова стал смотреть на бухту из—под арки циркульного дома.
Все изменилось, пока я был в штабе: бухта стала теперь серая, строгая между серых, строгих берегов, и в глубине перспективы медленно двигался к Полярному какой—то разлапый пароходик. Мне захотелось взглянуть, как он будет подходить, и я перешел на другую лестницу, которая поворачивала под углом, переходя в просторную площадку.
Это был один из двух пассажирских пароходов, ходивших между Мурманском и Полярным. Очередь к патрулю, проверявшему документы, выстроилась на сходнях. Среди моряков, сошедших на берег, было несколько штатских и даже три или четыре женщины с корзинками и узлами…
Без сомнения, это осталось от тех печальных времен, когда, убежав от Гаера Кулия, я подолгу сиживал на пристани у слияния Песчинки и Тихой. Подходил пароход, канат летел с борта, матрос ловко, кругами закидывал его на косую торчащую стойку, сразу много людей появлялось на пристани, так что она даже заметно погружалась в воду, — и никому из этих шумных, веселых, отлично одетых людей не было до меня никакого дела. Когда бы потом в жизни я ни видел радостную суматоху приезда, ощущение заброшенности и одиночества неизменно возвращалось ко мне.
Но на этот раз, вероятно потому, что это был совсем другой приезд, зимний, и на берег сошли совсем другие, озабоченные, военные люди, я не испытал подобного чувства.
Очень странно, но, как все, что я видел в Полярном, мне был приятен этот старенький пароход, и нетерпеливая очередь, заполнившая сходни, и одинокие фигуры, идущие по берегу к домику, где нужно было зарегистрировать командировки. Все это относилось к моему ожиданию самого лучшего в жизни, но, как и почему — этого я бы не мог объяснить.
Еще рано было возвращаться в штаб, и я пошел искать доктора, но не в госпиталь, а на его городскую квартиру.
Конечно, он жил в одном из этих белых домиков, расположенных линиями, одна над другой. С моря они показались мне куда изящнее и стройнее. Вот и первая линия, а мне нужно на пятую линию, семь.
Как ненцы, я шел и думал обо всем, что видел. Англичане в смешных зимних шапках, похожих на наши ямщицкие, и в балахонах защитного цвета обогнали меня, и я подумал о том, что по этим балахонам видно, как плохо представляют они себе нашу зиму. Мальчик в белой пушистой шубке, серьезный и толстый, шел с лопаткой на плече, усатый моряк подхватил его, немного пронес, и я подумал о том, что, наверное, в Полярном очень мало детей.
Ничем не отличался этот дом на пятой линии, семь, от любого соседа по правую и левую руку, разве что на лестнице его был настоящий каток, сквозь который едва просвечивали ступени. С размаху я взбежал на крыльцо. Какие—то моряки вышли в эту минуту, я столкнулся с ними, и один из них, осторожно скользя по катку, сказал, что «неспособность разобраться в обстановке полярной ночи указывает на недостаток в организме витаминов». Это были врачи. Несомненно, Иван Иваныч жил в этом доме.
Зайдя в переднюю, я толкнул одну дверь, потом другую. Обе комнаты были пустые, пропахшие табаком, с открытыми койками и по—мужски разбросанными вещами, и в обеих было что—то гостеприимное, точно хозяева нарочно оставили открытыми двери.
— Есть тут кто?
Нечего было и спрашивать. Я вернулся на улицу. Баба с подоткнутым подолом терла снегом босые ноги — я спросил у нее, точно ли этот дом номер семь.
— А вам кого?
— Доктора Павлова.
— Он, верно, спит еще, — сказала баба. — Вы обойдите, вон его окно. И стукните хорошенько!
Проще было постучать доктору в дверь, но я почему—то послушался и подошел к окну. Дом стоял на косогоре, и это окно на задней стороне приходилось довольно низко над землей. Оно было в инее, но, когда я постучал и стал всматриваться, прикрыв глаза ладонью, мне почудились очертания женской фигуры. Казалось, женщина стояла, склонившись над корзиной или чемоданом, а теперь выпрямилась, когда я постучал, и подошла к окну. Так же, как я, она поставила ладонь козырьком над глазами, и сквозь дробящийся гранями иней я увидел чье—то тоже дробящееся за мутным стеклом лицо.
Женщина шевельнула губами. Она ничего не сделала, только шевельнула губами. Она была почти не видна за снежным, матовым, мутным стеклом. Но я узнал ее. Это была Катя.
Глава 3. ЭТО БЫЛА КАТЯ.
Как рассказать о первых минутах нашей встречи, о беспамятстве, с которым я вглядывался в ее лицо, целовал и снова вглядывался, начинал спрашивать и перебивал себя, потому что все, о чем я спрашивал, было давно, тысячу лет назад, и как бы ни было страшно то, что она мучилась и умирала от голода в Ленинграде и перестала надеяться, что увидит меня, но все это прошло, миновало, и вот она стоит передо мной, и я могу обнять ее, — господи, этому невозможно поверить!
Она была бледна и очень похудела, что—то новое появилось в лице, потерявшем прежнюю строгость.
— Катька, да ты постриглась!
— Давно, еще в Ярославле, когда болела.
Она не только постриглась, она стала другая, но сейчас я не хотел думать об этом, — все летело, летело куда—то — и мы, и эта комната, совершенно такая же, как две соседние, с разбросанными вещами, с открытым Катиным чемоданом, из которого она что—то доставала, когда я постучал, с доктором, который, оказывается, все время был здесь же, стоял в углу, вытирая платком бороду, а потом стал уходить на цыпочках, но я его не пустил. Но главное, самое главное — все время я забывал о нем! — Катя в Полярном! Как это вышло, что Катя оказалась в Полярном?
— Господи, да я писала тебе каждый день! Мы на час разошлись в Москве. Когда ты заходил к Вале Жукову, я стояла на Арбате в очереди за хлебом.
— Не может быть!
— Ты оставил ему письмо, я сразу побежала искать тебя — но куда? Кто же мог думать, что ты пойдешь к Ромашову!
— Откуда ты знаешь, что я пошел к Ромашову?
— Я все знаю, все! Милый мой, дорогой!
Она целовала меня.
— Я тебе все расскажу.
И она рассказала, что Вышимирский, перепуганный насмерть, разыскал Ивана Павлыча и объявил ему, что я арестовал Ромашова.
— Но кто этот контр—адмирал Р.? Я писала ему для тебя, потом лично ему — никакого ответа! Ты не знал, что едешь сюда? Почему я должна была писать ему для тебя?
— Потому что у меня не было своего адреса… Из Москвы я поехал искать тебя.
— Куда?
— В Ярославль. Я был в Ярославле. Я уже собрался в Новосибирск, когда получил назначение.
— Почему ты не написал Кораблеву, когда приехал сюда?
— Не знаю. Боже мой, неужели это ты? Ты — Катя?
Мы ходили обнявшись, натыкаясь на вещи, и снова все спрашивали — почему, почему, и этих «почему» было так же много, как много было причин, которые разлучили нас под Ленинградом, провели по соседним улицам в Москве, а теперь столкнули в Полярном, куда я только что приехал впервые и где еще полчаса назад невозможно было вообразить мою Катю!
О том, что я нашел экспедицию, она узнала из телеграммы ТАСС, появившейся в центральных газетах. Она снеслась с доктором, и он помог ей получить пропуск в Полярное. Но они не знали, куда мне писать, — да если бы это и было известно, едва ли дошли бы до стоянки экспедиции капитана Татаринова их телеграммы и письма!
Доктор куда—то исчез, потом вернулся с горячим чайником и не то что остановил эту скорость, с которой все летело куда—то вперед, а хоть посадил нас рядом на диван и стал угощать какими—то железными сухарями. Потом он притащил бидон со сгущенным молоком и поставил его на стол, извинившись за посуду.
Потом ушел. Я больше не задерживал его, и мы остались одни в этом холодном доме, с кухней, которая была завалена банками от консервов и грязной посудой, с передней, в которой не таял снег. Почему мы оказались в этом доме, из окон которого видны сопки и видно, как тяжелая вода важно ходит между обрывистыми снежными берегами? Но это было еще одно «почему», на которое я не старался найти ответа.
Уходя, доктор сунул мне какую—то электрическую штуку, я сразу забыл о ней и вспомнил, когда, засмеявшись чему—то, заметил, что у меня, как у лошади на морозе, изо рта валит густой, медленно тающий пар. Эта штука была камином, очевидно местной конструкции, но очень хорошим, судя по тому, как он бодро, хрипло гудел до утра. Очень скоро в комнате стало тепло. Катя хотела прибрать ее, но я не дал. Я смотрел на нее. Я крепко держал ее за руки, точно она могла так же внезапно исчезнуть, как появилась…
Еще идя к доктору, я заметил, что погода стала меняться, а теперь, когда вышел из дому, потому что было уже без четверти десять, прежний холодный, звенящий ветер упал, воздух стал непрозрачный, и мягкий снег повалил тяжело и быстро — верные признаки приближения пурги.
К моему изумлению, в штабе уже знали о том, что приехала Катя. Знал и командующий — почему бы иначе он встретил меня улыбаясь? Очень кратко я доложил ему, как был потоплен рейдер, и он не стал расспрашивать, только сказал, что вечером мне предстоит рассказать об этом на военном совете. Экспедиция «Св. Марии» — вот что интересовало его!
Я начал сдержанно, неловко — хотя самая странность того, что экспедиция была найдена во время выполнения боевого задания, вовсе не показалась бы странностью тому, кто знал мою жизнь. Каким же образом в двух словах передать эту мысль командующему флотом? Но он слушал с таким вниманием, с таким искренним, молодым интересом, что, в конце концов, я махнул рукой на эти «два слова», — начал рассказывать попросту, — и вдруг получилось именно так, как все это действительно было.
Мы расстались наконец, и то лишь потому, что адмирал вспомнил о Кате…
Не знаю, сколько времени я провел у него, должно быть час или немного больше, а между тем, выйдя, я не нашел Полярного, которое скрылось в кружении летящего, слепящего, свистящего снега.
Хорошо, что я был в бурках, — и то пришлось выше колен поднять отвороты. Какие там линии — и в помине не было линий! Лишь фантастическое воображение могло представить, что где—то за этими черными тучами сталкивающегося снега стоят дома и в одном из них, на пятой линии, семь, Катя кладет твердые, как железо, галеты на камин, чтобы отогреть их, по моему совету. Конечно, я добрался до этого дома. Самым трудным оказалось узнать его — за полчаса он стал похож на сказочную избушку, скосившуюся набок и заваленную снегом по окна. Как бог пурги, ввалился я в переднюю, и Кате пришлось обметать меня веником, начиная с плеч, на которых выросли и примерзли высокие ледяные нашлепки.
…Уже все, кажется, было переговорено, уже дважды мы наткнулись на прощальные письма капитана, — я привез их в Полярное, хотел показать доктору; другие материалы экспедиции остались в полку. Но мы обошли эти письма и все, что было связано с ними, точно почувствовав, что в счастье нашей встречи об этом еще нельзя говорить.
Уже Катя рассказала, какой стал Петенька, — смуглый и чуть—чуть косит, одно лицо с покойной сестрой. Уже мы посоветовались, что делать с бабушкой, которая поссорилась с директором Перышкиным и сняла в колхозе «отдельную квартиру». Уже я узнал, что большой Петя был снова ранен и награжден и вернулся на фронт — в Москве Катя случайно познакомилась с командиром его батальона, Героем Советского Союза, и тот сказал, что Петя «плевал на эту смерть» — слова, поразившие Катю. И о Варе Трофимовой я узнал, что если все будет, как думает Катя, «для них обоих это счастье и счастье». Уже изменилось что—то в комнате — иначе, удобнее расположились вещи, точно были благодарны Кате за то, что в мужской, холодной комнате доктора стало тепло. Уже прошло пять или шесть часов с тех пор, как произошла эта чудная, бесконечно важная для меня перемена, — весь мир нашей семейной жизни, покинувший нас так надолго, на полтора страшных года, вернулся наконец, — а я все еще не мог привыкнуть к мысли, что Катя со мною.
— Знаешь, о чем я думал чаще всего? Что я мало любил тебя и забывал о том, как тебе трудно со мною.
— А я думала, как тебе было трудно со мною. Когда ты уезжал и я волновалась за тебя, со всеми тревогами, заботами, страхом, это было все—таки счастье.
Мы говорили, и она еще продолжала что—то устраивать, как всегда в гостиницах, даже в поездах, везде, где мы бывали вдвоем. Это была привычка женщины, постоянно переезжающей с мужем с места на место, — и с какою жалостью, нежностью, раскаянием я почувствовал Катю в этой печальной привычке!
Потом пришел сосед, тот самый моряк, который сказал, что я неспособен разобраться в обстановке полярной ночи, — толстый, низенький, красный человек и великолепный едок — в этом мы убедились немного позднее.
Он зашел познакомиться и с первого слова объявил, что он — коллега Ивана Ивановича, приехавший в Полярное, чтобы испытать на подводных лодках какие—то спасательные приборы. Вечером он собирался в Мурманск, но проклятая пурга спутала все расчеты.
— Не дают «добро», — сказал он со вздохом, — так что больше ничего не остается, как закусить и выпить:
У Ивана Ивановича были вино и консервы, но он сказал, что это не то, и принес свои вино и консервы. Пыхтя, он открыл консервы и, зачем—то засучив рукава, стал подогревать их на камине. Мы с Катей что—то ели весь день, и он, не очень огорчившись нашим отказом, сам быстро, аппетитно все съел и выпил. Он уже знал от доктора, что мы потеряли и нашли друг друга, и поздравил нас, а потом объявил, что знает тысячи подобных историй.
— И это еще удачно, что ни вы, ни мадам не жалеете о холостой жизни, — поучительно сказал он. — Да—с, бывает и так!
Не помню, о чем еще мы болтали, только помню, что оттого, что, кроме нас, был кто—то чужой, еще острее чувствовалось счастье.
Потом он ушел и весь вечер звонил в порт — не дают ли «добро»? Но какое уж там «добро», когда пурга еще только что пошла бродить—гулять над Баренцевым морем! Даже в доме окна начинали внезапно дрожать, точно кто—то тряс их снаружи, стучась то робко, то смело.
Мы были одни. Я не мог насмотреться на Катю. Боже мой, как я стосковался по ней! Я все забыл! Я забыл, например, как она убирает волосы на ночь — заплетает косички. Теперь волосы отрасли еще мало, и косички вышли коротенькие, смешные. Но все—таки она заплела их, открыв маленькие, красивые уши, которые я тоже забыл.
Опять мы говорили, теперь шепотом, и совсем о другом — после того, как долго молчали. Это другое было Ромашов.
Не помню, где я читал о палимпсестах, то есть старинных пергаментах, с которых позднейшие писцы стирали текст и писали счета и расписки, но через много лет ученые открывали первоначальный текст, иногда принадлежавший перу гениальных поэтов.
Это было похоже на палимпсест, когда Катя рассказала мне, что, по словам Ромашова, произошло в осиновой роще, а затем я, как резинкой, стер эту ложь и под ней проступила правда. Я понял и объяснил ей тот сложный, подлый ход в его подлой игре, который он сделал дважды — сперва для того, чтобы показать Кате, что он спас меня, а потом — чтобы доказать мне, что он спас Катю.
Слово в слово я передал ей наш последний разговор на Собачьей Площадке, и Катя была поражена признанием Ромашова — признанием, объяснившим мои неудачи и раскрывшим загадки, которые всегда тяготили ее.
— И ты все записал?
— Да. Изложил, как в протоколе, и заставил его подписаться.
Я повторял его рассказ о том, как всю жизнь он следил за мной, мучаясь от зависти, со школьных лет тяготившей его пустую, беспокойную душу. Но о великолепном Катином портрете над его столом я ничего не сказал. Я не сказал, потому что эта любовь была оскорбительна для нее.
Она слушала меня, и у нее было мрачное лицо, а глаза горели, горели… Она взяла мою руку и крепко прижала к груди. Она была бледна от волнения. Она ненавидела Ромашова вдвое и втрое, может быть, за то, о чем я не хотел говорить. А для меня он был далек и ничтожен, и мне было весело думать, что я победил его…
Все еще спрашивал толстый доктор, дают ли «добро», и по—прежнему не давали «добро», потому что по—прежнему не унималась, рвалась, рассыпалась снежным зарядом пурга. И к нам заглянула она на Рыбачий и к немцам, гоня волну на их суда, спрятавшиеся в норвежских фиордах. Не дают «добро», закрыт порт, шторм девять баллов.
Спит жена, положив под щеку ладонь, красивая и умная, которая, не знаю за что, навсегда полюбила меня. Она спит, и можно долго смотреть на нее и думать, что мы одни и что хотя скоро кончится эта недолгая счастливая ночь, а все—таки мы отняли ее у этой дикой пурги, которая ходит—гуляет над миром.
Мне нужно было вставать в шестом часу, я упросил Катю, чтобы она позволила мне не будить ее, и мы даже простились накануне. Но, когда я открыл глаза, она уже мыла посуду, в халатике, и прислоняла мокрые тарелки к камину. Она знала, где я служу, но мы не говорили об этом. Только когда я заторопился и встал, оставив недопитый стакан, она спросила, как бывало прежде, беру ли я с собой парашют. Я сказал, что беру.
Мы вышли с толстым доктором. Пурга улеглась, и весь город был в длинных, протянувшихся вдоль дорог, круто срезанных снежных дюнах.
Глава 4. ПРОЩАЛЬНЫЕ ПИСЬМА.
Уходя, я отдал Кате прощальные письма капитана. Когда—то в Энске, в Соборном саду, я так же оставил ее одну за чтением письма, которое мы с тетей Дашей нашли в сумке утонувшего почтальона. Я стоял тогда под башней старца Мартына, и мне становилось холодно, когда мысленно вместе с Катей я читал строчку за строчкой.
Теперь я мог увидеть ее лишь через несколько дней. Но все равно, мы снова читали вместе, я знал, что Катя чувствует мое дыхание за своими плечами. Вот эти письма.
1
Санкт—Петербург. Главное Гидрографическое управление. Капитану первого ранта П.С.Соколову.
Дорогой мой Петр Сергеевич!
Надеюсь, что это письмо дойдет до вас. Я пишу его в ту минуту, когда наше путешествие подходит к концу, и, к сожалению, заканчиваю его в одиночестве. Не думаю, чтоб кто—нибудь на свете мог справиться с тем, что пришлось перенести нам. Все мои товарищи погибли один за другим, а разведывательная партия, которую я послал в Гальчиху, не вернулась.
Я оставляю Машу и вашу крестницу в тяжелом положении. Если бы я знал, что они обеспечены, то не очень терзался бы, покидая сей мир, потому что чувствую, что нашей родине не приходится нас стыдиться. У нас была большая неудача, но мы исправили ее, вернувшись к открытой нами земле и изучив ее, сколько в наших силах.
Мои последние мысли — о жене и ребенке. Очень хочется, чтобы у дочки была удача в жизни. Помогите им, как вы помогали мне. Умирая, я с глубокой благодарностью думаю о вас и о моих лучших годах молодости, когда я работал под вашим руководством.
Обнимаю вас. Иван Татаринов.2
Его Превосходительству Начальнику Главного
Гидрографического управления
Начальника экспедиции на судне «Св. Мария»
И.Л.Татаринова
Рапорт
Настоящим имею честь довести до сведения Главного Гидрографического управления нижеследующее:
1915 года, марта месяца 16 дня, в широте, обсервированной 79°08'30», и в долготе от Гринвича 89°55'00», с борта дрейфующего судна «Св. Мария» при хорошей видимости и ясном небе была замечена на восток от судна неизвестная обширная земля с высокими горами и ледниками. На нахождение земли в этом районе и раньше указывали некоторые признаки: так, еще в августе 1912 года мы видели большие стаи гусей, летевших с севера курсом норд—норд—ост — зюйд—зюйд—вест. В начале апреля 1913 года мы видели на норд—остовом горизонте резкую серебристую полоску и над нею очень странные по форме облака, похожие на туман, окутавший далекие горы.
Открытие земли, тянущейся в меридиональном направлении, дало нам надежду покинуть судно при первом благоприятном случае, чтобы, выйдя на сушу, следовать вдоль ее берегов по направлению Таймырского полуострова и дальше, до первых сибирских поселений в устьях реки Хатанги или Енисея, смотря по обстоятельствам. В это время направление нашего дрейфа не оставляло сомнений. Судно двигалось вместе со льдом генеральным курсом норд 7° к весту. Даже в случае изменения этого курса на более западный, то есть параллельно движению нансеновского «Фрама», мы не могли выйти изо льдов раньше осени 1916 года, а провизии имели только до лета 1915 года.
После многочисленных затруднений, не имеющих отношения к существу настоящего рапорта, нам удалось 23 мая 1915 года выйти на берег вновь открытой земли в широте 81°09' и долготе 58°36'. Это был покрытый льдом остров, обозначенный на приложенной к сему рапорту карте под литерой А. Только через пять дней нам удалось достичь второго, огромного острова, одного из трех или четырех, составляющих новооткрытую землю. Определенный мною астрономический пункт на выдающемся мысе этого острова, обозначенного литерой Г, дал координаты 80°26'30» и 92°08'00».
Двигаясь к югу вдоль берегов этой неизвестной земли, я исследовал ее берега между 81—й и 79—й нордовыми параллелями. В северной части берег представляет собой довольно низменную землю, частично покрытую обширным ледником. Дальше к югу он становится более высоким и свободен ото льда. Здесь мы нашли плавник. В широте 80° обнаружен широкий пролив или залив, идущий от пункта под литерой С в OSO направлении.
Начиная от пункта под литерой Ф, берег круто поворачивает в зюйд—зюйд—вестовом направлении. Я намеревался исследовать южный берег вновь открытой земли, но в это время было уже решено двигаться вдоль берега Харитона Лаптева по направлению к Енисею.
Доводя до сведения Управления о сделанных мною открытиях, считаю необходимым отметить, что определения долгот считаю не вполне надежными, так как судовые хронометры, несмотря на тщательный уход, не имели поправки времени в течение более двух лет.
Иван Татаринов.
При сем: 1. Заверенная копия вахтенного журнала судна «Св. Мария».
2. Копия хронометрического журнала.
3. Холщовая тетрадь с вычислениями и данными съемки.
4. Карта заснятой местности.
18 июня 1915 года.
Лагерь на острове 4 в Русском Архипелаге.
3
Дорогая Маша!
Боюсь, что с нами кончено, и у меня нет надежды даже на то, что ты когда—нибудь прочтешь эти строки. Мы больше не можем идти, мерзнем на ходу, на привалах, даже за едой никак не согреться. Ноги очень плохи особенно правая, и я даже не знаю, как и когда я ее отморозил. По привычке, я пишу еще «мы», хотя вот уже три дня, как бедный Колпаков умер. И я не могу даже похоронить его — пурга! Четыре дня пурги — оказалось, что для нас это слишком много.
Скоро моя очередь, но я совершенно не боюсь смерти, очевидно потому, что сделал больше, чем в моих силах, чтобы остаться жить.
Я очень виноват перед тобой, и эта мысль — самая тяжелая, хотя и другие не многим легче.
Сколько беспокойства, сколько горя перенесла ты за эти годы — и вот еще одно, самое большое. Но не считай себя связанной на всю жизнь и, если встретишь человека, с которым будешь счастлива, помни, что я этого желаю. Так скажи и Нине Капитоновне. Обнимаю ее и прошу помочь тебе, сколько в ее силах, особенно насчет Кати.
У нас было очень тяжелое путешествие, но мы хорошо держались и, вероятно, справились бы с нашей задачей, если бы не задержались со снаряжением и если бы, то снаряжение не было таким плохим.
Дорогая моя Машенька, как—то вы будете жить без меня! И Катя, Катя! Я знаю, кто мог бы помочь вам, но в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. Не судьба была мне открыто высказать ему все, что за эти годы накипело на сердце. В нем воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам, и горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя бы не мешали. Что делать? Одно утешение — что моими трудами открыты и присоединены к России новые обширные земли. Трудно мне оторваться от этого письма, от последнего разговора с тобой, дорогая Маша. Береги дочку да смотри, чтобы она не ленилась. Это — моя черта, я всегда был ленив и слишком доверчив.
Катя, доченька моя! Узнаешь ли ты когда—нибудь, как много я думал о тебе и как мне хотелось еще хоть разок взглянуть на тебя перед смертью!
Но хватит. Руки зябнут, а мне еще писать и писать. Обнимаю вас. Ваш навеки.
Глава 5. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА.
Мне не хотелось, чтобы Катя оставалась в комнате доктора, тем более, что это была комната даже и не доктора, а одного погибшего командира. Вещи и мебель принадлежали ему. Вдруг остановившаяся жизнь была видна во всем — в робких, неоконченных акварелях, изображавших виды Полярного и симметрически висевших на стенах, в аккуратной стопочке специальных книг, в фотографиях, которых здесь было очень много — все девушка с длинными косами, в украинском костюме, и она же постарше, с голым толстым младенцем на руках.
Разные, совершенно ненужные мысли сами собой рождаются в подобных комнатах, и женщине, у которой муж служит в авиации, не всегда легко прогнать подобные мысли. Но Катя решила остаться.
— Что ж такого! — сказала она. — Это самая обыкновенная вещь.
Я не настаивал, тем более, что мог приезжать в Полярное сравнительно редко, и мне было приятно знать, что Катя живет подле доктора Ивана Ивановича и видит его каждый день. Сразу же она стала работать — сперва в госпитале медицинской сестрой, а потом в Старом Полярном, где у доктора был амбулаторный прием. Когда через две недели я опять приехал, она была уже полна интересами своей новой жизни. Удивительно быстро вошла она в эту жизнь.
Из этих мест уходили суда, чтобы на дальних и ближних морских дорогах встречать союзные и топить германские конвои, и все, что происходило в городке, так или иначе было связано с этой борьбой. Любимых командиров знали по именам. Впрочем, многих из них давно уже знает по именам весь Советский Союз.
Необычайная близость тыла и фронта, поразившая меня в Н., здесь была еще заметнее, потому что сама жизнь в Полярном была гораздо сложнее и богаче. Не «случалась» эта жизнь, а шла — по всему было видно, что люди, от командующего до любого краснофлотца, прочно расположились среди этих диких скал и будут воевать до победы. Именно потому, что это было ровное напряжение, оно и проникало так глубоко в любую мелочь повседневного существования.
Вспоминая зиму 1942 — 1943 года в Полярном, я вижу, что это была едва ли не самая счастливая семейная зима в нашей жизни. Это может показаться странным, если представить себе, что почти через день я летал на бомбежку германских судов. Но одно было летать, не зная, что с Катей, и совершенно другое — зная, что она в Полярном, жива и здорова и что на днях я увижу ее разливающей чай за столом. Зеленый шелковый абажур, к которому были приколоты чертики, искусно вырезанные Иваном Ивановичем из плотной бумаги, висел над этим столом, и все, что радовало нас с Катей в ту памятную зиму, рисуется мне в светлом кругу, очерченном границами зеленого абажура, а все, что заботило и огорчало, прячется в далеких, темных углах.
Я помню наши вечера, когда после долгих, напрасных попыток связаться с доктором я ловил первый попавшийся катер, являлся в Полярное, и друзья, как бы ни было поздно, собирались в этом светлом кругу. Что ночь, и днем — ночь!
Толстый доктор—едок выползал из своей комнаты в огромной шубе—кухлянке и занимал за столом если не наиболее видное, то, во всяком случае, наиболее шумное место. Самый его вид нетерпеливого ожидания чего—то хорошего или хотя бы веселого, казалось, производил шум. Даже когда он молчал, слышно было, как он пыхтит, жует или просто громко дышит.
За ним — если считать по шуму — очевидно, следовал я. В самом деле, никогда я еще так много не говорил, не пил, не смеялся! Как будто чувство, которое овладело мною, когда я увидел Катю, так и осталось в душе — все летело, летело куда—то… Куда? Кто знает! Я верил, что к счастью. Что касается доктора Ивана Иваныча, который чувствовал себя совсем больным после гибели сына, то и он оживал на наших вечерах и все чаще цитировал — главным образом по поводу международных проблем — своего любимого автора Козьму Пруткова.
Наконец на последнее место — если считать по шуму — нужно поставить моего штурмана, который вообще не говорил ни слова, а только задумчиво сдвигал брови и, вынув трубку изо рта, выпускал шары дыма. Я любил его — кажется, я уже упоминал об этом — за то, что он был превосходным штурманом и любил меня — черта, которая всегда нравилась мне в людях.
А Катя хозяйничала. Как у нее получалось, что это наш дом, что мы принимаем гостей и от души стараемся, чтобы они были сыты и пьяны, не знаю. Но получалось.
Конечно, не было бы этих вечеров, этого счастья встреч с Катей, когда на утро она провожала меня и робкое, молодое солнце, похожее на детский воздушный шар, солнце начала полярного дня, как будто нарочно для нас поднималось над линией сопок… не было бы этого душевного подъема или он был бы совершенно другим, если бы радио каждую ночь не приносило известий о наших победах. Это был общий подъем, который с одинаково нарастающей силой чувствовался не только здесь, на Севере, где был крайний правый фланг войны и где на диком, срывающемся в воду утесе стоял последний солдат сухопутного фронта, но и на любом участке этого фронта.
Уже отгремели последние выстрелы в Сталинграде, черные от копоти бойцы вылезли из водосточных люков и, щурясь от света, от снега, смотрели на испепеленный отвоеванный город, — среди гранитных сопок Полярного гулко отозвалось эхо этой великой победы. Кажется, мы сделали все возможное, чтобы оно покатилось и дальше — вдоль берегов Норвегии, туда, где осторожно крадутся от чужой страны к чужой стране немецкие караваны, туда, где они выгружают чужое оружие и берут на борт чужую руду и везут, везут ее в настороженной, полной загадочных шумов ночи Баренцева моря…
Все свободное время мы — доктор, Катя и я — тратили на изучение и подбор материалов экспедиции «Св. Марии».
Не знаю, что было сложнее — проявить фотопленку или прочитать документы экспедиции. Как известно, снимок с годами слабеет или покрывается вуалью — недаром на футлярах всегда указывается срок, после которого фабрика не ручается за отчетливость изображения. Этот срок для пленки «Св. Марии» кончился в феврале 1914 года. Кроме того, металлические футляры были полны воды, пленки промокли насквозь и, очевидно, годами находились в таком состоянии. Лучшие фотографы Северного флота объявили, что это «безнадежная затея» и что если бы даже они (фотографы) были божественного происхождения, то и в этом случае им не удалось бы проявить эту пленку. Я убедил их. В результате из ста двенадцати снимков, просушенных с бесконечными предосторожностями, около пятидесяти были признаны «достойными дальнейшей работы». После многократного копирования удалось получить двадцать два совершенно отчетливых снимка.
В свое время я прочитал дневники штурмана Климова, исписанные мелким, неразборчивым, небрежным почерком, залитые тюленьим жиром. Но все же это были отдельные странички в двух переплетенных тетрадках. Документы же Татаринова, кроме прощальных писем, сохранившихся лучше других бумаг, были найдены в виде плотно слежавшейся бумажной массы, и превратить ее в хронометрический или вахтенный журнал, в карты и данные съемки своими силами я, конечно, не мог. Это также было сделано в специальной лаборатории, под руководством опытного человека. В этой книге не найдется места для подробного рассказа о том, что было прочтено в холщовой тетради, о которой капитан Татаринов упоминает, перечисляя приложения. Скажу только, что он успел сделать выводы из своих наблюдений и что формулы, предложенные им, позволяют вычислить скорость и направление движения льдов в любом районе Северного Ледовитого океана. Это кажется почти невероятным, если вспомнить, что сравнительно короткий дрейф «Св. Марии» проходил по местам, которые, казалось бы, не дают данных для таких широких итогов. Но для гениального прозрения иногда нужны немногие факты.
«Ты прочел жизнь капитана Татаринова, — так говорил я себе, — но последняя ее страница осталась закрытой».
«Еще ничего не кончилось, — так я отвечал. — Кто знает, быть может, придет время, когда мне удастся открыть и прочесть эту страницу». Время пришло. Я прочел ее — и она оказалась бессмертной.
Глава 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ.
Летом 1944 года я получил отпуск, и мы с Катей решили провести три недели в Москве, а четвертую в Энске — навестить стариков.
Мы приехали 17 июля — памятная дата! В этот день через Москву прошли пленные немцы.
У нас были легкие чемоданы, мы решили доехать до центра на метро — и, выйдя из Аэропорта, добрых два часа не могли перейти дорогу. Сперва мы стояли, потом, утомившись, сели на чемоданы, потом снова встали. А они все шли. Уже их хорошо бритые, с жалкими надменными лицами, в высоких картузах, в кителях с «грудью» генералы, среди которых было несколько знаменитых мучителей и убийц, находились, должно быть, у Крымского моста, а солдаты все шли, ковыляли — кто рваный и босой, а кто в шинели нараспашку.
С интересом и отвращением смотрел я на них. Как многие летчики—бомбардировщики, за всю войну я вообще ни разу не видел врага, разве что пикируя на цель, — позиция, с которой не много увидишь! Теперь «повезло» — сразу пятьдесят семь тысяч шестьсот врагов, по двадцати в шеренге, прошли передо мной, одни дивясь на Москву, которая была особенно хороша в этот сияющий день, другие потупившись, глядя под ноги равнодушно—угрюмо.
Это были разные люди, с разной судьбой. Но однообразно—чужим, бесконечно далеким от нас был каждый их взгляд, каждое движение.
Я посмотрел на Катю. Она стояла, прижав сумочку к груди, волновалась. Потом вдруг крепко поцеловала меня. Я спросил:
— Поблагодарила?
И она ответила очень серьезно:
— Да.
У нас было много денег, и мы сняли самый лучший номер в гостинице «Москва» — роскошный, с зеркалами, картинами и роялем.
Сперва нам было немного страшновато. Но оказалось, что к зеркалам, коврам, потолку, на котором были нарисованы цветы и амуры, совсем нетрудно привыкнуть. Нам было очень хорошо в этом номере, просторно и чертовски уютно.
Конечно, Кораблев явился в день приезда — нарядный, с аккуратно закрученными усами, в свободной вышитой белой рубашке, которая очень шла к нему и делала похожим на какого—то великого русского художника — но на какого, мы с Катей забыли.
Он был в Москве, когда летом 1942 года я стучался в его лохматую, обитую войлоком дверь. Он был в Москве и чуть не сошел с ума, вернувшись домой и найдя письмо, в котором я сообщал, что еду в Ярославль за Катей.
— Как это вам понравится! За Катей, которую я накануне провожал в милицию, потому что ее не хотели прописывать на Сивцевом—Вражке!
— Не беда, дорогой Иван Павлыч, — сказал я, — все хорошо, что хорошо кончается. В то лето я был не очень счастлив, и мне даже нравится, что мы встретились теперь, когда все действительно кончается хорошо. Я был черен, худ и дик, а теперь вы видите перед собой нормального, веселого человека. Но расскажите же о себе! Что вы делаете? Как живете?
Иван Павлыч никогда не умел рассказывать о себе. Зато мы узнали много интересного о школе на Садово Триумфальной, в которой некогда произошли такие важные события в моей и Катиной жизни. Мы кончили школу, с каждым годом она уходила все дальше от нас, и уже начинало казаться странным, что это были мы — пылкие дети, которым жизнь представлялась такою преувеличенно сложной. А для Ивана Павлыча школа все продолжалась. Каждый день он не торопясь расчесывал перед зеркалом усы, брал палочку и шел на урок, и новые мальчики, как под лучом прожектора, проходили перед его строгим, любящим, внимательным взглядом. О, этот взгляд! Я вспомнил Гришку Фабера, который утверждал, что «взгляд — все» и что с таким взглядом он бы «в два счета сделал в театре карьеру».
— Иван Павлыч, где он?
— Гриша в провинции, — сказал Иван Павлыч, — в Саратове. Я давно не видел его. Кажется, он стал хорошим актером.
— Он и был хорошим. Мне всегда нравилась его игра. Немного орал, но что за беда! Зато не пропадало ни слова.
Мы перебрали весь класс — грустно и весело было вспоминать старых друзей, которых по всей стране раскидала жизнь. Таня Величко строит дома в Сталинграде. Шура Кочнев — полковник артиллерии и недавно был упомянут в приказе. Но о многих и Иван Павлыч ничего не знал — время как будто прошло мимо них, и они остались в памяти мальчиками и девочками семнадцати лет.
Так—то мы сидели и разговаривали, и уже раза три позвонил профессор Валентин Николаевич Жуков и был обруган, даром что профессор, за то, что не приходит, ссылаясь на какую—то очередную затею со змеями или гибридами черно—бурых лисиц.
Наконец он явился и застыл на пороге, задумчиво положив палец на нос. Ему, видите ли, почудилось, что он попал в чужой номер!
— Ну, профессор, заходи, заходи, — сказал я ему.
И он побежал ко мне, хохоча, а за ним в дверях появилась высокая, полная белокурая дама, которую, если не ошибаюсь, когда—то звали Кирен.
Конечно, прежде всего, я был подвергнут допросу, перекрестному, потому что слева меня допрашивал Валя, а справа — Кирен. Почему, каким образом и на каком основании, взломав чужую квартиру, обойдя комнаты, обнаружив, что Катя живет у профессора В.Н.Жукова, я не нашел ничего лучшего, как оставить записку, совершенно бессмысленную, потому что в ней не было указано ни где меня искать, ни долго ли я пробуду в Москве.
— Дубина, это была ее постель, — сказал Валя, — а в ногах лежало ее платье! Боже мой, да разве ты не догадался, что только женская рука могла навести у меня такой порядок?
— Нет, в том, что женская, — сказал я, — у меня не было ни малейших сомнений.
Кира захохотала, кажется, добродушно, а Валя сделал мне большие глаза. Очевидно, тень загадочной Женьки Колпакчи с разными глазами еще бродила в этом семейном доме.
Женщины ушли в соседнюю комнату. Кирен кормила своего четвертого, так что, нужно полагать, у них нашлось о чем поболтать.
А мы заговорили о войне. Во многом уже были видны признаки ее окончания, и Валя с Иваном Павлычем слушали меня с таким выражением, как будто именно мне предстояло в ближайшем будущем отдать командующему последний рапорт о том, что нашими войсками занят город Берлин: Валя спросил, почему мы не форсируем Вислу, и от души огорчился, когда я ответил, что не знаю. Что касается Севера, если судить по его вопросам, я командовал не эскадрильей, а фронтом.
Потом Иван Павлыч заговорил о капитане Татаринове, и, немного понизив голос, чтобы не услышала Катя, я рассказал некоторые подробности, о которых не упоминалось в печати. Недалеко от палатки капитана, в узкой расщелине скалы, были найдены могилы матросов — трупы были положены прямо на землю и завалены большими камнями. Медведи и песцы растащили и перемешали кости — один череп был найден в трех километрах от лагеря, в соседней ложбине. Очевидно, последние дни капитан провел в одном спальном мешке с поваром Колпаковым, который умер раньше него. На письме к Марии Васильевне было написано сперва: «Моей жене», а потом исправлено: «Моей вдове». Под правой рукой капитана было найдено обручальное кольцо с инициалами М.Т. на внутренней стороне ободка.
Я вынул из чемодана и показал золотой медальон в виде сердечка. На одной стороне был миниатюрный портрет Марии Васильевны, а на другой — прядь черных волос, и, отойдя к окну, Иван Павлыч надел очки и долго рассматривал медальон. Так долго рассматривал он, вытирал платочком усы и снова рассматривал, что, в конце концов, мы с Валей подошли к нему и, обняв с обеих сторон, повели и посадили в кресло.
— Но Катя так похожа, боже мой! — сказал он, вздохнув. — В декабре будет семнадцать лет. Трудно поверить.
Он попросил меня познать Катю и рассказал ей, что весной ездил на кладбище, посадил цветы и нанял сторожа покрасить решетку.
До ночи сидели у нас друзья, и Кира уже успела съездить на Сивцев—Вражек покормить младшего и вернулась со старшей — той самой, которая в будущем подавала надежды стать знаменитой артисткой. Во всяком случае, по мнению Кириной мамы, покойная Варвара Рабинович со всей своей знаменитой школой «не годилась в подметки» этой девочке, которая еще в грудном возрасте умела великолепно «брать голос в маску», а теперь читала Пушкина не хуже знаменитого Степаняна.
Валя много и не так скучно, как всегда, рассказывал о своих зверях — между прочим, о борьбе с грызунами в траншеях. Я спросил, удалось ли ему, в конце концов, доказать, что у змей от возраста меняется кровь, или это так и осталось в науке загадкой. Он засмеялся и сказал, что да, удалось.
Это был превосходный день в Москве, начавшийся с того, что больше двух часов мы ждали, пока пленные немцы пройдут мимо нас, — лучше он начаться не мог! Это был день, когда вдруг сверкнуло в душе и осталось навеки ослепительное сознание победы. Еще она не была напечатана черными буквами на газетном листе, еще многие должны были отдать за нее жизнь, но уже она была ясно видна в том неуловимом «чувстве возвращения», которое было, казалось, разлито повсюду. Жизнь возвращалась на старые места, война сделала их совсем другими, и странным, молодым ощущением столкновения нового и старого была полна Москва лета 1944 года.
А вечером был салют. Позывные «важного сообщения» прозвенели без четверти одиннадцать, и Валя сказал, что нужно немедленно бежать на двенадцатый этаж. Лифт был полон, и мы пошли пешком — совершенно напрасно, потому что дорогой выяснилось, что на двенадцатый этаж нельзя попасть иначе, как лифтом. Но мы каким—то образом все же добрались, и великолепная вечерняя Москва открылась передо мной, стеснив сердце горячим и острым волнением. Мы с Катей переглянулись улыбаясь. Взявшись за руки, мы стояли у какой—то стены. Как бы не торопясь, озарялось багровыми вспышками спокойное небо, а потом прямо над нами быстро летели вверх и медленно вниз пестрые цветные огни.
Глава 7. ДВА РАЗГОВОРА.
Два дела было у меня в Москве. Первое — доклад в Географическом обществе о том, как мы нашли экспедицию «Св. Марии», и второе — разговор со следователем о Ромашове. Как ни странно, эти дела были связаны между собой, потому что еще из Н. я послал в прокуратуру копию моего объяснения с Ромашовым на Собачьей Площадке.
Начну со второго.
Осенью 1943 года Ромашов был осужден на десять лет — я узнал об этом от работника Особого отдела на Н., который снимал с меня допрос, когда в Москве разбиралось дело. Теперь оно, не знаю почему, было передано в гражданские инстанции и пересматривалось — тоже не знаю почему. Незадолго до моего отъезда из Н. мне сообщили, что в Москве следствие потребует от меня каких—то дополнительных данных.
Все это было неприятно и скучно, и, вспоминая еще дорогой, что мне придется снова войти в утомительную и сложную атмосферу этого дела, я немного расстраивался — отпуск был бы так хорош без него!
На второй день приезда я доложил, что явился, и был немедленно приглашен к следователю, который вел дело Ромашова…
Приемная была общая — полутемный зал, перегороженный деревянным барьером. Широкие старинные скамьи стояли вдоль стен, и самые разные люди — старики, девушки, какие—то военные без погон — сидели на них, дожидаясь допроса.
Я нашел кабинет моего следователя — на двери значилась его странная фамилия: Веселаго — и, так как было еще рановато, занялся перестановкой флажков на карте, висевшей в приемной. Карта была недурна, но флажки далеко отставали от линии фронта.
Знакомый голос оторвал меня от этого занятия — такой знакомый, круглый, солидный голос, что на одно мгновение я почувствовал себя плохо одетым мальчиком, грязным, с большой заплатой на штанах.
Голос спросил:
— Можно?
Очевидно, было еще нельзя, потому что, приоткрыв дверь к следователю, Николай Антоныч закрыл ее и сел на скамью с немного оскорбленным видом. Я встретил его в последний раз в метро летом 1942 года — таков он был и сейчас: величественный и снисходительно—важный.
Насвистывая, я переставлял флажки на Втором Прибалтийском фронте. Прошло семнадцать лет с тех пор, как я сказал ему: «Я найду экспедицию, и тогда посмотрим, кто из нас прав». Знает ли он, что я нашел экспедицию? Без сомнения. Но он не знает — в печати об этом не появилось ни слова — о том, что среди бумаг капитана Татаринова обнаружены бесспорные, неопровержимые доказательства моей правоты…
Он сидел, опустив голову, опираясь руками о палку. Потом посмотрел на меня, и невольное быстрое движение пробежало по бледному большому лицу; «Узнал», — подумал я весело. Он узнал — и отвел глаза.
…Это была минута, когда он обдумывал, как держаться со мной. Сложная задача! Очевидно, он успешно решил ее, потому что вдруг встал и смело подошел ко мне, коснувшись рукой шляпы.
— Если не ошибаюсь, товарищ Григорьев?
— Да.
Кажется, впервые в жизни я с таким трудом произнес это короткое слово. Но и у меня была минута, когда я решил, как нужно держаться с ним.
— Вижу, что время не прошло даром для вас, — глядя на мои орденские ленточки, продолжал он. — Откуда же сейчас? На каком фронте защищаете нас, скромных работников тыла?
— На Крайнем Севере.
— Надолго в Москву?
— В отпуск, на три недели.
— И принуждены терять драгоценные часы в этой приемной? Впрочем, это наш гражданский долг, — прибавил он с почтительным выражением. — Я полагаю, что вы, как и я, вызваны по делу Ромашова?
— Да.
Он помолчал. Ох, как было мне знакомо, как еще в детстве я ненавидел это мнимо значительное молчание!
— Не человек, а воплощенное зло, — наконец сказал он. — Я считаю, что общество должно освободиться от него — и как можно скорее.
Если бы я был художником, я бы залюбовался этим зрелищем эпического лицемерия. Но я был обыкновенным человеком, и мне захотелось сказать ему, что если бы общество своевременно освободилось от Николая Антоныча Татаринова, ему (обществу) не пришлось бы возиться с Ромашовым.
Я промолчал.
Ни слова еще не было сказано об экспедиции «Св. Марии», но я знал Николая Антоныча: он подошел, потому что боялся меня.
— Я слышал, — начал он осторожно, — что вам удалось довести до конца свое начинание, и хочу от души поблагодарить вас за то, что вы положили на него так много труда. Впрочем, я рассчитываю сделать это публично.
Это значило, что он придет на мой доклад и сделает вид, что мы всю жизнь были друзьями. Он предлагал мне мир. Очень хорошо! Нужно сделать вид, что я его принимаю.
— Да, кажется, кое—что удалось.
Больше я ничего не сказал. Но даже легкая краска появилась на полных бледных щеках — так он оживился. Все прошло и забыто, он теперь влиятельный человек, почему бы мне не наладить с ним отношения? Вероятно, я стал другим — в самом деле, разве жизнь не меняет людей? Я стал таким, как он, — у меня ордена, удача, и он может по себе, по своим удачам судить обо мне.
— …Событие, о котором в другое время заговорил бы весь мир, — продолжал он, — и прах национального героя, каковым по заслугам признан мой брат, был бы торжественно доставлен в столицу и предан погребенью при огромном стечении народа.
Я отвечал, что прах капитана Татаринова покоится на берегу Енисейского залива и что он сам, вероятно, не пожелал бы для себя лучшей могилы.
— Без сомнения. Но я говорю о другом — о самой исключительности судьбы его. О том, что забвение как бы шло за ним по пятам и если бы не мы, — он сказал: «мы», — едва ли хоть один человек на земле знал бы, кто он таков и что он сделал для родины и науки.
Это было слишком, и я чуть не сказал ему дерзость. Но в эту минуту дверь открылась, и какая—то девушка, выйдя от следователя, пригласила меня к нему.
Мне все время казалось, что если бы следователь, или следовательница (потому что это была женщина) не была такой молодой и красивой, она не допрашивала бы меня так подчеркнуто сухо. Но потом моя история увлекла ее, и она совершенно оставила свой официозный тон.
— Вам известно, товарищ Григорьев, — так она начала, когда я сообщил ей свой возраст, профессию, был ли я под судом и т.д., — по какому делу я вызвала вас?
Я отвечал, что известно.
— В свое время вы дали показания. — Очевидно, она имела в виду допрос в Н. — В них есть неясности, о которых мне, прежде всего, необходимо поговорить с вами.
Я сказал:
— К вашим услугам.
— Вот, например.
Она прочитала несколько мест, в которых я дословно передал наш разговор с Ромашовым на Собачьей Площадке.
— Выходит, что когда Ромашов писал на вас заявление, он был как бы орудием в руках другого лица.
— Другое лицо названо, — сказал я. — Это Николай Антоныч Татаринов, который дожидается у вас в приемной. Кто из них был орудием, а кто руками
— этого я сказать не могу. Мне кажется, что решение подобного вопроса является не моей, а вашей задачей.
Я рассердился, может быть, потому, что донос Ромашова она почтительно назвала заявлением.
— Так вот, остается неясным, какую же цель мог преследовать профессор Татаринов, пытаясь сорвать поисковую партию? Ведь он сам является ученым—полярником, и, казалось бы, розыски его пропавшего брата должны были встретить самое горячее сочувствие с его стороны.
Я отвечал, что профессор Татаринов мог преследовать несколько целей. Прежде всего, он боялся, что успешные поиски остатков экспедиции «Св. Марии» подтвердят мои обвинения. Затем, он не является ученым—полярником, а представляет собою тип лжеученого, построившего свою карьеру на книгах, посвященных истории экспедиции «Св. Марии». Поэтому всякая конкуренция, естественно, задевала его жизненные интересы.
— А у вас были серьезные основания надеяться, что розыски подтвердят ваши обвинения?
Я отвечал, что были. Но этот вопрос теперь не подлежит обсуждению, потому что я нашел остатки экспедиции и среди них — прямые доказательства, которые намерен огласить публично.
Именно после этого ответа моя следовательница стала быстро съезжать с официального тона.
— Как нашли? — спросила она с искренним изумлением. — Ведь это же было давно. Лет двадцать тому назад или даже больше?
— Двадцать девять.
— Но что же может сохраниться через двадцать девять лет?
— Очень многое, — отвечал я.
— И самого капитана нашли?
— Да.
— И он жив?
— Ну, что вы конечно нет! Можно точно сказать, когда он погиб — между восемнадцатым и двадцать вторым июня тысяча девятьсот пятнадцатого года.
— Ну, расскажите.
Конечно, я не мог рассказать ей все. Но долго ждал приема профессор Татаринов, и, должно быть, многое успел он перебрать в памяти и обо многом переговорить наедине с собой, прежде чем занял мое место у стола этой красивой любознательной женщины.
И о том, что подлежит суду, и о том, что не подлежит суду за давностью преступления, рассказал я ей. Старая история! Но старые истории долго живут, гораздо дольше, чем это кажется с первого взгляда.
Она слушала меня, и хотя это был по—прежнему следователь, но следователь, который вместе со мной разбирал письма, некогда занесенные на двор половодьем, и вместе со мной делал выписки из полярных путешествий, и вместе со мной перебрасывал учителей, врачей, партработников в глухие ненецкие районы. Дневники штурмана Климова были уже прочитаны, и старый латунный багор найден — последний штрих, так мне казалось тогда, в стройной картине доказательств. Но вот я дошел до войны и замолчал, потому что беспредельная панорама всего, что мы пережили, открылась передо мной и в ее глубине лишь чуть—чуть светилась мысль, которая всю жизнь волновала меня. Это было трудно объяснить незнакомому человеку. Но я объяснил.
— Капитан Татаринов понимал все значение Северного морского пути для России, — сказал я, — и нет ничего случайного в том, что немцы пытались перерезать этот путь. Я был человеком войны, когда летел к месту гибели экспедиции «Св. Марии», и я нашел ее потому, что был человеком войны.
Глава 8. ДОКЛАД.
На этот раз я не добивался чести выступить с докладом в Географическом обществе и не получал любезного приглашения представить свой доклад в письменном виде. Я дважды отказывался от выступления, потому что прошел лишь месяц с тех пор, как была опубликована замечательная статья профессора В. о научном наследстве «Св. Марии». Когда он сам позвонил мне, я согласился.
…Все пришли на этот доклад, даже Кирина мама. К сожалению, я не запомнил ту маленькую приветственную речь с цитатами из классиков, которою она встретила меня. Речь немного затянулась, и мне стало смешно, когда я увидел, с каким покорным отчаянием Валя слушал ее.
Кораблева я посадил в первом ряду, прямо напротив кафедры, — ведь я привык смотреть на него во время своих выступлений.
— Ну, Саня, — сказал он весело, — уговор. Я положу руку вот так, вниз ладонью, а ты говори и на нее посматривай! Стану похлопывать, значит волнуешься. Нет — значит нет.
— Иван Павлыч, дорогой.
Разумеется, я ничуть не волновался, хотя, в общем, это было довольно страшно. Я беспокоился лишь, придет ли на мой доклад Николай Антоныч.
Он пришел. Развешивая карты, я обернулся и увидел его в первом ряду, недалеко от Кораблева. Он сидел, положив ногу на ногу и глядя прямо перед собой с неподвижным выражением. Мне показалось, что он изменился за эти несколько дней: в лице его появилось что—то собачье, щеки обвисли над воротником была высоко видна морщинистая похудевшая шея.
Конечно, мне было очень приятно, когда председатель, старый, знаменитый географ, прежде чем предоставить мне слово, сам сказал несколько слов обо мне. Я даже пожалел, что у него такой тихий голос. Он сказал, что я «один из тех людей, с которыми тесно связана история освоения Арктики большевиками». Потом он сказал, что именно моему «талантливому упорству» советская арктическая наука обязана одной из своих интереснейших страниц, — и я тоже не стал возражать, тем более что в зале зааплодировали, и громче всех — Кирина мама.
Пожалуй, не стоило делать такого длинного вступления, посвященного истории Северного морского пути, хотя это была интересная история.
Я довольно плохо рассказал об этом — часто останавливался, забывал самые простые слова и вообще «мекал», как потом объявила Кира.
Но вот я перешел к нашему времени, обрисовал в общих чертах военное значение северной проблемы и остановился на исторической дате, когда товарищ Сталин заложил основание Северного флота.
В эту минуту где—то далеко, в темном конце прохода, мелькнула и скрылась моя Катя. Она была немного больна — простудилась — и обещала мне остаться дома. Но как это было хорошо, что она приехала, просто прекрасно! У меня сразу сделалось веселее на душе, и я стал говорить увереннее и тверже.
— Может быть, вам покажется странным, — сказал я, — что в дни войны я намерен доложить вам о старинной экспедиции, окончившейся около тридцати лет тому назад. Это — история. Но мы не забыли нашей истории, и возможно, что наша главная сила заключается именно в том, что война не отменила и не остановила ни одной из великих мыслей, которые преобразили нашу страну. Завоевание Севера советским народом принадлежит к числу этих мыслей.
Я запнулся, потому что мне захотелось рассказать, как мы с Ледковым осматривали Заполярье, но это было далеко от темы доклада, и не очень ловко я свернул на биографию капитана.
С непостижимым чувством я рассказывал о нем! Как будто не он, а я был этот мальчик, родившийся в бедной рыбачьей семье на берегу Азовского моря. Как будто не он, а я в юности ходил матросом на нефтеналивных судах между Батумом и Новороссийском. Как будто не он, а я выдержал экзамен на «морского прапорщика» и потом служил в Гидрографическом управлении, с гордым равнодушием перенося высокомерное непризнание офицерства. Как будто не он, а я делал заметки на полях нансеновских книг и гениальная мысль: «Лед сам решит задачу» была записана моей рукой. Как будто его история окончилась не поражением и безвестной смертью, а победой и счастьем. И друзья, и враги, и любовь повторились снова, но жизнь стала иной, и победили не враги, а друзья и любовь.
Я говорил и все с большей силой испытывал то чувство, которое не могу назвать иначе, как вдохновением. Как будто на далеком экране под открытым небом я увидел мертвую, засыпанную снегом шхуну. Мертвую ли? Нет, стучат, забивают досками световые люки, обшивают толем и войлоком потолки — готовятся к зимовке…
Моряки, стоявшие в проходе, расступились перед Катей, когда она шла к своему креслу, и я подумал, что это очень справедливо, что они так почтительно расступаются перед дочерью капитана Татаринова. Но она была еще и лучше всех — особенно в этом простом английском костюме. Она была лучше всех — и тоже каким—то образом участвовала в этом восторге, в этом вдохновении, с которыми я говорил о плавании «Св. Марии».
Но пора было переходить к научной историй дрейфа, и я начал ее с утверждения, что факты, которые были установлены экспедицией капитана Татаринова, до сих пор не потеряли своего значения. Так, на основании изучения дрейфа известный полярник профессор В. предположил существование неизвестного острова между 78—й и 80—й параллелями, и этот остров был открыт в 1935 году — и именно там, где В. определил его место. Постоянный дрейф, установленный Нансеном, был подтвержден путешествием капитана Татаринова, а формулы сравнительного движения льда и ветра представляют собой огромный вклад в русскую науку.
Движение интереса пробежало по аудитории, когда я стал рассказывать о том, как были проявлены фотопленки экспедиции, пролежавшие в земле около тридцати лет.
Свет погас, и на экране появился высокий человек в меховой шапке, в меховых сапогах, перетянутых под коленями ремешками. Он стоял, упрямо склонив голову, опершись на ружье, и мертвый медведь, сложив лапы, как котенок, лежал у его ног. Он как будто вошел в этот зал — сильная, бесстрашная душа, которой было нужно так мало!
Все встали, когда он появился на экране, и такое молчание, такая торжественная тишина воцарилась в зале, что никто не смел даже вздохнуть, не то что сказать хоть слово.
И в этой торжественной тишине я прочитал рапорт и прощальное письмо капитана:
— «…Горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя бы не мешали. Что делать? Одно утешение — что моими трудами открыты и присоединены к России новые обширные земли…»
— Но в этом письме, — продолжал я, когда все селя, — есть еще одно место, на которое я должен обратить ваше внимание. Вот оно: «Я знаю, кто мог бы помочь вам, но в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. Не судьба была мне открыто высказать ему все, что за эти годы накипело на сердце. В нем воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам…» Кто же этот человек, самого имени которого капитан не хотел называть перед смертью? Это о нем он писал в другом письме: «Можно смело сказать, что всеми своими неудачами мы обязаны только ему». О нем он писал: «Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара». О нем он писал: «Главная неудача — ошибка, за которую приходится расплачиваться ежедневно, ежеминутно, — та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю…»
Николаю! Но мало ли Николаев на свете!
Конечно, на свете много Николаев, и даже в этой аудитории их было немало, но только один из них вдруг выпрямился, оглянулся, когда я громко назвал это имя, и палка, на которую он опирался, упала и покатилась. Ему подали палку.
— Не для того я хочу сегодня полностью назвать это имя, чтобы решить старый спор между мною и этим человеком. Наш спор давно решен — самой жизнью. Но в своих статьях он продолжает утверждать, что всегда был благодетелем капитана Татаринова и что даже самая мысль «пройти по стопам Норденшельда», как он пишет, принадлежит ему. Он так уверен в себе, что имел смелость явиться на мой доклад и сейчас находится в этом зале.
Шепот пробежал по рядам, потом стало тихо, потом снова шепот. Председатель позвонил в колокольчик.
— Странная судьба! До сих пор он действительно ни разу не был назван полностью — имя, отчество и фамилия. Но среди прощальных писем капитана мы нашли и деловые бумаги. С одной из них, очевидно, капитан никогда не расставался. Это копия обязательства, согласно которому: 1. По возвращении на Большую Землю вся промысловая добыча принадлежит Николаю Антоновичу Татаринову — полностью имя, отчество и фамилия. 2. Капитан заранее отказывается от всякого вознаграждения. 3. В случае потери судна капитан отвечает всем своим имуществом перед Николаем Антоновичем Татариновым — полностью имя, отчество и фамилия. 4. Самое судно и страховая премия принадлежат Николаю Антоновичу Татаринову — полностью имя, отчество и фамилия. Когда—то в разговоре со мной этот человек сказал, что только одного свидетеля он признает: самого капитана. Пусть же он теперь перед всеми нами откажется от этих слов, потому что сам капитан теперь называет его — полностью имя, отчество и фамилия!
Страшная суматоха поднялась в зале, едва я кончил свою речь, — в передних рядах многие встали, в задних стали кричать, чтобы садились — не видно, а он стоял, подняв руку с палкой, и кричал:
— Я прошу слова, я прошу слова!
Он получил слово, но ему не дали говорить. В жизни моей я не слышал такого дьявольского шума, который поднимался, едва он открывал рот. Но он все—таки сказал что—то — никто не расслышал — и, тяжело стуча палкой, сошел с кафедры и направился к выходу вдоль зрительного зала. Он шел в полной пустоте — и там, где он проходил, долго была еще пустота, как будто никто не хотел идти там, где он только что прошел, стуча своей палкой.
Глава 9. И ПОСЛЕДНЯЯ.
Вагон шел до Энска, значит, все эти люди, расположившиеся где придется — на полу и на полках — в переполненном, полутемном вагоне, ехали в Энск. В прежние времена этого было достаточно, чтобы его народонаселение увеличилось чуть ли не вдвое.
Мы познакомились с соседями, или, вернее, с соседками (потому что это были студентки московских вузов), и они сказали, что едут в Энск на работу.
— На какую же?
— Еще неизвестно. На шахты.
Если не считать подкопа в Соборном саду, о котором Петька когда—то говорил, что он идет под рекой и что в нем «на каждом шагу скелеты», в Энске никогда не было ничего похожего на шахты. Но девушки утверждали, что едут на шахты.
Как всегда, уже через три—четыре часа в каждом отделении образовалась своя жизнь, не похожая на соседнюю, как будто тонкие, не доверху, дощатые стенки разделили не вагон, а чувства и мысли. В одних отделениях стало шумно и весело, а в других скучно. У нас — весело, потому что девушки, немного погрустив, что не удалось остаться на летнюю работу в Москве, и поругав какую—то Машку, которой это удалось, стали петь, и весь вечер мы с Катей слушали современные военные романсы, среди которых несколько было забавных. В общем, девушки пели до самого Энска, даже ночью — почему—то они решили не спать. Так и прошла вся недолгая дорога — тридцать четыре часа — в пенье девушек и в дремоте под это молодое, то веселое, то грустное, пенье.
Прежде поезд приходил рано утром, а теперь — под вечер, так что, когда мы слезли, маленький вокзал показался мне в сумерках симпатичным и старомодно—уютным. Но прежний Энск кончился там, где кончился широкий, в липах, подъезд к этому зданию, потому что, выйдя на бульвар, мы увидели вдалеке какие—то темные корпуса, над которыми быстро шли багрово—дымные облака, освещенные снизу. Это был такой странный для Энска пейзаж, что я даже сказал девушкам, что, очевидно, где—то в Заречной части пожар, и они поверили, потому что дорогой я долго хвастался, что родом из Энска и что мне знаком каждый камень. Но оказалось, что это не пожар, а пушечный завод, выстроенный в Энске за годы войны.
Я видел, как необыкновенно изменились за время войны наши города — например, М—ов, — но я не знал их в детские годы. Теперь, когда мы с Катей шли по быстро темнеющим Застенной, Гоголевской, мне казалось, что эти улицы, прежде лениво растянувшиеся вдоль крепостного вала, теперь поспешно бегут вверх, чтобы принять участие в этом беспрестанном огненно—дымном движении облаков над заводскими корпусами. Это было первое, но верное впечатление — перед нами был хорошо вооруженный город. Конечно, для меня он был прежним, родным Энском, но теперь я встретился с ним, как со старым другом, — когда вглядываешься в знакомые изменившиеся черты и невольно смеешься от нежности к волнения и не знаешь, с чего начать разговор.
Еще из Полярного мы писали Пете, что приедем навестить стариков, и он рассчитывал подогнать к этому времени давно обещанный отпуск.
Никто не встретил нас на вокзале, хотя я телеграфировал из Москвы, и мы решили, что Пете не удалось приехать. Но первый, кого мы встретили у подъезда между сердитыми львиными мордами дома Маркузе, был именно Петя, которого я сразу узнал, даром что из рассеянной, задумчивой личности с вопросительным выражением лица он превратился в бравого, загорелого офицера.
— Ага, вот они где! — сказал он, как будто долго искал и, наконец, нашел нас.
Мы обнялись, а потом он шагнул к Кате и взял ее руки в свои. У них было свое — Ленинград, и когда они стояли, сжимая руки друг другу, даже я был далек от них, хотя, может быть, ближе меня у них не было человека на свете.
Тетя Даша спала, когда мы ворвались в ее комнату, и, вероятно, решила, что мы приснились ей, потому что, приподнявшись на локте, долго рассматривала нас с задумчивым видом. Мы стали смеяться, и она очнулась.
— Господи, Санечка! — сказала она. — И Катя! А сам—то опять уехал!
«Сам» — это был судья, а «опять уехал» — это значило, что когда мы с Катей лет пять назад приезжали в Энск, судья был на сессии где—то в районе.
Стоит ли рассказывать о том, как хлопотала, устраивая нас, тетя Даша, как она огорчалась, что пирог приходится ставить из темной муки и на каком—то «заграничном сале». Кончилось тем, что мы силой усадили ее, Катя принялась за хозяйство, мы с Петей вызвались помогать ей, и тетя Даша только вскрикивала и ужасалась, когда Петя «для вкуса», как он объяснил, всадил в тесто какие—то концентраты, а я вместо соли едва не отправил туда же стиральный порошок. Но, как ни странно, тесто прекрасно подошло, и хотя тетя Даша, положив кусочек его в рот, сказала, что мало «сдобы», видно было, что пирог, по военному времени, вышел недурной.
За обедом тетя Даша потребовала, чтобы ей было рассказано все, начиная с того дня и часа, когда мы пять лет тому назад расстались с нею на Энском вокзале. Но я убедил ее, что подробный отчет нужно отложить до приезда судьи; зато Петю мы заставили рассказать о себе.
С волнением слушал я его. С волнением — потому что знал его больше двадцати пяти лет и теперь он вовсе не казался мне другим человеком, как его рисовала Катя. Но то загадочное для меня «зрение художника», которое всегда отличало Петю в моих глазах от обыкновенных людей, теперь стало определеннее и точнее.
Он показал нам свои альбомы — последний год Петя находился уже не в строю, работал художником фронтового театра. Это были зарисовки боевой жизни, часто беглые, торопливые. Но та нравственная сила, которую знает каждый, кто провел в нашей армии хотя бы несколько дней, была отражена в них с удивительной глубинной.
Часто я останавливался перед незабываемыми картинами войны, инстинктивно сожалея, что одна, бесследно исчезая, сменяет другую. Теперь я увидел их в едва намеченном, но глубоком, может быть, гениальном преображении.
— Ну вот, — добродушно улыбнувшись, сказал Петя, когда я поздравил его, — а судья говорит, что плохо. Мало героизма. И сын рисует, — добавил он, выпятив нижнюю губу, как всегда, когда бывал доволен. — Ничего, кажется, способный.
Катя достала из чемодана письма от Нины Капитоновны, которая еще жила с Петенькой под Новосибирском, и тетя Даша, всегда интересовавшаяся бабушкой, потребовала, чтобы некоторые из них были прочитаны вслух.
Бабушка по—прежнему жила отдельно, не в лагере, хотя директор Перышкин лично посетил ее и, принеся извинения, просил вернуться в лагерь. Но бабушка «поблагодарила и отказалась, потому что смолоду кланяться не приучена», как она писала. Отказалась и вдруг, поразив весь район, поступила в культмассовый сектор местного Дома культуры.
«Учу шить и кроить, — кратко писала она, — а тебя и Саню поздравляю. Я его давно узнала, еще когда мал был, и чтобы вырос, я его гречею кормила. Он славный… А ты не замучай его, у тебя характер неважный».
Это был ответ на письмо, в котором мы сообщили ей, что нашли друг друга.
«Не спала всю ночь, — писала она, получив известие о том, что найдены остатки экспедиции, — все думала о бедной Маше. И думала, что это к лучшему, что страшная судьба твоего отца осталась ей неизвестна».
Петенька был здоров, очень вырос, судя по фото, и стал еще больше похож на мать. Мы вспомнили Саню — и долго молчали, как бы вновь остановившись с тоской перед этой бессмысленной смертью.
Еще весной Катя стала хлопотать пропуска в Москву для бабушки и Петеньки, и была надежда, что мы увидим их на обратном пути.
Старая моя и Катина мысль, чтобы одной семьей поселиться в Ленинграде, не раз была повторена в этот вечер. Одной семьей — с бабушкой и обоими Петями, маленьким и большим. Но большой немного смутился, когда в будущей квартире, которая была уже получена в воображении, и не где—нибудь, а на Кировском проспекте, мы отвели ему студию в стороне, чтобы никто не мешал. Кажется, он не имел ничего против того, чтобы одна женщина, о которой Катя отзывалась с восторгам, иногда мешала ему. Но, разумеется, в этот вечер никто не сказал о ней ни слова…
Еще весь дом спал, когда вернулся судья. Он так зарычал и стал сердиться, когда тетя Даша собралась поднять нас, что пришлось притвориться и полежать еще полчаса. Точно как пять лет назад, он долго фыркал и кряхтел в кухне — мылся. И слышно было, как прошел по коридору и с него гулко падали капли.
Катя снова уснула, а я тихонько оделся и пошел в кухню, где он сидел и пил чай, босой, в чистой рубахе, с еще мокрыми после мытья головой и усами.
— Разбудил все—таки! — сказал он и, шагнув навстречу, крепко обнял меня.
Когда бы я ни вернулся в родной город, в родной дом, суровое: «Ну, рассказывай» неизменно ждало меня. Старик желал знать, что я делал и правильно ли я жил за годы разлуки. Строго уставясь на меня из—под густых бровей, поросших длинными, толстыми волосами, он допрашивал меня, как настоящий судья, и я знал, что нигде на свете не найду более справедливого приговора… Но на этот раз — впервые в жизни — судья не потребовал у меня отчета.
— Все ясно, — сказал он, с довольным видом проведя под носом рукой и уставясь на мои ордена. — Четыре?
— Да.
— И пятый — за капитана Татаринова, — серьезно сказал судья. — Это трудно формулировать, но получишь.
Это действительно было трудно формулировать, но, очевидно, старик серьезно взялся за дело, потому что вечером, когда мы снова встретились за столом, сказал речь и в ней попытался подвести итоги тому, что я сделал.
— Жизнь идет, — сказал он. — Зрелые, законченные люди, вы приехали в родной город и вот говорите, что его трудно узнать, так он изменился. Он не только изменился — он сложился, как сложились вы, открыв в себе силы для борьбы и победы. Но и другие мысли приходят в голову, когда я вижу тебя, дорогой Саня. Ты нашел экспедицию капитана Татаринова — мечты исполняются, и часто оказывается реальностью то, что в воображении представлялось наивной сказкой. Ведь это к тебе обращается он в своих прощальных письмах, — к тому, кто будет продолжать его великое дело. К тебе — и я законно вижу тебя рядом с ним, потому что такие капитаны, как он и ты, двигают вперед человечество и науку.
И он поднял рюмку и до дна выпил за мое здоровье.
До поздней ночи сидели мы за столом. Потом тетя Даша объявила, что пора спать, но мы не согласились и пошли гулять на Песчинку.
По—прежнему, сменяя друг друга, торопливо бежали над заводом огненно—темные облака. Мы спустились к реке и прошли до Пролома, подле, которого худенький черный мальчик в широких штанах когда—то ловил голубых раков на мясо. Как будто время остановилось и терпеливо ждало меня на этом берегу, между старинных башен, у слияния Песчинки и Тихой, — и вот я вернулся, и мы смотрим друг другу в лицо. Что ждет меня впереди? Какие новые испытания, новый труд, новые мечты, счастье или несчастье? Кто знает… Но я не опускаю глаз под этим неподкупным взглядом.
Пора было возвращаться, Кате стало холодно, и, пройдя вдоль набережной, заваленной лесом, мы повернули домой.
В городе было тихо и как—то таинственно. Мы долго шли, обнявшись, и молчали. Мне вспомнилось наше бегство из Энска. Город был такой же темный и тихий, а мы маленькие, несчастные и храбрые, а впереди страшная и неизвестная жизнь…
У меня были мокрые глаза, и я не вытирал этих радостных слез и не стеснялся, что плачу.
ЭПИЛОГ
Чудная картина открывается с этой высокой скалы, у подошвы которой растут, пробиваясь между камней, дикие полярные маки. У берега еще видна открытая зеркальная вода, а там, дальше, полыньи и лиловые, уходящие в таинственную глубину ледяные поля. Здесь необыкновенной кажется прозрачность полярного воздуха. Тишина и простор. Только ястреб иногда пролетит над одинокой могилой.
Льды идут мимо нее, сталкиваясь и кружась, — одни медленно, другие быстрее.
Вот проплыла голова великана в серебряном сверкающем шлеме: все можно рассмотреть — зеленую косматую бороду, уходящую в море, и приплюснутый нос, и прищуренные глаза под нависшими седыми бровями.
Вот приближается ледяной дом, с которого, звеня бесчисленными колокольчиками, скатывается вода; а вот большие праздничные столы, покрытые чистыми скатертями.
Идут и идут, без конца и края!
Заходящие в Енисейский залив корабли издалека видят эту могилу. Они проходят мимо нее с приспущенными флагами, и траурный салют гремит из пушек, и долгое эхо катится не умолкая.
Могила сооружена из белого камня, и он ослепительно сверкает под лучами незаходящего полярного солнца.
На высоте человеческого роста высечены следующие слова:
«Здесь покоится тело капитана И.Л.Татаринова, совершившего одно из самых отважных путешествий и погибшего на обратном пути с открытой им Северной Земли в июне 1915 года.
Бороться и искать, найти и не сдаваться!»



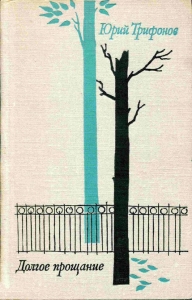
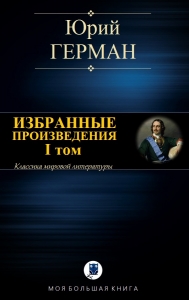

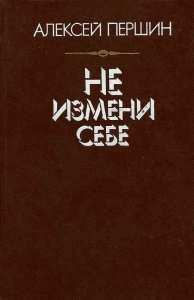
Комментарии к книге «Два капитана», Вениамин Александрович Каверин
Всего 0 комментариев