Петр Демин Марево
Душно. Жара начинается задолго до рассвета. Ночью со всех сторон дышит надоедным теплом. От него тело, покрытое испариной, теряет способность двигаться. Днем из-за пекла деваться некуда — всюду отыщет и опалит солнце.
Земля побурела, растрескалась петлистыми глубокими трещинами. Где дорога — она перемололась в пыль, серую, мелкую, легко поднимающуюся от малейшего ветерка, проезжей телеги, за одиноко идущим путником. Поднявшись, ложится на кустарник мертвящей пеленой. Непохожа она теперь на мать кормилицу. Не подумать, что несет в себе корм скоту, бродящему лениво в степи, людям, скучно живущим в железнодорожном местечке Гайворово.
В местечке третий дом от предвокзальной площади побольше остальных. До сегодняшнего дня в нем живет поп, собственно не живет, а выкуривается. Пока что поднаехали с севера родственники, и стал дом не тихий очаг, а вертеп разбойничий.
Хозяйство ведет — батя вдовый — сестра, Марфа Кирилловна, пожаловавшая с мужем — соборным протоиереем. Протоиерей калека: в 17-м году зимой с перепугу руки отнялись, т.-е. скрючило. Так теперь и ходит. А голова трясется.
— Не человек, ох, не человек, — плачется попадья, — а пугало, позорище мое. Прибрал бы господь. И ест больше супротив прежнего. Народ не проснулся, а он уже просит…
Попадья жалуется долго.
Под конец, стало себя жаль — всплакнула. Поп в черной выцветшей рясе, с согнутыми руками, действительно, схож с пугалом.
— Не разоряйся, жинка, — говорит с крыльца, — не разоряйся. Кому треба до старого? Скоро поп никого не тронет…
Спустившись во двор, Марфа Кирилловна вновь разоряется:
— Скоро! утешил!.. Ох, хоть бы не трясся ты, как жид на осине…
Небо совсем темное, синее. Видно, жару еще подпустит. На погребце, куда заходит Марфа Кирилловна, немного прохладней, и она на минуту успокаивается. Но только на минуту, потому что ждет ее новое горе: со второго гладца, стоящего на полке, скинута дощечка и на желтой поверхности устоя сереет большая спина утопленницы.
— Щурь, нечистая сила! — исследует попадья горшок, — у, поганый, с бока кусаный. Добра-то сколько перепортил, окаянный… Святи посуду. Молоко, как раз, от Пестрянки.
Вылезая из погребца с опоганенной посудой, Марфа Кирилловна, увидев через плетень соседку, делится горем.
— Родная, — сочувствует та, — беспременно к несчастью. Как есть правильное доказательство. В устой у матушки крыса попалась, — кричит она высунувшейся с другой стороны плетня голове, повязанной теплым платком, — десять бутылей за раз опоганила. Как есть, к пожару!
— Ни, — отвечает повязанная голова, — чи к упокойнику, чи к беспокойству с потрясением…
Через час в поселке все знают про утопившуюся крысу. В доме же ждут несчастья с потрясением. Правда, оно, в конце концов, вышло, но не для одной попадьи. А пока что, ровно с неба свалилась, приехала после полудня племянница, дочь псаломщика.
— Мала куча, подваливай, — говорит прямо ей в лицо хозяин дома, сухопарый отец Михаил, — я того завтра до города уеду. Требу какую без меня старый хрен справит.
— Вы, дяденька, не серчайте, — оправдывается Тоня, смазливая, чуть с большим ртом, — у нас, ей богу, помереть возможно. Я же как-нибудь устроюсь, шить умею… Последнее время все вышивкой жила. Теперь на платье ни агроманту, ни склярусу не потребляют, только вышивка.
— И нам скоро жрать нечего будет, все подберут, — ворчал, уходя из-за стола, отец Михаил.
Когда ушел, Тоня спросила шопотом:
— Все такой же? В сердцах? Папенька, царство небесное, даром, что брат, вот как его боялся!
Марфа Кирилловна отозвалась не сразу:
— После смерти жены строже стал. Ни на крестину, ни на похорону — никуда нейдет, пока плату наперед не выложут. Он тебе и обедню прервет, если не по нему невзначай словом обмолвишься.
— Крутой, — сочувствует племянница, — папенька говорили, что они и бивали…
— То-есть таких, как твоего отца, ни за грош. Он и дьякона бивал. После, выпимши, мирились. Очень бывал дьякон в обиде, ведь через двери-то всякому видать, что в алтаре делается. И теперь кто ему слово, он два… Уж я ему говорю: «братец, берегитесь, не такое нынче словоречие.» А он мне: «Христос терпел и нам терпеть можно». Ты на него не обижайся, а работа найдется. Братец и мужа корит, и меня, а мы чай помогаем. Глашку, вот, выгнал.
Тоня, опустив глаза, малиново рдеет. Попадья спрашивает:
— Видела ее?
— Нет-с.
— Ну, увидешь… И в кого уродилась! То-есть до того к мужчинам люта, что диву даешься. Прямо непотребство развела… ну, и выгнал…
— Сестрица и раньше с придурью была.
— С придурью?! Идиотка сущая. Она и читать-то толком не умеет. По мне что: не воруешь — живи, коли работаешь. А братцу нельзя — сан. И так конфуз полнейший, больно до парней жадна.
— Я, тетенька, к ней не пойду, если вам неприятно.
— Твое дело. Хочешь — иди, только не крутись там. Хочешь, здесь вечером сиди. Мне все равно…
— Нет, уж лучше я так посижу…
Однако, когда стемнело, пошла на тот конец поселка, откуда доносились гармошка, крики. Без ошибки: при свете костра, который разложили солдаты с проходившего поезда, увидела сестру.
— А! — пришла, проговорила та и быстро повела прочь, точно чего-то боясь от толпы. Все же в догонку донеслось:
— Глашка, а, Глашь, чего с девкой, а не с парнем ушла?..
— Ой, Тонечка, — чуть на распев грудью заговорила сестра, — охальники они. Мудруют надо мной.
Помолчав, спросила:
— Наговорили? Развели околесину?
Тоня нехотя ответила:
— Говорили. Только зачем ты, Глаша? право…
— Зачем? зачем? э-эх, не суди старшую сестру. Тоже дай срок, сама у кого на шее повиснешь. Из одного месива сделаны.
Потом, оборвав себя, тихо спросила:
— Надолго к нам? В городе как нынче? туго? Как мне давеча сказали, что приехала, я вся захолодела. Вдруг, думаю, павой от сестры отвернешься. И так уж срама натерпелась!.. Ох, и тошнехонько, Тонечка, живу я. Мочи моей нет. Скверная стала, хуже, чем обо мне говорят. Живу, паршивой собаки гаже. И тиранит меня…
Заплакала.
— Кто?
— Мельник, живу с ним. То-есть, каждый день за Федьку…
— За Федьку?
— За рабочего своего.
Прибавила шопотом со странной усмешкой:
— За рабочего, за Федьку, Федюшу… Не отдам его за все злато… хоть и гулящая.
У костра запели. Сестры молчали. Тоне хотелось многое сказать, но слова были не подходящие, точно совестные, вернее, обидные для сестры. Сильно та переменилась… Когда гармошка заиграла городской танец со здешними переливами, Глаша заторопилась:
— Прощай. Спасибо, не побрезгала. Ты стороной иди, не то солдаты в вагон втащат. Они все охальники, только и норовят… Ну, иди, иди…
Даже в плечо толкнула.
Тоня шла в темноте, ничего не видя. О что-то больно ударила ногу и окончательно заблудилась. Повернула назад; но, видимо, вновь ошиблась, так как скоро уперлась в стену. Сквозь ставни падал свет и Тоня постучалась. Через щели видно, как в комнате торопливо задвигались, затем, из сеней спросили:
— Кто там? что надо?
— Простите, я приезжая, мне бы до дома батюшки дойти…
За дверью зашелестели. Отперли:
— Милости прошу зайти. Сейчас проводим. Очень приятно познакомиться. Слышала о вас. Из Питера?
— Да.
— Прекрасный город. Все время в нем жила. В самой фешенебельной части, на Кирочной. Мой муж бригадный генерал. Теперь видите, в каком положении. Раньше при дворе были приняты.
Говорившая ввела Тоню в комнату. За столом сидело человек пятеро. Свет мешал Тоне рассмотреть присутствующих. Встретившая, — повидимому, хозяйка — сказала:
— Чего же спрятали?
— Уж я думала, Клавдия Петровна, либо обыск, либо бандиты.
— Ну вас — к ночи и такие страсти!
— Как же, на прошлую ночь в Мокренском на крайнем хуторе, как есть, всех вырезали. Никого в живых не оставили. Также постучавшись вошли, — рассказывала немолодая, угластая железнодорожная учительница, доставая из-под юбки бутылку.
— Вы, может-быть, с нами откушаете, — пригласила хозяйка, — рассказали бы… Кто теперь живет в Аничковском дворце?
— Не знаю… кажется, никто.
— Пустует, слава богу… Там прелестная голубая гостиная. Я очень любила местечко у камина: тепло и уютно. А Зимний? Говорят, разграблен.
— Нет, не слыхала. Там музей.
— Что вы говорите! Какое варварство… любимые покои государя!
Тоне говорить не хотелось. Сославшись на усталость, попросила отпустить. Тогда вызвали девчонку лет двенадцати и нехотя сказали:
— Вообще жаль, что уходите. Сыграли бы в лото. А так милости просим. Здесь отчаянный застой, вы человек свежий. Я принимаю каждый день…
Отойдя порядком, осторожно ступая в темноте, Тоня спросила:
— Приезжая барыня у вас давно?
— Та, — неопределенно отозвалось из темноты. Пауза; затем, недовольный детский голос проговорил, — много она себе кажет. Теперь не царь, чего кажет?
Так и шла впереди, все ворча.
* * *
На другое утро попадья разбудила рано:
— Уж попрошу тебя, Тонечка, со мной до дида съездить. Иди в сенцы, я самовар раздула.
Тоня одевалась медленно. От духоты, казалось, не спала совсем. Не хотелось двигать руками. Голова — точно свинцом налили.
В сенцах Марфа Кирилловна уже ругала своего безрукого:
— Не торашься ты на меня — не рак. Чего повидлу съел? Говори, наказанье мое… Я на блюдце всем положила, а ты, как пес негодный, слопал. Хлопочи, доставай, а ему горя мало. Ну, и пей теперь впустую…
Впрочем, пить без повидлы пришлось всем, заменяя ее черным хлебом с солью. Только поп все таращился на остатки варенья на блюдце…
Тоню в тележке одолела дрема. Все мерещилось — едут по расплавленной струящейся земле. А жар неведомо — снизу ли, сверху ли… Лошадь идет медленно, все помахивая хвостом от нападавших оводов.
Приехали. Бахча, как бахча. По середине шалаш сложен, дальше в степь — стог сена.
Дед ходит, переворачивает арбузы. Худой, жилистый, лицо темное. Борода узкая, длинная, совсем со старой иконы сошел. Ходит быстро и держится прямо. Позади в перевалку батрак Васька. Босой, косматый, в полинялой рубахе поверх парусинных, заплатных штанов. Усы, по-солдатски остриженные, от солнца выцвели, стали светлее кожи.
Попадья быстро сыпит, споря с дедом. А батрак, как уставился на Тоню, так и застыл. Сначала Тоне не по себе. Потом ничего, даже смешно — еще боднет, чего доброго!
Поспорив, Марфа Кирилловна пошла с Василием по бахче, нагибаясь то тут, то там. Дед остался с Тоней. Закурил, сплюнул, сел на корточки. Чтобы что-нибудь сказать, спросила:
— Не скучно, дедушка?
— Не, скуку люди выдумали. Как она-то есть, не знаю. Если загрущу, спать ложусь. А нет — на землю смотрю.
Говоря, взял щепотку земли и размял ее на ладони:
— Вот, на нее. Околеешь, словом, я, ты — в нее, кормилицу, уйдешь. Схоронит и увечного и счастливого. И про то ни гу-гу. Много бы ей сказать про разное убийство и про женское ваше занимательство, про обман какой и про горе. Вон, молчит. Хорошо, прямо рублем подарит. Еще она, девка, богатая — кладов-то в ней урыто: беда!
Подошла попадья с Василием. Помогая взвалить арбузы в телегу, он сказал неожиданно чистым, мягким голосом:
— Пореже езжай, а то в раз оберешь…
Повернувшись к Тоне, добавил:
— А ты чаще.
Та вспыхнула и чтобы скрыть стыд:
— Голос у тебя какой, грудной.
— Да, голос, отозвалась Марфа Кирилловна, — братец его в церковь звал, обещал певчим сделать — не хочет. Ты теперь, что-ли, опять, сокол, прячешься?
Усмехнулся:
— Тутка спокойней — никакого маршу, своя воля, без господских затеев. Какой обиды — ничего нету.
Обратно ехали снова шагом. Марфа Кирилловна все боялась — отберут. Скучно.
А дома скука сильней. В комнатах все пожелтело — и архиереи в тоненьких рамочках, и подоконники, и клеенка на столе. Сейчас в доме тихо, попадья с родственницами и детьми ушла подвязывать горох. Тоня слоняется от окна к окну. За ней следом, не отставая ни на шаг — поп. Не то полон утренней обиды из-за повидлы, не то его вновь обидели.
— Да, вреден поп народу. Травить надо, аки моль. Изничтожить, в печи сжечь, чтобы остатка не было.
— Никто вас, дядюшка, не травит, — пытается вставить Тоня. Не помогает, и поп позади жужжит большим надоедным шмелем.
Чтобы не слышать, Тоня вышла. Незаметно для себя, пошла по той дороге, по которой утром ездила на бахчу. Солнце спустилось низко — все розовело, а тени легкие, голубые, точно светящиеся. Ни в поселке ни на выезде никого не встретила, только спугнула гусей и те, распустив крылья, вытянув шеи, с гоготаньем понеслись в сторону. Шла быстро, легко… Скоро поравнялась с уже знакомой бахчей. Хотела пройти мимо, либо повернуть обратно, но с бахчи увидели, окликнули.
Подбежала черная, кудластая овчарка. Дед на нее цыкнул. Тоня, зачем-то улыбаясь, сказала:
— Диду, я по арбузу пришла.
Переспросил, недоверчиво, хитро прищурясь:
— По харбузу? Что же, можно… Вась, собери ноги, угости. Да ты сюда сверни…
Тоня села рядом с дедом. Тот продолжал на нее щуриться:
— Жизни в тебе много, вот и бродишь без толку. Ты не серчай — я любя…
— Нет, дедушка, не зря. Шла, все думала.
— О чем девке думать! Твоя думка короткая: до ворот, да за угол. Некогда теперь, состаришься, иное будет.
— По-другому?
— Да, все. Теперь што? — все смешки, все некогда, не одумать, ни што. Потом, смотри, слюбишься или так, щенятки пойдут, хозяйство к тому же, муж — опять ни што. Вот, когда своих схоронишь, если бог даст, до моих лет доживешь, оглянешься, да что? Другим-то до тебя дела нет, свое, возятся, в любы играются, своих щеняток заводят…
Тихо добавил свое:
— Ни што…
Когда Василий вернулся с двумя арбузами, Тоня думает: глупо, что пришла, обратно итти сколько… Даже головой покачала. Василий, зевнув, спросил:
— Таки ты одна пришла? ай, да девка! Одна до нас, а девка… Да ведь тебя обидеть могли. Бесприменно обидят. Да как же не обидеть-то…
Съев арбуз, Тоня вскочила и быстро, забыв поблагодарить за угощенье, повернула домой. Солнце село, луны не было, и ночь густела быстро, точно паром осаживаясь на землю.
Василий вызвался проводить. Когда отошли, дед закричал вдогонку:
— Ты там смотри, с первых дней не балуй, сиволапый…
— Разве я не понимаю, — отозвался Василий и объяснил, — это дед, чтобы тебя не обидеть. Уж больно меня девки любят. Ей богу, не вру, проходу не дают. Парней мало, кого в германскую убило, кого белые угробили. Вот, и разбаловались…
Всю дорогу хвастался своими победами. У Тони горели щеки, уши. Когда приблизились к поселку, потрепал за плечо:
— Крепкая ты. Да уж ладно, прощайте. Дальше итти мне нельзя.
— Почему?
— Ох-ох, и глупая, да ведь я же за зеленый лопух хоронюсь, чтобы в солдаты не забрили. Так-то, милая, прощай…
И растаял во мгле душного вечера.
* * *
Убедившись, что по всем признакам в квартире засада, Салов, как всегда с высоко поднятой головой — еще бы! за его голову Чека дала бы много — круто повернул в сторону вокзала. В кармане документы с пропуском и билет до Ростова, вытащенные лишь вчера на трамвае у какого-то доктора с санпоезда. Не думал — пригодятся. Оказалось, в самую пору. В руках у Салова портфель и больше ничего: во избежание обрастания обывательщиной.
Так объяснил соседу по отделению в вагоне.
Тот в рыжей, точно глиняной, куртке и таких же кожаных штанах.
Салов косится на сапоги и, чтобы разбить молчание, замечает:
— Вам бы, товарищ, сапоги под цвет. Иначе разногласие. А то бы картинка.
— Чорт с ними… такие выдали. Не важно…
Впрочем, после поверки документов, когда в купэ темнеет, попутчик разговорчивей:
— Сейчас в Екатеринослав к своим, после в сторону Жмеринки. По делу. После белых, знаете, местами плеши образовались — желания много, организации нет.
— Сомневаюсь, крутит головой Салов, — власть на местах…
— При чем власть на местах? — режет недовольно собеседник, — сейчас на борьбу с бандитизмом… словом, например, у меня полномочия…
При новой поверке документов, Салов убеждается, что у глиняной куртки не только полномочия, но и деньги. Едва убедился, как голова заработала в определенном направлении. Ведь в купе их двое, т.-е. случись что — свидетелей не было бы. Правда, останется следы замести, чтобы не спохватились. Да-с, это потруднее. Хотя и здесь раскумекать можно, только пообдумав. Не впервое…
От усиленной умственной работы Салов, прищурив глаза, жует губами.
— Принеприятная физиономия, — думается попутчику, на минуту оторвавшемуся от книги, которую начал было читать при оплывающем огарке, — не хотелось бы к такому попасть на операцию.
Передернул от гадливости плечами, задул из-за экономии огарок и спросил:
— Вы, доктор, по какой специальности?
— Я? — отзывается Салов и смеется от радости, что придумал, наконец, решение, — немного акушер, немного по венерическим. Теперь браться за все приходится…
Начал рассказывать тяжелое, скользкое. Другой молчал, не то дремал, не то удивлялся грязи, лившейся изо рта Салова.
За окном промелькнул семафор. Салов вышел. Станция еле освещена.
У баб, сидевших длинным рядом за оградой, купил молока, яиц. Замешкавшись немного в пустом коридоре, вернулся в купе. Другой уже лег.
— Не хотите ли молока?
— Спасибо, себя не обидьте.
— Нет, на двоих рассчитал. Только посуду разрешите.
Куртка мотнулась в сторону — была снята — и в темноте задвигалась белая рубаха.
— Хорошо сложен, один на один не сладить, — думает Салов и, заботливо налив в подставленную кружку, говорит:
— Кушайте.
Тот выпил.
— Хотите еще?
— Пожалуйста, а вы?
— Я после.
— Хорошо сделали, что купили. Пить хотелось. Только молоко пакостное… медяшкой отзывается. Весь рот связало.
— Пустяки, вы залпом. Яичком закусите. В дороге разбирать не приходится.
Поезд идет. В купе тихо; слышно, как Салов лупит яичную скорлупу. Другой снова лег, но не спит. Видно, закинул руки за голову. Затем слышен стон.
— Знаете, доктор, но мне совсем от молока… Положительно внутренности, брр… выворачивает. Так и стоит, жжет.
— Вероятно, не луженое, — спокойно объясняет Салов, — не беспокойтесь, пройдет.
— О-ох, нехорошо, как… Помогите, доктор.
Снова стонет. Салов злится.
— Вот сволочь — еще через стенку услышат. Здоров, как бык.
Вслух говорит:
— Вы к окну подсядьте, освежит.
В ответ сквозь стон еле можно разобрать:
— Не могу… язык одервенел. Плохо… плыву. Дышать нечем…
Тогда Салов, не торопясь, плотно затыкает платком попутчику рот и нос. Лежащий отбивается слабо, невпопад… Когда успокоился, Салов, повернув его лицом к стене, переодевается в чужой костюм. Потом усевшись в ногах, думает о том, сколько времени надо человеку, чтобы задервенеть порядком…
Станция. Салов стоит в дверях. По платформе снуют фигуры с мешками. В вагон никто не входит. Поезд снова трогается, Салов идет на площадку. Через приоткрытые двери сквозит ветер, полный запаха заливных лугов. Поезд, замедлив ход, въезжает на мост. Салов бегом возвращается в отделение и волоком вытаскивает бывшего попутчика. Выглянув за дверь — темно, спит поезд, только в самом конце горит мягким светом красный фонарик.
— Слава богу, строгость теперь: площадки без винограда, свободные…
Колеса постукивают все медленней, того гляди, остановятся. Тогда Салов, сильно размахнувшись, бросает в темноту труп и опять высовывается за дверь. Как-будто ничего и не было. Поезд ровно прирос к мосту: тот же неясный, покачивающийся силуэт соседнего вагона, тот же сонный, мутный, красный огонек в конце поезда…
— Молодчага, — хвалит себя Салов, — чисто сработал. Другой, что? примерялся бы. Много времени потребуется распознать. Ежели попадет в воду, то где еще всплывет. Трудно будет личность установить. Молодчина Салов, теперь с этими документами, куда хочешь, езжай — можно и свою салопницу навестить.
Затем привел все в порядок. Молоко вылил за окно. Сейчас в купе он один и, уже не стесняясь, почти вслух говорит свои думы, щуря по-прежнему глаза, губы в движении.
Под утро поезд остановился у узловой станции. Салов выходит из вагона. Воротник у куртки поднят, фуражка надвинута на самые глаза — не выспался человек. Руки заняты портфелем и чемоданчиком. У соседнего вагона стоит кондуктор. Подошел к нему и строго:
— Отчего нашего не видно? Безобразие! Мы с доктором здесь вышли. Места свободны…
Когда поезд уходит, Салов — собственно теперь он уже Еремеев, идет в контору дежурного. Прикрикнув, с недовольным видом узнает, что на его имя нет телеграмм:
— Нет? Тогда мне и делать здесь нечего. Когда следующий поезд? Отвечайте скорей, чорт вас всех дери! — говоря, гладил правой рукой кушак около кабуры.
[Не разобрать 3 слова — брак в оригинале] отъезжает. Правда, на этот раз вагоны покрыты людьми, как улей — пчелами. Втиснула железнодорожная администрация, стараясь поскорее избавиться от влиятельного человека… Словом, дня через два, как гром среди бела дня, нагрянул в то самое местечко, где в жаре и безысходной скуке маялась Тоня. С поезда прошел прямо к Клавдии Петровне.
Попадья как раз была по соседству. Увидя высокие сапоги, бритое лицо и пояс с переплечиной — курицей с насеста, слетела с крыльца.
— Ой, господи, — сообщала всем по пути, — с обыском у генеральши. Потом беспременно к нам… О, господи… Бежала, спотыкаясь.
Салов, войдя в горницу, даже ногой притопнул, увидя коровай ситного и полную тарелку помидоров, перекрошенных с луком.
— Коленька, какими судьбами?! — взвизгнула генеральша.
— Молчи, дура, — ответил, на ходу отрезая ломоть хлеба, — я тебе не Коля, а власть… Если у тебя останавливаюсь, значит, уплотняю твое буржуазное достоинство. Я теперь Еремеев, коммуна…
Клавдия Петровна стоит среди комнаты, ничего не понимая.
— Чего губы развесила? Понимаешь — я не я. Не тебе удивляться: тоже вашим превосходительством зовешься. Твой-то всего в околоточных был.
— Молчи, — зашипела, — скажи только, так я всем объясню, что в охранке служил, филером был. Молчи…
— Я-то молчу… Уши есть? — подмигнул на стену Салов.
— Сейчас нет, а бывают, — со вздохом опустилась на стул Клавдия Петровна, — с тобой я всегда в волнении Коля. Всего ждешь.
— Звала, письма писала… хочешь, уеду?
— Нет, нет, и так ночи не спала, все о тебе на картах гадала.
— Так-таки так. Как же ты генеральшей стала?
— Сама не знаю. Про мужа я у себя в бумагах все вытравила. Понимаешь, ночью стал мне сниться, как в последний раз видела: синий, страшный, глаза на шнурочках. Все мне грозился. Ну, думаю, значит, нехорошо перед покойником поступила. Вот, на духу попу и покаялась, — перед покойным мужем грешна, как бы от него шарахаюсь. «Из преступников он у вас?» — спрашивает. — «Нет, — отвечаю, — только теперь неудобство с его местослужением. Очень уж оно не в фаворе»… Вечером у них за чаем была и гостей много. Вдруг попадья мне и говорит: «Что же это, Клавдия Петровна, скрывали, что у вас супруг в чинах был». «Вы откуда знаете», — спрашиваю. «Слухом земля полна». Потом, как разговор про прошлое зашел, попадья опять мне: «Вы бы о царе рассказали, ваш-то, верно, допущен был». Что делать? всякое наговорила. Так и пошло…
— Своего околоточного куда махнула! — захохотал Салов, — ай да, Клавдия Петровна! ну, валяй дальше. Опусти штору. Спать лягу — две ночи не спал.
— Что тебе еще… уважают, конечно. А живу, как все. Что из своего меняю. Раз было из уездного обложили, да потом — спасибо — списали. Еще бабке Прасковье помогаю…
— Кто бабка-то твоя? — переспросил, снимая сапоги.
— Повитуха здешняя. Только не думай, чтобы при родинах. Нет, чтобы девке стыда не было.
— Жизнь-то какая: генеральша акушоркой стала, — зевнул Салов, — поразвлечься-то здесь можно?
— То-есть, как поразвлечься? самогона варят много!
— Не то, понимаешь, пощипать кого. Народ здесь зажиточный.
— Ну, тебя!
— Чего ну — я тебе не лошадь. Лучше говори, кого ободрать можно?
— Ей богу, Колечка, не знаю, — прижав руки к подбородку, прошептала Клавдия Петровна.
— Ты? врешь, со всеми чаепичничаешь… Поп?
— Какое! В Разливном тот действительно.
— Здешний?
— Говорю нет, не доходный.
— Не ври, бить буду.
— Запугал! да я всем расславлю, какой ты большевик!
— А! генеральша околоточная…
Спрыгнув с кровати, стал бить, стараясь попасть в мягкие места. Клавдия Петровна вся сжалась, но от ударов не очень сторонилась, точно они были ей не неприятны. Когда Салов кончил, оба тяжело дышали.
— Для начала будет. Ровно ты из теста сделана, еще больше здесь разъелась.
— Сдобная, — хихикнула в ответ, вытираясь полотенцем.
— Поговорим по делу, — посадив рядом, стал гладить ей плечи, — терять время мне нельзя.
Вкратце рассказал про дорожное. Она млела, прижималась, а потом закинулась, не выпуская Салова из рук…
Разговор кончили при утреннем свете.
Поднявшись с постели, чтобы закрыть окно, через которое со двора влетали мухи, Клавдия Петровна посмотрела на себя в зеркало. Расплывшаяся старуха и больше ничего! А он? Встав на колени, смотрела на дорогое ей лицо, низкий гладкий лоб, тонкие, мягкие губы, слабый срезанный подбородок. Смотрела долго, а утром составила целый список — где и что у какой приятельницы припрятано… Перед обедней исповедывалась, а к обеду вышла принаряженная, с розовым бантом под отвисшим подбородком. Вся зардевшись сквозь пудру, сказала:
— Родной, видишь, ничего для тебя не жалею… только около молоденьких не вертись!
На это Салов коротко ответил:
— Отвяжись!
* * *
Дня два спустя с воинского поезда, остановившегося у станции, вылезла Вера. Худая, в очках, с плоской фигурой. Неловко выпрыгнув из теплушки, она хотела, было, взвалить на спину корзину с привязанным тючком, но от тяжести качнулась в сторону. Из теплушки крикнули:
— Погоди, товарищ, сейчас Тяпкин тебе до выхода донесет.
Из вагона вылез низкий, широкий красноармеец. Взял вещи.
— Идите. Если близко, до места донесу. С час простоим.
На площади перед станцией ни души. Вчера Салов реквизнул молоко. Не то, что ему в том была нужда, но знал, что так делается — а проявлять себя пора было.
Пройдя площадь, Вера поманила к себе стоящего в тени мальчонка лет десяти:
— Скажите, пожалуйста, где у вас живет священник?
— Вон, тама, — показал он неопределенно, — коли тебе безрукого надо.
— Нет, тот, кажется, не безрукий.
— Эге, значет, тебе до попа Михаила треба.
— Да, да, его.
— Тама же.
Как ни неопределенно, но нашла — третий дом от угла.
Тоня, увидев издали Веру, успела шепнуть Марфе Кирилловне:
— Тетенька, вон товарка моя… только вы, того, она сочувствующая.
Заранее предвидя столкновения, пошла с крыльца, на котором отбирали ядрицу.
— Приехала?
— Как видишь. Ты на целую неделю меня опередила. Все дела, еле вырвалась.
Попадья встретила растерянно:
— Теперь Тонечке не скучно будет… Ты проводи товарку в горницу, может-быть, они с дороги умыться желают.
Когда ушли, Марфа Кирилловна наскоро возвела глаза к скворешне:
— Господи, слабым покровитель, за что на нас налетели злые вороны?
Заметив остановившуюся работницу, прикрикнула:
— Да ты с пойлом-то иди! Чего уставилась? Не меня, а свиней поить идешь…
Вера, оправившись перед зеркалом, вышла по другой лесенке прямо в сад.
— Хорошо все-таки у вас, дали-то какие… Ты уже загорела. Только молчишь — в рот точно воды набрала. Свела знакомства?
— Мало. Сплю больше, жарко уж очень… да и не с кем. На днях приехал Еремеев, строгости ввел. Раньше не было. Но знаю, нужные ли?
— Раз ввел, значит, необходимо. Ему виднее. Где остановился?
— Здесь какая-то генеральша живет. У нее…
Разговаривая, дошли до заборчика, отделявшего сад от двора. На веревках по двору развешены одеяла и перины. Батрачка с чувством выбивает из них пыль. Вера спросила?
— Встают у вас рано?
Тоня вздохнула:
— Очень, чуть не с петухами.
— Работница тоже?
— Ну, конечно.
— И до настоящего времени работает! Тоня, чего ты смотришь? Я сейчас объяснюсь с твоей теткой.
Вера ушла. Тоня с ужасом думает — начинается. Просидев в акации минут пятнадцать — не больше, рискнула, вышла. Разговор кончился. Марфа Кирилловна раскраснелась. Увидя Тоню, обрадовалась — все же помощь:
— Не то, Вера Алексеевна, говорите. Я-то сама, хоть ее спросите, с утра до вечера маюсь. А Моте я в матери гожусь.
— Безразлично, вы себе делаете. Она для своей нужды когда будет работать? Если восемь часов мало, сделайте сверхурочные, но за особую оплату.
— Правильно, — вставила Мотя, — скупы очень. Вон у землемера в праздник барское платье подарили, а мне ще?
— Самим жрать нечего, — огрызается Марфа Кирилловна.
Тоня отозвала Веру:
— Охота тебе!
— При чем — охота, — отвечает Вера, — боюсь, не уживусь у тебя. Надо завтра с утра присмотреть что-нибудь подходящее…
На другой день Вера идет в сопровождении Моти на водокачку. Около захлебывающейся, жадной машины с лукавыми, судорожными движениями — никого. Двинулись в обход. У ледника, под засыхающими кустами сирени скамья и стол, совсем живые. У стола что-то читает Корнуев, машинист. Сорок пять лет, глаза выцвели, лицо в глубоких морщинах.
Узнав от Веры Алексеевны, что она издалека, стала расспрашивать. На вопрос, что и как здесь, махнул рукой:
— Начисто белые вычистили. Меня не то не нашли, не то забыли, — водокачка в стороне. Может-быть, вода нужна, а некого было к машине поставить. А так всех… Я ужо вам место покажу, где ребят кончали. А хорошие были парни. Останься в живых, смастерили, не то почитай я один… Такой кому нужен? Вчера пошел к Еремееву. Вы его видели?
— Нет еще. Раньше о нем слышала.
— Слышали, вот как… Так я вчера до него ходил. И то, говорю, сделать надо, и то. Помочь берусь. А он только головой махает… не беспокойся-де… О-ох, не люблю я гордых. То-есть терпеть не могу. Раз дело есть — лезь, не фордыбачься!
Просидев с час, узнала, что в десяти верстах в усадьбе, в Раменском, у агрономов есть коммуна, ближе — ни души…
На обратном пути, переходя полотно железной дороги, увидели высокого человека, разносившего начальника станции:
— Нет, и сто раз нет. Надоело… Должно-быть, и баста. Поняли? нет? Тогда разговор с вами будет иной…
Станционный не спорит. Только лихорадка бьет.
Сразу решив, что это Еремеев, Вера, подойдя, рекомендуется. Еремеев, т.-е. Салов, удостоил рассеянным ответом:
— Вас сюда прислали?
— Нет, т.-е. пока я в отпуску…
— Ага… — повернулся опять к станционному, — итак, без моей визы билетов не продавать и на поезд не сажать.
— Билетов, хорошо — их мало кто покупает. А не сажать — вам легко сказать, но разве я один поезд охраняю?!
— Не мое дело. Мне важно, чтобы спекуляции не было, — говорит Салов, из опасения, что о нем дойдет слух до города.
— Целесообразно ли… — начала было Вера, — хотя если у вас полномочия…
— Да, товарищ, — многозначительно говорит Салов, — имея мандат…
Салов Вере не понравился. Дома она переменила очки на пенснэ. Может-быть, в них лучше разглядит.
Салов же обругал вдогонку Веру кикиморой, не бабой, а метлой в юбке. Хлопнув себя по кобуре, пригрозил еще раз начальнику станции и зашел на телеграф. Послал несколько телеграмм с вымышленными адресами — делал для большей важности — так объяснил Клавдии Петровне. Придрался к телефонисту, белобрысому, малого роста. Уходя, хлопнул дверью… В числе телеграмм одна, уже повторная, по настоящему адресу — вызов подкрепления. Возвращаясь, все подсчитывал, когда приедут — одному трудно работать… Если пройдет номер, можно повторить еще где-нибудь. Правда, в городах администрация… Здесь единственно с кем душу отвести можно — мельник. Здоровый, кряжистый. Сам покаялся, что мелит с нарушением — чего Салов до сих пор не знает…
Молодцы прикатили на другой день. Их Салов случайно встретил около станции:
— Эге, сам своей персоной.
— Как величать-то?
— Скоро, ребята, не ждал…
— Мы мигом — по особой литере ехали. Представили телеграмму — в момент выдали. Дело есть?
— Найдется…
Вечером уже поднажали. Улов хороший — на то чернозем, чтобы на дне каждого сундука было серебро, а в узелке царские завернуты и, особо в газете, керенки…
* * *
В полдень к Вере зашел машинист с водокачки:
— Не дело, гражданка. Смотрите, что устроили. Ворчат кругом.
Вера стала оправдываться, но тот не слушал:
— Добро бы свои… Уж мы знаем кого. Эти-то, приезжие. Как есть — под ряд, не дело. Еще вчера у стрелочницы двум курам головы свернули — тоже не дело. Мы что имеем? Ни шиша. Вон, лето пройдет, зима, а у меня вся семья босая. У стрелочника тоже, а они — куры… Утром, говорят, перепились и Степана Трофимовича сына побили. Он, конечно, дезертир, но бить зачем? Ежели есть положение, арестуй. Это должно… Совсем не ладно поступают, как посмотреть.
— Что же делать? Я не при чем…
— А ты будь… Я к ним ходил — спят, пойдем вместе. Всякий на тебя пальцем тычет.
Вера еще возражает:
— Я на отдыхе.
— Нашла время! Попадья, вон, жалуется, что ты жизнь у них перевернула. Это дело, а тут не хочешь… Я зайду ужо.
Однако, позже итти не пришлось, так как к Марфе Кирилловне пришла Клавдия Петровна:
— Уехали мои мучители, — сообщила она, — на два дня, не то в губернский, не то еще куда. Прямо ужасно!
Марфа Кирилловна кивает головой, но молчит, о чем-то думая. Вечером пришла к Вере и, заплакав, зашептала быстро, точно просо сыпала:
— Милочка, родная моя, так обяжете… последнее…
— Что? в чем дело? — не понимала та.
— Ночью обыщут, беспременно возьмут. Так я к вам, у вас шукать не станут.
— Нет, неудобно… Напрасно вы беспокоитесь.
— Очень прошу. Хоть проверьте, всего три кольца обручальных, сережки без камушков, еще с бирюзой, броша, портсигар…
— Мне все равно, — прервала Вера, — впрочем, если беспокоитесь, оставьте. Только зря…
Попадья отвесила поясной поклон и, пятясь, скрылась за дверь. Вера, тяжело вздохнув, сняла очки и начала расплетать косы. Волосы хорошие. Сначала мысли скользили с предмета на предмет. Потом внимание привлек шум. Слышались крики, топот лошадей… Все ближе, ближе. Потом раздался выстрел, и пошло. Задув свечу, ощупью выбралась на другую половину — там уже стояли остальные.
— О-ей, бандиты налетели, опять куммунистов резать, — плакала в углу одна из племянниц, — ой, боюсь, боюсь…
— Чего, дура, орешь? Тебе дело есть? — цикнула на нее Марфа Кирилловна.
— Вера, а ты как же? — спохватилась Тоня.
— Не знаю, пройду на сеновал, на курятник… — слова шли из горла медленно, точно застревая.
— Нет, там найдут. Лезь под батюшкину кровать, за рундучек. Мы дверь снаружи припрем. Скажем, ключ с собой увез.
Едва заперли дверь, в ворота застучали и чей-то голос крикнул:
— Отворяй!
Попадья закрестилась. Тоня дрожала мелкой, поганой дрожью. Прижалась к стене, ровно хотела в нее врасти. У ворот крики настойчивей. Один голос будто знакомый. Прислушалась, так и есть. Никого не спрашивая, выбежала, отперла ворота и, стараясь пересилить шум, крикнула:
— Василий!
— Я, — отозвалось из темноты. К Тоне приблизился верховой.
Торопясь, схватив лошадь под уздцы, зашептала, точно заранее имела сообщника. Тот слушал, низко наклонясь.
— Да Вера-то твоя, — переспросил, — сама говоришь, большевичка?
— Подруга мне, у меня гостит. Ох, Василий, никак нельзя…
— Мы только их и бьем. Чай слышала, что они вчерась устроили.
— Она не при чем…
— Все одинаки. Ты лучше укажи.
— Тебе говорю, подруга мне.
Василий слез, закинул поводья за плетень. На соседнем дворе с криком разлетелись куры.
— После отблагодаришь? а? чего хочешь?
— В дом не пусти… скажи, сам был. Сейчас по соседям ищут.
— Ладно. Только смотри после…
Взошел на крыльцо и сел в дверях, держа между колен винтовку:
— Здравствуй, попадья, где твоя советская гостья?
— И не грех тебе, Вася, нет ее у нас, — выступила из сеней Марфа Кирилловна, предупрежденная Тоней.
Подошло еще двое:
— Ну, матушка, пусти в дом. Один дручек у тебя с воза обронили, пошукать надо.
— Не ищи, товарищи, я уже пытал. Чего зря время терять, — ответил Василий.
— Одному несподручно… Мы вдвух весь дом перевернем.
Говоря, хотел пройти в дверь, но Василий поймал за руку:
— Коли говорю, смотрел — не лезь…
Поспорили. Потом ушли. Еще долго не верилось, что избавились…
Вера вылезла из-под батюшкиной вдовой кровати уже на рассвете. Вся запылилась.
— Откуда ты этого Василия знаешь? — спросила Тоню.
— Видала раньше, на бахче…
— Хоть одного знаем. Теперь всех изловим.
— Что?! Вера, ты хочешь выдать?!
— Конечно, не ждать же, чтобы он мне, в конце концов, горло перерезал.
— Но он… это невозможно. Ты знаешь, что без него ты погибла бы. Василий же спас. Ты должна обещать.
— Что?
— Молчать.
— Чтобы в другом месте…
— Ты не смеешь ничего предполагать. Возьми в толк, не будь его — нам с тобой не разговаривать. Обещай молчать.
Вера поправила очки, призадумалась. Потом очень сухо, скрипуче:
— Ничего тебе обещать не буду. Сама с указаниями не полезу. Поняла? Если спросят — дело другое, я не имею права…
* * *
Весь день Тоне не по себе.
Слонялась по двору среди мух, кур. Земля на дворе от помоев, помета — скользкая. Следом идет старый поп. Жужжит все свое нудное. Наконец, отстал…
Возвращаясь из коровника, Тоня заметила дверь в погреб открытой, подошла прикрыть. А из нее необычно быстро выбежал поп, рот полон, руки в твороге. Вытирая их о порыжелую ряску, оставлял на ней белые пятна. И достанется бате за сворованный творог!
Часа три просидела в комнате, тупо смотря в угол. Когда солнце спустилось к западу, наконец, вышла на крыльцо.
Вера сидит на ступеньках. Заедает хлебом молоко и беседует с зашедшим Шильдером. У последнего длинная шея с большим кадыком, на ногах обмотки.
Показывая, на Тоню, Вера волнуется:
— Разве можно жить без дела! ни к чему интереса… На что себя готовишь? Нельзя, Тоня, жить в ожидании, чтобы тебя кто-нибудь взял замуж. Подумай, работы угол непочатый…
На разговор выходят обе племянницы. Они в папильотках, поэтому, несмотря на жару, головы повязаны. Шильдер козыряет — бывший кавалерист не забыл свои повадки, сидя в кассе. Говорит он быстро, перебивая себя, собеседника:
— Нет, Вера Алексеевна, вы неправы, это судьба, фатум… Говорят, существует — виноват, я прямо — охота за женщиной. Ерунда. Есть охота за мужчинами. Женщина — что? самка, сидит пауком по середине тенет, охотится. А те, болваны, попадаются. Отсюда все наши несчастья, т.-е. что шармом называют: семья, дети, уют — весь женский арсенал, т.-е. наши враги… Через двести лет, когда женщины войдут в силу, нас запрячут в клетки и будут выдавать по талонам. Я, виноват, не верю женщине — она хитрая.
— Что у вас в мешке? — прерывает племянница.
— Я с самогонкой из Бычачьего. Там особую варят… Вот, посудите сами, Вера Алексеевна, месяц назад, как раз в Бычачьем, зашел один к бабе за самогоном. Задрался с ней — мужика дома не было, в поле, что ли… ругались, понимаете, не больше обычного. Только девке — она на печке лежала — слушать надоело. Ну и хватила его топором.
— И потом? — спросила Тоня.
— Ничего, сволокли в овраг…
Торопясь, уронил мешок и выругался.
— Par bleu… простите, очень испугался, разобью…
Опять торопясь, взвалил на плечо и ушел.
Вера прошла к себе, за ней Тоня. Пора спать.
Тоня:
— Зачем, Вера, ты меня судишь? Сама была замужем…
— Да, и целых два раза.
— Вот видишь… Ты расходилась с ними?
— Нет, умирали. Один от апендицита, другой два года назад от тифа. Но это, Тоня, не то… у меня было на втором месте. Главное, работа. Впрочем я тебе моей жизни не навязываю; может-быть, она и не задалась. Но нельзя без любопытства жить. А то какая разница между твоей теткой и наседкой, Буренкой? Прости, я не вижу…
Собралась с силами для ответа:
— Не умею иначе — живу, как живется. По-заученному нельзя жить.
Вздохнув, замолчала и стала раздеваться. Вера подошла, оглядела всю внимательно:
— Да, правда… ты, как бы сказать, наливная… Тебе сколько лет?
— Двадцать.
— Мне тридцатый. Шутка ли: десять лет разницы. Может-быть, на твоем месте я по-твоему бы рассуждала.
Тоня слушает слова Веры и нет. Подошла к окну, распахнула его, душно в комнате. За окном тоже душно, но легче, когда ветерок есть. Темная ночь, такая жуткая, манящая. Высунулась вся в окно. Кажется, рядом кто-то, рукой подать — здесь ждет, зовет. Объяснить разве это Вере, если она через свои очки, говорит, никогда звезд не видела!.. Так и есть, спит уже. Окликнула:
— Вера!
Молчит. Тоня сидит, опустив голову на подоконник. Потом, точно не по своей воле вылезла из окна во двор, вышла осторожно за ворота и пошла. Кругом ночь лежит, степь в ней тонет. Надо Верины слова обдумать. И она идет…
Будто случайно, но идет она в этот поздний час к деду. Прямо чуть белеет дорога, по сторонам черно. Где-то однообразно кричит ночная птица, не то скрипит журавль, не то вдали едет телега. На бахчах местами костры, доносятся голоса — вечерний воздух.
Наконец, знакомый сворот. У костра дед и еще чья-то спина. Как-будто Василий — не разобрать. Тоня опустилась в канаву и ждет, а чего — сама не знает. Верно, луну, чтобы та, поднявшись, осветила обратный путь.
У костра едят. Вот кончили. Василий — это он — прикуривает от уголька и идет с собакой к дороге…
Тоне страшно.
— Василий! — окликает она и сразу понимает, что этого делать не следовало.
— Кто звал? — спрашивает тот, подходя, — да, ну! попова барышня. Во… как попала?…
Сел рядом.
— Хорошо, что пришла. Очень хорошо. Ты мне очень нужна. Понимаешь? во…
Показал на горло. Прислушался — издалека слышен лошадиный топот:
— Пойдем в сторону, еще заметят. Каюк будет.
Пошли, молча, временами прижимаясь друг к другу, спотыкаясь об арбузы. Дед попрежнему сидит у потухающего костра.
— Ты чего там? — окликает Василия.
— Ничего…
Собака, отстав, подбежала к старику. Когда отошли вглубь, где кончилась бахча и стоял стог сена, Василий, сжав руку, потянул вниз. Машинально слушаясь, Тоня опустилась. Василий быстро, прерывчато заговорил в самое ухо:
— Зачем пришла? А, зачем? Хочешь, скажу…
Все продолжал невнятно говорить… Тоня еще отбивалась, просила, но тихо…
— Молчи… смотри, дед услышит. Он снохач, даром что старик… Молчи, хуже будет…
На их возню залаяла собака, но скоро замолкла, и только яркие, дрожащие в своем свете звезды, казалось, спускаясь с неба, светили сверху. Чудилось Тоне, что кто-то сильный, отрешив от всего, возносит ее к этим далеким звездам с пыльной земли…
Утром первое время провожал Василий, лохматый, пахнущий степью, махрой, странно близкий и далекий в одно и то же время. Не доходя поселка, отстал, на прощанье крепко прижав к себе. Дальше шла одна. В утреннем густом, снизу лиловатом тумане еле обозначалось полотно железной дороги… Едва дошла до плетней с высокими придорожными лопухами, как силы вдруг оставили, и Тоня упала головой прямо в пыль, упираясь голым локтем в конский навоз. Плача, говорила:
— Мерзкая, дрянная, вся в сестру! Та, как собака, таскается. И я такая же…
* * *
Вера, не найдя с утра, с кем бы отвести душу, отправилась на станцию. На платформе, кроме зеленого пустого бака для воды да спящей в его тени собаки — пусто.
— Можно диву даться, — рассуждает про себя Вера, — будто нарочно людей спрятали.
Посмотрела наверх, но ничего не увидела через свои стекла. Собралась продолжать путь, как окликнул Шильдер:
— Не боитесь солнечного удара?
Говоря, выскочил через окно.
— Конечно, нет, глупости… у меня волосы густые. Вы что без фуражки вылезли — у вас лысина.
— Ничего: зеркальная поверхность — лучший отражатель.
Смеются.
— Как ваша самогонка? — спрашивает Вера.
— Спасибо, пока не пробовал. Помешали… то-есть рядом роды были. Превосходительная акушерка была.
Вера не понимает.
— Генеральша эта, — поясняет Шильдер, — при родах она редкий гость, больше о воинстве херувимском заботится. Конкуренция нашей повитухе. Нагуляет девка и к ней. Верно, извините, которую калечит.
— Вы бы, Шильдер, вместо чем пьянствовать, хоть бы здесь поработали.
— Рекомендуете акушерством заняться?
— Перестаньте, прекрасно понимаете. Нет, с калечием… Вероятно, редкий день вензелей не рисуете?
— Спасибо, Вера Алексеевна, на добром слове. Пью я, право, не зря. Из-за отсутствия радости. Красно сказано? Что делать, но по-моему радость должна быть большой, своей собственной, этак, чтобы всего перетряхнуло, либо радостью коллектива, где твое я — ничто, песчинка. Здесь ни того ни другого. Скучно живут. И мы с вами, что ни говорите, скучно живем. Поэтому люди скотинятся, пьянствуют. Еще находят выход в половом экстазе — ведь другие пути все заказаны.
— Пустое, — режет Вера.
* * *
Вечером в Гайворово вернулся Салов с компаньонами. Прикатили они на тройке. Салов долго кричал на Клавдию Петровну, а та плакала. Попадья старалась узнать у генеральской девчонки, с десять морковок дала. Но так-таки ничего не выведала:
— Дура ты, простоволосая…
У Тони болит голова. Разделась, легла на кровать и наблюдала за Верой. Ей все равно, что та укладывается.
— Завтра я от тебя уезжаю, — говорит Вера, сидя в одной рубахе перед раскрытой корзиной, — сил моих нет на твое безделье смотреть, ни на твоих дражайших родственников. Ты не обижайся.
— Я не обижаюсь, к тебе заглянуть можно будет?
— И можно и должно. Увидишь, как люди живут… У тебя, что вчера, то и сегодня: ешь, спишь, дышишь, потом опять спишь, дышишь, ешь…
— Нет, Вера, ты всего не знаешь…
Замолчала, слов нет объяснить. Будет не то… Уже вяло кончила:
— Со стороны все иначе. Когда думаешь двинуться?
В окне появляется испуганное лицо Корнуева:
— Товарищи, сейчас Еремеев Машотина пристрелил…
— Как! — подбежали к окну.
— Не знаю, что промеж них вышло… Только из конторы выскочил Машотин и бежать по улочке. «Помогите» — кричит. Сзади Еремеев с револьвером. Машотин на повороте споткнулся. Еремеев сзади подбег и в упор… Нет, уж как хотите, а надо ему сказать, что никакой возможности нет. А то бы город запросить? Ну, почто человека убил?.. Добро бы еще мужика, а то мальчонка совсем.
— Нет, — сухо говорит Вера, накидывая на плечи платок, — нельзя, Корнуев. Должна быть, дисциплина. Когда уляжется, я с ним поговорю… Даю вам слово. Я давно собираюсь.
Корнуев отходит от окна, сокрушенно махнув рукой:
— Ну, как хотите, собирайтесь хоть три года. А я все же съезжу, авось разузнаю…
И когда ночью в степь уходит бесконечно тяжелый поезд с углем и мешечниками, на одну из его площадок взбирается машинист с водокачки…
Тоня сбегала посмотреть. Вернувшись, долго навзрыд плакала. Очень жалко — такой молоденький. Вера очень расстроена. Даже говорит про себя. Увлекшись, не замечает, как пожимает плечами, подымает руки — подготовление к разговору…
В это время Салов уже лежит на кровати. На коврике перед ним стоит Клавдия Петровна:
— Зачем ты только сделал! И так тебя хают, только и слышишь: вон, власть, вон, какова, вон Еремеев… А ты…
— Молчи, и без того голова трещит. Спать буду, уйди…
Но Салову не спится, и генеральша его поит парным молоком.
— Ехать мне пора, вот что! Нельзя тянуть, еще схватят. У этого мужичья лапы цепкие.
— Возьми с собой.
— Куда?
— Все равно, с тобой бы…
— Э-эх, оставь, мать. Повидались — хорошо. Подработал — того ладней. Через два дня — айда, овидерзейн. Поднажму еще с ребятами. В Раменском еще не был. Ну, да ладно, спать…
На другой день у Зубко, что живут бок-о-бок с попом, гости: старшая дочь, проневестясь два года, сходит с рук. В маленькой комнатке много народа. Душно. Пахнет жженой бумагой от китайских фонариков — наследия усадьбы, повешенных посередине комнаты, то и дело загорающихся. На столе стоит блюдо с кусками вареной говядины, свинины и курицы. На полотенце груда кусков пирога, белого хлеба, рядом масло, сотовый мед и в широких горшках самогонка. Пока нет музыки, гости сидят вдоль стен. Музыка — лучший гармонист в местечке и Шильдер со своим кларнетом. При первом звуке — танцы. Собственно в течение всего вечера танцуют одно и то же. Барышень больше кавалеров.
За столом сидит Салов. Его потчуют из бутылки. Он пьян. Увидя Тоню, спрашивает:
— Кто ваш ухажор? Разрешите, им буду…
Тянется. Заиграла музыка, и Тоня смешивается с толпой танцующих. Протолкалась на улицу.
— Пьяный забудет. Не то припрется, ему все можно.
Посмотрев на звезды, вспомнила Василия — что он теперь? спит, верно… Ему горя мало. О ней и не думает…
Встряхнула косой. В комнату после ухода Веры хотели перебраться племянницы. Тоня не пустила. Даже поссорилась с попадьей. Долго Марфа Кирилловна сокрушалась:
— Такую тихую и то большевичка, проклятая, испортила!
На другой день после переезда Веры в усадьбу к агрономам, туда пришел Шильдер.
— Видите, для вас двенадцать верст отмахал!
— Спасибо, — смеется Вера, — а ваша служба?
— Сойдет. Теперь собственно и служить опасно — власть рядом.
— Какая власть? — сердится агроном, — разобраться, Шильдер, нужно. А то с ваших слов так и пойдет.
— Позвольте, Карпенко, — вмешивается учитель из Раменского, в очках, с остренькой вперед, рыженькой бородкой. Когда говорит, все поправляет очки и теребит бородку. Смотрит из-под очков и кажется себе на уме. На деле — простодушен, как телок.
Начался спор.
Шильдер сидит с Верой на террасе у большой облупившейся колонны. Долго шутил, потом неожиданно спросил:
— Вы в бога верите?
— Охота вам глупые вопросы задавать, — от обиды передергивает плечами Вера.
— А я, вот, да. Даже в церковь хожу. Очень люблю смотреть, когда исповедуются. Честное слово, завидую попам. Сколько через них материала проходит, самого чистейшего, из первых рук. Следовало бы печатать, иначе пропадает.
— Это попы с ихнем стилем, — смеется Вера.
— Я бы такую толстую книгу издал и назвал бы ее — «исповедное».
— Болтун вы, а еще немец. Немцы все дельцы.
— Немцем я всего по деду. Он у меня из саратовских колонистов. Прочее все русское.
Пауза.
— В церковь лишь чтобы позавидовать ходите?
— Нет. Я все стараюсь бога узнать. Каков он на деле. Ведь, собственно, добрым мы его для собственного успокоения сделали, т.-е. сами себя уверили, что начальство у нас великодушное… Между тем, Вера Алексеевна, и в природе и в нас самих зла чуть не больше остального: и болезни, и война, и ревность, и насилия всяческие. Родиться-то в мучениях — а результат смерть, новое мучение и себе, и близким. Разве жалостливое существо могло бы это устроить, а, если устроив, с этим мириться?!.. Да, в бога я верю, а какой он — не знаю. Возможно, злющий, и забота-то его вся лишь в уничтожении и муках бытия. Впрочем, это мысль не моя… Ведь и раньше был культ злых богов…
— Ох, как вы здесь опустились, Шильдер! — прервала Вера…
После обеда, когда Шильдер ушел, Вера уселась в пустой гостиной с высокими выбеленными стенами. Окна во двор, напротив — бесконечные службы. Вера любит эту комнату — самая прохладная. Сюда перетащила мягкое кресло, оставшееся в единственном числе во всем доме. Сейчас сидела, не то читая, не то перебирая в памяти всех здешних, — Тоню, Шильдера: глупо у большинства складывается жизнь…
Между тем, во двор въезжает человек двадцать конных. К ним навстречу с птичьего двора идет агроном. Всадники расступились, дали тому пройти в середину, а потом… Вера помнит больше всего крик, от него она приросла к креслу, а голова заработала поразительно быстро… Затем, с трудом поднялась и пошла тихо, не потому, чтобы хотела, а потому, что ноги прилипали к полу. Как спустилась в сад — она так и не смогла никогда припомнить — здесь пробел, в роде обморока… Лишь, когда очутилась между кустами акации у заброшенной бани, откуда-то взялся страх и погнал. Нагнувшись низко, Вера быстро бежала, как не бегала в детстве, к высоким тополям, видневшимся в стороне. Спряталась в лабиринте, досужливом крепостном изобретении помещиков, пригодившемся так-таки спасти человека.
Стоял вечер, когда по особенному пахнет липа и странно белеют на траве большие белые бабочки с розовыми глазами. А из дому все еще доносились крики…
Ночью Вера пробралась в Гайворово…
На другое утро всех увидела, уже лежащих в ряд под брезентом. Учитель лежал с края. Лежал с оскалившимися, странно забелевшими зубами. Бородка попрежнему торчала вверх… Ему, как теленку, горло перерезали.
— И я с ними лежала бы, — думала Вера, — случайно ушла… Один конец; правда, надо мной еще надругались бы…
Бандиты увели лошадей, избили рабочего и убили четверых. В том числе паренька, приехавшего к брату поправить здоровье.
* * *
Чуть протрезвившись после свадьбы у Зубко, Салов делает смотр своей команде — двое своих, приезжих, четверо — здешних, приставших: восторженная племянница начальника станции — вздернутый носик, серые глаза; затем, двое архаровцев с сыпного пункта, еще фельдшер. Последний всегда пьян.
Салов выходит из себя, трясет кулаком и просит быть жестче. Приезжие приятели полупьяны и все время фыркают.
В полдень выехали навести порядок в Раменском. Обыскивали, пили, тискали девок, брали откуп.
Утром, проснувшись, Салов долго ничего не мог припомнить. В избе, кроме девчонки лет одиннадцати — никого. Девчонка в длинной юбке и в теплом платке.
Салов привстал, потянулся — весь, как перемолотый. Хорошо бы огурчика соленого! Для чего-то ударил кулаком в стену. Зевнул, посмотрел на девочку и, подсев, стал ее ласкать, как взрослую… Она все пищала…
Одевшись, в дверях оглянулся и скверно выругался. В сенях спали компаньоны. Оседлав лошадь и прикрепив к седлу мешок с выручкой, поехал. Поехал быстро, не останавливаясь, верст восемь, т.-е. до самого кургана. Изредка оглядывался. Под конец, пошел медленней. Дорогой думал о разном:
— Дрянь народ! еще этот Машотин вздумал подозревать. Зато, правда, его не стало — к жизни навыка не было. Вначале тоже глаза скосил — «не буду-де ваших телеграмм отправлять. Фальшь одна, адреса-то все вымышленные. Вон, любуйтесь, обратно присланы. Да вы-то сами что есть на деле?..» Едва увидел револьвер, не кончил… Трус мальчишка, только и умел плеваться…
Курган с трех сторон зеленый, а с одной желтый — клад искали. Спрыгнув с лошади, Салов тащит на вершину мешок. Там начинает копать земляную стену откоса. Рыхлая земля легко поддается. Затем, пустота и Салов торопливо сует в нее содержимое мешка. Три минуты — работа кончена. Салов лезет на самую вершину и осматривается кругом. Никого, степь спит, значит — место схоронено. Вновь засыпав отверстие, идет к лошади, напевая:
— Два двора, три кола, Сидит девка хмурая…Пить охота — печет треклятое солнце… В ночь сюда заглянет, заберет что надо — и айда: на следующем полустанке в поезд сядет доктор с санпоезда, а от коммуниста Еремеева только в степи разрытый курган останется. Любопытно узнать, нашли ли того в реке.
Пристав в седле, Салов осматривается, заслонив глаза рукой. Селенья не видно, в стороне — чуть подымаясь к горизонту тянутся бахчи. Арбузом что ли полакомиться? Завтра в эту пору он будет далеко. Свои поднагонят в Москве. Приятели — надо поделиться. А Клавдии Петровне — мое почтение с карамелью!..
Салов раскланивается и сворачивает с дороги в сторону бахчей. Арбузы лежат, блестя на солнце, ровно натертые маслом яйца на пасху. Салов, вынув шашку, пытается ею рассечь один… Шашка иной раз врезается в самую середину, и арбуз разлетается бомбой, иной — срезает лишь верх и не понять, спелый ли…
Работая шашкой, Салов отъезжает от дороги…
В тени шалаша сидит дед. Сегодня он один — Васька ушел с утра, обещался вернуться к вечеру. Сегодня дед сердитый, вчера Кудляжий удрал. Не любит старик, когда собаки пропадают. Жаль. Собака не человек, зря не убежит. А тут, как-раз время сторожить. Без собаки разве можно?
Дед всматривается вдаль — степь, что ладонь, на десятки верст видно — ровно верховой сюда поворачивает. Дед из опасения берет старую двустволку.
«Вон, не слезая с лошади, на ходу ударил по арбузу шашкой! Ему озорство, а ты смотри! ох, уж эти повадки дармоедские…» Еще опускается шашка по арбузу — портит все. У деда от злобы даже дыхание прервалось. «Как же это? трудовое осенью-то? весну корпил, летом сторожил, а он мигом изгадил. А! всматривается дед — да это пиявка зловредная до бахчи добралась! Порядком уж наслышался, только здесь шалишь…»
И дед, едва прицелясь, разряжает сразу оба ствола.
Дым стелется, опускаясь на траву. Выстрел отозвался в стороне кургана и встревожил пару диких голубей.
Минут через пять, дед снимает с лошади седло, оголовье и, кряхтя, относит в шалаш — пригодятся. Затем, вывел лошадь на дорогу, хлестнул бечевой: хозяйский конь дорогу к дому найдет. Вернувшись на бахчу, нагнулся над чем-то. Потом, невнятно бубня себе под нос, поволок что-то по земле к шалашу…
* * *
Тоня, выслушав рассказ Веры о налете, расплакалась, громко, навзрыд, точно стараясь выкинуть из груди сдавившее сердце. Уложив Веру, вышла из ворот и попятилась обратно — у самого плетня Василий топчется.
— Зачем пришел? поймают…
— За тобой… чего давно не шла.
Опустила голову.
— Эх, дура, как есть, дура. Чего теперь супенешься? За тобой, Тоня, вечор зайду.
— Сейчас куда?
— Крещеному везде место найдется… Да ты не бойся, что здесь, что бахча, все едино.
Одергивая рубаху, пошел. На перекрестке обогнал солдатку с ведром. Потом остановился, дождался и вместе вошли в ее мазанку. Тоня похолодела вся… Вечером же, идя на бахчу, долго выговаривала.
Василий шел, молча, опустив голову. Наконец, с чувством плюнул:
— Жалишься, жалишься, а чего сама не знаешь? Ну, убыло от меня? объели что-ли?
Когда пробирались стороной, окликнул дед, сидевший как всегда, у костра. Василий подошел. Дед долго рассказывал ему, тыча в темноту длинной от костра рукой. Потом Василий снова повел к шалашу, щекоча лицо своей непослушной копной нечесанных волос…
Утром проснулась — было радостно, легко от солнца, пробравшегося в темь шалаша через все щелки. Воздух весь прозрачно-золотой… рядом, смотря наверх, лежал Василий. Повернувшись к нему, Тоня увидела совсем рядом чью-то спину. Порывисто села, обдергивая загнувшиеся рукава.
— Чего испугалась?
— Почему не сказал. Не хорошо, чужой… стыда в тебе нет.
— Э, то дохлый.
— Что?!
— Битый. Чего трусишься? Его вчера дед кончил. Больно разобиделся, что кавуны гадил. С тобой, вот, забыл, что падаль зарыть надо.
Говоря, повернул труп. Тоня узнала Салова.
— Пойдем… боюсь здесь.
— Чего, чего… вон, грех, из головы совсем, с вечера забыл. То бы одним счетом…
* * *
На станции Гайворово оживление: из города пожаловали в двух товарных вагонах и платформе с низкими двойными стенками, набитыми мешками с песком. В вагонах идет работа, т.-е. допрос. В тени среднего на качающемся табурете сидит Корнуев. Собственно, он и привез эти вагоны из уездного.
Вечереет. Отдельные фигурки рассыпались по путям. Ходили по курицам, еще выдергивали в огородах недоспелую свеклу.
На качающемся табурете все еще сидит машинист. Говорит с Верой. Та пришла давно, долго спорила с приезжими:
— За них ручаюсь. Старик, видели, калека-паралитик…
— Посудите сами, осиное гнездо.
— Ну, вас, в другом месте ищите…
Из вагона выглядывает Шильдер и кивает Вере, стараясь обратить на себя ее внимание. Его задержали, как приехали. Но Вера через очки не видит.
В ночь доставили товарищей Салова и Клавдию Петровну. Они сразу во всем повинились. При допросе в ответах забегали вперед.
В местечке не спали. Еще бы, даже Марфа Кирилловна расхрабрилась, а с утра порядком струсила, когда безрукого повели к вагонам.
— И подумать: сколько дней страха. На деле тьфу, простой разбойник. Ровно своих нет. Нюх-то! удрал и следов никаких. Столичный…
— Компаньоны, говорят, очень в обиде, что их оставил… Тьму денег увез! Чисто дело обделал… Не слыхать, что нового?
К вагонам подходить боялись, жались стороной. А уходить сил не было — слишком любопытно.
Тоня стояла одна за пустым водяным баком. Рядом степь, она все знает, а молчит. Прав дед. А здесь все ненужное… Совсем близко слышен голос сестры:
— Если вы себя кавалером считаете — должны одолжение оказать…
— Слышь ты — одолжение! — удивляется молодой, почти еще мальчишечий голос.
Другие хохочат, а Тоня думает:
«Одолжение, при чем оно? когда она с Василием, у них простое, великое, как степь. А здесь не то…, чему-то улыбаясь».
Тоня чувствует прилив нежности — со слезами шепчет: — Вася, Васенька, васелек дорогой, что теперь делаешь? думаешь ли обо мне? Мне нужен, потому что без тебя уж и деться-то некуда…
Утром Шильдера выпустили и еще двоих. На платформе митинг. Из вагонов говорят приезжие. Потом отвечают свои. В задних рядах грызут тыквенное семя, молодежь толкается. Через головы Тоня видит Василия. Увидела и испугалась. Незаметно пробралась, встала вплотную. Тот слушает внимательно, сдвинув брови, теребя лохматые волосы…
Вагоны ушли, народ растаял. Платформа опустела — на припеке кому быть охота? Впрочем, двое сидят как-раз под колоколом.
Это Вера и Шильдер. Вера пожимает плечами, поправляет пенснэ, словом волнуется:
— Нет, Андрей Андреевич, нельзя, прямо нельзя. Вы образованный человек, а цена вам грош. Ну, хорошо, вы — кассир. А дальше? самогонка. Я устраиваю читальню, это важно, а вы смеетесь. Чему, позвольте спросить, чему?
— Ей богу, не знаю. Просто радуюсь, в покое оставили, т.-е. цел… Еще, вон, козы разбежались. А молодчина этот… водокачка. Видите, нутром почувствовал, а вы все примеряли…
— Не вам говорить, — оправдывается Вера, — здесь ответственность. Хотя…
— Именно, хотя. Я на это «хотя» насмотрелся. Фикция, декорация. Еще в 17-м году заключение сделал.
— Где? — переспросила Вера.
— На Кавказе, зимой лечился. Знаете, ранен был в германскую… Ну, в Пятигорске каждый день собрания офицеров, т.-е. спасать родину. Народа много, духота. Правда, помещение небольшое. В углу под образами, точно на свадьбе, генералы… Вы бывали на купеческих свадьбах?
— Нет, к счастью, не доводилось.
— Отчего же, любопытно. У меня кузина выходила. У нее кроме родни — ничего. Жених из Луги, богатый. Меня вызвали, кавалергард. Написала просто: «Очень прошу, не побрезгуй»… Буквально, так написала. К чему бы это я? ах, да генералы… Значит, сидят под образами, понимаете, с таким видом, что не будь их и «исаию» петь ни к чему… И на собраниях тоже. Разговор же всего, кому во фронт становиться. Шучу? нет, а о деле ничего… Еще в лазарете рядом со мной, простите, какой-то хам. Денщик у него из инородцев. Так его все ругаться учил… Раз сдуру я ему свои сомнения высказал. Оказывается — позорю звание… Вот как! взял, уехал. Думая, чорт с вами… Понимаете, с теми кончил.
— Обида?
— Не знаю. Хотя нет, не думаю… Я при керенке в солдатских комитетах был. С одной стороны — простота, т.-е. детскость, с другой — лганье… Потом, здесь служил, сражался, хотел бы всей душой. А все-таки, не свой. Чужой… крайне неприятно. Позже осел, транспортником стал. Ведь у меня из раны все еще осколки идут.
— Много вы с собой, Шильдер, носитесь! Я, возможно, сама в этом грешна. А того совсем не нужно. Посмотрите кругом — не початый угол. Да, я уже это говорила… Главное, сами научитесь. Иначе закиснете и куда вас тогда? разве свиньям в еду…
Замолчали. Жар во-всю. Не только вдали, а, вот, рядом видно, как струится воздух, тает, точно кусок сахара в горячем чаю.
Позже Вера идет на собрание к Корнуеву. Проходя через пустырь, где сложены шпалы и снуют курицы, она думает:
— Шильдер, точно вываренный, сока нет. В церковь, верно, побежал своего бога благодарить…
Присела на выдавшуюся шпалу, чтобы лучше обдумать и, сама не зная о чем, прослезилась:
— Человека жаль…
* * *
В поповском доме уже потушен огонь, но еще не спят. В сенях стоит Марфа Кирилловна, безрукий поп, Тоня, родственница с дочерями. Жалеют Клавдию Петровну и те две комнаты, что отобрала Вера под читальню. Весь день с переноской вещей маялись. Сейчас отдых.
— Подумать, такое знатное происхождение!
— До разбойника опустилась.
— Не говори, она, как есть, была из самого общества.
— Во-время Еремеев удрал. А мы еще, помните, думали…
— Своих-то как подвел, — говорит старшая из девиц, — теперь концы в воду и сейчас кутит где…
Тоне при этих словах вспоминается шалаш. Но она молчит — раз те молчат, значит, нужно.
Скоро разошлись. Когда стихло, через окно к Тоне влезает Василий. Почесав затылок, говорит:
— Что тот балакал у вагона, из головы нейдет. Такой бы не выдал. Известно, из нашего брата, босячьего. Правильной жизни человек и своя сметка. А то, как подумаю, ровно в столб головой упрешься. А с ним, и своя думка и ясно, что в твой полдень…
— Вася, милый мой, — шепчет Тоня.
— Ага, любишь? — спросил и рассмеялся, — это ладно. Ты гладкая. Погоди, осенью свадьбу сыграем. Надо, и дед сказал: время хозяйку взять. Нельзя бобылем быть. Одно непорядок, больно против тебя я мордастый. Да уж ладно, завтра в исполком пойду, повинюсь за прошлое…
Затем уснул на ее жесткой узкой кровати.
Тоня стоит у изголовья. Думается об умерших, убитых, — думается о генеральше, сотоварищах Еремеева. Знала, что и тех скоро не будет… Неожиданно почувствовала, что в ней самой растет большое, новое, неведомое. Взяв грубую руку, она целует закорузлые пальцы, благодаря за того ребенка, которого, — поняла, — родит весною от степи. Для нее марево кончилось.
Чудное чувство испытывает Тоня: хорошо, а плачется…
Слезы падают прямо на ворот Васильевой рубахи. Смотря на еле видневшееся в темноте лицо, прислушиваясь к ровному дыханию, Тоня тихо, тихо от самого сердца шепчет:
— Мордастый ты мой, мордастенький…
Под потолком вьются мухи. Судить по жужжанью — их тьма. Выделяется одна — со стуком бьющаяся в стекла. Через окно дышит жаром раскаленная степь. Да еще изредка вспыхивает зарница. Воздух полн запаха конского навоза и уже готовой к покосу травы.
Неподалеку от ворот слышен женский голос, кого-то уговаривающий. Ответов не разобрать. Тоне голос кажется знакомым. Прислушалась, так и есть: Глашин. Верно, сестра своего Федьку с посиделки домой ведет. Теперь ей что — мельника в город с Клавдией Петровной увезли. Ну, и гуляй…
А так, почитай, в поселке собаки и те спят…
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


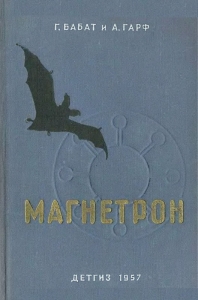
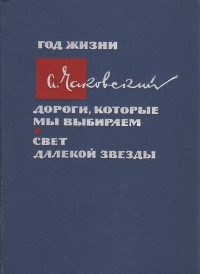
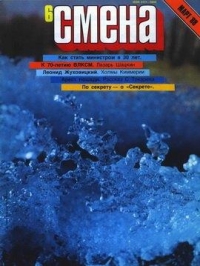
Комментарии к книге «Марево», Петр Демин
Всего 0 комментариев