Рыбас Святослав Юрьевич НА КОЛЕСАХ
I
Утром в автоцентр приехала санитарный врач Полетаева и закрыла столовую. Главный инженер Журков, морщась от радикулитной боли, улыбался молодой женщине почти час, но не уговорив, пошел к Никифорову.
— Все-таки закрыла? — спросил Никифоров.
— Да ну ее! Терпеть не могу дамочек-чиновниц!
Журков подошел к окну, поглядел вниз. Подъезд к воротам автоцентра был забит разноцветными «Жигулями». Дальше, за асфальтовым аппендиксом подъезда, тянулось поле, перерезанное безымянной речушкой с низкими ветлами на берегу.
— Заяц! — воскликнул Журков. — Ух, как чешет…
— Где? — вскочил Никифоров. Путь к окну преграждал столик с селектором, надо было идти с другой стороны вокруг длинного стола для совещаний, и Никифоров побежал.
Серый толстый заяц скакал и летел по зеленому полю к темной стене перелеска. С высоты третьего этажа было видно, что он вырывается из тупика между московским шоссе и песчаным холмом. Никифоров провожал зайца взглядом, медленно двигался вдоль широкого окна, пока чудо не исчезло.
— С чего ты взял, что это заяц? — задумчиво спросил он.
Он как будто увидел пятилетнего мальчика Сашу Никифорова, сидевшего на корточках с пустой кружкой в руках перед маленьким лобастым Рексом. Рука с эмалированной кружкой поднялась и ударила щенка по голове. Рекс взвизгнул, отпрянул. «Я хотел тебя проверить, — сказал мальчик. — Ты должен меня любить. Ведь папа побил меня, когда я обидел бабушку, а я его все равно люблю». Эти рассуждения казались мальчику убедительными, но по прошествии стольких лет все же было стыдно, так стыдно, что тридцатитрехлетний директор автоцентра Александр Константинович Никифоров смутился.
— Я не видел никакого зайца, — продолжил он, внезапно озаряясь ироническим лукавством. — Ты меня разыграл, Вячеслав Петрович. Видно, врачиха заморочила тебе голову, эти брюнетки с серыми глазами способны гипнотизировать.
— Преспокойно закрыла столовую, а вы мучайтесь голодные, — недоуменно сказал Журков. — Тоска берет, как начинаешь с ними говорить! Разведенная бездетная баба с властью заранее готова угробить любого мужика.
— Напрасно ты так. Лучше бы ее до города подвез, что ей пешком топать?
— Пусть потопает, — непримиримо вымолвил Журков.
— Тогда я сам подвезу. А то что получается? Она права: холодильники ведь не работают, а на улице жара. Не хватает нам отравиться… Я бы на ее месте тоже закрыл.
Журков выпятил нижнюю резко очерченную губу. Его продолговатое лицо с высоким лбом стало хмурым. Это был его обычный образ, настораживающий людей при первой встрече, внушающий мысль о мрачной, упорной натуре. На внешности Журкова грубо отпечатались годы физического напряжения, отпечатались не меньше, чем на его руках — больших, промасленных даже сейчас руках бывшего слесаря автобусного парка, простудившего спину от частого лежания на снегу под ржавыми автобусными днищами (от налипшего мокрого снега обрывалась электропроводка), выдержавшего шесть лет заочной борьбы за высшее образование и пришедшего к Никифорову мастером участка техобслуживания. Тогда в центре «АвтоВАЗтехобслуживания» работало лишь два подъемника, но случайные клиенты, привыкшие к очереди у московских автостанций, смирившиеся с хамством приемщиков, согласные переплачивать трояки и пятерки за одно обещание слесаря посмотреть их четырехколесного друга, попадали прямо-таки в автосервисный рай, где были и дефицитные запчасти, всякие там крестовины, сальники, подфарники, лобовые стекла и где царила неестественная доброжелательность, почти сказочная любовь к свернувшим с шоссе «Жигулям». Здесь никому не приходило в голову украсть из машины зажигалку, чехол руля или аварийный фонарь, — люди были как люди. Никифоров помнил, как в моторном отсеке одной машины абсолютно все было перемечено аккуратными мазками зеленой краски, даже копеечная подкапотная лампочка, и как парнишка-слесарь оскорбился тем, что в нем предположили вора, отказался работать с теми «Жигулями», а Журков и растерявшийся владелец уговаривали его, да так и не уговорили, пока им не помог сам Никифоров. Потом размягченный клиент пришел на третий этаж, вытащил из плоского портфеля бутылку, сказал: «Давайте, товарищи, выпьем. Дай бог, чтобы когда вы по-настоящему освоитесь, у вас сохранилось такое же отношение к нам». С ним не стали пить. Он оставил бутылку, пришлось Никифорову спуститься вниз и кинуть ее на заднее сиденье машины.
А ведь заезжий частник оказался прав. Не тот теперь стал центр. И Никифоров теперь не доверял никому, кроме Журкова а если и доверял, то наполовину, на две трети, однако, так только говорится из дипломатии, на самом же деле либо веришь, либо нет.
Никифоров снял висевший на стуле серый пиджак, поправил узел голубого галстука и пошел искать врачиху Нину Полетаеву.
Конечно, проще простого было позвонить диспетчеру, чтобы та по громкоговорящей связи пригласила Полетаеву в директорский кабинет. Проще простого в техническом отношении и совсем безграмотно — в человеческом. Так можно вызвать подчиненного, и это ему не покажется обидным, а с посторонними надо учитывать то странное обстоятельство, что в наше время люди почему-то сделались обидчивыми, просто болезненно обидчивыми. Заказчики приезжают с наивными своими амбициями, готовые козырять профессиональными заслугами, и им бесполезно говорить, что здесь, как на столе хирурга, все равны. Они желают видеть директора, в нем скрыта для них какая-то магия. Проверяющие тоже хотят только Никифорова, но он слушает, улыбается: «А это не ко мне. Это к руководителю такой-то службы». И многие уходят от него, оскорбившись.
Сегодня Никифоров уже встречался с Полетаевой, посмотрел в ее неистовые, цвета грозы глаза, подарил витиеватые комплименты ее мальчишеской внешности и отправил врачиху к заведующей столовой. Ан нет, повторилась простая история: требовался директор или, на худой конец, главный инженер. «Будь с ней рядом хоть сам господь бог, она бы закрыла столовую», — думал Никифоров.
Он спустился в зал диспетчерской, где сквозь стеклянную стену открылось ему залитое солнцем ангарообразное пространство родного центра. Лучи падали из люков в крыше, текли сквозь длинные полосы окон, пересекались на стальных ребрах стропил и сияли на прошедших через мойку автомобилях; холодно мерцало на кузовном участке бледно-синее пламя электросварки; передвигались машины, визжали в тормозном режиме колеса, выли клаксоны. Никифоров опустил взгляд. Прямо под ним на огороженном щитами участке срочного ремонта Вася Поддубских, высокий парень в голубовато-сером фирменном халате, вставлял лобовое стекло на оливковом фургоне «ВАЗ-2102»; его лицо было влажным, ко лбу прилипла прядка волос. Неожиданно Вася повернулся и улыбнулся Никифорову.
— Жарко? — спросил директор, хотя нечего было надеяться, что мастер услышит.
Он повернулся к окошку диспетчерской, увидел листок с объявлением, что сегодня машины на техобслуживание уже не принимаются. Собрался было идти на улицу и искать там врачиху, как донесся едва сдерживаемый вопль:
— Почему нет? Мне надо! Поймите, надо!
Никифоров привык к тому, что здесь всем надо и всем некогда, но сразу раздумал уходить и зашагал к окошечку, руководствуясь простым хозяйским чувством. Перед диспетчерской, согнувшись и почти протолкнув голову в окошко, стоял толстый мужчина в синей с белыми полосами рубахе. Его лицо было неприятно из-за нижней челюсти, выдвинутой вперед и даже как бы готовой соединиться с вислым мясистым носом.
— Что у вас? — спросил Никифоров.
Тот не оглянулся, но на всякий случай оттопырил локти, словно боялся, что сейчас его начнут теснить.
— Я спрашиваю: что у вас? — повторил Никифоров громче, с дрожащей нотой в голосе.
— Александр Константинович, — сказала невидимая ему диспетчер Валя, на техобслуживание мы не можем принять ни одной машины. Этот гражданин…
— Но мне надо! — крикнул мужчина и только тут повернулся к Никифорову. — У меня помпа полетела.
И директор увидел униженность и затаенную ненависть в узких голубых глазах. Он ощутил, как ему передается враждебность, и заставил себя чуть-чуть улыбнуться, то есть не улыбнуться, а лишь приподнять углы рта.
— Мы не можем вас обслужить, — вымолвил Никифоров как можно приветливее. — Вы хотите, чтобы я не ремонтировал чью-то машину, а принял вашу, но так будет несправедливо. Приезжайте завтра к восьми, мы вас примем.
— Завтра? Нет! Мне надо сегодня.
— Ну как хотите… Сегодня мы принять не можем. — Никифоров пошел к выходу.
— Что вы за люди? — завопил толстый мужчина. — Вы не люди! Вы же глядите на людей, как на машины. А я с детьми еду! С двумя детьми. Эй, вы, жигулевский коновал, у меня маленькая девочка и мальчик! Номер 42–13, мы будем ночевать под вашими окнами.
«Почему они так смотрят? — думал Никифоров. — Неужели это никогда не кончится?» Он чувствовал, будто кто-то упорно подталкивает его к жесткому обращению с заказчиками, чтобы можно было сохранить свои нервы, сэкономить время и избавиться от ощущения вины перед каждым, кому он отказал. Отказывать могли бы другие, как это делалось во всех крупных автоцентрах. Но ведь так не получалось: местный центр, построенный на окраине маленького городка, и его директор Никифоров двигались по иному пути, определенному для них географической глушью, отсутствием нужных специалистов и провинциальным идеализмом. «С толстяком что-то не так, — решил Никифоров. — Это отчаяние, а не хамство. И к тому же дети… При чем дети?» Он вернулся, холодно спросил:
— Вы едете транзитом?
— Нет, — растерянно ответил мужчина. — То есть да. В отпуск! — Он стал суетливо разворачивать книжечку техпаспорта. — Город Кадников Вологодской области.
Никифоров сказал в окошко:
— Валя, он, оказывается, транзитный. Прими его на срочный. — И спросил вологжанина: — Чего же раньше не сказали, что едете транзитом? Транзит вне очереди, ясно?
— Спасибо, я не знал. Спасибо, честное слово, не знал, — стыдливо произнес тот. — Я и не хотел ехать на машине, но жена, знаете: в отпуск на машине… А я с ней не спорю, — мужчина улыбнулся, и его лицо немного скрасилось этой виноватой улыбкой.
Никифоров вышел на площадку перед центром, искал врачиху и думал, что слесари наверняка помытарят беднягу и что позднее надо будет зайти на срочный участок.
Цвета машин, стоявших в тени здания, напоминали июньский цветущий луг радуга синтетических эмалей «гранат», «коррида», «желто-песочная», «изумрудная», «ярко-синяя». На деревянной лавке, которую уже достало солнце, сидели заказчики, а рядом чернел обгорелый «жигуленок» с покосившимися передними стойками и глубоко продавленной крышей. Сколько уж перевидал Никифоров аварийных машин, как профессионал бестрепетно взирал на них, но внутри все-таки саднило, мерещилось, будто катастрофа была суждена ему, да на сей раз пронесло. И в самом деле, всякое с ним случалось на дороге, ведь дорога — это не просто асфальтовая полоса с откосами и кюветами по бокам, это всегда тайна.
Никифоров подошел к обгорелым «Жигулям». Среди стоявших перед машиной мужчин была молодая женщина в голубых джинсах, крепко стягивающих бедра, и в легкой трикотажной рубашке. Она была стандартно красива, как обыкновенная московская девушка-женщина из обеспеченной семьи, и не понравилась Никифорову. Наверное, она и была хозяйкой «Жигулей» (или наследницей?), во всяком случае, пригнала машину в автоцентр и теперь с улыбкой рассказывала любопытным мужчинам об аварии. Никифоров не стал слушать, с него хватало, что он понимал: там едва ли обошлось без жертв, а усмешечки рассказчицы были просто дешевкой, потому что она не испытывала и тени сострадания к тем, кто остался в горящей ловушке с заклиненными дверями.
Не найдя Полетаеву, Никифоров вернулся к открытым воротам и снова оглядел подъезд. Синий «фиат» с серыми от сухой грязи бортами резко подъехал к длинной очереди около мойки; на нем были краснодарские номера. Никифоров даже мысленно произносил слово «фиат» на итальянский манер, с ударением на первом слоге. В Тольятти, где он начинал, так говорили все ветераны: «фиат». «Уехала, — подумал Никифоров. — Попросила кого-нибудь подвезти и уехала». Он посмотрел вдаль, на обесцвеченный расстоянием лесок, вспомнил зайца, снова удивился. Живая природа, окружавшая автоцентр, была скудной: серые воробьи, три дворняги и кошка из столовой жили рядом с автомобилями, а может быть, не только рядом, но и благодаря им.
Полетаеву он нашел неожиданно: она сидела в служебной, его собственной, машине, и не заметь он опущенного бокового стекла, ни за что бы не увидел ее. Он-то считал, что замки в дверях его вишневой «ноль третьей» закрыты, и, хотя видел внутри чей-то профиль, до него не доходило, что там кто-то сидит.
Он сел в машину, вставил ключ в замок зажигания и спросил:
— Хотели угнать? — Тронул машину назад, развернулся на пятачке перед воротами. — Недавно приезжал один летчик, у него «Волгу» на Кавказе угнали. Правда, заплатили пятнадцать тысяч.
— Угнали и заплатили?
— Зашел в ресторан, машина на улице. Вышел — машины нет, одни чемоданы стоят. Под чемоданами пятнадцать тысяч.
— Ну, у меня зарплата маленькая, могу только расписку оставить.
Никифоров засмеялся, повернулся к ней. Черная челка над серыми глазами, расстегнутый воротник, золотая цепочка на шее… Закрыла-таки столовую!.. Левая рука на спинке сиденья, ногти коротко острижены… Забралась в его «Жигули», наперед зная, что Никифоров ее повезет!
— Я в московскую дирекцию, — сказал он.
— В Москву-у? — разочарованно протянула она. Ей-то было в другую сторону, и он сразу пожалел, что соврал.
— Да, вызывают. — Он затормозил: возле мойки затевалось что-то странное. — Подождите меня. — И вышел, ничего не объяснив.
Никифоров чувствовал холод под ложечкой. Он всегда боялся, когда сталкивался с опасностью, потому что с детских лет был слабым, невысокого роста, многие хотели его подмять, и, сопротивляясь, Никифоров тратил больше сил, чем ему отвела природа на такое сопротивление. А сейчас на него глядела Полетаева, и он быстро шел к резвым парням-краснодарцам, затеявшим драку в очереди. Их машина косо стояла, подрезав путь оранжевой «Ладе» с московским номером. Коренастый кубанец, подняв большие кулаки, топтался перед рослым скуластым москвичом, который время от времени угрожающе замахивался. У обоих были разбиты губы. Трое других краснодарцев смотрели на них, не выходя из машины.
— Вы же нахал! — крикнул Никифоров крепышу. — Немедленно станьте в очередь.
Москвич двинулся в атаку, с глухим горловым хеканьем послал два прямых удара левой и правой. Кубанец отступил, но один из ударов достиг его носа, и нос мгновенно распух.
— Что вы делаете! — повернулся Никифоров к москвичу.
Звонко захлопали дверцы. Москвич оглянулся, крепыш сразу ударил его. И заодно ткнул под глаз Никифорова. Директор отшатнулся, очумело глядел, как четверо теснят москвича к придорожному полю.
Подбежала мойщица Антонова в клеенчатом забрызганном переднике, с большим гаечным ключом.
— Сейчас мы их, Александр Константинович!
— Звони в милицию.
— Сейчас! — Она быстро побежала назад, хлопая передником.
— Что у вас происходит? — спросила Полетаева.
— Ничего! Зачем вы вышли из машины?
Она молча пошла обратно. Прямая спина, свободная походка. Он догнал ее, сели в машину, успевшую нагреться на солнце, резко пахнущую кожзаменителем. Никифоров погнал, не тормозя перед рытвиной, которая осталась после ремонта подземного электрокабеля.
— А у вас будет синяк, — сказала Полетаева.
— Сам виноват.
— Повернитесь-ка! — Никифоров послушно повернулся. — Небольшая гематома, скоро пройдет.
Он посмотрел на дорогу, на низкие зелено-серебристые ветлы у реки, где сидел по пояс в прозрачной мелкой воде жилистый загорелый дядька, может быть, какой-то терпеливый заказчик.
— Не расстраивайтесь, почти незаметно, — вымолвила Полетаева. — А хотите тест?
— Тест?
Подъехали к московскому шоссе, Никифоров повернул налево, к городу, а Москва осталась за спиной.
— Спасибо, Александр Константинович.
— Довезу и без «спасибо». Все равно с синяком нечего соваться в дирекцию. — Никифоров наконец улыбнулся. — Тест-то научный?
— Не знаю… Представьте, вы идете по длинной пустынной дороге и находите кувшин. Что сделаете с ним?
— А что в кувшине?
— Нет-нет, без вопросов. Возьмете или не возьмете?
— Не возьму.
— Хорошо, — сказала Полетаева. — Теперь представьте огромную стену. Перелезть или обойти невозможно. Но пройти ее надо…
— Если надо, начну что-нибудь строить, в общем, искать возможности.
— Вы встречаете в лесу медведя — как поступите?
— Медведя я встречал только в зоопарке… А ружье допускается?
— Допускается.
— Тогда он пусть думает, как ему поступать.
«Все в дороге любят поболтать, — подумал Никифоров. — Но она же закрыла нашу харчевню и хоть бы смутилась для приличия».
— А как вы относитесь к лошадям и кошкам?
— Я люблю животных.
— А я кошек терпеть не могу, — призналась Полетаева. — И последний вопрос. Перед вами море. Теплое, чистое, голубое. Вы пришли на берег и что делаете?
Шоссе пошло в гору, замелькали белые столбики ограждения. В конце подъема три столбика лежали на обочине в кучах вздыбленной земли, — кажется, здесь кто-то сорвался.
— Ну что же вы молчите? — поторопила Полетаева. — Море!
— Ныряю.
— Кувшин — это счастье, — объяснила Полетаева. — Вы свое счастье не возьмете. Стена — смерть. Вы постараетесь ее одолеть, характер у вас деятельный. Медведь — неприятность, вы не испугаетесь. Лошади — это мужчины, а кошки, соответственно, женщины. Вы человек доброжелательный.
— Ага, — кивнул Никифоров. — А море?
— Море — это любовь.
Ему показалось, что она усмехнулась.
Впереди была колонна грузовиков, и Никифоров прикидывал, как ее обогнать до железнодорожного переезда.
— Значит, любовь, — механически повторил он. Взял рулем влево, выехал на середину шоссе. Встречная полоса была пуста до самой вершины холма, можно было рискнуть. А если навстречу выкатится железный молот, летящий в лоб со скоростью семьдесят километров в час? Справа — вереница медленных одров, слева — откос. Никифоров почуял, как на противоположной стороне подъема упрямо прет вверх тупорылый десятитонный дизель, и, уже поравнявшись с грузовиком, затормозил и пристроился в хвост колонны.
— Побоялись? — схватившись от толчка за панель, догадалась Полетаева.
— Похоже, впереди медведь, — ответил Никифоров.
— Медведь?
«А все же ей неловко, — подумал Никифоров. — Думала, что я буду упрекать…» Он сбавил скорость, оторвался от грузовика, чтобы увеличить для Полетаевой поле обзора. И тут на вершине выросла плоская голубая кабина с тремя желтыми огнями. Широкое лобовое стекло сверкнуло на солнце. Через секунду рефрижератор поравнялся с Никифоровым, и в одно мгновение, когда машины почти неподвижно находились рядом, оба водителя быстро поглядели друг на друга, словно бы говоря: «А я ведь знал, что ты здесь!» Полетаева оглянулась вслед могучему автомобилю, потом смерила взглядом глубину откоса. На спуске Никифоров без труда обогнал колонну и только после переезда заметил, что врачиха задумчиво молчит. Он включил приемник и попросил:
— Найдите какую-нибудь музыку.
Она покрутила ручку настройки, нашла радиостанцию «Маяк», передававшую сельскохозяйственный обзор. Под этот обзор они и въехали в городок.
На прощание Никифоров услышал:
— Когда отремонтируете холодильники, позвоните мне, я приеду.
— Я пришлю машину, — предложил он.
— Нет уж, не надо! И вообще извините, что навязалась. До свидания.
II
Никифоров сидел в машине и медлил, не уезжал. Мимо прошла полная женщина стремя бутылками пива в капроновой авоське, открыла соседний «жигуленок» и, став одним коленом на сиденье, выложила бутылки на полку перед задним стеклом. «Резко затормозишь и получишь бутылкой по шее», отметил Никифоров. Женщина посмотрела на него, что-то сказала сидевшему за рулем мужчине. Тот тоже посмотрел.
В нагретой машине становилось душно. Надо было ехать. Вправду, чего ждать? Разведенная баба с властью, как говорит Журков.
Никифоров закрыл машину и пошел к цистерне с квасом. Рядом в открытые ворота рынка были видны деревянные прилавки с горками редиса, зелени и огурцов. Цистерна притулилась к дощатому ларьку уцененных товаров, в очереди стояли две женщины и мужчина.
Напившись, Никифоров вытер платком мокрую руку и вернулся к машине. Там его ждал, опираясь на дверь, инспектор дорожного надзора Кирьяков. Рядом стоял патрульный автомобиль.
— Здоров, — негромко, с дружеской небрежностью сказал Никифоров.
Кирьяков не ответил, смотрел проницательным твердым взглядом, словно не узнавал однокашника. Белесые короткие его волосы топорщились из-под глубоко надетой фуражки. Он был в летней форменной рубашке с новеньким ярко-серебристым значком кандидата в мастера спорта.
— Как дела? — спросил Никифоров и вытянул ключ зажигания из кожаного чехольчика.
Кирьяков снова промолчал, не посторонился, чтобы дать открыть дверь. У него был такой вид, будто он собирался стоять здесь до вечера.
— Вот, санврача подвозил, — неожиданно заискивающе произнес Никифоров. — Закрыла у нас столовую.
Он всегда боялся Кирьякова, казалось, тот может просто раздавить, не пожалеет, даже мысли о жалости не шевельнется в нем. Пятнадцатилетними подростками они вместе учились в техникуме на автомеханическом факультете, и Кирьяков уже тогда знал, как добиваться своего. Он учился тяжело, но не из-за лени, лени-то у него не замечалось, а оттого, что его ум неохотно постигал книжные теории. Зато он раньше всех освоил вождение грузовика, даже особо не стараясь, просто сел и покатил по полигону. На экзаменах порол ахинею, однако на переэкзаменовках, когда оставался с преподавателем один на один, получал «четверки». Чем брал Кирьяков, никто не мог догадаться. От него исходило ощущение цепкости и какой-то нечистоты.
Однажды у него украли часы; украл сосед по комнате в общежитии, семнадцатилетний Алтухов, с которым Кирьяков не уживался. Те часы сам же Кирьяков при свидетелях нашел в чемодане Алтухова, открыто стоявшем под кроватью. Он закричал и стал бить Алтухова, а тот не защищался, хотя был на целых два года старше и, конечно, сильнее пятнадцатилетнего мальчишки.
Потом на комсомольском собрании должны были исключить Алтухова из комсомола. Никифоров помнил, что первым заговорил Кирьяков, затем те, кто находился в комнате, когда тот раскрывал чемодан. Алтухов сидел, не опуская головы, и глядел без отчаяния, без высокомерного презрения, а очень задумчиво. И после старательного возмущения Кирьякова и выступлений тех, кто видел, как он нашел часы с белым циферблатом в чужом чемодане, никто не захотел говорить. Не то чтобы жалели Алтухова, ко искали для себя возможность еще какого-то выбора решения, кроме исключения, хотя бы возможность, потому что не так-то легко согласиться даже с самым очевидным, если вам это навязывают. Тогда-то Кирьяков снова встал и объявил, что все трусы. А когда называют трусами, это не нравится, тут Кирьяков не ошибся. Ему захотелось указать на кого-то, вытащить из молчащей группы, и он остановился на Никифорове. «Никифоров, ты тоже трусишь? Он не у меня украл, он у нас всех украл». Так он вынудил Никифорова встать и объявить: «Алтухову не место среди нас!»
Парня исключили. Никифорову запомнилось, как тот просил: «Я не брал! Я уйду, только не исключайте из комсомола. Вы мне жизнь сломаете, никуда меня не возьмут…»
И вот этот Кирьяков, теперь инспектор дорнадзора, молча стоял, опершись спиной на никифоровские «Жигули», и Никифоров подумал, что он, видно, вообще не произнесет ни слова и не даст открыть дверцу. Попросил:
— Отойди, мне надо ехать.
Кирьяков покачал головой, его глаза были, как две голубых искры. Никифоров уперся ладонью в его предплечье, но инспектор не отошел.
— В чем дело? — рассердился Никифоров.
— Сам знаешь.
Никифоров огляделся, шагнул к ограждению стоянки, поднял камень и, зайдя с другой стороны машины, ударил по стеклу форточки. Просунул руку в стеклянную пробоину и открыл дверь. Кирьяков присвистнул, глядя, как Никифоров садится в автомобиль.
— Убегаешь?
— Вот пристал! — зло сказал Никифоров. — Нету у меня крыш!
— Есть, Саша. Я знаю. Не надо ссориться из-за какой-то крыши.
Включилось зажигание, сухо щелкнул трамблер, и в тот же миг схватился двигатель. Никифоров уехал, не обернувшись. В центре он оставил машину на участке срочного ремонта и сказал мастеру Поддубских, что с ней делать.
— Пытались угнать?
— Сам разбил, — сказал Никифоров. — Взял камень к разбил.
Мастер засмеялся, сморщил высокий лоб, к которому прилипла редкая прядь волос.
— У тебя должен быть транзитный заказчик с заменой помпы. — Никифоров вспомнил настырного вологжанина: тот был таким же взмыленным, как мастер.
— Этот? — Поддубских выпятил нижнюю челюсть.
— Не мучай ты его.
— Это они нас мучают. Даже во сне мне снятся.
— Жизнь есть сон, — сказал Никифоров. — Не мучай, ладно? — И пошел дальше по внутренней дороге, заставленной длинным двойным поездом синих, зеленых, красных «Жигулей». Слышался железный стук, тормозной визг, обрывистый клак, сонный лай, и вместе с тем Никифорову казалось, что было тихо. Он прошел мимо двух разговаривающих мужчин, потом мимо двух других, стоявших дальше, и еще мимо двух, тоже разговаривавших.
— Если на тебя пишут телегу, то так работать нельзя. Я вызываю его в кабинет и говорю: «Четыре пива», — вот что уловил Никифоров, хотя в действительности про «телегу» сказал один из первых мужчин, про кабинет кто-то из вторых, а про пиво — кто-то из третьих.
«Эта крыша мне дорого обойдется», — подумал Никифоров.
Дойдя до стенда диагностики, он приостановился, чтобы определить, куда же он идет. Слева, за небольшой площадкой с отремонтированными машинами, стоявшими, как стадо, размещался участок антикоррозийного покрытия, а справа — кузовной, где изуродованные железные тела машин навевали мысль о человеческом безумии. А в общем-то было все равно, откуда начинать, если он решил обойти весь автоцех.
— Александр Константинович! Подождите!
Заведующий складом Губочев рывками протискивался между рядами машин, поднимаясь на цыпочки и прижимая обеими руками толстый живот.
— Застрянешь, Иван Спиридонович, — сказал Никифоров.
— Да уж! Старость короткий путь любит. — Губочев боком двинулся назад, неотрывно глядя на директора из-под полуприкрытых век. Его крупное сырое лицо было бы простодушным, если бы не этот упорный взгляд.
Беря Губочева на работу, Никифоров почему-то думал, что брать не следовало бы, но все-таки взял: Губочева рекомендовал главный инженер. «Он всегда смотрит сычом, — сказал Журков. — Но мужик непьющий и не ворюга. С ним беды знать не будешь». Губочев действительно пришелся ко двору. Вместе с ним ставили на ноги автоцентр. Завскладом был молчуном, и то, что знали четверо — он, Никифоров, Журков и бухгалтер, — не узнавал больше никто. Чем можно заинтересовать строителей, энергетиков, теплотехников, чтобы те работали без промедления? Как быстрей получить оборудование? Простой путь был долог. Поэтому из небольшого фонда материального поощрения Никифоров выписывал деньги, и Губочев вез нужным людям подарки: коньяк «курвуазье», колбасу «салями», дефицитные запасные части. Конечно, при этом нельзя было проверить, действительно ли он все это вручал, однако дело делалось, и не было оснований подозревать. Последний значительный подарок — лобовое стекло — отвезли главному инженеру завода электрооборудования, и с той поры траты были невелики.
— Александр Константинович! У меня важный вопрос! — Губочев наконец выбрался из-за машины, и Никифоров ощутил едкий запах чужого пота. Кузовной направил мне требование на крышу. Будто вы распорядились. А я думаю, не могли же вы… — Губочев развел руками, стали видны темные полумесяцы подмышек.
— Напрасно думаете, — возразил Никифоров. — Отдайте ее на кузовной.
— Но у нас это последняя крыша! — напомнил Губочев. — Вы ее обещали этому… из ГАИ.
— Неужели обещал? Совсем из головы вылетело.
— В вашем-то возрасте, Александр Константинович? Это мне, старику, простительно забывать… На прошлой неделе во вторник вы еще из приемной с горэнерго бранились по телефону, и я сказал вам, что Кирьяков просит крышу для машины тестя, вы согласились. — Серые выцветшие глаза тускло глядели на Никифорова, в них не было ни смущения, ни азарта.
— Во вторник я весь день был в Москве.
— Правильно, во вторник вы уезжали… В среду я вам говорил. В среду!
— А в среду ты уезжал в Воскресенск за тормозными шлангами.
— Гм, я же говорю — старческий склероз. А в общем, какая разница, когда я говорил. Мне-то все равно, кому отдать крышу. Лично у меня нет к сотрудникам ГАИ никакого интереса. Просто мой опыт подсказывает, что вам, Александр Константинович, лучше бы с ними не ссориться.
— Никто с ними не ссорится, — сказал Никифоров. — Вот привезешь из Тольятти контейнер с запчастями, и дадим крышу.
— Тогда я чего-то не понимаю.
— Понимаешь, Иван Спиридонович. Лучше не хитри. Не все твои хитрости до меня доходят.
— Вы отлично знаете, почему я хлопочу! — угрюмо произнес Губочев. Он повернулся и пошел прочь, косолапо ступая стоптанными туфлями, над которыми гармошкой нависали обшлага брюк.
«И этот мне грозит, — подумал Никифоров. — Грозите, грозите!»
Он вспомнил безотказный прием, вычитанный из американского «Курса для высшего управленческого персонала» — отругав подчиненного, надо потом обязательно улыбнуться: «Ты, кажется, чуть не довел меня. Идем хлопнем по чашке кофе». По-русски это было бы просто не помнить зла, но разве он, Никифоров, мог не помнить, что настоящее зло, то, на которое нет ни курса, ни молитвы, еще не пришло, а только-только подползало?.. И не сегодня ощутил, что зло это готовится управлять автоцентром, клубится где-то рядом, но взмахни рукой — и нет ничего, не поймаешь.
Еще на балансовой комиссии в Тольятти Никифоров сорвался, и странно, что его пощадили. Он просил дать ему специалистов, и тут же услышал простой вопрос: «А как же вы без специалистов ремонтируете?» Ответил: «Мы продаем запчасти вместе со стоимостью ремонта». «Заказчик, выходит, платит за несделанный ремонт? — усмехнулся заместитель начальника управления Маслюк. Ты это хотел сказать?» Он как бы коснулся Никифорова чем-то острым, предупредил, чтобы тот придержал язык, поправился, пока не поздно, но Никифоров его не услышал. Несоответствие между бедой, которая гнула его, и холодной деловитостью комиссии, которая должна была определить, в силах ли он поднять то, в чем она была бессильна ему помочь, толкнуло Никифорова на безрассудство. Он вспомнил, что с самого начала, с выбора этого захолустья местом строительства центра, на тупиковой трассе, ведущей даже не к районному городку, а к поселку, выросшему вокруг бывшей прядильной фабрики купца Ранетова и по снисхождению названному городом, с самого этого выбора все пошло бестолково. Где искать крепкого подрядчика? Где брать рабочих-авторемонтников для европейской автомашины? Как привлечь заказчика? Никто не мог ответить Никифорову, зато снять с директорства вполне могли. «Именно так, Борис Васильевич, берем деньги за несделанный ремонт!» — горько признал Никифоров. И тут его едва не растерзали: «Как? Нет освоения? А вы жульничаете? Ловчите? Надо срочно посылать ревизию!»
И они же, комиссия, возмущаясь, стали спасать его, как только поняли, что обмануты мальчишеским самооговором. Да и кого бы они сейчас назначили вместо него? Дали отсрочку до конца года, чтобы он попытался взять план или чтобы они смогли подыскать замену. И выговор тоже дали. Ревизоры уехали вполне удовлетворенными. Дело, начатое кое-как, уже само поддерживало себя. Даже самого Никифорова это открытие поразило. То, что он знал — учебные часы в автоклассе, обязательное обучение второй специальности, преодоление страха перед автомобилем, инженерные дипломы мастеров, — было просто и не объясняло тайны превращения. А тайна была!..
С этими мыслями Никифоров дошагал до своего кабинета и там увидел плачущую Лиду. Ее лицо, всегда бледное и поэтому как бы просвечивающее, и теперь было бледным, на нем выделялся красный рот. Она говорила, а между веками и белками накапливалась прозрачная влага, выливалась из внутренних углов глаз, капала на темный стол. Девушка вытирала капли рукавом зеленой хлопчатобумажной куртки, испачканной засохшей краской.
— Успокойся, Лида, — сказал Никифоров. — Ну, успокойся.
— Он схватил ее вот здесь. — Она дотронулась до тою места, где нагрудный карман поднимался холмом. — Она вырывалась, а он смеялся, как зверь. Я схватила растворитель, чтобы плеснуть ему в глаза, тогда он выругался, как зверь, и отошел. Лучше я сяду в тюрьму, только терпеть уже сил нет.
— Успокойся, Лида, — повторил Никифоров. — Все будет хорошо, я тебе обещаю, — но в голосе, он чувствовал, не было уверенности, лишь тоска и растерянность.
Он вызвал мастера-маляра по селекторной связи.
— Я пойду, Александр Константинович. Не хочу его видеть.
— Иди, Лида. Все будет хорошо.
Никифоров вышел вслед за ней и еще увидел в коридоре перед лестницей ее невысокую фигуру в мешковатом костюме и ясно ощутил досаду. Он знал, что скажет про случившееся Журков. Можно и не идти к главному инженеру, не морочить друг другу голову подвигами этого хулигана, у которого тем не менее золотые руки: он, единственный в районе мастер, умел красить автомобили на одном дыхании.
— А чего думать? — сказал Журков. — Гнать надо.
— Как гнать, если он корифей в своем деле? У девчонок до сих пор краска ложится «шагреневой кожей».
— И будет ложиться! Он никогда их не научит, — хмуро сказал Журков. Его твердая нижняя губа крепко заперла рот.
— Давай рассуждать как руководители, — сказал Никифоров.
— Угу.
— Что «угу»?
— Я пока рассуждаю, — буркнул Журков. — Если б не рассуждал, я б ему ноги уже выдернул. А тут раздумываешь: кто без него будет красить? Как план обеспечить? Как замуж пойти и невинность соблюсти? Хочешь, посоветуйся еще с кем, а я тебе говорю: гнать взашей, иначе мы такие же сволочи, как он. Если не хуже.
— Лето да осень, вот и конец года, — сказал Никифоров.
— Я помню.
III
Сварщик Слава, молодой парень с круглым лицом и почти незаметными усиками, рассказывал:
— Он говорит, что кадров у него нет. «Все вы, — говорит, из казармы купца Ранетова, каждый сам по себе». А я говорю: «Я с Урала приехал, у нас казармы не было. У нас еще с Петра Первого демидовские заводы». «Все равно, — говорит, — все это самодеятельность, а до настоящего производства, как в Турине, на „Фиате“, нам как до Киева раку ползти: кадров у меня нет, что прикажешь делать?» Так он говорит, а я стою. Меня до работы не допустили, потому что ко мне дружок армейский приехал, и мы того… капитально. Сам не знаю, чего он от меня хотел. Маляра-то они шуганули, но то маляр, а сварного найти на мое место, сам знаешь, проще простою. Тут он мне и говорит: «Слава, он незаменимый маляр, а ты заменимый, ты средний, как большинство, не могу же я уволить большинство?»
Слава удивленно замолчал и поворошил длинные волосы.
Бригадир Филимонов слушал, улыбался неопределенной бесхитростной улыбкой, но глаза не улыбались. Он был небольшого роста, с маленькими руками, и одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что Филимонов принадлежит к той неистовой породе людей, с которыми трудно сладить одной силой. Несколько минут назад они вместе со Славой откатили от стенда разбитую (без крыши и стекол, с пустым моторным отсеком) машину и теперь курили, несмотря на строгий запрет курить в автоцентре. Неподалеку ацетиленовой горелкой срезали металлический сгусток того, что было задней частью новенького «универсала»; синяя с белой сердцевиной струя легко прожигала тонкое железо, оставляя за собой пузырчатый малиновый рубец, который быстро покрывался сине-черной окалиной.
— А что ж раньше не хотел рассказать? — спросил Филимонов. — Я уж думал, он тебе крепко врезал.
— Да нет… — ответил Слава. — В том-то и дело.
— В чем, в чем дело? — поморщился Филимонов.
— Что-то тянут резину с этой крышей. Пора принести, а то до перерыва ни одной стойки не сварю. Пойти, что ль, подогнать?
— Взял тебя голыми руками, вот ты и молчишь. Нету ее, этой разницы между им и тобой, он не хочет, чтобы она была, а до тебя не доходит, как без этой разницы. Тут-то он тебя и взял. И не тебя одного.
— Выходит, тебя тоже?
— Может, и так. Не люблю суперменов, не к добру пошла мода на показуху. А он хилый, голосок дрожит, рубаха на шее болтается, но я вижу — в нем хребет есть.
— Был у нас в части один из Донбасса, кожа да кости, а старички его не задевали… Вообще, конечно, с ним работать можно, ничего не скажешь. Губочев вот его боится, ну прямо смех берет.
— Ты приглядись-ка лучше: Губочев всех боится. С чего бы человеку всех бояться?
— Это не мое дело. Что-то крышу не несут, заснули, что ли… А правда, говорят, что ревизия неспроста была?
— Беда, что такие, как он, никогда не защищаются. Им кажется, раз у них руки чистые, значит, все кругом идеальные. Что там ревизия! Ему бы дорожить своим положением, самую малость бояться всякой мрази, тогда будет надежное дело.
— А разве есть, кто не боится? — спросил Слава.
— Легок на помине, — сказал Филимонов, и его глаза улыбнулись. К ним шел Никифоров.
— Здорово, мужики. — Директор пожал им руки, поглядел на красный «универсал». — Сейчас крыша будет.
— Все, несут! — весело сказал Слава, усики на его растянувшейся губе стали совсем незаметными. — Ты глянь, сам Губочев тащит!
Никифоров кивнул, но не стал смотреть, что делается за «универсалом», у которого отрезали заднюю часть.
— Да я не шучу! — сказал Слава. — Прижал ее к пузу, а Верещагин конвоирует. Прямо вынос гроба!
— У нас это последняя крыша, ему жалко с ней прощаться, — сказал Никифоров. И Филимонову: — Николай Петрович, перед перерывом вместе с Верещагиным скажите людям, что ревизия считает ваш кузовной участок самым лучшим.
Больше тут делать было нечего; Никифоров кивнул мастеру Верещагину и пошел дальше.
— Александр Константинович! — крикнул вслед Губочев. — Видите, я ваше распоряжение выполнил.
— Спасибо, — ответил директор, полуобернувшись, так и не посмотрев на него. Наверное, было похоже, что он бежит. А он и бежал. Как маленький Саша Никифоров, когда зажег, играя, стог сена во дворе соседей. Или так лучше определить: не бежал, а хотел собраться с мыслями? Но он не стал уточнять.
На малярном участке было душно; гудел вентилятор, горячо и едко пахло эмалью. Яркий холодный свет люминесцентных ламп с его едва уловимым помаргиванием, казалось, обладал плотностью, словно полупрозрачный газ. Вдоль стены напротив красильных боксов стояло несколько автомобилей. Все они были одинакового песочно-желтого цвета, с заклеенными бумагой фарами и стеклами, без бамперов, и чем-то напоминали коконы. Свежо блестела краска, и ее блеск маскировал мелкий брак — рябь «шагреневой кожи».
— Получается, — похвалил Никифоров.
— Нет, не очень получается, — вздохнула Лида.
Скребок в ее руках остановился, потом пошел по капоту, легко снимая разбухшую от растворителя старую краску.
— А как ты до крыши достанешь? — улыбнулся Никифоров.
— Подставлю ящик.
Он поднял с пола похожий на широкую стамеску скребок и снял с крыши белую стружку.
— Испачкаетесь, — предупредила Лида.
Он посмотрел на ее бледное миловидное лицо, уже тронутое тонкими трещинами морщин, снова улыбнулся:
— Я у вас отдохну. Никто не знает, что я здесь.
— Вы приходите почаще. Вот кончат там, — она кивнула на открытые боксы, где девушки в зеленых костюмах плавно работали пульверизаторами, — угостим вас домашним пит рогом. Мы и песни поем. Вы любите петь?
— Когда за рулем спать охота. Мы с Журковым ехали из Тольятти — все песни перепели.
— Нет, а мы просто так поем. Теперь нам никто не мешает. — Она посмотрела на Никифорова. — Хотите, за выходные мы вашу машину в любой цвет покрасим?
— Ну да! Чтоб меня обвинили в злоупотреблении служебным положением?
— А что мы еще можем? Бутылку купить?
— Зачем бутылку? Да ничего не нужно! — сказал Никифоров. — Давай лучше-ка спой что-нибудь.
— Вот еще! Ни с того ни с сего — петь. Просто так радио поет. — Лида нахмурилась, стала крепко и быстро водить скребком; ее тонкое плечо на мгновение выступало в широких складках рукава и сразу терялось в них.
«Что на Полетаеву сегодня нашло? — подумал Никифоров. — Сначала тест загадала, потом будто заклинило. „Море — это любовь“. Нормальная баба на ее месте нашла бы мужика и не комплексовала. Но как, наверное, скучно! Маленький городок, все на виду, взрослые мужики давно женаты… Тут заклинит».
— Лида, что задумалась? — спросил он. — Хочешь, тест загадаю?
— Александр Константинович! Товарищ директор! — послышался голос из динамика. — Вас просят подняться в ваш кабинет… Александр Константинович! Вас просят подняться в ваш кабинет…
— Вот и спрятался, — сказал он. — Тест в другой раз.
Он знал, что просто так звать не станут. Наверное, снова что-то случилось, а Журков не в силах справиться. Может быть, скандалит тот толстый парень из Вологодской области? Или приехал на техобслуживание какой-то чин?
Никифоров почти угадал: заказчик, лысый коренастый мужчина в роговых очках, ждал в приемной.
— Вы директор? Я к вам.
— Заходите. — Никифоров толкнул дверь кабинета и сделал вид, будто не заметил сочувственного взгляда секретарши.
Вошли, сели. Мужчина раздраженно сказал:
— Я в девять утра сдал машину!
Никифоров кивнул, нажал белую клавишу, раздался голос диспетчера:
— Слушаю вас, Александр Константинович.
— Нужно отрегулировать клапана, промыть карбюратор… — продолжал заказчик.
— Что с автомобилем?.. — Никифоров нетерпеливо взглянул на него. — Ваш номер?
— ЮМО ноль два — сорок пять, — быстро вымолвил мужчина.
— Одну минутку, Александр Константинович, — сказал женский голос из селектора. — ЮМО ноль два — сорок пять сегодня получен владельцем с седьмого участка.
— Спасибо, Валя.
— Вот именно! Получен! — крикнул заказчик. — Там и конь не валялся! Карбюратор не промыт, зажигание не выставлено, тормоза не отрегулированы. Неужели всю жизнь на трояках и червонцах?
— У вас вымогали деньги? — спросил Никифоров.
— Я сам дал слесарю червонец. И мне ничего не сделали!
— Пишите на мое имя заявление. — Он чувствовал, что по щекам растекается сухой жар. — Кому дали? Сколько? Зачем? Пишите!
— Я не буду писать.
— Тогда я бессилен. Кому вы давали?
— Вы сами знаете, — усмехнулся мужчина.
— Почему я должен знать? — воскликнул Никифоров. — Вы в своем уме? Вы даете взятку и ищете у меня защиты?
— Мне нужен исправный автомобиль.
— У вас не будет исправного автомобиля. Жулики и взяточники, которых вы плодите, не могут честно работать. — Никифоров снова повернулся к селектору. — Поддубских? Василий, что у тебя?
— Нормально, Александр Константинович. Транзитному поменяли крестовину, он написал благодарность Голубовичу. Уф, жарко!
— Зайди ко мне.
— Вам даже пишут благодарности? — улыбнулся заказчик. — Я бы вас не беспокоил, но как без вашего разрешения снова загнать машину на участок…
— Подождите, пожалуйста, в приемной, — сухо ответил Никифоров. Гнев, нараставший в нем, погас. Не стоило гневаться на обман, лукавство, наглость, с которыми Никифоров сталкивался каждый день и которые отравляли его. Гнев не мог ему помочь, а лишь выставлял его бессилие напоказ.
Оставшись один, Никифоров сидел, выпрямив спину и положив ладони на стол. Ему казалось, что пальцы дрожат. Он смотрел на них с любопытством, потом заметил, что к рукаву прилип белый комок краски.
— Можно? — Вошел Поддубских.
— Заходи, заходи, — сказал Никифоров, сковыривая ногтем комок. — Кто делал его машину?
— Чью машину?
— Ну, того, лысого, что в приемной.
— А-а, — протянул Поддубских, устало улыбаясь.
— Вот что… Вот что… — сказал Никифоров.
Поддубских, ссутулившись, стоял рядом возле приставного стола, держал руки в карманах халата. Халат облегал его костистые плечи и спадал с груди плоскими прямыми складками.
Они молча смотрели друг на друга.
Никифоров знал, что в кротких глазах Поддубских не мелькнет даже тени ожесточения, мастер не поверит; но когда убедится, что тот червонец был, что лысый не солгал, его большие впалые глаза подернутся тусклой пленкой. И еще Никифоров знал, что Поддубских не боец, что он уйдет, как только в нем накопится это тусклое презрение, из-за которого он прежде бежал с московских станций техобслуживания, бежал, чтобы, живя в Москве, ездить на работу за семьдесят километров от дома в новый, не зараженный дрянью автоцентр. Но куда бежать самому Никифорову?
— Кто делал машину?
— Голубович.
— Так! Обрадовал.
— Жалоба? — спросил Поддубский.
— Хуже, но ты все равно не поверишь. Сядь и сиди. — Никифоров по селектору вызвал Голубовича.
Поддубских грустно усмехнулся, отошел к стене. Никифоров выдвинул верхний ящик стола, взял оранжевую пластмассовую папку, вытащил листок.
— Ты прав! — гневно сказал он. — Я бы тоже хотел отгородиться от этой гадости! Слушай, что они пишут. — И стал читать с дрожащего в руке листка: «Я, Молоканов В. М., был вызван на приемку осмотрения автомобиля… Меня попросили осмотреть левый лонжерон и левое крыло. Я осмотрел эти детали и сказал, что лонжерон можно вытянуть, а крыло надо менять. И я собирался уходить в цех, но клиент меня остановил и положил мне в карман пятьдесят рублей. Я отказался от этих денег, но он настойчиво сказал, что это тебе за консультацию. Я сказал, что авансов не беру. Он опять положил мне деньги, и я не удержался и ушел в цех. В чем считаю себя виноватым. И обещаю, что больше этого не повторится». — Никифоров вложил листок в папку и продолжал говорить уже как будто спокойнее: — Они дают взятки, а Молоканов и Голубович берут…
— Голубович? — спросил Поддубских. — Не может быть!
— Брось ты! Где эта граница, до которой не может быть, а после все может?! Молоканова мы не выгнали только потому, что такое у нас в первый раз. Но теперь, я вижу, мы совсем оперились. Хватит!
Поддубских выпрямился, теперь глядел напряженно и зло.
Вошел Голубович — щуплый, с хмурым взрослым лицом. У него были мокрые темные руки, он вытирал их серой тряпкой. Остановившись у дверей, слесарь молча смотрел на Никифорова.
— Что ж ты так? — спросил Никифоров с горечью. — Неужели за двадцать один год никто тебе не говорил… — Он не закончил; снова открылась дверь и кособоко вошел Журков. — Пусть с тобой Журков разговаривает!
— А что случилось? — Журков доковылял до стола, сел, поморщился.
— Что случилось? — усмехнулся Никифоров. — Этот мальчишка содрал десятку с клиента.
— Только-то? Они все там, на срочном, с клиентов дерут. Спроси у Поддубских.
— Я не понял вас, Вячеслав Петрович, — холодно сказал Поддубских. Если то, что вы сказали, правда, я готов подать заявление.
— Я тоже не понимаю, — Никифоров покачал головой, — твои шутки, Журков, сейчас неуместны.
— Может, и неуместны, — согласился Журков, — только это не шутки. Чтобы заработать эту десятку, надо вкалывать целый день, а тут он срывает ее задаром. Верно, Володя? — Он повернулся к Голубовичу.
— А мы куда смотрим? — нервничая и снова краснея, спросил Никифоров. Если у людей нет совести, то должен быть хотя бы страх.
— Страх никого не остановит, — сказал Журков. — Дело не в страхе. На «фольксвагене», например, не воруют запчасти — их в магазинах полно. Все твои страхи да совесть — бабушкины сказки. Должна работать сама система: коль продали человеку автомобиль, то обеспечивайте и ремонт. К телеге теперь не вернутся.
— Голубович, подойди, — сказал Никифоров. Слесарь подошел и остановился рядом с Поддубских, держа руки с тряпкой у живота. — Ты брал у заказчика деньги? — Тот кивнул. — Садись, пиши объяснительную.
Голубович сел, положил тряпку себе на колени. Его лицо оставалось в прежнем хмуром однообразном выражении, словно он не вполне понимал, что происходит. И Никифоров вспомнил: Голубович — тот самый слесарь, который когда-то из-за гордости отказался ремонтировать машину, где все детали, даже копеечная подкапотная лампочка, были предусмотрительно помечены мазками зеленой краски — от воров.
Слесарь наклонился над листком бумаги и задумался.
— Пиши! — приказал Никифоров. — «Директору спецавтоцентра Никифорову. От слесаря Голубовича. Объяснительная записка…»
Голубович написал четкими большими буквами.
— «При ремонте автомобиля ЮМО ноль два — сорок пять я взял у заказчика десять рублей». Напиши, почему взял.
Голубович прикоснулся ручкой к бумаге и снова задумался.
— Сукин ты сын, Володя! — сказал Журков.
— А если он барыга, почему я не могу взять у него деньги? — спросил Голубович. — Наверняка они ворованные.
— Барыгу накажет суд, а не слесарь Голубович. Откуда ты узнал, что он барыга? Следствие провел? Может, он ученый или на Севере заработал. Что за стихийное перераспределение доходов? — Журков насмешливо поглядел на Поддубских. — У вас складывается философия, как раздевать клиента?
— Тогда надо ввести карточную систему, — буркнул мастер.
— Вводи! — усмехнулся Журков. — Ты карточную, а я карательную. Заинтересованность в труде упадет, ее надо будет поддерживать штрафами, а может, специальной трудовой повинностью… Дурачок ты, Голубович, вот что я тебе скажу. Не понимаешь ты нашей свободной жизни.
— Не оскорбляйте меня! — тихо ответил Голубович. — Не буду ничего писать. — Он как будто очнулся, но это были не стыд и не гордость: по-видимому, простое предложение, которое ему предстояло написать и которое уже стало мыслью в его голове, что-то разрубило в нем, отделив прошлое от нынешнего дня.
— Не пиши, не пиши. — Журков встал, медленно пошел вокруг стола, на ходу расстегивая и вытаскивая потертый ремень. Все недоуменно смотрели на него.
— А ну-ка встань! — сказал он.
Голубович улыбнулся, поглядел на Никифорова, но встал, подняв руки к груди. Рядом с главным инженером он казался совсем маленьким. Журков медленно размахнулся и стеганул Голубовича по бедру. И тут же схватился левой рукой за поясницу.
— Журков! — вскочил Никифоров.
— Довел-таки, — сказал Журков. — Жалко, радикулит!
— Да вы что! — опешил Голубович. — Зачем драться-то? По какому праву?
— Господи! — воскликнул Никифоров. — Да я и не собирался его наказывать.
Голубович быстро пошел к выходу, оттуда обернулся:
— Александр Константинович, пусть меня Журков еще раз огреет, а писать не буду.
— И огрею, если снова попадешься! — посулил Журков.
Почти сразу за вышедшим Голубовичем появился лысый заказчик.
— Вернули деньги, — вымолвил он любезным голосом. — Но как вы понимаете, вопрос не в деньгах. Что вы решили?
— Вон! — рявкнул Журков.
— Что?
— Вон, а не то спущу с лестницы!
— Взяточники! — сказал лысый. — Вы еще ответите! — И захлопнул дверь.
Никифоров подпер голову руками. Журков заправлял ремень, звякала пряжка.
— Теперь всех будем пороть? — то ли спросил, то ли подумал вслух Поддубский.
— Иди работай, — сказал Никифоров.
— Макаренко тоже врезал одному ученику. — Вытянутое костистое лицо Журкова сжали твердые складки. — А был великий педагог!
Ему нечем было возразить, не было желания, хотя надо бы одернуть главного инженера. Но как одернешь, если он прав? Похоже, стог уже запылал, огонь выбегал из-под топающих маленьких ног, перескакивал с травинки на травинку…
IV
Они уехали из автоцентра в светлых сумерках. Дальние перелески стояли в темной синеве. В зеркале заднего вида маячила одинокая машина.
— Как увидит у вас бутылку, спокойно может в дом не пустить, — сказал Никифоров.
— А мы у ворог разопьем, — ответил Журков.
— Ну, у вас прекрасная жена, Александр Константинович! — почти искренне сказал заместитель главного инженера Иванченко. — Просто вы сегодня измотались.
Никифоров оглянулся — ему влажно блеснули карие глаза, на мгновение застыла сладковатая подвижная улыбка Иванченко.
— Скорее всего, сейчас Губочев думает, что мы вынуждены смириться. — Он отвернулся и больше не вспоминал жену. — Неужели смиримся? Это твой кадр, Журков. Ты его рекомендовал.
— Я посоветуюсь в горкоме, — предложил Иванченко. — Если мы сейчас назначим проверку, закроем склад…
— Рекомендовал, — сказал Журков. — Кто ж знал, что он жулик? Ну ничего, мы закроем склад на сколько нужно, пусть хоть на месяц. А дело передадим в ОБХСС. Может, он на десять тысяч наворовал.
— Без запчастей центр тоже будет стоять, — продолжал Иванченко. — Этот месяц в разгар сезона мы потом никогда не наверстаем. Правильно, Александр Константинович?
— Значит, мы бессильны, — мрачно сказал Никифоров. — Он ворует на наших глазах, а мы ничего ему не сделаем. — Он снова поглядел в зеркало и выругался: следом шел патрульный автомобиль. — Вячеслав Петрович, пристегни ремень, — попросил Никифоров и сам пристегнулся.
— Да ладно, — сказал Журков, — сколько езжу, никогда не пристегивался.
— Пристегнись! — крикнул Никифоров, выпучив глаза. — За нами Кирьяков.
— Ну и что? — усмехнулся Журков. — Ты его боишься, что ли? — Но пристегнулся.
— Да не боюсь! А вот придерется и испортит вечер. После того, как я отказал ему, он будет стараться…
— Что вы, Александр Константинович? — удивился Иванченко. — Вы депутат горсовета, директор крупного предприятия…
— Я его лучше знаю, Иван Иванович. — Никифоров стал тормозить и прижал машину к обочине. — Пусть проезжает.
Однако Кирьяков не стал обгонять, а тоже сбросил скорость. Никифоров остановился. Легкое облачко пыли, поднятое с обочины, пролетело вперед.
— Дежурный инспектор, — подойдя, козырнул Кирьяков. — Почему остановились, гражданин Никифоров?
— А здесь не запрещено, — нервно ответил Никифоров.
— Не запрещено, — согласился Кирьяков. — Может, требуется помощь? Я вижу, вы сильно возбуждены. — Он говорил дружелюбно, но глаза были, как две искры льда, быстро оглядели салон, лица попутчиков, остановились на новом стекле форточки. Из патрульного автомобиля вылез еще один инспектор, окликнул Кирьякова:
— Ну, чего там?
Кирьяков отмахнулся, офицер, потоптавшись на похрустывающем гравии, подошел. Это был лейтенант, такой же плотный, коренастый, как и Кирьяков. Он оперся на открытую дверь. Никифоров заметил татуировку на безымянном пальце его толстой руки — синее солнце с веером лучей.
— Не порть людям настроение, — добродушно произнес лейтенант.
— Однокашника встретил! — радостно ответил Кирьяков. — Хоть словом перемолвимся…
— Ну, раз однокашника, — протянул офицер, — это хорошо.
Никифоров хотел было возразить, что Кирьяков плохой однокашник, но человек с добродушным голосом уже отошел.
— Не прячьте. — Кирьяков кивком показал на заднее сиденье. — Напрасно на нее сели. Нагреется, как ее, теплую, пить? — И стал смотреть на Никифорова.
— Поехали, Никифоров! — решительно сказал Журков.
— Поезжайте, поезжайте, — проговорил Кирьяков. — А все ж таки, гражданин Никифоров, надо бы вас отвезти на экспертизу. Возбуждены.
— Умнее не мог придумать? — усмехнулся Никифоров. — Я не возбужден, а хуже собаки устал. Давай дуну в твою трубку, и отстань ради бога.
— А мы по-дружески?
— Нет, так не получится.
— Ладно, я не злопамятный. — Кирьяков качнулся на носках и пошел к своему автомобилю, но, пройдя несколько шагов, обернулся. — Сашка! Помнишь, как тебя дразнили в техникуме? Краснорожий!
Никифоров рывком взял с места. Журков крякнул, потом выгнулся поудобнее и сказал:
— Я б его тоже боялся — мелочная душа.
Домой приехали с горящими фарами. Небо еще оставалось светлым, но луна уже сделалась яркой, и показались большие звезды.
Полосы электрического света скользнули по бордюру, прошли по серой граве запущенного газона и остановились на дощатых воротах. Яблоня под светящимся окном была разделена четкой линией домашнего света и темнотой сумерек.
Никифоров открыл ворота, Иванченко пересел за руль и загнал машину во двор. Фары погасли, хлопнули дверцы. Журков и Иванченко вышли. Пахло свежеполитым огородом. Шелестели деревья, где-то близко застрекотал сверчок. Никифоров поднялся на веранду, открыл дверь. Щелкнул выключатель, от фигур Журкова и Иванченко упали длинные тени.
— Лена, у нас гости! — громко сказал Никифоров. — Встречай!
Журков и Иванченко тоже поднялись на веранду, смотрели на хозяина вопросительно и с некоторым смущением. Слышался телевизор, из дома никто не выходил.
— Лена! — снова позвал Никифоров.
Жена вышла в коридор, позевывая, в брюках и накинутой на плечи кофте, несколько секунд глядела на них и сказала:
— Задремала… Вы, небось, голодные?
У нее была полная крепкая фигура, мягкое, очень спокойное лицо.
— Да чего нас кормить! — торопливо сказал Иванченко — Мы на минуту.
— Лена, принимай гостей! — повторил Никифоров.
Она неожиданно улыбнулась:
— Ну и я выпью рюмочку?
— Ради бога, — ответил Никифоров. — Мы пока умоемся.
Он открыл одну из двух одинаковых дверей, находившихся справа в коридоре, возле узкой деревянной лестницы, ведущей в мезонин, кивнул Журкову и Иванченко, а сам поднялся наверх. Сын с тещей смотрели телевизор. Мария Макаровна повернулась на его шаги, поправила раздвинутые полы халата; он поздоровался, и она ответила.
— Василий! — позвал Никифоров. Мальчик быстро повернулся и тут же снова уставился в телевизор, сказав хрипловатым голосом:
— Я смотрю свое кино!
— Ты плохо выглядишь, Александр, — с обычным доброжелательно-волевым выражением сказала Мария Макаровна. — На тебе лица нет.
— Вы всегда преувеличиваете, — ответил Никифоров и погладил сына по голове, ощущая под рукой перекошенные от послеродовой травмы кости маленькой головы.
— Ты мыл руки? — спросила теща.
Он еще раз погладил сына и спустился вниз.
После каждой встречи с Марией Макаровной Никифоров испытывал раздражение и неловкость оттого, что не может перебороть этого раздражения. Она никогда не была замужем, не знала, что такое мужчина в доме, и после замужества дочери не могла привыкнуть к своему второстепенному положению. Ее любовь к Лене была деспотичной, но со временем как-то притерлись, свыклись, открытые ссоры уже утомили всех.
Лена познакомилась с Никифоровым в Тольятти. Ему было двадцать семь лет, он чувствовал себя почти студентом: много интересного обещалось впереди. Знакомство с девушкой из студенческого строительного отряда было частицей того, что обещала ему жизнь. «Я хочу за тебя замуж, — сказала Лена. — Нет, хочу ребенка, а замуж не обязательно. Потом можем разойтись». Ее смелая деловитость была беззащитной, загадочной. И, как бы играя, он женился, остался в Тольятти, ожидая стажировки в Турине, а Лена вернулась домой. Тогда его поразило одиночество, которое пришло после череды похорон. Умерли отец, мать, дед; дольше всех прожила бабушка. Из близких остался младший брат, но он жил далеко, в Сибири.
Лена писала Никифорову, присылала книги по теории управления и посылки со смородиновым вареньем. На ноябрьские праздники она приехала к нему.
Женитьба показалась приятным, необременительным делом, и только рождение сына отрезвило Никифорова. У них с Леной был разный резус-фактор крови, роды прошли тяжело, и ребенок родился едва живой. Мария Макаровна переслала ему письмо Лены.
«Мама моя дорогая! Я сегодня после тяжкого кошмара. Страшно вспомнить. Может быть, и преувеличиваю, потому что пережила это впервые. До семи вечера 27-го я лежала в палате с небольшими болями. После ужина (запеканка из лапши и кефир, который я проглотила залпом) у меня лопнул пузырь. Сестра заглянула, когда я стала кричать от схваток. Врач распорядился делать мне стимулирующие уколы и проч. И начался тихий ужас. Мне говорят: не крепись, дыши. Я сопротивляюсь выталкиваниям. Больно. Начинаю мычать. Положение плода — ягодичное, голова вверху. Врач еще в утробе определил мальчика. Они-то знают, сколько часов я должна терпеть схватки. И успокаивали: знаешь, у нас женщины по суткам так корчатся. К середине ночи у меня силы на пределе. Они мне уколы, и таблетки, и маску. Во время каждой схватки надо дышать в маску, а от нее в сон клонит. В промежутках между схватками (0,5 мин.) не выспишься. Часам к двум ночи я стала терять надежду. Сестра говорит — родишь мертвого, если не будешь слушать и терпеть. Вокруг меня десять женщин хлопочут: командуют, голову к груди давят, уколы делают, ребеночка стерегут. Я тужусь и думаю: пополам тресну, но живого произведу. Когда он пискнул, и я его увидела — сине-зеленый лягушонок, — ужаснулась. Мне показалось, что он помрет. Но потом его быстренько обработали, укутали, мне показали. Я, конечно, мало что соображаю, но успокоилась: живое, глазки открыты, попискивает… Сейчас прихожу в себя. Все болит, лицо серое. Скоро пройдет. Теперь ничего не страшно».
Никифоров почувствовал жалость. Из-за слабости сына нельзя было перевезти семью в Тольятти. Он оставил завод и перешел в московскую дирекцию. И тогда началось самое тяжелое, к чему Никифоров не был подготовлен: привыкание к жене. Не раз он казнился своим легкомыслием, обдумывал развод и всегда отбрасывал эту мысль.
Так прошло четыре года. Теперь ему казалось, что они с Леной привыкли друг к другу и сроднились. Она любила его, иногда ревновала черт-те к чему и зачем, и когда он попытался разобраться в этом, то увидел, что ее жизнь состоит из скучной работы, однообразных домашних забот и балансирования между матерью и мужем…
Гости хозяйничали на кухне, Иванченко открывал рыбные консервы, Журков, выгнувшись правым боком, стоял рядом с ним, не решаясь сесть на крохотную кухонную табуретку, похожую на детскую. На газовой плите потрескивала сковородка с блинчиками.
— Да ты садись! — улыбнулся Никифоров. — Принести стул?
— Принеси, — сказал Журков. — Днем еще ничего, а к ночи хуже.
Никифоров принес стул. Журков сел, попробовал опереться на спинку, закряхтел.
— Говорят, в Рогачевке бабка заговаривает радикулит, грубовато-насмешливо вымолвил он. — Ты свозил бы меня.
— А где Лена? — спросил Никифоров.
— Пошла луку нарвать. Свезешь?.. А то, ей богу, бюллетень возьму.
— Нет, не имеешь права болеть, — без тени улыбки ответил Никифоров. Повезу хоть к шаману, а дезертирства не позволю.
— Вот-вот! — буркнул Журков. — Мало, мы «взяточники и заодно с ворюгой», теперь еще и «дезертиры».
От сковородки запахло горелым, Никифоров выключил газ.
— Давайте о чем-нибудь другом говорить, — предложил Иванченко. — А то с этими автомобилями да заказчиками забудешь все на свете.
Когда пришла Лена, они по-прежнему говорили о своем автоцентре, и она, незатейливо накрыв стол, попыталась переключить их внимание на себя. Сначала ей это удалось: ее слова брали не смыслом, а простой ревностью к гостям, которую она не умела скрыть от них. Никифоров натянуто улыбнулся, слушая о том, что Василий подрался в детском саду с новеньким мальчишкой. Лена смотрела на Журкова, лишь изредка поглядывала на Никифорова. Ее полные крепкие губы замирали, задерживая неожиданно проступавшую волевую, как у матери, складку над верхней губой. В этих взглядах невзначай была привычка сигнализировать о своем состоянии, привычка, которую дает лишь семейное приспособление друг к другу. «Ты нарочно привел их, — казалось, так говорила жена, — ты отгораживаешься чужими людьми, когда мне горько!»
— Пусть дерется, — сказал Никифоров. — Я вот в детстве не дрался, и что же? — Он тронул свой синяк.
Тут она заметила сизоватое пятнышко на щеке, которого утром не было, протянула руку; Никифоров отклонился.
— Откуда у тебя синяк?
— Он не признается, — сказал Журков.
— Да чего там, — отмахнулся Никифоров. — Давайте допьем, Лена, тебе наливать?
— Нет, я пойду наверх. Скоро Васю купать.
— Посидите с нами, — попросил Иванченко. — Когда мужики без женщин это просто пьянка. А с женщиной — праздник.
— Если вы и жене такое говорите, вам цены нет, — сказала она и взглянула на Никифорова. — Ну, пойду?
Он понял, ей не хочется уходить, она ждет, что он остановит ее.
— В женщине должна быть тайна, — продолжал Иванченко. — Красота — это всегда тайна. Вот недавно в газете писали, что семья развивается по второму закону термодинамики. — Он засмеялся, вскинул голову. — Парадоксально, но очень точно!
Он не умел смеяться, его смех выдавал лукавство.
— Согласно второму закону, все остывает, — сказал Журков. — И человек остывает и сковородка.
— А что такое тайна в женщине? — усмехнулась Лена. — Недоступность? Или своя тайная жизнь? — Ее лицо как бы осветилось усмешкой особого знания, которая, как видел Никифоров, выражала и надежду, что ей сейчас объяснят, как надо жить, и страдание от того, что она много думала над этим и не находила ответа.
— К нам приезжал врач из космического центра. — Иванченко посмотрел на Никифорова, словно спрашивал: «Я верно говорю?» — Говорит, самое тяжелое для космонавтов, что нельзя ни секунды побыть одному.
— Да, одиночество необходимо, — кивнула Лена. — Но когда его слишком много… — Хотела она или не хотела, а от затеянного ею разговора Никифорову стало больно.
— Казанова в спальню к собственной жене залезал на третий этаж по карнизу, — сказал Журков. — А у нас как? Да никак. Муж думает про жену, что он ее знает, и от скуки скулы воротит. А жена то же самое про него думает… Ну, вы еще молодые. За что выпьем?
— За женщин, — предложил Иванченко.
— Женщина будет такой, какой ее видит мужчина, — сказала Лена.
Никифорову почудилось, что она хотела сказать что-то другое, то, что касалось только их двоих, а сказанное ею — это лишь игра, подхваченная от Иванченко.
После родов у нее стали разрушаться зубы, и она объяснила, что в ее организме стало мало кальция, она отдала этот кальцин Василию и теперь мучается. Признание Лены поразило Никифорова. Василий медленно рос, а у нее появились седые волосы и морщины в углах глаз. Это было радостное и жестокое чудо: чем сильнее становился ребенок, тем заметнее изменялась Лена. Ей, выходило, надо стать здоровым Василием, потом уверенным в своих силах Никифоровым, потом своей старой матерью, у которой не было ничего дороже единственной дочери. И самой собой тоже надо было остаться. Но это уж в последнюю очередь.
Никифоров взял Лену за руку.
— Мужчина должен быть рыцарем, — сказал Иванченко.
— Конечно. — Лена улыбнулась необязательной пустой улыбкой.
И как только жена улыбнулась, Никифоров понял, что игра будет продолжаться, и ни он, ни она не смогут от нее отступить.
Выйдя во двор, мужчины один за другим прошли по узкой бетонной дорожке мимо «Жигулей», на которых лежал лунный свет, вышли за калитку и только тогда, когда Никифоров, просунув руку между штакетинами, звякнул крючком, смогли заговорить. Но задержанный Леной разговор уже меньше волновал их. Они почти насильно начали его, чтобы просто покончить с ним. «Мы не отступим, несмотря ни на что, или мы бессильны?» — вот от какого вопроса им невольно хотелось уклониться! Потому что он был прост, и его нельзя было расщепить на компромиссы.
Иванченко предложил-таки компромисс: ничего не делать, работать себе дальше, только каждый вечер пломбировать склад.
— Александр Константинович, ни одна деталь не пропадет! — с торопливым оживлением сказал он. — Маленькая пломба, а большое дело сделает. — Он посмотрел поверх придорожных тополей и, по-видимому, радуясь своей мысли, сказал. — Вечер-то какой! Луна, звезды… даже листья светятся. Шел бы так, ни о чем не думал… лишь бы лето никогда не кончалось.
— Кончится! — проговорил Журков. — Не успеешь оглянуться, не успеешь пломбу приклепать.
— Фу ты! — Иванченко махнул в его сторону рукой. — Ну как же по-другому? Останавливать центр?
— Не знаю! Ежели надо, — останавливать.
— Как у тебя все просто, — тихо сказал Никифоров, глядя в даль улицы, где поверху тянулась частая строчка огней на почти невидимых столбах. Выпорол слесаря, остановил центр. Мне кажется, Иван Иванович прав. Зарываться нам нельзя.
— Давай ко мне зайдем, — предложил Иванченко. — У меня вино есть… Да одолеем мы этого Губочева! Брось хмуриться, Вячеслав Петрович. — Он легко прикоснулся к спине Журкова. — Зайдем? Ты, как Тарас Бульба: я Губочева привел, я его и укокошу. Не укокошишь, сейчас это по-другому делается.
— Слушай, Александр Константинович, отпусти-ка ты меня опять в мастера! — сказал Журков, и в его голосе прозвучала горьковатая усмешка. — Я и раньше знал, что не по мне это, но тогда ты меня уговорил.
— Не уговаривал и уговаривать не буду! — ответил Никифоров.
— Погоди злиться. Ты пойми, Александр Константинович, тебе нужен другой человек. А то впрямь прибью кого-нибудь… Нет, раз уж не выходит, ты меня не неволь. — Казалось, он думает вслух, пробует, примеривает свою придумку, и она ему вполне подходит.
— Вячеслав Петрович, брось ты кобениться! — добродушно произнес Иванченко. — Я тебе как твой заместитель говорю: нету лучше тебя главного инженера. А уйти каждый может. Только куда? Везде одинаково. Порой думаешь: где-то открыли заслонку, предполагали — на время, а теперь не закроешь. Сейчас время личной инициативы, или, вернее, бремя. Никто нам не поможет, и уйти нельзя.
— Правильно! — сказал Никифоров. — Хлопнуть дверью уже не дано. Только я тебя не уговариваю.
— И на том спасибо, — проговорил Журков.
— Ну, зайдем? — повторил Иванченко. — Тут совсем рядом.
— Что со складом решим? — спросил Журков. — Или поймать вора за руку характера не хватает?
— Будем пломбировать склад, — суховато ответил Никифоров.
— Заячьи вы души! — беззлобно, с той же горьковатой усмешкой сказал Журков. — Какая тут заслонка? Просто заячьи вы души.
— А ты лев, — усмехнулся Никифоров.
Никифоров возвращался домой и думал, что Журков прав: послать бы все к черту и хлопнуть дверью! В конце концов Журков так и сделает, а Никифоров дотянет до финиша, потому что у него нет ничего лучшего. Он современный человек и живет работой, ему еще слишком повезло начинать ее с пустого места, с зыбучего холма, в котором однажды утонул по крышу стосильный трактор, но трактор вытащили; теперь центр построен, а Лена смотрит на Никифорова так, что не понять, о чем она думает, да и не хочется понимать; пусть все идет, как шло, куда-нибудь придет.
Улица была безлюдна, только слышались шаги Никифорова и то нарастающие, то затихающие звуки телевизора, словно каждый дом принимал и передавал ночного пешехода следующему дому.
Над перекрестком мигал желтым огнем односекционный светофор. Его повесили здесь после того, как однажды в предутренних сумерках на этом месте столкнулись хлебовоз и молоковоз. Никифоров представил мчащиеся по сонным влажным улицам машины и то бесконечное мгновение перед ударом, когда все понимаешь и ничего не можешь сделать. Он замедлил шаги и вдруг повернул туда, куда поворачивать никогда не думал. Теперь он шел быстро.
Ему сделалось радостно и страшно. Казалось, те давние свидания с Леной прошли без него, что он еще никогда не волновался перед встречей с женщиной, что он не знает, как надо себя вести. Куда он идет? Поглядеть на окно, постучаться, сказать: «Не спите? Я мимо проходил…» Нет, не осмелится, побоится, что она поймет его именно так, как есть на самом деле. Разведенная двадцатисемилетняя женщина, она не из тех, кому легко выйти замуж в маленьком городе, но она, должно быть, из тех современных женщин, кто умеет чистоплотно устроить личную жизнь.
Лучше всего было бы повернуть назад, чтобы потом не стыдиться. Думая так, он шел по темному тротуару, плотно закрытому от света фонарей шевелящимися кронами.
Возле дома, в котором Полетаева снимала комнату, блеснул бампер: там стояли «Жигули» цвета «белая ночь». Никифоров услышал мужской голос. По номеру машины он догадался, что мужчина был главным агрономом совхоза «Калининский», парень лет двадцати пяти с грубоватым симпатичным лицом; его фамилии он не знал. «А ты надеялся на другое?» — спросил себя Никифоров и, глядя на мужчину и женщину, стоявших в тени, прошел мимо по освещенному тротуару возле ворот.
Он ждал, что Полетаева с ним поздоровается, так как невозможно не заметить человека в трех шагах от себя, но ему хотелось, чтобы она его не узнала. Его тень проплыла по забору, накрыла белые женские туфли и исчезла в большой тени деревьев. До конца квартала он прошагал, точно в оцепенении. Ему было стыдно за нее, за себя и хотелось скорее забыть этот вечер. Но чем сильнее хотелось забыть, тем яснее становилось ему, что у него нет личной жизни, а та, что составляла его семейную, отличалась от личной, как отличается электрический свет от дневного.
Дома еще не ложились. Женщины сидели на кухне, разговаривали о событиях, которые никогда не могли им наскучить. Когда Никифоров вошел, они замолчали, и он понял, что говорили о нем. Взглянув на унылое лицо Никифорова, теща добродушно-осуждающе (ему казалось, она нарочно разговаривает с ним этим неприятным тоном) посоветовала:
— Ты должен уделять жене больше внимания. Гляжу на вас — молодые люди, а такие кисляки. Свези ее в Москву, сходите в Большой театр, в кино… Можно в ресторан.
— В ресторане обхамят, — сказал Никифоров, зевая. — А в Большой билеты продают иностранцам. — Он потрогал чайник на плите, потом заглянул в заварной чайник, долил туда воды и стал пить из носика.
Лена взяла из сушильного шкафа чашку, поставила на стол.
— Ну и кончится тем, что ты потеряешь жену, — сказала Мария Макаровна.
— Мама! — окликнула Лена.
— А что «мама»? Это только он думает, что я ему враг. А я знаю, что зять у меня честный, умный, порядочный. Я всегда говорю, что думаю. Но вы все время какие-то одинаковые. Ну, пойдите погулять, что ли! Нельзя же так!..
— Спать пора, — сказал Никифоров. — Устал я. — И, посмотрев на Лену, спросил: — Или погуляем?
— Ты, правда, хочешь? — не поверила она.
— Ну, а что тут такого? — ответила за него Мария Макаровна. — Ты же не на службу его ведешь!
— Семья — это и есть род службы, — заметил Никифоров. — Идем, Лена.
В коридоре она остановилась перед зеркалом и тихо вздохнула:
— Я ведь знаю… Скоро ты меня разлюбишь.
Никифоров собрался было отшутиться, но почему-то шутить было неловко.
— Ты хорошая, — сказал он, взяв ее за плечо.
— Нет, некрасивая, толстая. Только такой, как ты, не заведет любовницу. Ты еще хоть капельку меня любишь?
Вышли во двор. Стояла полная луна, глаза у Лены блестели. Никифоров видел, что жена настроена на долгий разговор, и ему стало скучно. Светлела деревянная дорожка. Лена оступилась, взмахнула рукой и шагнула на грядку. Выбравшись, она села на скамейку, Никифоров не стал садиться, держал руки в карманах. Вверху потрескивали ветки дуба.
— У тебя неприятности? — спросила она.
— Нет, все нормально. А у тебя?
— Тоже нормально. Почему ты мою мать не любишь?
— Это у нее спроси, — сказал Никифоров. — А в общем, у нас нормальные отношения. Просто она привыкла на стройке мужиками командовать, а я не люблю, когда мной командуют.
— И еще война.
— Да, война, — согласился Никифоров. — Круглая сирота, медсестра, прораб — тяжеловато для женщины.
— У нас с тобой тоже, «в общем, нормальные отношения»? — спросила Лена. На мгновение ему почудилось, что она знает о Полетаевой; знает — не знает, но почувствовала, может быть, еще раньше, чем он случайно повернул к чужому дому.
— Нормальней не бывает. — Никифоров засмеялся в ответ на ее вызов. На объяснения не было сил, ему было страшно представить, как она расплачется, просидит полночи на кухне, где будет писать ему письмо, в котором скажет, что он свободен, может распоряжаться собой как угодно, что она не навязывается ему…
— Лена, я хочу с тобой посоветоваться, — сказал Никифоров. — У меня… Я тебя прошу не надевать эту драную кофту! — неожиданно произнес он. — Ты в ней старше на десять лет.
Он собирался рассказать о том, как Губочев пытался вывезти запчасти, но из-за этой старой кофтенки, которую он когда-то купил в Тольятти, рассказывать расхотелось.
— Ты меня упрекаешь? — обиделась она. — За что? Сколько ты зарабатываешь? Мы же все съедаем. А кофта не драная, а старая. И я привыкла носить вещи долго. Наоборот, ты радоваться должен.
— Значит, денег нам не хватает? — задумчиво произнес Никифоров. Видно, придется воровать.
— Глупости! Ты думаешь, что я жадная, много хочу, в кои веки вышли погулять, а я о деньгах?
Он вздохнул, сел на скамейку и запрокинул голову. Сквозь листья мерцали звезды. «Где-то там, должно быть, тоже сидят на скамеечке муж с женок, мелькнуло у Никифорова. — А если не там, то где-нибудь на соседней улице. Сидят, что-то выясняют. Всю жизнь будут выяснять и ничего не выяснят».
— Ничего, Лена, я не думаю, — сказал Никифоров. — Что мне думать? У нас есть на книжке сто сорок рублей, возьми их, купи себе что-нибудь красивое.
— Саша, разве я об этом?
— Знаю, что не об этом. — Он перестал смотреть вверх. — Но все равно. Он обнял ее, она подалась к нему, прижавшись головой к его подбородку.
— Все считают, что мы миллионеры, но только жадные, — улыбаясь в темноте, сказала Лена. — Сегодня у меня просили в долг тысячу. Смешно, правда? Я говорю: «Да откуда у нас такие деньги?» А по глазам вижу, она мне не верит, такие они у нее униженные, холодные, как будто знала, что я откажу и все равно просила. Теперь она никогда мне не простит. — Лена уже не улыбалась, продолжала говорить с легким удивлением: — Ее сперва жалко было, я рассказывала, сколько ты получаешь чистыми, без вычетов и взносов, сколько берешь на обеды, а мою зарплату она знает, мы за соседними столами сидим, сколько у меня, столько у нее… А все равно глаза тусклые, презирает и меня и себя. Знаешь, я отдала эти сто сорок рублей. Ничего, мы как-нибудь… Она наверняка думает, что… — Лена запнулась, — ты понимаешь?
— Что я жулик? — усмехнулся Никифоров.
— И доказывать бесполезно, так уж она устроена.
— А на меня сегодня один смотрел с такой тоскливой злобой, — сказал он. — Да еще санитарная врачиха закрыла столовую.
«Полетаева, — подумал Никифоров и отпустил плечо жены. — Нехорошо…» Ему действительно стало нехорошо, точно он сделал что-то, что нужно от всех скрывать и следить за своей речью, чтоб ненароком не проговориться.
— Это большая неприятность, что закрыли столовую?
Конечно, она почуяла, как он внутренне напрягся. Никифоров молчал, чтоб не мучить жену тревогой, которую он все равно бы обнаружил, о чем бы ни заговорил. Лена сказала:
— Вася у меня спрашивает: «Я хороший?» Я говорю: «Вася хороший». «А мама хорошая?» «Мама хорошая». Тогда он говорит: «Мы хорошие».
— Да, обобщает, — отозвался наконец Никифоров.
— А почему же закрыли столовую?
— Холодильники не работают. — Он махнул рукой, встал. — Пошли домой.
— Ну, пошли, — согласилась Лена. — А все-таки откуда у тебя синяк?
— Разнимал драку.
— Ой, тебе вечно достается! Ну, зачем ты полез в драку? Какой из тебя драчун?
— А в детстве я, знаешь, какой драчун был…
Утром Никифоров отвез сына в детский сад. Возле ворот двухэтажного с зеленой крышей особняка он остановился и вытащил Василия из машины. Обычно малыш сам бежал дальше, Никифоров провожал его взглядом до дверей и махал рукой. Но сегодня Василий надул губы, собираясь зареветь, и обнял отца.
— Папа, не уезжай! Я хочу с тобой!
— Василий, мне же надо на работу, — сказал Никифоров, беря сына на руки. — Пошли.
Никифоров оставил Василия в раздевалке младшей группы, и нянечка, еще совсем не старая женщина с приятным лицом, которой, как он знал, было принято дарить подарки, взяла мальчика за руку и дружелюбно произнесла:
— Отпустим папу?
Никифоров понуро вышел, слыша плач сына.
У ворот он встретил старшего следователя городской прокуратуры Михаила Викторовича Подмогильного с дочкой, рослой, костлявой девочкой в синем платье. Поздоровались и, справившись о делах друг друга, разошлись.
Никифоров сел за руль; на обочине, в подорожниках и лютиках, еще сверкала роса. Он подождал, когда капот накрыла тень, и тронулся, догоняя ее. Не догнал и улыбнулся.
V
Еще не было восьми часов, но на площадках перед мойкой и воротами уже стояло десятка полтора машин, а возле входа в диспетчерскую ждала очередь. На третьем этаже было сумеречно, тихо, пахло холодной сыростью нежилого помещения. В приемной секретарша Вера причесывалась.
— Доброе утро, — поздоровался Никифоров. — Журков пришел?
— Не знаю, я сама только пришла. Доброе утро. — Она опустила расческу на колени и, наверное, ждала, когда директор пройдет к себе.
— Позови Журкова и Иванченко, — велел Никифоров.
Они вошли скоро, он стоял у раскрытого окна и смотрел на низкие ветлы, растущие вдоль речки.
— Садитесь, мужики, — сказал Никифоров, не здороваясь, словно и не расставался с ними.
— Напрасно вчера ко мне не зашли, Александр Константинович, — пожалел Иванченко.
— Значит, о Губочеве. — Никифоров сел на свое место, перевернул листок календаря и написал две строчки. — Я пишу: Губочев, холодильники. Журков, объявишь Губочеву наше решение.
— Фу-ты! — вырвалось у Журкова.
— А ты, Иван Иванович, чтоб сегодня привез мастера. Холодильники сегодня должны работать.
— Они через три дня обещали прислать человека, — сказал Иванченко со своей лукавой улыбкой.
— Поэтому и поезжай! Если говорят — три дня, то дай бог через неделю его увидим.
— Попробую, — вяло согласился Иванченко и ушел.
— Ну, выкладывай, что тебя мучит, — кивнул Никифоров Журкову.
— С Губочевым сам разговаривай! — ответил Журков. — Мужик был хороший да, выходит, скурвился. С такими я разговаривать не умею. Ты психолог, ты и давай.
— Прошу тебя, — сказал Никифоров. — Тебя он поймет. Ты с ним работал, ты привел его к нам… Объясни ему, что он зарывается.
— Не буду. Что хочешь приказывай, а с ним говорить не буду. Еще натворю чего. — Журков отвернулся, стал смотреть на бег облаков, отражавшихся в стекле открытого окна.
Он впервые отказал Никифорову, и Никифоров догадался, что главный инженер, наверное, считает его трусом.
— Так, Журков, — сказал Никифоров. — Он снабженец, у них кривая дорожка короче прямой. Знаешь, как он заказал пробки под технологические отверстия для «тектиля»? Нужны были запчасти «Москвича», он нашел на одном заводе запчасти «Икаруса», обменял их на «москвичевские», теперь нам штампуют пробки.
— Что ж, профессионал, — кивнул Журков. — Да я не о том. Я о самом Губочеве. Когда-то в автопарке он отдал колхозу тонну бензина. В конце года были излишки, хотели бензин просто слить в канаву, чтоб потом не срезали фонды. А он взял да подарил колхозу. Нет, просто подарил. ОБХСС следствие вел. Хотя и без следователя было ясно: Губочев тогда не мог украсть.
— Тогда? — уточнил Никифоров.
— Тогда. Сейчас, будь уверен, он бы выменял тот бензин на какие-нибудь пробки и про себя бы не забыл.
— Почему?
— Черт его знает! Сам разбирайся.
— Придется разобраться.
— А чего разбираться? Сперва он улучшал хозяйственные порядки, потом пришлось ловчить, я — тебе, ты — мне, свидетелей нет, все глядят сквозь пальцы. Постепенно переродился.
— А ты жестокий, Вячеслав Петрович. — Никифорову стало досадно, он не хотел ссориться с Журковым.
— Лирика! Я не жестокий. Просто каждому бог отпустил разное терпение. Если бы я тебя не знал, я бы подумал, что ты испугался за карьеру.
— Ты и думаешь.
Журков улыбнулся, словно прощал Никифорова.
— Думаю, ты обрадуешься, когда я тебе назову, кто обдирает заказчиков. Надо избавиться от пятерых. Самое малое.
— У нас не хватает пятидесяти человек. И негде их взять Вот получим картинг, привлечем старшеклассников к автомобилю…
— Ну, меня это не касается, — отмахнулся Журков. — Мне бы с сегодняшними заботами расхлебаться. По-моему, меня доконает все это: некий мастер закончил-таки грузовик, да после его ремонта осталось ведро болтов и гаек. И так, видите ли, можно ездить! — Журков флегматично усмехнулся. — А ты говоришь «старшеклассники»! Никакого уважения к машине.
— Поэтому с детства надо приучать к автомобилю, — сказал Никифоров. Тебе карт самому понравится.
— С детства надо приучать к закону! — повысил голос Журков. — Тогда и технологическую дисциплину обеспечим и многое другое в масштабах государства. А то о детства приучаем ребенка плевать даже на правила дорожного движения и прем на красный свет.
Вера заглянула в кабинет и спросила:
— Телеграммы пришли. Давать?
— Давай, — ответил Никифоров.
Прочитав одну из телеграмм, Никифоров показал ее главному инженеру:
— Вот тебе и принципиальный Маслюк!
Журков вслух прочитал:
— «Возьмите под личный контроль автомашину МКЗ сорок пять — сорок четыре Иванова. Маслюк». Для него закон не писан, — презрительно вымолвил он.
— Ишь ты, под личный контроль! — выругался Никифоров.
— Но с Губочевым тебе никто не поможет, — сказал Журков. — У тебя есть право объявить ему приказом недоверие. Если побоишься — потеряешь новых людей!
— Почему же я не беру? — спросил Никифоров.
— Почему, почему! Большинство похожи на поддубских. Они вроде бы честные, чужого не берут. И молчат. Но они ждут, что кто-то начнет первым. Что толку, что ты не берешь? Берут твои работники.
Никифоров был в цехе, когда в динамик объявили:
— Всем мастерам и бригадирам собраться в девять ноль-ноль на планерку.
Его часы показывали пять минут десятого. «Как же они соберутся к девяти?» — удивился директор и поспешил к себе.
Стульев не хватило. Внесли из приемной. Тоже не хватило. Расселись кое-как: инженеры и мастера (серо-голубые халаты) на стульях вдоль стены и по-за столом, а бригадиры (зеленые ковбойки, темные штаны на помочах) — на широком подоконнике.
Можно начинать? Нету Верещагина. «Позвать?» Не надо. Начинайте. Наклонился к селектору:
— Валя, найди Верещагина!
Первый вопрос: подведение итогов соревнования за прошлый месяц. Четыре участка перевыполнили план. Обсуждайте, товарищи члены местного комитета. Кто победил? Решайте.
Решают. Выше процент перевыполнения у кузовного участка. Нарушения технологической дисциплины? Нет. Хорошо. Нарушения общественного порядка? Хорошо. Присуждаем первое место? Где Верещагин? Ладно. Что скажет бригадир? Давай, Николай Петрович.
— Вообще-то у человека рука так устроена, что к себе легче тянуть, чем от себя. Как участок работает, вы знаете. Но были внутренние нарушения, чего там…
Журков кивнул, сказал короче, чем собирался:
— Были.
Что ж, бригадир Филимонов, ты сам себе помешал занять первое место. Дальше — малярный участок. Не верится, что малярный? — Тоже не верится. Первое место — малярному. Второе — кузовному. Кому третье? Никому. На участке срочного ремонта грубое нарушение. А на участке технического обслуживания нарушение общественного порядка. Это не имеет значения, что в нерабочее время. Что он наделал? Рвался в женское общежитие. Нечего женатому там делать.
Поддубских кисло улыбается, смотрит в окно. Жалко его. Добрый, мягкий, интеллигентный. А пропадет. Мужчина должен идти до конца… Осенью, должно быть, уйдет. Как увидит, что здесь тихая окопная война, что это надолго, так и простимся. Честный парень, не жулик, не хам. И не боец. Жалко.
Интересно, а сколько же это «надолго»? До той поры, когда мой Василий вырастет? Или когда я уже стану дедом? Или помру? Странно, ведь я когда-нибудь помру. Эпитафия: «Здесь лежит Никифоров, который ремонтировал чужие автомобили».
А-а, вот и Верещагин. Сейчас его обрадуют, не удержатся. Оказывается, он не слышал объявления по громкоговорящей сети. Ага, обрадовали. Напрасно он спорит с Журковым. С точки зрения теории управления ошибка уже совершена: надо не избегать конфликта, а идти прямо в гущу, хотя инстинкт самосохранения тянет в другую сторону. В данном случае теория управления мудрее природы.
— На вашем участке нарушается график ремонта машин! — Голос Журкова резок. — Может, вы объясните, почему номера двадцать шесть — восемьдесят семь, пятьдесят четыре — двадцать семь, сорок шесть — девятнадцать пошли вне очереди? Почему вы держите машины, которые стоят у вас о апреля? Или выбираете заказчиков по вкусу?
— Вы говорите ерунду, Вячеслав Петрович! — дерзит Верещагин. — У нас не хватает людей.
Стоп, ссора ни к чему. Оба правы: на кузовном действительно недостает рабочих, а те, что есть, не ангелы. Впрочем, как и на остальных участках.
Стоп, стоп, стоп!
— Геннадий Алексеевич, — говорит Никифоров. — Когда вы были нужны, вас не было. А сейчас поздно спорить. Добивайтесь первого места в этом месяце.
А Журков мог бы запастись эпитафией: «Тот, кто не боялся кому-то не понравиться и кого уважали».
Заседание месткома закончено. Теперь планерка. Снова графики, планы, резкость Журкова, оправдания… Идеальное сочетание: жесткий главный инженер и демократичный директор.
Журков. Почему техбюро на протяжении месяца не сдает мне анализ выполнения графиков ремонта? Повторяю, только строгая очередность прекратит злоупотребления. Почему вы срываете указания главного инженера?
Начальник техбюро. У меня нет человека. Мы готовим требование на специнструмент.
Журков. Требование надо было сдать в декабре, а вы протянули до лета! Там ленивому чертежнику на неделю работы.
И так далее. Беда в том, что людей не хватает. Надо работать с теми, кто есть. Других не будет, взять неоткуда: по району недостает больше четырех тысяч человек. В горкоме указали: с предприятий не сманивать, деревни не трогать, привлекайте уволенных в запас солдат и выпускников школ… Пока травка подрастет, лошадка с голоду помрет. Стоп, беру слова обратно.
— Подведем итоги, — говорит Никифоров.
Подвели. Он остался один.
Перед ним лежало личное дело Губочева, принесенное секретаршей из отдела кадров. В этой тонкой папке по-за обычными документами, возможно, находилась разгадка житейского перерождения, которая сопутствует каждому и которую редко кто понимает.
Никифоров вспомнил голос сына, солнечное апрельское утро с последним заморозком, парок дыхания, смешной вопрос-перевертыш: «Папа, а у тебя идет из дыма рот?» Играя с малышом, он любил весь мир, недостойный любви взрослого человека, но без нее — бессмысленный и грозный. «Папа, прыгай, как зайчик!» И Никифоров скакал рядом с Василием, счастливо смеясь. Жить без любви — это значило просто терпеть себя и других.
Но почему он чувствовал себя обязанным защищать Губочева?
Фотография. Тертый жизнью, с потухшим взглядом, толстый, лысый. Образование — семь классов. В сорок первом году — доброволец. Три ранения. Медаль «За отвагу». После войны учился в автодорожном техникуме, не доучился, крутил баранку грузовика, был механиком, заведовал складом горюче-смазочных материалов, работал снабженцем на прядильно-ткацкой фабрике.
Простая судьба. Чем ее измерить?
Так же, как Губочев, в шестнадцать лет полуребенком ушла на войну Мария Макаровна, теща Никифорова. Порой он был с ней ласков, порой не терпел. Должно быть, Мария Макаровна столько намыкала горя в своем материнстве, что любой человек, ставший мужем Лены, казался недостойным ее дочери. Однажды Никифоров грубовато спросил, почему она, распоряжаясь строительными материалами и специалистами, даже не пыталась сделать что-либо для себя. Мария Макаровна усмехнулась: «А ты?» — «Ну что я?» — отмахнулся Никифоров. Но она наседала, принудила ответить: «Неохота мараться». И тогда Макаровна с укором произнесла: «Хоть я тебя не рожала, а все ж я тебе мать — потому что мы похожи».
То, что Никифоров хотел разрешить наверняка, на самом деле можно было разрешить лишь приблизительно, ответив на единственный вопрос: «Мог ли Губочев стать преступником?» Судя по военному прошлому, вряд ли стоило так думать. Судя по рассказу Журкова о вывозке списанного бензина — тоже.
Что ж, пошли дальше. Рассказ несложно проверить: следователь Подмогильный прежде работал в ОБХСС и в прокуратуру перешел не очень давно. Не исключалось, что он даже занимался тем делом. Никифоров позвонил и, не тратя времени на окольный разговор, спросил:
— Несколько лет назад из автопарка пропал списанный бензин, кто вел дело?
— Не помню. Какой бензин? Я занят, Александр Константинович! Я тебе перезвоню. — Подмогильный говорил как сквозь зубы.
— Я буквально минуту! — воскликнул Никифоров. — Там был на складе человек, фамилия Губочев. Гу-бо-чев! Он отдал бензин колхозу. Бесплатно, чтобы не сжигать. Вспомнил?
— Ты чего кричишь? — ответил следователь. — Я, поди, не глухой. Помню то дело. Ерунда: не было состава. У меня свидетельница сидит, понял?
— Почему он отдал именно в колхоз? — выпалил Никифоров первое, что пришло на ум.
— Кажется, тамошний председатель его фронтовой товарищ. Привет. Положил трубку.
Никифоров спустился в цех, зашел в склад. Пахло машинным маслом и деревянными ящиками. Высокие, в три человеческих роста стеллажи были забиты коробками, ящиками, сумками, железной арматурой. В проходах едва можно было протиснуться. Если бы кто-нибудь попробовал проверить, что тут есть, он бы просидел пол-лета. За стеклянной перегородкой, в клетушке, украшенной золотисто-алыми плакатами «Автоэкспорта», Губочев и девушка-комплектовщица рылись в картотеке. Сквозь маленькие верхние окна, забрызганные побелкой, на стол падал солнечный свет; под потолком горели длинные люминесцентные трубки.
— Доброе утро, — поздоровался Никифоров и выключил электричество. — Не темно?
Губочев отодвинул ящик, встал. На нем была белоснежная сорочка с залежалыми складками на груди. К вечеру она наверняка испачкается.
— Ну что, Иван Спиридонович? — Никифорову сделалось неловко. — Ты давно предлагаешь пломбировать твое хозяйство. Раньше руки не доходили, а теперь, знаешь, давай-ка начнем. Пломбируй.
— Как? — спросил Губочев.
— Вот так! С сегодняшнего вечера.
— Конечно, ваше право. — Губочев повернулся к своей помощнице, вдруг быстро заперебиравшей карточки. — Не нашла? Эх ты, чижик… — В его голосе прозвучал ласковый упрек этой тридцатилетней девушке, плоскогрудой, угловатой, с изумительно красивым лицом.
Никифоров заметил, что, кроме белой сорочки, на Губочеве новые темно-синие брюки и бордовые туфли с блестящими пряжками. «Прощальный парад?» — мелькнуло у него.
Прежде Никифорова мало занимало, почему он делает так, а не иначе. Если бы он, Никифоров, был гением, талантом — да куда там талантом, просто сильным организатором, — тогда можно было бы решить, мол, все дано от бога, от природы. Однако природа была к нему не больно щедрой, скорее даже скудной, не наградила ни выносливостью, ни сильной волей, ни ярким даром, а то, чем он располагал, в лучшем случае называлось средними способностями. Девять из десяти на его месте делали бы то же самое: строили, собирали кадры, боялись ошибиться, оберегали свое честное имя. Он был нормальным — в этом, наверное, и заключался его дар.
Он никогда не думал, что способен сказать старому человеку «ты вор».
Отослал комплектовщицу и остался с Губочевым наедине.
— Иван Спиридонович, как же по-другому? Теперь я не могу вам доверять.
— Ну, вывез ветровое стекло, — спокойно признался Губочев. — Дочка в институт поступает. Попросили.
— Ты серьезно? — спросил Никифоров. — Как у тебя рука поднялась?
— Так и поднялась. В общем, спер я это стекло ради собственного дитя. Отпираться не собираюсь.
— Хоть бы отпирался для приличия.
— Я думал, вы с Журковым меня поймете. А стоимость я возмещу. Мы делаем одно дело… Доверять должны. Будто в одной семье.
— Но ты же украл, Иван Спиридонович! — крикнул Никифоров. — Как я могу тебе доверять? Что тебе мешает завтра вывезти целый контейнер с запчастями? Закон тебе не писан, страха не знаешь.
— А совесть? — мрачно спросил Губочев. — До сих пор я распоряжался вещами и поценнее стекла, а вроде остался честным.
— Неужели не видишь разницу? Ты для себя злоупотребил. Для своей шкуры.
— Так и вы, Александр Константинович, для себя злоупотребляете. Это ведь как поглядеть. Вот возил я на заводы разные подарки, в первую очередь ради вас. Чтобы вы были на хорошем счету. Однако вы честный человек. Не спорю. Мы ведь с вами православные люди: совесть для нас — это совесть…
Никифоров не нашелся, что ответить на странное противопоставление совести и нормы и, подтвердив решение опечатывать склад, ушел.
Приемная оказалась закрытой, а своего ключа у Никифорова не было. Журкова и Иванченко тоже не было на месте. Он направился в столовую, думая, что, может быть, Иванченко удалось привезти мастера и сейчас все толкутся возле холодильников.
«С чего я так устал?» — спросил он себя.
В столовой было солнечно. Светились голые дюралевые стеллажи, у кассы стояли проволочные ящики с бутылками кефира и лоток с пирогами. А людей было мало, своих — почти никого. Нет, вон там у раскрытого окна секретарша Вера откусывала пирог, и ветерок шевелил ее волосы. Она поманила Никифорова ключами. Он собрался ей напомнить, что перерыв еще не начался, но говорить было бесполезно.
— Иванченко не приехал?
— Не видела… Там телефонограмма из горсовета, — вспомнила она, когда Никифоров уже отвернулся.
Он постоял в очереди, купил кефира и пирогов. Над кассой висело предупреждение: работники центра обслуживаются вне очереди. И раздатчица улыбнулась.
— Александр Константинович, ну что вы!
— А куда мне торопиться? — ответил Никифоров. — Ты Иванченко не видела?
Значит, еще не вернулся. Спрашивал на всякий случай. На обед ушло минуты две, была у Никифорова дурная привычка есть торопливо, точно толкали в шею. Давным-давно, в невозвратные времена отец посмеивался над ним: «Поспешай медленно!» Сейчас вроде некуда было гнать, а привычка действовала.
Из столовой пошел к себе, захватил в приемной листок телефонограммы Верины детские каракули без запятых и прописных букв — и позвонил в горисполком. Ни с того ни с сего на три часа назначили заседание депутатской комиссии по благоустройству и озеленению. Что за спешка? Оказалось, забыли заранее послать приглашение, извините.
За дверью послышались шаги, Никифоров позвал:
— Вера, зайди, пожалуйста. — Она вошла, остановилась, поджав губы. Вот тебе полтинник. Купи кефира и три пирожка.
— А зачем? Вы ж только что…
— Я тебя прошу.
— Ну, пожалуйста, если вы просите.
«Забавные у нас отношения, — подумал Никифоров. — Чего она злится?»
— Вера, что с тобой? — улыбнулся он. — Я тебя чем-то обидел?
— Нет, не обидели. Я не знаю, Александр Константинович. Просто голова болит.
— Голова?
— Вы молчите, а сами думаете, что я плохо работаю… И у вас это копится, копится. Уж отругали бы лучше.
Он читал у Спока примерно о том же: строгих, гневливых родителей дети слушаются меньше, чем спокойных, потому что маленькие мудрецы догадываются, что гнев где-то копится и когда-нибудь случится взрыв.
— Отругаю, когда надо будет, — пообещал Никифоров. — A как ты работаешь, тебе самой виднее. Только улыбайся почаще. В голове есть такой центр улыбки, даже когда тебе худо, ты улыбнись, и центр все отрегулирует.
— Ну это же себя обманывать, — ответила она.
— Прямо уж обманывать… Человек так устроен, что хочет быть лучше.
Из столовой Вера вернулась быстро. Он взял кефир с пирогами и пошел к Губочеву. Возле поста диагностики, рядом со стадом отремонтированных машин его встретил главный инженер.
— Ты куда? — Журков кивнул на кефир.
— Да так… Возьми пирог.
Журков показал руки, они были испачканы черной смолой.
— Рационализаторы! Додумались покрывать тектилом, не снимая колес. Время они экономят! Скажу Иванченко, пусть внесет в свой кондуит.
— Может, они хотели как лучше, — сказал Никифоров. — А мы сразу премию срежем…
— Куда ты собрался? — повторил Журков, глядя на газету с пирогами. Кому?
— Да так.
— Лучше или хуже, а технологическая дисциплина — это закон. Отступил раз, а мы проморгали — значит, все дозволено. Уже одному у нас было все дозволено… А ты не к Губочеву?
— Что ему голодному сидеть, — неловко усмехнулся Никифоров. — В столовку ему сейчас, поди, стыдно идти. С меня не убудет, отнесу.
— Отнеси, коль такой жалостливый.
Никифоров кивнул и пошел, но кто-то громко позвал:
— Саша! Эй!.. Саша!
Старый приятель Олег Кипоренко махал рукой, улыбаясь во весь рот, как мальчишка. «Не вовремя приехал», — мелькнуло у Никифорова. У Кипоренко был дар нравиться людям, как раз то, чего у Никифорова, как он считал, не было. К сорока годам Кипоренко не сумел стать ни советником-посланником, ни заведующим отделом, какими стали его сокурсники, и занимал небольшую должность. «Я Акакий Акакиевич, — шутил Кипоренко. — Современный Акакий Акакиевич Башмачкин. Пишу с утра до ночи. За границей тоже пишу, но иногда надеваю смокинг, чтобы выпить рюмку водки. Знаешь, как мне недавно повезло? Я в Африке снял кучу слайдов, так у меня издательство купило сто семьдесят штук по четвертаку за слайд. Теперь куплю дочке кооператив». У него было две жены, бывшая и настоящая, и две дочери, большая и маленькая.
— Ты обедать? — спросил Кипоренко. — Жрать охота! — Он взял пирог, откусил. Никифоров отдал ему кефир. Кипоренко запрокинул голову, отпил из горлышка.
— А меня однажды в Нью-Йорке чуть не прирезали, — вспомнил он. — Ха-ха! Ты ел? А кому пирожки?
— Тебе. Не стесняйся.
— Теплый, — сказал Кипоренко. — Хорошо тебе. Ты хозяин, даже общепит свой. А мне переднее левое крыло надо заменить… Как, Саша?
— Стукнулся?
— Автобус, понимаешь, с левого поворота вылез на мою сторону. У меня была секунда. Вижу, что он должен меня задеть — и как во сне. Стою на правый поворот, автобус — на меня. Просто растерялся. А ведь успел бы включить задний ход, как думаешь?
«Не вовремя приехал», — снова подумал Никифоров.
— Пошли ко мне, — сказал он.
— Сначала покажу, как он меня.
— Ну идем, — согласился Никифоров.
— Так вот, чуть меня не зарезали, — начал Кипоренко, и они пошли к выходу. — Я жил на семнадцатом этаже, а магазин — на одиннадцатом. Жена послала за молоком. Я вот в этих джинсах был. — Он хлопнул себя по бедру. В кармане пять долларов. Сел в лифт, еду. На пятнадцатом лифт останавливается, входит здоровенный детина, метра два. В кулаке штык. Он мне штык к животу: «Мани!» Они там не шутят. Запросто пырнет. Я отдал свою пятерку, говорю: «Извини, ай эм сорри, больше нету». Ну он, слава богу, поверил. Поднялся я домой, а руки трясутся.
Они подошли к воротам. Калитка была открыта, с улицы тянуло жарким сквозняком. Никифоров остановился, пропуская приятеля. Кипоренко тоже остановился.
— А ведь молоко нужно! Опять взял пять долларов. На пятнадцатом лифт останавливается, входит тот же тип со штыком. Штык к животу: «Мани!» Ну, тут я не выдержал. Как заору на него: «И тебе не стыдно, только что дал пятерку, а ты опять лезешь!» Он эдак прищурился. Думаю, — финиш, приехали. А он: «Ай эм сорри, сэр». — И ушел… Ха-ха! — Кипоренко хлопнул Никифорова по плечу, подтолкнул: — Вот сюжет, а?
Крыло выглядело нестрашно: удар косо пришелся в середину, сантиметрах в трех за боковым указателем поворота, смял железо в глубокую складку и, не повредив стекла фары, разворотил ее гнездо. Бампер и панель радиатора были слегка погнуты.
— И ты из-за этого приехал? — спросил Никифоров. — Делать тебе нечего. С таким крылом я бы объездил полмира.
— Серьезно, Саша, можно сегодня заменить? Завтра я улетаю в Ригу сопровождать одного джентльмена.
— Трудно, — вздохнул Никифоров. — Тебе отказывать не хочется, а свой порядок не могу нарушать.
— Между молотом и наковальней? — сказал Кипоренко.
— Не обижайся, ладно?
— Чего мне обижаться? Я сам дурак, сперва надо было позвонить.
— Приезжай после Риги.
— А может, попробуем сегодня? Понимаешь, сейчас у меня есть время, а кто знает, что случится через неделю? — Кипоренко рассеянно смотрел на него, держа перед собой пустую бутылку. Никифоров подумал, что еще никогда не отказывал ни своим немногочисленным приятелям, ни начальству. Начальству отказывать глупо. Но уж если оно, прибегая к телефонным звонкам, записочкам и даже телеграммам, хлопотало о внеочередном ремонте тех или иных машин, то он наверняка имел право помогать своим. Не боялся он и рабочих: те верили, что Никифоров не продается. Ему перед собой было неловко.
— Знаешь, Олег… — сказал Никифоров, помолчал, махнул рукой. — Ладно! Пошли в диспетчерскую, откроем заказ-наряд. — Решив отказать, он согласился, но вместо облегчения почувствовал досаду.
— Счастье — это благо индивида, — засмеялся Кипоренко. — Ты могучий человек, Саша!
Они пригнали машину на кузовной участок. Мастер Верещагин хмурился, не смотрел в глаза Никифорову и долго думал, кому ее дать. Должно быть, помнил утреннее заседание месткома. Никифоров не торопил. Он знал, что кузовщики заняты и что за опоздания отвечать Верещагину. Когда мастер, усмехнувшись, сказал ему об этом, Никифоров взял его под руку.
— Ты все понимаешь. Но я прошу…
— Просьба начальства — приказ для подчиненного, — укоризненно ответил Верещагин.
— Не приказываю, а прошу.
— Нет, Александр Константинович. Я не могу, — сказал Верещагин. Стыдно.
Кипоренко стоял за спиной Никифорова, не вмешиваясь. Директор повернулся к нему, думал, что Олег найдет какой-нибудь обаятельный дипломатический ход, но тот отвел глаза.
— Понимаю, — сказал Никифоров Верещагину. — Хочешь, чтобы я приказал? Вот заказ-наряд. Чтоб через два часа заменили крыло!
— Хорошо, — глухо отозвался мастер.
— Идем с Филимоновым потолкуем, — сказал Никифоров и направился к бригадиру, который вместе со сварщиком Славой доделывал красный фургон.
— Зачем же лбами нас сталкивать? — спросил Верещагин.
— Да не лбами! — воскликнул Никифоров. — Не лбами, Гена! Сейчас увидишь.
Филимонов и Слава привинчивали задний бампер. В свежепокрашенной крышке багажника отражались две склонившиеся головы.
— Здорово, мужики, — сказал Никифоров. — Заканчиваете?
Сверкнув белками, Слава взглянул из-под нависших волос и с усилием довернул ключ. Ключ звякнул об пол. Слава встал. Филимонов, стоя на коленях и согнувшись, привинчивал о другой стороны.
— Сейчас, сейчас, — сказал он. На обнаженной руке под развилкой толстых вен перекатилась выпуклая мышца.
Слава вытер руку о штаны и протянул Никифорову. Директор пожал и спросил:
— Ты был на зональном конкурсе?
— А вы забыли? — Усики Славы от улыбки расползлись по губе. — Мы с Платоновым…
— Платонов за тридцать минут заменил крыло, — сказал Никифоров. Думаю, теперь ты бы тоже смог.
— Я и тогда мог.
— Раньше вы меняли крыло два дня. Боялись к автомобилю подойти.
— Ну раньше! А сейчас мы корифеи.
— Ай да Слава! — засмеялся Никифоров — Ну, замени-ка крыло не за тридцать минут, а хотя бы за час.
— А чего? — ответил Слава. — Давайте. Где машина?
— Что вы из меня дурачка делаете? — крикнул Верещагин. — За нарушение очереди наказываете, а сами-то что? Для нас одни законы, а для вас другие? Я бы на вашем месте… — Он быстро пошел прочь, высоко держа голову.
Никифоров посмотрел вслед мастеру и покраснел.
— А он мне нравится, — сказал Кипоренко — В молодости все хорошие. Слава богу, что он не на твоем месте… Xa-xa!
«Что он, дразнит меня?» — подумал Никифоров, но, поглядев в ясные глаза приятеля, понял, что Кипоренко не по себе.
— Ничего, Александр Константинович. — Бригадир наконец встал. — Он и впрямь молодой. А крыло мы заменим. Раз надо, так надо.
Никифорову снова почудилась насмешка. У него появилось ощущение, будто его несло юзом по гололеду. Отступать было поздно.
— Это Олег Кириллович. — Никифоров кивком показал на Кипоренко, по-прежнему улыбавшегося простодушно-обаятельной улыбкой. Дипломат-международник. Объехал весь мир. Сейчас ему надо помочь.
— Здравствуйте, — сказал Кипоренко, протягивая Филимонову руку. — Очень приятно.
— А что, надо так надо. — И бригадир пожал ему руку.
Перед отъездом Кипоренко обнаружилось, что у него украли из моторного отсека итальянскую сирену. Никифоров собрал кузовщиков и сказал:
— Найдите, очень прошу. Наказывать не буду.
Минут через десять сварщик Слава принес в кабинет спаренный рожок сирены, похожей на две дудки, — отыскал в инструментальном шкафу. Никифоров не спрашивал, в чьем именно, спросить же очень хотелось. Может быть, поэтому он ничего не сказал Кипоренко, просто попрощался и пошел, не дожидаясь, когда машина приятеля тронется с места.
Никифоров ощутил, что они простились не по-человечески, словно он бежал от Олега, от своей вины. А в чем его вина? Но доискиваться было некогда: Иванченко привез холодильного мастера, посулив ему магарыч. Он виновато морщился, когда объяснял это. Его рубашка прилипла к спине. Он взял со стола графин и выпил воды. Потом плеснул в горсть, омочил лицо и, покряхтывая, стал утираться. Никифоров намекнул ему, что здесь не баня. Вспомнился журчащий родничок во дворе автоцентра — когда срывали песчаный холм, вскрыли водоносный пласт. Пусть Иванченко наладит холодильники и идет к роднику.
— Но магарыч! — возразил Иванченко. — Нужна хотя бы пятерка.
Никифоров вытащил три рубля, посмотрел на Журкова. Тот нахмурился, признался, что жена дает ему рубль, но советует ни в чем себе не отказывать. Иванченко причесался, подул на расческу и сообщил, что у него тоже кое-что найдется. Вскоре Никифоров поехал на санитарную станцию за разрешением открыть столовую.
VI
— А я сегодня думала о вас, — призналась Полетаева. — Даже на календаре записано. Ну как?
Вчера ее черные волосы свободно спадали к плечам, а сегодня из-за жары были собраны в пучок и заколоты красной заколкой, обнажив тонкую шею. За столами сидели еще две женщины. Обеим было уже за сорок, они глядели на Никифорова, как на нескучного посетителя. На столе Полетаевой стоял в стакане букетик ромашки-пиретрума. Пахло духами.
…Никифоров чувствовал, как от него расходятся волны горечи и враждебности. Душа была забита, скована заботами, и он был не рад, что встретился с Полетаевой. Ему нечего ей сказать, потому что он сейчас был только директором и еще — Журковым, Губочевым, Иванченко, Верещагиным, Кипоренко и т. д. Никифоров гнал машину сосредоточенно и зло, словно агрессивная езда отвлекала его. Выходя на шоссе, быстро осмотрелся. Слева ехал рейсовый автобус, а справа грузовик. Нужно было переждать.
Полетаева схватилась обеими руками за панель. Машина, проскочив под носом у автобуса, не удержалась на асфальте и, наклонившись, пошла двумя правыми колесами по обочине вдоль кювета. Непрерывно сигналя, слева проревел грузовик. Никифоров выровнял руль, вышел на осевую и обогнал грузовик. Вслед донеслись четыре коротких сигнала. На языке шоферов это означало: «Сумасшедший!»
— Он нас ругает, — сказала Полетаева. Она положила ладони между колен, и на припудренной пылью панели остались отпечатки ее ладоней. — Вы сегодня злой.
— Злой, — согласился Никифоров.
— А почему вчера вечером вы не поздоровались?
— Не хотел мешать.
— Мешать?.. — протянула она. — Но ведь мешают только близкие люди.
— Больше всего мы сами себе мешаем, — возразил он. — А всякие другие, близкие или чужие, — это уже во-вторых.
В открытые окна дул ветер, выносил жар разогретого железа. После железнодорожного переезда потянулся подъем, где вчера Никифоров плелся в хвосте грузовой колонны. Солнце светило прямо в глаза. Впереди мерцали полосы асфальта, похожие на лужицы.
— Александр Константинович! — вымолвила Полетаева. — Там затаился медведь. Если хотите, я вам акт хоть сейчас подпишу.
Он кивнул и сбавил скорость. Что ж, скорость тоже была миражом вольной жизни, куда бы он хотел умчаться и бродить среди лугов и пустошей своего детства, посылавшего теперь ему знаки цветами — единственным неизменным, что он понимал.
— У вас на столе букетик пиретрума, — сказал он с какой-то надеждой.
— Да, ромашки. А что? — Полетаева глядела вниз, на тенистую речку, ушедшую из-под зеленого тоннеля ветел и бегущую по пологой излуке, отражая маленькие облака. Этой излуки Никифоров прежде не замечал. Когда начинали строить автоцентр, на ее месте был небольшой плес. И до сих пор ему казалось — там светлая водная полянка. Но река сдвинула берег.
— А там живет заяц. — сказал Никифоров.
— Настоящий? — В ее голосе не было удивления.
Поворот к центру был совсем близко; можно различить белые буквы на голубом щите-указателе: «ВАЗ». Проехали бетонный навес автобусной остановки.
— Вы обиделись на меня, что я закрыла столовую? — повернувшись, с упреком и улыбкой спросила Полетаева.
— Вы выполняли свой служебный долг.
— Служебный долг? Слишком громко. Столовую закрыла санитарный инспектор, а вы обиделись не на инспектора, а на человека.
— С чего вы взяли, что я обиделся? Каждый делает свое дело… Но… но ведь скучно же! И вы и я знаем, что скучно, и ничего не хотим переменить. Вот заяц вчера пробежал — событие!
Никифоров затормозил, включил указатель поворота, но вместо того, чтобы сворачивать к автоцентру, поехал прямо. «Зачем? — спросил себя. — Чего я от нее хочу?» И в эту же минуту почувствовал, что освобождается от тяжести, которая угнетала его.
— Вы как чеховский герой, — сказала Полетаева. — У них, кажется, тоже так дело делают, а при этом думают, что ничего не изменится.
— Нет, те были умнее своего времени.
— А вы? Умнее или глупее?
— Мы-то как раз сильнее своего времени. Не лучше и не хуже, а просто сильнее. Поэтому и не знаем, чем еще, кроме дела, нужно заниматься. Теперь нету таких понятий о человеке — «лучше» или «хуже».
— Мы проехали поворот, — заметила она. — Может, поедем дальше? Просто прокатимся… Когда еще у меня будет такая возможность?
Миновали развилку, кирпичный домик поста ГАИ, патрульный автомобиль. Инспектор с косой в руках стоял посреди крошечного газона. Он со скукой взглянул на них, отвернулся, потом живо повернулся обратно и проводил машину пристальным взглядом.
— Все дела, дела, — сказала Полетаева. — Надо жить — вот и все. Любое дело — это еще не вся жизнь.
— Тем более ремонт машин, — сказал Никифоров.
— Но от вас исходит, что вы человек власти, вы знаете, чего хотите. А я вот не знаю…
— Я тоже не знаю, — ответил он. — Порой смотрю на своего Василия и не понимаю: откуда он пришел? Когда я его не вижу, мне страшно за него, вдруг с ним что-то случится… Когда я с ним, я, наверное, счастлив. Вот и весь смысл жизни.
— Да, может быть, вы правы, — сказала она. — А что делать тем, у кого нет детей?
— Поскорее заводить. — Вспомнил, что она разведенная, и смутился, словно сказал бестактность.
Дорога вошла в лес. За обочинами в высокой траве поблескивала солнцем вода. От кустов и елок падали короткие тени.
— Куда мы едем? — спросила она.
— Едем, и все.
— Вот и хорошо. А когда станет неинтересно, мы вернемся.
Показалось, что она как будто предостерегала его, чтобы он не обманывался насчет этой поездки, а может, вместе с ним предостерегала и себя. Или пыталась предостеречь. В ее словах «мы вернемся» Никифоров не услышал уверенности. Скорее всего это был обычный женский призыв к благоразумию, к которому мужчины остаются глухи, понимая как просьбу действовать энергичнее.
Увидев узкий съезд на лесную дорогу, Никифоров свернул с шоссе. Полетаева смотрела на тонкие высокие березы, окруженные ельником и лещиной. Машина царапала глушителем сухую каменистую гряду между широкими колеями. «Жигули» шли ползком. Никифорову пришлось наехать левыми колесами на гряду, оставив правые внизу в колее. Скрежета под днищем не стало, но машина сильно накренилась вправо, задевая бортом траву.
Полетаева отодвинулась от двери.
— Не бойтесь, пройдем, — сказал Никифоров.
Лес понемногу отступал, появились круглые лужайки. За деревьями мелькнуло небо, и затененный лесной коридор вывел на большую поляну.
— Кажется, приехали, — сказал Никифоров.
Полетаева удивленно посмотрела на деревянную картографическую вышку с полуразобранным полком и заросшими кипреем опорами, на лес и, улыбнувшись, вышла.
Она с ожиданием поглядела на него. Никифоров засмеялся и полез на вышку.
Оттуда было далеко видно лес и поля, и то, что ушло, стало сном: на карнизе маленькой красной колокольни с безмятежной грустью гуркают голуби; мальчик сунул в рот два пальца и засвистел, замахал свободной рукой; захлопав крыльями, голуби нехотя взлетели…
Внизу на поляне шла женщина в синей джинсовой юбке и красной кофте с короткими рукавами. Ее темные волосы были заколоты на затылке красной заколкой, и, когда она наклонялась, заколка блестела. Из-под ее ног взлетали синекрылые кобылки и зеленые кузнечики. Никифоров стоял на вышке, смотрел, как женщина срывает высокие ромашки, нивяники, складывает цветок к цветку. Далеко над деревнями плыли маленькие облака, похожие на белых зайцев.
— Что вы там увидели? — крикнула женщина.
Он улыбнулся.
— Слезайте оттуда! — засмеялась она. — Не думаете же вы, что я вас туда загнала?
— Думаю, — ответил Никифоров и спустился.
Она стояла, положив букет на сгиб левой руки. «Так держат ребенка», мелькнуло у него.
— Ну, показывайте, что собрали, — сказал Никифоров. — Запомните, это нивяник. Не просто ромашка, а нивяник. У каждою цветка есть свое имя.
— А для меня это ромашка, — возразила она.
— Нет, это нивяник. Ромашка не такая. — Он огляделся. Рот! Видите, насколько меньше. У нивяника на стебле один цветок, а у пиретрума сразу три. И листья совсем разные.
— А это как называется? — Женщина присела и сорвала маленький голубовато-фиолетовый цветок.
— Герань луговая.
— А вот это незабудка! — показала она. — А это иван-да-марья! Улыбаясь, она поглядела на него снизу вверх. — Правильно?
— Правильно. — Он присел рядом. — А это что? — Наклонил стебель короставника.
Она прикрыла глаза и покачала головой.
— А это? — Коснулся желтой чашечки лютика.
— Лютик! — сказала она.
— А это? — Показал на кукушкины слезы.
Она снова покачала головой.
— Вы не знаете родной природы, — строгим голосом вымолвил Никифоров. Садитесь. Двойка.
— Ну, еще что-нибудь спросите, — сказала она. — Хотите я венок сплету? Из нивяников.
Она села на траву, юбка на бедрах натянулась, оголив колени. Поправив подол, она поджала под себя ноги, выбрала шесть цветков и стала вязать их жгутом, быстро работая пальцами.
Никифоров сел, поднял голову к небу и смотрел на облака.
— Знаете, что я вспомнил? На языческой Руси посылали к предкам посланников: приносили жертвы. И не только на Руси, везде… И их украшали венками из цветов. Цветок — это знак бесконечной жизни.
— Значит, венок — символ жертвы? — спросила она.
— Скорее, знак предкам.
— Ну, вы самый настоящий язычник!
— Язычник, — согласился Никифоров.
Он привстал, подвинулся к ней и опустил голову на ее колени. Полетаева просунула руку под его затылок, приподняла и убрала с юбки остатки ромашек. Он не знал, сбросит она его голову или снова опустит себе на колени. Они смотрели друг на друга, потом она отняла руку и стала доплетать венок.
Он видел сдвинутые темные брови, опущенные уголки рта, голубовато-зеленые жилки на открытой шее. Она подняла руки и надела на себя венок. Он зажмурился, слыша, как бьется в ее коленях кровь, как она дышит и как ее голос звучит сквозь стрекотание певчих кузнечиков: «Ты же знаешь, что потом наступит пустота. Я этого не хочу. Этого не будет, ибо наше время случайно и пора возвращаться».
Он открыл глаза от ее прикосновения.
— Все-таки очень жарко. Еще немного — и солнечный удар, — сказала она.
— У меня уже солнечный удар.
— Все мужчины, как маленькие дети. Неразумные и хитрые.
Никифоров рывком встал, протянул ей руку и помог подняться. Он задержал горячую сухую ладонь, потом она ускользнула. Полетаева повторила:
— Неразумные и хитрые.
— А русалки с венками заманивают неразумных язычников в омут.
Они вернулись к машине. На раскаленной вишневой эмали, как в гладкой воде, отражались их фигуры.
Пока ехали по лесной дороге, Полетаева не сказала ни слова, только отрывала белые крыльца лепестков и бросала в окно.
Никифоров вспомнил, как шел мимо ее дома и как почему-то было стыдно. Только что она была совсем близко, и он касался ее тела. Он подумал, что даже не пытался ее поцеловать. Ему показалось, что она ждала этого. «Она порядочная женщина, — сказал себе Никифоров. — Она ждала, что я просто ее поцелую. Не замечу ее неуступчивости и поцелую». Он не жалел, что не решился. Нечего было себе лгать: он знал, что такое короткая связь, какую пустоту и злобу дарит она. Могло быть, а не случилось. И это не случилось тоже связывало их.
— О чем ты думаешь? — спросил Никифоров.
— О том же, что и ты.
— Тогда ты ведьма… Хотя недавно была русалкой.
— Нет, я не русалка и не ведьма. Просто замужняя женщина. Есть у меня муж. Правда, он сейчас в отъезде. Муж — хорошая защита от случайных знакомых.
— По-моему, тебе не нравится, что ты говоришь.
— Это тебе не нравится. А я иногда напоминаю себе, что я мужняя жена.
— А когда он вернется?
— К Новому году.
— Ну это скоро. Сейчас липы цветут, лето под горку пошло. Новый год совсем скоро.
— Скоро… И будем все начинать сначала… Ну, хватит! Не надо об этом. Расскажи лучше о себе.
— У меня все хорошо.
— Так не бывает.
— Почему не бывает? Сын не болеет, жена не пилит, с тещей нейтралитет. И на работе все в порядке: обещали снять только к концу года.
— Тебе тоже не нравится, что ты говоришь.
Они подъехали к санитарной станции. Полетаева отдала акт. Никифоров увидел, что цвет ее глаз похож на лесную герань. Она надела себе на голову венок, улыбнулась и, уже выйдя, сказала:
— Будь умницей. Все будет хорошо.
Он смотрел, как она уходит свободной прямой походкой, и испытывал глубокое одиночество.
Подул ветер, прикоснулся к кленам и снял несколько желтовато-зеленых листьев. Один лист опустился на лобовое стекло. Никифоров прислушался, не отзовется ли ее голос. Нет. Не отозвался. Был слышен шум далекого автоцентра, находившегося почти в двадцати километрах отсюда.
Он отвез акт, думал быстро уехать домой и не смог уехать.
Его занятия были повторением прошлых занятий и разговоров. Принял на работу двух отслуживших в армии парней, объяснился с мастером Верещагиным, распорядился направить на помощь малярному участку двух женщин из бухгалтерии и отдела кадров. С трудом уговорил их, обошел цех, ответил пятерым заказчикам, почему сорваны сроки ремонта… И так далее.
Но уже со следующего дня Никифоров заметил за собой странную новость: он мысленно разговаривал с Полетаевой. И она отвечала! Ну, это сон, баловство, думал он, это пройдет.
— …Может, вы вправду хотите загнать нас за Можай? Я готов. Заедем в московскую дирекцию, а потом я в ваших руках. Видите, как лето бежит вприпрыжку… Такие длинные росы! А ведь уже позднее утро. Еще только ильин день, еще целый август впереди, но посмотрите вдаль, что за черная сеть вьется над горизонтом? Это пробные облеты грачей. На Илью до обеда — лето, а после обеда — осень…
Никифоров поехал с Полетаевой в Москву. Его вызвали в дирекцию, а она просто сбежала со своей санитарной станции, и оба понимали, что у них свидание, что они связаны общей тайной, что никакого будущего у них нет. Поэтому и последний летний месяц тоже был с ними как дружеское предостережение.
— Что у тебя нового? — спросила Полетаева.
— Вот еду с тобой… Наверное, там меня не долго продержат. Подождешь? Или сходи в кино, пока я буду объясняться.
— Лучше подожду. Мне будет приятно тебя ждать. — Но, сказав это тоном близкой женщины, она постаралась исправиться и добавила: — Только ты не долго, да?
Та, к которой Никифоров привык, не походила на нынешнюю Полетаеву. Та была свободна в речи, взгляде, одежде. А эта внимательно вглядывалась в него.
— Значит, тебя еще не снимают с работы? — улыбнулась она.
— Зимой снимут, я тебе уже докладывал…
— А что ты тогда станешь делать? Пойдешь учителем ботаники? Не боишься?
— Боюсь? — Он засмеялся. — Чего же бояться? Власть мне не нужна. У меня от нее постоянный голод на людей. Снимут — я сразу выздоровлю.
Полетаева тоже засмеялась:
— Странный ты… Это пройдет. Все наладится, даже не вспомнишь. У памяти хороший вкус.
— Порой мне кажется, что такие, как я, смешны и нелепы. Я жду, что мне дадут медаль…
— Ты гордец, каких свет еще не видывал!
— Какая-нибудь награда мне обеспечена, — сказал Никифоров.
— Наказание — это тоже награда.
Так они переговаривались, развлекаясь в дороге, и спустя час въехали в Москву. Но Москва была только снаружи, а внутри машины по-прежнему оставалось ощущение дороги. Чем больше людей было на улицах, тем незаметнее они становились, и поэтому город был для Никифорова и Полетаевой как будто лесом.
Они обедали в маленьком арбатском кафе, она гадала на кофейной гуще и видела островерхие дома, мужчину я женщину, и птицу, похожую на облако. («Надо же, на кофейной гуще! — усмехнулся он. — Это я не умею»). Потом она покупала в магазине зеленый ситец в горошек, он ждал ее. Потом поехали на выставку скульптуры древних ацтеков, смотрели на мрачные базальтовые фигуры, одна из которых называлась «Жизнь», — широкое плоское женское лицо с приоткрытым толстогубым ртом, на лбу и груди украшения из черепов.
— Наверное, они приносили человеческие жертвы. — Полетаева протянула руку к скульптуре и вдруг отдернула ее.
Они гуляли по Москве до вечера, рассказывали о себе и как будто вместе создавали новых Никифорова и Полетаеву. Когда они возвращались, Никифоров затормозил возле съезда на лесную дорогу. Полетаева засмеялась, обхватила его за шею и поцеловала быстрым крепким поцелуем.
— Спасибо тебе, — сказала она. — Поехали! — И снова поцеловала.
VII
В четверг, около шести часов вечера, Никифорову стало известно, что в кассе пропала тысяча рублей дневной выручки, но он не поверил: не могло такого случиться, просто недоглядели, обсчитались… Побежал вниз, прыгая через две ступеньки.
На столе в кассе лежали холщовые мешки с деньгами, сейф был распахнут, ящики выдвинуты. Кассирша грузно сидела на стуле посреди комнаты.
— Я никуда не выходила, — сказала она. — Приготовила инкассатору… Можете меня обыскать.
Она взяла сумочку и вытряхнула себе на колени.
— Тысяча — это не иголка, — спокойно сказал Никифоров. — Давайте вспомним, что вы делали.
В двери заглядывали диспетчер, инженер по гарантии, женщины из бухгалтерии. Кто-то предложил позвонить в милицию. Никифоров велел закрыть дверь. Но дверь закрылась лишь на минуту, и появился инкассатор, настороженный человек в мешковатом темно-синем костюме, со свертком под мышкой. Никифоров глядел с любопытством, пытаясь угадать, где у него пистолет. Кассирша торопливо сложила в сумочку кошелек и ключи. Заискивающе улыбаясь, сдала инкассатору мешки и копии квитанций.
Она опустила руки и с покорностью и страхом смотрела ему вслед. У нее были две дочери, муж и старая мать. Что ее ждало? Позор? Или даже тюрьма? Ее спину перерезал след тугою лифчика. Эта полнеющая женщина еще в меру сил следила за собой, хотела быть моложе, стройнее. Все же он не думал, что она украла. Скорее бы он решил, что деньги похитила дьявольская сила, если бы можно было так решить.
— Надо звать милицию, — снова сказали в дверях.
— А ну дайте пройти! — послышался насмешливо-грубый голос Журкова. Говорят, у нас детективная история? — Он вошел и закрыл дверь.
— Ой, Вячеслав Петрович! — вздохнула кассирша. — Беда такая…
— Давайте по порядку: что вы делали? — сказал Никифоров.
— Не брала я их, честное слово!
— А никто этого не говорит, — сказал Журков. — Когда обнаружилось?
— Когда? — переспросила она и стала вспоминать: — Я разложила деньги в мешки. Написала квитанции. Опломбировала… Нет-нет, не так! Сперва вложила квитанции, а потом опломбировала. И все.
— Что «и все»? — сказал Журков.
— Больше ничего не делала. Искала деньги.
— Так они уже пропали?
— Уже.
— Да ты толком рассказывай! — прикрикнул Журков. — Ты-то будешь отвечать следователю.
— Ладно уж, отвечу, — зло вымолвила кассирша. — Звоните в милицию. Пусть ищут.
— Интересно! — заметил Журков. — Значит, когда ты вкладывала деньги в мешки, деньги были. А когда вложила — тысячи нет?
— Александр Константинович! — спросила кассирша у Никифорова. — Вы-то мне верите? Верите вы мне или нет?
— Верю, — ответил он. — И Журков верит. Ты, Вячеслав Петрович, не горячись…
Журков достал платок и вытер лоб. Брюки у него были обвисшие, как у инкассатора.
— Думаешь, она дважды положила в один мешок? — спросил он. — Чего же мы ждем? Надо ехать в банк!
— Позвони управляющему, — посоветовал Журков. — Может, застанешь.
Никифоров посмотрел на часы и кивнул. Вишневая «ноль-третья» уже выскочила на шоссе и помчалась к подъему, чтобы опередить минутную стрелку. Но Журков был прав: сперва следовало позвонить. И вишневые «Жигули» остались неподвижными у подъезда автоцентра.
Никифорову вспомнились седовато-золотистый ежик управляющего банком Татаринова и его зеленая «Волга» старой модели. «Вы довольны ремонтом машины?» — приготовил он начальную связь-вопрос. Однако Татаринов уже уехал из банка. К семи часам Никифоров был у него дома. Там ужинали. Он отказался присесть за стол и объяснил свою нужду. Татаринов налил ему пива, но Никифоров не прикоснулся к стакану. Татаринов укоризненно выпятил толстые губы и сказал:
— Напрасно вы нарушаете инструкцию: деньги должны укладывать два человека. Сегодня мы уже ничего не сможем сделать. Это исключено. Я утром сам вам звякну. Если обнаружим лишние, они не пропадут.
Никифоров выпил пива и попрощался. Уже стоя в дверях, вспомнил о ремонте госбанковской «Волги» и механически выложил свой запоздалый вопрос.
— Э, голубчик вы мой! — застенчиво ответил Татаринов. — Ободрали вы нас, как Сидорову козу. Без малого тысячу триста взяли. Дороговато ведь.
— Дороговато. Мы проверим.
Увидев его одного, кассирша вытянула шею и с надеждой смотрела на двери подъезда.
— Подождем до утра, — сказал Никифоров, садясь за руль. — Другого выхода нет.
— До утра? Как же я доживу до утра с такой ношей?
Никифоров промолчал. «Курица! — подумал он. — Что же ты одна укладывала деньги?» Он подвез ее, повторил, что не сомневается в ее честности, и с ощущением близкого покоя поехал к себе.
От пива захотелось есть. Он был уже почти дома, летел домой, как бы под горку, потому что дом сам влек его. В зеркальце показался желтый автомобиль с синей полосой на бортах. Никифоров на всякий случай притормозил, пропуская Кирьякова. Патрульный тоже замедлил ход и прижался к его машине, словно выталкивал на обочину. Никифоров повернулся и укоризненно глянул на инспектора.
Кирьяков с улыбкой смотрел вдаль, как будто не было никакого Никифорова. Блеснула никелированная ручка. Между машинами можно было просунуть ладонь. Никифоров съехал двумя колесами на обочину и дал газ, чтобы уйти. Стукнула по днищу щебенка. Желтая машина неотвязно держалась сбоку и все прижимала и прижимала. Никифоров остановился. Кирьяков с профессиональной ловкостью косо подал свою машину, перегородив ему дорогу.
— По двенадцать часов дежурю, — пожаловался Кирьяков. — Прямо сплю на ходу. Когда-нибудь врублюсь в столб, и больше меня не увидишь.
— Чего ты хочешь? — спросил Никифоров и оглянулся, надеясь, что в патрульной машине сидит и тот добродушный инспектор с татуировкой на среднем пальце, но там никого не было.
— Ну что ты злишься! — сказал Кирьяков. — Небось, тоже выматываешься? Ремнями напрасно не пристегиваешься. Сколько тебе говорить? Не дай бог, налетишь на препятствие, тебя размажет, как тесто. Каждый год гибнут тысячи водителей… Если ты не попадаешься в этом году, то в следующем твои шансы становятся меньше, потом еще меньше, и когда-нибудь тебе не повезет. Оштрафовать надо тебя.
— Штрафуй. Не тяни.
— Я с тобой по-дружески, а ты кричишь. Нехорошо, Саша. Что ремни? Сегодня не пристегнул, завтра пристегнул. Не буду штрафовать. Купи подарок любовнице. Только ты осторожнее, чтоб аморалку не пришили.
— Ха-ха! — нехотя засмеялся Никифоров. — Что ты мелешь?
— А ты вроде возбужден, — усмехнулся Кирьяков. — И покраснел подозрительно… Бахуса не употреблял? — Он шагнул к его машине и быстро вытащил ключ из замка зажигания. — Поехали, отвезу тебя на экспертизу.
— Отдай ключи! — сказал Никифоров. — Это тебе даром не пройдет.
— Выпил, чего уж там! — как будто шутя, вымолвил Кирьяков. — Ну, давай ко мне.
Приехали в больницу. Врачиха была не старой и не молодой, с розовыми подушечками щек. Она не смотрела ему в глаза, дала подуть в стеклянную трубочку, набитую ватой.
— Разве я похож на пьяного? — спросил Никифоров. — Это недоразумение. Ну вот, не позеленела ваша трубка!
— Вы плохо дули, — сказала врачиха. — Зажгите спичку и подуйте так, чтобы она погасла.
— Недоразумение, говорю я вам!
— Не волнуйтесь. Дуйте, дуйте…
— Мы же взрослые люди! — закричал он. — Не позеленела! Не позеленеет, хоть лопните.
— Проверим координацию движений, — проворчала врачиха. — Встаньте. И зажмурьтесь. Вытяните руку. Растопырьте пальцы… Так.
Она заставила его и шагать по одной половице, и приседать, и, закрыв глаза, находить подбородок и нос, словно ждала, что он запутается. Никифоров вытерпел. Ничего, сказал он себе, надо взять себя в руки. И больше не спорил, лишь поглядывал на часы и вымученно улыбался.
Во дворе уже сделалось темно, когда его оставили в пустой комнате и велели ждать. Он присел на жесткую кушетку, закрытую клеенкой. Однажды на пустынном шоссе он долго ждал помощи и с надеждой махал редким машинам, пролетавшим мимо него, и ощущал одиночество беды. Тогда он тоже говорил себе, что авария еще не беда, что надо набраться терпения и все кончится благополучно. Действительно, нашелся человек, который посмотрел на Никифорова не скользящим автомобильным взглядом, а осилил свою скорость, вытащил из-под сиденья запасной ремень вентилятора и подарил его. С тех пор Никифоров нигде не встречался с ним, но знал, что такой человек есть.
В медицинском заключении врачиха написала, что непосредственных признаков алкогольного опьянения не обнаружено. Стояла глухая полночь, когда он вышел на улицу. Заспанная сторожиха защелкнула дверную цепочку, и его обступили ночные тени. Мирно стрекотал сверчок. Скрипела высокая кривая береза. Возле крыльца шелестели темно-блестящие листья сирени. Под железным абажуром фонаря порхали мотыльки. Было холодно, и в ясной вышине сияла вечная дорога.
Приехав домой, Никифоров лег спать и не мог заснуть. Но, видимо, заснул, потому что приснилось: хватал ружье, приставлял к горлу Кирьякова, врачиха с розовой подушкой вместо лица дергала Никифорова за нос. Утром Мария Макаровна сказала, что пойдет искать на них, «проверяльщиков», управу, но Никифоров попросил ее не вмешиваться. Он повез Василия в детский сад, встретил старшего следователя прокуратуры Подмогильного и спросил у него, что делать.
— Мы должны быть чисты, — ответил следователь. — Самое большое богатство — честное имя. Я недавно допрашивал свидетельницу, а она вдруг раскрывает кофту и вытаскивает грудь, чтобы показать побои. Загляни кто-нибудь в кабинет, что бы он подумал? Потом доказывай, что она дура… Ты напиши жалобу. Только вряд ли. На бумаге две печати, а у тебя ничего нет. Даже не знаю, что посоветовать…
Никифоров поблагодарил, не зная за что, и поехал в банк. Он уже приготовился к тому, что тысяча исчезла. Вот когда перед ним оказалась непреодолимая стена, о которой загадала Полетаева! Что ему делать, если стена? Он вспомнил утренний поцелуй Лены, жены, ее улыбку и обещание, что все будет хорошо. Вокруг было пусто, он видел только одну эту улыбку…
Потерянная тысяча нашлась. Татаринов снова напомнил о завышенной цене ремонта старой «Волги». Никифоров затребовал у него копию счета и убедился, что сумма завышена в четыре раза. По его щекам как будто провели паяльной лампой. Татаринов виновато смотрел на него. Никифоров стал оправдываться: ремонт государственных машин в план автоцентру не входит, поэтому не было особого контроля… Но оправдываться в чужом жульничестве, словно в своем, было тошно.
— Виноватые дорого поплатятся, — пообещал он. — Сегодня сделаем вам перерасчет.
— Не переживайте, — утешил Татаринов. — Может, кто-то просто ошибся?
— Вряд ли ошибся. Рабочие получают четвертую часть от стоимости ремонта.
Из банка Никифоров помчался в центр.
— Разберись, — приказал он Журкову. — Не хватало дурной славы в городе. Ты посмотри, там только за сварку гнезд под домкрат взяли девяносто семь рублей, а красная цена — от силы двадцатка. Разберись!
Журков мучительно медленно сел, подпер голову тяжелыми руками и стал изучать счет.
— Ты ступай к себе да там разбирайся, — сказал Никифоров. — Если замешан этот сварной Слава, то учти — у одного заказчика стащили сирену, а он нашел и вернул!
— Что с тобой? — удивился Журков. — Не стоит так из-за госбанковской машины…
— Вчера Кирьяков отвез меня на экспертизу.
Журков выругался.
— Тебе звонила эта врачиха с санитарной станции. Вроде собирается к нам. Загонит нас за Можай…
— Ладно, ты разбирайся с госбанковской машиной…
Журков привел мастера Верещагина и бригадира Филимонова. Черные глаза Верещагина были мрачны. Этот Слава-сварной, симпатичный толстяк, которому Никифоров уже однажды простил прогул, приписал себе больше двухсот рублей.
— А куда смотрел мастер? — спросил Никифоров, выгораживая Славу.
— Я смотрю в будущее, — ответил Верещагин. — Вчера ваш друг отблагодарил его пятеркой… Никаких внеочередных машин не должно быть.
— Стоп! — прервал Никифоров. — Куда ты смотрел, когда выпускал госбанковскую «Волгу»?
— А! — махнул рукой Верещагин. — Да успеете вы стрелочника наказать…
— Всех вас надо лишить премии, — брезгливо сказал Журков. — А сварщика уволить. Помните, как было в Горьковском центре? И ОБХСС и меченые деньги, а прокурор отказал в возбуждении дела.
— Вы о чем? — спросил Верещагин.
— Там слесаря драли с заказчиков, их и поймали за руку, но прокурор заявляет: какая взятка? Их отблагодарили, они приняли. А взятки берут только должностные лица.
Позвали Славу. Он вошел, улыбаясь, и остановился у никифоровского стола. Сварщик был тучный, широкий, в распахнутой рубахе, стянутой на плечах лямками спецовочных брюк.
— Хочешь уйти с центра? — спросил Никифоров.
— Еще чего! — протянул Слава.
Услышав дурашливо-лукавое «еще чего», Никифоров ударил по столу ладонью:
— А мне кажется, ты хочешь перейти в гараж водоканала!
— В гараж? — пожал плечами парень. — Променять наши человеческие условия на ихние? У нас комфорт, а у них грязища. — Он усмехнулся, зная, что сказал приятное директору. «Я виноват, конечно, — говорила его усмешка, наказывайте меня, но помните, что у вас не хватает пятидесяти рабочих».
— Не блажи, Вячеслав! — сказал Филимонов. — Что ты говорил, когда сперли сирену у этого говоруна-дипломата? Ты сказал: «Напрасно наш Никифор боится гайку закрутить…»
— Давай-давай! — оборвал Слава.
— Он тебе не «давай-давай», — сказал Журков. — Филимонов — это и есть человеческие условия. Он тебе помочь хочет, а ты плюешь. Гнать тебя надо в три шеи!
— Как срочно крыло заменить, так Слава вам нужен, — с упреком произнес парень, глядя на Никифорова. — Ну, был грех. Все ясно. Вы же меня знаете: можно поверить…
— Я должен простить тебя? — спросил Никифоров. — Иди покури, а мы еще посоветуемся.
— Чего советоваться? Давайте напишу заявление по собственному. Только без даты. Если не оправдаю, тогда гоните.
Слава насупился и ждал ответа. Его глаза были серьезные.
— Покури! — велел Журков.
Снова затевался прежний разговор, как и о Губочеве.
— Не беда, что хитрят и ловчат, — сказал Филимонов. — Всегда были хитрецы и ловчилы. Но прежде они боялись. Положим, решило общество не рвать в общественном лесу ни орехов, ни ягод, пока не поспеют, так нарушителей сами же крестьяне ловили. А сейчас… Эх, да что там сейчас! Чужие Славке все эти машины и заказчики. Душа у него бесконтрольная.
— Ехала деревня мимо мужика! — усмехнулся Журков. — «Душа»! Уважай законы, как цивилизованный человек, и будет у тебя душа спокойна.
И снова Никифоров не знал, что делать. Он уже простил Губочева, а еще раньше — прогул сварщика. Они были как бы членами его семьи, и это мешало директору: совестливое родственное чувство плохо совмещалось с административным да и всяким другим правом и законом.
Директор Никифоров отпустил людей.
Потом к нему пришел Губочев. Вместо белой рубахи с залежалыми складками на нем была синяя шелковая тенниска, тесная ему в животе — видно, парад уже кончился. Он доложил, что на железнодорожную станцию прибыли грузы.
— Я чист перед вами, — сказал Губочев. — То стекло — случайность. Вытащил комок платка, вытер лицо и шею. — Что надумали со мной делать?
— Работай. Склад продолжаем пломбировать.
— Стыдно мне перед людьми: не доверяют Губочеву.
— Там должны карт прислать, — сказал Никифоров. — Прислали?
Крошечные гоночные автомобили поступили вместе с обычным грузом, три карта для взрослых и три для детей. Никифоров обрадовался, собрался ехать на станцию, захотел, чтобы и Полетаева обрадовалась. «Нина, слышишь? Я обзавелся детскими игрушками. Это креслице на раме с колесами и мотором. Я рад, что люди получат что-то такое, чего никогда не было в нашем городе. А наш городок — чудо из чудес. Например, известный тебе Журков твердит о законе и праве, как парламентарий, но выпорол слесаря, как феодал». Он усадил сына в низкое сиденье, чуть приподнятое над землей, застегнул ему каску, и Василий со страхом и восторгом рванулся навстречу своей первой дороге. И в такую минуту рядом с Никифоровым была Лена. Нет, все-таки жена, а не Полетаева.
Но уехать на станцию не удалось. Как же он забыл, что есть телеграмма от Маслюка? «Возьмите под личный контроль автомашину МКЭ 45–44 Иванова».
Однако не Иванова, а Ивановой. Опечатка. И симпатичная опечатка. Статная большегрудая женщина в голубом тюрбане-шапочке уже усаживалась перед Никифоровым. В ее походке угадывались сила и темперамент. Когда заговорила, приоткрылись тесно стоящие зубы, и выражение глаз было игриво-повелительным, словно Никифоров уже попался в ловушку.
— Все хотят побыстрее, — ответил он. — Вряд ли я вам помогу. У нас очередь. Почему бы вам не попробовать в другом автоцентре?
— Мне посоветовали ваш. Думаю, вы меня не разочаруете?
— Вам придется ждать месяц.
— То есть как месяц? Разве вы не получили телеграмму?
— Получил. Возьму вашу машину под личный контроль. Качество гарантируем.
Она с досадой поглядела на него, словно удивляясь, как ему удалось выскользнуть из ловушки, и быстро произнесла:
— Хорошо. Чего вы хотите? Чем я могу быть полезна?
— Ну что вы? — улыбнулся Никифоров. — У нас разные взгляды. Я хочу справедливости, а вы хотите мне помешать.
— А вы знаете, директор, что рискуете?
— Вы тоже рискуете. Если я перешлю эту телеграмму в ваш партком?
— Не будьте наивны!
— Справедливость всегда наивна. Вот если мы в срок не отремонтируем, тогда я рискую.
— Да, любопытный вы человек, — с еще большей досадой, похожей и на угрозу, сказала Иванова. — Ну что ж!
Она уходила, не прощаясь. Никифорову стало обидно.
VIII
Август уже перевалил за половину. Давным-давно отпели соловьи и умолкла, подавившись колосом, кукушка; зарябили в траве палые листья. Даже заяц больше не показывался.
Никифоров порой звонил Полетаевой, приглашал с проверкой или просто в гости. Однако у нее был свой план проверок. «Позвони мне! — слышал Никифоров ее голос. — Я давно жду». Было хорошо и правильно, что она звала его. Мир был населен голосами. Одни звучали громко и властно, другие тихо и печально. Первые голоса принадлежали людям, вторые — ветру, облакам и траве.
Он мог быть Никифоровым-на-колесах, Никифоровым-автоцентром, Никифоровым-семьянином… Все? Думал: «У каждого человека есть ангел.» Бабушка стояла над кроваткой двухлетнего Саши и говорила его матери: «Когда ты, доченька, ложишь спать Сашурку, перекрести и скажи: „Ангел, спаси и помилуй моего сыночка от вечера до полуночи, от полуночи до рассвета“ — и будет спать крепко, потому что его ангел охраняет».
— Вот скоро встретимся в горсовете, — ответила на последний его звонок Полетаева. — Я буду выступать на комиссии по здравоохранению. И похвалю вас, если не испортитесь к тому времени.
— Ты наш друг, — сказал Никифоров. — Мы на тебя надеемся.
— О, какие друзья у санврача! — засмеялась она. — Оштрафованные да обиженные. Вот найду у тебя кучу грехов, тогда увидим.
— Зато мы полугодовой план все-таки не дотягиваем, — пожаловался Никифоров почти теми же словами, какими вечером говорил Лене. И заметил это.
Утром он гнал на работу, не пристегиваясь ремнями. Он плевать хотел на ремень, сжимающий грудь и вроде бы спасающий при опрокидывании. Он не собирался опрокидываться. Утром всегда было хорошо, вольно, и какая бы забота ни ждала впереди, Никифоров весело мчался к ней.
Шедший впереди микроавтобус замигал левым указателем, Никифоров механически пристукнул по рычажку на рулевой колонке, включая правую мигалку и намереваясь пройти справа. Микроавтобус сдвигался к осевой, но вдруг снова стал возвращаться к обочине, тесня Никифорова к откосу. Никифоров засигналил, затормозил и понял, что не успевает остановиться. Страха не было. Не верилось, что так просто все случится. Он повернул руль вправо, дал газ и, используя единственный свой шанс, попытался проскочить по глинистой обочине по-над откосом. Тут он вспомнил, что не пристегнут ремнем. «Давай!» — сказал Никифоров машине, словно она должна была понять, что спасает его и себя.
Никифоров все еще ехал прямо и не переворачивался. Зеленоватый бок микроавтобуса остался позади. Он стал выруливать на дорогу. Он видел, что откос отдаляется, но думал, что сейчас опрокинется. Даже затормозив и остановившись, он продолжал так думать. Потом застучало сердце, он часто задышал, сделалось душно. Микроавтобус прошмыгнул рядом.
Никифоров подумал, что все они одиноки в кабинах «Жигулей», автобусов, грузовиков, отделены закаленным стеклом и мощным мотором, словно так и нужно.
Дорога была пуста. Кто бы помог Никифорову, если бы он сейчас стонал, придавленный к рулевому колесу? Он словно увидел Лену и Василия. Как бы они жили без него? Неужели он мог умереть? Ему сделалось стыдно от бессмыслицы, едва не задевшей его. Вышел, поглядел на следы шин, на узкую полоску земли толщиной в палец, отделившую это солнце, эту позднюю росу на подорожниках, этого мокрого кузнечика.
Он осторожно присел, но кузнечик отпрыгнул и затерялся в зелени откоса. «Нина, мне повезло, — сказал Никифоров. — Хочешь, я тебе позвоню?» «У вас снова сломались холодильники?» «Мне повезло. Вот только кузнечика не поймал». «Ты, наверное, ненормальный. Ну что ты меня тревожишь? Мы ведь уже все сказали друг другу. Разве ты что-то недоговорил?» «Помнишь, ты говорила: представь стену, тебе надо ее преодолеть?»
Из кабинета Никифоров позвонил ей.
— У нас барахлит система вентиляции. Надо бы замерить окись углерода. Так он говорил, и это означало: «Давай встретимся».
— Мне сейчас некогда. Но я выберу время, загляну к вам, — отвечала она, и в голосе ее слышалось: «Давай».
— Я пришлю машину, — спокойно говорил он, и это была мольба: «Когда встретимся?»
— Я сама вам позвоню, — уточняла она, предостерегая: «Я ведь несвободна». Ее голос был весел, в нем слышались та поляна, урок цветов, ее руки поддерживали его голову.
— Эх, — воскликнул Никифоров, положив трубку, оглядываясь вокруг. Ему улыбнулись с фотографии экипажи космических кораблей «Союза» и «Аполлона». «Ну как? — словно спросил их Никифоров. — А я вот тут! Я вас приветствую».
У Никифорова наступили светлые мучительные дни. Он ждал нового свидания, звонил, и они разговаривали о работе холодильников и вентиляторов. Как-то вечером он смотрел телевизор, вошла жена и села рядом. Прибежал Василий, кряхтя, влез между ними, повернулся, умостился, и Никифоров представил, что входит другая женщина, тоже садится, и обе молчат. И обе близки, а останется только одна. Теперь он был ласков и внимателен к жене, понимая, что не она виновата в том, что с ним происходит. Он был то счастлив, то несчастлив, когда вспоминал, что скоро увидится с Полетаевой. Он не мог молчать об этом, хотелось кому-то рассказать, отвести душу. Как будто в шутку Никифоров признался Журкову, что влюбился в замужнюю женщину и не знает, что делать. Но тот не поверил: ты, мол, не бабник и никакая замужняя на тебя не позарится.
Если бы можно было повернуть жизнь назад, найти ошибку и поправить! Но ошибки не было. Это лишь сейчас Никифорову казалось, что Лена полюбила его уже после свадьбы, что ее ровное чувство, охватывающее мужа, ребенка, семейный быт, было слишком простым и каким-то хозяйственным. Семья — это уже несвобода, открытие друг в друге недостатков, заботы, привыкание. А до семьи — разбег, полет, свободное счастье, но это стерлось в памяти, словно ничего и не было.
Полетаева все-таки приехала к нему. Он не ждал, покраснел. В кабинете был посторонний, работник московской дирекции. Она быстро шла к столу своей свободной походкой, чуть раскачиваясь. Каблуки белых босоножек постукивали.
— Здравствуй, товарищ Полетаева! — воскликнул Никифоров. Ее рука пожала его руку, а глаза спросили: «Рад?» — Я тебе дам зама главного инженера Иванченко, а через полчаса сам освобожусь.
— Хорошо, Александр Константинович. Как у вас? Все нормально? А то я буду проверять. — Она кивнула на большую сумку, в которой угадывалась коробка газоанализатора.
— Смело проверяй. — Никифоров вызвал Иванченко, и Полетаева ушла.
Спустя сорок минут, проводив московского представителя, директор направился в цех. Он шел мимо полуразобранных сиротливых машин. У каждой чего-то не хватало: то ли подвески, то ли мотора, то ли крыльев. Колко мерцал огонь сварки, скрипели подъемники. Иванченко и Полетаева шли ему навстречу. Заместитель главного старался забежать вперед, придержать ее.
Полетаева остановила малярный участок: содержание толуола в атмосфере в семь раз превышало норму.
— Да говорю вам: вентилятор ремонтируется! — сказал Иванченко. — После обеда все поправим.
— А здоровье людей? — спросила она. — Вот поправите — пускайте. Полетаева виновато взглянула на Никифорова. — А говорили: все в порядке!
В директорском кабинете она стала писать акт. Прядь черных волос спадала ей на висок, изгибалась, стекала к шее. Тонкая золотая цепочка покачивалась в такт движению руки. Венок из нивяников почудился Никифорову.
Он прочитал акт.
— Нина! — укоризненно сказал он.
— Что, Александр Константинович?
— Зачем так официально? Поверь, часа через полтора все наладим. Гарантирую. Зачем нам этот акт?
— Ну-ну, — кивнула поощрительно Полетаева. — Что акт? Бумажка… Но ведь если я промолчу? Ты понимаешь? Как ты будешь со мной разговаривать? «Не обижайся», — говорили ее глаза.
— А если я тебя попрошу? — настаивал Никифоров.
— Давай, Саша, договоримся: ты никогда не будешь меня ни о чем просить, мы уважаем друг друга. Договорились?
— Ладно, — буркнул он. — Но ты хоть подожди у нас часок, не уезжай. А то целый день пропадет… Об этом можно попросить? — «С мужиком было бы проще столковаться», — подумал он и сказал: — Мы открыли секцию картингистов. Машинка маленькая, низкая — ощущение скорости великолепное.
— Да, — откликнулась она. — Ты знаешь, чего хочешь.
— Ну, не обижайся, — сказал Никифоров. — Это я должен на тебя обижаться, а не ты. Загонишь нас за Можай.
— Я еще должна оштрафовать тебя на десять рублей.
— Да? — Никифоров засмеялся. — Штрафуй, я переживу.
И вдруг он вспомнил своего маленького брата Юру, наголо стриженного, щекастого, с глазами-щелками. «Саша, хочешь водички?» — Юрочка, братец-кролик, протянул старшему родственнику, своему пятилетнему сторожу, зеленую пластмассовую баночку с какой-то жидкостью… Вспомнив о глупом Юрочкином пойле, Никифоров захотел представить здоровенного парня, шоферюгу с северных зимников Юрия Константиновича Никифорова, отца двух щекастых мальчишек с глазами-щелочками, похожих на Василия, как две капли воды. Но брат не пришел на помощь. Наверное, по той причине, что в настоящее время он улетел из Сургута в Новосибирск, где защищал в техникуме диплом автомеханика (до этого он мучился в двух институтах), защищал геройски и, следовательно, был занят. «Ну, ни пуха, ни пера, Юрка! — пожелал младшему родственнику Никифоров. — Я тоже занят».
— Чудно, Нина, получилось, — сказал он. — Хочешь, съездим в Москву?
— Хочу, — улыбнулась она. — Но не как санитарный врач…
— Ну да. Пусть санитарный врач поскучает где-нибудь без нас.
Он собрался пошутить, но шутка выдала его раздражение.
Никифоров и Полетаева смотрели друг на друга с удивлением, словно не понимали, почему недавно они испытывали легкое опьянение, когда разговаривали друг с другом.
— Что у тебя нового? — спросила Полетаева.
— У меня хороший козырь. У нас выработка на одного рабочего самая высокая в зоне, сто двадцать процентов.
— А я купила определитель растений. Множество цветов… полистала и отложила. Вряд ли я смогу вырваться в Москву.
— Мы как поссорившиеся дети! — воскликнул Никифоров. — Так и будем киснуть, пока не наладят вентилятор?
Он поглядел на часы: всего одиннадцать минут прошло. В беге тонкой стрелочки, казалось, билась враждебность. Он огляделся: со стены улыбались космонавты, на столе возле нержавеющих медведей с Ярославского завода лежала сумка с газоанализатором и стоял графин с родниковой водой. Чистый родничок из вскрытого давнишней стройкой водоносного пласта бормочет в глинистой теклинке во дворе автоцентра. Что же мы молчим? Неужели из-за этого злосчастного газоанализатора? От кабинета до родничка — две минуты ходьбы.
— Нина, я тоже принципиальный мужик, — сказал Никифоров. — В другом разе я бы не стал тебя уговаривать, но сейчас ты уступи. Ради человеческих отношений… «Ради нас», — хотел добавить он и удержался от крайней чувствительности. Полетаева улыбнулась, со вздохом ответила:
— Все-таки ты меня уговариваешь. — В ее голосе прозвучала нота сожаления и нарождающейся покорности.
— Нина, мы же люди, у нас есть не только закон, но и душа, — утешил он ее.
— Почему-то мне всегда говорят про душу, когда я применяю санкции, вымолвила Полетаева задумчиво. — Совесть, душа… Какая может быть у меня душа, если я сейчас инструмент закона? Тебе не жалко меня? Ты ведь мужчина.
— А ты женщина. Женщина должна уступить.
— Потом мы пожалеем об этом, — усмехнулась она и медленно разорвала акт. — Пусть будет по-твоему. Ты доволен?
— Спасибо, — поблагодарил Никифоров и снова взглянул на часы. Малярка простояла всего двадцать одну минуту. Он связался с диспетчером и распорядился о запуске. — Спасибо, Нина! — повторил Никифоров веселым деловым тоном.
Но он не видел ее: перед ним открылась панорама действующего автоцентра, всех цехов и участков, от мойки до малярки. Тонкая стрелочка толчками гнала вперед секунды его жизни. Ее упорство было непобедимо… Добившись своего, Никифоров почувствовал странное беспокойство. Ему чудилось, что оно исходит от полуулыбки этой решительной, независимой женщины, оказавшейся не такой решительной и независимой, какой она прежде виделась ему. Продолжая благодарить, шутить и рассказывать о напористой заказчице Ивановой, о Кипоренко, картинге, он довез ее до санэпидемстанции, однако все эти минуты будто жил по долгу службы. Полетаева помахала рукой и стала подниматься по ступенькам. Пониже локтя на правой руке у нее темнело масляное пятнышко: где-то испачкала.
Никифоров ощутил облегчение. Стрелочка побежала дальше, дальше… Легко побежала. И он перевел дух.
Лена просила повезти ее в Москву, как будто там их ждало чудо. Мария Макаровна тоже напирала со своими советами… в Москву, проветриться, наплевать на служебную муть! Теща вдобавок умудрилась выведать у Никифорова всякие подробности и принялась расспрашивать: а ты наверху посоветовался? а почему ты не посоветовался? ты со своей самоуверенностью влипнешь в какую-нибудь историю. Она настойчиво твердила, чтобы он поверил ее опыту, что в один час ничего ты не сделаешь, и вовсе не дело должно быть главным для тебя, а твоя жизнь. Какая жизнь, такое и дело. Сколько, говорила, ее гоняли — давай быстрей во что бы то ни стало! — но люди везде одинаковы, сами прилепятся к тебе, если достоин. Вот, говорила, у нее никто не пьет, а пошла в отпуск — пьют, курят, где ни попало, даже заставила одного расписку писать, что бросает пить. И не будет пить!
Никифоров посмеивался, отшучивался.
— А ты не догадываешься, почему жены изменяют мужьям? — с торжественностью спросила Мария Макаровна.
У него была в руках большая чашка с позолотой и дарственной надписью: «Вкусен чай у нас дома. Саше от Марии Макаровны». Он хватил чашкой об пол. Вслед за ней полетело блюдце.
Лена умоляюще сказала:
— Мама, я устала от твоих поучений. Оставь меня в покое.
— А разве я тебе говорю? — изумилась Мария Макаровна.
— Мне.
Лена защитила его. Никифоров оглянулся вокруг, замелькали в глазах блеклые лица службы, но память не остановилась на них, раздвинулась, обнажив грустную даль, откуда никто не возвращался. И тогда он снова подумал: кто теперь ближе Лены? Мария Макаровна собирала осколки, качала головой и улыбалась. Кажется, она была довольна, словно удалось, как она задумала!
«Ведьма!» — решил Никифоров.
Он заходил по кухне, распахнул окно и сосредоточенно смотрел на трясогузку, прыгавшую по деревянной дорожке. Под окном разговаривал с игрушками Василий, зарывая их в кучу песка.
— Что случилось? — шепотом спросила Лена. — Ты какой-то хмурый, беспокойный…
— Я сирота, — усмехнулся он. — Ни отца у меня, ни матери…
— Ты думаешь, мне чашку жалко? — Она положила обе руки на его плечо и тоже стала смотреть на сына. — И правильно, что разбил. Ведь тебе нужна разрядка, правда? Ты сильный, честный человек, все у тебя получится, но бывают просто такие минуты…
Василий держал на ладони лягушонка. Лягушонок медленно заползал в широкий рукав.
— Ой! — засмеялся мальчик и потянул его за лапку.
— Не мучай ты его! — сказала Лена. — Ты как живодер. Забыл ящерицу в банке, а она умерла. Выпусти. Пусть живет.
— Я ему сделаю постельку, — ответил Василий. — И буду ухаживать.
— Лена, пошли погуляем, — предложил Никифоров. — Кот Базилио пойдешь с нами?
Василий нацепил на плечо автомат, меч в ножнах и надел зеленую каску со звездой. В руках держал стеклянную банку с лягушонком. Его лицо было лукавым, насупленным. Он знал, что придется защищать от матери свою амуницию.
— Пусть идет, как хочет, — остановил Лену Никифоров.
— Я еще не взял лук со стрелами, — похвалил свою сдержанность мальчик.
Они вышли за калитку. В небе уже мерцал месяц. Вдалеке, на новых домах, горела реклама «Аэрофлота». От перекрестка доносилось размеренное цокание, похожее на стук копыт. И верно — показалась лошадь, запряженная в телегу на автомобильных шинах. Маленький Саша Никифоров побежал за телегой, ухватился за грядку и повис, поджав ноги.
— Вот если бы не стало ни одной машины! — сказал Никифоров. — Какая была бы спокойная жизнь.
— Вася, папа у нас хороший? — спросила Лена.
— Ты не обижайся на меня, — повинился Никифоров. — У нас же все хорошо? Не обижайся.
— За что? Я с тобой даже разговариваю, когда тебя нет. Ты чувствуешь?
Он не знал, что ответить. Снова он был за рулем несущегося по-над откосом автомобиля и снова спасался только чудом.
1980 Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
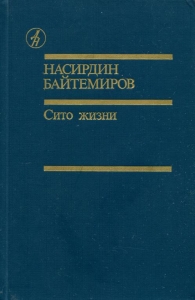


Комментарии к книге «На колесах», Святослав Юрьевич Рыбас
Всего 0 комментариев